Саша Кругосветов Цветные рассказы. Том 2
© Саша Кругосветов, 2017
© Максим Свириденков, 2017
© Интернациональный Союз писателей, 2017
* * *
Предисловие
Цветные рассказы. Почему бы им и не быть цветными? – мы же любим цвет, любим цветные картинки. Вот я и написал собственные «цветные рассказы». Так, как учили в Махабхарате.
При этом я далек от мысли пытаться точно следовать букве и духу древнеиндийской поэтики. Это не моя цель. Может, и цель, но не главная. Просто такая игра: выдержать внешнюю канву: «цвет – переживание».
Синий – эротика, любовь.
Белый – юмор, сатира.
Серый – сострадание, печаль, одиночество, может быть, – богооставленность.
Красный – гнев, ярость.
Оранжевый – достоинство, мужество, смелость.
Черный – страх. А до страха, на подходе к страху – уныние, депрессия, неуверенность, тревога, раздражение, безумие, испуг.
Сине-фиолетовый – отвращение.
Желтый – изумление, откровение.
Прозрачный, бесцветный – спокойствие, мудрость, умиротворение.
Игра состоит в том, чтобы написать рассказы, каждый из которых ассоциировался бы с определенным цветом. Чтобы попытаться передать читателю настроение, соответствующее выбранному цвету. Но это все-таки не главное.
Рассказы о другом. А о чем? О чем вообще эта книга?
Эта книга о том, как человек всю жизнь идет от тьмы к свету.
О том, что мы себя совсем не знаем.
О том, что даже такое светлое чувство, как любовь, может погубить человека.
О том, что всегда за нашим левым плечом идет смерть. И ждет, когда мы ошибемся.
О том, что человек – это точка разрыва непрерывной линии. Точка, в которой плюс бесконечность превращается в минус бесконечность. О том, что мы никогда не узнаем себя до конца.
О том, что невозможно отрешиться от жизни, добиться абсолютной прозрачности мыслей и абсолютного спокойствия.
Книга разбита на 18 разделов, каждый из которых представляет собой законченный самостоятельный рассказ. Восемнадцать рассказов. Под каждый цвет – два рассказа, большой и поменьше. Они дополняют друг друга, позволяют взглянуть на одни и те же проблемы и переживания героев с разных сторон, с разных точек зрения.
Действие происходит в Советском Союзе и в России с 60-х годов прошлого столетия по 10-е годы XXI века.
Персонажи переходят из рассказа в рассказ. Можно выделить две основные группы героев – окружение двух несвязанных между собой семей. Одна группа представляет собой круг родственников и знакомых Феликса Петровича Эйлера. Другая собирается вокруг Боба, Бориса Николаевича Романова.
Феликса мы наблюдаем в разных ситуациях, начиная с его 25-летнего возраста («Дух третьего ущелья») и заканчивая рассказом, где ему уже за семьдесят («Третья встреча»); Боба – с семнадцати («Неделя у тетушки Доры») до сорока с лишним лет («Придет время, и она возьмет нас в свой замок»). Примерно то же происходит с их родными, близкими, друзьями, с их окружением. Мы увидим героев на разных этапах их жизненного пути, в различных ситуациях и обстоятельствах, подчас в неожиданном ракурсе, а иногда – и в новом свете.
Поскольку мы следим за эволюцией героев в течение довольно длительного промежутка времени, книгу «Цветные рассказы», по-видимому, можно определить как домашнюю сагу, историю семей Эйлеров и Романовых.
Истории разных поколений этих семей читатель словно наблюдает в замочную скважину. И перед ним разворачивается необычная картина привычного мира, складываясь в своеобразную «Цветную сагу».
Саша КругосветовОранжевые рассказы
Дух третьего ущелья
«To knock higher than a kite» – если уж запускать змея, то выше всех!
Феликс Петрович приболел. Да-а, пожалуй, сейчас не лучший момент для недомогания, не время и не место… Пицунда, сентябрь, бархатный сезон, он один, молодой, сильный, что хочешь, то и делай – ныряй, плавай, загорай – самое время для курортной интрижки. А у него температура, потливость, нос болит – видимо, перенырял, может, вода слишком холодная, черт его знает… В общем, поймал гайморит совсем некстати. Болеть всегда некстати… Наглотался таблеток тетрациклина – топорный антибиотик советских времен – устроился на пляже в прозрачной тени чахлых красноватых кустов то ли барбариса, то ли пузыреплодника, спал, ворочался, лениво посматривал со стороны на неспешные пляжные перемещения курортников, ждал, пока антибиотик вкупе с могучими токами его молодого тела сделают, наконец, свое дело.
Феликсу – двадцать восемь; не женат, свободен, прежние любови отплыли в теневые области сознания, а новые… Новая любовь? Да-а-а… Пожалуй, это большой вопрос. Жуля, дурацкая кликуха. Но ей почему-то нравится. Жанна, Жанночка, Жаннет… Почему не Жуля? Довольно ласково. По-свойски. Пожалуй, чуть пренебрежительно. А вообще-то, довольно тепло.
Договорились встретиться сегодня. Надо собираться; идти-то – не близкий путь, а сил, честно говоря, – никаких. В общем, он совсем не в форме. Ничего хорошего из этой встречи все равно не получится. Разве можно отправляться на романтическое свидание в таком состоянии? Одежда его не волновала. Жанна хорошо знает, что за человек Феликс; ей неважно, что он будет в потрепанных шортах, выцветшей рубашке, в сандалиях на босу ногу… Это же обычный советский курорт, даже не курорт – популярное место отдыха, где гостиницы и пансионаты – только для немногих избранных и блатных… Как здесь надо одеваться? Словом, Феликс был далек от образцового юноши совкового бомонда, но Жанне он нравился – профессия, образование, культура, характер… Плюс заработок… Как знать, может, заработок как раз важнее прочего… Да, Феликс – парень хоть куда… Не красавец, конечно… Зато в себе куда как уверен… И косая сажень в плечах. Жанна говорит: «Я тебя выбрала, потому что у тебя правильная посадка головы». Дура все-таки эта Жанна. Или большая хитрюшка. Хитрюшка, хитрюшка. Показывала фотографии. Вот, говорит, я с Витей, мой приятель, чемпион по боксу в тяжелом весе… Приятель… Я знаю: она уже побывала замужем, разошлась. Штамп из паспорта как-то вымарала. Ну, не вымарала… Может, паспорт сменила.
От расположившейся неподалеку стайки бабочек в ярких купальниках отделилась высокая девушка с бледным, почему-то незагорелым лицом. «Какие все-таки красивые ноги у Любы, – подумал Феликс. – Плечи, спина. Женственная, гибкая, с тихим кротким голосом. Чистая душа! Прелестные веснушки… А как танцует! Странно: совершенно очаровательная девушка… и никакого интереса не вызывает – парадокс… Мне почему-то больше нравятся эдакие ласковые кошечки, мягкие, пушистые, правда, потом выясняется… Коварные создания, безнравственные лицедейки, хорошо законспирированные тайные стервы… Вот, кто они такие на самом деле. Получается так…»
– Как дела, Феликс, ты оклемался? – спросила Люба.
– Сколько раз нужно повторять, Любочка?! Я – Феликс Петрович. И, пожалуйста, на «вы».
– Сколько раз, сколько раз, – передразнила его Люба. – Феликс Петрович, да еще на «вы» – с какой стати? Ненамного ты старше нас, нам всем по двадцать пять, только Маринке – восемнадцать.
– Потому что старше вас, немного, но старше, потому что опытнее и умнее. В конце концов, я – мужчина. И вы все должны мне повиноваться.
– Вот я и пришла, чтобы повиноваться, Феликс Петрович. Ты говорил, что собираешься в Третье ущелье. Что там интересного?
– Интересного? Если б ты знала, Любочка, как там хорошо – свежая зелень, прохлада, прозрачный ручей. Вдоль ручья с гор спускаются торговцы. На ослах. Привозят фрукты – виноград, гранат, арбузы… Чача, домашний сыр, лаваш, чурчхела, хачапури. Но вам все равно туда не добраться.
– Это еще почему?
– Дорогу по берегу перегораживает огромная скала, в ней пробит туннель. Пройти можно только через этот сквозной проход. Говорят, лет тридцать назад хотели железную дорогу построить, а потом забросили почему-то. В туннеле темно и довольно опасно, не, вам не пройти.
– Темно, страшно, опасно – пугаешь?
– Да нет, говорю, как есть… Раньше у туннеля было два этажа. Предполагалось так: низ – для ЖД, верх – для авто. Сейчас потолок первого этажа местами обрушился, образовались огромные дыры… Если случайно попадешь на второй этаж… Там трудно удержаться, можно соскользнуть и вниз грохнуться… Не дай бог, конечно, но случаи такие были.
– Ты ведь собираешься туда, знаешь, как пройти, вот и возьми нас с собой. Ну, пожалуйста, Феля…
– Это далеко, по берегу плюхать – будь здоров.
– Давай, мы моторку возьмем, я с Элико договорюсь. Нас пятеро, скинемся, а тебя как проводника возьмем так.
– Прямо до третьего ущелья?
– Нет, давай выйдем перед туннелем, все-таки интересно попробовать пройти через эту – «такую опасную», как ты говоришь, – пещеру. А обратно они придут за нами часа через три.
– Но у меня нет фонаря, там, в туннеле полная темнота. Бежать в город до магазина… Скоро вечер, времени не так много – мы тогда никуда не успеем.
– У девочек, я думаю, тоже нет фонарика, что же делать, что же делать? Придумай что-нибудь, Феля…
– Ладно, не ной, пойдем так… Я хорошо проход знаю, сумею провести и в темноте. Только чтоб вы меня слушались, и ни шагу без разрешения, ни шагу в сторону.
– Идет, я поговорю с девчонками, – обрадовалась Люба. – Обещаю, обещаю, Фелечка, мы будем очень послушными. А как ты себя чувствуешь?
Феликс уверил ее, что ничего – не рассыплется; на самом деле он чувствовал себя не очень. Но двигаться все равно надо было. Может, и неплохо, что он договорился с девушками, во-первых – меньше идти, во-вторых – в компании веселее. Черт бы побрал эту вертихвостку Жанну. Придумать такое… Она едет из Гудауты в Гагры. По пути остановится и спустится к Третьему ущелью. Как такое в голову могло прийти… Интересно, откуда она узнала про это Третье ущелье? Встреча на пляже, очень романтично! Ни поговорить, ни обняться, ни чего-то еще… Об этом и речи быть не может. Не заниматься же любовью на пляже под улюлюканье зрителей! Прям, как в армянском анекдоте: «советчиков много». Приехала бы как человек в Пицунду. Как нормальный человек. Я подсуетился бы, снял комнату, хотя это и непросто. Нет, не получается у нас, мы всегда «так заняты, так заняты». Может, я ей не очень нравлюсь? Говорит, что нравлюсь. Что любит. Хотя она, конечно, отъявленная притворщица и обманщица. Но какая женщина! Море обаяния. И фигурка точеная… Феликс Петрович вспомнил, как они познакомились.
* * *
Это произошло год назад. Тоже в бархатный сезон. Сколько всего случилось за этот год.
Он путешествовал по Крыму. Чудесный, любимый Крым, исхоженный вдоль и поперек.
На полуостров добирался из Одессы. Вечером взял палубное место на пароме. Просто и недорого. Место… Никакого места это «место» не означало. Просто нашел уголок потише на деревянной палубе, завернулся в старое шерстяное одеяло. Не очень, конечно, удобно. Ночь выдалась холодной, и одеяло не особо спасало. Немного поспать все же удалось. Утро встретил уже в Севастополе. Неделю провел в Крыму. Встретился со старым приятелем. Познакомился с тремя студентками из Молдавии. Девушки симпатичные, общительные, в общем – сугубо положительные девушки. Одна из них выказывала ему явное расположение. Феликсу она тоже понравилась – миловидная, «спортсменка, комсомолка» & so on. Никаких душещипательных продолжений, однако, с ней не получилось. На второй день у девушки на губе выскочило огромное фуфло, она очень стеснялась, короче, все это не способствовало…
Потом неожиданное приключение в Алупке. Довольно опасное, между прочим… Скажу сразу, закончилось все благополучно – как для Феликса, так и для всех остальных. Это было еще до встречи с Жанной.
Феликс любил купаться в море на самой окраине города. Где ни набережной, ни парка, лишь отдельные жалкие хибары лепятся на крутом склоне, из года в год медленно, но уверенно сползающем в море. Не помогают бетонные тетраэдры – массивные, тяжеленные блоки, растопырившиеся четырьмя ногами в разные стороны. Глинистый склон, набитый картечью острых опасных камней, ждущих своего часа, чтобы в полной мере выказать наглым, крикливым людишкам свой злобный нрав, неуклонно ползет и ползет вниз, лениво поворачивая в сторону моря веер растущих на нем кипарисов – наподобие угловой решетки ленинградского Летнего сада.
Это место называют почему-то Вторым ущельем. На ущелье оно не очень похоже, но пляжа там действительно почти нет, и прибрежная полоса завалена огромными, в человеческий рост, отполированными черными камнями, по проходам между которыми купальщик, утопая по щиколотки в крупной гальке, может пройти и погрузиться в хрустальную, зеленоватую зыбь моря.
Но если волнение… Не дай бог попасть в это кромешное месиво беспощадных волн и упрямой земной тверди, ощерившейся неумолимыми каменными глыбами.
Феликс часто бывал здесь. Он хорошо знал и скалы, и проходы, и коварный нрав волн в этих теснинах. И не боялся здесь купаться. Даже, если шторм. И в этот раз он вбежал в воду, уплыл далеко в море, от души накрутился и накувыркался в пенистых волнах, а потом, на обратном пути отловил самый высокий вал, взлетел вместе с ним на вершину большого гладкого камня, называемого здесь «роялем» за плавные, изысканные изгибы, и съехал с него на попе прямо в прибрежную полосу гальки. Лихо! Местные ребята с восторгом наблюдали за маневрами приезжего парня.
Однажды ветреным вечером мальчишки – поклонники Феликса – разыскали его в городе и потащили к морю: «Давай, Феля, давай, поторопись, там дядька тонет. Не, незнакомый, приезжий… Волна, блин, огромная, не выбраться ему – точняк утонет».
Прибежали ко Второму ущелью. Вот он. «Дядька» пытался плыть к берегу, отвоевывал немного пространства, потом набегала волна, крутила, бросала и вновь уносила пловца метров на двадцать назад в море.
Не могло быть и речи о том, чтобы прыгнуть в воду и попытаться вытащить человека, тут самому бы выбраться, не то, что вытащить другого. Феликс руками и голосом, с трудом перекрывая свист ветра и шум прибоя, объяснил бедолаге, что не надо приближаться к прибрежным скалам, пусть он не тратит попусту силы и остается в зоне, где волна еще не загибается и не захлестывает пловца. «Держись, мужик, мы скоро вернемся и поможем».
Заглянули в соседний дом, взяли у хозяина, старого знакомого Феликса, большущий моток толстой веревки. Феликс обернул веревку вокруг пояса, полмотка оставил у себя в руке, вторую половину – развернул и дал четырем ребятам – тем, кто постарше и покрепче: «Стойте на берегу и тяните изо всех сил, когда дам команду».
Зашел по грудь в воду. Тяжелые валы с ревом обрушивались на него, и когда волна опадала, Феликс упирался ногами в дно, а ребята тянули за веревку, чтобы его не унесло в море. Вода отходила, и тогда можно было увидеть попавшего в переплет купальщика – до него оставалось метров 10 – 12.
Феликс бросил моток веревки с петлей на конце как лассо, но веревка развернулась не в ту сторону, и волна погнала ее к берегу. С третьего-четвертого раза ему все же удалось сделать бросок поточнее. Моток упал недалеко от несчастного купальщика. Мужчина напрягся, собрал последние оставшиеся силы и рванулся к берегу; в конце концов, ему удалось зацепиться за петлю. «Держись, парень!» – крикнул Феликс и стал выбирать веревку, медленно отступая в сторону крошечного пляжа. «Теперь ваша очередь, мелюзга, а-ну-тяните-салажата-изо-всех-ваших-сопливых-сил!». Несколько крутых волн, несколько ударов и падений, и обессиленного мужика общими усилиями выволакивают, наконец, на берег. Мальчишки повели-потащили пострадавшего домой, а Феликс, продрогший и уставший, так и остался сидеть на берегу моря.
Разные ситуации бывали – и быструю Вятку переплывал «на раз, два, три» туда и обратно, и норовистая горная река, вся в камнях и перевалах, покорилась ему на Памире, но такого… Ничего подобного с ним еще не случалось. Внутри все дрожало от холода, от нервного возбуждения, а в голове звучала барабанная дробь и музыка победного марша: «I did it! Я сделал это!»
Закатное солнце временами появлялось в разрывах синеватых туч и заливало бронзовым лаком согнутую фигуру Феликса, гальку пляжа, веер наклонившихся кипарисов и вершины скал, нависающих над бушующей морской стихией.
* * *
Феликсу надо было как-то перебираться в Минводы, а там – на турбазу в Нальчик. Очень не хотелось покидать любимый Крым. Поездка вполне получилась, есть, что вспомнить. Но надо… Надо. Пора.
В кармане туристическая путевка. Не бог весть что – пешком через Твибердский перевал, с дровами за плечами для ночевки в горах, романтика еще та. Но сходить в горы – почему бы и нет? – это интересно.
В те годы вообще поехать куда-нибудь отдыхать было довольно сложно, любая организованная поездка казалась удачей, не так-то просто «получить путевку» в самом прогрессивном на свете социалистическом обществе с жутким дефицитом на все, на все виды услуг, продуктов… В общем, это было общество «сделай сам». Дом – построй, мебель – сделай, овощи – вырасти, автомобиль – собери… Остальное – достань. Самому достать путевку не удалось, помогла двоюродная сестра… Со связями. Работала снабженцем на базе то ли редукторов, то ли трансмиссий… или чего-то в этом духе.
Короче, завтра надо быть в Минводах, а сегодня он еще сидит в аэропорту Симферополя. Толкучка, суета, духота, отвратительная жрачка в буфете, и никаких перспектив на билет. На следующий день к вечеру, когда казалось, что он вечно будет торчать в этой дыре, кто-то из пассажиров подвел его к довольно-таки скользкому типу – тот за треху брался достать билет. Тоже проблема: треха вперед? – или, когда билет будет…
Да, этот Феликс умел только «правильно» жить, жить по правилам, которые никто – ну, скорее, почти никто – не соблюдал. Протиснуться, отжать, пройти без очереди, пресечь «холопское хамство» – поставить на место швейцара или официанта в ресторане, – дать на лапу – в этом отношении Феликс был настоящее дитя. В конце концов, все обошлось – и на лапу дал, и билет получил настоящий, и к вечеру после мучительных бдений – два дня и бессонная ночь – и вот он уже на базе в Нальчике.
Зарегистрировался, познакомился с группой, получил на ночь номер. «Пожалуйста, селитесь, утром после завтрака вы уходите в горы». Свободен… Свободный вечер.
Как в те времена веселилась молодежь? Все собирались на танцплощадке. Невыспавшийся, помятый, плохо побритый, недовольный жизнью Феликс тоже потянулся поближе к общей тусовке. Настроение было неважное. Только что он познакомился со старостой группы, двухметровым дураковатым амбалом Генкой Голубевым. Тому захотелось потягаться на руках. Пришлось приложить его спиной о поребрик. Феликс вспомнил этот эпизод и поморщился, – пожалуй, он был неправ, жестковато получилось… Зато теперь староста – друг навек, уважает… Странно, почему так получается? Уважают грубую силу. А что он, Феликс, интеллектуал, генератор идей, можно сказать… это всем пофиг.
Феликс осмотрелся. Заметил на площадке стройную женскую фигурку. Светло-русые волосы, вся беленькая – белая футболка, белые брючки в обтяжку, белые босоножки… Это была Жанна. Молодых людей сразу потянуло друг к другу. Они встретились так, будто давно ждали именно этой встречи… Так бывает. Феликс словно вышел из спячки… Жанна ему очень понравилась – веселая, живая, смешливая. Ему казалось, что Жанне тоже было интересно с ним. Возможно, их тянуло друг к другу просто потому, что оба были здесь чужими на этой турбазе, на этой танцплощадке. Так, во всяком случае, вначале показалось Феликсу. Показалось… Они ведь тогда еще не знали друг друга. Весь вечер молодые люди провели вместе. Наутро они со своими группами уходили в горы. В разные стороны. Договорились встретиться в Сухуми. После окончания маршрутов.
Феликс бродил по Сухуми. Сидел в хачапурных. Наблюдал за сменой восточных типажей и характеров – армяне, абхазцы, греки, грузины… Шутки, прибаутки… «Адын мертвый армянын равен тысяче жывых грузын». Приходил к Главпочтамту – там договорились встретиться с Жанной – и в назначенный день, и на следующий день, и на следующий… Ждал по два часа. Удивительно.
В Нальчике ему казалось, что Жанна – близкий человек. Он не сомневался – тогда она собиралась приехать, прийти… Тогда… Но не пришла. Вообще, что она там делала на этой турбазе? Чистенькая, изящная, тонкая, юморная… Никак не туристка. Что-то ей помешало? Странно…
В его представлении неожиданная встреча на турбазе в Нальчике как-то увязывалась с тем, что он спас незнакомого человека в Алупке. Второе ущелье… Каждому воздастся по делам его. Красавица Жанна была ему наградой. Он уверен в этом… Тогда почему она не пришла? Непонятно. Какая-то ошибка провидения, сбой… А я-то здесь, на этой земле, для чего? – ошибки небес следует исправлять. Феликс любил to knock higher than a kite (делать все с необычайной силой).
Вернулся домой в Ленинград и твердо решил разыскать Жанну. Написал на турбазу в Нальчик. Я, такой-то, такой-то, турист маршрута такого-то, находясь на вашей турбазе, взял у туристки Жанны, ее фамилия мне неизвестна, маршрут такой-то, попользоваться на время ее фотоаппаратом и не смог его вернуть, так как на следующий день она ушла в горы. Прошу сообщить адрес ее проживания, чтобы я мог отправить принадлежащий ей аппарат. С уважением, Феликс Э.
Ответ пришел: город Кременчуг Полтавской области, Котовского 2/3. Номер квартиры не указали. Видимо – домик в деревне. Феликсу удалось пробить командировку, получилось в Тбилиси, пусть так. Адрес есть. Выслал телеграмму: «буду такого-то тчк грузите апельсины бочками тчк братья карамазовы». Интриговал, в общем. Как выяснилось потом – впустую. Находясь в Тбилиси, он узнал, что дорога в Кременчуг получится сложная – через Киев, из Киева придется лететь на кукурузнике, тогда еще и такие самолеты бороздили провинциальные небеса. В Кременчуг он не попадет в означенный день. Оттелеграфировал: «лед тронулся тчк связи задержкой тары зпт апельсины прибудут день позже тчк целую зпт брат карамазов».
Потом была встреча. Типа – «не ждали!». Весьма позитивная. Выяснилось: несмотря на то, что в ответе с турбазы не указали номер квартиры Жанны, телеграммы все-таки добрались до адресата. Правда, особого эффекта не произвели. В семье Жанны никто не знал исторической фразы Остапа Бендера, поэтому все решили, что телеграммы действительно посвящены отгрузке фруктов и пришли к ним ошибочно.
Феликс отметил, что кажущаяся тонкость и изысканность его нового увлечения сочетаются с некой провинциальностью воспитания, манер и одежды. Туфельки с бантиками, шиньон а-ля Бабетта. К тому же щиколотки, пожалуй, кривоваты.
Но выяснилось и совсем другое… И это факт – естественно-научный факт (что еще скажешь?) – Жанна, безусловно, была очень талантлива. Чего только не было в этой хрупкой, изящной девушке, помимо других, чисто женских дарований… Но самое главное – ее абсолютная музыкальность, врожденное чувство музыкальной гармонии и огромной силы сопрано, от которого дребезжали стекляшки на люстрах. Жанна пела везде, всегда, с любыми музыкальными группами, ее везде приглашали. Позже, когда Жанна приехала в Ленинград для участия в конкурсе «Весенний ключ», она сходу взяла там первое место, и сам Эдуард Хиль вручил ей диплом лауреата. Там же, в Ленинграде, ее приняли без экзаменов в училище при Консерватории на отделение вокала. Но она отказалась – ей совсем-совсем не хотелось учиться.
Но это будет потом. А пока – «не ждали»: глуповато ухмыляющийся Феликс, сияющий, как только что изготовленный полированный шкаф вполне советского образца, – на пороге ее квартиры, и Жанна – в облегающем вельветовом платье, вполне осознающая свою неотразимую «утонченность» и хорошенькость, – с изумлением смотрит на это неожиданное явление природы, на этот «факт-наличия-присутствия», как сам Феликс велеречиво назвал свое появление.
Жанне понравился неожиданный приезд Феликса, его внезапное возникновение из небытия, эдакий кавалерийский наскок… – все это было вполне в ее характере; молодые люди быстро сблизились. Начался роман. Они ездили друг к другу. На Новый Год, на 8 марта… Бывало, Феликс приезжал в города, где Жанна давала концерты. Она работала в различных музыкальных коллективах, выступала в Домах отдыха, в санаториях, на танцах, в кабаках…
Нет, на танцплощадках она была совсем не чужим человеком… Его смущали так называемые «оркестры» – просто «лабухи», прыщавые сопляки, а еще эта низкопробная, абсолютно нетребовательная публика, но Жанну все устраивало, ей нравилась постоянная смена декораций, аплодисменты, нравилась такая жизнь, беззаботная жизнь бабочки, думающей только о красоте своих крылышек.
Влюбленные обсуждали будущее – скоро они поженятся, и Жанна переедет в Ленинград. А пока их свидания мимолетны. Две недели назад они встретились в Геленджике. Гуляли по взморью в шторм. Жанна пела ему песни о любви, перекрывая шум волн и ветра. Внезапно за ней приехала машина – «Все, все, меня ждут, извини, милый, концерт в Дивноморском». «Я же снял номер, думал, мы останемся хоть на пару дней…» «Мой дорогой, как мне хочется побыть с тобой. Вдвоем. Только ты и я, больше никого». Тогда-то она и назначила ему встречу в Третьем ущелье – почему в Третьем ущелье? – «Ни о чем не спрашивай, приезжай, любимый, ты увидишь, я зацелую тебя, задушу в своих объятиях».
* * *
Катер высадил компанию Феликса в удобной бухте недалеко от туннеля. До последнего момента Феликс надеялся, что они встретят там туристов с фонарем. Увы, пляж был пуст, а сквозная пещера – вот она рядом – зияет огромной черной дырой. Обратной дороги нет, назвался груздем… В конце концов, он уже проходил этим путем в полной темноте. Без фонарика. Но тогда он был один. А сейчас на нем ответственность. Пять девчонок решились пойти вместе с ним. Доверились ему. Феликс зябко передернул плечами.
Вначале дно туннеля еще можно было разглядеть. Он выстроил девушек гуськом. Они должны были двигаться друг за другом, не отклоняясь в сторону. Пещера – или как там правильно, проход? – изменила направление и вскоре свет полностью исчез.
«Подождите, девушки, стойте на месте, я пойду, проверю дорогу». Феликс осторожно ощупывал ногами неровную каменистую почву. Он решил взять немного правее. Почему-то тропа сузилась. Это непонятно. Слева от него тропа наклонялась вниз. Не похоже на то, что он ощущал в прошлый раз. Должно быть значительно шире, и слева в тот раз была стена.
Что-то пошло не так. Неприятно засосало под ложечкой. Чего тебе бояться, Феликс? Ты бывал и в более сложных ситуациях… Ходил в горах по узкой тропе над пропастью, спускался по сыпучим кручам на опасных горных склонах, и людей проводил по рискованным, коварным маршрутам. Пролезал на брюхе по узким мокрым, глинистым тоннелям в Ново-Афонскую пещеру еще до того, как там прорубили удобные входы для туристов, бывало и такое…
Он осторожно сделал еще с десяток шагов, внезапно сандалии скользнули по камешкам, ноги поехали влево, и Феликс полетел вниз, в темноту. Все произошло мгновенно – ноги отскочили в сторону и вверх, и он приземлился на пятую точку. Высота, видимо, была небольшой – метра два с половиной, не более того, но приземление получилось очень жестким.
Внутри все перевернулось от удара, к горлу подступила тошнота. Стало дурно, и Феликс куда-то поплыл. Мелькнула мысль о том, что он упал, видимо, с жутким грохотом, хорошо, что не закричал, – что почувствовали в этот момент девчонки? – как они должно быть напугались! Все эти мысли и переживания промчались в его голове за долю секунды, медлить было нельзя.
– Все под контролем, девочки, – сказал он нарочито спокойным голосом. – Я просто поскользнулся. Все в порядке, все идет по плану. Стойте на месте. Не двигайтесь, пока я одну из вас не возьму за руку.
Копчик болел, дурнота не отступала, но Феликс поднялся и медленно двинулся назад, шаркая ногами по дну туннеля. Конечно, здесь широкий проход, здесь и следовало идти. Видимо, я зашел по боковой тропе на второй этаж и упал в одну из его дыр. А сейчас я на первом. Шаг за шагом он вернулся назад. Нашел одну из девушек, взял ее за руку. Попросил, чтобы остальные выстроились цепочкой и шли, держась друг за друга. Девушки испуганно шептались, о чем-то спрашивали Феликса. «Потом-потом-медленно-идем-друг-за-другом».
Минут через десять впереди забрезжил свет. Вскоре отряд вышел из пещеры. В глаза ударили стрелы дневного светила, лицо ощутило дуновение теплого ветра. Яркая зелень, прозрачный ручей, пляж, лазурное море, туристские палатки, торговцы с товарами на ослах, шум, гомон… Возвращение к жизни. Из черного подземелья. Из маленькой преисподней. Куда я, безбашенный Феликс, так легкомысленно повел этих доверчивых девчонок. «Вот мы и пришли!», и птахи весело упорхнули в светлый мир, разбежались по всему ущелью.
Интересно, сколько сейчас времени? До условленной встречи оставалось часа два. Вряд ли Жанна приедет раньше, это не в ее стиле.
Феликс внезапно почувствовал, что очень устал. Его колотило. С запозданием пришли – испуг от падения и осознание того, что все могло, не дай бог, закончиться гораздо хуже.
Он постарался взять себя в руки, успокоиться, прилег в прохладном тенечке, закрыл лицо полосатой матерчатой кепкой и заснул. Сон получился глубоким и сладким… Слюна тонкой струйкой стекала по его щеке на плечо и рубашку.
Феликс внезапно пробудился, словно очнулся от наваждения. Сон дал отдых и бодрость. Температуры точно не было, и нос не болел. Немного ныло внутри, где-то там, где внутренности – печенка, селезенка и прочая дребедень – с силой ударились о диафрагму. Но боль не была пугающей, чуть-чуть ныло, Феликс был уверен – скоро пройдет. Неожиданный выброс адреналина и удар при падении излечили его. Как ни странно, не болел ушибленный копчик. Внутри все ликовало, истерично гремели фанфары и флегматично грохотали литавры – подобно Вергилию, он становится проводником пяти чистых созданий, спускается с ними в Ад и потом возвращает их к жизни – в таких вот возвышенных тонах вспоминал он о том, что совсем недавно случилось с ним в этой пещере. С хорошим настроением бродил среди торговцев, разглядывал товары, приценивался, купил чурчхелу и с аппетитом съел ее. Рассматривал туристов, занятых по хозяйству у палаток и купающихся в полосе прибоя.
Вскоре подошли его спутницы. Девушкам все очень понравилось. Они оживленно обсуждали море, мрачный туннель, осликов, чачу, которой их угостили кавказцы, рассказывали, как они по-чуть-чуть-пригубили-из-плохо-помытых-стаканов… Скоро должна прийти моторка. Но Жанны не было. Как тогда, в Сухуми. «Езжайте без меня, я пока останусь, у меня встреча». «Как же ты вернешься? – скоро начнет темнеть». «Ничего, я хорошо знаю эту местность. До Рыбзавода дойду часа за два. А там дорога освещена. Не пропаду». «А как же проход?» «Бог троицу любит. Два раза прошел – пройду и в третий». Девушки на прощание обнимали и целовали Феликса. Похоже, им это было приятно. Ему тоже. Они ушли на катере, а Феликс остался на берегу и смотрел на закат.
* * *
Третье ущелье. А год назад в Алупке было Второе ущелье. Интересно. Где-то должно быть и Первое. Вспомнилась Алина. Тоже сентябрь, два года назад, может, чуть меньше, в окрестностях Севана. Они с Алиной пошли прогуляться по альпийским лугам. За ними увязался долговязый, нескладный Сева из Ленинграда. Феликсу хотелось побыть вдвоем с Алиной, они совсем недавно познакомились. Но Сева пристал – не отодрать, совсем, как резиновая липучка. Что делать? – пошли втроем. Поднялись наверх, долго наслаждались видами окрестных холмов, величественным Севаном, строгим силуэтом храма на полуострове. Пора было возвращаться на турбазу.
Феликс предложил спускаться не напрямую, а через живописное ущелье – вот оно, Первое ущелье! – и пройти внизу мимо симпатичного стада овец. Затея оказалась совсем не безобидной.
Когда до отары оставалось метров двести, из-за скального выступа выскочили три огромные кавказские овчарки. Тяжелым галопом – наискосок и вверх – они направились прямиком к нашим путникам. Впереди галопировал матерый вожак. Собаки не лаяли – угрожающе порыкивали, не оставляя сомнений в своих недружественных намерениях. Да, этих собак никак не примешь за миротворцев. Феликс почувствовал: внутри него все сжалось и похолодело. Собачки-то серьезные, враз порвут нарушителей своей территории. Он не боялся «полудиких» собак. Однажды был такой случай, когда на ночной дороге между двумя горными селами в кромешной темноте на него напала свора собак. Тогда он знал, как поступить: схватил несколько камней и, бросая тяжелые обломки, с громкими криками кинулся навстречу невидимым, истошно лающим псам. В тот раз это произвело впечатление… Собаки боятся камней. А сейчас что делать, чем обороняться? Травка и цветочки… Ни кустов, ни деревьев… Ни камней, ни палок.
Красота, закат, низкие тучи, уныло свистит северный Борей, поет о чем-то своем, совершенно не интересуясь, что происходит с людьми на этом альпийском лугу. А на альпийском лугу вот-вот разразится трагедия.
Рядом на ветру качался сухой зонтик гигантского борщевика. Феликс обломил легкую, полую былину – получилось какое-то подобие метровой палки. Такой не ударишь – вмиг сломается от любого легкого соприкосновения. Феликс выдвинулся вперед и вниз, оставив своих спутников чуть сзади. Надо защитить девушку… Что толку от этого домашнего, городского мужчины, все теперь зависит только от него…
Собаки втроем бросились на Феликса. Тот дико выл, кричал, лаял, визжал… «Вон, вон отсюда, исчадия ада, не сметь, всех порву, всех, всех вот этими руками порву!» Вспоминая это сейчас, Феликс вполне мог бы повторить известные строки: «Я пламенел, визжал, как он, как будто сам я был рожден в семействе барсов и волков под свежим пологом лесов». А тогда… Трудно передать комплекс ощущений, которые он тогда испытывал. Отмахивался от собак, те отскакивали, а он думал только о том, как бы случайно не задеть кого-нибудь из этих «зверюг», – а как иначе можно было их называть? От малейшего прикосновения «палка» обязательно сломается, и тогда он останется совсем «безоружным». Положение обороняющейся стороны становилось безнадежным, «бой» продолжался недолго, всего секунд двадцать, но Феликсу казалось, что это длилось бесконечно.
Из-за угла скалы неожиданно появился диковатого вида пастух, свистом отогнал собак и спас всю компанию. Спас – тут нет сомнения, потому что такие собаки никого не пощадили бы. Но может, это была его затея? – попугать дурацких «туряг» с базы. Чтоб знали… Тоже нашли себе развлечение – гулять среди отары овец!
Феликс как был, так и остался в боевой позе – ноги согнуты, руки с «палкой» вытянуты вперед, рот раскрыт в беззвучном крике.
Что там с его спутниками? Он обернулся. Оба, – и девушка, и долговязый Сева – бледные как полотно, застыли неподвижно, оба на коленях… Превратились в соляные столбы, как жена Лота, которой было строжайше запрещено оборачиваться, а она обернулась… и не выдержала ужасного зрелища… И они тоже не выдержали.
Упала мертвая тишина. Феликс только сейчас почувствовал страх, страх пришел с запозданием. Руки и ноги дрожали, но сердце ликовало… А чуть позже ударила бравурная песнь победы, песня победителя жила своей жизнью, отвязно горланила и истерически взвизгивала:
«Citius, Altius, Fortius! Быстрее! Выше! Сильнее!». Не побояться сразиться с трехглавым Цербером, охранником преисподней, защитить своих спутников и самому невредимым вернуться в подлунный мир. Его несло, казалось, ему все под силу, вот-вот он совершит что-то подобное двенадцати подвигам Геракла, и первый из этих подвигов уже совершил…
Заходящее солнце заливало померанцем альпийские луга, фигуры окаменевших спутников Феликса, а вдали еще видны были размытые силуэты зачарованного пастуха с собаками, беззвучно уплывающие за выступ померанцевой же скалы.
Вот так, после этого неожиданного и довольно опасного происшествия, после того, что случилось в далеком Севанском ущелье, и начались их нежные отношения. Алина – из Сочи, молодой врач, недавняя выпускница медицинского вуза. Обалденно красивая, наполовину чеченка, наполовину – русская, идеально сложенная блондинка, просто кавказская жемчужина. Ножки, правда, чуть подкачали. Она сама с юмором говорила о себе: «Верх – французский, низ – русский!» Почему «русский»? – непонятно, наша страна богата отменными женскими ножками. И славится ими…
Да, Алина, Алина… Как же она была хороша! Конечно, он увлекся. Не увлекся – влюбился… Невозможно было не влюбиться. Нежная, умная, серьезная, образованная, ну, что за девушка – одни достоинства! Она напоминала Феликсу библейскую Рахиль. В ней было столько готовности любить, идти за своим избранником, читать с ним одни книги, жить его интересами, делить с ним радости и горести, столько готовности жить…
У них с Алиной была общая знакомая, немолодая дама лет шестидесяти с небольшим, весьма немолодая дама. То ли Роза Лазаревна, то ли Маргарита Леопольдовна, черт ее знает, теперь уже не упомнишь, да какая разница, как ее звали? «Я вижу вас с Феликсом все время вместе, – сказала она Алине. – Он тебе нравится? Молодец, хороший выбор». Алина ответила, что ей очень нравится Феликс, что она чувствует себя женщиной рядом с ним. Что он интересный, добрый, внимательный, чуткий, и самое главное – на него во всем можно положиться. Что они решили отсюда поехать вместе – к ней, в Сочи, но… «Что, но?» «У него есть еще неделя отпуска. Неделя закончится, мы разъедемся в разные стороны, и на этом закончится наша любовь». «Не думай об этом, Алиночка! Посмотри, какой мальчик… Чему ты удивляешься? – для меня он мальчик. Если он нравится тебе, будь с ним столько, сколько получится. Две-три недели, или сколько там у вас есть. Не думай ни о чем, это будут счастливые дни и недели, ты никогда не пожалеешь об этом».
Феликс узнал потом об этом разговоре. Он уже не мог вспомнить, от кого точно – то ли от самой Алины, то ли от ее пожилой собеседницы. Но все получилось именно так, как предсказала Алина. Прошли счастливые недели. Счастливые дни и счастливые недели…
Они потом долго переписывались, но не встречались больше. Интересно, почему? – думал Феликс. Алина пошла бы за ним на край света. Стала бы любящей подругой, великолепной женой, нарожала бы ему кучу ребятишек… Но он не решился. А за этой вертихвосткой Жанной носится по всему свету, как наскипидаренный.
Что говорить, с Жанной у них тоже были счастливые дни. Новый Год, который они встречали в Кременчуге. Жили в бабушкином доме в Крюкове. Бой часов договорились встречать вместе с ее родителями по известному адресу на Котовского. Торопились. Гололед. Жанна поскользнулась, упала, порвала колготки… Порванные колготки на круглой коленке – какая жалость… Перед самым Новым Годом. Плохая примета – не в путь, не получится у них, видать, чего-то совместного… Чего-то успешного… Не то, что Феликс был суеверным, ему нравилась ИГРА в суеверия… А может, и правда – не в путь получилось. Да, пока ничего и не получилось. Хотя они до сих пор говорят, что вот-вот поженятся. Вот-вот… Ну, там эти дела надо сделать, те дела… Вот-вот… Конечно… они же оба очень хотят… Теперь уже Феликс не особенно верил в это. С Алиной не было бы никакой чехарды…
Феликсу вспомнился последний день пребывания Жанны в Ленинграде. Она приехала тогда на месяц. Невеста приехала к своему жениху, как-то так… Все чинно, пристойно, очаровала его друзей и родственников. А потом понеслось… Конкурс, премия, какие-то бесконечные тусовки, разные коллективы, зачем-то работа на танцах на Ликерке. Танцульки на Ликеро-водочном… Где прошмандовки трахаются, пардон, за занавесками… с прошмандонами, наверное, – не знаю, может быть, их надо как-то по-другому называть. В последний день – какие-то сопляки с гитарами, «коллектив» называется, они все время менялись, весь этот месяц. Что за мучение – мотаться на Ликерку, концерты, танцульки, Жанна с разными шиньонами, то в полупрозрачном платье, то в блестящем люрексе. Куча молокососов припёрлась домой к Феликсу, как бы к Феликсу и Жанне, в его двушку на Гражданке – в ФРГ, «фешенебельный район Гражданки».
Руководитель «коллектива» Кирюша – улыбчивый, ироничный, весь такой узенький, скользкий. Руководитель, он же ударник. Держался с Феликсом доброжелательно, по-приятельски, но немного сверху вниз. Как-то слишком фамильярно, что ли… Почему? Может, у него что-то было с ней?
Все прощались с Жанной. Натащили хавки, выпивки, все курили, что-то обсуждали. В дальнем углу большой комнаты сквозь дым можно было разглядеть юного гитариста лет двадцати; возможно, тот немного перепил – растекался по креслу и заливался пьяными слезами. Жанна утешала его: «Не плачь, Ганечка, не плачь, мне тоже тяжело, но я же не плачу…» Довольно противно. Ему-то, Феликсу, зачем все это? Ощущение, что вляпался не только двумя ногами… По самые уши.
«Нетрудно представить себе нашу будущую счастливую семейнуюжизнь», – подумал Феликс. Дома кавардак. Готовить Жанна не умеет и не хочет. Пару раз попробовала – есть это было невозможно. Как надо готовить картошку, чтобы часть ее осталась сырой и несоленой, а остальное оказалось сгоревшим до черноты и пересоленным?
Ну, а потом снова приходили чудные письма, шли чередой романтические свидания, жаркие встречи и пылкие артистические объяснения.
Картина его воспоминаний о последней вечеринке внезапно исказилась. На столе появилась какая-то прокисшая, засохшая еда, приготовленная, видимо, несколько дней назад. Между тарелками, прямо по столу бродили две жуткие тощие, ободранные кошки. По тарелке бегали крошечные – судя по всему, рахитичные – муравьи. Жанна сидела с застывшим лицом и громко произносила выразительным голосом бесконечные комплименты каким-то двум, сидящим рядом «сэстрам» в косыночках, похожим на иеговисток. Недалеко от стола на край стульчика присел грустный мальчик лет семи. В коротких лазурных штанишках, в лазурной курточке. С лицом Жанны. Темно-русые волосы закрывали уши, а спереди – подстрижены скобкой над самыми бровями.
– Кто ты, мальчик? – спросил Феликс. – И откуда ты взялся?
– Ты меня не узнал, папа? Я же твой сын, – ответил ребенок, и Феликсу показалось, что этот мальчик знает свою будущую трагическую судьбу.
Феликс вздрогнул, попытался отогнать от себя видение.
– Чур меня, чур, Господи, спаси и сохрани…
* * *
Он сидел неподвижно, совсем близко к полосе прибоя. Вечернее солнце покрыло красно-оранжевой пленкой его плечи, лицо, гальку пляжа, палатки туристов, осликов и крестьян, собирающих свой товар. Первое ущелье подарило ему кавказскую жемчужину. Второе – поющую девушку. Что приготовило Третье ущелье? Жанну во второй раз? Вряд ли… Вряд ли она придет. Вряд ли ему нужен этот «подарок» вторично…
Неподалеку на голове стояла худенькая женщина, сложив ноги, как в позе лотоса. Он заметил ее раньше, когда только появился в ущелье, когда бродил между палатками. Она, конечно, тогда не стояла на голове. Ей лет тридцать пять, очень худощавая, длинные ноги, длинная шея, маленькая грудь, худое аскетичное лицо, короткая стрижка, большие строгие глаза. Балерина? Чем она обратила на себя внимание? Необычной худобой? Может быть… Но еще чем-то. Выворотность ног. Горделивая осанка, которую она сохраняла – и когда курила, манерно отводя в сторону руку с длинным мунштуком, и когда несла котелок с водой из ручья. Хотя все это такая ерунда… Просто она не такая, как все.
Ну, что будем делать, милый друг? Ждать или не ждать – вот в чем вопрос. «Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы иль нужно оказать сопротивленье?»
Феликс сидел на гальке и смотрел на море. Неожиданно он почувствовал, что на плечи ему легла почти невесомая – видимо, женская рука. Это была «балерина». Она подошла, села рядом, обняла за плечи – так обыденно, будто только что отошла за чем-то, а сейчас вернулась.
– Как дела, Феликс? – спросила она низким, хрипловатым голосом.
– Откуда ты знаешь, что я Феликс?
– Но ты же Феликс?
– Да, я – Феликс. Феликс Петрович.
– Ты Феликс. Очень симпатичный, замечательный Феликс. Феликс Петрович. На которого можно во всем положиться. Феликс Петрович, который не подведет. Я видела, как ты с девушками выходил из туннеля. Похоже на то, что вы прошли пещеру без фонарика. Или мне показалось?
Феликс подтвердил.
– Так я и думала… Что ты именно такой. Еще до твоего появления.
– Ну, а теперь открой тайну, незнакомка, откуда ты знаешь, кто я?
– Здесь вчера была молодая женщина, она искала тебя. А потом подошла ко мне. Сказала, что тот, кого она ждет, придет завтра. А она не может ждать до завтра. Потому что надо уезжать. А тот, кто должен прийти завтра, придет обязательно. Он такой, он умеет держать слово. Он никогда не подведет. Так она сказала. И как только ты вышел из прохода, я поняла, что это ты. Я сразу узнала тебя, Феликс, – «балерина» положила голову на плечо Феликсу. – А вчера здесь была твоя Жанна. Очень симпатичная и обаятельная Жанна. Но она не совсем такая, какой хочет казаться. Передала тебе вот это.
Письмо. Феликс открыл конверт. Знакомый крупный, размашистый почерк, знакомые слова…
«Дорогой, любимый Фелечка! Самый родной, самый близкий. Я такая ужасная, никудышная, я опять тебя обманула. Мне пришлось уехать раньше. И мы опять не встретились. Но скоро все изменится, и мы сможем быть вместе. Ты самый лучший, ты добрый и благородный. Я знаю, ты простишь меня. Я так хочу поскорее увидеть тебя. Через два дня я буду в Запорожье и пробуду там неделю. Выступаю на Всеукраинском съезде комсомола. Это всего два концерта, остальное время – мое. Это наше с тобой время. Приезжай поскорей, мой родной. Я буду жить в гостинице против здания обкома комсомола. Все дни и ночи будут наши. Я научу тебя зароастрийской любви. Покажу тебе три позы огнепоклонников. Впрочем, извини, что за чушь я несу? Главное, что мы будем вместе. Жду тебя, мой ненаглядный, мой суженый, целую, твоя Жуля».
Жуля, какая безвкусица, что за ужасная кликуха!
С грустью читал он послание своей подруги. Сколько было таких писем, таких назначенных и несостоявшихся встреч или состоявшихся, но все равно – скомканных, мимолетных, никудышных… И каждый раз… После всего этого бесконечно повторяющегося – мелкого, неряшливого вранья, крошечных предательств и провинциального лицедейства… Ему опять хотелось… Простить, вновь утонуть и забыться в объятиях возлюбленной… под бодрые, жизнеутверждающее советские эстрадные ритмы: «Червону руту не шукай вечорами, – ти у мене єдина, тільки ти, повір…»
И в этот раз опять что-то дернулось и зазвенело у него в душе – любовь не проходит бесследно, всегда что-нибудь да остается… Жанна – смелая, веселая, независимая… А еще – дерзкая, своевольная… Настоящая дочь вольного ветра. Невозможно устоять перед ее напором, перед магией ее обаяния. Черт побери, она же тебе так нравится, к тому же – любит тебя… Ну, так, как умеет. Как умеет, так и любит… Бери за руку, – и айда в Ленинград; сваяете малыша, будет семья, что еще человеку надо?
Тоскливо заныло в груди. На мгновение всплыли постные лица «сэстер» в косыночках (откуда они могли взяться?) и грустное лицо мальчика, похожего на Жанну. Феликс вздрогнул – чур меня…
– А сами-то вы кто, милая леди? – спросил он у «балерины».
«Балерина» держалась просто и без церемоний, они говорили, как давние-давние друзья. Феликс узнал, что его новая знакомая – из Москвы, что зовут ее Наташей – «мне больше нравится, когда меня зовут Натой». А фамилия у нее довольно причудливая – Розенталь-Померанская. Что она действительно балерина, балерина в прошлом, а сейчас – на пенсии. Балерины уходят на пенсию очень рано по меркам обычных людей. Стаж ее выступлений шел с пятнадцати лет, и сейчас уже набежало двадцать лет на сцене.
«Такая молодая, и на пенсии», – подумал Феликс. Но она все равно работает, преподает хореографию в училище. Зато летом свободна, как птица. И с июня до конца сентября живет здесь, в палатке в Третьем ущелье. Что здесь делать столько времени, неужели не надоедает? «Это особое место», – сказала она, но ничего объяснять не стала.
Феликсу было уютно рядом с этой женщиной. Может, просто аура чудесного ущелья? «Особое место»… Нет, его определенно тянуло к этой женщине, но, кроме того… В ней было что-то от его мамы. Странное сочетание. Никогда раньше он ничего подобного не испытывал. Они долго бродили по пляжу. Феликсу хотелось рассказать Наташе о себе, о своих проблемах, о работе. О Жанне, об их романе. Рассказывал он и об Алине, о многом другом – боже, какой я дурак – зачем это надо: раскрывать всю поднаготную совершенно незнакомому человеку? Но он говорил, говорил…
С Наташей все становилось просто и понятно. Казалось, он говорил не с ней, а сам с собой. Сам себе рассказывал о своей жизни, которая так и не приобрела каких-то конкретных контуров, о женщинах, которых любил, но почему-то недолюбил… О своих «подвигах», которые почему-то сами собой поблекли…
Вечерело, но было еще тепло. Феликс опять сидел на песке и смотрел на закат. Ната в крошечном купальнике – просто два пестрых лоскутка – стояла рядом. Феликс, не вставая, обнял ее загорелые бедра. «Какая же ты худенькая, Ната», – подумал он с нежностью.
– Что ты решил, – спросила Наташа, – поедешь в Запорожье?
Феликс пожал плечами:
– Наверное, поеду. Мы ведь жених и невеста.
Он повернулся к Наташе и поцеловал ее в мягкий холмик ниже упругого живота. Людей на пляже было немного, но люди все же были. Женщина не отстранилась, признаков стеснения тоже не обнаружила. Феликс поднялся, обнял ее за плечи, прижал к себе и поцеловал в губы, она ответила…
Феликс долго смотрел Наташе в глаза, но руки не разжимал и не отпускал ее от себя.
– Мы с тобой еще встретимся? – спросил он.
– Думаю, встретимся. Приезжай в Москву, буду рада повидаться с тобой. Может, увидимся и в Ленинграде. Но только все это будет совсем не так, как сейчас.
– Почему?
– Ты сам знаешь – все течет, все меняется, в одну реку дважды не войдешь.
– Тогда я останусь. Останусь у тебя. Чтобы было, «как сейчас».
– Нет, – спокойно ответила Наташа. Не оттолкнула его, не повысила голос… Но Феликс понял: ее «нет» действительно означает «нет». Непонятно, почему «нет»? Опять в нем заиграло это его привычное «to-knock-higher-than-a-kite».
– Почему, Ната, скажи почему, милая девушка?
– Ты знаешь, где мы находимся?
– Да, это Третье ущелье.
– Вот ты сам и ответил: потому что это Третье ущелье.
– Ну, и что это значит?
Наташа осторожно высвободилась из его объятий.
– Ты видел абхазов, пришедших сюда с товарами на ослах? Ничего не заметил? Это ангелы. Они оделись как крестьяне и принесли нам сюда плоды земли. Лучшие плоды южной земли. Специально для нас.
– Ты, Ната, говоришь загадками. Почему я не могу остаться? Ты действительно не хочешь, чтобы я остался?
– Потому что это Третье ущелье. Мы сейчас находимся на другой стороне. Видишь слева вдали низкий полуостров – это военный аэродром Гудауты. Справа у горизонта – многоэтажки Пицундского пансионата, перед ними – низкие домики Рыбзавода. Это все на той стороне. На той стороне вся Абхазия, весь Кавказ, Советский Союз, а дальше – Ледовитый океан, а за ним Америка, весь мир на той стороне. А Третье ущелье – на другой стороне. Это совсем другой мир. Другое измерение. Поэтому я и приезжаю сюда с июня по сентябрь. И тоже становлюсь здесь совсем другой. А когда возвращаюсь на ту сторону, в наш грешный мир… В общем, Третье ущелье помогает мне выжить в нашем мире.
– Ну, хорошо, милая мечтательница. Скажи проще, почему я не могу остаться с тобой?
– Неужели ты не понял, Феликс? Потому что здесь, в Третьем ущелье все по-настоящему и всерьез.
– По-твоему, я похож на легкомысленного человека?
– Послушай меня, Феликс, и не обижайся. Ты не живешь, а играешь. Меняешь работу. Меняешь увлечения. Приятелей и друзей. Меняешь любимых. Для тебя люди – как поплавки. Ты прыгаешь на один поплавок, балансируешь, чтобы не упасть, а когда подворачивается другой, перепрыгиваешь на него. Ты всегда в пути, ты путник, это неплохо… С одной стороны. Но все, что ты делаешь, это наброски, эскизы. Ты живешь начерно. А здесь, в Третьем ущелье, здесь можно только всерьез и по-настоящему. Ты еще не готов.
– Как жаль, Ната… Мне так хорошо с тобой. Мне показалось…
– Феликс, ты чудесный. Ты нравишься мне. Но сам ты еще только эскиз… Только мечта. Вот девушки, с которыми ты пришел, они – настоящие. А ты похож на свою Жанну. Она тоже – пока черновой набросок. Вы оба – как две стороны одной медали. Потому и вместе. Поверь мне, Феликс, тебе еще предстоит научиться жить по-настоящему. Набело. И у тебя получится. У Жанны, возможно, не получится, – она напоминает мне веселую, легкомысленную бабочку-однодневку, которая летит на огонь… – нам нравится любоваться расцветкой и полетом бабочек: «Вон бабочки снуют туда-сюда – все ищут ушедшую весну»[1].
У нее, наверное, не получится – очень жаль. Но у тебя получится. Третье ущелье открывается тому, кто попадает сюда через чистилище черного прохода. Так что у тебя, Феликс, есть шанс. Но это Третье ущелье не твое. Тебе еще предстоит найти СВОЁ Третье ущелье. А сейчас иди, пора идти. Твое время истекло. Смотри, солнце уже коснулось горизонта. Благословляю тебя. Иди, дорогой, не медли.
Наташа дала Феликсу фонарик. Если будет возможность, вернешь. А не вернешь – невелика потеря. Бери, бери, он мне не нужен.
Феликс двинулся через сквозную пещеру. Нашел место, где он забрел на боковую тропу и упал через огромный провал на дно первого уровня. Ему тогда повезло, высота действительно оказалась небольшой – не более двух метров. Поэтому и цел. Падение, однако, оказалось целительным, полет в темноте излечил его. Феликс вышел из туннеля на берег моря. Сумерки сгустились.
Впереди зажглись оранжевые корпуса пансионата. Включились огни Рыбзавода. Еще есть время, чтобы добежать до Рыбзавода, пока не упала тьма.
Достал из кармана письмо Жанны. Посмотрел на конверт. Повертел в руках фонарик. Вспомнилась Наташа. Была ли она на самом деле, эта «балерина», такая худенькая, почти бестелесная, почти неземная? Или это только ему привиделось? Может, его с теплом и любовью встретил особый дух этого места? Дух в образе нежной и мечтательной женщины… Похоже на то, что он поцелован духом Третьего ущелья, – сердце билось, как запертая птица, – значит, не все потеряно, значит, он еще небезнадежен… Взглянул на письмо, решительно порвал его и пустил клочки по ветру. Перед ним весь мир, он только начинает… Он найдет свое Третье ущелье, обязательно найдет. Где все будет всерьез и по-настоящему.
Ощущение необыкновенного подъема охватило Феликса, неведомая сила бросила вверх и понесла. «To knock higher than a kite» – если уж запускать змея, то выше всех! Он громко кричал и наперегонки с ветром бежал на встречу со своим будущим… Куда он бежал? Куда? Пока – к мерцающим огонькам Рыбзавода…
Встань и иди
И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа куми», что значит: девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и начала ходить.
(Мар.5:35-43)В темноте
Что такое темнота? Я поднимаю веки, открываю глаза. Опускаю веки, закрываю глаза – без разницы. Чувствую только движение век, а ничего не меняется.
Что же такое свет? Говорят, что он, свет, тоже может быть разным. Есть еще цвет. Свет и цвет. Родственники. Ц-с-вет. Разница в одной букве. Почти без разницы. Что же это такое?
Мишка, приятель из группы мальчиков, пытался объяснить. Он, как и я, не видит. Но не от рождения. Стал таким. После автомобильной аварии. Сильное сотрясение. А потом постепенная потеря зрения. Но он помнит. Как выглядит лес. Как выглядит море. Я тоже знаю, как выглядит лес. Но по-своему. Мягкая трава, эхо, шум деревьев, или это шум ветра? Неважно – шум леса. Кузнечики. Посвисты. Пробегающие мимо – то ли люди, то ли животные какие… Говорят, что кабаны. Шуршанье и гудение мух, комаров, гнуса.
Море тоже знаю… Ветер звучит совсем по-другому. И волны – то бьются, то шелестят. Шум песчинок на пляже. Крики птиц. И запах… Какой запах у моря? Гнилые водоросли. Иногда запах мазута. И запах йода.
А в лесу какие запахи… Их много. Прелой травы. Сосны. Грибов. Запах навоза. Чистотел, тимьян, череда, горец, зверобой… Гоноболь, не люблю этот запах. Он меня убивает.
В интернате хорошие люди были нашими учителями. Вывозили нас на природу, давали растения пощупать, потереть пальцами, понюхать, все объясняли.
Я знаю, как выглядит человек. Не потому что могу ощупать и запомнить лицо. Просто такие, как я, знают лучше, чем другие. Вы, зрячие, видите. Можете смотреть на человека час, два, день, неделю. Но не узнаете, каков он. А я сразу узнаю его – по шорохам. Как он двигается, как шаркает ногами, как снимает одежду, как берет ручку, как по клавишам компа стучит, как деньги считает. По звукам шагов, по походке в сочетании с дыханием – легким, частым, прерывистым – мы узнаем знакомых, мужчина идет или женщина, грузный человек или худощавый, здоровый – больной, отличаем шаркающие шаги старика от шарканья молодого пижона во время прогулки. Походка статуи, тяжеловесная поступь, петушиная походка, подпрыгивающая, летящая, легкая, гармоничная и умеренно плавная.
Как говорит. Звучно, глухо, громко, невнятно, доверительно… С придыханием, с пришептыванием, с пришлепыванием губами, как втягивает слюнку, как отдувается, щелкает зубами, фыкает, цокает, причмокивает. Шуршит бумагами, ерзает на стуле. По голосу, «барометру» души и тела, можно понять, молодой человек или пожилой, взволнован или спокоен, характер у него злобный или добрый, восторженный или мрачный.
Есть еще кое-что. Каждый человек пахнет. И не одним запахом. У него много запахов. Говорить даже неудобно – и ото рта, и от тела, и от ног, причем у всего разные запахи – гнилые, радостные, агрессивные, нежные, резкие, по запахам о человеке можно многое узнать.
А осязание. Казалось бы, такая мелочь… Легкое прикосновение руки скажет больше, чем сто слов, чем тысяча картинок. Теплое, холодное, мягкое, твердое, влажное, сухое, неподвижное, дрожащее, нервное, спокойное… Пожатие… Крепкое, слабое, вялое, затяжное. Ладонь широкая, узкая, “гусиная лапка”. Пальцы короткие, длинные, изящные, грубые.
Кто сказал, что мой мир беднее вашего? Может, даже богаче. Потому что ваши так называемые зрительные образы забивают тонкие ощущения. Вы не услышите, не почувствуете то, что я «прочитаю» слухом и обонянием. У таких, как я, нарушенное зрение компенсируется иными способностями: особенной памятью, фантазией, музыкальностью, интуицией, богатством внутреннего мира и чуткостью, человеческой тонкостью, которой всем вам явно не хватает.
Ученики наших школ живут полной жизнью. Мы легко осваиваем школьную программу. Творим, путешествуем, занимаемся спортом. Растем позитивными, успешными, уверенными в себе, готовыми к борениям и одолениям.
Да, нам необходимо постоянно думать о том, как передвигаться, обслуживать себя, заботиться о членах семьи, если она есть, решать бытовые вопросы и т. п. Мы как спортсмены. Для достижения необходимых навыков в ориентировании нам приходится постоянно трудиться и тренироваться. Звук для меня – источник информации, ориентир для передвижения, сигнал об опасности. Из многообразия звуков я воссоздаю полную картину событий: звуки трамвая, троллейбуса, автобуса. На тротуаре своя гамма: твердая и уверенная поступь молодого мужчины, характерные звуки женских шагов и шагов пожилого человека. Слегка пришлепывающие лапы собак, мягкое поскрипывание детской коляски, шум детских голосов, шелест листвы на деревьях, шуршание листьев под ногами. Обрывки разговоров, музыка, доносящаяся из окон, скрип и стук дверей и т. п. По скрипу калитки, по лаю собак, по шуму листвы я узнаю, чей это дом. По неровностям дорожки, по направлению ветра, движению воздуха определяю необходимый маршрут. Парящие канализационные колодцы с журчащей водой тоже мои «помощники» в ориентировании.
Когда хожу на занятия по корпусам университета, я лучше ориентируюсь в аудиториях и коридорах с деревянными полами или мягким покрытием. Полы из керамической плитки создают эффект металлической бочки, затрудняют поиск нужного направления. От дома до университета добираюсь пешком.
Я хорошо чувствую пыль, грязь в помещении, чистоту или загрязненность белья, низкие своды, пустые или забитые вещами, заставленные мебелью, комнаты, по запаху определяю, чисто в квартире или грязно, ощущаю качество продуктов.
Гул предприятий, новостроек. Громкие звуки затормаживают и ослабляют меня. При грохоте строительной и дорожной техники, шуме станков промышленных предприятий я чувствую себя беспомощной и потерянной. Боюсь передвигаться, почти полностью теряюсь на местности. Чувствую дискомфорт. Другое дело, когда вокруг ритмика и гармония.
Я научилась использовать отражение звука, эхо шагов от зданий ночного города. Могу использовать эхо при постукивании тросточкой по тротуару или пощелкивании пальцами.
Во мне заключен весь огромный мир, не я в нем, а он во мне, со всеми звуками, запахами, прикосновениями, он раскрывается внутри меня, протекает сквозь меня, а я – сквозь него.
Люблю музыку. Звуки дрожат в животе, в кончиках пальцев. Если вибрируют медленно, они жесткие, чуть быстрее – все мягче и мягче. Вначале теплые, потом становятся прохладными. Легкими, летящими, легкомысленными. Потом слепящими, почему я, слепая, использую это слово, разве можно меня ослепить? Можно, можно… Они входят как стилет в ножны – точно ложатся в свою ячейку, только могильный холод, только капли крови из сердца, а потом они спрашивают – это уже все? Кто-то «врывается к богу, боится, что опоздал, плачет, целует жилистую руку, просит». Умоляет дрожащим голосом – может, все-таки не опоздал, может, есть еще надежда? Спасите, помогите… Другие отвечают ему – нет, нет, нет, надежда, всегда есть надежда! Они умирают – все вместе и поодиночке – и вновь возрождаются…
Ну, а меня мучит, продолжает мучить любопытство, что же это такое свет и цвет?
До – красное. Соль – оранжево-розовое. Ре – желтое. Ля – зеленое. Ми – сине-белесое. Си – подобно ми. Фа диез – синее, резкое. Ре бемоль – фиолетовое. Ля бемоль мажор – пурпурно-фиолетовое. Си бемоль – стального цвета с металлическим блеском. Фа – красное темное.
Так расписал цвета Скрябин. Римский-Корсаков расписал цветозвуки по-другому. Что я, наивная, могу из этого извлечь? Синее, красное – для меня это только слова. Что толку считать какой-то звук синим или зеленым или красным?
Можно попробовать так подойти к этой моей проблеме. Синее – до минор любви. Говорят, что красное – это кровь. Кровь приливает к голове. Красное – гнев и ярость. В книгах написано: «желтое солнце». Солнце – изумление, просветление. Откровение, внезапное перерождение, когда все вокруг становится простым и ясным.
Черное – конец всему. Когда конец близок, нас охватывает страх. Черное – это уныние, депрессия, тревога, раздражение, неуверенность, безумие, испуг.
Слова, слова… Для меня цвета – это только слова. Пусть слова. Все равно надо. Я же читаю. Алфавит Брайля открывает мне двери миров Толстова и Чехова. Как-то надо понимать «синее море» и «желтый песок».
Белое – это значит «все хорошо». Белое – это смех. Когда на душе хорошо, можно и посмеяться. Смеется чистый человек. Белое – это чистота. Фиолетовое – презрение, отвращение. Фиолетовое – то, что отталкивает. Серое – сострадание, жалость. Больше всего я люблю оранжевое. Orange – превосходный фрукт, мне нравится его мягкая упругость, его вкус, ароматный запах, он заряжает для жизни, он как пионерская труба – бодрая и веселая, она зовет к бою, она взывает к нашему мужеству.
Хватит общих рассуждений. Все. Меня ждут ученики. Нам не дано увидеть свет. Не дано понять то, что мы не можем увидеть. Но у нас своя жизнь. Мы понимаем слово. Слово – это не только смысл. Это звук. Произношение. Ударение. Шелест, шипение, колокольчик, метроном, звучащая мембрана, горловой звук.
Я учу английскому. Таких же, как я. Зачем английский? Чтобы читать в подлиннике. Чтобы слушать аудиокниги и рок-музыку. Чтобы разговаривать во время путешествий. Мы живем полной жизнью.
Живу одна. Бой-френда пока нет. Что с того? Сейчас нет – будет, потом будет. Все у меня будет.
Социальный комитет дал квартиру – квартирка небольшая, правда, но своя… А слуховой аппарат – еще в интернате, я тогда совсем маленькой была. Вот за что я в пояс поклонюсь моим воспитателям. Я еле слышала, родители палец о палец… Мне целый мир открылся. Разве я знала бы все эти прелести и глубину жизни звука? Старенький правда аппарат, социалка дает нам какой-то примитив. То ли Орехово-Зуево, то ли Павлово-Посад делает, аппарат огромный, работает неважно. Заработаю, закажу новый в Германии. Но все равно… Нашлись люди, не бросили, помогли. Всех люблю. Кроме родителей. Не признавала их, когда жила в интернате. Они со мной не возились – скинули в школу для детей с ограниченным зрением. Мешала им. Тебе в интернате лучше, там всему научат. А на аппарат для тебя у нас все равно нет денег. Там и аппарат дадут, и научат… Такие слова говорились. И с концами. Ни ногой. Годами не приходили. А приходили – номер отбывали. Ну как ты? Нам сказали, ты лучшая ученица, молодец, дочка. Молодец, молодец, и пока.
Я еще ребенком боевая была. В школе все просила книжки про пиратов, про капитанов. С мальчишками мы обычно в моряков играли. Плавали по островам, встречались с индейцами, я всегда капитаном была, мне даже фуражку морскую с кокардой подарили. Научили честь отдавать. Я требовала, чтобы мальчишки тоже мне честь отдавали, я ведь капитан. Отдал честь? – стой, я проверю, может, ты обманываешь…
Папа с мамой намучились со мной. Я строптивой росла. Чуть что не по мне… Несколько раз из дома убегала. Вы так, вот и я так. Я вам не нужна, а вы мне и подавно не нужны. Без вас проживу. Шла, куда ноги вели.
Однажды в мороз забралась аж до ЦПКО, забилась на эстраде в уголок под навесом. Там и провела вечер и часть ночи. У меня биток свинцовый был. До полуночи колотила им по монете – перевернется, не перевернется, орел – решка.
Милиционеры обрадовались, когда меня отыскли – вот она, жива, жива… Не трогайте меня, не трогайте! Не имеете права. Я к ним не пойду, ну и что, что родители, не хватайте, не тяните… Но они нашли подход – даром, что менты – не тащили, сели рядом, дали горячего из термоса, руки растирали, разогревали дыханием, я и согласилась.
Родители, конечно, напугались тогда, плакали. Может, они и неплохие – не алкаши какие-нибудь. Мне кажется, они не любили меня, даже тяготились. Мы, конечно, тяжело жили, отец – рабочий в совхозе, мать – медсестра, домик у нас небольшой в Токсово, корову держали, собака – само собой, а я – какой я им помощник? Может, и не тяготились – когда им было заниматься мной? Как меня в школу отправлять? Да и не смогла бы я в обычной школе – слепая, да еще и слышу плохо. На улице и так надо мной дети смеялись. Вот и отдали в интернат для детей с ограниченным зрением. А я обиделась. Решила так: не было у меня родителей, пусть и не будет никогда. Воспитательница спрашивает – кто твои папа и мама? Отвечаю: сирота я, нет у меня никого.
А сейчас-то они звонят. Давай увидимся, дочка. Увидимся – как я могу «увидеться» с ними? Конечно, я теперь самостоятельная. Известность. Меня по радио, по ящику показывают. Иностранцы. Встречи по линии общества слепых.
Ну, все, выбралась из метро. Так, теперь по ступенькам вниз. Где здесь может быть автобус?
Вероника
Какая досада! Все одно к одному. Эта экзема на ноге все больше и больше, и главное – так близко к интимному месту. Все ближе и ближе. И печет, и чешется – сил моих больше нет.
Говорят – аллергия. Я уже во всем себя ограничиваю – ем только каши. Ни овощей, ни фруктов, ни острого, ни жирного, ни сладкого, ни соленого…
Врачи наши – полные идиоты. Одни говорят – красная волчанка, другие – вульгарная пузырчатка, смертельные диагнозы. А третьи – проверяйтесь на СПИД. Лечение – огромные дозы гормональных препаратов, я этого страсть как боюсь.
Мне всего-то сорок с небольшим. Все мое при мне. Высокая, стройная, вайтлс как у ББ, и личико пока совсем молодое, девчонки говорят: «вылитая Кириенко в молодости». Да я и сама вижу – куда ни приду, мужчины на меня как бабочки со всех сторон летят. Приятно, конечно, но мне это совсем не надо. У меня Феликс есть.
А буду сидеть на гормонах, морда станет брюквой, свинячья морда, ноги опухнут, кости поплывут. И так вся личная жизнь насмарку, Феля уже год как переехал в свой кабинет. Он, правда, меня во всем поддерживает, жалеет. Возит по консультациям… Но это же ненормально, что это за семейная жизнь?
Кто-то говорит: не надо ничего делать, смазывайте экзему дезинфицирующими растворами, само пройдет… Может быть, действительно плюну на все, посижу на диете и все пройдет? Не могу ни на что решиться. И чувствую себя прилично. Только настроение ужасное. Два года мотаюсь, – анализы, консультации – а ничего не ясно.
Вся жизнь у меня – одни проблемы. В детстве – мама. Отец – душа человек, морской офицер, командир подводной лодки, а мать… Дряной человек. Хоть бы в чем мне помогла, хоть бы раз что-то мне, девчонке, посоветовала. Ей главное, чтобы ребенок накормлен был… Чтобы слушалась. И больше ничего. А я с детства всем интересовалась, всю школьную библиотеку перечитала.
Пока я по делам, сбегай, Вероника, в парикмахерскую, очередь для меня займи. Вернулась, я еще дома была, читаю. Книжку порвала, и по лицу, по лицу. Я бегом – в парикмахерскую, а там очереди никакой. И таких случаев…
В три, четыре – вечно нашлепанная, вечно в углу стояла. Не помню за что – я тихая, послушная была, совсем не баловная. Но мать находила, за что наподдавать.
Больше всего в жизни мать боялась. Обида до сих пор осталась. Она болела. Я не оставляла ее, помогала, как могла. Свою семью бросала, бежала к ней, готовила, стирала, врачи, лекарства… А не простила, нет, не простила. И сейчас тоже. Матери давно уже нет, а я не простила. И отца нет – с кем посоветоваться?
Так уж получилось – в жизни сама всего добивалась. И образование получила. И профессию меняла несколько раз. Сколько меня тиранили на радио, я рвалась – муж, работа, ребенок. Зато теперь – уважаемый человек. Режиссер на радио. Теперь все хорошо. И муж – человек необыкновенный, повезло мне. Может быть, и воздалось за мои страдания. Первый раз выскочила замуж без любви, по глупости, неудачно, зато теперь все в порядке.
И вот теперь экзема. Не сплю по ночам, дергаюсь, переживаю. Никогда не бывает, чтобы все было в порядке. Если тебе кажется, что все в порядке, значит, ты чего-то не знаешь. А тут и знать нечего. Вот она, экзема. Может, и не экзема. Фуфло какое-то. И главное, все больше и больше.
Все, выбралась из метро. Так, теперь по ступенькам вниз и домой.
Небо будто дырявой портянкой закрыто, через отверстия пробиваются оранжевые лучи осеннего солнца.
На ступеньках стояла невысокая девушка в темных очках с палочкой. Стрижка «под мальчика», короткое обшарпанное пальто, рюкзачок за плечами. На ушах – примитивные, громоздкие слуховые аппараты. Девушка несколько раз негромко просила прохожих о помощи, никто не обратил внимания.
Вероника по инерции тоже проскочила мимо. Остановилась. Развернулась, подошла к слепой. Маленькая, некрасивая, розовые пятна на коже лица и рук – «похоже на псориаз», – подумала Вероника.
Вам помочь? Мне надо добраться до Большой Монетной. Я провожу до маршрутки. Маршрутка мне дорого. Проводите, пожалуйста, до автобуса, туда можно доехать на обычном автобусе? Это совсем рядом. Но пешком быстро не получится, даже если мы вместе пойдем. Мне ученики звонят, опаздываю на занятия. Вы обучаете… Английскому, учу плохо видящих. Какая молодец! Меня зовут Вероника, а вас? Слепая промолчала, своего имени не сказала. Вы живете одна? Родина любит меня, у меня есть своя квартира. И никто вам не помогает? Я же сказала, одна живу. Справляюсь. Есть у вас близкие? Сестер, братьев нет, а папа с мамой живы, мы врозь живем, я – в городе, они – в пригороде. Хотели избавиться от ребенка с ограниченными возможностями, вот и запихнули в интернат. Знать меня не желали. Это все когда-то было. А теперь сами уже старые и несчастные, бегают ко мне. Болеют, жалко их. Я их простила. Теперь я их утешаю. И других, кто меня обижал, тоже простила. Всех простила.
Извините, может, я не должна спрашивать, вы хоть немного видите? Нет, я слепая от рождения. И слышу тоже неважно. «Боже, какое несчастье!» – невольно вскрикнула Вероника.
Слепая напряглась, сжалась в комок. Какое несчастье, о чем вы говорите? Я живу хорошо. У меня все есть, я со всем справляюсь. Я – счастливый человек.
Автобус долго не приходил. Вероника почувствовала неловкость ситуации и решилась прервать затянувшуюся паузу.
– Вот видите, у вас родители живы. А у меня нет. Оба ушли. Отца всегда любила.
– А мать до сих пор не простили? – неожиданно спросила слепая. Вероника удивилась, но ничего не ответила. Как она догадалась? И почему, действительно, я до сих пор не простила мать? – подумала Вероника с горечью.
Вот и двенадцатый подошел. Вероника подвела слепую к двери автобуса, поддержала, пока та взбиралась на первую ступеньку. Крикнула водителю: «Помогите девушке, ей надо выйти на Большой Монетной. Ну, хотя бы остановитесь и подскажите, что сейчас Большая Монетная».
Девушка поднялась в автобус, Вероника проводила ее взглядом. Гордая. Вот каналья! Ни тебе спасибо, ни до свидания. Может, обиделась на меня? Эти люди такие ранимые. Как обнаженный нерв. Но каков характер! У меня все есть, я со всем справляюсь. Счастливый человек… Без зрения, плохо слышит, слабенькая, хиленькая, вся в розовых пятнах. Бедное пальтишко. Ужасный слуховой аппарат. Как она справляется с бытом? А еще преподает. И родителей – зрячих, слышащих, судя по всему – утешает.
А я-то, нюни распустила. Молодая, сильная, красавица чистой воды… Хорошая работа, любящий муж, превосходная семья, взрослый сын, и все мне плохо.
Вероника почувствовала внезапный подъем настроения; как на крыльях летела она домой. Скоро Феликс придет с работы. Надо привести себя в порядок. Хорошо выглядеть, на стол накрыть, ему будет приятно. А экзема? Ничего, все когда-то кончается, переживем и это. Схожу на консультацию к профессору. К одному, к другому. Все наладится. Может, и само пройдет. Главное, не зацикливаться. Отпустить проблему. Не дать плохим мыслям овладеть тобой.
Была бы мама жива, я знала бы, с кем поделиться. Я всегда делилась с ней, когда что-то не получалось. И внуком, моим сыном, она сколько занималась. А вот нет ее. И я, дура, до сих пор не простила. Может, все от этого. Плохие мысли тянут вниз.
Вон, я какая, – молодая, сильная, бегу, словно на крыльях лечу. И сыну надо побольше внимания. Поговорю, как у него дела в универе. Как дела с девушками. Раньше-то провожала его на свидания. На первую интимную встречу, например. Дала ключ от квартиры на Московском, постельное белье. Презерватив сам купил. Он всегда рассказывал мне о своих проблемах. Даже об интимных. Не с отцом делился, а со мной. А теперь забросила ребенка. Конечно, он уже верзила и амбал, а все равно, для меня ребенок. Давай, Вероника, беги.
Встань и иди
Прошло несколько дней. Вероника уехала на выходные в просторный загородный дом, в их с Феликсом семейное гнездо. Уехала одна. Феликса был в командировке. Сын мотался по девушкам, тренировкам, по клубам и вечеринкам. Он добрался уже до такого возраста, когда отец с матерью нужны только тогда, когда накапливались проблемы.
Вечернее солнце заливало красно-оранжевым светом уютный эркер. Вероника растянулась на удобном диване, расстегнула рубашку, откинула голову – волосы темной волной рассыпались по светлой замше подушек, глаза прикрыла – пусть солнечные лучи ласкают открытые лицо и шею.
Ничего особенного за эти дни не произошло, экзема по-прежнему игнорировала усилия медиков и медикаментов и жила собственной жизнью, но настроение у Вероники было почему-то спокойное и безмятежное.
Послышались шаги в прихожей. Калитка и ворота заперты, возникший было вопрос «кто это может быть?» остался без ответа – какая разница кто?
В арке прихожей появилась знакомая фигура девушки в темных очках, с палочкой и рюкзаком. Ты здесь, Вероника? Голос ее казался не таким резким и отрывистым, как в тот раз, сегодня он показался неожиданно нежным и мелодичным. Канашка пришла, как она сюда попала, как узнала, как нашла дорогу? Появление слепой совсем не удивило Веронику, и это «ты» – очень даже мило. На «ты» – значит, будем на «ты».
«Я здесь, заходи», – сказала она. Но не пошевелилась, не сделала попытки подняться и встретить необычную гостью. Слепая пришла в том же самом пальто, на ногах – ботинки на толстой подошве, а на голове лихо сидела капитанская фуражка, напоминающая фуражку отца Вероники. Девушка ощупывала палочкой дорогу, но двигалась при этом очень уверенно, будто хорошо знала этот дом, будто она уже здесь бывала. Почему ты решила прийти? Мне понравился твой запах. Ей понравился… Странно. Я всегда была уверена, что у меня не слишком приятный запах, пыталась бороться с ним, бесконечное мытье, подмывания, дезодоранты…
Девушка подошла к полулежащей Веронике, наклонилась. Протянула руку к ее лицу. Не беспокойся, я хочу с тобой познакомиться поближе. Можно мне сегодня быть твоим капитаном? Бережно касалась лица, осторожно вела пальцами по волосам, шее, плечам – ощупывала или ласкала? Какая же ты красивая! Я сразу поняла, что ты красивая. Тогда догадалась, а теперь знаю точно.
Повернулась назад, отыскала палочкой стул. Сняла фуражку, рюкзак, коротенькое пальто и ботинки. Осталась в джинсах с подтяжками и рубашке мужского покроя. Девушка казалось совсем худенькой. «Какая ладная», – подумала Вероника.
– Подойди ко мне, маленький капитан. Ближе. Ближе. Садись рядом. Вот так. Сними очки, я хочу на тебя посмотреть. Открой глаза. Замечательные глаза, – «жаль, что ничего не видят, но от этого не менее интересные», – подумала Вероника, но вслух ничего не сказала. – Какая у тебя светящаяся кожа. И милые веснушки. А розовые пятна на лице и руках почти совсем не видны. Ты знаешь, что у тебя восхитительный чувственный рот? И алые губы. Знаешь, что такое алые губы? Это губы, которые созданы для поцелуя. Нет, нет, не надо меня целовать. Пока не надо. Давай немного привыкнем друг к другу. Помоги снять рубашку. Какие нежные ласковые руки. Сними свою рубашку. И брюки тоже. Ты очень привлекательная, тебе говорили об этом? Твой первый мальчик тоже был слепой? У тебя трогательное, почти детское тело.
Слепая скинула с себя все, потом раздела Веронику, целовала ей плечи, грудь, живот, нежные складки на сгибе ног у лобка.
– Тебе неприятно, что у меня экзема?
– Не думай об этом. Позволь мне притронуться. Где у тебя болит? Да, да, я чувствую. Здесь так сильно печет руку. Буду целовать рядом, в самые укромные уголки. Я так рада, что встретила тебя. Наверное, я тебя люблю, Вероника. Тебе будет хорошо со мной, потому что я тебя по-настоящему люблю. Все пройдет. Надо только простить маму, и все пройдет. Талифа куми, чудная Вероника, встань и иди, несравненная Вероника.
Апельсиновое солнце улыбалось, оно, возможно, одобряло объятия молодых женщин. А может, и нет – неизвестно. Наверное, солнце все одобряет, ему это совсем нетрудно. Просто его не волнуют наши человеческие дела.
* * *
Вероника пробудилась – боже, как хорошо! Она полулежала на диване. Верхние пуговицы рубашки оказались расстегнутыми. Оглянулась по сторонам – в доме никого. Только она и вечернее солнце.
Бронзовые лучи согревали лицо, шею, грудь. Проникали сквозь кожу, тепло разливалось по кровеносным сосудам и доходило до каждой клеточки тела. Никаких неприятных ощущений. Только сладкая нега и предчувствие счастья. Почему предчувствие? Ощущение полноты жизни и счастья. Здесь и сейчас.
Где эта слепая девушка, она уже ушла, или это только приснилось? Если приходила во сне, значит, ей хотелось увидеть меня. Как слепая может «видеть»… Может. Только по-своему. Она же «разглядела» мою маму. Я тоже, наверное, хотела увидеть еще раз эту несгибаемую малышку.
Жарковато на солнце. Вероника сняла рубашку, стянула брюки и полураздетая босиком подбежала к окну. Восхитительная осень, оранжевые листья, рыжая белка собирает орешки на лещине. Ладонь непроизвольно коснулась внутренней поверхности бедра. Не чешется, не болит. Вероника посмотрела на экзему. Болячка сжалась и подсохла, ее край отошел и завернулся. Аккуратно подцепила его, болячка легко отошла, открылся участок нежной, розовой кожи.
Черные рассказы
Город, которого нет
31 декабря 2006 года Леша Болгарин переехал в новую трехкомнатную квартиру своего друга Артура в центре Киева. «Перебирайся ко мне, – сказал Артур, чемпион Украины по армрестлингу. Поживешь здесь, места хватает, семьи пока нет, потренируемся вместе, приведешь себя в порядок – совсем доходягой стал. Осмотрись, поднакопи денег, а потом снимешь жилье».
31 декабря. Как заманчиво в Новом Году начать новую жизнь. Алеше – тридцать пять. Когда еще, если не сейчас?
Рано утром привез свои вещи. А вещей-то этих… С воробьиный нос. Диски с фотографиями – Алеше нравилось фотографироваться. Шмоток совсем мало – Леша любил и умел одеваться, но одежды не накопил, все, что было, растерял из-за своей постоянной кочевой жизни; одежды, обуви – самый минимум.
Крестик золотой. Еще один крестик, выведенный двумя лаконичными рисками на маленькой стальной полированной бляшке, со стальной же цепочкой, подаренные ему другарем из зоны в Кременчуге, положенцем Антимозом, известным вором в законе, в благодарность за борьбу с чеченами, пытавшимися перекроить сферы влияния на зоне.
«Перспективный парнишка», – говорил тогда о Леше Антимоз. Там, в зоне, Леша получил кликуху «Болгарин». Сам же и рассказал братанам, что Алешей его назвали, потому что его мать, красавица Жанна, незадолго до рождения сына пела на сцене популярную тогда песню «Стоит над горою Алеша – Болгарии русский солдат». Вот и стал «Болгарином».
Сколько воды утекло с тех пор, сколько лет минуло. Теперь уже не упомнишь, когда это случилось. Десять лет назад, двенадцать? Еще Алеша привез на новое место компьютер и установку для тату. Несколько лет назад он стал одним из лучших на чемпионате Украины по тату, и до сих пор известен в Киеве как татуировщик с твердой рукой, владеющий популярным в среде молодежи готическим стилем. В его арсенале были замки, кинжалы с кровью, оскаленные морды волков и всякой нечисти, черепа, жестокие красавицы-киллерши, цепи, да мало ли чего там не было. В общем, Леша считался модным мастером татуировки, его приглашали в разные салоны, да и собственной клиентуры у него было предостаточно.
Планшеты, мольберты, краски, кисти, эскизы новых дизайнерских проектов – все осталось у Ирины. Она оплачивала, пусть ей и достаётся. Успею еще обзавестись всем этим. Может, найду работу в каком-нибудь другом дизайнерском бюро, там все и дадут. Или потом у Ирины заберу. Сейчас ему хотелось поменьше ее видеть. Забыть, как страшный сон. Вместе с работой в ее дизайнерской шарашке. Вместе со всей его прошлой никчемной, постыдной, сумбурной жизнью, наполненной легкомысленными порывами, пустыми надеждами, безнадежными авантюрами, опасными срывами и тяжелыми падениями.
Если начинать заново, – когда, если не сейчас? Во-первых, об этом говорят цифры. Леша любил рассуждать о влиянии цифр на жизнь человека. «666» – число дьявола. Просто «6» – трудное начало. «4» – самое плохое число. «9» – божественное число, символ совершенства и гармонии. На новом месте встречу новый 2007 год, «два» плюс «семь» – «девять». В 2007-ом мне будет 36, «три» плюс «шесть» – «девять», куда ни посмотри – везде знаки свершения и перемен к лучшему. Да и пора уже. Тридцать пять лет жизни коту под хвост. Сколько раз пытался начать заново, жить по-настоящему, всерьез, набело, все что-то мешало.
Кременчуг. Game 1
Ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег? Все равно, бесконечной надеждой согрет, Я вдали вижу город, которого нет. Регина ЛисицАлеша воспринимал жизнь как некую компьютерную игру. Игра эта начиналась так легко и хорошо. Почти все детство и юность он провел в Кременчуге, в доме деда с бабкой по материнской линии. Мать тоже жила в Кременчуге, отдельно от них, появлялась редко. Придет, поиграет с ребенком, посмеется и исчезнет. У нее своя жизнь, свои дела.
Кременчуг. Сцена для комедии Гоголя «Ревизор». Каким видел Гоголь «уездный город N»? «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Правда, все правда, совсем кривой была «рожа» «уездного города N». Глубинка. «Хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». Чиновники: судьи, попечители богоугодных заведений, смотритель училищ, почтмейстер. А над ними – городничий, маленький царек.
Узнаём у Гоголя о такой важной детали уездного города – о мосте через Днепр. И сейчас, в наше время, мост этот – по-прежнему средоточие всех движений: из центра «на ту сторону», где заводы и сады, «с той стороны» – в центр. Где местную власть олицетворяют заштатные низенькие здания, окрашенные в невыразительные тона, где вольготно раскинулся приднепровский парк с нелепыми статуями.
Старый «забор возле сапожника». Боже мой, забор сохранился, 150-ти летний, никак не меньше. Как раз рядом с «Домом обуви». Как и раньше, возле забора «навалено много всякой дряни». Есть и «будка, где продаются пироги». Училище тоже есть. Сохранилось, черт побери. Педагогическое теперь, имени Макаренко, во как! И больница, и почта, и присутственные места. Что за присутственные места? Да много их, этих мест. Обком партии, например, вот уж где всегда кто-нибудь да присутствует, и точно, что не последние люди. И всё это, конечно же, – и больница, и училище, и почта – всё в плачевном состоянии. Потому что чиновникам наплевать. Городничий и чиновники делают в городе, что хотят. Живут для своего интереса. Как во времена Гоголя, так и во времена юного Алексея.
Городничий, как и его семья, мечтает о Петербурге: «Вот где настоящая жизнь!» В семье такого городничего и вырос маленький Алеша. Не самого большого, главного городничего. Городничего поменьше.
Рос он в трехкомнатной квартире в самом центре Кременчуга, с окнами на центральную площадь, в доме на улице Ленина, естественно. Это квартира отца его матери, деда Толи. Харизматичный, властный мужчина, еще в силе. Когда-то полковник военной авиации. Теперь – замдиректора огромного вагоностроительного завода. По кадрам, конечно. Стоял на страже, чтобы в руководящие должности завода не затесались всякие там космополиты безродные. А если уж есть такие, Косыгин сказал: «Старых не выдергивать, новых не вставлять». Пусть ведут себя подобающим образом – тише воды, ниже травы, пусть вкалывают, приносят пользу советской родине, и пусть не претендуют на должности и оклады.
Дед Толя – член бюро обкома и дружен со всеми «отцами города». Да и сам он был, конечно же, настоящим «отцом города».
Этим «отцам» совсем незачем было красть или брать взятки, как в стародавние времена. В эпоху «развитого социализма» отцы города распоряжались по своему усмотрению государственной, то есть общенародной собственностью. Распоряжались как своей. Квартиру в центре деду выделили. «Волгу» последней модели выделили. Катер, причал, да что там причал. Дед ощущал заядлым охотником и рыболовом. А заодно числился инспектором охоты и рыболовства. Так что отцы города выделили ему в надел за особые заслуги перед советской властью кусок Днепра ниже плотины Кременчугской ГЭС, на несколько километров вниз, вместе с плавнями и многочисленными островами, самый богатый рыбой участок реки, а также и дубраву с плавнями в ста километрах от Кременчуга, где, будьте уверены, и птица водится, и кабанчик пасется. Дед Толя мог там и охотиться, и рыбу ловить. Другим же мог запретить промысел – тем, кто без спроса, без его, Толиного разрешения, то есть тем, кто браконьерит; а кому-то, наоборот, – разрешить от широты душевной, под настроение, например, своей царской милостью.
Дом у деда Толи – полная чаша. Баба Надя, скромной красоткой когда-то привезенная им из Белоруссии, – тогда он был еще бравым летчиком, и все молодухи для него были «чего изволите, Анатолий Петрович?» – круглый день занималась хозяйством, домом, двумя дочерьми, чтобы все были обшиты, накормлены и обласканы. Да и деду все подай, да принеси. А домработница? Да вы что, мы не буржуи какие-нибудь, а Надюшка-то моя – шустрая, все сделает. Надя, принеси мне другой мундштук. Этот короткий, да прогорел. Да, да, подлиннее. А, и сигареты кончились. Сбегай-ка в магазин. И смотри на фабрику. Чтоб не получилось, как в тот раз.
В общем, Алеша рос аккурат в доме государева городничего. И знал, что вся эта сказочная, офигенно богатая земля ждет того часа, когда он вырастет, осмотрит, обведет ее орлиным взором, развернется богатырским плечом, да и станет ею «володеть» по праву любимого внука комгородничего. А земля, надо сказать, действительно была бесподобной. Климат нехолодный – нежаркий, сухой, Полтавщина, почитай. Цветы. Батюшка Днепр теплый, да ласковый. Пройдут Алеша с дедом на моторке два круга. Первый круг – возьмут «на проводку» судачка, посуше рыба будет. Второй круг – жерех, а то и сомик, пожирнее рыба, да на острова, уха на костерке, две разные рыбы – в самый раз уха получится. Дед решил, к примеру, остаться, переночевать в палатке до утреннего клева; Алеша связал одежду в узел, и айда вплавь, вместе с друзьями, узлы над головой, обратно с острова на берег, домой, под заботливое крылышко бабы Нади. Такая вот щедрая да любящая, ласковая к детям и внукам важняков советская Родина.
С матерью редко виделся – что с того? С матери что возьмешь? Разве что посмеяться, пошутить… Алеша понял – мать не надо принимать всерьез. В свое время Жанна сделала отличную партию. Появился у порога их квартиры, откуда взялся неизвестно, высокий, сильный парень из Ленинграда. Из Ленинграда! Мечта городничего и всей его семьи. Ленинград – почти Петербург, почти столица. Да еще и толковый, не Хлестаков какой-нибудь. Диссертации защищает, научные статьи пишет. Главное, что зарабатывает неплохо. Городничий Толя надувался от важности, ханжеским тоном объяснял «недотепе» из Ленинграда, что тот должен быть особо тактичен и аккуратен с его дочкой Жанной, поскольку она еще девушка, никем не тронута и не знала прикосновения мужчины. Когда Алеша вырос, его отец со смехом вспоминал об этом, он и тогда понимал, что не первый у Жанны, что она до него и замужем успела уже побывать. Но объяснять Алешиному деду ничего не стал. Аккуратней – так аккуратней. Поездили взад-вперед, да и поженились.
Тогда и появился Алеша. Прожили недолго. Почему-то быстро развелись. Мать Алеши, видимо, любила отца. Но говорила о нем с легким пренебрежением: «Твой отец – такой весь из себя правильный, никогда налево не смотрел. Странный парень». Вот уж совсем разными людьми были его родители.
Алеша был еще совсем малышом, когда мать вместе с ним устраивала вояжи по городам. Какое-то время жили в Куйбышеве. Уехали туда вместе с маминым врачом. Он мать боготворил, а Алешу никак, кроме как «мелкой мразью» и «выродком» не называл. Сейчас Алеше трудно оценить, что там между ними вышло. Знает только, что мать прямо на его глазах разбила бутылку о голову своего «дружка». Тот долго лечился. Потом опухоль. Когда «дружок» стал совсем уже никаким, они вернулись в гнездышко бабы Нади. И больше уже никуда не летали. Здесь и началась счастливая кременчугская жизнь юного Алеши.
Запомнились вечера, которые они проводили всей семьей, вместе с маминой сестрой тетей Нонной, младшей любимой дочкой деда, в сельском доме в поселке Крюково на правом берегу Днепра, у родителей деда, то есть у прабабки и прадеда. От этих вечеров оставались самые лучшие воспоминания. Дед играл на баяне, пел приятным с хрипотцой голосом советские и украинские песни. Скидывал личину государственного мужа, отягощенного полномочиями и думами о судьбах Родины, и становился, видимо, тем самым летчиком Толей с очаровательной улыбкой, на которого в Кременчуге когда-то заглядывались все дивчины с соседних улиц. Мать, с ее грудным сильным голосом, вообще пела классно, она в то время еще выступала иногда, принимала участие в концертах. Объявляли ее так: «Лауреат и победитель конкурса «Весенний ключ» неподражаемая…». Это лауреатство она привезла из Ленинграда. А вот прабабка Наталья, огромная толстая старуха, – это просто фантастика – у нее был феноменальный голос. Когда она пела, стеклянные подвески люстры в гостиной начинали звенеть и жалобно дребезжать. Леша не пел. Не унаследовал от матери ни голоса, ни слуха. Зато прекрасно рисовал, ходил заниматься в художественную школу.
В Ленинград Алеша ездил каждый год. Иногда – два раза в год. Отец забирал его на каникулы. Когда Алеша подрос, ездил сам. Две ночи и один день в поезде – и вот он в Ленинграде. У «воскресного папы». Отец проводил с ним все дни каникул, с утра до вечера. Даже, когда у отца появилась новая семья и второй сын. Много говорили, гуляли по городу. Ходили на выставки, в музеи. Это всегда превращалось в праздник. Ходили в лес, на озеро. Запускали воздушного змея. Запомнилась соседская девочка Элла, младше Алеши на два года. Живая как ртуть, быстрая, веселая. С огромными черными глазами и длинными ресницами. Они иногда играли вместе в палисаднике на Малой Охте, рядом с домом отца. «Лезем на дерево», – кричала Элла, и пока Алеша забирался на нижнюю ветку, она оказывалась наверху. «Вниз, вниз!». Алеша примеривается, куда поставить ногу, а она – вжиххх, прыжок с самой верхотуры – и уже на земле. Огонь, а не девочка.
Алеше было хорошо в доме отца. Рядом с отцом все предельно ясно. Определенно. Спокойно. Маленькие командировки в Эдем. Конечно, он никогда так не формулировал, не думал. Просто чувствовал себя в доме отца почти как в раю. В жизни все вставало на свои места. «Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин».
Забытые истины… Забытые… Но ведь они существуют. Доброта, сила, открытость. Спокойствие, честность. Потом Алексей возвращался в Кременчуг. Там до поры тоже был рай. Советский лживый рай. Созданный для важняков. Рай за счет других. Алеша был тогда мал и многого не понимал. Ему просто было скучно. И подростком, и юношей у него не было представления, чем ему в жизни придется заниматься. «Володеть землей малороссийской», так ему казалось. И об этом он тоже не думал именно так, в таких терминах. Чувствовал и все.
Тоска. Закончил ПТУ, стал столяром. В характеристике записано: «ленив, пассивен, безразличен, хотя способностей и сообразительности не лишен». А зачем быть активным? Ему в этой жизни и так все разрешено, все сходит с рук. Плюс хороший, мягкий характер, незлобивость, доброжелательность. Друзья по уличным проказам любят его. Вот такой иллюзион. Такова компьютерная игра. Что ты ни сделаешь, как ни поступишь, все имеет положительный ответ, все неплохо. Ни наказаний, ни поражений, ни неудач! Солнце светит. Фрукты растут. Каждый день несколько свиданий. Девочки любят его, в голове все перемешалось от множества имен, адресов и телефонов. Приходит с новой знакомой в кафе. Посидели, девушка не понравилась – плохо говорит, глупая, попа вислая, ногти неухожены – извини, мне в туалет, и уходит, не прощаясь. Бывало иногда – во второй раз знакомился с уже знакомой девушкой. Ах, что за жизнь! Совковый рай.
Рухнул совок, рухнула, казалось бы, нерушимая семья. Скончались прадед и прабабка. С небольшим разрывом во времени. Дом с вишневым садом в Крюково поменяли на квартиру в центре для матери. Жанне сделали операцию на сердце. Она, еще молодая, а уже почти инвалид. С тех пор Алеша совсем редко видит ее. Чужой человек. С глаз долой – из сердца вон. Пришла – хорошо, поцелуемся; не пришла, не звонит, – ну и ладушки. Не вспоминал, не беспокоился.
Милая тетушка Нонна давно уже вышла замуж за вертолетчика Витю, уехала с ним в Ужгород, по месту работы мужа. Жанна фыркала: «Нашла, за кого замуж выходить. Витя, конечно, смазливый, но тупой, наглый, два слова связать не может, и весь в псориазе». «Молчи уж. У тебя и вообще мужа нет, кто с тобой уживется?». У Нонны с Витей два сына, Алешкины братья, Сашка и Максим, младше Леши на год и на три года соответственно. На лето их привозят к бабе Наде. Братья дружили, в те времена они еще дружили. Алеша особенно любил веселого, жизнерадостного Максимку.
Наступила черная пора. Девяностые. Рухнул Союз. Распалась Советская империя. Разгул бандитского рынка, беспредел. Неожиданно пропадает дед. Уехал по делам и не вернулся. Ищут все. Милиция, госбезопасность. Через два месяца находят в степи брошенную «Волгу». Только автомобиль. О судьбе деда так ничего и не удалось выяснить. Бабушка Надя стала сама не своя. Для кого жить, если нет Толи? Болела сильно. Нашли онкологию. Уехала к дочери в Ужгород. Настало время, чтобы уже ей помогали. На Жанну надежды никакой. Ни мать поддержать, ни сыну умное слово молвить. Сама больная. Голова у нее поехала. Связалась с сектантами. Большая семья мгновенно рассеялась как дым. Алеша остался один. Один, как перст.
Съездил к отцу в Ленинград. Что отец может сказать? Небожитель. Похвалил футболку, шузы. Спрашиваю: «Товар загнал в Москву, как деньги получить? Не хотят платить». Советы его известны. «Учиться надо. Поступать на экономический факультет». Сейчас Алеша понимает. Тогда еще был шанс поставить жизнь на правильные рельсы. Поступить в военно-строительное училище в Пушкине под Ленинградом. Остаться под крылышком у отца. Так ведь это военное училище. Бегать по морозу. Учить математику. Плыл Алешенька по воздушным волнам словно бумажная птичка. Куда ветерок понесет. А куда ветер понес? Остался один – одинешенек в пустой квартире. С кучей дворовых друзей-недоумков. Такая компьютерная игра. Все шаги правильные. Нет риска потери компьютерной жизни. А жизней этих навалом. Гуляй – не хочу.
Алеша просматривает фотографии тех лет. Его свадьба. Лялягуль (лилия, тюльпан) – маленькая татарочка, шестнадцатилетняя красотка из Казахстана, младше его на два года. Лицо глупое. У него, Алексея, на фото – тоже довольно глупое лицо. Дворовые другари, веселые хлопцы, смеются, хохочут, лица глупые… Сколько ума, такова и судьба их. И моя тоже. Бесцельная жизнь. От деда остались деньги. Бабы Нади нет. Сашки с Максимом нет. Матери, считай, тоже нет. Отец далеко. Со своими постными советами. Один как перст. Только вот эта маленькая дура рядом под одеялом. Зачем надо было жениться? Переспать – и так жили вместе, Ляля не возражала. Вокруг бушует бизнес. Бизнес во всем. Бригаду я собрал. Мальчишки мне в рот смотрят. Крышуем ларьки, магазины. Мелочь, а не бизнес.
Гринберги из квартиры снизу, друзья деда и бабули, они меня сызмальства знают, сказали, что их родственники, тоже из Кременчуга, отъехали на полгода к детям в Америку. Семья богатая. Вещей, драгоценностей, видимо, немало. Тогда мы и взяли их квартиру. Чемоданы ночью занесли ко мне. Я думал, полгода никто не хватится, мы тихонечко все реализуем.
Оказалось, по-другому. К ним приехал племянник. Обнаружил, что двери взломаны, что многое пропало. Короче, меня забрали на третий день. Так называемая жена тут же сбежала к родителям в Казахстан.
Мать нашла тетку-адвоката из Киева, раньше здесь в Кременчуге жила. Звонит отцу – выручай сына. Отец встретился с адвокатшей. Оплатил ее работу. Короче, получил я по минимуму. Потом та же адвокат пробила УДО – условно досрочное. Вышел, встретился с коллективом. Пацаны «работали» все это время. Собрали деньги мне на «Мерседес». Отметили освобождение. Пошли ночью в парк, пострелять по скульптурам, боевыми, конечно. Менты уже пасли меня. Что-то мне приписали. Пришли домой арестовывать. Я не открываю. Они знают меня, вместе на Днепр бегали когда-то. Получается, что тоже приятели. Ломают двери. Кричат: «Не стреляй, сдавайся, Леха!». Как весело! И пошло, поехало. Короче, к 25 годам у меня было уже три ходки.
Я будто спал. Словно цирковая лошадь шел по заранее кем-то намеченному маршруту. Будто это все давно уже расписано. И изменить я ничего не могу. Компьютерная игра без разветвлений. Что-то происходит. Но пока ничего страшного. Все как-то разрешается. Более или менее благополучно.
Не переживал, что каждый раз оказывался в зоне. Там тоже люди. И ВОХРа меня уважала, и зэки. Устраивался каждый раз неплохо. Даже не прилагал особых усилий. Как-то само собой. Тогда-то я и стал Болгарином. Жизнь будто остановилась. Все потеряло смысл. Для чего жить? Мне ничем не хотелось заниматься. Ни с кем говорить. Папка, ты зачем меня на свет родил?
Подумывал о том, что пора уже что-то менять. А все считали меня человеком на своем месте. Меня выделял Антимос. Авторитет, уважаемый положенец, смотрящий по Украине. Говорят, что коронован самим дедом Хасаном. Дядей его матери был Мелитон Кантария, водрузивший вместе с Егоровым Знамя Победы над рейхстагом. Блатные уважали Кантарию, державшего, как они считали, сухумский рынок, а заодно уважали и Антимоса, державшего общак. Я не испытывал ни малейшего страха, когда встречался с чеченами по делам зоны. У меня были шестерки. Я имел на зоне все, что хотел – хорошую одежду, курево, лучшую хавку. Но именно тогда я и записал в дневник: «Отец, почему ты меня покинул? Почему я один, папа? Почему ты не со мной? Мне так плохо».
Там, в зоне, Алексей и стал рисовать готические символы. Тогда же он стал делать татуировки. Оказалось, что у Алеши твердая рука и понимание востребованного стиля. Вся зона стояла к нему в очередь. Почему он все время обращался к отцу? Почему не к матери? Между второй и третьей ходкой Алексей навестил мать. Грязь, жуткие рахитичные ободранные кошки, ползающие по столам в комнате и кухне между немытыми тарелками с остатками пищи и муравьями, помойные ведра, которые давно не выносились. Какие-то недоделанные подруги-малолетки со смазанными, невыразительными лицами. Странная, полубезумная мать, сектантка-иеговистка, будто бы обратившаяся к богу. Вроде миловидная, моложавая, несмотря на перенесенные операцию на сердце и инсульт. Речь возвратилась к ней. Она останавливалась перед каждым встречным, кланялась в пояс и говорила громко на всю улицу бархатным, певучим голосом: «Будьте благословенны». «Мама, что с тобой?» «Со мной все в порядке, Алешенька. Господь мне многое открыл, и мне теперь стало легче жить».
После гибели деда прошло всего несколько лет. Жизнь захлопнула шторы перед Алексеем. Из света он попал во тьму. Из окружения близких и родных – в изоляцию. Из свободы – в зону, в черную тьму. Из солнца – в дождь и мрак.
Отец, ты один у меня остался. Неужели ты не понимаешь, что я брошен всеми?
Ребята из моей бригады, Антимос тоже поучаствовал, сговорились с ментами – могу получить УДО. Очень скоро. Этой весной. Просто надо деньги. Кому-то сделать ремонт, поклеить обои. Мать, хоть и чокнутая, но голова еще работает, вызывает отца. Тот бросает дела, приезжает в Кременчуг, встречается с «моими» ребятишками. Видит, что они не оставят меня без помощи, что пацаны меня любят. Передает им деньги. Приходит ко мне на встречу. Ему 55. Еще крепкий как дуб. Такси не может доехать до входа в колонию. Почти километр несет в руках килограммов тридцать разных продуктов. Многие виды харчей не разрешается передавать в зону. Половину приходится оставить охране. Все равно получается много всего.
Мы говорим через стекло. Отец – существо из другого мира. Куда мне не суждено попасть. Куда нет доступа для таких, как я. «Хорошо выглядишь», – говорит отец.
«Ты тоже, даже очень». «Как ты приготовишь эту прорву продуктов?». «У меня есть для этого специальные люди». «Алеша, я могу сказать тебе только одно. Надо все менять, надо уходить от всех этих связей, от этих «твоих» людей, что тебя окружают, от этой жизни. Выход есть, выход один: работать и учиться. Только один. Сумеешь найти силы – спасешься. Работать надо, как все, и учиться. Я помогу» «Папа, возьми меня к себе». «Это бесполезно. Будешь работать и учиться – это тебя изменит. Получишь специальность, я соглашусь на твой переезд в Петербург (теперь это уже не Ленинград, а Петербург)».
Меня держала надежда. Но до освобождения я получил еще один удар. Приехал Витька-вертолетчик. Конечно, не оттого что соскучился по мне. Хотел продать квартиру и получить деньги. Якобы, чтобы купить в Ужгороде жилплощадь для бабы Нади. В этой кременчугской квартире моя четверть. Он говорит – напиши отказную. Нонна и Жанна уже написали. Ты же хочешь, чтобы у бабушки была своя жилплощадь. А я, что я буду делать? Приедешь в Ужгород. Он уговаривал, ругался, врал, клялся, божился. Ходил каждый день. Угрожал. У тебя есть квартира Жанны.
Мне все стало безразлично. Я не мог больше видеть эту рожу. Не ходи. Сгинь, нечистая сила. Пропади оно все пропадом. Веди нотариуса, я подпишу эту чертову бумагу. Когда откинулся, мне некуда было идти. Квартиры нет. Мать скончалась. Свою квартиру и все имущество, да что там за имущество, перед смертью отписала иеговистам. Братьям и сестрам, так сказать. Я – лицо без определенного места жительства. Бомж. Из имущества – только «Мерседес». Не жить же в автомобиле.
Так закончилась моя Кременчугская эпопея. В любом случае там нельзя было оставаться. Менты пасли меня. Вызвали и сказали: «Уезжай подобру-поздорову. Будь спок, мы навесим на тебя столько, что закроем до конца жизни». Пришлось уехать. Куда? В Ужгород. Бабушка умерла. Никто, конечно, и не думал покупать ей квартиру. Но там же тетя. Братья.
Тетя Нонна в дом не пустила. Ты зачем приехал? Чтобы ты больше у нас не появлялся. Выгнала, пригрозила милицией. Как жить, где жить? Виктор забурел. Он приватизировал аэродром, к нему теперь ни подойти, ни подъехать. Скор был на обещания, когда Лешка нужен был. С братом Сашкой дружба не получилась – Сашка стал пить. Алкоголик. Максимки нет. Разбился на мотоцикле солнечный мальчик. Лихой был. Спасти не смогли.
Ну что, Алексей? Руки опускаются? Что-то надо делать. Документы оформить я не успел, надо бы вернуться в Кременчуг, а там сразу арестуют. Папка хоть не бросает, время от времени деньги шлет. На душе дождь, снег, темнота. Каждый должен где-то жить. А если жить негде?
Первая партия уже сыграна. Game over. Одну компьютерную жизнь я потерял. Отец прислал деньги. Дает мне другую жизнь. Но здесь уже совсем другие правила. За каждым ходом игрока подстерегает компьютерная смерть. Как удержаться, кто поможет? Крутись, Болгарин. Вспомни все, что умеешь. Что тебе дала мать-природа – обаяние, внешность, умение строить доверительные отношения, сметка, изворотливость. И даже беспринципность, она тоже может пригодиться. А удача? Тебе раньше всегда сопутствовала удача. Делал такие глупости и не пропал ведь. Удача придет. Ты ведь удачливый парень, Болгарин. И отец тебя не оставит. Он только говорит строго, а все равно, помогает. И теперь поможет.
Ищи свой город, Алексей. Ищи город, которого нет. Одиссея твоя только начинается. Ничего не хочу. Ничего не хочу делать. Ни о чем не могу думать. Меня ждут только там, на зоне. Меня любят только паханы. Не хочу туда. Обратно в зону – ни за что! Я молодой, я еще совсем молодой. Хочу солнца, света, объятий, любви.
Воспоминания Алексея прерывает звонок в дверь. Артур открывает: «Алексей, к тебе, Ирина, – пустить?» «Ну, что с ней делать? Пусть заходит. Что ты хочешь, Ира?»
Приход Ирины, эпизод 1
В двери появляется Ирина, некрасивая мужеподобная женщина лет сорока. Лицо опухшее, испитое.
– Фу-у-у, нашла, наконец… Везде тебя ищу… Лешка, ты почему мобилу не берешь?
– Зачем?
– Зачем, зачем… Домой пойдем.
– Зачем, я спрашиваю?
– Леша, ну почему ты ушел?
– Ира, ты ведь неделю не просыхала…
– Можно подумать, ты ангел.
– Не ангел, конечно, могу выпить… Но не до поросячьего же визга…
– Тоже мне агнец божий.
– Послушай, Ира, зачем я тебе вообще нужен?
– Болгарин, ты забыл, наверное, каким я тебя подобрала? Ты до бюро еле-еле дошел, хорошо, что Артур помог. Руки тряслись, голова тряслась. Один глаз почти не видел. Ты плакал через каждые полчаса.
– Не плакал я.
– Ну, не плакал, не плакал… Вид у тебя был совсем жалкий. А я работу тебе дала. Отогрела. Ты снова стал жить. Врачи зрение вернули.
– Это правда. Хорошее я помню. Но так, как сейчас… я больше так не хочу. И не буду. Сколько раз ты зарекалась от водки… И все повторяется, все одно и то же.
– Лёшенька, ты забыл, как мы осенью в Крым ездили? Бродили по интересным местам. Как ты писал этюды в Балаклаве.
– Я писал этюды, а ты… Нажиралась, как последняя свинья.
– Будто ты не пил со мной.
– Пил иногда. Даже кокаин нюхал. Я – подонок, жалкий, ничтожный, битый – перебитый зэк, а веду себя достойней… Ты не понимаешь, что ты женщина.
– Лешка, забудь все это, прости. Я хочу быть с тобой. Ради тебя я перестану. Пойдем домой. Сегодня Новый Год. Давай встретим вместе. Дочку позовем.
– Только этого мне и не хватало. Слушай сюда. Ты лежишь в бесчувствии на кровати. А лахудра эта – выходит из ванной в халатике на голо тело и тащит меня в постель, прямо рядом с тобой. Уже и руку в штаны мне запустила. Я, конечно, быдло, изгой, отброс общества, но трахаться с твоей дочерью рядом с тобой, напившейся до бесчувствия, даже мне это кажется диким. Нет, не нужны вы мне, обе не нужны, ни ты, ни Лера. Это невыносимо. Хочу НОРМАЛЬНОЙ жизни. А это, оказывается, так легко. Вот она, рядом. Стоит только руку протянуть. Как я раньше этого не замечал? Пора мне уже начинать жить достойно. А значит, без вас с Лерой. Иди, Ира, иди. Отоспись, помойся, приведи себя в порядок. Ты знаешь… Я не люблю, когда ты такая. Вспоминай, хоть иногда, что ты женщина. В Новом Году встретимся, поговорим. Мы ведь были вместе полтора года. Обсудим, если есть, что обсуждать. А нечего будет обсуждать, так и не будем. Я уже принял решение, иди себе с богом.
– А не то? А не то – побьешь, врежешь?
– Не говори глупости, я никогда не поднимал на тебя руку.
– Ты пропадешь без меня, Лешка.
– А если и так, что с того? Не строй иллюзий. Меня больше нет. Меня нет! Да и не пропаду я. Заработать – я заработаю. В Киеве знают и ценят Леху Болгарина. Поживу пока здесь. Скоплю денег – и айда в Питер. Хочу жить в городе, которого нет.
Алексей разворачивает Иру за плечи и тихонько подталкивает к двери.
– Нет, нет, я не хочу, – она бьет его кулаками в грудь. – Предатель. Блатная сволочь, мерзавец, браток, зэк, выродок. Бросаешь меня, когда мне так плохо.
– Чего тебе плохо? О твоих запоях знает весь Киев. Никто из заказчиков не хочет иметь с тобой дел. Бросишь пить, все у тебя наладится. Иди уже. Я хочу с друзьями спокойно встретить Новый Год.
Ужгород. Game 2
Где легко найти страннику приют, Где, наверняка, помнят и ждут, День за днем, то теряя, то путая след, Я иду в этот город, которого нет… Регина ЛисицУжгород. Какой прелестный город. Старый замок XVI века. Крестовоздвиженский греко-католический кафедральный собор с двумя башнями-колокольнями. Кирилло-Мефодиевский православный собор, очень древний костел Святого Юрия. Старинная улица Корзо. Детская железная дорога. Самая длинная в Европе липовая аллея вдоль реки Уж и Старого города. Предгорья Карпат. Через которые можно без документов перебраться в Словакию. Изумительное весеннее цветение сакуры.
Алексей вспоминает, что в Ужгороде как-то все стало налаживаться. С тетей Нонной и Сашкой не виделся. Работал в салоне тату. Съездил в Киев на конкурс художников-татуировщиков, получил какой-то приз. Не чемпион, но что-то вроде этого. Завел знакомства.
Купил гриль-автомат, чтобы денег подзаработать. Снял комнату. Потом переехал к Юле. Молоденькая девушка. Хорошенькая, неплохая. Училась на медсестру. Жила одна в огромной квартире своей матери, мать – с мужем в Германии. Складывалось все неплохо. Алеша ездил в горы на этюды. Даже пытался учиться.
Конечно, все время «был на подсосе», испытывал материальные трудности, говоря человеческим языком. Звонил отцу: «Папа, перезвони, у меня нет денег на телефоне». «Я в лесу, грибы собираю». «Позвони срочно». Отец понимает, что нужны деньги. «Опять деньги?» «Папа, ты же хочешь, чтобы я учился. Я в универе, на юрфаке». «Почему юридический?» «Да поднабрался, нахватался в местах, не столь отдаленных. Каждый день, поди, уголовный кодекс читал. Я на заочном. Сейчас платить надо. А то, что присылал прошлый раз, – это за прошлый семестр. Как экзамены? Сейчас экзаменов нет. «Начитка»…» Сам удивляюсь, откуда взял это слово, приятель-юрист сказал что-то похожее. В другой раз: «Папа, надо же зарабатывать как-то. Хочу купить две установки для куры-гриль. Поставлю – деньги пойдут. Полторы тысячи баксов надо. Можешь только тысячу? Папа, я уже обещал. Папа, ты, что не понимаешь, меня на счетчик поставят». «Папа, представляешь, доверил приятелю привезти на машине два гриля. Менты взяли его. Оказалось, что провозил контрабандой. Его забрали. Грили забрали. Машину арестовали. А там – мои документы. Я опять без паспорта. Нет, к ним, к ментам, я сам не попрусь. Зачем подставляться? Надо срочно деньги, сделать новый паспорт». «Папа, у меня проблемы. Я понимаю, что у тебя нет денег. Папа, ну ты же можешь. Нет, половина никак не устроит. А где я остальное возьму?»
Фантазия у меня работала. Иногда говорил правду. Иногда придумывал. А чаще – полуправду говорил. Врал вдохновенно. Конечно, отец понимал, что обманываю. Вешал трубку. Отказывался присылать деньги. А я знал: все равно вышлет. Пожалеет сына. Найдет денег и вышлет. Это как в компьютерной игре. Надо быть настойчивым. Жать на педаль. Нажал – отказ, мимо, нажал – мимо. Жми почаще, в конце концов, попадешь.
Про учебу не совсем врал. Вначале поступил на заочный. Оплатил первый семестр. Поучился немного. Пришла пора оплачивать учебу дальше. Выбил у отца деньги. А требовалось совсем на другое. Подвернулась заманчивая поездка в Германию. Истратил на поездку. Потом еще на что-то. С учебой все остановилось само собой. А отцу говорил – надо деньги на универ. Почему не получать деньги, если есть возможность? Деньги идут из блистательного таинственного города. Они идут из Петербурга. Есть этот город на самом деле или нет его? Неизвестно. Один звоночек. Ну, иногда и не один. И денежки тут как тут. Сказочный, волшебный северный город. Там все, как по мановению волшебной палочки. Отец – счастливец. Он там живет. Хлопнул в ладоши – деньги и появились. А есть ли этот отец? Звоню – он отвечает. Может, и не он вовсе. Автоответчик. Компьютерная игра такая. Но я ведь ездил туда. С отцом встречался. Наяву. А вернулся на Украину, думаю – было ли все это? Может, приснилось? Во сне тоже бывает так. Кажется, что наяву. А проснешься и понимаешь – сон, ничего такого и не было. Один только мираж. Так и Петербург с отцом. Компьютерная игра. Игра хорошая. И очень полезная. Фантазию развивает. И всегда остаешься в выигрыше. Надо только жать на педальку почаще.
В этот период Алеша ездил в Германию. Украинская хард-рокгруппа Хорс, постоянно работающая в ФРГ, пригласила Алексея к себе. Сделать дизайн группы. Музыкантам нравился его творческий почерк, его самопальная готика. Оплатили поездку. Выезжал Алексей через Словакию, без документов, естественно. Разработал для Хорс фирменный стиль, футболки, эмблемы, да все, что им нужно. Немного порезвился. В концертах участвовала заезжая знаменитость из Киева Аня Сенякова из группы «Вука Вука». Однажды, во время ее выступления Алеша в полном экстазе сорвал с себя футболку, выскочил на сцену с голым торсом, танцевал… Не вспомнить уже, как так получилось? Порошка нанюхался, что ли? Потом что было? Не помнит уже Алексей. Бюст Сеняковой помнит, шикарный бюст. А было с ней что-то или нет – не помнит.
Однажды поехал в Питер с Юлей. Вроде как невеста. Такая игра. Юля миленькая. Даже красивая. Натуральная блондинка, белая светящаяся кожа, зеленые глаза. Неглупая. С ней не стыдно появиться.
В квартире отца утром вставал пораньше. Делал завтрак для себя, Юли, иногда к ним присоединялся отец.
– Папа, да у нас всегда так. Все время спорим, кто будет делать завтрак, каждый хочет сделать завтрак для другого… Пап, я прошлый раз снял тебя на видео. Все друзья сказали: фигура, походка, посадка головы – мы с тобой как один человек.
– Так ты мой сын, не сомневайся. Что тут удивительного?
Отца зовут Феликс. Аппетит у него – будь здоров. Алеша дразнит его: «Феникс Пеникс Барабек скушал сорок человек, и корову, и быка, и кривого мясника, а потом и говорит: «У меня живот болит!»».
– Папа, а как там Элла?
– Элла давно в Германии, работала с 18-ти лет, училась, окончила университет, она хороший дизайнер. Сын у нее, ему уже лет семь – восемь.
– Ты еще ходишь в зал, папа? Ничего себе. Тебе под шестьдесят. Так ты единоборствами занимаешься больше 30-ти, круто! Все равно, ты со мной не совладаешь. Я в форме, много времени провожу в тренажерке, качаюсь. На мешке работаю. Не, папа, тебе со мной не справиться. Я бью так, как принято в зоне. Один раз ударить, и все. Мы бьем жестко. Меня на концерт Сеняковой не пускал охранник. Мол, зрачки расширенные. Зрачки, вишь, мои не понравились. Получи слева, справа – а теперь, полежи, голубчик, отдохни.
– Да нет, Алеша, боевые единоборства вовсе не для того, чтобы кого-то лицом в асфальт.
– А для чего?
– Это твои взаимоотношения с окружающим миром. Ты и все остальное. Разве можно победить весь мир? Мы ведь тоже часть этого мира. Надо уметь жить с ним в гармонии. Вот этому и учат единоборства. Будешь жить в гармонии с миром, включая твоего противника. И тогда, что бы ты ни делал, – никакого урона тебе не будет. И сам старайся уважать противника, думай, как действовать, чтобы не нанести ему урон.
«Странный человек отец, – думал Алексей. – Небожитель какой-то. Ну, ничего в жизни не понимает. Удивляет только одно – за что бы отец ни брался, все у него получается, получается, да ладится. Город такой. И игра такая. У меня в Питере тоже все получается. Будто я – не я, а совсем другой человек».
– Алеша, я разговаривал с твоим другом. Ну, этот, юрист. Он говорит, что ты вовсе не учишься нигде.
– Да врет он, папа. Алкоголик. Не слушай его. Он завидует мне. Что у меня лучшие девушки и деньги всегда есть.
– И этот звонил. У которого машину конфисковали. Говорит, что из-за тебя. Еще и наркотики нашли. А ты его не предупредил, что в машине наркотики.
– Не слушай его, папа. Наркоман. Сам не понимает, что говорит. Откуда у меня могут быть наркотики? Я этим давно не балуюсь. Вот из-за него машину свою потерял. И документы. Да все у меня в порядке, папа, не парься. Ты видишь, какая красотка со мной. Юлька учится. Кончает медучилище, хочет в мединститут пойти. Может, и поженимся. Не знаю. Не время сейчас. Ты бы видел, какая у нее тетка. Молодая, ядреная. Думаю, надо бы с ней покувыркаться.
Вот и ужгородский гейм заканчивается. Ищут Алешу менты, машина – его, документы – его, в машине – наркотики. Всем все ясно, ничего доказывать не надо. Да еще Юлькина мать возвратилась из Германии. Ну-ка, живо отсюда, прыщ земли малоросской. Чтобы духу твоего… Пожил за счет моей глупышки и хватит. Не надо ничего объяснять, красиво говоришь, я вашего брата альфонса издалека чую. Увижу вблизи Юльки – будешь с милицией разбираться.
Game over. А так все хорошо начиналось. Придется податься в другие края. Все равно я найду свой путь. Поеду пока в Николаев, там у меня дружок есть, давно зовет. И брат у него, Артур, чемпион по армрестлингу. А до Питера я все равно доберусь когда-нибудь. Отец, срочно пришли денег. Мне очень плохо. Надо начинать новую игру. Отец поможет, он даст мне еще одну жизнь.
Появляется Ирина. Ее не узнать – привела себя в порядок, переоделась. Сменила джинсы, свитер. Вроде, ничего не изменилось. Но ведь совсем другая женщина.
Приход Ирины, эпизод 2
– Ира, ты чего? Дай человеку отдохнуть.
– Пусти, Артур. Не твое дело. Мне нужно с Болгарином поговорить.
– Пусти ее, Артур. Ну что опять, Ира?
– Лёш, мы же взрослые люди, давай спокойно поговорим. Ты тридцать пять лет мыкался. Весь ломаный-переломанный, битый-перебитый. Тебе доставалось. И у меня, Леша, судьба такая же, как у тебя. Меня били, мной помыкали. Прошла через все, через бандитов, сутенеров. Всю жизнь, блин, мужики использовали. Им все время было что-то надо. А я оставалась одна, и, конечно, пила, как все вокруг. Меня за волосы таскали, лицом по асфальту, бутылками били, насиловали. Совсем одна и одна поднимала ребенка. Ребенка надо было поднимать – ты понимаешь? И это меня держало. Сама сделала предприятие. Из ничего. Из воздуха. Без образования. Не умея рисовать. У меня чутье на заказчика, ты же знаешь. На стиль. На одаренных людей. Когда бюро стало успешным, сколько наведывалось доброхотов, желающих нас крышевать. Как ни странно, остались ребята из славянских группировок, которые помогли мне. Я всегда держала слово, никого не подводила. Счеты не сводила ни с кем. Леру сама подняла.
А что толку? Что в результате? Лерка по рукам пошла. Спрашивается, для чего я билась? Для чего, блин, были эти мои страдания? Все прахом, все впустую.
Мне казалось, жизнь кончилась. И тогда появился ты. Я сразу тебя «увидела». Лешка, ты был весь искалечен. Руки тряслись, губы тряслись. Жить негде. Срочно надо было лечиться. Ни друзей, ни родственников, ни денег. Такой же, как я, вот что я подумала. Дрожащей рукой ты сделал какие-то наброски. Я «увидела» – талантлив, блин. И подумала: «Вот шанс для тебя, Ирина. Спаси, блин, этого мальчика. Помоги ему. Будешь жить для него. Чтобы спасти его. Чтобы он был счастлив. Для чего-то и ты, старая кобыла, можешь еще пригодиться». Ты ведь потянулся ко мне, Болгарин, разве нет? Тебе было хорошо со мной. Ты же плакал, когда я тебя обнимала. Я знаю: тебе было хорошо со мной. Я некрасивая, но мужчинам всегда нравилась. Многие говорили, что им хорошо в моих объятиях. Тебе ведь было хорошо, Леша? Ну, скажи правду, ведь так? Тебе было хорошо. А я просто была на седьмом небе. Такой умный, талантливый. Такой несчастный. И красавчик. Ты ведь красавчик, Болгарин. И добрый. Прошел, блин, все. Ни разу я не слышала от тебя бранного слова. Ты не орал, не грубил, никогда руку на меня не поднял. И я сказала себе: «Ира, живи для него. Пусть этот мальчик найдет себе пристанище рядом с тобой». Я отыскивала для тебя лучшие заказы. У тебя все получалось. И тату. И костюмы. И плакаты. И дизайн района. Ведь тебе было интересно со мной, Лешка. Некоторое время я была счастлива.
А потом вдруг поняла: ты меня не любишь. Стал встречаться с другими. Ты, конечно, возвращался. Но я поняла. Женщину трудно обмануть. Я почувствовала – не любишь. Я не нужна тебе. Просто терпишь. Потому что удобно. Потому что у меня деньги. Потому что проблемы снимаю. На стрелки хожу. Вопросы решаю у ментов.
Мы поехали в Крым. Чтобы отдохнуть. Там я окончательно поняла – ты тяготишься мной. И тогда снова стала пить. Вспомнила свою тоску. Она вернулась ко мне, давняя подруга. Будто и не уходила. Тоска. Удушающее одиночество. Вспомнила всю свою беспросветную жизнь.
Лешка, ты мой последний шанс. Для чего мне жить? Леша, Лешенька, вернись ко мне, умираю без тебя. Вспомни, ведь нам было хорошо. Я не претендую на твою свободу, блин. Делай, что хочешь. Закрою глаза, когда ты будешь ходить к другим теткам. Только будь со мной. Не бросай меня.
– Ну, хватит меня лапать, Ира. Я помню все, что было. Ты умеешь, ты можешь дать мужчине то, что ему надо. Да, нам когда-то было хорошо вместе. Но это в прошлом. Ты все испортила. Напивалась до бесчувствия. Не могу этого забыть и не смогу. Как посмотрю на тебя, тут же вспоминаю другое: как ты лежишь без памяти, с опухшим лицом, вся в синяках, с запахом перегара изо рта. Ты забыла, что ты женщина. Уходи. Не могу больше тебя видеть. Меня все в тебе бесит.
– Леша, ты когда-нибудь любил? Думаю, у тебя никогда не было привязанности. Ни к кому… Ни к женщине, ни к матери.
– Это правда, Ира. Никому не говорил, а тебе скажу: не могу вспомнить, чтобы у меня была женщина, о которой я бы подумал: «Вот с ней хочу прожить всю свою жизнь». Не повезло мне, Ира. Ни с женщинами. Ни с матерью, ни с отцом. Отец – неплохой человек, но где он? Есть ли он? Фу-у-у… Так, один воздух. Но зато я – хороший друг. Друзей не сдаю. У меня всегда было много друзей. Которые были преданы мне. И сейчас. Артур, его брат. Да мало ли. А любить? Я умею любить только фантазию, воздух. Больше всего я люблю город, которого нет.
Уходи, Ирина. Ну как тебе объяснить? – все кончено! Ничего больше не будет. Да и не было. Как мне заставить тебя поверить? Больше ни-че-го не будет! И не было. Пойми ты, не было. Я НИКОГДА тебя не любил. Я тебя ис-поль-зо-вал! Мне было удобно с тобой. И ты НИКОГДА не нравилась мне как женщина. Да не маши ты кулаками. Что ты пялишь на меня глаза, совсем озверела. О-о-о! Нож, кухонный нож. Напугала… Ой, как ты меня напугала. Не пугайте бабу членом. Ножичков я насмотрелся в своей жизни.
– Сволочь, сволочь, как же я тебя ненавижу…
– Вот это совсем другое дело, совсем другой разговор. Теперь с твоей любовью все понятно.
Алексей держит Ирину за руки, в одной из них – нож. Осторожно разворачивает ее в сторону двери.
– Тихонечко, тихонечко, вот так, вот так. Мы на лестнице. Вызываем лифт. Иди себе, Ирочка, в лифт. Ну что ж, что с ножичком. Иди, удавись, стерва. Сделай себе харакири. Ищи другого дурака, который согласится с тобой покувыркаться.
Нажимает кнопку первого этажа в кабине лифта. Двери закрываются. Кричит вслед уходящему лифту.
– С Новым Годом, Ирочка! Лучших тебе дизайнеров в Новом Году! На улице лед, не поскользнись. Будь осторожна, ведь у тебя нож. И выпей шампанского за здоровье неблагодарного, отвратительного Болгарина.
Николаев. Game 3
Кто ответит мне, что судьбой дано, Пусть об этом знать не суждено. Может быть, за порогом растраченных лет Я найду этот город, которого нет. Регина ЛисицНиколаев – большой портовый город. Там было плохо с самого начала. Жил в какой-то дыре. Проблемы с документами. С большим трудом привез несколько установок гриля. С трудом выбивал деньги у отца.
Папа, у меня грыжа межпозвоночных дисков. Требуется операция. Папа, это очень дорого. Я тебя прошу, к кому мне обратиться, ты хочешь, чтобы сын остался инвалидом? Папа, я тебя и обрадую, и огорчу. Ты стал дедушкой. Да, Юля родила. У нас замечательный мальчик. Ему уже месяц. Беда, папа. У него врожденный порок сердца. Как у матери, у моей матери. Требуется срочная операция. Юля с ребенком уже в Германии. Папа, если не сделать срочной операции, ребенок погибнет. Ну, почему ты мне не веришь? Я же выслал тебе свидетельство о рождении. Какая липа? Ну, я не виноват, что они разные части печатали на разных машинках. Ты с Юлей говорил? Звонил в Ужгород? Ты не мог с ней говорить, она в Германии. Ну, значит, уже вернулась. И что она сказала? Что не видела меня полгода, даже больше? Это правильно. Я пока работаю в Николаеве. Что у нее нет никакого ребенка, тем более от меня? Что я вру по инерции, даже тогда, когда это совсем не нужно? Пап, ты ее не слушай. Мы вчера поссорились из-за того, что я мало бываю в Ужгороде. Вот она тебе и наговорила, специально, чтобы мне досадить. Пап, я тебе не вру. Мы встретимся, и я все объясню. Да, хочу срочно приехать, чтобы ты все знал. У меня столько событий. Можешь выслать деньги на дорогу? Ну, хорошо, займу у знакомых, ты сможешь мне в Питере дать денег туда и обратно? Чтобы я долг вернул за билеты. Хорошо, буду через неделю.
С этой поездкой все получилось неважно. Поехал с сестрой приятеля, Людкой. Людка, Юля – какая разница, отцу объясню как-нибудь, да он и так все про меня понимает, про меня, да про мое поганое нутро. Людка – ничего себе, стройненькая, но та еще шалава. Довольно-таки простенькая девчонка. И русский язык у нее плохой. Мы с мамой никогда не любили, если у кого украинский акцент. Мать вообще отменно говорила. Не скажешь, что с Украины. Конечно, у нее был абсолютный слух. У меня есть акцент, совсем чуть-чуть, можно сказать – почти нет. А Людка – это просто ужас. Продавщица, что с нее взять. Совсем ты низко пал, Болгарин. В общем, с Людкой у меня кое-что было. Пришлось взять ее в Питер, потому что ейный брат дал мне денег на поездку, ну и Людке, конечно.
Ехали у знакомого проводника. Он все Людку пытался в свое купе затащить. Ну, выпили по дороге. Ему тоже налили. Я объясняю: Людка со мной, и нечего ремешок на ее джинсах расстегивать. А он разозлился и в каком-то городе, это уже когда поезд прибыл в Россию, милицию вызвал, мол, тут едет один, пьяный и хулиганит. Милиция пришла – я выпивший, раздет до пояса. Накинь курточку, поговорить надо. Я кожанку – на голо тело, вышел в тамбур, а они – под белы руки, даром, что зима, на станцию и в обезьянник. Административное нарушение, суд, двое суток.
Как добираться без денег, без документов, да еще в таком виде? Потом я узнал, что отец встречал меня, как договорились, встречал, но не встретил. Людка почему-то тоже не приехала. Позвонила отцу через сутки, мычала, блеяла что-то невнятное. До сих пор не знаю, где пропадала. Да мне-то какое дело, шалава, она и есть шалава.
Добирался зайцем до Бологое, там взял такси. Позвонил отцу с заправки на Московском шоссе. Отец приехал на машине, расплатился с бомбилой, посмотрел на мой внешний вид, хмыкнул. Зима, наполовину голый. Людка тоже приехала, вещи мои привезла. Поехали к отцу – обогрел, накормил. Людка ему не понравилась. Сегодня отдыхайте, а завтра, вот вам адресок, я отвезу, денег дам, гостиницу оплатил уже, езжайте покупать билеты, вы мне здесь не нужны. Встретились через пару дней: «Папа, дай денег». Так я же давал. А что я скажу? Мы с Людкой все пропили. Конечно, встречались еще, гуляли по городу, по музеям, я врал, изворачивался. Когда прощались, отец сказал грустно: «Совсем ты, Алеша, на братка стал похож. Что дальше-то будет, сынок?».
Дальше было совсем плохо. Вернулся в Николаев. Наехали на меня цыгане. Предложили, чтобы я гриль-автоматы им отдал за бесценок или уматывал отсюда. Типа «гони ловэ». Произносится через «о», цыгане не акают. Это, мол, их бизнес. Буду я еще каждого цыгана слушать. Я им так и сказал: «Пшли вон, вонючие аморы». А они подстерегли. Поехал к приятелям в деревню, там и поймали. Кастетом голову проломили. Рядом с глазом удар пришелся. Друзья нашли меня в снегу, в город, в больницу. Я дал им телефон отца, они и звонили, чтобы отец прислал денег на операцию. Потом он с Людкой все время созванивался, узнавал, как я там в больнице.
Глаз мне сохранили. А в голове дырка. Долго зарастала. Я еле говорил, еле двигался. Артур с братом отвезли меня в Киев. Чтобы там светилам показать. В общем, когда я вышел из больницы… Потерял половину веса. Руки тряслись, голова тряслась. Ирка вон сейчас говорит, что я тогда плакал каждые полчаса. Может быть. Наверное, так оно и было. Читать не мог. Буквы не складывались в слова. Постоянно бил озноб. И все было безразлично. Но надо же было как-то жить.
Артур взял меня в охапку. Повез к Ирке, в ее дизайнерское бюро. Вот, Ирина, знакомься – мой друг, дизайнер от бога. Смотри, не пропусти удачу, к тебе первой привел. Другие с руками оторвут. Она пожалела меня. Попросила что-то нарисовать. А я не могу карандаш удержать в руке. Короче, это уже совсем другая история. А николаевская история – тю-тю. Быстро отыграл я этот гейм. Совсем плохо было мое дело. Новую жизнь для компьютерной игры дали мне Артур и Ирка. И, конечно, отец. Правда, потом, когда я оправился, стабильно работал, он сказал мне: «Послушай меня, Алексей. Это было ошибкой, что я постоянно посылал тебе деньги. Не посылал бы, так ты давно уже на ноги встал бы. Сейчас у тебя есть работа. Справляйся сам. Захочешь сделать какое-то толковое дело – я помогу. А так, звони, не пропадай». Звонил ему из Крыма. Он радовался, что я живу нормальной жизнью. Но вот, увы, с Ириной тоже ничего не получилось. Хотел, чтобы получилось. Пытался заставить себя. Но не мог. Не хочу больше с ней, не могу притворяться.
Она ни в чем не виновата. Она – добрая и, наверное, любит меня. Неплохая, в общем. Все дело во мне. Это я – дрянь неблагодарная. Вот и сейчас специально наговорил гадостей, чтобы выпроводить ее.
Нигде не нахожу себе места. Живу не так и не там. А я хочу жить в городе, которого нет. В городе, которым грежу, в городе, который мне снится.
Но теперь во мне спокойствие и мир. Теперь совсем другое дело. Я уже не думаю о том, когда я буду там наяву и как это будет. Пусть будет так, как этому суждено сложиться. Может быть, меня коснулась, наконец, мудрость хоть в одном вопросе моей суетливой жизни. Так купальщик, тянущийся к теплому морю в пыльном автобусе, спокойно ждет ласки любимой стихии, не думая о том, как он пойдет по каменистому берегу и как он войдет в воду. И так же, как и мне, не дано ему знать заранее, что ждет его: нежданная непогода, пересадка на автобус другого маршрута, нелепая вывеска «море закрыто на ремонт», а может быть, и долгожданное купание.
Приход Ирины, эпизод 3
Десять вечера накануне Нового Года. Гости Артура собрались. Звонок в дверь. «Это, наверное, опять Ира. Я сам открою, Артур. Что она мотается взад-вперед по городу? Пусть уж встретит с нами праздник, настырная какая…»
Алексей открывает дверь: «С наступающим Новым Годом, Ирочка!»
На пороге действительно Ирина, что с ней? Одежда расстегнута, лицо измазано, волосы всклокочены, глаза бешеные… вращаются, вот-вот из орбит выскочат… в одной руке – начатая бутылка водки, в другой – нож, тот самый, кухонный.
С размаху бьет Алексея… В живот…
Смотрит на торчащий из живого тела нож, на кровь, стекающую по брюкам…
Рука разжимается, бутылка падает… Осколки с хрустальным звоном медленно прыгают по метлахской плитке лестничной площадки.
Время замедляется. Бежать, скорее исчезнуть, чтобы не видеть этого кошмара; ноги не слушаются, ноги будто ватные, идут еле-еле, вообще не идут… И двери лифта… Открываются медленно, совсем, совсем медленно; жми же на кнопку, старая кобыла, скорее жми, что ты наделала, манда вонючая, курва непотребная, ты убила… Лёшку убила… Лёшу, Лёшеньку… И его убила, и себя заодно…
Киев. Game 4
Там для меня горит очаг, Как вечный знак забытых истин, Мне до него – последний шаг, И этот шаг длиннее жизни… Регина ЛисицНовая игра, совсем короткая игра. Самая безжалостная игра.
– Вот это поздравление… Ты не знаешь, Ирочка, как больно… Спасибо, дорогая, ты помогла мне, вот и конец моим мучениям. Артур, зачем ты выдернул нож? Нельзя же трогать, надо было ждать врачей. Мне конец, Артур, я истеку кровью. Не кричи, ты не виноват, ты не знал… Не надо за Ириной, черт с ней, вызывай скорую… Понимаю, понимаю, все перекрыто. Праздничное шествие, скорой не проехать. Киев провожает меня в последний путь. Какие почести для блатного Болгарина, кто бы мог подумать! Не плачь, Артур, может, скорая и успеет, на час меня хватит, кровь не остановить, но, может, на час меня и хватит.
А если не успеет… Улечу туда, где родился. Я ведь в Питере родился, Артур. Тогда еще Ленинград. Ты бы знал, Артур, что это за город. Улечу туда, где мне хорошо. Моя душа упокоится там… В городе, которого нет.
Почему все так потемнело? Электричество отключили? Украина так и осталась совком, подумать только – отключить свет на Новый Год.
Как это, я снова стал маленьким? Ну, не совсем – лет десять – одиннадцать. С дерева прыгает черноглазая – Эллочка, ты, что ли? Падаю спиной в снег. «Поцелуй меня, Алешенька». Я пытаюсь… Смеется, убегает, почему все так неясно, будто в тумане?
Мама, это ты? Почему с бутылкой? Ты что, хочешь меня ударить? Мне и так совсем плохо. Мама, остановись, это же я, Алексей, твой сын! Ты перепутала меня со своим недоумком-врачом. Мама, почему ты превратилась в Ирину? Ира, ты снова здесь? Опять с бутылкой… Пьешь из горла, за мое здоровье, что ли? Поздно, слишком поздно, Ирочка… Мне уже все равно… «С Новым Годом, Болгарин! За меня не беспокойся, я не одна, со мной оста-а-анется буты-ы-ылочка бе-е-еленького».
Ты улыбаешься мне, Ира? Какая у тебя улыбка… Да ты просто красавица, почему я раньше не замечал? Почему я заметил это так поздно? Нет, Ирочка, ничего не изменить, поздно… Конечно, шанс есть, шанс всегда есть.
Звонят, это скорая, я ничего не вижу, вокруг темнота… Да несите вы осторожней, черти, я же сползаю… Лечу в какую-то черную трубу… Гони машину, водила… Артурчик, не плачь, положи рядом телефон, не могу нашарить его, дай в руку мобилу. Не узнаю, это не мой… не разглядеть циферблат. И клавиш нет. Надо позвонить… Обязательно, последний звонок… Не понимаю, как набирать, ничего не вижу… И телефон не вспомнить… Как же так, я же знаю номер… Код Петербурга. Неужели не смогу позвонить, как страшно, вдруг я не смогу позвонить… Артур, Артур, помоги, да ты ведь не знаешь номер… Никак не вспомню…
Артур, телефон звонит, видишь, экран зажегся, поднеси к моему уху… Папа, ты почувствовал. «Алеша, я решил, тебе надо перебираться в Петербург. Хватит болтаться по чужим людям». Папа, у меня проблемы. Нет, ты не думай… Денег не надо. Мне плохо, папа. Но я выкарабкаюсь, я выкарабкаюсь обязательно. Меня спасут, и я приеду. Ребята, оперируйте меня, зашивайте, делайте что хотите, мне нужно сделать этот шаг. Спасите меня, братцы, дайте последний шанс несчастному Болгарину.
Вроде я поправляюсь. Слишком медленно. Почему не выписывают? Слабый, ну и что? Ходить могу, голова в порядке. Невозможно больше ждать. Верните паспорт, мне ехать надо. Нет подходящих поездов. Но я должен… В общем вагоне, с пересадками. Не могу дождаться…
Отец, почему ты не отвечаешь? Я уже в Питере. Знакомый вокзал. Ну, не дозвонился, так не дозвонился – будет сюрприз. Знакомая дорога к знакомой квартире. Звоню. Что за черт! – никто не отворяет. Из соседней двери… Пожилая женщина с добрым лицом, Людмила Ивановна, вы меня узнаете? Алексей, Феликса Петровича сын. Его нет, где он? На даче, в Рощино? Знаю, я там бывал. Ну да, зимние каникулы. А телефон, сменил номер мобильного? Не знаете? Ну, ничего, я же решил, пусть будет сюрприз.
Финляндский вокзал, электричка. Все, уже почти ночь. Автобусы не ходят. Как же холодно. Пойду пешком. Бреду, полночи бреду. Поселок, плотина, замерзшее озеро. Дорога лесом. Ночь на исходе. Зима, холод. Почему лес зеленый? Ну да, это не Украина, здесь ели и сосны, вот и зеленое все. Конечно, это ели, стоят сплошными отвесными стенами вдоль широкой аллеи. Сходятся в одной точке, как на чертеже. Почему трава – совсем свежая, зеленая трава? Такая тонкая, длинная, мягкая, будто нездешняя, не нашей планеты трава. А звезды, какие большие! Огромные, мерцающие, совсем чужие, соединяются в странные рисунки. Ну да, это мои готические рисунки тату. Что за звуки диковинные, чей это шепот, почему язык мне не знаком?
Наверное, ранение еще не прошло. Очень болит. Все распухло, будто только сейчас зашили.
Я, видно, уснул на ходу. Все вокруг так переменилось.
Вот и полянка знакомая – там, на той стороне, дощатый домик среди деревьев. Луч солнца, рассвет. Дверь открывается… Отец потягивается спросонья… Нет сил идти. Отец, неужели ты не видишь меня? Конец скитаниям. Блудный сын возвращается. Отец, посмотри, это я. Почему голос не слушается? Хочу крикнуть, а голоса нет. Неужели не заметит? Отец!
Слева из кустов… Мать в легком летнем платье, откуда она взялась? Дед Толя и баба Надя, тоже по-летнему.
Все улыбаются. Мать – сильным певучим голосом: «Будьте благословенны!» Кланяется в пояс. Почему у нее такое лицо? Взгляд злобный, в руке бутылка, идет ко мне. Замахивается… Сейчас ударит. Мама, ты меня убиваешь. Задумчивая фигура отца. Ну конечно, он видит меня. Протягивает руки, улыбается. Мне до него – последний шаг… И этот шаг длиннее жизни…
Еще бы только один гейм, всего один гейм.
Яростный удар обрушивается на голову Болгарина. Что-то с грохотом взрывается – ослепительная вспышка, безмолвие и темнота.
Квартира Артура. Звонок в дверь. Наконец-то… Вот он раненный, пульс пока есть… Как же долго вы добирались. Праздник… У кого-то праздник. Пульс нитевидный – скорее, санитары, скорее.
Возле операционной.
Еще пять минут, и было бы поздно. Доктор, он будет жить? Шанс есть, пока что шанс есть. Носилки, закатывайте бегом. Готовьте операционную, переливание крови, искусственное дыхание… Зажим. Тампон… Загорается табло «Идет операция». У двери операционной на холодном полу лежит мужчина, ему – лет сорок, кожаная куртка – на голое тело, это Артур, он плачет, обхватив бритую голову могучими руками.
Ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег? Все равно, бесконечной надеждой согрет, Я вдали вижу город, которого нет. Там для меня горит очаг, Как вечный знак забытых истин, Мне до него – последний шаг, И этот шаг длиннее жизни…Колючая проволока
Мюссера, цветущий край. Заявился в пансионат уже за полночь, переночевал и теперь бодрым шагом направлялся назад, в Пицунду. Там хорошо, там друзья, там меня ждет Люда, отмоюсь, сменю одежду, отдохну…
Позднего гостя приняли вчера неплохо. Дали номер, накормили, угостили красным вином местного разлива. Утром в дорогу напутствовали новые друзья. «До Пицунды километров восемь. Иди верхним шоссе». Зачем шоссе? Гораздо приятней по пляжу. Легкий переход, по пути можно выкупаться. Я им ничего не сказал – просто решил, что сделаю именно так.
Шел и размышлял. Зачем я вообще отправился вчера на эту прогулку? Сидел бы под бочком у Людки. Прогулка не задалась, с самого начала все пошло не так. Хотел пешком до Гудауты, переночевать и вернуться. 18 километров – казалось бы, ерунда. Вышел поздно – наверное, слишком поздно. Здесь рано темнеет, дорога не освещена. Вспоминалось ночное нападение собак на шоссе. Происшествие не из приятных. Собаки, тьма – хоть глаз выколи… До Гудауты, как планировал вначале, так и не добрался. Пришлось остановиться на полпути. Ну, и что в результате? Ничего, ровным счетом – ничего, плюс прескверное настроение как бесплатное приложение. Зачем все это было нужно? В лицо бьет холодный ветер, небо затянуто. Прямо на меня несутся клочья низких темно-серых облаков, накрапывает гнилой дождик.
А вот еще сюрприз: пляж упирается в ограду из колючей проволоки. Участок береговой линии длиной метров 300 обрезан с двух сторон колючкой. Уютная бухта, несколько маленьких катеров у причала, защищенного двумя бетонными волнорезами, автоматчики с непроницаемыми лицами.
Приблизился к ограде. Подошел боец охраны, смерил ледяным взглядом. «Что надо?» «Хотелось бы пройти за ту, вторую ограду. Минута, и я там». «Нельзя, дача Сталина». «Я проплыву, привяжу сумку к голове и проплыву». Вместо ответа на меня был направлен ствол автомата. Очень хотелось сказать какую-нибудь гадость. А как скажешь? Рассвирепеет, вызовет напарника, могут и задержать. Будут протоколы составлять. А могут и поучить – поколотить для порядка. Чтобы не возникал. Хорошо, если так, для острастки. Моему приятелю Вовке Воропаеву такие вот орелики челюсть сломали, год потом мучился. Или отправят к местным ментам, это в лучшем случае. А что, если пальнуть вздумает? – с него станется. Скажет потом – «пытался проникнуть на охраняемую территорию».
– Обходить далеко, брательник?
«Брательник» молча пожал плечами, – он уже все сказал, разве не понятно? – отвернулся и медленно пошел прочь от забора.
Что делать? Подниматься к шоссе? – там я уже был. Огромный крюк. И опять те же собаки. Почему не попробовать обойти? Горы вплотную подходят к морю. Вряд ли здесь большая территория, вряд ли вождь и учитель любил гулять по пересеченной местности. Ну, километр крюк, ну, полтора.
Настроение и до этого было плохое. А теперь – еще хуже. Пошел вдоль ограждения. Пробирался между деревьями, держался за кусты, чтобы сохранить равновесие на крутом склоне.
Опять Сталин. Его уже нет… Сколько? – шестнадцать лет тому. Восемь лет как перезахоронили. А всё боятся.
Быстро взобрался на ближайшие холмы, но ограда из колючей проволоки продолжала упорно лезть в гору.
Над колючей проволокой, над лесом, над дальними холмами предгорий вместе со мной поднималась фигура вождя. Она становилась все больше и больше и вскоре закрыла собой небо.
Вечно живой тиран. Смотрит тяжелым взглядом в сторону моря. Что он там видит – коммунизм? Который мы так и не построили. Никита тоже обещал. Где теперь Никита, пять лет уже, как нет его, и где тот коммунизм? «Дорогой Леонид Ильич» ничего не обещает. Ни Никиты, ни коммунизма. А тиран жив. Автоматчик же сказал: «дача Сталина!» Кто бы там ни жил. И оттуда, с того света, жесткая рука вождя народов держит нас за горло. Не отпускает. Куда ты лезешь, щенок? Не думай, что не вижу. Я слежу за тобой. Так же, как и за всеми вами. За каждым.
Сколько еще идти? Я был мокрым от пота и дождя. Хватался за стволы деревьев, чтобы не соскользнуть вниз. Отмахивался от комаров и мух. Грязными руками отирал пот. Дождь перемешивался с потом, стекал по лбу, лицу, шее, пробивал узкие дорожки в прилипшей к коже древесной трухе, коре, паутине.
Когда это все прекратится? Всю жизнь меня преследуют флажки, колючая проволока – туда нельзя, это не для тебя, не делай, не говори, не думай. «А вы не хотели бы нам сообщить – об аморальных элементах, например, если разговоры не такие, сами понимаете?» Вождь и учитель всегда рядом. Знает о каждом моем шаге. О каждом поступке моих друзей, о каждом шаге недругов. Какая оттепель, какое развенчание? Все – как было, так и есть.
Карабкаюсь, соскальзываю, лезу, лезу, падаю, снова лезу. Гора, мне кажется, никогда не закончится – она, наверное, в небо упирается. Ограда – слева от меня, бежит все быстрее и быстрее. Смотрю вперед – серой колючей змеей, извиваясь и шурша, она стремительно ползет по крутому склону. И все время обгоняет меня. Почему вправо, почему она поворачивает направо? Окружает. Я иду уже назад, к пансионату. Теперь вниз, гонит меня снова к морю. Что делать, что делать? А теперь ниже меня, отсекает от моря. Полная безнадега. Похоже, я проигрываю этот забег.
Навстречу, с другой стороны ограды, – цепочка автоматчиков. Страх божий. Откуда они взялись? Стараюсь не смотреть на них. Дадут очередь – и нет больше легкомысленного любителя приключений из далекого северного города. Не смотри, не смотри, не встречайся глазами. Бреду спокойно, будто так и надо. Вот и хорошо – прошли мимо, не тронули, не заговорили. Вроде, пронесло.
Куда идти, куда? – я в ловушке. Змея ограды свивается кольцом, возвращается сама к себе. Бегу быстрее – она еще быстрее. Она ведь замкнется. Нужно успеть выскочить. Или окажусь в ловушке. Да я уже в западне. Подойдет взвод автоматчиков… Перед ними нарушитель – как доказать, что я пришел с другой стороны? Что вообще можно сделать в одиночку? Разве это возможно – один против системы?
Бегу и бегу, зигзагами повторяя линию ограды. В багажнике головы перекатываются тяжелые бутыли с водой, больно ударяют изнутри по стенкам черепной коробки. Мне уже все равно, я сам не знаю теперь, с какой стороны изгороди оказался… И куда иду. И-действительно-куда-я-иду? Бегу, пока есть силы. А потом рухну. И будь, что будет.
Неужели нет выхода? Что теперь делать? Отпусти меня, Сосо! Ты уже пропустил через мясорубку лагерей каждого четвертого нашей страны. И моего деда, и отца, и дядьку, и священников, и половину интеллигенции, и ученых, создавших ракеты и атомную бомбу… Зачем я тебе? Разве я так опасен, разве может жалкий, ничтожный человечек остановить железную поступь созданного тобой «развитого социализма»? – отпусти меня, маленького маргинала, я и так напуган. Я-уже-почти-обкакался-от-страха.
Эта изгородь из колючки напоминает мне линию, которую отмеривал шагами крестьянин Пахом из Толстовского рассказа «Много ли человеку земли нужно». Все тебе было мало, Сосо, все тебе хотелось отхватить побольше. И этот холмик, и тот пригорок, и этот овражек. Всю страну, всю огромную страну подмял под себя. А еще и полмира. Что, удалось унести с собой хоть что-нибудь в могилку два на один у Кремлевской стены?
Когда, наконец, кончатся эти отроги? Фу-у-у, слава богу, колючка опять разворачивается вдоль моря и загибается наверх.
Карабкаюсь уже третий час. Наконец-то! Забор поворачивает влево. Я приближаюсь к его верхней части. Колючка идет по крутому склону. Здесь не пройти, придется забираться выше. Надо мной густые ели. Темный лес. На земле ничего не растет. Черная скользкая глина.
Это еще что такое? Только этого мне и не хватало. Черт, черт! Внизу, за колючей проволокой, в густой тени ельника – четыре черных пса. Заходятся в истерике, скалят зубы. Ротвейлеры или доберманы? Не разглядеть – только белый звериный оскал светится на черном фоне.
Какая разница? Так и так порвут. Если им попадешься. Вчера собаки, сегодня собаки, сколько можно? Поскальзываюсь, падаю. Пытаюсь ухватиться за стволы деревьев, больно ударяюсь. Срываюсь, лечу вниз по скользкой глине.
Сейчас врежусь в забор. Пузом – в колючую проволоку, ноги – на ту сторону, прощайте ноги, прощайте мои боласы, мое мужское достоинство, все – мне конец! В последний момент упираюсь ногами в два ствола перед оградой. Псы исходят на визг, просовывают головы между рядами проволоки, пытаются достать мои ноги. Чувствую смрад их ртов, тошнотворный запах гниющего мяса и запах серы – спутницы князя тьмы.
Медленно поднимаюсь. Смотрю псам в глаза. Что, взяли? Вот вам, елда вам в задницу! Встаю на четвереньки, гляжу в упор на этих посланцев преисподней, яростно лаю, лаю долго, до хрипоты, с моих губ уже стекает пена. Внезапно, как по команде, псы останавливаются и замолкают. Почему? – потому что не достать, потому что за пределами ограды, потому что потеряли ко мне интерес? Чтобы человек, и лаял… Может, лаял свирепо?
Я поднял голову и завыл. Глаза наполнились слезами. Выл, глотал сопли, грязь, пот и слезы; в этом вое была вся моя тоска, тоска моего изнасилованного народа, тоска измученного и загнанного зверя, в которого я превратился буквально за несколько часов.
Обескураженные, – никогда раньше они такого еще не видели – может быть, и разочарованные непонятным и неправильным поведением нарушителя, псы развернулись и, поджав хвосты, – значит, это были все-таки не доберманы, не ротвейлеры – умчались, растворились в темноте леса. А я уже не мог остановиться – по инерции продолжал выть, стонать, захлебываться и рыдать.
Но ведь надо было что-то делать.
Я попытался ползти наверх. Мокрая скользкая глина. В рифленой подошве одной из сандалий застряла плоская галька. Галька сильно выпирает, ногу никак не поставить, подошва не держит. Пытаюсь вытащить камень. Как вытащить-то на крутом склоне?
Одной ногой уперся в ствол, вторую старался подтянуть к себе. Потерял равновесие, свалился набок в глинистую жижу. И в этом постыдном, неудобном положении тоже не мог дотянуться руками до подошвы с застрявшей галькой.
Катался из стороны в сторону, пытаясь сохранить равновесие, рискуя сорваться и съехать в объятия колючей проволоки, одновременно подтягивал к себе непослушную подошву. Ногу свело от напряжения, выпрямил ее, терпел, ждал, пока отпустит судорога.
Ждал… Делал новые попытки. Откуда здесь, на вершине, могла взяться галька? Увидела бы это все Людка, считающая меня брутальным. В конце концов, мне удалось выковырять плоский окатыш из подошвы.
Осторожно пополз назад – вверх по скользкому склону. Как зверь. На четвереньках. Хватался за сучья и деревья. Рубашка и штаны пропитались черной глиной, сандалии наполнились жидкой грязью.
Хочу разыскать сумку с теплой одеждой и матерчатую кепку, которые я потерял на этом адском бобслее. Кепка – это просто смешно… О чем я вообще думаю? – ведь я был на волосок…
Сколько времени прошло? Я шел и шел. Спускался, срывался, поднимался, снова шел дальше. Смеркалось. Дождь становился то сильнее, то чуть капал.
Колючка решила отпустить меня. Как же она меня измотала этим бегом по пересеченной местности, да и сама, наверное, уморилась.
Змея ограды свернула влево, нырнула вниз, а потом и совсем исчезла из вида, уползла, наверное, домой, к даче хозяина. Открылся черный распадок, поросший огромными деревьями. Далеко внизу просматривался ручей.
Пить. Очень хочется пить. И помыться. Сил больше нет. И опять я срываюсь. Мчусь по мокрому, глинистому склону, стараясь удержать равновесие на пятой точке.
Как долго длилась эта сумасшедшая гонка? Врезался в оголившиеся корни деревьев на берегу ручья. За корнями, на песке, я увидел распластавшуюся у самой воды неподвижную фигуру человека. Его необычная поза напоминала о скрученном белье – сам он лежал на спине, приподняв согнутые колени, а плечи и лицо почему-то были развернуты вниз. Надо бы помочь пострадавшему. Трогаю – теплый, дышит еще. Поворачиваю его плечи и голову. Передо мной странное и страшное лицо. Без челюсти. На месте челюсти – кровавые ошмётки и острые концы раздавленной кости. Напоминает птицу с окровавленной шеей. Дышит тяжело, смотрит на меня дикими округлившимися, ничего не видящими глазами. Что с ним? А что со мной, вообще – что происходит? Бред какой-то – может, я сплю?
Рядом еще один. На боку. Глаза закрыты. Бледное лицо запрокинуто, в пальцах раскинутых рук зажаты куски черной глины с корнями травы, рубашка разорвана, черные волосы склеены сгустками крови. Часть черепа снесена. На землю вывалилась серая пена – мозги, что ли? – с гроздьями темно-красных пузырьков и светящимися вкраплениями шариков росы. С противоположной стороны головы – аккуратное пулевое отверстие. Внезапно бедняга встрепенулся, задергал руками, делая отчаянные, беспомощные жесты. Из горла вырвались клокочущие, булькающие, бессвязные, нечеловеческие звуки. Веки поднялись, он осмысленно взглянул на меня и громко произнес: «Ты понимаешь, что тебе придется пойти с нами?», потом обмяк, закрыл глаза и больше уже не двигался.
Я побрел дальше вдоль берега. Песок сменился галькой. Да нет – почему я решил, что это был песок? – нет никакого песка, кругом одна только галька. Вот она откуда взялась. Но как она попала на вершину?
Только я ступил на берег, гладкая галька стала топорщиться и встала вертикально. Я шел будто по живому шевелящемуся настилу. Живой настил, и рядом мертвые. Наверное, это Стикс, река мертвых.
Наткнулся на еще одного несчастного, сколько их здесь? Что здесь случилось? Какая-то жуткая Чикамога[2]. Живой, слава богу… Потерял, видно, много крови. Но пока живой… Грязный, оборванный, он морщился от боли, одна его нога беспомощно висела, она была раздроблена, сквозь обрывки штанов торчали белые обломки костей, на остатках кожи виднелись кровавые рваные полосы, оставленные, возможно, чьими-то зубами.
Этот последний показался мне чем-то знакомым. Неожиданно, лес, черная глина, корни, галька, ручей, все завертелось в бешенном хороводе, что-то сдвинулось в моем сознании, весь окружающий мир предстал в новом свете. Я пригляделся к раненому – боже мой, да это же я сам! Изменившийся до неузнаваемости. Но это я.
Только подумал об этом – тот, другой, кивнул головой, будто понял мои мысли. Он кивал головой, кивал, кивал и никак не мог остановиться. Какое-то безумие, я схожу с ума. Разворачиваюсь и бегу назад, к другим несчастным. Эти «они» – тоже я. Точно я! Что за наваждение? А этот? Как я раньше его не заметил? Он лежал головой в воде, видно захлебнулся не в силах поднять голову.
Моя фигура, мои штаны и рубашка, кепка и сумка через плечо. Страшновато, не могу понять, что со мной происходит. Но я же здесь, вот он я – грязный-избитый-испуганный, но я ведь цел. А кто же тогда он? Кто тогда эти «другие»? А что у него на шее? Жуткая подвеска в виде кольца из колючей проволоки с привязанным камнем и кровавые борозды от стальных шипов…
Из дальнего леса со стороны дачи Сталина появилась группа собак – опять собаки! Перебор, это уже перебор. Нет, не собаки. Кто-то другой, «другие». Просто ползут на четвереньках.
Группа медленно двигалась в сторону ручья. Не видно издалека – похоже, это люди. На том, что впереди, верхом сидит ребенок. Он – предводитель, размахивает деревянным мечом и беззвучно открывает рот.
Зачем здесь ребенок, что он здесь делает? Почему он немой? Предводитель из Чикамоги. Кто они, эти жуткие посланцы вечно живого вождя? На многих головах матерчатые кепки, такие, как у меня, – наверное, ошибся, мне уже везде какие-то страхи мерещатся, что они – это я…
Издалека слышен неровный ропот. Слух выхватывает отдельные слова: «придется», «пойти с нами», «тебе, тебе, тебе, тебе». До меня доносится знакомый тошнотворный запах. Чур меня, чур.
Спокойно, спокойно, возьми себя в руки. Я бросился в прозрачный ручей. Долго пил. Охлаждал водой горевшее лицо. Снял и очистил от грязи сандалии. Долго отстирывал рубашку, штаны, очищал сумку от глины и древесной трухи. Помылся сам, сполоснулся ледяной водой.
Старался не оглядываться, не смотреть на тех, «других». Старался не слышать глухого ропота за спиной, не вдыхать глубоко воздух, чтобы не чувствовать запаха этих полумертвых слуг истлевшего, но не сломленного духом «отца народов».
Глубоко вздохнул. Все, я в порядке. Держись, парень. Теперь надо заняться «их» проблемами. Не знаю уж, кто они. Но им-нужна-твоя-помощь. Сделаю, что смогу. Я надел холодную мокрую одежду, выпрямился, потянулся. И только тогда решился оглянуться по сторонам.
Рядом никого не было. Группа во главе с «всадником» тоже исчезла. Вместе с их зловонием. Тишина. Слышна только медленная мелодия капель дождя на лужах. Где они, эти «другие», куда они делись?
Наваждение исчезло так же внезапно, как и появилось. Только капель немного напоминала знакомое: «тебе, тебе, тебе», «при-дется, при-дется, при-дется». И в свежем воздухе временами чувствовался легкий запах серы.
Прочь, прочь отсюда. Подальше от этого заколдованного места, где жив еще дух его жуткого хозяина, подальше от гнезда, окруженного змеей из колючей проволоки, охраняющей имение от вторжения ненужных свидетелей. Подальше от его бешеных псов и полусгнивших, зловонных манкуртов, пугающих невинных путников в вечерних сумерках.
Вы уже не вернетесь к нам, кончилось ваше время. Остались только сказки – о Змее Горыныче и Кощее Бессмертном. И о великом Сосо. Страшноватые сказки, честно говоря.
В лесу стало уже совсем темно. Далеко внизу становилось светлее, слышался шум волн. А еще дальше, ближе к горизонту, светились огни Пицунды. Это ведь совсем недалеко. Километра три – четыре осталось. Там новая жизнь. Где меня ждут. Где тепло и сухо. И хорошая еда. И друзья. И Людка, черт бы ее побрал.
Сине-фиолетовые рассказы
Марта (почти пьеса)
Действующие лица:
Марта Кржелина, невысокая, хорошенькая, ухоженная, точеная, словно статуэтка. Рыжеватые короткой стрижки волосы, пшеничные брови и ресницы, атласно-белая кожа, лилейная шея. Глаза темно-синие. Движения точные, быстрые и решительные. Муж зовет ее Ритой. Марта не работает. Дочери Марине шесть лет.
Максим (Макс) Кржелин, ее муж. Мягкий, добрый, круглолицый, чуть полноват. Движения легкие, округлые. Работает в НИИ. В свободное время занимается стрельбой по тарелочкам, мастер спорта. Заядлый охотник. Семью Кржелиных называют иногда МММ, не вкладывая, конечно, в название известный нам теперь смысл финансовой пирамиды. В семидесятые годы даже слов таких еще не знали.
Юлий (Юл) Степанов. Друзья зовут Степой, чаще – Стивой. Теплый, дружелюбный, умеет слушать собеседника. Знакомые, иногда и не очень знакомые, тянутся к нему, любят поплакаться в жилетку. Педант. Одевается скромно, но аккуратно. Ухоженные руки. Среднего роста, ловкий, подтянутый. Крупные черты лица: большие глаза немного навыкате, чувственный рот, полные губы, узкий удлиненный нос. Изрядно облысел в свои тридцать с небольшим. Стрижется редко, поэтому волосы сзади слишком отрастают и загибаются вверх. Выглядит это неаккуратно и контрастирует с его в целом ухоженной внешностью и опрятной одеждой.
Боб, рослый, спортивный, атлетичный, веселый. Успешный человек. Любимец женщин.
Леонид (Лео) Меклин. Бородатый, косматый, рыжий. Зовут Миклухо-Маклаем. Доброжелательный, общительный, недалекий. Увлекается фотографией.
Валентина (Валя), жена Лео. Фигура с неясно выраженными формами, лицо смазанное, глаза маленькие, довольно злые.
Сестра Вали.
Хачатур. Восточный человек, мажор.
Проводница.
Действие первое. Картина первая
Семидесятые. Ленинград. Квартира Макса и Марты в панельном доме, шикарная жилплощадь по тем временам. Макс накануне вернулся с охоты. Супруги пригласили на вечеринку друзей.
Кухня. Пластиковая светло-серая мебель польского производства – вершина достижений мебельной промышленности стран народной демократии, вкусивших в полной мере блага развитого социализма. На полу – утепленный линолеум с пятнами под шкуру леопарда. Полосатые сине-фиолетовые шторы, блестящие темно-синие венские стулья. При входе на нитях позванивают стеклянные синие обереги в виде сердечек. Стол накрыт в соседней «большой» комнате. Оттуда доносятся звуки музыки, разговоры, смех. Гости едят, пьют, танцуют. Марта снует между плитой и гостями, носит блюда с закуской, чистую посуду, приборы, салфетки, да мало ли что нужно за столом, уносит грязную посуду. В течение всей картины периодически появляется и исчезает, лицо серьезное, Марта ни на кого не обращает внимания: она – хозяйка, занята гостями и столом в большой комнате.
За маленьким кухонным столом в задумчивости сидит Стива. Курит, в пепельнице – гора окурков. Входит Макс, он сильно навеселе.
– Ну как тебе глухарь, Стива?
– Честно говоря, ничего особенного не почувствовал. Суховато, жестковато. Не обижайся, Макс, я в этом плохо разбираюсь. Остальное, то, что Марта наготовила, – как всегда, на высоте. Ты ведь железкой ехал чуть ли не с Дальнего Востока. Как дичь-то удалось довезти?
– Ну не с самого… Три дня ехал. Мясо дикой птицы, что глухарь, что тетерев, если спустить кровь, долго не портится. Дай сигаретку.
– Ты же не куришь. Что-то случилось?
– Риточка опять уезжает. Когда я отправлялся на охоту, ничего об этом не говорила.
– Куда?
– Говорит, что в Крым.
– Ты что, ничего не знал?
– Да говорю же тебе – ни сном, ни духом. Вчера приехал, и словно обухом по голове… Сегодня в ночь и уезжает.
– Почему без тебя?
– Рита вообще со мной не считается. Звоню с работы, она сообщает – меня сегодня не будет. А где Маринка? Маме отдала. И куда ты? На девичник.
– Чего это она вдруг решила так неожиданно в Крым поехать?
– Какая-то Клара, ее подружка, уже там, в Коктебеле. Сняла комнату, позвонила, что ждет. Погода хорошая, вода теплая, не то, что у вас здесь – дожди, дожди, дожди… Грех, мол, пропускать. Давай, ноги в руки… В прошлом году тоже ездила без меня…
– Да-а-а… Коктебель, тепло, красота! Ну и что тебя так взволновало? Марта – женщина разумная, не беспокойся, все будет в порядке.
– А как она будет добираться, одна, с чемоданом?
– Проводи ее на вокзал.
– А там? Троллейбус, потом автобус.
– Мир не без добрых людей. Кто-нибудь поможет молодой женщине чемодан донести.
– То-то и оно. Здесь помогут, там помогут. Я весь издергался. Ее никогда нет, где Рита, что Рита? Она как мужик – встала и пошла. Одной подруге помочь, другой.
– Вот видишь, она хороший, отзывчивый человек.
– Как же, отзывчивый. У меня температура – 38 с лишним. В холодильнике пусто. Она – Маринку к маме. Сама – на пластику. Пластикой занимается. Даже не знаю, что это – то ли танцы, то ли лепка. Марта, говорю ей, сготовила бы хоть что-то. Ты продукты принес? Нет! И смотрит на меня, вот, мол, сам делай выводы. А я-то – дурак полный. Она потом звонит – вернусь поздно. На последнем метро. Думаю: бедная Риточка, – одна, ночью. С температурой тридцать восемь вскакиваю, бегу встречать, чтобы одна не возвращалась. А ей – хоть бы что, все – как должное, температура – не температура… Боюсь домой возвращаться днем. Вдруг кого застану. Как ты думаешь, может у нее кто есть?
– Зря ты дергаешься. Марта – не из таких. Не производит впечатления легкомысленной женщины.
– Из таких, не из таких… Уже почти год у нас с ней ничего. Я – в одной комнате, она – в другой, с Маринкой. Отговорки всякие. То, вишь, ребенок болеет. Знаешь, говорит, я сегодня так устала на пластике. Ну, не лезь с объятиями. Не сейчас, не сейчас. Не хочу я, ты понял? Не до тебя. У Светки, моей подружки, муж, ушел. Пойду, навещу. Останусь у нее. Надо же подруге помочь.
– Да не психуй ты, Макс, видишь – она друзьям помогает, что в этом плохого?
– Обо всех думает. Только не обо мне. У нее кто-то есть. Она сказала, что собирается разводиться со мной.
– Даже так? Это серьезно?
– Черт ее разберет – вроде сказано, между прочим. Может, и в шутку… А я так думаю – неспроста. Она меня ни в грош не ставит. От нее только и слышишь: «Поди, сделай, поди, принеси. Ухожу, Маринку покорми, поиграй с ней в развивающие игры, почитай, принеси продукты, дай денег, встретишь меня у метро».
– Современная женщина! У нее свои интересы. А ты хотел бы, чтоб она стала домашней курицей? Чтобы стала толстой, опустившейся, обрюзгшей? Ты этого хочешь? Она у тебя стройная, подтянутая, в тонусе. Просто «моделька». Женщина с Запада. И ножки, и шея, и глаза.
– Выглядит-то она неплохо, все, что надо, есть – да не про мою честь.
– Ты, наверное, ее часто попрекаешь.
– Нет, пожалуй. Иногда, правда, говорю – может быть, ты дома побудешь? Или – давай сходим куда-нибудь. А вот на это она всегда готова – в гости, потанцевать. И у нас принять, как сейчас. С удовольствием. И наготовит, и стол накроет. И все легко, как бы между прочим.
– Это так, Марта очень быстрая. И в доме порядок. Ты всегда накормлен, обстиран, отглажен…
– Да нет, какое там. Она считает, что мужчина должен сам и постирать, и погладить, и вещи себе купить.
– Макс, ты неправ. Все-таки у тебя теплый дом, в доме – обед, ребенок накормлен. Уют. Вон, новые стулья в кухню прикупила.
– Какие новые? Это бабушкины венские стулья. Марта… она их ошкурила и покрыла темно-синим блестящим автомобильным лаком.
– Шикарно получилось. Так и сияют. Неправ, ты неправ относительно Марты. Смотри – мы тут сидим, а она так и снует – взад, вперед.
– Где же я неправ? Она меня ни в грош не ставит. Что бы я ни сказал. Она даже не спорит – промолчит и сделает по-своему.
– Знаешь что, Максик. Я тебе удивляюсь. Чуткий, тонкий, интеллигентный, а в семейной жизни ведешь себя нетактично. Нетактично и недальновидно. Упрекаешь жену – не туда пошла, не то сделала, а этого – наоборот, не сделала. А сам-то ты как? – раз, и укатил на охоту.
– Да не защищай ты ее. Это не женщина, мужик в юбке. Холодный, грубый мужик в юбке. Ни тепла от нее, ни ласки.
– Значит, где-то есть твой промах, где-то сам и виноват.
– Ты не представляешь, как мне плохо. Я ведь на все для нее готов. У нас же ребенок. А я чувствую себя чужим в этом доме. И, между прочим, это квартира моих родителей. Да, да, это они нам подарили и давно. Ну, не подарили… Одним словом, разрешили Марту прописать. Надоел я тебе этими разговорами? Иди, потанцуй.
– Отчего ж, давай поговорим. Тебе надо успокоиться. И не видеть все в дурном свете.
– Мне ничего не хочется. Жить не хочется. Может, я бесхарактерный?
– Конечно, ты слишком мягкий. Иногда необходимо и характер проявлять.
– Сколько раз решал – надо расходиться, пора расходиться, а не могу. Ей нужен не такой, как я. Ей нужен бесчувственный, примитивный мужлан, чтобы и поколотить мог в случае чего. Говорила же матушка, жениться надо на девушке своего круга. К черту эту семейную жизнь, к черту Марту. Хочется уйти на охоту и не вернуться.
– Что ты имеешь в виду, остаться в лесу?
– Остаться где-нибудь между Хабаровском и Владивостоком и никогда не возвращаться. Си – хо-тх– Алиньскхий к-х-хр-ребет. Там живут одни только кх-х-меры. Какие кхмеры? – ханты-манси, вот, кто там живет. Черт, я уже ничего не помню. Как же назывался этот чертов кхрребет, который я пересекал по пояс в снегу всего несколько… Несколько… чего? А – дней назад. Вот там бы и остаться. И никогда не возвращаться.
– Покинуть сей бренный мир?
– Что угодно. Уйти, чтобы этого всего больше уже не видеть.
– Успокойся, Макс. Выпей что-нибудь для разрядки.
– Какой выпить? Я уже, наверное, бутылку коньяка вылакал. Какая разрядка? Р-р-мянский коньяк Гранд Сргис, Мштосцсц. Чтобы не лцзреть…
– Зря ты нагнетаешь. Проводишь Марту на вокзал. Вернешься домой. Отоспишься. Она отдохнет в Коктебеле. Приедет отдохнувшей. Уже было такое год назад… И все у вас наладится. Забудешь о мрачных мыслях. Иди-ка лучше к гостям.
– Нет, ты скажи мне, Стива. Я ведь только тебя спросить могу. Ведь это кто-то из наших. Конечно – не официант какой-то, не водопроводчик, Марта слишком брезгливая… Кто-то из наших. Откуда еще взяться человеку? Кто, кто? Это, наверное, Боб.
– Что за глупость. С чего ты взял?
– Ну не Мклухо же Мклай! Рыжий – он никакой. А Боб – высокий, стильный. При деньгах. Это Боб.
– Вряд ли. У Боба же с Лариской роман. У них очень серьезно.
– А Боб такой, он и с Лариской, он и с кем-то другим запррст может. Легко! Если женщине из наших выбирать – так только Боба!
– Ты перепил, Макс. Иди закуси. И потанцуй.
Картина вторая
«Большая» комната в квартире Макса и Марты. Совковый шик – паркетный пол, полированная мебель. Тоже, скорее всего, импорт из Восточной Европы. В глаза бросаются необычные сине-фиолетовые бумажные салфетки на столе – не очень аппетитно, но Марта почему-то не любит белые. Боб танцует с Валей. Лео – за столом с сестрой жены.
Входит Макс. Подходит к танцующим. Довольно бесцеремонно отодвигает Валю («Макс, как ты себя ведешь?») и, не обращая на нее внимания, поворачивается к Бобу.
– Ты отчего один пришел, супермен, мы же приглашали тебя с Лариской?
– Лариска не смогла. Ребенок приболел. Просила передать всем привет.
– Ах, да, у нее же сын пятилетний. Заболел, заболела – свежо предание, а верится… с тррудом.
Макс достает из шкафа две пары боксерских перчаток. Надевает одну пару на руки Боба, шнурует, Боб смотрит на него с удивлением, вторую пару – на свои руки:
– Валюшка, не дуйся, иди-ка лучше сюда, зашнуруй перчатки мастеру спорта по тарелочкам. Ну что, ты готов, импозантный, спортивный, успешный Боб?
– Вообще-то, сейчас не момент, то есть не самый удачный момент. Может, в другой раз?
– Боишься, что ли? Меня, простого кх-х-мера, боишься…
– По-моему, ты немного не в себе, Макс. Но раз настаиваешь… Давай попробуем.
Макс без подготовки бросается в атаку. Старается попасть в лицо Бобу. Бьет изо всех сил.
– Ты чего, Макс, будто с цепи сорвался… Потише, потише, а то, чего доброго сам наткнешься на мой кулак.
Спортивный Боб без труда уклоняется от яростных атак Макса. Выбившись из сил, мокрый и взъерошенный Макс порывисто обнимает Боба, бросает голову ему на грудь. Валя и ее сестра хлопают в ладоши:
– Браво, мальчики, браво! Ничья! Победила дружба!
– Боб, Боб! – всхлипывает Макс. – Почему у одного все, у другого – ничего? Ты шикарный, успешный, умный. Тебя Лариска любит. А меня, кто меня любит? Меня никто не любит.
Марта наблюдает эту сцену. Останавливается, испытующе смотрит на Макса синим глазом. Боб обнимает Макса. Миклухо-Маклай достает огромный фотоаппарат, чтобы запечатлеть забавную сценку.
– Ну что ты, Макс, успокойся. Все у тебя в порядке. Посиди, переведи дух, возьми запивку, – говорит Боб.
Отводит Макса к дивану, снимает перчатки. Вытирает его вспотевший лоб, наливает в фужер клюквенного морса – пей, Макс.
– Да что вы меня все успокаиваете? Я со-вер-шен-но спокоен. Я в полном порядке. Кто вы такие? Зачем вы все пришли? Вы – никто. Ограниченные, жалкие, тупые, ничего не понимающие люди. Кх-х-мерры. Кхмеры-химеры… Если бы не Марта, я никого бы из вас не пригласил. Но Марта! Моя Риточка, как она скажет, так и будет! Ты не расстраивайся из-за меня, Боб. Ты – хороший парень. Вот – я дарю тебе крылышко. Это тетерев. Очень симпатичная птичка. Как и ты, Боб. Ну, пожалуйста, возьми это крылышко. Не отказывайся, прошу тебя. Когда ты решишь полететь, оно очень тебе пригодится. Вместо пр-р-пелле-ра-ра. Не держите меня, я хочу говорить только со Стивой. Вот человек. Ему все можно сказать. Потому что он понимает.
Картина третья
Опять кухня. Стива пьет чай. Входит Макс.
– Стива, душа болит, дай сигаретку. Конечно, тебе надоели мои пьяные разговоры. Только скажи, сразу уйду.
– Да что ты, Макс, с удовольствием поговорю с тобой.
– Наверное, ты прав. Надо проще ко всему относиться. Марта отдохнет с подругой, и все у нас наладится. Может, мне поехать с ней? Пойду на вокзал провожать, куплю билет и поеду. Из наших дождей, сырости. А там тепло, солнышко, розы цветут. Рядом с любимой женой. Как ты думаешь?
Марта, проходит мимо, слышит их разговор. Останавливается, встает у стола, закуривает сигарету, ждет, что скажет Стива.
– Неплохая идея. Но вряд ли получится. Клара, как я понял, сняла комнату, заплатила за двоих. Вы приезжаете вдвоем, как она должна реагировать? Думаю, Марта эту идею тоже не одобрит, – смотрит на синеглазую Марту, та молчит. – Только еще больше перессоритесь. Давай лучше переменим тему. Как дела на работе?
Марта уходит. Макс вытирает слезы рукавом.
– На работе… все бы ничего. Да вот, Стасик Турчинский, мой товарищ… Мой очень, очень хороший товарищ. Наши столы рядом… Серьезно заболел… Стасик. Ты даже не представляешь, насколько это серьезно. Опухоль, трепанация черепа… Тяжел-л-лейшая операция, ему предстоит тяжел-л-лейшая операция! Неизвестно даже, что дальше, восстановится ли он полностью. В чем причина? В-чем-при-чи-на? Да очень простая при-чи-на: за стеной – макет радиолокатора. СВЧе-че излу-че… Всем – срочно проверяться. Я сам не свой хожу, сам-не-свой… Что по-ка-жет рентген? Если у него так, почему не может быть у меня? Мне страшно, Стива; как вспомню Стасика, так и бьет… лихорадка… Конец Максиму, конец МММ…
– Да не расстраивайся ты, Макс. И не нагнетай понапрасну страхи. Нет у тебя ничего. Если хочешь, сделай рентген. Чтобы не думать. Надо еще проверить излучение макета, не исключено, что там вообще все в пределах нормы. А у твоего Турчинского это произошло по какой-то другой причине. Мало ли что может быть. Плохая экология, врожденный дефект, генетика…
– Никто с этим не станет разбираться. Никому ничего не известно, а начальству – пофиг. И самое главное – это может проявиться не сейчас. Сейчас – нормально. Все хорошо, все тип-топ… А через три года – тю-тю – и вперед ногами. И Маринка растет без отца. Бедный ребенок, бедный ребенок, она живет и ничего не знает. Моя Маринка может очень скоро остаться сиротой. И Марту тоже жаль. Она ведь неплохая. Я ей когда-то стихи писал.
Долорес, Лолита, Лилит: Алисы лилейная шея И ленты лазури. Летит Моя златовласая фея…[3]Лилейная шея Лилит. Вот уж точно – Лилит, дьявольская женщина, дьявол ее побери! Тогда были лилии, а в душе лотосы цвели… Какая к черту сейчас может быть лазурь, вокруг – темно-фиолетовые сумерки… В Марте много хорошего. Она туфли мне всегда покупает. Говорит – не люблю, когда ты на работу в спортивной обуви ходишь, ты еще кеды надень…
– Лилейная Лили, Лилечка, интересно… Вот видишь, все не так плохо. Помоги Марте убрать со стола и собраться в дорогу. Она ведь сегодня уезжает? Значит, времени осталось немного. А я попрощаюсь со всеми и пойду. Чтобы вам не мешать.
Картина четвертая
Большая комната, где только что принимали гостей. Марта отводит перепившего Макса в спальню, уговаривает, чтобы тот вздремнул, пока она уберет со стола и помоет посуду. Лео со спутницами собираются уходить – надевают в прихожей обувь, плащи, шляпки и шапки, кто что, готовятся основательно, на улице ветер и дождь как из ведра. Потом Лео, одетый уже по-уличному, пробегает зачем-то в комнату к Максу. Боб тоже собирается уходить. Звонит телефон. Боб снимает трубку.
– А это ты, Стива? Чего ты звонишь, кто нужен, Макс? Да он немного не в себе. Думаю, кемарит где-то в уголке. Ах, ты за него беспокоишься. Не волнуйся, похоже, что он утихомирился. «Все спокойно в доме Облонских». В доме МММ, Кржелиных, I mean. Интересная фамилия у них. Если к Марте применять, получается – кружевница. И действительно – она такая, узор ведет сложный, причудливый, идеально узлы вяжет твердой расчетливой рукой. А если к Максу применить, все кружит он и кружит, будто слепой, никак не найдет свою дорогу. Ты говоришь, у них в семье плохо? Никогда бы не подумал. Макс, мне кажется, бесконечно предан семье, и Марте тоже. А Марта, конечно, железный рулевой. Разводиться собираются? Все к этому идет, ты так думаешь? Во дела… Ну, если Макс уйдет, я за Марту не беспокоюсь. Она правильная женщина, и жизнь свою устроит. Макс считает, что у нее кто-то есть? Вряд ли. Моя Лариска дружит с ней, она бы знала. Да и не такая она, Марта эта, чтобы бегать налево. Ну, если разойдутся, все бывает… Кстати, если уж разойдутся… Тебе, Стива, давно пора обзавестись семьей. Вот для тебя была бы хорошая партия. Умная, рачительная хозяйка, аккуратная, ты это ценишь. К тому же – красотка, не кррркодил какой-нибудь. «Ну что за шейка, что за глазки! Рассказывать, так, право, сказки! Какие ножки, а какой носок… И верно ангельский быть должен голосок!» А кожа, вах-вах, сахарной бэлызны…
– Все бы тебе шутить, да подсмеиваться, Боб. У меня Стелла есть.
– Кто это Стелла? Не та ли дантистка, к которой Лариска ходит? Ну, ты даешь, Стив. Поздравляю. Сама Стелла Пархатская! Классная тетка. Высший класс. Как у тебя с ней, серьезно?
– Знаешь, Боб, сам не могу понять. Временами все очень хорошо. Вчера круглые сутки, от утра и до утра провели в постели в ее квартире. Лямур, passion. Лежим, курим, она прижалась и говорит: «Знаешь, отчего я тебя люблю? Ты очень красивый!». Это я-то красивый. Обычная женская болтовня, а слышать приятно. Утром звонит муж. Говорит: «Сегодня прилетаю». Кто у нее муж? Знаешь, Боря, ничего об этом не могу сказать. Какой-то советский работник, наверное. При деньгах. И подолгу в разъездах. Она как вскинется: «Давай, давай, мой красавец. Нечего разлеживаться, быстренько собирайся». Я говорю: «Когда встретимся, Стеллочка?». «Не знаю, не знаю» – говорит. «Может, завтра ко мне подъедешь, или вначале на вэрр-ни-сажжж, а потом ко мне?» – это я предлагаю. «Вернисаж тебе нужен, крррасавэц, как же… койка тебе нужна! Знаешь, Стива, кроме шуток, ты не звони и не надоедай, законный супруг мне во сто крат важнее». «Может, мне вообще не звонить и не приходить?». «Как хочешь, твое дело. Хоть и совсем не появляйся. Вначале научись бабло зарабатывать. Что такое бабло? Маней, манюхи, бабки, капуста». Вот ведь, чертовка. И что я могу ей на это ответить?
– А я уже подумал, что у вас серьезно. Даже удивился вначале. Оказывается, вовсе нет – просто так, покувыркались и разошлись. Лариска мне о Стелле говорила не очень уважительно. Вернее, человек она хороший, но молва об ее нравах – не очень. Да ты не обижайся, что я так говорю – люди говорят, может, и ошибаются. На каждый роток не накинешь платок. Послушай меня, Стива. Ты же умный, образованный, душевный, зачем тебе такие, как Стелла Пархатская? Присмотрись к Марте. Вы подходите друг другу – Лилия с Юлием.
– Хватит высмеивать меня, Боб. Марта замужем, Макс – мой друг, наш общий друг.
– Не вешай мне лапшу на уши, Стива. Будто я не знаю тебя. Ты человек современный, тебе принципы-то не особенно мешают. С виду – мягкий, пушистый, а на деле – супергибкий, отстраненный и беспринципный. Мне-то не рассказывай, у тебя свое понимание дружбы, любви, совести, тем более угрызений совести. Угрызениями себя не обременяешь. Ты человек легкий, родился под знаком Близнецов, ничего в голову не берешь. Вечный Юл, одним словом. Уж что-что, а в старомодности тебя никак не упрекнешь. Ну, хорошо, оставим эту тему, я не священник, а ты не на исповеди. Да не трепыхайся ты, не кипятись, мы тебя принимаем таким, каков ты есть. Вернемся к моему вопросу. Давай предположим, – условно, конечно, – что ты свободен, что у тебя нет Стеллы (а ее и так у тебя нет), а у Марты, предположим, нет Макса (а он, как я понял, и так ей не нужен). Ты мог бы заинтересоваться такой женщиной, как Марта? Море достоинств для будущей спутницы жизни. Ну, скажи мне, скажи, очень интересно, что ты думаешь об этом?
– Вот сам и предположи, хотел бы ты быть с Мартой?
– Не актуально. У меня и так все хорошо. От добра добра не ищут. А вот тебе стоит призадуматься.
– Ну, хорошо, постараюсь ответить максимально честно. Я, может быть, странный человек, но в женщинах неплохо разбираюсь, и для меня очень часто решающее значение имеют какие-то с виду незначительные нюансы. Вот сейчас я абстрагируюсь от конкретной ситуации, представляю себе, делаю пассы руками, и го-во-рю тебе абсолютно откровенно: на Марте – делает паузу – я никогда бы не женился. Все хорошо, умница, с характером, сильная, хорошенькая. Тысяча достоинств. И еще одно можно было бы наверняка найти, если покопаться. Чтобы получилось тысяча и одно… А что-то меня абсолютно не устроило бы.
– Да что же это? Заинтриговал…
– Талия у нее широкая…
– Совсем оборзел, талия широкая… Какая, блин, широкая, балбес? Живот плоский, подтянутый…
– А талия – ши-ро-кая, и еще кое-что, очень важное для личной жизни, не совсем так… Нет, на Марте я точно не женился бы. Никогда в жизни я с этим не смог бы примириться.
– Кое-что… Очень важное… Не совсем так… Ты, Стива, особенно-то не задавайся, мол, «мне такая, как Марта…»
– Этой проблемы вообще не существует. Обсуждаем, обсуждаем… неизвестно что, для эмоциональной, так сказать, разминки. И зачем только я дал втянуть себя в этот разговор? Ну ладно, пока, Боб, до встречи. Лариске привет.
Боб вешает трубку, направляется к прихожей. Из комнаты Макса выходит Миклухо-Маклай. Суетливо подбегает к Бобу, придерживает его за рукав. Говорит тихо, страстно и скороговорочкой, приблизив рот к уху Боба.
– Ты разговаривал сейчас по телефону. А Марта – в комнате Макса… Боб, она сняла трубку параллельного аппарата и слышала весь разговор!
– А, ерунда, Лео. Не бери в голову. Я со Стивой трепался, ничего особенного. О том, о сем. О Марте тоже говорили, мы ее очень хвалили, оба. Так что она не должна обидеться. Хотя…
Боб с Лео уходят.
Действие второе. Картина первая
Поздний вечер того же дня. Двухместное купе скорого поезда. Входят Макс и Марта. Макс заметно протрезвел. Он осматривает купе.
– Похоже, что ты одна в купе, Риточка. Ну что же, это неплохо. Никто мешать не будет. Снимай плащ. Так… Плащ на вешалку. Вот тебе шлепки, скинь туфельки. Погода ужасная… Давай я напихаю газеты в туфли, пусть просохнут, наутро уже будут сухими. Переоденешься? Пока нет? Ну, ладно, поставим чемодан под сиденье. Береги документы, деньги. Приедешь, устроишься, дай телеграмму. Ни о чем не беспокойся. За Маринкой прослежу, в доме все будет в порядке. Встречу, когда вернешься. Отдыхай, ни о чем не думай. Вот уже объявляют: «Провожающих просим покинуть…». Сейчас ту-ту-у… Ну, целую тебя…
Выходит. Поезд отправляется.
Картина вторая
То же купе через десять минут. За окном темно-синяя ночь, в купе чуть горит ночничок. Марта света не зажигает, сидит неподвижно в той же позе, что и раньше. Беспрерывно курит. В пепельнице – недокуренные, погашенные окурки. Входит мужчина в дорожной одежде, лица не разглядеть. В руке чемодан. За спиной рюкзак.
– Вот мы, наконец, и одни, Марта. Я приехал пораньше, показал билет проводнице, а сам – в тамбур. Дождался, пока поезд отойдет, и вот я здесь. Пришлось взять рюкзак.
Ласты, маска с трубкой, линь для ныряния, подводный бокс для фотоаппарата. Ух, наныряюсь всласть. Мне сказали, где в Коктебеле отмель, на которой затонула греческая трирема, может, и галера, там, на дне – амфор видимо-невидимо.
Укладывает рюкзак на верхнюю полку. Переодевается, путь-то не короткий – мягкие тапки, темно-синие треники, фиолетовая футболка. Достает коньяк, батон за 13 копеек, масло, колбасу с чернильной надписью на шкурке: «Докторская», артикул, потом неясная надпись, заканчивающаяся «под управлением А.И. Микояна». Куда ж без Анастаса Ивановича? Аккуратно раскладывает на столе эти лучшие образцы советского продуктового ассортимента. Смотрит, ровно ли сложил. Удостоверившись, что все ровно, достает складной ножик, салфетки. В купе заглядывает проводница.
– У вас все в порядке?
– Да, да, спасибо. Чай пока не надо, попозже. Перекусим, отметим отправление в теплые края. Коктебель, Коктебель, чудный край. Моя родина, моя любовь, край моей мечты. Райский уголок. Испортил немного настроение разговор с твоим мужем, ну никак я этого не ожидал. К сожалению, я, видимо, не сумел успокоить его в должной мере, не смог развеять его сомнения. Как ты думаешь, Лили?
– Лили – это что-то новенькое… Я всегда восхищалась тобой, Стива, – произнесла, наконец, Марта. – И на этот раз ты опять был великолепен. Что-что, а «дружить» ты умеешь, и с Максом, и со мной, и с Бобом, и к его Лариске под юбку пытался залезть, да не получилось. С Валей тоже «дружил» бы, будь она посимпатичней, и с Хачатуром, мужем Стеллы… Не юли, я все знаю, он – твой школьный друг, «не разлей вода». Кстати, это я вчера Стелле звонила, вовсе не Хачатур, сказала, что ты намылился со мной в Крым.
Пауза.
– Ищешь, где обломится на дармовщинку, любитель полакомиться втихаря за чужим столом… Интересно, Стива, какое же еще укромное такое местечко, кроме талии, у меня настолько хуже, чем у всеобщей подстилки Стеллочки Пархатской? Настолько хуже, что ты с этим НИКОГДА В ЖИЗНИ не смог бы примириться.
Немая сцена. Стива хочет сказать: «Грубо, Марта, грубо и неинтеллигентно…», но слова застревают в горле. Откашливается, закуривает. «Им обеим нужен на самом деле хамоватый, нахрапистый мужик с деньгами. Одна уже нашла такого, другая – еще нет». Марта словно читает его мысли, она думает о том же.
Стива не допущен… Ни до разговора, ни до чего другого.
Картина третья
То же купе. Поезд прибывает в Крым. Крым на месте.
– Что притих, Стива? Дело сделано… Поздно пить Боржоми. Бери чемодан, и свой тоже бери, пошли… Или забыл, зачем приехал, любовничек?
Картина четвертая
Марта одна в купе, спит, облокотившись на стол и положив голову на руки. Просыпается… Сколько сейчас времени? Час уже, как поезд в пути. Что это мне вдруг Стива приснился? Наверное, я к нему еще неровно дышу. Может, задело его высказывание обо мне? Или то, что он Стеллку посещает? Что вспоминать об этом? – проскочили станцию, обратного хода нет. Просился, хотел и сейчас со мной поехать.
В двери появляется Хачатур.
– Выходыл покурить. Не хотэл беспокоыть тебя, Марточка. Ты устала, день непростой выдался. Да и у меня тоже. Вначале – Стелла… Потом, по дороге к вокзалу встрэтыл Стиву, как бы случайно… Как же, случайно… Полчаса заговаривал ему зубы, водыл кругами, чтобы нэ догадался…
Картина пятая
Марта одна в купе. Хачатур опять вышел курить. Марта размышляет:
«Все считают меня неважной женщиной. Одни – распущенной, другие – корыстной. А что я должна делать, как я должна поступить?
С Максом мы поженились, нам было по 19. Я ни в чем не разбиралась. Что он за мужчина? Всю жизнь сопли ему подтирать? Он хороший, но не мужик. Мне не нужен подкаблучник.
Стива – умный, тонкий, образованный, ироничный. Но он – центр вселенной. Только о себе думает. Даже во время близости. Таблетки не принимай, это вредно. Что принимай, что не принимай – все равно доверия нет. Презерватив – это ему не надо, он, блин, удовольствия не получает. А вот выплеснуть мне на ягодицы – это, пожалуйста. Получила я свое, не получила – это его не интересует. Иди, подмывайся, по спине течет, а еще думай, чтобы туда не попало.
А Хачатур… Зверь и только. Он считает себя лучше всех. А ему только бы сильнее, да быстрее. Ничего в любви не понимает. Вряд ли я захочу еще быть с ним. А поездку пусть оплачивает. Сам вызвался. Пусть и почитает за счастье провести со мной несколько дней.
Никто из них ничего не может дать женщине. Себе, только себе. Не только в смысле близости. Вообще, по жизни. И в смысле близости тоже. Кажется, один только Боб меня ценит и понимает. Он – сильный, умный, ответственный. Да еще и красавец какой! Жаль, что на меня ноль внимания. Не по зубам он мне. Да и Лариске, наверное, тоже. Что мне-то делать? Ну, ничего. Я своего Боба еще дождусь. А пока я и так неплохо живу. Пока мне и со Стеллой неплохо».
Занавес
Альтер – эго восходящей звезды местного значения
Семидесятые. Выскочил в магазин напротив. В августе рано темнеет, чернильные, темно-синие сумерки. Холодильник пустой. Придет Лариска, надо бы поужинать. Может, и при свечах. Да нет, глупости – у нас с ней давно уже не в пастельных, а в «постельных» тонах. Потом утром – позавтракать. Лариску выписал к себе – редкий случай – отправила сынишку за город с дедом и бабкой, теперь может и переночевать у любимого человека. У меня как раз фатера свободна, маман с папоном – тоже на даче. Черт, времени совсем мало, надо бы немного прибраться, все накидано, шмотки, обувь, какие-то справочники, спортивные примочки, все внавал…
Как интересно жизнь складывается. Студентом ездил сюда, на Малую Охту, отрабатывал «стройку», копал канавы, «поднимал» новый район. А теперь живу здесь, переехал с родителями из коммуналки в центре, живу в тоскливых пятиэтажных «хрущобах». Деревья-то как поднялись за эти десять с небольшим, все выглядит вполне обжитым, будто так всегда было – убого и беспросветно.
Лариска – очень хорошая. С мужем развелась давно, свободная женщина. Встречается со мной с удовольствием. Я нравлюсь ей, она мне, наверное, тоже. Умница, в свои двадцать восемь – уже кандидат, биология или микробиология? – что-то в этом духе. Нет, на самом деле умница, дело не в том, что защитилась, это-то по большому счету как раз полная ерунда. Просто нам есть, о чем поговорить, интересно друг с другом. И собой недурна. А все равно – скукота, почему так получается? Меня лично это очень смущает: я отношусь к ней хуже, чем она ко мне, она – всей душой, а я… Как бы немного снисхожу. Такой, чуть снисходительный, а за нее все равно обидно: Лариска – замечательный человек, во всех отношениях достойная молодая женщина – самостоятельная, здравая, тонкая, любящая, ранимая… Право слово, достойна лучшего отношения. А я вот такой – снисхожу до людей. Немного презираю, что ли? Мне она, конечно, нравится, и на людях появиться с ней приятно. Все, вроде, хорошо, и понимаем друг друга, и объятия у нас совсем не равнодушные, можно сказать, довольно-таки жаркие объятия… А искра не высекается. Отстрелялся и домой – нехорошо это, как-то не по-людски.
Купил продукты, бутылочку абхазского «Апсны» взял, на обратном пути встретил Тоню с нашего НИИ. Ей лет двадцать пять, работает техником, где-то учится, я для нее – восходящая звезда местного значения. Смотрит на меня снизу вверх: глазки голубенькие, носик пуговкой, рот щелочкой, беленькая, нежная, глуповатая, а фигурка – вроде, ничего.
Что делаешь здесь, белочка? Куда скачешь? А я – серый волк, зубами щелк. Не хочешь зайти в терем-теремок? Смело взглянула на меня, улыбнулась – почему бы и нет? Серый волк в темно-синей куртке – очень даже симпатичный. Зачем я все это затеваю?
Поднялись на второй этаж, в нашу с родителями крошечную двушку, в которой все со всем совмещено. Где у тебя туалет? Боже, как все предсказуемо, она уже готова.
Через несколько минут заглянул в объединенный санузел. Руки моешь? Какая стройненькая, раскраснелась, румянец на белой щеке. Подошел сзади, обнял. Мой руки, мой, я не буду мешать. Прижался щекой к ее уху, посмотри-ка в зеркало, мы неплохо смотримся.
Тоня улыбалась. Без объятий и поцелуев стал ее понемногу раздевать. Смотри-смотри, как мы выглядим? Да, бельишко у нее так себе, хорошо, хоть чистенькое. И грудь – не очень, не особо зажигательная, у Лариски лучше. А попка – вполне ничего. Смотри, смотри в зеркало, милая мартышка, красиво – правда, красиво? Мне-то лучше видно – и в зеркало и сзади, спина белая, ничего себе спина, и попка тоже… А что тут может быть плохого – девушка совсем еще молодая, но и не ребенок уже.
Ну, как ты, все хорошо? И мне тоже… Приведи себя в порядок, подожду в комнате.
Сел в кресло, вытянул ноги. Свет не зажигал. Уже совсем темно, интерьер в сине-фиолетовых тонах. Если бы курил… Самое время бы перекурить. Почудилось, что кругом пепельницы, много пепельниц, заполненных окурками, и вонючий запах сигарет. Вот такой пердимонокль. Как такое вообще могло произойти? Эта девушка ни с какой стороны мне не интересна. Глупышка, о чем с ней говорить? И женщина – так себе. А тут еще… Не уследил, вошел в раж, идиот, будто мальчишка неопытный. Вот только последствий нам и не хватает. Боже, что я наделал… И с кем? – прохожая, просто проходила мимо. Кррресть-янка полевая, цветочек незамысловатый. Маленькая незабудка, да, забудешь тут, а если последствия? Что делать, что делать? Я ее и не знаю. Разве просчитаешь эту скромную простушку? – возьмет и родит. А скажи, папочка, ты любил мою мамочку? – бррр…
Тоня вышла из туалета, как-то особенно передернула попой, видно, там внутри еще не все заняло свои места, может, мылась, и не вся водичка вышла. Застегни мне лифчик. Лифчик, – как это вульгарно – неужли нельзя было сказать «бюстгальтер»? У Тони блаженный вид, ей, видимо, понравилось неожиданное приключение. Качала и трясла бедрами, подтягивая и осаживая на себе не до конца одетые брюки, смотрела весело и смело – ничего себе тихоня! Маленькие, голубенькие, задорные глаза… Вспомнилось Клячкинское: «Глаза – как две смородины, а ротик – словно щель, ой мама моя, родина, ой, где моя шинель?» Смородинки-то голубые в данном случае, а так похоже.
Посмотрел на часы – через сорок минут появится Лариска. Скорее всего, придет позже, но может и вовремя. Бардак в доме, хотел же прибраться.
Послушай, Тоня, не обижайся, но у меня дела. Собирайся. Встретимся ли еще раз? Почему бы и нет? Сегодня что, суббота? В понедельник – на работе. И дома у меня – может быть. Сейчас мои все за городом. Так что как-нибудь вечером – вполне. Надеюсь, она скажет мне, если что. А как не скажет? Придет через два года, вся кроткая, в грусти-печали, опустив глазки, позвонит в дверь, станет на пороге с малышом на руках. Вот, деточка, твой папа… А рядом мои – маман с папоном, сцена у фонтана, офигительная сцена, полный конфузион. Такая вот пррропозиция.
Что Тоне собираться? Встала и пошла. Румянец на белой коже – кровь с молоком. Рот до ушей. А у меня настроение… Ащщущенице – ржавым гх-х-воздем по стеклу, полный деррибас. С какой стати она здесь, что делает у меня дома эта совсем чужая мне деваха? Через полчаса придет Лариска, а я-то – хорош гусь. Что это на меня нашло? Не буду наводить порядок, палец о палец не ударю, не хочу – не буду, как есть, так и есть. Интересно, не оставила ли Тоня что-нибудь – трусики, следки? Да нет, в трусиках ушла, все тип-топ, но запахи могут остаться – я-то не учую, а у женщин нюх… Давай, восходящая звезда, проветривай – санузел, общую комнату, как туалет-то проветрить? – включу вентилятор для сквозняка.
Ну, вот и Лариса. Звонит, хоть чуть-чуть раскидаю вещи, в «тещину комнату», чтобы не на глазах. Может, не открывать? – позвонит, позвонит и уйдет. Объясню потом, что электричку отменили, автобус в аварию попал… Нет, нехорошо это. Я ведь действительно ждал ее. Своеобразно ждал, очень даже необычно ждал. Ждал, но времени зря не терял. Привет, Лариска. Смотри-ка, марафет навела, для меня старалась, ресницы, какие все-таки у нее ресницы, и глаза… Обниматься, миловаться с ней – ну никак не хочется. Ничего не случилось, дорогой? Нет, вроде все в порядке. Ладно, раз ты не в духе, давай поговорим. Разговор у нас тоже не клеится. Понимаешь, Лариса, я что-то не в форме. Ну, нет настроения, позвонил бы. Зачем я неслась на перекладных через весь город? Думала, ты хотел побыть со мной наедине.
Бедная Лариска, она даже не представляет, в какой ситуации оказалась. Боже мой, она даже не представляет…
Все, нет больше сил терпеть эту муку, я сам себе противен. Знаешь, Лара, ты уж извини, но лучше, если бы ты прямо сейчас поехала домой. Фу-у-у, решился все-таки. Лариса вспыхнула, стала быстро собираться, в глазах блеснули слезы. Бедная, бедная моя подружка, не просто подружка – возлюбленная, за что я ее так? Она ко мне всей душой. Правильно говорят: ни одно хорошее дело не должно остаться безнаказанным. Выпроводил ее и теперь чувствую себя последним негодяем. Негодяй – это, пожалуй, слишком сильно для меня, просто мелкий пакостник. Стыдно, очень стыдно, но не мог я себя заставить, ну никак не мог я быть с ней сегодня!
Что за человек проснулся во мне? – совсем незнакомый человек, мой двойник-антипод. Совсем не я, другой. С темно-синей кожей, с голубенькими, наивными как у Тони глазами. Жил во мне эти годы. Жил тихо, ничего не говорил, не поднимал голову, не заявлял о своих правах. А тут вдруг стал в полный рост и громко сказал: «Вот он я! Чего ты удивляешься? Я – это и есть настоящий ты. Посмотри на себя. И скажи честно, кто ты есть на самом деле. Куда делись твои хваленые принципы, твоя порядочность, хваленые способность к сопереживанию и тонкие интеллигентные чувства? Их нет, их и след простыл. Теперь, наконец, понял, что самая твоя большая радость – залезть с головой в грязь, по уши изваляться в дерьме?».
Зачем так говорить – в дерьме? Тоня – совсем неплохая девушка.
«Кто для тебя Тоня? Ты о ней подумал? Просто подобрал, что плохо лежит. Без чувства, без тяги, без интереса. В этом не было даже простого любопытства. А теперь трясешься, боишься последствий. Не последствий ты боишься, а ответственности, наказания боишься, за удобства свои трясешься. А на Тоню тебе наплевать. Так же, как и на Лариску, как и на всех остальных».
Да, мой друг, мое сокровенное альтер-эго, «мое второе я», ты прав, мой двойник. Прав во всем. Выходит, что я сам себя не знал до сегодняшнего дня. Не знал. Но почему я говорю: «второе я»? Может быть, первое и главное?
Желтые рассказы
Неделя у тетушки Доры
Ах, какие удивительные ночи! Только мама моя в грусти и в тревоге: – Что же ты гуляешь, мой сыночек, Одинокий, одинокий? Из конца в конец апреля путь держу я. Стали звёзды и круглее, и добрее. – Мама, мама, это я дежурю, Я – дежурный по апрелю! Б. ОкуджаваНеплохо было бы написать рассказ о тетушке Доре, мадонне со Старо-Невского. Но этот рассказ не о ней.
День первый
Борис вернулся из колхоза, заскочил домой на Литейный, оставил «колхозную» одежду – кирзовые сапоги, портянки, давно потерявшие вид штаны для грязной работы, свитер, ватник, переоделся в «цивильное» и направился к тетушке Доре на Старо-Невский проспект.
По пути зашел в парикмахерскую на Литейном, недалеко от Белинского. Волосы проредите, пожалуйста (волосы у него были жесткие и густые, без прореживания торчали колом). Полубокс, виски – прямые, короткие, с боков – покороче, наверху пусть будут длиннее, но только не кок, пусть будет плоский срез. Одеколоном не надо, терпеть не могу. В целом получилось неплохо, но дороговато – истратил почти полтинник (копеек, конечно).
Родители отдыхали в литовском Бирштонасе. Все совпало. Мать с отцом приедут через неделю, занятия в институте начнутся через неделю. И колхозная баталия завершилась, из города приехал какой-то серенький дядечка, партийный чин, наверное, собрал старших и объявил: «Всё, студенты, заканчивайте, по домам».
Вообще-то, ожидалось что-то в этом роде. В деканате перед отъездом сказали – в колхозе будете четыре недели, хорошенько поднажмёте – вернетесь через три. Хорошо работали – плохо ли, кто знает, факт тот… Неделя свободная. Делай, что хочешь. Даже не неделя. Сегодня – суббота. В институт – через понедельник, значит неделя и два дня.
Конечно, Борису уже месяц как 17, мог бы пожить в их с родителями комнате, в уютной небольшой коммуналке на Литейном. Но матушка его рассудила по-другому. Если вернется раньше, пусть идет на Старо-Невский. Целую неделю где-то ведь надо питаться, не в ресторане же, нет таких денег у скромных служащих, а Дора – как-никак ее родная сестра. Хоть и в коммуналке живет, а есть у нее диванчик в маленькой отгороженной комнатке. Пусть и поживет у Дорочки неделю. Тем более, что в эвакуации Голубевы жили одной семьей: три сестры с детьми и брат. Бобонька рос у них на глазах. Боб не сопротивлялся, готовить самому – сомнительное удовольствие. К тому же денег у него – кот наплакал, лучше истратить их не на продукты, а на культурный, так сказать, досуг.
Что за странное имя Дора? Видно его дед с бабкой были большими оригиналами. Бабушку Боб не помнил – скончалась в войну, когда он был совсем маленьким, а дед покинул сей бренный мир до его, Бобиного, рождения. Детям дали нормальные имена. Его матушка – Вера, младшая тетка – Галя, дядя – Леонид. Но это случилось потом. Старшенькую, первенькую, окрестили Доротеей – с какого перепугу? Крестить, правда, не крестили. Не было в их семье верующих. Но имя дали заморское. Вот и получилась тетушка Дора. Могла быть Ритой в быту, но стала Дорой, видимо, чтобы хорошая детская считалочка получилась:
«Дора, Дора, помидора, мы в саду поймали вора, стали думать и гадать, как бы вора наказать… кто не спрятался я не виноват!».
Чехарда с именами на этом не закончилась. Начиналось все буднично: мать вышла замуж за Николая, Бориного отца, Леонид женился на кузине Лёле. А вот Доротея в юные годы отчебучила – вышла замуж за Абрама Самойловича, дядю Абрашу, человека скромного, симпатичного, кругленького, породнились, так сказать, с народом Книги. Над ним многие подшучивали, он в ответ только улыбался – добродушно и застенчиво. Но именно он и помог большой семье Голубевых перебраться с Украины в Ленинград. Это до войны еще было.
А вот младшая Галя, самая хорошенькая из сестер, вообще всех поразила. Вышла замуж за Арончика из Ростова. «Но тут Арончик пригласил ее на танец. Он был тогда для нас почти что иностранец». Влюбилась без памяти. Или за Арончика, или отравлюсь.
Вы бы видели этого Арончика. Высокий, костистый, жилистый, с огромными сильными руками. Лицо худое, щеки запавшие, огромный шнобель с подвешенным к нему маленьким ротиком, расположенным в глубокой ложбине между носом и выдающимся вперед подбородком, и с маленькими усиками, а-ля Адольф. Из-под лохматых бровей остро смотрят небольшие ястребиные глаза. «Мачо», как теперь говорят. К тому же «ходок». Случались и запои. Сколько раз он не ночевал дома. Сколько раз во время его «загулов» Боря встречал Арончика с незнакомыми, совсем молоденькими женщинами, встречал и с соседкой по даче Лялей, на двадцать с лишним младше его, стройной резвушкой-веселушкой, женой Арончикова приятеля, Сенечки Пивоварова. Галя рыдала, билась в истерике. А когда Арончик возвращался, или его находили в полубесчувственном состоянии и приводили домой Вера с Николаем, родители Боба, все мужу прощала и быстро забывала о своих обидах и страданиях.
У дяди Лени с Лелей детей вообще не было, а вот у Доры с Галей детки, двоюродные сестры Боба, получились, как это ни прискорбно, не очень. Так что опыт со смешением кровей не дал позитивных результатов.
Старшая – Лариска, тетушки Доры дочь, ничего не взяла из внешности своей мамы, ни лицом, ни фигурой не напоминала грустную, с тонкими чертами смуглого лица, отрешенную от мира, чуть сутуловатую мадонну со Старо-Невского, тетушку Дору.
Другая сестричка Светлана, Галина дочь, взяла от матушки оленьи глаза, длинные ноги, Света стала отменной барьеристкой, и, увы, плохую осанку и сутулую спину. Зато папочка одарил ее своим тяжелым шнобелем и маленьким ротиком. Одна сестра была старше Боба на три, другая – на шесть лет.
Бобу повезло больше. И с родителями, как ему казалось, и с наследственностью. Боб получился высоким, широкоплечим и лицом ничего вышел, в общем и целом – собою недурен. Вытянулся он, правда, и в плечах раздался совсем недавно, поэтому настоящего полноценного тела еще не набрал и напоминал гусенка с длинной вытянутой шеей.
Кусочек лета между школьными выпускными и вступительными экзаменами в институт Боб провел, болтаясь целый день на базе клуба «Энергия», знаменитого гребного клуба, где бывали Шульга и инженер Гарин из Толстовского «Гиперболоида». Прыгал с моста в маленькую речушку Крестовку, катался на фофане и занимался академической греблей. Ему нравился этот интеллигентный и атлетичный вид спорта, и у него неплохо получалось.
До настоящей гоночной лодки типа «скиф» его еще не допускали. Младший юноша (летом ему еще не было семнадцати), он греб в команде на учебных, клинкерных лодках. Его восьмерка добилась успеха – взяла первое место по Ленинграду в своей возрастной категории. Боб надеялся повторить этот успех через год, но уже на «скифе», среди «настоящих» юношей.
Боб был сильный, жилистый и упрямый. Ему очень хотелось выиграть маленькое внутриклубное соревнование по количеству выполненных уголков на шведской стенке. Но не получилось. Обошел Петр, нахрапистый мальчишка на год младше Боба. Тот жульничал: с силой опускал ноги вниз и отталкивался ими от шведской стенки, используя силу удара.
Раздосадованный Боб надеялся взять реванш – стать первым в своей восьмерке по количеству сделанных подряд, без остановки, рывков шестидесятикилограммовой штанги. Тоже мог победить, техника рывка была у него хорошая, но опять не повезло – во время очередного подсаживания под штангу он слишком резко пошел головой вниз и сильно ударился немаленьким своим носом о гриф взлетающей штанги. Конфуз, нос разбит, «рекорд» местного значения не состоялся. Боб старался не унывать – его рекорды еще впереди.
По пути к тетушке Доре он вспоминал колхоз, единственный пока эпизод его взрослой самостоятельной жизни.
1-го сентября Боб пришел на занятия. Впервые после поступления. Новоиспеченных студентов собрали в большом зале и сообщили о выезде в колхоз. Сбор на вокзале. Объяснили, что надо взять с собой. И вот он в деревне с символическим названием Гнилки.
В те годы, которые мы теперь любим ругать и даже проклинать, в Ленинградской области еще во всю возделывали поля. Выращивали картошку, турнепс, морковь.
Студенты реально помогали. Группе, в которую по списку определили Боба, выделили большую пустую хату с отдельным помещением для кухни. Привезли доски, гвозди, дали инструмент. Студенты – какие студенты, они еще и не учились – сами соорудили дощатый помост – общие нары, набили сеном матрасы, получилась общая спальня мальчиков и девочек. Девочки нашли где-то старую занавеску и разделили «спальню» на две половины – женскую и мужскую. Колхозники дали им котлы, огромные кастрюли, дрова для кухни. Нашлись два повара – парень и девушка, которые сами вызвались кашеварить. Еду готовили в этой «посуде» на дровяной печи.
Здесь Боб впервые познакомился с соучениками. Выпускники разных школ, не только ленинградских. Были приезжие из Киева, из Белоруссии, из других российских городов. Были два человека постарше. После армии. Один из них, Валера Бродский, стал бригадиром. Решал все вопросы с колхозниками – еда, работа, нормативы, транспорт, чтобы подкинуть студентов на дальние поля. Колоритная личность. Ходил в подтяжках на голом атлетическом торсе, вызывая вздохи молоденьких, неопытных, совсем еще домашних девчонок. Однажды Валера увидел полуобнаженного Бориса, когда тот переодевался. Присвистнул, искренне удивился: «Боба, где ты взял такие накачанные ноги?».
Боб вообще был не слабого десятка, его внешность смешного гусенка была обманчивой. К дому, где разместились студенты, подъехал грузовик. Не совсем к дому: дом и дорогу разделяло небольшое картофельное поле. «Эй, студяги, живо кто-нибудь, хлеб привезли. Да живее, некогда вас дожидаться!» Боб – бегом через поле. Мужички предвкушают удовольствие: «Давай, давай, ближе, подставляй спину, доходяга!». Сверху из кузова прямо на плечи кладут, да что там кладут – почти бросают, семидесяти пяти килограммовый мешок с хлебом. Боб закачался от неожиданности. Общий хохот: «Смотри, смотри – сейчас упадет!». Боб нашел равновесие, шаг, другой, и прыжками, на полусогнутых побежал с мешком через ряды картофельного поля. «Кузнечик длинноногий, поскакал-таки…» – немного разочарованно сказал кто-то вслед.
Был у них еще один «переросток». Член партии. Тот вообще редко появлялся. Жил где-то в другом месте, чем занимался – неясно. На поля приходил с начальством. Однокурсников презирал и не скрывал этого: «Все у вас не как у людей». Забегая вперед, скажу, что «переросток», хоть и считался полным дубом и с трудом окончил институт, в дальнейшем имел шикарный карьерный рост и скоро стал генеральным директором крупного научно-производственного объединения. У него-то уж все было точно, как надо, «как у людей».
Для Боба это были первые жизненные впечатления, впечатления «взрослой» жизни. Он собственными глазами увидел, что не так все хорошо на сельских полях – и бедность, и разруха, и гнилье, и колхозники, которые ничего не хотят делать, и алкоголики, готовые «квасить» дни напролет, с утра и до утра.
Но ведь они, неоперившиеся птенцы града Петрова и колыбели революции одновременно, сами уже решали многие проблемы. Не хватало еды – пошли в лес, набрали грибов – Боб неплохо ориентировался в северных лесах и знал его дары, не он один, кстати, – сварили с картошкой в огромной кастрюле на костре. Девочка из их группы заблудилась в лесу. Всю ночь ее искали, сами, без помощи колхозников, нашли под утро продрогшую, до смерти напуганную, можно сказать – спасли. Выполнили свою норму по сбору овощей. Денег заработали. Бобу, например, причиталась зарплата 13 рублей 23 копейки. Сказали, что выдадут в кассе института.
Боб подумал: надо бы придумать и отработать подпись. В школе он просто писал – Романов – обычными буквами. Такую фамилию в семью принес его отец. Не самая лучшая фамилия для советского выдвиженца тридцатых годов, а отец был именно таким. Сегодня, когда Боб заскакивал на Литейный переодеться, попробовал разные варианты подписи. Буква «Р» в рукописном виде напоминала собачью головку с опущенными ушами и вплотную соединенными передними лапами. Дальше шел длинный зигзаг. Боб закончил зигзаг закорючкой вверх, получилась собака с поднятым хвостом. Отец загибает подпись кружком вниз. Получается собака, которая как бы прилегла. «Пусть подпись будет как у отца, – решил Боб, – пока, а дальше видно будет».
Вот обо всем этом думал юноша, направляя свои шаги к дому тетушки Доры.
Дорочка со своей семьей жила в громадной коммунальной квартире. Сколько там размещалось жильцов и комнат – неизвестно. Комнат – точно больше десяти.
Тетушка показала, где туалет, где ванная. В ванной на стенах установлены крючки, на которых висело два десятка личных полотенец. Вот здесь твое полотенце. Сюда можно поставить зубную щетку, зубной порошок (зубная паста тогда еще была неизвестна советскому обывателю). Здесь наше мыло.
Сама чугунная ванна, огромная, видимо дореволюционная, возможно, когда-то, еще при первых хозяевах этой квартиры представляла собой образец недостижимого шика и предмет зависти многих соседей. Сейчас она превратилась в устрашающее сооружение, все в ржавых потеках, отмыть которые добела уже совершенно немыслимо, края оббиты, керамика ободрана до черноты.
«Да, – подумал Боб, – бедная тетушка Дора. Я здесь мыться точно не буду, схожу на Литейный».
На Литейный сходить не пришлось. Не успел Боб отобедать у тетушки Доры, пришел Арон (для Боба – дядя Арон). Мама Вера, она считалась неформальным лидером их большой семьи, поручила всем приглядывать за Бобом.
Дядя сказал: «Куда намылился, на Литейный? После колхоза надо хорошенько помыться. Никаких разговоров, собирайся, пойдем в Некрасовские бани».
Почему бани назывались Некрасовскими – может потому, что он, Некрасов, жил в свое время недалеко – угол Литейного и Некрасова, тогда Бассейной улицы. Известная улица! «Вот какой рассеянный с улицы Бассейной! Вместо шапки на ходу он надел сковороду…»
Помыться, конечно, надо бы. Почти три недели в колхозе мыться всерьез было негде, студентам баню ни разу так и не предложили, а общая баня – только в районном центре. Мылись кое-как, местами, часто холодной водой, поливали друг другу из кружки, плюс ноги, плюс еще кое-что, плюс… что было делать? Боб раньше никогда еще не бывал в бане. В их семье в баню не ходили, сколько он себя помнил – всегда дома были хорошие условия для мытья. Разве что отец на фронте…
Ладно, пойдем в баню, тоже новые взрослые впечатления. Первое, что поразило – дяди-Ароновы подштанники. Полотняные, с завязками на поясе и на щиколотках. Такого фасона подштанники он видел в фильмах о гражданской войне.
В бане Бобу не понравилось. Все сидели с тазами и мылись на каменных скамейках. Скамейку обдавали кипятком. «Наверное, чтобы не заразиться друг от друга», – подумал Боб. После мытья из оцинкованной шайки Арончик уложил Боба на мокрую, противную скамью. Жесткими, как тиски, руками мял ему ноги, запястья, потом выбивал барабанную дробь на спине и груди ребрами ладоней. Неприятно, даже больно, и самое главное – непонятно зачем.
Боб впервые пошел в парную. Тоже хорошего мало: пар, ничего не видно, дыхание перехватывает, лицо печет, уши от жары заворачиваются трубочкой. Он вспомнил, что такие скрученные уши обычно бывают у борцов; в баню, наверное, любят ходить, подумал он и решил, что ему это совсем не нужно.
Из бани двинулись с дядюшкой опять на Старо-Невский. Там сегодня большой сбор – отложенный день рождения тетушки Гали. Тоже не открутишься. Долгожданная взрослая самостоятельная жизнь никак не начиналась.
Родственники и друзья собирались у Доры – у нее больше места. Пришли дяди и тети с женами, мужьями и детьми. Пришли старые друзья семьи, кто сотрудники, кто бывшие соученики, кто что… Мария Николаевна – подруга мамы Бориса. В прошлом чемпион СССР по академической гребле, мастер спорта. Она и направила Боба в восьмом классе в клуб «Энергия» тренироваться у своей приятельницы. Маргарита Алексеевна – тоже подруга Веры, дама, знавшая лучшие времена, видимо, из бывших. Пришла и соученица тетушки Гали по техникуму, когда-то очень хорошенькая, все звали ее Бебой-куколкой, со своим мужем Яковом Григорьевичем, маленьким атлетом, когда-то школьным учителем физкультуры, теперь – толковым инженером со своим собственным взглядом на все жизненные явления.
Не скажу, что Боб прыгал от восторга. Для него такие мероприятия – мука мученическая. «Завязка ведь – сказка. Развязка – страданье. Но думать всё время о том неустанно не стоит, быть может. Зачем? До свиданья. Мы только знакомы. Как странно…» Первый день взрослой, самостоятельной жизни не очень получался. Настроение было скверное. Но Бобу надо постараться, надо выглядеть приветливым – его любимая матушка считает, что важные семейные торжества просто необходимо отмечать в кругу самых близких родственников. Да и куда теперь ему, Бобу, податься?
Вначале поздравляли тетушку Галю, вручали ей подарки. Потом говорили о том, о сем. Яков Григорьевич, крепкий, неглупый, очень уверенный в себе человек, как всегда, оказался в центре внимания. Много говорил о решениях последнего партсъезда, о мероприятиях по резкому подъему легкой промышленности и сельского хозяйства. Он вещал, что все это безобразие, все вранье. Что ОНИ живут в Кремле, а на людей ИМ плевать. Из-за этого страна нищает, народ спивается, и экономика катится вниз.
Доротея и Леонид, казалось, были бесконечно далеки от всякой конкретики. Как два ангела с добрыми лицами – все терпеливо выслушивали, но жили в совершенно другом, непонятном нам мире. Абрам Самойлович интересовался только работой, а Арончика, помимо работы, интересовало, видимо, что-то еще, связанное с жизнью прекрасной половины человечества, но об этом он не говорил, а только старательно налегал на водку. Марию Николаевну тоже совершенно не волновали решения партсъезда. А Маргарита Алексеевна, конечно, могла бы многое сказать о том, что происходит в нашей стране, и так сказать, что никому мало бы не показалось, но демонстративное молчание и игнорирование обсуждений политики было для нее, видимо, давно решенным вопросом.
Боб сидел и слушал. Главное, о чем он сейчас думал: теперь он – взрослый, самостоятельный человек. И имеет свое собственное мнение о жизни в деревне. И об этом он знает, конечно, лучше всех присутствующих.
Боб попытался объяснить, как там, в деревне на самом деле, ведь он все знает. И про решения партсъезда он может объяснить лучше. Но почему-то никто его не слушал. А весьма симпатичный ему Яков Григорьевич, дядя Яша, как его Боб называл, совершенно не обращал внимания на то, что Боб уже не ребенок и имеет собственное мнение.
Если бы здесь были его родители! Мать, безусловный авторитет «большой семьи», сказала бы: «Бебочка, объясни своему Яше: хватит без конца брюзжать. Мы давно знаем его мнение: что бы ни случилось, что бы ни произошло, все равно – в нашей стране было, есть и будет плохо». А отец Боба, Николай, член партии ленинского призыва, добавил бы миролюбиво: «Ну ладно, Яков, ты неправ. Ты недооцениваешь реальных достижений развито́го социализма». Почему «развитого», а не звитого»? Они бы так сказали. Но их не было, а его, Боба, никто не слушал. «Ладно, – подумал он. – Очень хорошо, что я уже немного знаком с жизнью нашей деревни. Взрослый человек должен знать свою страну». Он, Боб, действительно начал взрослую жизнь. И завтра, он уверен, его ждет много нового и интересного, такого, что с ним раньше еще не случалось.
Но вечер еще не закончился, и Боба ждал новый неожиданный поворот. Тетушка Галя попросила тишины и объявила, что они, то есть мы, не отмечали день рождения Бобы, потому что этот день пришелся на самый разгар вступительных экзаменов, а потом Боренька уехал в колхоз, и вот сейчас мы, наконец, все вместе, и решили отметить и его, Боренькин, день рождения.
Все поздравляли Боба и церемонно вручали подарки. Родители внушали Бобу, что родственников полагается уважать и необходимо, соблюдая приличия и вежливость, усердно восторгаться подарками – великолепными шелковыми майками, очаровательными рисунками-карикатурами Ленгрена и чудесными виниловыми пластинками с музыкой из советских кинофильмов. Боб изрядно устал от всего этого, но решил, что еще немного продержится, а когда вручение закончится, он воспользуется своей новой привилегией взрослого человека – выпьет водки, а потом ему станет легче.
Но дядья с тетками оказались выносливее, они продолжали восхищаться подарками Боба и захотели ко всему прочему послушать пластинки. Разве мало того, что мы прочли названия? Ну, прослушивать, так прослушивать. Все-таки это лучше, чем мерить майки. Послушаем пока пластиночки, а потом, если кто-нибудь и вспомнит о майках, – будет уже поздно: ведь дяди и тети позже одиннадцати в гостях не задерживаются. Не успел еще раздаться из проигрывателя сладкий женский бас, как тетушка Галя, десятипудовый автор подарка, воскликнула с энтузиазмом: «Чудесно поет!»; все убедились в своем единодушии, мгновенно забыли о пластинке и стали внимать тети-Галиному рассказу о том, как она покупала эти пластинки, забыла дома очки и как она просила продавщицу выбрать что-нибудь самое лучшее и как та ее не обманула.
Боб перестал быть центром всеобщего внимания и хотел потихоньку выключить эту сладкую тянучку, тем более, что шуму кругом и так хватало. Он, однако, поторопился, внимательные родственники вовремя заметили его маневр и ласково заявили: «Мы хотим еще послушать». Пластинка крутилась и крутилась, казалось, что она будет играть вечно.
В конце концов, все устали от шума. К тому же на столе аппетитно желтела севрюга, и тогда тетушка Галя авторитетно заявила «все-таки сволочи эти продавщицы». Проигрыватель выключили и стали рассаживаться за столом и слушать, как тетушка Галя покупала эти пластинки, как она забыла дома очки и как она попросила продавщицу выбрать что-нибудь самое лучшее и как та ее, как выяснилось, все-таки обманула.
Потом шли традиционные тосты и не менее традиционные препирательства тетушки Гали с дядюшкой Ароном о том, какую рюмку он выпил и сколько ему положено. Всех это нервировало, кроме Боба, потому что его, наконец, оставили в покое, и он тихонько развлекался бельгийской водкой. В сравнении с тем пойлом, что он вместе с коллегами уже «дегустировал» в колхозе… Водка была хорошей, и настроение Боба неуклонно повышалось. Так что к приходу кузины Светланы (той, что со шнобелем), которая задержалась на какой-то туристской тусовке, он был готов к новым испытаниям.
Света – добрая, неплохая… Но как же ей хотелось выйти замуж. Хорошая семья, девушка чиста и непридирчива. Ее устроил бы любой порядочный мужчина от 18 до 40. Мужчины почему-то не ловились на эту простенькую удочку. Сколько-то лет она просидела у окошка в ожидании принца с розовыми парусами, до тех пор, пока не изобрела более перспективный способ общения с молодежью от 18 до 40 через посредство недорогих туристических путевок по достопримечательным местам Крыма и Кавказа. После поездок образовывались устойчивые компании, которые не распадались, по меньшей мере, в течение двух недель.
Три таких «похода» не принесли желаемых женихов. Но Светлана оказалась упорной в своих поисках туристического счастья. Вот и сейчас она вернулась из очередной поездки, а в данный момент – с отвальной. И заскочила поздравить любимого братца, поскольку матушку она уже поздравила дома несколько дней назад.
Не успев еще полностью раскрыть дверь, Света окатила Боба потоком бурных поцелуев, которые он воспринял как град мокрых резиновых пулек пулемета среднего калибра, но, естественно, со всей стойкостью настоящего мужчины. Он понял, что на этот раз кузина хватила лишнего. Видимо, флирт в компании «со-путевочников» распалил ее настолько, что она решила не успокаиваться на достигнутом и выпила за здоровье братца рюмочку водки, потом другую, а ведь до этого, судя по всему, было уже выпито немало. Дряблые щечки ее порозовели, набрякли, глазки заплыли, и завершилось все это, увы, весьма печально. Как раз в тот самый момент, когда все было уже кончено, когда все единодушно решили, что пора уже трогаться, наша милая Светлана рванула с места гораздо резвее, чем полагается в таких случаях. Уподоблю ее великолепному спринтеру – она взяла старт и помчалась из комнаты по длинному коридору, логично завершающемуся уборной, высоко вскидывая длинные тренированные ноги и неся во рту перед собой пенящийся фонтан зловонной жидкости, заливая ее бешеными потоками все окружающее.
После этого о пластинках никто уже не вспоминал, гости быстро собрались и тихо ушли. Уборкой столь приятно пахнущего беспорядка, в которой Боб, конечно, принял участие, и закончился этот очаровательный вечер, заложивший счастливые предпосылки следующего, второго дня взрослой самостоятельной жизни Боба.
– Нет, так, как они, я точно жить не буду. Моя жизнь будет возвышенней, тоньше и уж конечно, интеллектуальней, – твердо решил Боб, прежде чем отойти ко сну на выделенном диванчике в маленькой, холодной комнате с огромным, старинным окном на Невский проспект. Перекошенная рама заваливалась набок, от окна дуло, одеяло досталось ему ветхое и совсем тонкое, и спать было холодно.
День второй
Утром Боб прошел в общую ванную комнату. Побрился станком, который дал ему отец. Он уже второй год бреется. У Боба смуглое, узкое, худощавое лицо, высокая плотная прическа и длинная шея. Все очень удлиненное. Но широкие плечи и тонкая талия. Ну, что-ж, у него такой стиль. «Вылитый Джордж Чакирис», – с удовлетворением отметил он. Чакирис исполнял в фильме «Вест Сайд стори» роль Бернардо, главаря банды «Акул», и получил Оскара за лучшую мужскую роль второго плана. Фильма Боб не видел, но листал у друзей изданный сценарий с цветными фотографиями. Боб надел черный шерстяной свитер аж 52 размера. Матушка здорово ушила бока, и свитер не болтался. Парнишка – хоть и худой, но замухрышкой не выглядит. Вполне может сойти за юношу 23-24 лет. «Лицо, пожалуй, немного детское, – думал он, – но есть ведь и взрослые люди с таким типом лица».
Первый день прошел не очень интересно. Но сегодня Боб свободен. Он встретит женщину, которую полюбит всеми фибрами своей души, которой отдаст без остатка нерастраченные чувства, которая… Лучше надеть новый костюм, это будет солидней. Костюм, рубашка, галстук, осмотрел себя в зеркале – в рубашке с галстуком шея кажется еще тоньше, тем не менее… Боб посчитал, что все у него хорошо. Когда он встретит ее…
Боб, конечно, представлял, что есть сексуальная сторона жизни человека. Но личного опыта у него пока не было. Боба это не беспокоило – «будет день, будет пища». Когда он учился в школе, многие ребята и девочки были уже во всю озабочены, как бы поскорее включиться в этот новый мир взрослой жизни. Кто-то чуть-чуть. Кто-то тайно вздыхал. Кто-то уже не стеснялся говорить о своей любви, пусть и платонической. Вадик Лапинский, например, не скрывал, что влюблен в первую красавицу класса Верочку Бронштейн. Она разрешала Вадику обожать ее и провожать домой. Но сама вздыхала о другом мальчике из соседнего класса, который серьезно занимался гимнастикой, выступал с акробатическими номерами на школьных вечерах, он выступал, а Верочка с горящими глазами шептала: «Ах, какая фигура!».
У кого-то дела в подобных вопросах шли немного дальше. Первый ученик класса, Бобин друг и сосед по парте Вовка Ламм практиковал выезды на велосипедах за город с одной довольно мясистой барышней из их класса, тоже отличницей, где у них «было такое…». После этого «такое…» Вовка замолкал и сглатывал слюну.
Во время уроков труда девочек и мальчиков разводили по разным классам… Учитель Иван Никанорович Кирпичев, очень симпатичный дядька с красным лицом, полудремал за столом после только что принятой в учительской рюмки водки и, конечно, ленился ходить и смотреть, чем занимаются его ученики. А ученики – кто что, некоторые без стеснения занимались мастурбацией.
Боб не знал, как к этому относиться. Когда это касалось Шушарина, серого, тупого, нагловатого увальня, – здесь все ясно, Боб это осуждал. А когда такими играми занимался сидящий рядом с ним круглый отличник, будущий золотой медалист Вовка Ламм – уже тогда все точно знали, что он будущий золотой медалист – «видимо, в некоторых случаях это необходимо», – думал Боб, но интереса к этому занятию у него все-таки не возникло.
Некоторые «дети» его выпуска шли дальше. Однажды после уроков Боб заглянул в свободный класс и обнаружил там пышную, розово-белую, бестолковую Нинку из 10 «А», лежащую на столе, раскинув ноги, и пристроившегося к ней Витьку Урюпина. «Закрой дверь, балбес!» – рявкнул тот и продолжил начатое дело. В другой раз Боб еще раз лицезрел подобную сцену с Нинкой, на месте Витьки оказался Алик Кречетов. После этого случая Алик почему-то ходил и оправдывался, жаловался, что он не хотел, а эта подлая Нинка его соблазнила.
Случались и другие, широко обсуждаемые школьной общественностью эпизоды. Роль героя-любовника исполнял, как всегда, Витька Урюпин – злобный, физически очень сильный переросток. Он был хорошим спортсменом, занимался легкоатлетическим десятиборьем. И связываться с ним не решился бы даже Владик Михеев, самый крепкий мальчишка их класса, который лучше всех в школе боролся на руках, теперь это называется армрестлингом. Витька Урюпин чувствовал себя в школе, как теперь сказали бы, альфа-самцом. Круглый отличник Вовка Ламм восхищался Витькой и, возможно, в чем-то старался ему подражать.
Несколько раз независимого и упрямого в своих животных порывах Витьку вызывали на педсовет за то, что он целовался и щупал девочек в скверике прямо под окнами директорского кабинета.
Говорили, что какая-то девочка не из их школы понесла от него. Но это точно неизвестно. А вот, что точно известно – прехорошенькая Томочка из Бобиного класса к выпускным экзаменам подходила с изрядным пузиком, от коего успешно разрешилась, имея уже на руках диплом об окончании средней школы. Аттестованная, так сказать, на зрелость, мамаша. Правда, говорят, виновником в данном случае оказался не вездесущий Урюпин, а неизвестный соседский мальчишка из ее коммуналки.
Судьба всех этих героев школьных романов и любовных похождений совсем не привлекала Боба. Он видел это все совсем по-другому. Одно время в 8-ом классе ему нравилась Лиля Лопаткина. Она тоже в какой-то степени обращала на Боба внимание, особенно когда он две недели ходил с романтически забинтованным лбом, рассеченным о железный косяк во время бестолковой возни на перемене. «Бобу наложили три шва», – шепотом передавали друг другу девчонки, и глаза их расширялись от ужаса. Дальше застенчивых переглядываний дело не пошло – Лиля перешла в другую школу.
Боба заглядывался и на Нюру Ишкинину. Девочка совсем ему не нравилась, но он никак не мог оторваться от двух задорных холмиков, беззастенчиво выпирающих из-под ее стандартной черно-коричневой школьной формы.
За полгода до окончания школы ему стала нравиться Люся из девятого, двоюродная сестра Лили. У них было, что обсуждать. В течение нескольких лет Боб выпускал Окна Сатиры (ОСА). Помещал там рукописные заметки и карикатуры на заметные события в школе. ОСА вызывала бурный общественный резонанс среди учащихся старших классов. Боб стал отходить от «дел» в связи с подготовкой к выпускным. Люся захотела подхватить «знамя из рук уходящего бойца», продолжить, так сказать, дело Боба.
Люся была живая и довольно хорошенькая. Они с Бобом не раз говорили о том, как вести дела Окон Сатиры, и Люся при этом выписывала глазами классический треугольник «в-угол-на-нос-на-предмет». Витька Урюпин не терпел, если кто-то, кроме него, заигрывал с хорошенькими девушками, он подошел к «парочке» и без объявления войны саданул Бобу ботинком между ног. Было очень больно, Люся испуганно убежала, а Витька, как ни в чем не бывало, вернулся к группе приближенных к вожаку стада. Вполне удовлетворенный тем, насколько умело он все поставил на свои места.
Боб праздновал труса, не решился на продолжение конфликта. Очень себя корил за это. И, в конце концов, сумел настроиться на столкновение, даже на «битву» с более сильным противником. Правда, случай проявить свой характер произошел не с Витькой, а с второгодником Колей Морозовым, старше его на два года и вдвое шире в плечах. Коля удивился тому, что доходяга Боб, длинный и худой, ему бы только в учебники пялиться, не согласился отдать ему свой баскетбольный мяч и тут же отобрал его назад. Неожиданный для Николая поворот событий, драться он не стал и без боя уступил. Может, потому, что был неправ? Вряд ли. Боб в какой-то степени реабилитировался перед самим собой, но к Люсе больше не подходил, считал, что опозорен в ее глазах навечно.
В общем, Боб никак не включался в спонтанные вихри любовной круговерти школьников, и за это самый близкий друг Боба, отличник Вовка Ламм, откровенно презирал его. Боб не особенно расстраивался. Он не сомневался, что его собственные представления об отношениях с прекрасным полом гораздо выше, глубже и благородней. И не считал себя начисто обделенным женским вниманием. Был уверен, что все эти девушки – Лиля, Люся и даже Нюра Ишкинина, все до единой, хотели бы уединиться с ним, Бобом, в укромном месте и, в конце концов, заманить его в свои объятия.
Когда этим летом он встретил Арончика с Лялей, тридцатипятилетней соседкой по даче, та восхитилась, как Боб вырос и возмужал – она не видела его около года. «Ты бреешься уже, настоящим мужчиной стал». Спросила его об окончании школы и ласково потрепала по щеке. «Конечно, она не прочь затащить меня в постель, – подумал Боб. – Зачем ей мой старый дядька, ровесник ее Сенечки Пивоварова?».
«Да, так или иначе, багаж воспоминаний о личной жизни невелик у меня, – думал Боб. – Ты, Боб, теперь взрослый и пора уже тебе обзавестись подругой. Это должна быть необычная женщина, которой можно будет отдать всю душу, все сердце, все нерастраченные по пустякам силы и чувства».
Так думал Боб о новом для него этапе жизни, прогуливаясь по центру Ленинграда в новом костюме и рубашке (слишком большого для его шеи размера) с галстуком. Он нашел на Петроградской интересный японский магазин. Там выставлялись невиданные предметы, сделанные из древесины неизвестной породы, из картона, металлические финтифлюшки и керамика, неизвестно для чего предназначенные. И картины. На бумаге – написаны тушью и акварелью. У магазина была стеклянная витрина во всю стену. Внутри, как раз напротив витрины, разместили огромное панно. В центре – на фоне очень большого солнца и голубого неба летел журавль. Летел эффектно – над извилистыми остроконечными горами, поросшими кудрявым лесом, над пагодами с изогнутыми крышами, над водопадами, мостами и грустными фигурками японских крестьян, видимо, нещадно эксплуатируемых в этой капиталистической стране. Брали бы пример с коммунистического Китая. С одной стороны, эта картина вызывала праведный гнев каждого настоящего интернационалиста, с другой – нет, как же эффектно написано! Скорее грусть, а не гнев.
Боб чувствовал себя очень взрослым и интересным. И даже значительным. У него за плечами не только микроскопический кусочек взрослой жизни длиной в один день, не только знание советской деревни. Он ведь и раньше делал многое такое, чем вполне можно гордиться.
Чемпион Ленинграда – раз! Выпускал стенд ОСА, делал великолепные карикатуры и писал ядовитые подписи под ними. Участвовал в школьных вечерах, читал звонкие патриотические стихи. «И вот сейчас Василий Диев с бойцами смертный примет бой. Он вместе с ними, впереди них перед грохочущей судьбой». Или вот это: «И с ними вместе верный друг, с гранатой руку он заносит – Клочков Василий, политрук. Он был в бою – в своей стихии… Нам – старший брат, врагу – гроза. «Он дие, дие, вечно дие», – боец-украинец сказал». А вот это лучшее: «Над Ленинградом – смертная угроза… Бессонны ночи, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой». Вел концерты. Он – безусловно, художественная натура. Выступает перед людьми, пишет, рисует. Участвовал в районных математических олимпиадах. В одной из них победил. Правда, это было в восьмом классе. Но все знают: задачи он щелкает как орешки.
Это признает даже Вовка Ламм, не говоря уже об их любимом учителе математике, добрейшем Венечке Блаере. Он, Боб, конечно, творческая личность. И ему откроются огромные перспективы во всех сферах.
Было воскресенье. Боб решил взять билет на дневной спектакль «Трубадур и его друзья» театра Ленсовета. В кассе очередь.
Вышел молодой разбитной актер и эпатажно обратился к очереди: «Граждане, вот чего вы все здесь выстроились? Очень хотите Алису посмотреть? Во-первых, она в этом спектакле не играет, во-вторых, вы посмотрите какая она страшная, просто уродина». Заядлые театралы, стоящие в очереди, возмутились, зашикали. Вы что себе позволяете? Алиса – во-первых, талант, во-вторых – настоящая красавица, какие глаза, а стройненькая – просто статуэтка, и так далее, и так далее. Актер тут же удалился, очень довольный произведенным эффектом.
Боб хорошо знал эту популярную актрису. Видел ее раньше в одном спектакле. Обратил внимание, что у нее неправильный прикус и челюсть заметно выдвинута вперед. В этом же спектакле на сцене появлялся еще один актер с аналогичным дефектом прикуса. Он точно не помнил его имени, кажется, Гриша Константинов. Во время спектакля они с Алисой развлекались, украдкой показывая прямо на сцене по очереди друг другу выдвинутую вперед нижнюю челюсть, забавно дразнили друг друга, и Боб успел это заметить. Ему понравилась и сама Алиса, и как она шутила с коллегой по цеху, Боб вообще ценил шутку. Но это все случилось до этого, в другой раз.
Спектакль «Трубадур…» не очень заинтересовал Боба, но он обратил внимание на молодую актрису, играющую роль принцессы. В программке вычитал ее имя – Лилия Лиллиан. Ее звали так же, как и прежнюю симпатию Боба, Лилю Лопаткину. И они были очень похожи. Боба поразила ее женственность, нежность и некоторая застенчивость. Ну и, конечно, Лиля была очень хорошенькой девушкой.
После спектакля Боб долго бродил по городу и на набережной Фонтанки неожиданно встретил Лилю. Она стояла у металлической решетки и беседовала с симпатичным, «немного усатым» молодым человеком. Случайная встреча еще больше поразила Боба. Он почувствовал непонятное волнение, прилив сил. «Это судьба», – решил он. В его голове возник план.
Побежал к тетушке Доре и, усевшись у окна с видом на Невский, стал писать письмо.
«Дорогая Лиля!
Как это ни предосудительно, но должен сознаться сразу – я не являюсь поклонником Вашего таланта. И вообще не видел вас на сцене. Тем не менее, мне кажется, что я знаю Вас – нас представляли друг другу лет пять назад. Это было на Невском – угол Садовой, и присутствовала при этом одна наша общая знакомая, учившаяся в то время на театроведческом факультете Театрального, сейчас не помню ее фамилию, только имя Таня и внешность – очень худенькая со стрижкой под мальчика. Второй раз я видел Вас у книжного базара, вернее у эстрады на базаре, вы стояли рядом с юношей «в усиках». Лицо Ваше мне показалось очень знакомым, потом я припомнил откуда, а потом подошедший приятель, с которым я поделился своими воспоминаниями, сказал, что он знает, кто Вы, и показал несколько Ваших фотографий в рекламе, наклеенной на круглой афишной будке. Некоторые из этих кадров с Вашим участием, признаться, очень огорчили меня как человека в высшей степени профессионального и пристрастного к каждой неточности и фальши, абсолютно недопустимых в нашей с Вами профессии. И еще надо Вам сказать, хотя мне и не хотелось бы делать этого из ложно понимаемого чувства скромности, я – человек незаурядный и вижу некоторых, а иногда даже многих, как говорится, насквозь – с первого взгляда. Пусть это Вас не обидит, но мне кажется, нечто подобное случилось и с Вами, когда я увидел Вас у ограды Екатерининского садика. Во всяком случае, сердце мое застучало, потому что то, что я увидел у ограды, рядом с молодым человеком «в усиках», было прекрасно. И тогда мое внутреннее «я» упало на колени и сказало наружному «я» очень искренним голосом – за этой девушкой я пойду хоть на край света. А надо Вам сказать сразу, что я – человек решительных действий. И поэтому предлагаю Вам свою руку и сердце, которые, как мне кажется, не такое уж стопроцентное барахло.
Конечно, Вам будет трудно решиться на какой-нибудь смелый, нестандартный поступок, потому что Вы знаете меня, как мне кажется, довольно-таки недостаточно и даже поверхностно. Поэтому я вкратце представлюсь. Романов-Свердлов. Да-да – представитель царского дома Романовых и одновременно потомок славного революционера времен Великой Октябрьской Революции и Гражданской войны. Борис Николаевич, да, да, нет, да, не был, не находился, не привлекался, не состоял, тремя языками, был женат, разведен. В будущем известный драматург. Могу многому научить Вас и оказать неоценимую помощь в освоении Вашего ремесла. Мы с вами обязательно встретимся, если не сейчас, то в будущем, когда мои пьесы будут ставиться во всех театрах страны, а возможно и за рубежом. А так как неизвестно, насколько будут сложны к тому времени обстоятельства нашей личной жизни, было бы неплохо, если бы Вы сочли возможным обсудить со мной в ближайшее время все перечисленные выше вопросы, желательно в утвердительной форме. При этом найти меня можно по телефону… (указал телефон тетушки Доры) или давайте встретимся в среду на Невском у Аэрофлота в 18.00. Если так случится, что Вы придете туда, узнаете меня по грустному выражению лица, которое при вашем появлении мгновенно исчезнет.
При сем, с уважением и любовью»
Ниже Боб нарисовал смешной шарж, как ему казалось, узнаваемый, на самого себя в виде скульптурного льва с шаром и его, Боба, головой.
«P.S. Запишите где-нибудь: «получила письмо от Бориса Николаевича, будущего царя-президента России, с предложением руки и сердца, буду последней дурой, если не воспользуюсь благоприятным случаем»».
Перечитал, остался доволен тем, что получилось, переписал письмо начисто и положил в голубой конверт. В графах конверта «куда» и «кому» указал адрес театра и имя артистки. В графе «обратный адрес» – квартиру на Литейном.
Читатель скажет: «Ваш Боб – стуканутый». Может быть. Скорее – сдвинутый по фазе. Что может означать такое выражение? Если в сети 220 вольт переменного, то можно представить себе, что в разных парах проводов напряжения будут меняться не одновременно – у них будет сдвиг по фазе. В головах людей тоже переменные токи. У большинства людей в житейских ситуациях фазы совпадают, они думает почти одинаково.
А у Боба – сдвиг по фазе. Причем, этот сдвиг произошел не сейчас. Первый раз его стукнуло, когда он получил тройку за сочинение на вступительном. Удивительное дело, Боб писал то же самое сочинение о творчестве Маяковского на выпускном экзамене в школе. Отметка – пять. Память у Боба отменная, он помнил это сочинение наизусть и точно не сделал ни одной ошибки. Тройка! Не отразил в полной мере влияние Маяковского на становление пролетарской диктатуры молодой советской России. Что тут можно возразить? Кто-то, видать, отразил, а Боб – нет, не отразил. И жаловаться некому. А потом, бац, в списке принятых. Еще один удар. Пусть и положительный, а все-таки – удар. Свихнуться можно. Это его так стукануло.
А потом этот сдвиг стал проявляться. Впервые этот его сдвиг проявился в трамвае. В конце августа он хотел попасть на последнюю тренировку перед началом занятий, огромными прыжками догнал трамвай, выписывающий зигзаг между Некрасова и Белинского, и, отодвинув на ходу дверь, вскочил на подножку. Щеки пунцовые, волосы взлохмачены, куртка съехала с плеч.
Кто-то стоял на ступеньку выше, мешая ему подняться. Боб крутанул плечом, подталкивая задумавшегося пассажира, может быть, слишком сильно, тот дернулся, запнулся, чуть не упал, пробормотал: «тоже мне мастер спорта», и вошел все-таки в вагон. «Чего прешь, задница длинноногая, – заорал кондуктор. – Нарушаешь, а платить, кто будет? Сейчас милицию позову!». «Задница», как это оскорбительно! Боб не захотел продолжать интеллигентный разговор в бонтоне (хорошем тоне). Вытащил проездной билет, купленный аж за три рубля, сунул кондуктору прямо в лицо. «Наглец и тупица… Вы даже представить себе не можете, до чего я вас презираю и ненавижу, у Вас-то и вообще задницы нету, не выросла, и не вырастет уже никогда. Если только на лице. Не говоря уже о мозгах». И ушел в сердцах на заднюю площадку.
Боб стал думать о том, как было бы хорошо, если бы в этом городе, на этих улицах, в этом трамвае вообще никого не было. Неожиданно Господь прислушался к его просьбе и удалил всех из города. А весь Невский проспект покрыл тысячами огромных, ржавых ванн, видимо, дореволюционного производства. Вместо общественного транспорта. Так и началась его одинокая жизнь. Ему было сиротливо и неуютно в колхозе, скучно и неинтересно в среде близких родственников. И сейчас Боб тоже чувствовал, что он совсем, совсем один. Ну, что же, такова взрослая жизнь, в которой он может рассчитывать только на свои силы и на самого себя.
Боб сбегал на почту и отправил письмо. Бросил письмо в огромный почтовый ящик посреди почты. В отделе доставки заказной корреспонденции его внимание привлекла девушка в форме почтового работника. Ничего особенного – среднего роста, худенькая, с глубоким вырезом на груди, а вот это, наверное, и привлекло его внимание. Стянутые сзади, черные как смоль волосы, темные горячие глаза, резкие черты лица и яркие от природы губы крупного рта. Казалось, что она бережно несет внутри себя кубок пенящейся чувственности и хочет донести его до чего-то далекого, даже ей неведомого, стараясь не расплескать ни капли.
Боб сделал стойку, подошел к ней: «Посмотрите, пожалуйста, я жду важное заказное письмо… Романов-Свердлов, Старо-Невский (и он указал адрес тетушки Доры)». «Борис Николаевич? Для вас ничего нет, пока ничего», и девушка улыбнулась ему. Над окошком отдела написаны имя и фамилия. Диана, неожиданное имя на почте. Охотница. Что-то в ней есть, черт возьми. А выглядит замухрышкой. Однако, мне не до тебя, подружка, я жду очень серьезное письмо. Я, на самом деле, жду письмо в почтовом ящике, и не здесь, а на Литейном.
Осталось только ждать. Будет каждый день заходить на Литейный и заглядывать в почтовый ящик. Он был уверен – Лиля обязательно позвонит или напишет. И тогда они договорятся о встрече. А может быть, она и придет – в среду, к Аэрофлоту.
Взволнованный и счастливый, Боб пошел бродить по городу. Ему хотелось движения. На душе было светло. Пока все складывалось как нельзя лучше. Конечно, он волновался, как пройдет эта встреча. Он обязательно расскажет Лиличке о том, что его родители хорошо знакомы с французскими писателями-коммунистами Вайяном-Кутюрье и Анри Барбюсом, да-да, тем самым, что написал знаменитую книгу «Иосиф Сталин». А его отец подсказал другу Анри, и тот ввел в книгу некоторые эпизоды из жизни Иосифа Виссарионовича. Расскажет, что сам раньше, когда жил еще в Москве, часто встречался с Константином Симоновым. Гуляет себе по Тверской Константин Симонов. Встречаю его и говорю: «Ну, как живешь, друг Константин?», а он отвечает: «Да ничего, все так как-то, друг Борис».
Боб взял билет в Концертный зал у Финляндского. Было много интересных номеров. Особенно запомнилось одно выступление: популярные песни и песни военных лен исполняла молодая девушка с Украины – стройная блондинка в обтягивающем точеную фигуру платье из люрекса. Голос у нее был сильный и глубокий, не соответствующий ее легкому, юному, «весеннему», как подумал Боб, облику. В программке он нашел ее имя – Жаннетта Ревенко. Тоже несоответствие. Между нежным именем и грубой фамилией. Но гораздо больше ему понравилась аккомпаниатор за фортепиано – Евгения Горбенко, молодая женщина с огромными глазами и грустным лицом.
Интересное сочетание: Жанна Ревенко и Женя Горбенко. Боб смотрел на Женины быстро бегущие по клавиатуре беленькие пальчики и думал, отчего же она так грустна? В антракте он подошел к администратору и спросил: кто эта талантливая пианистка, она тоже с Украины? Нет, она из Ленинграда, работает концертмейстером в оркестре Бадхена.
До самого конца концерта Боб думал о Жене. Какая она необыкновенная, какая у нее тонкая душа, и как она своей глубиной и проникновенностью контрастируют с поверхностной, бравурной и провинциальной Жанной.
Боб совершенно забыл о том, что еще сегодня он мечтал всю свою жизнь посвятить Лиле Лилиан. Он долго ходил по вечернему Ленинграду и предавался романтическим грезам. Поздно вечером вернулся к тетушке Доре, попил чай и всю ночь строчил, исписывал километры бумаги, писал письмо. Долго правил его и, когда добился нужной степени искренности и завершенности, переписал, положил в голубой конверт и отправил его в Концертный зал – Евгении Горбенко. Начиналось оно так.
«Дорогая Евгения!
Я давний поклонник Вашего творчества. И во внешности, и в том, что я мог понять и увидеть во время ваших концертных номеров, именно ваших, потому что вокал Жанны Ревенко только сопровождает Ваше несравненное фортепианное мастерство, меня поразило сочетание в одном человеке черт характера, бесконечно мне далеких и непонятных и одновременно – бесконечно привлекательных, редких и постоянно (почти безуспешно) мной разыскиваемых в жизни. Прошу простить мне эти слова, возможно, я не имею на них права, они могут показаться и бестактными, но, надеюсь, вы посмотрите на них по-другому, и мое письмо Вас не обидит. Не скрою, меня взволновало появление контуров Вашей блестящей ладьи на горизонте легкомысленной и претенциозной бухты, в которой стояла моя дырявая посудина. Если б я знал Вас хоть чуточку больше, Вы даже не представляете, насколько это помогло бы мне в моей довольно сложной и запутанной жизни. Потому что я действительно чувствую в себе силы изменить всю свою жизнь ради Вас.
Каждый раз после Вашего концерта я возвращаюсь домой в приподнятом настроении. Мне нравится вспоминать все мелочи таких вечеров – мое непонятное волнение, внезапно без причины взорвавшееся в шкафу блюдо, поверьте мне, именно так оно и произошло, случайно разбитую чашку с холодным кофе. Сегодня я тоже приходил на Ваш концерт и решил дождаться Вас, когда вечером Вы будете выходить со служебного входа. Вы были с Жанной, я протянул Вам руку и еще ничего не успел сказать. Вы посмотрели на меня, чуть отстранились, лицо Ваше вспыхнуло, глаза потемнели. Тогда и произошло то, что больше всего запомнилось. Я вдруг почувствовал, что вижу не просто Вас, а Вас всю целиком, Ваше женское обаяние, манеру двигаться и держаться, атмосферу, которая Вас окружает, образ жизни, как будто я посмотрел на Вас изнутри и увидел – и страх, и надежду, как будто я увидел все, что было в Вас в эту минуту. На мгновение мне показалось, что я заглянул туда, куда для чужих глаз путь закрыт, и то, что я увидел, или мне показалось, что увидел, поразило меня своей беззащитностью и вызвало чувство щемящей нежности. Я понял: все, что может произойти в следующую минуту, любые слова, поступки – все будет уже хуже. Для меня это было мгновение, о котором я сказал – остановись! И для меня это мгновение остановилось».
Потом он писал:
«Наверное, это непорядочно само по себе, как и то, что я об этом пишу, но так уж вышло – я Вами дышу. И ничего тут уже не поделаешь». И его второе «я» сказало ему, что за этой женщиной оно, то есть второе «я», готово пойти хоть на край света. Потом он представился. Борис Николаевич Романов-Тер-Петросян. Да-да – представитель царского дома Романовых и одновременно потомок славного революционера времен Великой Октябрьской Революции и Гражданской войны, самого легендарного Камо. Написал, что он – будущий светоч математики. Что он по соотношению частот звуков в музыкальных интервалах научился определять выразительность звуков и те чувства, которые они вызывают у людей, то есть научился «измерить алгеброй гармонию». И что он, конечно, может оказать Евгении неоценимую помощь в освоении ее ремесла, помочь достигнуть максимального эффекта при выборе репертуара на строгой математической основе и, естественно, легко достичь вершин славы. И что они, конечно, обязательно встретятся, если не сейчас, то в будущем, когда его будут считать вторым Эйнштейном, а может быть, даже и первым Романовым-Тер-Петросяном. Но лучше бы сейчас, «было бы неплохо, если бы Вы сочли возможным обсудить со мной в ближайшее время все перечисленные выше вопросы, желательно в утвердительной форме». Боб опять дал свой адрес и телефон, а назначать точную дату встречи почему-то не стал. Она позвонит, и мы договоримся, решил он. И завершил письмо: «При сем, с уважением и любовью». Боб долго думал, прежде чем уснуть, представлял свое свидание с Женей Горбенко, о том, как при встрече она грустно опустит глаза, а он расскажет о том, что его родители очень дружили с Шостаковичем. Но потом их разлучила война. Мать была с сестрами в эвакуации, отец воевал и дошел до Берлина, а Шостакович остался в осажденном Ленинграде, написал и исполнил гениальную седьмую (Ленинградскую) симфонию. А после войны они снова встретились и выпили за Победу. Расскажет, что лично хорошо знаком с Мравинским, и когда Мравинский выходит перед концертом приветствовать публику, он, Боб, встает и машет ему рукой, а Мравинский отдельно его приветствует. А однажды даже сказал: «Это исполнение 7-ой симфонии Шостаковича я посвящаю моему лучшему другу Борису Романову-Тер-Петросяну».
День третий
Наутро Боб забежал на почту и бросил письмо. Подошел к Диане, нет ли заказной корреспонденции для него. Она смотрела свою картотеку, а Боб подумал: грудь совсем маленькая, а как выглядит зажигательно. «Нет, для вас опять ничего нет».
Весь этот день Боб ходил по выставкам. Долго бродил по залам Ленинградского отделения Союза художников на Герцена. Ему понравились работы ленинградских мэтров Мыльникова и Загонека. Потом посетил залы корпуса Бенуа Русского музея. Вечером – концерт в Малом зале Филармонии.
Первое отделение – концерт «живого» Шнитке. Автор сам дирижировал при исполнении своих произведений. «Старше меня всего ничего, лет десять, наверное, а уже живой классик», – думал Боб. Музыка понравилась.
Еще до окончания отделения концерта Боб сбегал за цветами, и когда маэстро раскланивался, без стеснения поднялся на сцену и преподнес букет. Когда вручал цветы, шепнул на ухо музыканту: «Альфред, большой вам привет от моего отца Крылова-Романова, да-да, вы не ошиблись, того самого Крылова, который скрыт вместе с двумя другими авторами под апокрифом Кукрыниксы. Он большой поклонник вашего таланта». Музыкант немного опешил, а Боб обернулся в зал и громко произнес хорошо поставленным голосом: «Цветы от Кукрыниксов, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками пером и кистью». Зал разразился овациями. Боб скромно поклонился и спустился со сцены в зал.
В перерыв Боба окружили зрители, в основном – бабушки и студенты. Да-да, как это ни странно, но именно художники открыли музыкальный талант этого человека. Да, мы живем в Москве. Отец очень хотел побывать на концерте любимого композитора. Он считает, что за ним большое будущее. Нет, он не смог приехать. Он сейчас, вместе с Михаилом Куприяновым и Николаем Соколовым на выставке в ГДР. Моего отца зовут Порфирием, я – Борис Порфирьевич. Отец попросил меня приехать в Ленинград и лично вручить цветы маэстро.
Среди зрителей, собравшихся в фойе вокруг Боба, стояла довольно симпатичная рыженькая девушка. Она смотрела на Боба широко раскрытыми глазами и спрашивала, и спрашивала… Прозвенел третий звонок, надо было идти в зал. «Скажите, пожалуйста, Борис, можно было бы с вами встретиться и поговорить? Я учусь в Крупской, и мне очень интересно все, что вы рассказываете и о музыке, и о творчестве замечательных сатириков». «Да никаких проблем, простите, как вас зовут? Нина? Завтра что у нас, вторник? Днем я на этюдах, да, я живописец. И, надеюсь, в будущем не посрамлю имени своего отца и наших великих предков. Да, вы все правильно поняли, имени семьи Романовых. Это правда, я многое мог бы рассказать вам. Ведь еще совсем недавно, всего несколько лет назад, в нашей семье бывал сам Петр Петрович Кончаловский. В общем, если вы настаиваете, я не против – давайте завтра ближе к вечеру, часов в восемнадцать, жду вас на Невском у Думы.
Боб долго думал, прежде чем уснуть. Он, конечно, думал о Жене. А что ему делать, если позвонит Лиля или если она напишет письмо? А если придет к Аэрофлоту? Нет, в среду, конечно, он подойдет к зданию Аэрофлота. Будет нехорошо, если Лиля будет там – а его нет. Он долго думал, так долго, что у него разболелась голова. Ведь Лиля ему нравилась… когда-то. Это было так быстротечно, всего полдня. Он решил отложить решение вопроса до послезавтра, до среды. Неплохой, однако, день получился. Если бы я не отдал уже свое сердце Жене, и в какой-то степени – Лиле, можно было бы обратить серьезное внимание на Нину. После некоторых колебаний он решил «не морочить Нине голову».
День четвертый
Надо ждать писем, ждать звонков. Звонки могут быть сегодня, а письма – не раньше, чем завтра. Один непонятный звонок был. В трубке долго молчали, потом робко сказали: «ме-е-э-э». «Не понял, говорите, Борис Николаевич слушает». Опять: «ме-е-э-э» и отбой. Похоже на Лилю.
До Жени мое письмо не могло дойти, да она и не повела бы себя таким образом. У Боба было спокойно на душе. Он вел себя искренне, достойно, ему нечего стыдиться. Он был уверен: и Лиля, и Женя поймут его, не могут не понять, особенно, Женя. Бобу захотелось отвлечься. Он давно не брал в руки хороших книжек. Все лето и осень он таскал с собой две книги: одну – по квантовой теории поля, вторую – «Медею» Еврипида. Первую пытался открывать в клубе и в колхозе, пытался разобраться в основах квантовой механики, ведь в школе об этом ни слова. В обоих случаях – и в клубе, и в колхозе – это вызывало хохот и насмешки его несколько дебильных товарищей-спортсменов и отдельных, не слишком продвинутых новоиспеченных студентов. Книгу отнимали, Боб пытался догнать, вслух читали «смешные» отрывки и скабрезно кричали: «Бобанька любит «слабое», то есть пассивное взаимодействие! Что ты, что ты, Борюсик любит «сильное», то есть активное взаимодействие, ведь ему нравятся чужие «спины», ха-ха-ха-ха, ему нравится подходить со спины». «Медею» он читал только дома. Здорово написано, но чтение шло трудно. Также, как и чтение «Посмертных записок Пиквикского клуба» и «Божественной комедии». К тетушке Доротее он взял для чтения «Медею». Трагедия начинается монологом Афродиты: боги карают гордецов, и она покарает гордеца Ипполита, гнушающегося любовью. Ипполит выходит с венком в руках и посвящает его Артемиде – «чистой от чистого». «Почему ты не чтишь Афродиту?» – спрашивает его старый раб. «Чту, но издали: ночные боги мне не по сердцу», – отвечает Ипполит. Он уходит, а раб молится за него Афродите: «Прости его юношескую надменность: на то вы, боги, и мудры, чтобы прощать». Но Афродита не простит. Здорово! С кем ты, Боб, с Артемидой или с Афродитой?
День миновал середину. Боб написал Нине письмо.
«Дорогая Нина! Пишу это письмо со смешанным чувством. С одной стороны, меня взволновали Ваша девическая непосредственность и Ваш порыв. Как писал Александр Сергеевич: «Мне ваша искренность мила; она в волненье привела давно умолкнувшие чувства; но вас хвалить я не хочу; я за нее вам отплачу признаньем также без искусства». Поймите меня правильно. Я с удовольствием поделюсь с Вами и своими впечатлениями, и своим глубокими познаниями, и достижениями в совершенно разных сферах – и в искусстве, и в поэзии, и в музыке, и в науке наук – математике. Но я не хочу Вас обманывать. Сердце мое не может быть открыто для Вас. Слишком сложна моя жизнь. Я еще не закончил тяжелые дела, связанные с моей прошлой женитьбой, а уже отдал свои чувства двум другим женщинам, за каждой из которых я готов пойти хоть на край света. Меня очень тянет к Вам, но нам лучше не встречаться. Поймите и простите. Я буду счастлив поддерживать переписку с Вами и отвечать на все интересующие Вас вопросы. Это касается не только жизни Петра Петровича Кочаловского или Альфреда Шнитке. Нашей семье были близки и Бенуа, и Лансере, и Николай Константинович Рерих, и его жена Елена Ивановна Шапошникова, создатель Агни-йоги, всех не перечислишь.
Я оставляю Вам свой адрес. Буду рад получить от Вас письмо и ответить на него.
Любящий Вас как брат, Ваш Борис Порфирьевич Крылов-Романов».
Боб положил письмо в голубой конверт и направился к Думе для встречи с Ниной. По пути он почти уже по привычке зашел на почту. Диана еще работала. Она полистала картотеку и неожиданно вытащила конверт: «Это не вам?». Боб взял конверт и на мгновение задержал руку Дианы. Та взглянула на него с благодарностью, как ему показалось. «Иван Иванович Романов. Это не я. И адрес не мой». «Извините». Боб долго ходил около Думы, рассматривал картины уличных художников. Нина подошла почти без опоздания. «Какая же она милая», – подумал Боб. Он поцеловал ей руку. Спасибо, что вы пришли. Прошу извинить меня, Нина, неотложные дела и серьезные обстоятельства не позволяют мне задерживаться здесь долее. Я объяснил все это в письме. Возьмите. Если мои объяснения вас не обидят, буду счастлив ответить на все ваши вопросы в письменной форме. Засим, разрешите отбыть, и он опять поцеловал руку растерявшейся Нине. «Что за глупость я делаю», – подумал он, но какая-то сила уже несла его дальше, – куда? для чего? – прочь, прочь, от всего настоящего к чему-то неясному, далекому, манящему, пленительному и, по-видимому, абсолютно неосуществимому.
День пятый, решающий
Звонков не было. Значит, в прошлый раз звонила Лиля, а Женя, видимо, не позвонит. А значит, и письмо писать не станет. Не поверила потомку знаменитого революционера. Но письма все же надо проверить. Сегодня может прийти только письмо Лили. От Евгении, если будет, конечно, только завтра, не раньше. Он решил сходить на Литейный, заглянуть в свой почтовый ящик. Пока ничего. Через два дня приедут родители. Комната холодная, не топилась с прошлой зимы. Боб наколол и принес дров из подвала, подготовил печку для протопки. Родители будут в субботу, чиркнут спичку и готово – в доме будет тепло.
Боб вспомнил, что ему снилось этой ночью. Он шел по огромной, совершенно плоской песчаной пустыне. Ни зданий, ни растений, ни холмов. Вместе с ним по пустыне шли, с деловым видом шагали по своим делам самые разные люди, очень озабоченные, каждый в своем направлении, иногда парами, чаще поодиночке, и совсем не смотрели друг на друга. Боб обнаружил, что он раздет, интересно, где он мог оставить свою одежду? Справа и слева от него оказались две девушки. Они доверительно держали его под руку и о чем-то нежно щебетали. Справа шла Диана, на ней был один только весь в подсолнухах желто-оранжевый короткий халатик, почти не закрывавший ее стройную фигурку, слева – Нина, в строгом кремовом костюме, застегнутая на все пуговицы. Боб увидел вдалеке два постамента. На одном из них стояла Лиля в свободной, прозрачной одежде. У нее были почему-то гипертрофированно длинные ноги, и поэтому голова «принцессы» оказывалась очень высоко, почти под облаками. Лиля ласково улыбалась Бобу. На другом постаменте – грустная Евгения. Синяя банлонка обтягивала ее бюст, плечи и необыкновенно длинную талию, гипертрофированно удлиненную талию, настолько удлиненную, что, несмотря на корявые коротенькие ножки, ее голова, так же, как и у Лили, взмывала высоко, почти до самых облаков. В ее лице было что-то загадочное, невысказанное, что-то среднее между чуть заметной улыбкой и затаенной печалью. Рядом с этими впечатляющими античными женскими фигурами то ли вращались, то ли висели в воздухе, две неясно очерченные субстанции мужского пола. Рядом с Лилей – симпатичный молодой человек с усиками. Он заметил Боба и тут же потребовал, чтобы Боб немедленно отремонтировал его «Мерседес», за свой счет, конечно. Боб очень удивился, и, естественно, отказал ему, в самых изысканных, естественно, выражениях. «Могу сделать для вас все, что вы просите, но только на платной основе, могу предоставить скидку, и то – совсем небольшую», – добавил он и сам поразился тому, насколько уверенно он произносит эти незнакомые слова. Рядом с Женей – мощная мужская фигура, Боб откуда-то знает, что этот человек – философ. «Послушайте, Боб, ведь это вы отправляли непонятное послание даме моего сердца. Возникает вопрос: что вы такое – плоскость, объем или душа?». «Вот это вопрос», – подумал во сне Боб и попытался правильно ответить на него. Но ему очень мешали шелест и щебет двух симпатичных особ, бесцеремонно повисших на его обнаженных руках. «Черт побери, да прекратите ли вы когда-нибудь вашу глупую болтовню?» – прикрикнул он на девушек и неожиданно проснулся. Боб шел с Литейного на Старо-Невский и размышлял над вопросом философа.
– Что я такое: плоскость, объем или душа? Я не знаю, что я такое. Если я плоскость, то чего? Пола в маленькой комнате, изрытого навощенными щелями, плоскость дна пепельницы в доме некурящих? Нелепая маленькая претенциозная лужайка? Я надуваю щеки, делаю страшные глаза, и слабый голос, монотонно пищавший «Я степь, я степь», вдруг доходит до моего внутреннего сознания. Буря прошла, оставив только сухие раскаленные камни, и я спрашиваю себя почти утвердительно: «Я степь?». Ну не такая большая. Самая обыкновенная домашняя бескрайняя степь с обрезанными краями. И правда, так ли уж я не похож на степь? Я обхожу свое хозяйство. Вот чертополох, крапива, заросли сорняков. Но есть и всякие полезные корешки, небольшие пучки буйных диких трав, укропа, незатейливых полевых цветов. Правда, похоже? И как в настоящей степи то здесь, то там разбросаны испражнения случайных прохожих. А здесь, что здесь? Я этого не ожидал. Я знаю всех, кто сюда заходит… А ты, о ком я все время думаю, так же весела, так же грустна и далека. Бог послал на землю легкомысленное племя женщин, чтобы мужчины учились писать стихи. Женщины слепы. Они выполняют свою миссию, не задумываясь о ней. И с тех пор каждый день на земле появляется еще один поэт. Из меня, правда, поэт, похоже, не получится.
Женя ничего не ответит. Неизвестно, дошло ли до нее мое письмо. Боб сидел на телефоне, долго что-то объяснял разным людям. О том, что в перерыве концерта зашел за кулисы, чтобы лично вручить цветы концертмейстеру Горбенко, что она дала ему театральный бинокль, а после концерта он не смог его вернуть, потому что она уже ушла, что он не знает, когда она будет еще выступать, что получилось нехорошо, будто он взял и не вернул чужую вещь, и так далее, и тому подобное. В результате адрес Жени у него. Он напишет еще одно письмо, уже на этот адрес. Может быть, и навестит Женю, и лично вручит письмо. Или по почте? Это можно решить и позже.
«Здравствуйте, дорогая Евгения!
Очень приятно писать эти слова. У меня такое чувство, будто долго ждал встречи с Вами, ждал, наполняя воздух вздохами и стенаниями, и вот Вы пришли, и я говорю: «Здравствуйте, дорогая Женя!»
В первом письме я написал, что я Вами живу. И ничего тут уже не поделаешь. И ничего не поделаешь, что даже сейчас я не могу не писать без иронии, хотя у меня на душе очень и очень тяжело. Конечно, эта ирония не говорит в пользу серьезности моего письма. Но я иронизирую, насмехаюсь над самим собой, честное слово. Не исключаю, что и Вы посмеетесь над моим письмом, а может быть, не только Вы, может быть, и Ваши подруги, и даже какие-нибудь поклонники, которые вовсе не достойны Вас, так пусть тогда и я вместе с Вами, и всем будет от этого легче. Ведь я Вас совсем не знаю, и Вы задаете себе холодный вопрос, зачем я все это пишу и не придумал ли я все это? Нет, не придумал. Ведь я знаю о Вас очень много. Я видел Ваши глаза, знаю Вашу походку, даже слышал случайно оброненные фразы, значит – знаю голос, улыбку, чуть печальную, но все же улыбку, жест. Знаю музыку Вашего облика, и мне этого достаточно. Не знаю, не спрашиваю себя, почему я Вами живу, потому что во всем, что я ни делаю, я обращаюсь к Вам, делаю для Вас, потому что так получилось и ничего уже с этим не поделаешь. Я отдаю Вам свое сердце и исповедуюсь Вам в своем чувстве. Может быть, Вам вовсе не нужно мое сердце. И тогда оно будет молчать для Вас и ничем себя больше не проявит. Но если Вы захотите этого (сейчас, когда-нибудь, когда угодно), оно повторит эти слова тысячу раз и будет кричать об этом на всех перекрестках. Я возьму Вас на руки и понесу так высоко, как никто Вас понести не сможет (в силу моего очень высокого роста, конечно). Если у меня есть надежда, только надежда, что Вы когда-нибудь захотите этого, подайте мне руку при встрече. И пусть это будет правая рука, в крайнем случае – левая, а не рука жалости.
Сейчас (я не знаю, читали ли Вы мое первое письмо) я пишу ни о чем. То есть о том, чего не было. А не было нашей встречи, нашего разговора, о котором я, стоя на коленях, умолял Вас в письме номер один. И не было Вашего ответного письма. В связи с вышеизложенным, я написал сам себе письмо, представляя, как бы его сделали Вы, «если бы сочли это необходимым (цитирую Ваши слова из нашего разговора, которого не было)».
«Я получила Ваше письмо, Борис. Не знаю, как оно ко мне попало, как Вы решились послать его, хотя Вы прекрасно знаете, что я «девушка без адреса». Из полученного текста нетрудно понять, что Вы любите меня и предлагаете мне руку и сердце. Удивительно, откуда в Вас это взялось, я для этого как Вы называете «чувства» никакого повода не давала. Вы уже, наверное, закончили школу, а может быть, и институт, и не должны быть таким легкомысленным, подумать об окружающих, о том, что Ваши мысли, чувства и поступки доставят им хлопоты и неудобства. Даже пытаясь встать на Вашу точку зрения, я не могу разглядеть никакой необходимости в этом чувстве. Вы ведь ни с кем не посоветовались – ни со мной, ни с моим отцом, ни тем более, с моей подругой Жанной Ревенко, прежде чем полюбить меня, и даже прежде чем намекнуть мне о своем чувстве, и продолжаете упорствовать в этом сейчас. Вы нетактично воспользовались мною в качестве объекта своей неуправляемой симпатии, и объяснить это можно только эгоизмом, хотя, конечно, все мы эгоисты. Можно было бы еще Вас понять, если бы это было ослеплением, если бы Вы совершали какие-нибудь безумные поступки. Думаю даже, что это могло бы мне чуть-чуть понравиться. Но ничего ведь этого не было. Было тривиальное объяснение в любви. Жалкие, ничтожные слова. И просить после этого моей руки? Предлагать быть Вашей женой? Это несерьезно! А Вам ведь не мешало бы стать чуть серьезнее. Ну, любите меня, ну, вспоминаете меня каждую минуту – чему тут радоваться? Если бы Вы хоть раз вдумались в этот вопрос, то поняли бы, что по этому поводу нужно подобрать несколько другие эмоции. Что касается меня, то мне Ваши чувства неинтересны – не могу же я интересоваться всем на свете. Я хочу дать Вам один совет, который может пригодиться Вам в будущем – никогда больше не поступайте так в отношении других женщин. Нельзя распускать свои чувства и доходить до того, чтобы объясняться в любви, тем более – предлагать свою руку и сердце. Если Вы спросите, что я отвечу на Ваше второе письмо, я отвечу следующее: письмо Ваше бесперспективно, не имеет будущего и последствий, а значит, писать его не было необходимости. Также нет необходимости писать на него ответ, и чтобы не совершать Вашей ошибки в отношении моего собственного письма, которое Вы в настоящий момент читаете, я его Вам и не написала.
Евгения».
Вот и все, что я хотел сам себе написал. Извините, если получилось резковато – увлекся жанром. При сем, с уважением и любовью, Романов – Тер-Петросян».
Боб положил письмо в голубой конверт, написал домашний адрес Евгении, конверт – в карман. Решил пока его не отправлять.
Зашел по привычке на почту. Диана встретила его как старого знакомого. Боб узнал, что она учится на вечернем, в Текстильном. Второй курс. Впервые за эти несколько дней он говорил о себе без всяких фантазий, так, как есть. «А я – на первом, в Точмехе», – признался Боб. Только что вернулся из колхоза.
Приближалось назначенное время встречи с Лилей, и он направился к Аэрофлоту. Спокойно, без волнения прождал ее положенные полчаса и без всякого сожаления двинулся по Невскому в сторону Московского вокзала.
Боб любил посидеть в «Сайгоне». «Сайгоном» молодежь называла легендарное кафе при ресторане «Москва», на углу Владимирского и Невского, место обитания героев андеграунда, «непризнанной» и гонимой творческой интеллигенции, так называемых «неформалов». Боб брал дешевую чашку кофе, кофе был неважным, но с ним можно просидеть пару часов, и никто не потребует освободить столик. Он доставал карандаш или тонкий фломастер и набрасывал в блокноте интересные сценки. Здорово! И потом здесь каждый чувствовал себя очень комфортно, потому что можно говорить, кто, с кем хочет, и о том, кто, о чем хочет.
«Все у меня будет хорошо, – размышлял Боб. – Да и сейчас хорошо. Не хватает пока жизненного опыта. А это дело наживное. Только не в институте же мне опыта набираться. Очередной инкубатор для птенцов. Надо в армию идти. Пройти жесткую мужскую школу воинской жизни. Жаль, что закончился призыв. Да и возраст у меня еще не призывной. Опять же бронь: я студент вуза с военной кафедрой. Да это было бы правильное решение». И он открыл чистый лист блокнота и написал в военкомат Дзержинского района, в котором он зарегистрирован как допризывник. Так, мол, и так, хочу служить, помогать в защите Родины. Возрастом еще не вышел, но вы проверьте меня. Я могу пятнадцать раз подтянуться, уголок – сорок раз, на лыжах – десять километров – запросто. Водил грузовик по школьному двору и прошел в тире ДОСААФ курс стрельбы из карабина. Сделайте вызов на медкомиссию. Если я вас устрою, пойду в деканат и оформлю академический отпуск на время службы. Надеюсь на ваше положительное решение, неужели вам не нужны парни, действительно болеющие за обороноспособность нашей страны? Борис Романов, 17 лет. Как всегда, аккуратно переписал текст с черновика, положил в голубой конверт и пошел прогуляться по вечернему городу.
Ноги привели его к ярко освещенной витрине японского магазина на Петроградской.
Боб стоял перед витриной, пол которой приподнят на полметра над тротуаром, и поэтому видел все, что там происходило, немного снизу. Магазин готовился к закрытию. В витрине стояла упитанная молодая женщина с пухлым невыразительным лицом и собирала какие-то свитки.
Ее короткий желто-бежевый рабочий халатик не закрывал, а скорее приоткрывал полные розоватые руки и ноги. Работница магазина наклонилась, чтобы поднять упавшие свитки, и прямо перед носом Боба открылся белый треугольник трусов на фоне розоватых, с пупырышками гусиной кожи ягодиц и верхней части бедер. Можно представить, что это было за зрелище на фоне картины с бескрайним голубым небом, огромным желтым диском солнца и величественным журавлем, погруженным в пучины дзен.
Женщина обернулась назад и увидела округлившиеся глаза Боба, буквально вперившиеся в ее зад. От неожиданности кровь бросилась ей в лицо, она качнулась, потеряла равновесие, выронила из рук свитки… Боб непроизвольно протянул к ней руки, чтобы помочь избежать падения. Руки будто удлинились и беспрепятственно прошли через стекло витрины. Боб успел подхватить обнаженные предплечья девушки и в последний момент удержал ее. Он явственно почувствовал тепло прикосновения к женскому телу и незнакомое волнующее чувство, которое впоследствии, находясь в зрелом возрасте, он квалифицировал бы, наверное, как внезапный прилив желания.
В этот момент желтый диск солнца на картине вспыхнул, внезапно вырос и заполонил все пространство. Желтая вспышка поглотила Боба, он почувствовал жаркий удар, будто изнутри самого себя. Зашатался, закачался, непроизвольно отпустил руки и на мгновение потерял сознание. Голова кружилась, к горлу подступала тошнота, перед глазами все плыло в желтом водовороте. Он не упал только потому, что уперся лбом в холодное стекло.
Через минуту ЭТО отпустило его. Витрина пуста, свитки убраны, а в магазине уже никого. Лишь одинокий журавль продолжал плыть в воздухе на фоне плоского, монотонно желтого солнца, над хижинами и пагодами униженного и угнетенного японского крестьянства.
Боба немного покачивало, и он медленно побрел по тротуару. Когда ему стало лучше, он остановился и осмотрелся по сторонам. Все изменилось. Город оставался знакомым, но казался совсем другим. Будто бы более четким, более живым, более понятным. В одно мгновение он вспомнил все, что случилось с ним за последние пять дней, посмотрел на это совсем другими глазами. Будто в его голове что-то щелкнуло, и все смещенное и перепутанное внезапно стало на свои законные места.
По-прежнему Боб чувствовал дурноту. С трудом перебирая ватными ногами, он добрел до своей тихой гавани на Старо-Невском. У него был жар, высокая температура, очень сильно болело горло. Тетушка уложила его в постель, заставила полоскать горло, напоила горячим молоком с содой, сахаром и медом. Как ни странно, дома было тепло. Пока Боб отсутствовал, тетушка с дочерью Лариской законопатили и заклеили ветхие рамы окон. А к вечеру в доме включили отопление. Перед сном Боб взял блокнот и записал: «Отпускаю на свободу Лилю, Евгению и Нину, никого не ставлю на пьедестал и не обожествляю, пусть все идут своим путем».
Дни шестой и седьмой
Тетушка уговорила Боба отлежаться, пару дней никуда не бегать и хорошенько полечиться. Боб размышлял над тем, почему это он вдруг решил упиваться своим якобы одиночеством. На самом деле он никогда не чувствовал себя одиноким. В колхозе его окружали отличные ребята и девушки. Он вспомнил, как они всю ночь не спали, разыскивали заблудившуюся в лесу девушку, как дружно решали бытовые проблемы, как честно отрабатывали на полях свои задания. Вспомнил Валеру Бродского, их бригадира. Из службы в армии в саперных войсках он вышел с контузией, его мучили головные боли и головокружения, но он твердо решил получить высшее образование и поступил-таки в довольно сложный, престижный вуз. Далеко не все селяне Гнилок были разгильдяями и пьяницами. На соседней делянке работало несколько немолодых женщин – насколько же легче и быстрее в сравнении с молодыми студентами, они управлялись с сельской работой. И чего он взъелся на родню? Дорочка души в нем не чает, незаметно с отстраненным лицом делает все так, чтобы Бобу было у нее хорошо. Не задает вопросов, не расспрашивает, а кажется, что она и так все видит и понимает. Кузина Светка звонит несколько раз на дню, справляется о здоровье, Лариска натащила для него кучу толстых литературных журналов. За ужином обычно молчаливый, скромный дядя Абрам, коммерческий директор небольшой мебельной фабрики, неожиданно разговорился, рассказал, как в который уже раз рабочие пытались подшутить над ним: принесли в подарок «от коллектива» старые, рваные, вонючие сапоги. Он взял «представителя» за руку, добежал с ним до котельной и со всего размаха швырнул «подарок» в топку. Глаза дядюшки на мгновение сверкнули чем-то наподобие лихости, которой у него и в помине не было, а потом снова стали добрыми и кроткими. Ни обиды, ни досады на злые выходки рабочих, недолюбливающих всяких там «Абрамов Самойловичей», у него никогда не оставалось. Забежал к «больному» и Арончик. «Все по выставкам, да по выставкам ходишь. Ни уму, ни сердцу. В твоем возрасте надо больше девчонками заниматься, тогда бы и не болел. Это сейчас моя Галочка все брюзжит. А в молодости, когда мы оба покрепче были, она не запрещала мне смотреть налево. Знала, что все равно никого лучше ее не найду», – сказал дядя и грустно вздохнул. «А что уж говорить о моих родителях – ангелы во плоти», – подумал Боб и почувствовал, что, пожалуй, он уже соскучился по матушке и отцу. Звонила Мария Николаевна. Сказала, что ее подруга, тренер Боба, считает его перспективным спортсменом, что у него хорошая техника и надо только немного силушки поднабраться. Что она ждет его в клубе и хочет перевести в новую команду старших юношей.
Эти два дня он много читал. Читал газеты и журналы, которые принесла Лариска. Легко и с удовольствием проглотил несколько пьес Еврипида, «Посмертные записки Пиквикского клуба» и даже одолел часть огромной «Божественной комедии» Данте.
Понедельник начинается в субботу
Суббота, в те времена еще рабочий день. Дядя на фабрике, Лариска – в институте. Боб собрал вещи. Тепло попрощался с тетушкой Дорой. На Литейном его уже ждали. Печка протоплена, завтрак на столе. У родителей еще отпуск, суббота получилась для всех как выходной. Романовы любят простую пищу, в выходной – семейный традиционный завтрак: малосольная селедка, отварная рассыпчатая картошка, порезанный репчатый лук и кусочек солнца – тающее в горячей картошке сливочное масло. Боб рассказывал о колхозе, о селе Гнилки, о нищете, разрухе. Родители внимательно выслушали его. «Ты прав, сына, – сказал отец. – Конечно, на селе много проблем. И не только на селе. Жизнь на самом деле много сложнее и хуже, чем об этом пишут в газетах, в решениях партсъездов и партконференций». Боб поделился впечатлениями о выставках, спектакле, концертах. Рассказал о молодой актрисе из Ленсовета, о певице с Украины и об ее концертмейстере. О симпатичной девушке с почты. Мать внимательно посмотрела на него серыми, проницательными глазами. «Не нужны тебе ни актрисы, ни певицы, ни концертмейстеры. Не строй воздушные замки, выброси это из головы, Бобби. Лучше пригласи куда-нибудь Диану, если у нее еще нет своего парня. Приходи с ней к нам, желательно, пока мы на работе. Хоть целоваться научишься». «Я и так умею», – буркнул Боб. «Ну, умеешь, так умеешь». Боб поделился своей идеей – взять академический отпуск и пойти служить в армию. Мать неожиданно поддержала его. «Армия – это для парня неплохо. Формирует характер. Только вначале, Боба, выслушай меня внимательно. Мы с отцом всю жизнь мечтали получить высшее образование, да так и не получили. Все что-то мешало. То 39-й год, то стройки коммунизма, то война. Хотели нарожать полну горницу детей – и это не успели, ты один у нас. Без высшего образования теперь никак. А ты уже студент очень хорошего вуза. Учись, Боба, раз уж зачислили. Получи образование, а потом решишь, что тебе лучше. Захочешь в армию – пойдешь в армию. За спиной будут и профессия, и знания». «Ну покажи, спортсмен, что ты теперь можешь, – сказал отец. – Сделай-ка преднос (отец так называл упражнение типа «уголок»)». Боб повис, зацепившись за верхний косяк двери, и без труда сделал уголок. «Да, неважно дело», – сказал отец. «Чего это неважно?». «А то, что ноги должны быть прямыми, а не согнутыми, как у тебя, и носки оттянуты. Смотри». Отец сел на табурет, отжался на руках и выпрямил горизонтально ноги и оттянул носки – идеальная прямая. «Ничего, все у тебя впереди. Занимайся спортом, и все получится. Ты вот сейчас сфотографируй свой торс. А потом – когда тебе будет 20. Увидишь, какая разница». «У отца-то торс и сейчас, в его 55, будь здоров», – с уважением подумал Боб.
Два дня прошли незаметно. Боб чувствовал себя лучше и в понедельник отправился в институт. Как же все там было интересно. Лекции, практические занятия. Трудные предметы – сопромат, теория машин и механизмов. Курсовые работы, экзамены. Время от времени в институте появлялись новые преподаватели, какие-то странные, будто стукнутые пыльным мешком. О них шептали непонятное «оттуда!». Студенческие Окна Сатиры, студенческие самодеятельные концерты, агитпоходы. Новые, доселе неизвестные литература, театр, кино, живопись. Студенческое научное общество. Своими руками Боб собрал блок из вакуумных ламп – элемент ЭВМ (Электронной Вычислительной Машины). Спорт – лыжи, гребля, регби. Забегая вперед, скажу, что следующим летом Бобу удалось задуманное – в новой команде он стал чемпионом Ленинграда на «настоящих» лодках среди старших юношей. Ну и конечно, девушки, девушки, девушки… Куда же без них?
Жизнь захватывала и втягивала во все новые и новые водовороты, он быстро забыл о своей первой неделе «взрослой» жизни, которая выпала как раз на период пребывания его у тетушки Доротеи. Взрослая жизнь? Конечно, взрослая. Весна взрослой жизни – март, апрель. Даже не май. Боб так и не отправил письма ни Евгении, ни в военкомат. К Диане тоже не заглядывал. Единственной из всех увлечений той недели, с кем он продолжал поддерживать отношения, оказалась Нина. Боб всегда был в самой гуще культурных событий города. Знал, что нового появилось в литературе, что обязательно надо прочесть, на какой фильм сходить, какие выставки нельзя пропускать. Обо всем этом он часто рассказывал Нине, иногда – в письмах, чаще – по телефону. Бывало и так, что, не сговариваясь, они оказывались в одних компаниях. Встречались как хорошие знакомые. Нина ценила дружбу с Бобом, возможно и симпатизировала ему. Однажды, она принесла ему толстую стопку листков, напечатанных на машинке под желто-бежевую копирку. Так в те времена распространялась литература в списках. Это был очень ценный подарок. Нина подарила ему полный комплект текстов песен Булата Окуджавы. Боб принес домой самопальный томик, открыл первую попавшуюся страницу и ткнул пальцем. В ушах зазвучал хорошо знакомый, тихий, надтреснутый голос Булата Шалвовича: «Мама, мама, это я дежурю. Я – дежурный по апрелю!»
Почему Боб не женился на Регинке
С первых дней учебы Бобу приглянулась симпатичная рыженькая девушка, студентка соседнего потока Регинка, чем-то похожая на его первую детскую любовь. Крепенькая, складная, быстрая, она была лучше всех на шестидесятиметровке. Молодые люди проводили много времени вместе, и, как это часто бывает между парнем и девушкой, когда они много бывают вместе, у них это случилось. Боб был счастлив. Он решил, что непременно женится на Регине.
Однажды знакомые ребята со старших курсов сказали ему, что Левка Бычков почему-то нелестно отзывался о Регинке. Боб подошел к высокому, очкастому Левке и сказал, что если тот не трус, то должен ответить за свои слова. В перерыве между лекциями они пошли выяснять отношения в парадной соседнего дома. Долго прыгали друг вокруг друга, видимо, оба побаивались и неловко имитировали движения боксеров с телевизионного экрана. Драка не получилась, но, в конце концов, Боб случайно задел Левкины очки. Они упали на каменный пол. Мальчишки наклонились, чтобы рассмотреть, что с ними случилось. «Одно стекло разбилось», – расстроенно сказал Левка. «Будешь знать, как мою Регинку обижать». «Дурак ты, Боб. Регинка – хорошая девчонка, я никогда о ней плохо не говорил. А старшекурсники тебе неправду сказали. Лучше бы ты их расспросил, зачем они попусту языком болтают?»
После этой грандиозной победы Боб твердо решил, что теперь-то уж он «обязательно женится на Регинке». Это произошло в субботу. Накануне выпал снег, и, можно сказать, наконец-то, наступила зима. После окончания лекций Боб поехал в Кавголово, где он в компании знакомых ребят и девчат с осени снимал небольшую комнату. У Боба были «Карпаты», первые слаломные деревянные лыжи советского производства, жесткие, топорные, негнущиеся. Слаломных ботинок в продаже тогда еще не бывало. Боб набил кожаные накладки на каблуки обычных лыжных ботинок и цеплял за них тросики креплений, чтобы пятки при поворотах не отрывались. Как говорится, «голь на выдумки хитра». У других оборудование было не лучше. Вместе с друзьями он долго катался при свете прожекторов. Боб познакомился с миловидной девчушкой. А потом они допоздна гуляли по снежным холмам поселка и целовались. Боб проводил девушку на электричку и вернулся в свою компанию в арендованной комнате деревянного дома.
Осенью Боб научил приятелей, и они сделали нары, такие, как в Гнилках, куда он в первый раз ездил со студентами на сельхозработы. Привезли матрасы, одеяла, спальники. И теперь они своей компанией 8-9 человек могли расположиться на ночлег в маленькой комнате, чтобы не ездить в город взад-вперед и использовать воскресенье для катания на полную катушку с раннего утра. Рядом с Бобом оказалась малознакомая девочка. На деревянном помосте было тесно, и он обнял ее за плечи. Девушка ответила. И, несмотря на то, что рядом спали их приятели, может быть, не спали, а делали вид, Боб обнимался с покладистой соседкой всю ночь, и возможно, кое-что у них даже получилось. А под утро солнце заглянуло в окошко – Боб то ли еще не уснул, то ли еще не проснулся, он был в каком-то промежуточном состоянии – лучи солнца коснулось его лица, и в голове что-то вспыхнуло и взорвалось. Боб почувствовал головокружение, его куда-то понесло, и он забылся. Проснувшись, увидел рядом с собой малознакомую девушку, вспомнил, что между ними что-то было, а вообще-то, можно считать, что ничего и не было. Нельзя сказать, что Боба все это очень уж впечатлило, но почему-то после того случая он не возвращался больше к своей замечательной идее «обязательно жениться на Регинке». Интересно, почему все-таки Боб не женился на Регинке? Может, потому что в его голове что-то вспыхнуло и взорвалось, а потом его куда-то понесло?
Прозрачные рассказы
Третья встреча
Если сегодняшнее утро и наша встреча – только сон, пусть каждый думает, что этот сон – его собственный. Может быть, мы от него проснемся, может быть, – нет. Мы вынуждены его принять, как принимаем этот мир и факт, что появились на свет, что видим и дышим
Х.Л. БорхесСкамейка длиною в тридцать пять лет
Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада, ночной фонарик нелюдимый, на розу желтую похожий, над головой своих любимых, у ног прохожих И. БродскийВ мае 2002-го года Феликс оказался в Хургаде на берегу Красного моря. Остановился в отеле «Лампа Аладдина», расположенном в том месте, где безымянная речка впадает в Красное море. Приехал один. Купаться, нырять, глазеть на кораллы, на разноцветных рыбешек и всякую другую невиданную морскую нечисть. Планировал быть с сыном и женой Вероникой – не получилось. У сына – экзамены, жена не смогла уехать из-за болезни матери. С момента знакомства с Никой он впервые отправился в отпуск один.
Десять дней под южным небом. Здоровый образ жизни. Ожидание восхода, когда краешек солнца появится над горизонтом. Утреннее купание, море, море и еще раз море. Вечерние прогулки вдоль линии прибоя или по узким переулкам старого города. Феликсу и раньше нравилось оставаться одному, наедине с самим собой. Зачем? – чтобы бездумно расходовать время. Наблюдать негу и буйство природы, размышлять, думать о «прекрасном и возвышенном». Чтобы шаг за шагом успокоить, привести в порядок, разложить по полочкам собственные мысли и чувства… И теперь в этой далекой арабской стране все ему было по душе – и непостижимое море, и яростное солнце, и восхитительное ничегонеделание.
Встал раньше обычного – небо светлело, но до восхода оставалось еще не меньше часа. Феликс сидел на скамье недалеко от берега моря. Справа, метрах в пятидесяти, в густом тумане виднелись неопределенные очертания дайвинг-станции, а рядом – мимо скамьи, мимо нашего задумчивого героя – лениво ползли темные непрозрачные воды зачуханной речки, ворочались, глухо вздыхали – предчувствовали скорое окончание своей самостоятельной жизни, горбились волнами, со скрежетом отползали назад, пытались отползти, переживали от того, что неминуемо сольются с безбрежным мировым океаном и навсегда исчезнут.
Вспомнилась Гераклитова метафора «река времени». Время, река времени, неразрешимая загадка… Мы, человеки, – настоящие повелители времени. Сами того не осознавая, ежеминутно управляем его движением. Думаем о прошлом – плывем против течения, останавливаем время. Произносим набившие оскомину слова: «Остановись, мгновение, ты – прекрасно!» Строим планы, создаем образы будущего, конструируем будущее детей, близких, свое собственное, проектируем города, машины, синхрофазотроны – плывем по течению, упираемся, что есть силы, скорее, скорее, вперед к будущему. Опережаем свое время. О таких говорят: «Их время еще не наступило». А можем никуда не спешить, – ни вперед, ни назад – пусть поток времени несет нас к неведомым берегам, будем пассивно лежать и спокойно наблюдать за естественной «сменой пейзажа». Пока хватает сил, плывем «по» или «против». А силы кончатся – время успокоит и первых, и вторых, и тех, кто никуда не стремится.
Феликс хорошо выспался. Пребывал в отличном настроении. Накануне он выезжал к дальним песчаным пляжам. Корабль бросил якорь метрах в ста пятидесяти от берега. Отдыхающие попрыгали в море и веселой стайкой направились к светло-желтой отмели. «Какая глубина?» – спросил Феликс у кого-то из экипажа. «Цепь выбрали на 25 метров, значит, глубина – метров двадцать».
Надел маску и без ласт сиганул в воду. Через каждые 2.5–3 метра зажимал нос, продувался и продолжал движение вниз. Становилось все темнее и холоднее. Погружение проходило гладко. Наконец, появились неясные очертания волнистого песчаного дна, совсем рядом, перед самым лицом. Причин для беспокойства не было. Феликс чувствовал себя великолепно. Он достиг той счастливой фазы погружения, когда спешить уже больше некуда, когда самое трудное позади, а воздуха пока хватает и дышать еще совсем не хочется. У ныряльщика на некоторое время возникает иллюзия, что море – его родная стихия, что можно оставаться здесь сколь угодно долго, жить в воде постоянно, словно он теперь волею Нептуна навсегда превратился в безмолвную и бездушную рыбину.
Коснулся рукой белоснежного песка, стал на ноги и задрал вверх голову. Боже, как далеко до поверхности воды! Её серебристый купол, кажется, улетел высоко в небо, так высоко, будто этот купол находится теперь где-то на луне. Страх сжал сердце – куда исчезло счастливое ощущение свободы? Феликс попытался укротить волнение, оттолкнулся от дна и заставил себя замедлить движение вверх. Все в порядке, нет причин для беспокойства. Двадцать метров – это всего лишь 15-20 секунд подъема, нет причин для волнения… Ну вот… Наконец-то, он наверху… Первый глоток воздуха. Сумел! В свои шестьдесят, без ласт, так легко нырнуть на двадцать метров!
Он ликовал. Никогда прежде ничего подобного ему не удавалось… Даже в молодые годы. И сегодня, этим ранним утром, его не покидало пришедшее к нему накануне – там, на глубине – ощущение необыкновенной легкости и свободы. Свободен. Он свободен! Где-то на далекой периферии сознания еще маячили остатки переживания, внезапно возникшего там же, у самого дна, безотчетного чувства страха, такого же волнистого и нереально белесого, как и само это дно, но он постарался избавиться от ненужного и неприятного воспоминания.
Феликс никому не говорил об этом своем достижении. Однако, вчера вечером около бассейна, именно вчера, его обычные компаньоны по курортному времяпровождению – новые приятели и просто соседи по отелю и пляжу – почему-то были особенно доброжелательны и держались с ним подчеркнуто уважительно. Когда на душе легко, от нас расходятся волны уверенности, силы и спокойствия. У Феликса была харизма, был некий магнетизм, к нему и раньше тянулись люди… Знакомые и незнакомые. Но вчера… Вчера это было особенно заметно.
Оглянулся по сторонам – вокруг ни души. Ночные гуляки отшумели пару часов назад, а купальщики еще не пробудились.
Внезапно его посетило ощущение «де жа вю». Будто это все уже происходило с ним. Или вернее – будто он когда-то предвидел сегодняшние переживания, наблюдал туманный пейзаж, темные непрозрачные воды реки, размытые очертания дайвинг-станции… Будто подобное ощущение посетило его во второй раз. Будто он уже побывал именно в этой временной точке. И видел то же, что сейчас. Пережил это в прошлом. Раньше. Он попытался вспомнить, когда что-то похожее могло произойти с ним. Если времени не существует, если время – только свойство нашего мышления, только способ последовательно вспоминать одно событие вслед за другим, тогда можно «вспомнить» не только прошлое, но и будущее. Феликсу показалось, что прошлое и настоящее подошли вплотную к какому-то очень важному моменту его жизни, «де жа вю» коснулось его памяти и сообщило: «Вы немного сбились с пути, мой друг, но сейчас успешно вернулись уже на свою, единственно верную тропу. Поздравляю! Теперь вы можете двинуться дальше, вас ждет необыкновенное приключение».
Кто-то сел на другой конец скамьи. Феликс предпочел бы остаться один. Встать и уйти? – пожалуй, это выглядело бы невежливо.
Молодой человек стал насвистывать. Феликс вздрогнул. Этот «кто-то» пытался выводить рулады мексиканского мотива – знакомая с детских лет песня «Коимбра», которую когда-то исполняла Лолита Торрес. Мотив перенес его в старую коммуналку на Моховой. Песенку любил насвистывать их сосед Толя (надо отметить – он делал это мастерски), когда, готовясь к очередному свиданию, начищал до блеска выглядывающие из-под клешей носки ботинок. Где теперь Толя с Моховой? – как же давно это было! Незнакомец тихо пропел: «Коимбра, чудесный наш город, ближе нет тебя и краше. Мы позабудем не скоро свет из окон старых башен». Голос и свист принадлежали не Толе, но явно ему подражали.
Феликс повернулся к пришельцу и спросил:
– Откуда вы, молодой человек, из Петербурга или из Москвы?
– Не из Москвы и уж тем более – не из Петербурга. Какой Петербург – вы что, с луны свалились? – Петербург в царской России остался. Я в Ленинграде живу.
Некоторое время они сидели молча. Потом Феликс задал еще один вопрос:
– В доме 36 по Моховой, против Театрального института?
Незнакомец подтвердил. Вот это да, вот это попадание! Невероятно… Испарина выступила у него на лбу. Не может быть, неужели… Черт побери, не упускай случай, Феля, решайся, хватай удачу за хвост, пока туман не рассеялся!
– В таком случае, – жестко сказал Феликс, – вас зовут Феликс Петрович, фамилия ваша – Эйлер, вы правнук или пра-правнук знаменитого петербургского математика. Я тоже Феликс Петрович Эйлер. Сейчас 2002-й год, мы в Египте, в Хургаде.
– Нет, это не совсем верно, – ответил незнакомец голосом Феликса, но каким-то отстраненным и притушенным, будто пришедшим издалека. И, помолчав, добавил:
– Я нахожусь сейчас в Ленинграде, на скамье в двух шагах от Невы. Странно, но мы похожи; правда, вы намного старше, и волос у вас на голове осталось совсем немного.
Феликс почувствовал внутреннюю дрожь.
– Могу доказать, что говорю правду. Послушай меня, чужие не могут знать этого. У нас комната в коммунальной квартире. Кровать родителей отделена от тахты, на которой ты спишь, книжным шкафом. В трюмо сохранилась фронтовая зажигалка отца в виде серебристого шара с ватой внутри, пропитанной керосином, и с кремешком для высекания искры. В шкафу стоят полное собрание сочинений Диккенса и академическое издание Пушкина. Между томиками стыдливо втиснута книжка о сексуальных отношениях мужчин и женщин, которую в твою юность, как бы случайно, родители оставили на видном месте. Могу еще рассказать про тот вечер, который ты провел в гостях у Риммочки, когда был еще студентом, вечер, после которого ты твердо решил, что непременно женишься на ней. Но не женился.
– Рената, ее звали Рената, – поправил «другой».
– Да, конечно, Рената, Рина. Тебе достаточно того, что я сказал?
– Нет, нет и нет… Ничего, ровным счетом ничего это не доказывает. Видимо, вы мне снитесь, а в этом случае нетрудно понять, что вы знаете все, что знаю я. Так что ваш страстный монолог ничего доказать не может.
Феликс подумал и согласился. Молодой Феликс абсолютно прав.
– Если сегодняшнее утро и наша встреча – только мираж, видение, пусть каждый думает, что это его собственное видение. В конце концов, вся наша жизнь – не более, чем сон Господа.
– Видение, сон… А если наш сон прервется? – с беспокойством спросил собеседник, пропустив мимо ушей фразу о сне Господа.
Феликсу захотелось успокоить его, заодно и самому успокоиться. Он изобразил уверенность, которой совсем не чувствовал в этот момент.
– Мой сон длится больше шестидесяти лет. Когда я вспоминаю что-то, я встречаюсь с самим собой в прошлом. С нами сейчас происходит ровно то же, только нас двое. Хочешь, расскажу тебе кое-что из моего прошлого? – для тебя оно станет будущим.
Молодой человек внимательно посмотрел на Феликса. Сказал, что тот неплохо выглядит для своих шестидесяти. А потом добавил лаконичное: «Ну ладно, рассказывайте». Феликс, теряясь и путаясь, стал перечислять.
– Мама покинула нас пятнадцать лет назад, отец – совсем недавно. Он очень болел последние годы. Твоя сестра вышла замуж. Ее муж оказался отличным мужиком, но был старше ее почти на тридцать лет. Неудивительно, что она пережила мужа. От брака осталась дочь, твоя племянница… Она уже совсем взрослая, пока не замужем, детей у нее нет. Мы теперь живем совсем по-другому. Не за железным занавесом. Знаем обо всем, что происходит в мире. Я, например, объехал всю Европу. Побывал в Океании, Америке, Антарктиде. Стоял на мысе Горн. Ты сейчас об этом даже мечтать не можешь.
– На мысе Горн? – фантастика! Вы бывали на мысе Горн?
«Из какого своего далека, из какого далекого прошлого явился ко мне этот гость?» – подумал Феликс и осторожно спросил:
– Как там наши домашние сейчас? Как твои друзья?
– Сейчас уже неплохо. Все треволнения позади. Отца реабилитировали. Он вернулся из Воркуты, где работал на шахте с заключенными-поселенцами. Восстановили в партии, помогли трудоустроиться. Мама тоже работает. Вы ведь знаете об этом. Отец пытается наверстать упущенное. Читает, как бешеный. Все свободное время. Из каждой командировки привозит связки новых книг. У нас образовалась небольшая библиотека. Если спрашиваю о сталинских временах, он отмахивается, смеется: «Лес рубят, щепки летят». Я по-прежнему дружу с Лёвкой-«нахалюгой» и Мишкой-«ортодоксом».
«Шестьдесят шестой – шестьдесят седьмой год, тридцать пять лет назад», – отметил про себя Феликс.
– Лёвка, Мишка – у нас тогда было принято называть друг друга Лёвками и Мишками. Да и сейчас, пожалуй, тоже… Что я могу сказать? Лёвка соблазнит Мишкину сестру, красавицу Клару, потом бросит ее. Из-за этого они с Мишкой, – как бы это сказать? – в общем, перестанут видеться и разговаривать. Миша с родителями и молодой женой уедет в Америку. Иногда они приезжают в Россию. Редко. Мы редко с ними видимся. С Лёвкой тоже.
– Вот как получилось. Неожиданно. А мы ведь сейчас втроем – не разлей вода. Что еще? Бегаю на свидания с одной маленькой чертовкой. Влюблен без памяти. Она замужем. Может, я ей и симпатичен, не знаю. Скорее – забавляю, играет со мной как кошка с мышкой. Мы часто пьем кофе на втором этаже стекляшки – угол Суворовского и Невского. Напротив – огромный брандмауэр.
– Помню, помню. На штукатурке выбиты три женские фигуры в длинных летящих одеждах – аллегория дружбы народов – белых, черных и желтых.
– Это вы перепутали, «Дружба народов» совсем в другом районе. На брандмауэре сейчас большая реклама будущего фильма «Начало» с изображением Чуриковой в доспехах Жанны д’Арк.
Молодой Феликс на секунду заколебался, но все же спросил:
– А как вы?
– Не могу сосчитать, сколько статей ты напишешь, но точно, что их будет великое множество. Будешь увлекаться то одним направлением математики, то другим. Чистая теория принесет тебе неожиданные взлеты фантазии и одинокую радость, радость, которой ты ни с кем не сможешь поделиться.
Не хотелось говорить о сокровенном – о жене, о детях, а тот, «другой», не спрашивал. Феликс постарался абстрагироваться, говорить о нейтральном.
– Что касается истории. Карибский кризис и отставка Хрущева – это ты знаешь. У руля встал Брежнев, потом будет череда сменяющих друг друга старцев. Появится Генсек Горбачев. Сдаст восточную Германию, разрушит берлинскую стену, распустит Варшавский военный блок. Североатлантический блок – обещали больше не расширяться на восток. Но они нас обманули. В 91-ом рухнул Союз и его политическая система, закончилась монополия компартии на власть. Мы теперь живем в Российской Федерации. Республики разбежались по национальным квартирам. Чтобы элиты могли без помех пилить национальные бюджеты. Хвастаться пока нечем. США почувствовали себя единственной империей и всем диктуют, как жить. Россия взяла на себя обязательства Советского Союза. Потеряла основную часть своей военной мощи. Мы теперь страна с так называемой рыночной экономикой. При этом – полное крушение идеалов, плюс – нищета и пустые магазины. Это было в совсем недавнем прошлом. Сейчас поднимаемся понемногу. Но, все равно, мы превратились в огромную третьесортную страну, по привычке бряцающую оружием, но с отсталой экономикой и разрушенной инфраструктурой.
Феликс заметил, что «другой» оцепенел, впал в ступор. «Бедный парень. Встретить самого себя в будущем… Мало этого – узнать, что стало с его страной, которая казалась незыблемой… Нерушимой и вечной, как мир. Столько всего сразу…»
Такое впечатление, что «другого» парализовал страх… Страх перед невозможным, непривычным, невероятным… Когда наяву сталкиваешься с тем, чего в принципе не может быть… Конечно, страшно. Потому что этого не может быть никогда. Сталкиваешься наяву… Наяву или во сне?
Попытался отвлечь своего собеседника. Молодой человек сжимал в руках какую-то книгу.
– «Как человек плыл с Одиссеем», – безучастно ответил он на вопрос Феликса.
– Припоминаю. И как тебе поэма?
«Другой» долго молчал, потом задумчиво переспросил: «Простите, что вы сказали?»
– А, поэма… Впечатляющие стихи.
Внезапно он оживился.
– Тема странствий бесконечна, Улисс появляется вновь и вновь, он плывет на своей галере через века: Гомер, Данте, Джеймс Джойс, Луговской, – произнес юноша чеканным голосом. – Жюль Верн – тоже певец Одиссеи; Александр Грин, Мелвилл… «О, сколько лет мы рвёмся по неверным пустым зыбям среди чудес попутных, средь островов, встающих из пучины, среди проливов гибельных и смрадных, что пахнут скалами и дохлой рыбой, меж тучами и сине-цветной влагой на родину, на родину, в Итаку, чтоб никогда ее не увидать».
Пафосный тон – «другой», видимо, сумел взять себя в руки. Феликс с удовольствием вспоминал забытые стихи; ему захотелось узнать, что еще этот «другой» читал в последнее время. Тот назвал несколько поэтических вещей, среди них – «Баллада о тигре». «Какая мощь в твоей руке, какое волшебство! В руках твоих и кулачке, и теплоте его», – с жаром произнес он.
– Стихи трогают нас, если мы чувствуем в них томление и порыв, а не воспринимаем их, как отчет о случившемся. Если Сельвинский так пишет о женщине, с таким неестественным восторгом, значит, он так и не узнал ее наяву, она осталась для него только недостижимой мечтой, кем-то типа Дульсинеи Тобосской, – почему-то раздраженно ответил Феликс.
Молодой человек обескуражено посмотрел на Феликса, казалось, он потерял дар речи. После некоторой паузы все-таки возразил:
– Не могу согласиться с вами. Как вы можете так говорить? Вы совсем его не знаете. Он работал грузчиком, натурщиком, репортером, цирковым борцом. Воевал от звонка до звонка – с 41-го по 45-й. Это настоящий человек, он не стал бы кривить душой, он пишет о том, что с ним действительно было.
– Было – не было, какая разница? Томление есть, порыв есть – превосходные стихи! Собираешься прочитать все его сочинения целиком?
– Не думал об этом; честно говоря, – нет, – ответил «другой», сам удивляясь своему ответу.
Феликс поинтересовался, чем он сейчас занимается.
– Увлекаюсь разными теориями, много чем занимаюсь… Дневник веду. Это самый верный друг. С ним можно делиться всем, что беспокоит.
– И что же тебя беспокоит?
– Разное. Непонимание друзей, например. А главное – то, что работаю на оборонку.
– Интересно, что плохого в оборонке?
– Плохого? Мы создаем технику для разрушения, вот что… Она несет в мир ненужное напряжение, даже, если не используется, а людям приносит одни страдания. Мне не хотелось бы впредь иметь отношение к орудиям разрушения.
– Чего тебе бояться, друг мой? Электроника, которой ты занимаешься, быстро устареет, через 10-15 лет ее заменят более современной – на основе западных разработок. А боевые системы, для которых она предназначена, будут списаны лет через тридцать. Войны не будет, говорю тебе достоверно, потому что знаю; системы эти так и не найдут себе применения, никогда не будут использованы. Зато твоя страна встроена в планетарную эволюцию высоких технологий. И инженеры ваши, и ты в их числе. Оборонный заказ всегда был локомотивом нашей экономики. Так что пусть тебя совесть не мучает. Занимайся своим делом, раз тебе нравится, тем более, что у тебя неплохо это получается.
«Другой» набычился.
– Напрасно вы все это мне говорите. Все равно, уйду из оборонки, как только представится возможность, – буркнул он.
– Ну и чем ты хотел бы заниматься?
– Не знаю пока. Тем, что приносит кому-то пользу. Что укрепляет братство людей. Современный человек не может отворачиваться от своей эпохи.
Феликс подумал и поинтересовался:
– Послушай, неужели ты на самом деле чувствуешь себя братом всех людей на земле? К примеру, всех сантехников всех домохозяйств, всех запойных алкоголиков, всех бомжей и зэков, всех страдающих несмыканием связок и недержанием мочи, всех девушек, обслуживающих дальнобойщиков на перекрестках дорог, всех вечерних бабочек с Московского вокзала?
– Я хотел бы, чтобы моя работа помогала массам слабых и униженных, оскорбленных и обиженных судьбой, – бубнил «другой».
– Массы униженных – как же в тебя въелась суконная терминология центральных газет! Нет на свете никаких масс. Существуют только лишь отдельные люди. Да и те постоянно меняются. Сегодня я уже не тот, что вчера. Мы с тобой – вот показательный пример – два разных человека, сидим на этой скамье – то ли в Хургаде, то ли в Ленинграде… То ли в двухтысячные годы, то ли в шестидесятые прошлого столетия…
Феликс подумал, что их действительно разделяют более тридцати лет. Они похожи, но имеют разный опыт за плечами… и совсем разные вкусы. Каждый из них напоминает карикатуру другого. Им трудно друг друга понять. Разговор не клеится. Советы и объяснения ничего не дадут. Да и не нужно пытаться что-то доказывать. Результат все равно будет один – тот, «другой», обречен, в конце концов, стать мною. Но Феликс не мог остановиться.
– Вокруг все так изменчиво и непостоянно. Ты весь в порыве, в желании опередить этот меняющийся мир, поймать ускользающую жар-птицу. Я же, наоборот, свое призвание вижу в поисках спокойствия и гармонии. Только спокойный человек готов к любому изменению ситуации, если он сумеет остановить бесконечную и бессмысленную трескотню собственного сознания. Это и есть свобода. Свободный человек готов ко всему. Наше сознание должно стать гладким, как поверхность пруда. Тогда оно сможет адекватно отображать любые явления.
«Другой», видимо, слушал в пол-уха, он думал о своем. И неожиданно спросил:
– Если вы действительно когда-то были мной, почему тогда вы не запомнили давнишнюю встречу с довольно образованным пожилым мужчиной, который в 1967 году уверял, что он тоже Феликс Эйлер?
«Это действительно так, почему я об этом не подумал?». Феликс ответил, но в его словах не было большой уверенности:
– Не все сны вспоминаются. Мы, как правило, стараемся забыть о неприятном. А наша встреча настолько невероятна… Легче забыть ее, чем искать объяснения. Обычно мысль непроизвольно отгораживается от того, что не может объяснить, и эта скамья длиной в тридцать пять лет, на которой мы сейчас сидим, попала в своеобразную ловушку сознания и была забыта.
«Другой» поднял глаза на собеседника и нерешительно спросил:
– А у вас, извините, все в порядке с памятью?
Феликс подумал, что для молодого мужчины двадцати пяти лет, человек за шестьдесят выглядит, наверное, безнадежным стариком.
– Голова уже не та, я могу оставить дома ключи от машины или забыть заплатить за квартиру. Но пока еще помню английский и немецкий, помимо родного русского. И неплохо говорю на этих языках.
Для сновидения их беседа длилась слишком долго. Феликса осенило.
– Попробую доказать, что я – не твой сон. То есть, ты видишь меня во сне. Но я – сам по себе, я – не часть спящего тебя. Прочту тебе стихи, которые ты еще не читал. Хотя написаны эти строки в шестидесятые, проснешься и можешь проверить… Но тогда ты их еще не знал. Не читал и не слышал, а я помню.
Плывет в тоске необъяснимой пчелиный хор сомнамбул, пьяниц. В ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец, и выезжает на Ордынку такси с больными седоками, и мертвецы стоят в обнимку с особняками[4].
– «Плывет в тоске необъяснимой пчелиный хор сомнамбул, пьяниц», – задумчиво повторил «другой», бережно ощупывая губами каждый звук. – Необыкновенные слова, столько тревоги… и никакого страха. «Мертвецы стоят в обнимку с особняками» – сколько же ему пришлось испытать, этому человеку, чтобы написать такое!
Стихи свидетеля далекой советской эпохи на мгновение сблизили их. Феликсу пришла в голову неожиданная мысль: «Я оставлю ему вещественное доказательство того, что он побывал в две тысячи втором; когда проснется, в его руке будет предмет из будущего, вот это класс!»
– У тебя есть какие-нибудь деньги?
– Есть, рубля три. Сегодня вечером я позвал Лёвку в грузинское кафе на Толмачева.
– Хорошо знаю улицу Толмачева, теперь она называется Караванной. Передай Лёвке, что скоро он станет большим боссом в театральном мире. А теперь дай мне одну монетку.
Тот, не понимая зачем, протянул Феликсу двадцатикопеечную монету.
– Вы, наверное, не помните… На это можно купить батон, еще сдача будет. Есть батоны за 11, 13 и 15 копеек. Мы берем обычно за 13. Он внешне посимпатичней будет – более поджаристый, что ли, да и на вкус лучше других.
Феликс дал ему пятидесятирублевую купюру.
– На эти деньги тоже можно купить батон, и тоже сдача останется.
Младший Феликс так и впился в нее глазами.
– Не может быть, здесь стоит дата – 2002 год. Это чудо какое-то! Говорят, что чудеса внушают страх. Я, например, не верю в чудеса – ни в купюру из будущего, ни в семь хлебов, которыми можно накормить четыре тысячи человек.
Неожиданно он разорвал купюру, а монету оставил Феликсу.
– Зачем ты сделал это?
– Вы сами сказали, что наша встреча настолько невероятна, что легче забыть о ней, чем искать объяснения. Лучше забыть, чем иметь подтверждение сверхъестественного…
Феликс проявил солидарность и выбросил монету в реку. Купюру развеяло по ветру, монета – на дне, никаких улик о необыкновенной и необъяснимой встрече.
– Сверхъестественное пугает. Но если оно будет повторяться? Можно ли к этому привыкнуть? Давай попробуем: предлагаю завтра встретиться на этой скамье, находящейся одновременно в России и Египте и в двух разных эпохах.
«Другой» для виду согласился и сказал, что ему пора. «Ну, пора, так пора, мне тоже, наверное, пора», – вздохнул Феликс. Неожиданно «младший» выпалил то, о чем, видимо, думал на протяжении всей встречи.
– А скажите, получится ли у меня что-нибудь с той девушкой? Ну, с которой я пью кофе…
– Не следовало бы рассказывать об этом, но ты все равно забудешь… Это ведь твой сон… В какой-то момент тебе покажется, что у вас с ней может получиться. Но, в конце концов, вы расстанетесь… По обоюдному согласию, так сказать. Не расстраивайся, все, что ни делается, к лучшему.
«Другой» заметно погрустнел, опустил голову. Потом они простились. Два Феликса. Подать друг другу руку не решились.
Феликс остался на скамье. Спешить было некуда. «Вот я здесь, – он ощупал, пощипал себя. – Не сплю. Была встреча. Я говорил с тем, «другим» наяву и поэтому могу вспоминать сейчас о нашем разговоре. Тот говорил со мной во сне, вот и забыл о встрече. С самого начала хотел забыть о ней. Тем более, что многое из нашей беседы ему не понравилось. Возможно, даже немного напугало. Еще во сне он постарался выбросить неприятное из головы. Но это неприятное, оно ведь осталось в нем и непроизвольно подтолкнуло на неожиданные решения. Получается, что я все-таки повлиял на него, что мой «совет» дошел до адресата. Интересно, что сохранилось у «другого» в памяти, когда он проснулся? Кстати, он очень удивился, когда увидел дату – 2002-ой год. А ведь на купюре нет даты выпуска. Значит, ему снилась купюра из будущего с несуществующей датой. А я, может быть, ему вовсе и не снился».
Весь день Феликс чувствовал подъем настроения и прилив сил. Новое чувство, которое он испытал впервые на самом дне, накануне, на двадцатиметровой глубине. Ощущение полной свободы. Такое ли уж новое? Может быть, он раньше уже испытывал нечто подобное? Ему казалось, это как-то связано – чувство свободы и то, что теперь он может легко путешествовать во времени. У свободного человека, наверное, снимаются какие-то ограничения. Небольшое путешествие во времени только добавило ему спокойствия и уверенности. «Поверхность моего сознания, – подумал он с удовлетворением, – видимо, становится все более гладкой, все больше напоминает зеркало тихой воды».
Вспомнилась маленькая, прелестная девушка, в которую он был так безнадежно влюблен тридцать пять лет назад, и которая теперь почему-то напомнила ему Жанну д’Арк с афиши фильма «Начало». Для него она всегда была в глухих, непробиваемых доспехах. Ангел в доспехах. Но без меча.
Феликс мысленно перенесся в то раннее утро, когда он добрался до Пицунды. Накануне все решилось. Еще один разговор с девушкой в доспехах. Последний. Конечно, последний – так больше продолжаться не могло.
Надо бы перекусить с дороги. Феликс зашел в разбитое, затертое стеклянное кафе. Какое кафе? Заштатная совковая, дешевая столовка самообслуживания. Исцарапанные, изломанные пластиковые подносы с бахромой стекловолокна по краям, старые тарелки и алюминиевые вилки и ложки. Ножей там не было, салфеток не было, солонок тоже не было. Но что это была за еда! Салат из южных помидоров с огурцами и капелька растительного масла непонятного происхождения. Тарелка с пучком ароматных кавказских трав – мята, петрушка, кинза, базилик. И тарелка лобио. Стоило это копейки. Плюс стакан пива местного разлива.
Уставшая (с утра – и уже уставшая!) немолодая бледная тетка за стойкой насыпала ему на край тарелки сероватой соли крупного помола. Феликс посмотрел брезгливо на дистрофический гуляш, бледно-желтую котлету, на липкую, бесформенную лапшу и отказался от мяса и гарнира. Все остальное его вполне устраивало.
На Феликсе – полосатая матерчатая кепка, простые холщовые штаны, завернутые по колено длинных худощавых ног, расстегнутая рубашка, завязанная узлом на голом мускулистом животе, легкие сандалии на босу ногу. Он стилистически вписался – и в теплую атмосферу маленького южного городка, и в эту замызганную столовую с вкусной натуральной закуской – травой, лобио – от запаха которой кружилась голова. Нет, голова кружилась не от запаха травы и лобио. И не от пряного, душистого воздуха. Голова кружилась от неожиданно охватившего его ощущения свободы. Он свободен! Молодой, сильный, ничего не боится. Ни с чем и ни с кем не связан. Свободен!
В столовой было мало народа в это раннее утро. К стойке раздачи подошла молодая пара – парень и девушка, оба в шортах, – видимо, из отдыхающих, возможно, молодожены. Они робко озирались по сторонам. За ними увязался молодой развязный кавказец, рыжий, в веснушках, – наверное, абхазец из местных. Он требовал, чтобы девушка пошла с ним. «А ты не лэзь, – говорил он парню, – хочэшь, чтобы я тыбэ лыцо ножычком почикал?» На ребят было жалко смотреть. Никто и не думал вмешиваться, чтобы попытаться помочь им.
Неизвестно откуда пришедшее ощущение подъема и свободы толкнуло Феликса вперед, он подошел к абхазцу. «Послушай, генацвале. Ты такой парень – орел, настоящий джигит! Зачем тебе эта девушка? Она что, оценит тебя, разве такая девушка тебе нужна? А ее парня ты и так до смерти напугал уже. Сегодня-завтра приедут из России или с Украины стоящие девчонки, будут счастливы провести время с таким, как ты. А эта – зачем она тебе?» Это что еще за новости? «Я тэбе нэ гэнацвалэ! Ты къто такой?»
Джигит осмотрел высокого, плечистого Феликса, хотел продолжить в том же духе. Но что-то его остановило. Веселая, добродушная улыбка Феликса окончательно обезоружила рыжего. «Да я нычего, я так. А то эти прыезжые вабражают о себе больно… Ты откуда, из Лэнынграда? Это хорошо! Гъдэ остановылся, на рыбъзаводэ? Харошеэ мэсто». Инцедент был исчерпан.
Феликс вспоминал это происшествие, смаковал ощущение пьянящей свободы, пил его маленькими глотками, словно терпкое молодое вино. Откуда оно тогда взялось? Не из-за этого же провинциального абхазского парня… Конечно, нет! Его больше не мучили сомнения и переживания. Как-то всё само собой получилось – он принял важное решение, отказался… Отказался от своего прошлого, которое совсем недавно представлялось ему таким важным… Недавнее прошлое… Оно словно стерлось из памяти… И он получил свободу. Прошлое тянет назад. Связи, обязательства, чувства, привязанности, они тянут назад и вниз, не дают взлететь. Так думал теперешний Феликс. А тот, молодой Феликс, ни о чем не думал. Ему просто было хорошо.
На этой стороне сновидения
Над волной ручья ловит, ловит стрекоза собственную тень
Тиё-ниВечером того же дня, когда спала жара, Феликс появился у бассейна. Плавал, нырял, кувыркался в прозрачной голубой прохладе, чувствовал себя совсем молодым. Можно все скинуть – очки, ласты; свобода – только ты и вода! Сидел на краю бассейна, – его тело было украшено легкой кольчужкой из радужных капель воды – и смотрел, как солнце, уже не палящее как прежде, медленно приближалось к горе на западе. Солнце зайдет, и сразу станет холодно.
Подошла его знакомая – Дина, женщина лет сорока с небольшим, – устроилась рядом на краю бассейна, обхватила колени руками.
– Как дела, Фил? Что-то вас не видно было сегодня на пляже.
– Все хорошо, море волшебное. С утра заметил недалеко от берега большого наполеона[5] и увязался сопровождать толстяка. Плыл над ним, представляешь, – а он повернулся набок и смотрел снизу. Вот так, смотрим друг на друга и плывем… И добрались аж до тех дальних скал.
– Ух, ты! А что потом?
– Кто-то сказал, что мальчишки нашли мурену… В пещере, на трехметровой глубине. Что дразнят ее палками, хотят выманить из логова. Этого никак нельзя делать. Разыскал ребят – оказались наши, из России – объяснил им… Не дразните мурену, у нее ядовитые зубы, может испугаться, покусать. Нырнул посмотреть, батюшки-светы! – огромная уродливая голова… Закрывает вход в расщелину, где рыбина сама и прячется. Пока наблюдал, она выбиралась из укрытия. Под водой мне показалось… Длина – никак не меньше 2.5-3 метров! Извивалась, словно угорь… И неторопливо удалилась по своим делам. Считается, что мурена – опасная рыба. На самом деле – совсем безобидная и, кстати, почти слепая. Если ее не беспокоить, – никого не тронет. Вот так, Диночка, я и провел сегодняшний день. Доклад окончен. А где ваш муж и подружка?
– Вон там, на тех лежаках – Денис, а чуть дальше Риточка, она, кстати, как и вы, из Петербурга. Нет, я смотрю, Рита уже ушла. Ну, вы нас всех вчера удивили, Феликс. Каждому рассказали, что его ждет и как долго он проживет.
Феликс взглянул на Дину – милое, скуластое, немного неправильное лицо, светлые волосы, затянутые в кичку, открытые доверчивые глаза. Ровный золотистый загар. «В возрасте, немного полновата, пожалуй, а как хороша! – подумал Феликс. – Да, во времена Рубенса люди понимали толк в женской красоте. Не то, что эти современные худосочные модели, тоже мне примеры для подражания».
– Скажите, Дина, а почему вы все вдруг так сразу мне поверили? Этого ведь напоминает… ворожбу что ли. Может, я шутил? Такой розыгрыш, вроде прикола.
– Знаете, Феликс… невозможно вам не поверить. Мне кажется, вы не умеете лгать. Но как это у вас получается? Как вы обо всем этом узнаете?
– Честно говоря, никак. Не обдумываю, не вычисляю и не анализирую. В общем, я не Шерлок Холмс. Просто смотрю на человека и вижу, что будет. Не знаю, как это получается, сам удивляюсь… Видимо, помогают «высшие силы». А если серьезно… Мне кажется, я что-то вижу… Точно ведь не знаю – как это можно проверить?
– Но вы о некоторых из нас почему-то не захотели говорить.
– О ком я просто ничего не могу сказать. Кого-то вижу, кто-то открывается. Ну, мне так кажется… А о ком-то ничего не могу сказать. Иногда специально ничего не говорю – если человека ждет плохой конец, зачем его зря тревожить? Тем более… а вдруг я ошибаюсь?
– Вы сами себе не доверяете, а я, например, верю вам. Это про кого вы только что говорили? В смысле плохого конца… Есть такие?
– В вашей компании и среди соседей по пляжу никого такого не заметил. А вообще-то, встречал здесь. Вот посмотрите – эти двое вам знакомы?
Феликс показал на пару, отдыхающую на противоположной стороне бассейна, изогнутого наподобие большого бирюзового полумесяца. Она – крупная нагловатая блондинка не первой свежести со стрижкой под мальчика. Ее спутник – видимо, немного старше – породистый, сухопарый, сильный еще мужчина, с коротким ежиком седеющих волос и решительным лицом. Дина ответила, что не знакома с ними.
– Она – чужая жена, он – чужой муж. Любовники по зову плоти, так сказать, никак не сердца. Потому что так принято, потому что для здоровья полезно. Потому что, по их мнению, «хороший левак укрепляет брак». А я вижу другое… что он уже давно болен, болен неизлечимо. Через полгода узнает об этом, еще год продержится на химии. Как говорится: «не возжелай жены ближнего своего». Хотя человека все равно жаль, он уже на той стороне…
– Не поняла, на той стороне бассейна? Что вы имеете в виду?
– На той стороне сновидения. Послушайте, Дина… Я много думал об этом… Это, конечно, только мое мнение… Нашу жизнь можно сравнить со сновидением: жизнь заканчивается, и человек просыпается. Тот человек уже почти весь на другой стороне сновидения. Здесь осталась лишь малая часть его – лишь то, что мы видим. Он говорит, двигается, чего-то хочет, а его уже нет с нами, он – там, хотя и не осознает еще этого.
Дина ошеломленно посмотрела на Феликса, на мужчину, отделенного от них голубой дугой поверхности воды.
– И ничего нельзя сделать?
– Диночка, я же не пророк и не Иисус, не могу подойти, тронуть рукой и сказать: «Излечись!». А просто сообщить… – зачем? Посмотрит на меня, как на идиота, все равно ведь не поверит. И неприятный осадок останется. Тем более, что я не уверен… Может, это все мои больные фантазии. Пусть живет в свое удовольствие. Хотя бы полгода. Но даже, если я не ошибся… Посмотрите на это с другой стороны: если бы я не показал вам этого человека, не объяснил его проблем, он бы для вас и не существовал. А так у вас осталось воспоминание о нем. Но это ведь только воспоминание, которого могло бы и не быть, а его самого, этого человека, и так уже почти не существует. Всех нас ждет неизбежное… Все мы когда-то превратимся в чье-то воспоминание. Мы, люди, – веселое племя. Знаем, что путь каждого отмерен… Но не унываем и живем на полную катушку.
– Феликс, я вижу: у вас на шее крестик, вы верующий?
Феликс кивнул.
– Неудобно спрашивать… Почему вы верите? В том смысле – почему вы верите, что Бог есть? Можете это как-то объяснить мне? Когда вы в церкви, это помогает вам встретиться с богом? Не отвечайте, если… Наверное, я нетактичная…
– Ничего страшного, вопрос как вопрос. Другое дело – смогу ли я ответить. Не люблю об этом говорить… Это ведь очень личное. Но раз вы просите… только я не поучаю и ничего вам не советую.
Вначале о церкви… Молиться можно не только в церкви, мне так кажется. Конечно, есть таинства причастия, крещения… Это намоленная за две тысячи лет дорожка. Но верующий всегда найдет Господа в своем сердце – это может случиться под каждым кустом. Помолиться, попросить о помощи можно везде, в любом месте и в любое время. Если веришь. А сама по себе вера – вопрос приватный. Можно сколько угодно читать Библию, Новый Завет, изучать трактаты и ничего не знать о Господе – есть он или нет, каков он, как относится к людям…
Верит человек или не верит… Это зависит только от одного – был у него собственный мистический опыт или его не было. Если такой опыт был… Если хоть раз человек почувствовал, что Святой Дух спустился к нему, сомнений больше не возникает.
Наверное, Святой Дух посещает каждого, к каждому приходит. Отцы церкви учат, что ангелы небесные расставляют на нашем пути знаки и предупреждения. Надо быть очень внимательным, чтобы не пропустить знаки, не пройти мимо. А мы… В суете жизни, в шуме пустых устремлений и ненужных хлопот ничего этого подчас не замечаем. Если хотите знать мое мнение… Вера не терпит суеты, она может жить только в тишине сердца.
– Как же добиться этой тишины?
– Тишина приходит, когда человек становится свободным… если он перестает быть рабом. «По капле выдавливать из себя раба…» Вначале научитесь… Одним словом, избавьтесь от страха.
– Избавиться от страха… – Дина задумалась. – Скажите, Феликс, бог – это любовь, так ведь? Ну, вы все так говорите. Почему Господь жесток и несправедлив к людям? Почему допускает, чтобы в мире оставалось столько горя и несчастья?
– Вечные вопросы. Кто я такой, чтобы отвечать на них, тем более – давать рецепты?
– Но вы-то сами что об этом думаете?
– Что думаю? У каждого человека и у каждого народа свой путь. Каждому даются испытания по делам его. Люди, народы, культуры, они появляются и выковываются… в тяжелых испытаниях. Или исчезают.
– Я понимаю, когда жизнь и судьба наказывают грешника, разбойника, развратника, прелюбодея. Почему горе и наказания обрушиваются на головы ни в чем не повинных людей?
– Эх, Дина, Дина, заставляете меня заниматься не своим делом. Я ведь не проповедник. Ну ладно, давайте, попробую. Господь не вмешивается в мирские дела, так? Мне так кажется… Чтобы изменить мысли и поступки людей, ему пришлось бы отнять у нас свободу выбора. В этом случае мы перестаем быть существами, созданными по образу и подобию… становимся просто куклами в руках обитателей небес. Ты свободен, человек, но будь добр – отвечай за свои поступки. Господь учит, подсказывает, но не вмешивается. Он любого человека любит. И больше всего радуется, если закоренелый преступник становится праведником и возвращается в Христову церковь, – это не мои слова, я повторяю толкователей знаменитой притчи о блудном сыне.
– Нет, он жесток. Почему самые тяжелые испытания обрушиваются на головы лучших людей?
– «Каждому свое». Мудрецы и праведники считают, что человеку даются испытания по его силам. Так ли это? Нам не дано узнать, в чем состоит Промысел Божий. Мы можем только одно: учиться жить по заповедям Иисуса и терпеливо нести свой крест.
– Не могу согласиться с вами. Моя подруга Риточка – ангел, а не человек. Растила сына без мужа. Растила, растила, а теперь тот пропал, полгода – никаких известий. За что ей, ее сыну – за что?
– Вы говорили, ее сын в армии? Пусть Рита не беспокоится. Я думаю, ее сын жив. В плену у чеченцев. Сидит в земляной яме. Цел он, пока ничего с ним особенно плохого не случилось, не били, не калечили, исхудал только очень. Спецслужбы уже ищут его. Скоро выручат. Передайте Рите – пусть ждет сына.
– Вы не ошибаетесь, вы уверены? В любом случае, спасибо вам, Феликс, за добрые слова. И за надежду… А вдруг вы действительно правы? Вы ведь еще ни разу не ошиблись. Как же вы меня обрадовали! Пойду искать Риточку. Не знаю, говорить – не говорить? – а вдруг ошибка?
– Мне кажется, все у нее будет в порядке… Просто постарайтесь успокоить ее… Всегда надо верить в лучшее и ничего не бояться.
– Значит, вы считаете… Верить в будущее и жить без страха?
– Жить без страха – только первый шаг. Верить надо… Я много лет шел к этому. Верующий ничего не боится. Что бы с ним ни случилось, он не одинок – бог всегда рядом, бог никогда не оставит и не предаст.
– Только первый шаг… Эх, Феликс, рассуждать легко. А как не беспокоиться, как не бояться за родных, за близких? Ну, скажите, вы боитесь за своих?
– Конечно, Диночка, вы правы, я всегда за них переживаю.
«Как не бояться за родных? – подумал Феликс. – Если бы я сам мог ответить на этот вопрос!».
Сотри личную историю
Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне, морозный ветер, бледный ветер обтянет красные ладони, и льется мед огней вечерних, и пахнет сладкою халвою; ночной пирог несет сочельник над головою И. БродскийНа следующий день Феликс опять встал рано и двинулся к заветной скамье. На душе было спокойно. Вряд ли «другой» придет сегодня, но почему не попробовать? Что-то подсказывало ему: сегодня опять может случиться нечто неожиданное. Густой туман окутывал скамейку и весь окружающий пейзаж. Туман был еще гуще, чем накануне. Встречи и разговоры вчерашнего дня пробегали перед его глазами, будто кто-то перелистывал страницы книги. Он вспоминал, видел все, что случилось, очень четко, но будто бы это произошло не с ним, а с кем-то другим, будто это его не касалось и совсем не трогало. Прошло полчаса, и Феликс собирался было уже уходить, когда из молочной пелены вынырнула фигура высокого мужчины, одетого почти по-зимнему, – пухлая теплая куртка с поднятым воротником, темные брюки, огромные зимние ботинки на высокой рифленой подошве, напоминающие туристские «вибрамы», на голове – мягкая кепка, сшитая из толстого драпа. Почти по-зимнему…
При этом – ни шерстяных варежек, ни кожаных перчаток, руки его были голыми и почему-то покрасневшими, будто от мороза. Легким шагом мужчина подошел к скамейке, внимательно посмотрел на Феликса.
– Разрешите присесть? Единственная скамейка, не занесенная снегом.
Голос незнакомца чуть вибрировал и, казалось, приходил издалека. Феликс воспринял его замечание как шутку.
– Откуда здесь может быть снег? Садитесь, не возражаю.
Незнакомец сел, откинулся на спинку скамьи, спросил, не глядя на Феликса:
– А вы, уважаемый, по какой причине голышом в такой холод?
– Разве холодно? – что-то я не заметил.
– Пожалуй, вы правы. Здесь, на «вашей» скамейке вроде совсем и не холодно. Просто вы – горячий человек, растопили зиму своим жарким дыханием. Наверное, последователь Юры Зубкова? Мой приятель, отставной военный. Большой оригинал. Причем, что интересно, эта его «оригинальность» проявляется практически во всем. Занимается единоборствами. Ходит на какие-то «любки», такая борьба в парах – не на победителя, а на гармонию. Говорят, что занимался когда-то раскопками НЛО. В общем, чем только он ни занимается. Изменяет жене, а называет это «тантризмом». Как говорится – ни слова в простоте. Ну и круглый год ходит в одной футболке с короткими рукавами, шортах и сандалях на босу ногу. Это в нашем-то северном петербургском климате.
Феликс не стал расспрашивать незнакомца, ничего не стал объяснять.
– Вы удивитесь, но я действительно был когда-то знаком с Юрой Зубковым. Наверное, лет десять тому назад. Это правда – он большой оригинал. Но я никак не его последователь.
– Судя по всему, вы держите себя в тонусе. Наверное, закаляетесь с детства. Молодец. А Юру я совсем не осуждаю. Пусть ищет свой путь. Каждому свое. Знаете, ваше лицо кажется мне знакомым. Нет, не встречались? А, я понял! – мы очень похожи. Только вы, пожалуй, старше. Слушайте, мы ведь на одно лицо. Только волос на голове у вас поменьше. И загорелый вы очень, я вначале за араба принял. Может, мы и родственники, чем черт не шутит. Ну, точно – мы на одно лицо: губы, глаза, покатый лоб. И фигуры похожи. Вы мою не видите, а я вашу вижу – точно говорю: мы очень похожи. Вот она игра генов. Вам ничего не говорит фамилия Эйлер?
– Как не говорит – знаменитый математик XVIII века. Работал в петербургском университете. А вообще-то, вы в точку попали. Наверное, я вас удивлю, но мы оба Эйлеры. И оба когда-то занимались математикой.
– Здорово, но как вы определили, что я занимался математикой?
– Не знаю, просто так подумал. Потому что вы – потомок Эйлера. Потому что похожи на меня, потому что в моей жизни тоже была математика… Чем вы вообще занимаетесь? Что делаете?
– Даже не могу вам толком ничего ответить. Пятнадцать лет пахал в оборонке. Мечтал перебраться куда-нибудь в открытую шарашку, на другую тематику, чтобы никакой секретности не было. Перешел в Академию наук. Отработал там десять лет, только встал на ноги, и вот началась перестройка. Теперь мы все строим капитализм. Мое научное направление закрыли, науку не финансируют, наука никому теперь не нужна. Я в свои пятьдесят оказался на улице.
– И что вы решили?
– Что можно решить? У меня молодая жена, ребенку восемь лет. Семью кормить надо. Конечно, остались связи, контакты… Пробовать идти по проторенному пути, жить как раньше, пытаться найти скромную работу в каком-нибудь заштатном НИИ? Тянуть лямку, с трудом сводить концы с концами, гадать – выплатят зарплату или не выплатят? Утешаться тем, что государство тебе должно, может быть, когда-нибудь и погасит. Но я принял вызов. Раз того требуют обстоятельства… Решился на то, чтобы круто изменить свою жизнь. Мы с друзьями сняли подвальчик и теперь пытаемся «предпринимательствовать».
– Получается?
– Как сказать? Опыт у меня есть, создавал уже раньше кое-что… Что там было? – кооператив, малое предприятие… Не отходя, так сказать, от «научного станка». Но сейчас дела, честно говоря, не очень. В общем, друг мой, начинаю с Нового года новую жизнь. Послезавтра куранты возвестят о том, что наступил 1992-ой. Готовлюсь. Вот, выскочил елку купить. Мы каждый год елку ставим на новогодние праздники, чтобы дома хвоей пахло, для настроения. А на базаре чечмек, который елками торгует, написал: «Ушел на полчаса перекусить», так что я болтаюсь пока, к вам прибился.
Фу, как жарко, оттепель ударила, потому и туман, а я совсем по-зимнему оделся. В общем, вынес на помойку научную библиотеку, оставил только самые любимые книги по математике. Думаю, никогда я уже к науке не вернусь. А что выжить – выживем, я в свою звезду верю. Сколько раз начинал с нуля. Когда в Академию переходил, тоже тяжело было все бросать – и интересную работу, и друзей, и тематику, в которой я как рыба в воде. Уважаемым человеком был. Но решился и отсек. И главное – ни о чем потом не пожалел. Будто кран чистой воды открылся – и пошел поток новой, свежей, незнакомой жизни, а старое смылось. На свалку, так сказать, личной истории. Не боюсь начинать с нуля, стереть и забыть свое прошлое. Это дает какое-то необыкновенное ощущение свободы. Вот кто я теперь такой? Начинаю с чистого листа, а страха нет. Жизнь должна меняться, и надо всегда быть готовым к этому. А что у вас?
– У меня все очень похоже. И связей с прошлым у меня уже почти нет. Только самые близкие остались – жена и ребенок, все как у вас. Ребенок на десять лет старше вашего. Уже почти взрослый. И ни за что я не цепляюсь, кроме как за них. Поэтому у меня всегда мир в душе. В общем, мы очень похожи. Я чувствую себя совершенно свободным и абсолютно спокойным. И кажется, что мне теперь на многое глаза открылись.
– Ну, вот и скажите, уважаемый, как у меня – получится продержаться на плаву, ваше мнение? Или вернуться назад, на поклон к обнищавшему государству, которому такие, как я, яйцеголовые, теперь совсем уже не нужны? Не потяну ли я своих любимых вслед за собой в пропасть? Работы нет, кругом бандиты, что настоящие бандиты, что менты, что госчиновники – тоже бандиты, облеченные правами. Только похуже братков будут. С братками хоть о чем-то договориться можно. По понятиям. А эти… Сами живут по понятиям, а с нами, лохами обыкновенными, – именно такими они нас всех и считают – ни о чем договариваться не станут. Действуют во имя «высшей государственной целесообразности». Для них «целесообразно» только одно – набить свой карман.
– Получится, дружище, не сомневайтесь, все у вас получится. Идите вперед и не оглядывайтесь.
– Как говорится, «доброе слово и кошке приятно». Затаскано, конечно, но абсолютно верное высказывание. Что вы обо мне знаете? Ровным счетом ничего. Только то, что веселый с виду дядька. Вот то-то и оно – «с виду». А сказали «все у вас получится», и я почему-то сразу поверил вам. Мне тоже почему-то люди обычно верят. Наверное, потому что стараюсь не врать и всегда готов помочь любому, не из соображений «высшей целесообразности», а от души.
– Хотите, оставлю вам интересный сувенир?
Феликс протянул новому знакомому пятисотрублевую купюру. Тот взял купюру и с удивлением рассматривал ее.
– Ого, пятьсот рублей – будь здоров, почти мой месячный заработок. Но не сейчас, сейчас я ничего не зарабатываю. А месяца два назад… И написано – «2002 год». Суперская купюра. Вы, наверное, в Центробанке работаете, проект новых денег показываете. Которые еще будут через десять лет. Да нет, спасибо, не возьму. Это же макет. А если бы даже и деньги… Все равно бы не взял. Зачем мне деньги? Деньги приходят сами, когда в них есть потребность. Человек не для денег живет. Господь не оставит тварь земную, что птицу божию, что человека. Он даст нам и пищу, и кров над головой, и денег – ровно столько, сколько нам для жизни потребуется. Так что, извините, я ваш подарок не приму. Да мне уже и идти пора, а то все хорошие елки разберут. Приятно было поговорить с вами. Адьё! – сказал на прощание собеседник. – Может, еще увидимся, Питер – город маленький.
– Это вряд ли, – ответил Феликс, но объяснять ничего не стал.
– Ну ладно, продолжай закаляться, всего тебе, давай лапу, мужик.
Феликс заметил, что рука того, другого, казалась стеклянной и прозрачной, он побоялся пожать ее, подумал, что ненароком может каким-то образом нарушить очарование этой необыкновенной встречи. Сослался на то, что «у меня, знаете ли, рука побаливает – наверное, кисть повредил». Поздравил с наступающим Новым Годом, пожелал успехов. «Он постарается», – ответил ему собеседник и исчез в молочном тумане.
Феликс задержался на лавке.
– «Матерый», – подумал он о недавнем собеседнике. – С виду. А на деле – такой-же торопыга, каким был в свои двадцать пять, все спешит, спешит. Пожалуй, тот «другой» оказался проницательней «матерого»; во всяком случае – наблюдательней и критичней. А этот не понял даже, почему я не в зимнем, кто этот незнакомый человек, которому он, не задумываясь, выкладывает свои проблемы и самые сокровенные мысли. Да и я за прошедшие десять лет не очень-то, видно, изменился. Просто я сейчас в более выгодном положении – знаю, кто он такой, а он нет. Я говорил с ним наяву, поэтому сейчас вспоминаю нашу встречу, а он говорил со мной во сне и наверняка обо всем забудет. У того молодого, «другого», есть желание разобраться, понять, а этому – «матерому» – все ясно. Дата на купюре его совсем не удивила: будущая дата? – значит, я из Центробанка и дарю ему макет. Мы обсуждали поворотное решение в его жизни, и он получил от меня подтверждение верности своего решения. Как и вчера, я, видимо, незаметно повлиял на него, вернее, подтвердил правильность уже принятого решения. Вряд ли он вспомнит меня, проснувшись, купюру – точно нет. Скорее всего, он запомнит ту часть сна, где обсуждалось – «стереть личную историю».
Феликса по-прежнему не покидало ощущение прилива сил, подъема настроения – это было на дне, это было вчера и позавчера – и какое-то новое чувство освобождения. Свобода и возможность путешествовать во времени… Еще одно путешествие во времени не только не обескуражило его, наоборот – добавило спокойствия и уверенности. Поверхность его сознания… Зеркальная гладь… Он еще раз вспомнил о принятом тогда, в те годы решении… О том, как отправился в самостоятельное плавание по бурному морю «бандитского капитализма», по «гуляй-полю» России начала девяностых. Прошел год, все его дела, затеи клеились, все получалось. Ему уже было чем управлять: реконструкция объектов недвижимости, капремонт жилого дома, склады автомобилей, торговые площади разного профиля… Вот он только что въехал в новый, отремонтированный офис на Рубинштейна… Зима 93-го года. Облик Феликса существенно изменился. Работая в Академии, он одевался в свободную одежду спортивного покроя – вельветовые брюки, свитера. Теперь на нем синий кашемировый клубный пиджак с металлическими пуговицами, рубашка с галстуком и брюки, все подобрано в тон и приобретено в комплекте с участием дизайнера в торговом центре в Гааге, модные очки со слабо тонированными стеклами, дорогие фирменные туфли. Положение обязывает. Феликс часто встречается со столпами крупного бизнеса, отцами города, с депутатами. Презентации, открытие новых объектов, поездки в Москву, к зарубежным партнерам – президенты, вице-президенты компаний, послы, консулы… У него по-прежнему легкая походка, выправка спортсмена и немного покатые плечи боксера. Все налажено: есть штат вышколенных сотрудников, знающих свою работу. В небольшой приемной – милиционер Юра на договоре, две расторопные секретарши, работающие поочередно день – через день, с 9-ти до 9-ти, в глубине офиса небольшая столовая для сотрудников.
В приемную вбежал заполошенный Влад Скуницын, партнер Феликса по некоторым проектам, очень высокий мужчина, худощавый с большим орлиным носом. Обычно прыткий, наглый и нахрапистый, он сейчас выглядел бледным и испуганным. На шум в приемной Феликс вышел из кабинета. Что случилось? Чем так напуган нахальный и бесцеремонный Скуницын? Рядом с Владом – приземистый, краснорожий, изрядно пьяный милицейский сержант в зимней одежде камуфляжной окраски, круглый как колобок, к боку Скуницына приставлен пистолет. «Что вы здесь делаете, сержант? Как вы себя ведете? – уберите оружие! В каком вы состоянии?». «Этот ваш длинный на нас с Вованом сам набросился. Вован подтвердит. Щас грохну его прямо у вас в офисе». «Вы в своем уме, сержант, что вы несете? Из какого отряда? Кто ваш командир? Юра, вызывай группу захвата, скажи – вооруженное нападение, чего ты ждешь? У тебя же тревожная кнопка!». Сержант сконфуженно удалился, Скуницын одернул одежду, будто стряхивая с себя постыдный страх, пытаясь снова выглядеть смелым и независимым.
Сколько было неприятных и опасных эпизодов – наезды некого Фомича, радостно поменявшего работу помощника мэра на лавры лидера доморощенной ОПГ, наезды других авторитетов, в недавнем прошлом – почетных сидельцев, руководителей полукриминальных охранных структур, наскоки некоторых наглых «народных» артистов и режиссеров, искренне верующих, что им все чего-то должны…
Все это проходило как бы мимо его сознания. Будто кто-то без него решал возникавшие сиюминутные проблемы, разруливал, вел переговоры, ездил на стрелки. По большому счету все эти неприятные и опасные ситуации не могли вывести его из себя, Феликс оставался спокойным, и по гладкой поверхности его сознания лишь иногда пробегала мелкая рябь. Что помогало ему сохранить невозмутимость человека, освободившегося от многого ненужного, наносного? Главное, что ему ничего не нужно было ни от этих людей, ни от других, ни от жизни вообще.
Он работал, много работал – так, как это делал всю свою жизнь, 12-15 часов в сутки, часто без выходных. Не боялся вызовов времени, не боялся браться за новое. Юридические вопросы? – будем изучать законы, экономические проблемы, банки, кредиты, лизинг; страхование? – будем изучать и это, а еще – маркетинг, сервис, техобслуживание, строительство… Феликс брался за все, он был готов к новым вызовам. Трудился много, работал легко, с подъемом. Свободный человек. Он занимался делом и, как всегда, старался делать его хорошо. А деньги? Как таковые деньги его не интересовали. Деньги – это лишь аппарат, средство приводить в движение различные механизмы бизнеса – партнеров, смежников, служащих, транспорт, проекты, недвижимость. Феликс слыл бескорыстным человеком. Часто помогал сотрудникам и друзьям. Бескорыстие… Обязательное качество по-настоящему свободного человека. А если говорить об опасных посетителях, об опасных ситуациях, которые постоянно сопровождали жизнь и работу деловых людей в девяностые годы, то Феликс, конечно, не думал о всяких высоких материях.
Во всех своих деловых контактах, в том числе – с криминалом, он придерживался двух простых правил. Первое – оставаться самим собой, ясно понимать свою позицию и неизменно ее выдерживать, ни под кого не прогибаться. А второе – быть со всеми неизменно уважительным, никого не обижать, не оскорблять – ни помыслом, ни словом, ни делом. Это, последнее, легко ему давалось. Никогда он не ощущал себя выше кого-то, уважал всех, – на самом деле, от души – с кем бы ему ни приходилось сталкиваться в его новой непростой жизни, будь то мэр, бизнесмен, простой охранник, бандюган, криминальный авторитет, несчастная бабушка… Все они – люди, достойные уважения, внимания, сострадания и доброго слова. В том числе и посетители с криминальным душком. Как еще мог он относиться к этим убогим, заблудшим здоровякам, которым казалось, что они живут правильно, строго, по понятиям? И каждый раз, когда можно было сказать, наконец, «инцидент исчерпан», Феликса посещало это необычное ощущение пьянящей свободы. Откуда оно взялось? Оно появилось раньше. Тогда, когда он принял для себя принципиальное решение – в очередной раз круто изменить свою жизнь. Очередная порция прошлого постепенно стиралась из памяти, и он получал свободу. Связи, привязанности тянут вниз. Так думал теперешний Феликс. А тот, другой Феликс, «матерый», он ни о чем не думал. Ему было просто хорошо. И он пер как танк, не обращая внимания на препятствия.
Даже в те сумасшедшие годы ему иногда удавалось вырываться из вихря встреч, приемов, совещаний, стрелок, и тогда Феликса несло по родной стране… Поездки тех лет, немногочисленные дни, свободные от работы, поездки с женой и сыном по любимым местам Северо-Запада – яблоневые сады Псковщины, лебеди на озере близ Изборской крепости, Успенский пещерный храм Псково-Печерской Лавры, леса и озера Карелии, карельский материковый разлом, церковь в Марциальных Водах, в строительстве которой принимал личное участие его, Феликса, кумир – император Петр Великий…
Откуда вы знаете, что это рука?
О да, я знаю, это по мне колокол вечный звонит, но в тишине прохладой дышу
Кобаяси ИссаВечером, как обычно, Феликс появился у бассейна. Устроился подальше от людей, но Дина опять разыскала его.
– Феликс, Феликс, как же я рада вас видеть! Нет, нет, я должна вас обнять, вы даже себе не представляете, какой вы молодец! Относительно Риты… Вы были абсолютно правы. Я Риточке ничего не сказала о нашем разговоре. А ей сегодня позвонили из Петербурга, из каких-то органов… Сказали, что сына нашли и уже освободили. Он на пути к дому, скоро будет. Типа – ждите! Рита взяла билет на самолет, на вечер. Чтобы встретить его. Рита сама не своя, еще не может поверить в свое счастье… Какой же вы молодец, Феликс!
– Спасибо, конечно, но при чем здесь я? – никого не разыскивал, никого не освобождал… Просто хотел поддержать ее… Ну… я почему-то не почувствовал тревоги за судьбу ее сына. Подумал, что там, наверное, чеченцы замешаны, а сейчас уже не те времена… Конечно, я очень рад за Риту и за ее парня тоже, хорошо, что все так закончилось. Передайте ей мои поздравления.
– Все равно, вы – большой молодец. Мне кажется, что вы как-то на это повлияли.
– Ну ладно, Дина, что вы говорите, как я мог повлиять? Кстати, у меня вопрос… Почему сегодня утром никого из вас не было у моря?
– Рита уехала за билетами. Мы с Денисом не пошли, потому что погода плохая, тучи, волны, море взбаламучено и ветер холодный. А вы такой – вам, конечно, все нипочем…
– Да, я купался, и с преогромным удовольствием. В такую погоду в воде теплее, чем на воздухе. Только надо быть очень осторожным. Нагнало ядовитых скорпен[6] – не дай бог ненароком дотронуться до их колючих плавников. А на воздухе действительно очень холодно… Пока мокрый. Завернешься быстро в полотенце – и ничего. Экстрим!
– Мне не дает покоя ваш вчерашний рассказ. Мы могли бы еще немного поговорить на эту тему?
– Отчего же, давайте поговорим. Мы с вами все вдвоем и вдвоем. Денис не станет ревновать, он у вас ревнивый?
– Ничего не могу сказать. Мы с ним дружная пара… У него никогда не было причин для ревности, я не давала повода. Надеюсь, и впредь не будет…
– Ну, выкладывайте, что вас беспокоит?
– Я, наверное, надоедливая… Скажите, когда в первый раз вас посетило озарение, прозрение… просветление, что ли… не знаю, как это правильно называть?
– Вы имеете в виду «мистическое откровение»? Опять настраиваете меня на исповедальный лад. Первый раз… это было давно. Точно не помню – мне, наверное, чуть больше двадцати. Я увлекался Гитой[7]. Читал о беседе великого Арджуны с Черным Кришной (Шри-Кришной).
Тот наставлял Арджуну перед битвой. Говорил, что воину необходимо выполнить свой долг, не следует избегать сражения, хотя оно несет гибель множеству достойных людей. «Найди в себе бойца, пусть он сражается за тебя. А сам не участвуй, оставайся над схваткой», – читал я слова Кришны и в этот момент почувствовал пробежавший по спине холодок.
Я понял, что не один. Что рядом кто-то есть. Сильный, добрый, кто-то, с кем мне по-настоящему хорошо, так хорошо, как было когда-то давно, в прежних жизнях, о которых я ничего не помню, будто я снова нахожусь в «отчем доме». Нет, это был совсем не Кришна… Не Отец ли Небесный посетил меня в тот момент? Я почувствовал, что всё вокруг – это Бог: и люди, идущие по улице за окном, и мамаша на скамеечке с ребенком на руках, и молоко, которое она наливает в кружку для своего дитяти… Потом это чувство возвращалось ко мне иногда – при чтении Евангелия или преподобного Антония Сурожского, а бывало и тогда, когда совсем не ждешь ничего такого.
– Могу это понять. Со мной случалось нечто подобное. Черный скворец постучит желтым клювом в окно… Или песню услышишь. Что-нибудь лирическое… Когда девушка встречает своего парня после армии, а ты случайно подглядишь со стороны… И сердце вдруг так защемит, а на глаза будто слезы наворачиваются. Чувствуешь беспричинную радость… И почему-то плакать хочется… Все плохое забывается, жизнь снова кажется прекрасной, и ты опять готов к любым неожиданностям…
– Дина, вы пишете стихи?
– Да нет, совсем нет, почему вы решили?
– Поэты принимают все слишком близко к сердцу. Они навязывают нам эмоции применительно ко всяким обыденным, житейским вещам, применительно к явлениям природы и живого мира, которые, по моему мнению, начисто лишены всякой эмоциональной начинки.
– Мне казалось, что это и составляет смысл поэзии. Разве не эмоции – основа поэзии и музыки? Вы не будете возражать, если я закурю?
– «Дайте мне ответ. Верно, это цикада пеньем вся изошла? Одна скорлупка осталась». «Слово скажу – леденеют губы. Осенний вихрь!». «Я сейчас дослушаю в мире мертвых до конца песню твою, кукушка!»
– Что это?
– Японские стихи. Очень хорошие. Но в них, согласитесь, нет особых эмоций.
– Здорово вы переполошили нашу небольшую тусовку. Особенно этих снобливых киевских богачей с плохим русским. Я так поняла, что вчера поздно вечером, когда нас с Денисом уже не было, вы имели с ними задушевный похоронный разговорчик. Сегодня они весь день ходят как пыльной подушкой ударенные, словом, не в себе – какие-то нервные и взволнованные; можно предположить, что вы сделали им какие-то предсказания, я не ошиблась?
– Не понимаю, почему считается хорошим тоном по каждому поводу испытывать и обязательно демонстрировать свои эмоции. Моего отца уже нет, матушки – тоже, ничего о них сказать не могу. А вот родители жены убеждены, что это отличительная черта каждого нормального человека – находить какие-то вещи грустными, неприятными или наоборот – приятными и духоподъемными. Мой тесть, очень неплохой в сущности человек, он волнуется, когда смотрит футбол, когда читает газету и даже, когда гладит свои брюки. То же в какой-то степени касается и моей любимой жены.
– Непонятно, Фил, неужели вы сами никогда ни из-за чего не переживаете?
– Раньше я был очень даже переживательным. Но с годами многое во мне переменилось. В последнее время начинаю даже забывать, что такое «переживание». Понимаю, что вещи следует принимать такими, какие они есть, и стараюсь не давать выход своим эмоциям. Надо стремиться, чтобы сознание оставалось гладким как поверхность воды. От эмоций один только вред. Чем меньше обращаешь внимание на то, что могло бы в принципе тебя обеспокоить, тем меньше остается интереса к тебе у носителей, субъектов этого беспокойства.
– Получается, что вы не одобряете всяких там эмоций, чувств и переживаний. А любовь? Хорошо, хорошо, вы любите Бога? Разве не на этом стоит крепость вашего духа?
– Любовь и сантименты – разные вещи. Сантимент, душещипательная любовь – ненадежная штука. Я люблю Бога. Люблю своих близких, люблю жизнь… природу, море. Люблю вас, моя милая собеседница. Но без соплей… и без сантиментов. Богу, наверное, тоже было бы неинтересно, если бы его любили с истерикой и навзрыд.
– Вы любите жену, ребенка?
– Конечно. Но «любить» означает для меня совсем не то, что для вас. Или, например, для них.
– Допустим. Тогда, что вы понимаете под этим?
– Они – часть меня, а я – часть их. Наши жизни переплетены так, что трудно разобраться, где я, а где они. Мне необходимо, чтобы они были счастливы, чтобы прожили свою жизнь так, как им этого хочется. Люблю их такими, какие они есть. А вот они любят меня совсем иначе. Они любят меня так, чтобы еще немного меня переделывать на свой лад, любят свои представления о том, каким должен быть, по их мнению, идеальный муж и отец. У нас немного разная любовь. Простите, не скажете, который час? Не пора ли нам на ужин?
– Наверное, рано, пока что нет и шести – видите, солнце не зашло за гору, значит – время ужина не наступило. Мне еще хотелось бы поговорить с вами, хотелось бы лучше понять, что вы подразумеваете… когда говорите о «мистическом опыте».
– Поверьте, Дина, ничего особенного я не подразумеваю. Живу обычной жизнью, как все; но стараюсь жить еще и духовной жизнью, много размышляю, в Индии это, наверное, называется «медитировать».
Как это объяснить? – размышляю, но не думаю. Наоборот, стараюсь, чтобы мысли не пульсировали, чтобы они покинули меня, чтобы я стал пустым и не проспал момент, когда ко мне спустятся небесные посетители… момент, когда сверху приходят новые знания, особое понимание и новые смыслы.
Иногда люди замечают, что меня уносит куда-то. Они считают это видом легкой ненормальности… Жена и тесть с тещей считают меня странным. Жена говорит, что я зря слишком часто «думаю о Боге». Ей кажется, что на самом деле я переживаю из-за каких-то других женщин, о которых она ничего не знает. «И знать ничего о них не хочу!» – это ее мнение. Она-де не думает, что я обманываю ее или изменяю, а как бы немного изменяю ей в своих мыслях. В каком-то смысле она права. Но не с женщинами, не с друзьями, не кем-то другим из наших знакомых, ей-богу… Не могу же я все время быть в мыслях только с ней, это невозможно! Я пытался объяснить это, но она, кажется, все равно не очень мне верит.
Феликс задумался.
– Знаете, это так непросто – научиться преодолевать четырехмерное пространство-время. Я бы хотел научиться этому.
– Что-то я не поняла! Звучит как-то несерьезно. Разве можно преодолеть четырехмерность вещей? Вот пластиковый лежак. Что было раньше с ним, чем он был – пластиковыми мешками или детскими игрушками китайского производства, чем он станет – бутылкой для молока или водопроводной трубой? Даже с трехмерностью лежака есть проблемы. Как ее можно преодолеть? У него есть форма, длина, ширина…
– Дина, я знаю, что вы образованный человек, к тому же еще и хороший полемист. Как я это все вижу? Мы считаем, что у вещей есть границы, просто мы не умеем смотреть иначе. А вещи? – им все равно, как их воспринимают, на самом деле они совсем не такие. Все окружающее, и мы с вами в том числе, пронизаны энергетическими линиями, которые связывают всё со всем. Вещи не имеют границ, они переливаются одна в другую. Дайте мне вашу руку.
Дина улыбнулась:
– Эту?
Феликс кивнул.
– Что это?
– Как что? Рука!
– Откуда вы знаете? Вы знаете, что это называется рукой, а может быть, она вовсе не рука? Докажите, что это рука.
Дина опять закурила.
– Рука – она и есть рука. Как она еще может называться? Нельзя же рукой назвать одновременно руку, ногу и плечо. Тогда мы спутаем одно с другим.
– Вы рассуждаете логически, пытаетесь дать осмысленный ответ. Так работает наш бедный, довольно ограниченный мозг. Из-за этого мозга у нас возникает путаница с тем, что мы называем временем, он не может охватить явления в целом. Поэтому мы находимся всегда только в одной точке – то живем в настоящем, то вспоминаем о прошлом, то мечтаем о будущем. А если отключить мысль, мы сможем перемещаться во времени, находиться одновременно и в прошлом, и в настоящем, и, например, вспоминать не только о прошлом, но и о будущем, а также мечтать, например, о прошлом. Извините, Дина, я немного отвлекся, вернемся к вашей руке. Сожмите пальцы, что получается?
– Кулак.
– А где рука? Осталась? Так что это – рука или кулак?
– И то, и другое.
– Разожмите пальцы, куда делся кулак? Нет его. То-то! Чтобы вырваться из привычных понятий, надо избавиться от логики. Чем меньше будет логики, тем лучше мы сможем понимать окружающий мир.
Официант в белых шортах и белой футболке предложил прохладительные напитки. Дина обескуражено молчала.
– Джин-тоник со льдом для меня и фруктовый коктейль безо льда для дамы, – заказал Феликс.
– Нам всем надо вернуться на 10000 лет назад, когда праотец «человеков» Адам знал существо каждой вещи и давал им имена в соответствии с их существом. Великие учителя прошлого оставили нам специальные упражнения, чтобы мы научились отключать повседневную, до оскомины навязшую на зубах, обычную логику. Они оставили вопросы, о которых надо размышлять, но не следует искать на них ответы. «Монах подал золотую монету нищему. Кто должен благодарить – нищий монаха или монах нищего?». «Вода не имеет ни ребер, ни костей. Почему она легко держит на плаву огромные суда?». «Молния ударила в землю. Где у нее начало, где конец?».
Надо очистить голову и все вернуть на свои места, научиться понимать то, что кажется навсегда утерянным.
Можно изучить, как устроен организм человека, его клетки, хромосомы, понять сложнейшую химию процессов. Но давайте, Дина, зададимся вопросом. Вот вы были когда-то маленьким, хорошеньким эмбрионом. Кто выращивал ваше тело? Питание вам давали. А кто строил стройное тело, этот великолепный, гибкий мозг, оснащенный не только логикой, но и сложнейшими эмоциями и чувствами? Кто помогал вам в этом? Родители? Не-е-е-ет! Родители кормили вас с ложечки, они только подвозили на тележках стройматериалы. А строили вы себя сами. Сложнейшая работа, которой вас никто не учил… И получилось, между прочим, первоклассное сооружение… Есть чем гордиться. Можно даже восхищаться. А кто строил? Сами, вы сами и строили себя, пусть бессознательно… Но сами, сами себя выращивали. Вспоминайте, вспоминайте… А как вспомните, снова станете венцом творения, построенным по образу и подобию… Вот так-то.
Наступила неловкая пауза. Дина выглядела немного растеряной. Ей захотелось поскорее разрядить обстановку.
– Можно спросить вас еще об одном. Если я, конечно, не надоела вам своими дурацкими вопросами… Правда ли, что вы сообщили этой киевской компании, где и когда они умрут. Если не хотите… В общем, извините меня, я, наверное, слишком навязчива.
– Да что вы, не берите в голову. С удовольствием… Пожалуйста, на любые темы. А что касается киевлян… это неправда. Я сказал где, кому и когда необходимо быть особенно осмотрительным, что можно посоветовать… Потому что про это не следует говорить, как о неизбежном. Они чуть ли не силой вытягивали из меня всякое такое. Было совсем поздно, а они все пили коктейли, дымили и без конца выспрашивали.
– Так вы не говорили, где, когда и как они покинут наш бренный мир?
– Ни в коем случае. Я вообще не хотел об этом. Тем более, что я не убежден, может, мне только так кажется… А они выспрашивали… потому что де это влияет на то, чем им лучше сейчас заниматься, как использовать оставшееся время… Ну, вот я им и сказал кое-что.
Феликс помолчал.
– Но про то, кто, когда и как, я не говорил. Мог бы сказать, если б был сам уверен… И то вряд ли. А на самом деле им этого знать и не хотелось… Потому что… В общем, чем бы ты ни занимался, какого бы крутого из себя не корчил… смерти боятся все.
Феликс прилег на лежак.
– Как это, в сущности, глупо. Всех нас ждет такое рано или поздно. Сейчас мы спим. Но, в конце концов, каждый из нас пробудится. Чтобы покинуть наш мир. Чтобы оказаться ближе к Богу. Причем, это может случиться в любую минуту.
– А вы знаете что-нибудь о последних днях вашей жизни?
– Мне не хочется заглядывать за кулисы сцены. Идет спектакль, горят софиты. Надо наслаждаться своей ролью. Пусть все идет своим чередом. Ибо не знаем, в который час Господь наш придет… В который час спектакль закончится… занавес закроют и свет отключат. Разве здесь есть место для трагедии? Ко мне подойдет тот, кому положено, и с огромной силой бросит в длинный тоннель. И тогда я полечу к новому свету, он будет гораздо ярче того света, который мы все знаем, к новой жизни, о которой на этой стороне сновидения нам ничего не известно. Все мы проснемся и вернемся в Царство Божие, в райский сад, из которого когда-то изгнали наших праотцов. И в которое все неминуемо возвращаются.
– Вы меня удивляете, Феликс. Лично для вас, может быть, тот момент, когда занавес закроется и свет погаснет, не будет трагедией. По крайней мере, именно так вы сейчас об этом говорите. Ну, а как близкие, жена, ребенок? Наверняка… Это ведь будет для них ударом. Почему вы о них не думаете?
– Вы правы, Дина. Если я по какой-то причине исчезну из их жизни… или уеду. Исчезну, одним словом. Они это все воспримут совсем по-другому. Потому что у них уже заготовлены специальные названия на этот случай. И чувства. Знаете, я могу ошибаться. Не хотелось бы, чтобы это выглядело так, будто я вас поучаю, говорю свысока и все такое… Просто вы спросили… А я именно так вижу это, вижу и ощущаю…
Феликс внезапно поднялся с лежака, руками подтянул к себе согнутые ноги.
– Давайте представим себе, Дина, что у вас есть любимая кошка.
– Это правда, у меня есть любимая кошка.
– Вот, например, вам приснится сегодня, что ваша киса-мурочка внезапно умерла, на нее набросилась соседская собака… В общем, она скончалась, и вы будете переживать и мучиться во сне, потому что ужасно любите свою киску. А потом вы проснетесь – и вот вам, пожалуйста, все в порядке, кошка спит у ваших ног. И вы понимаете, что это был просто сон.
Дина кивнула.
– Ну и что? Что это нам с вами объясняет?
– Если ваша киска и вправду погибнет от нападения ужасной собаки, вы будете переживать. Но это будет в точности так же, как во сне. Просто вы этого не поймете, потому что ваша жизнь-сон продолжается. А когда сон закончится, на той стороне сновидения, только на той стороне, вам станет очевидно, что это был просто сон.
Дина медленно терла левой рукой виски. Ее правая рука – потухшая сигарета между пальцами – неподвижно лежала на подлокотнике. Мертвенно-бледная, как бы неживая, под яркими лучами заходящего солнца.
Старомодные игры
Скажи мне, для чего, о, ворон, в шумный город отсюда ты летишь?
Мацуо БасёНа следующий день Феликс поднялся опять очень рано. Вышел за пределы территории отеля и направился в сторону старого города по скалистым безжизненным холмам, аккумулировавшим в своей кирпично-красной тяжелой плоти жаркое тепло безжалостного египетского солнца. Небо покрылось низкими облаками, и время от времени на нашего путника налетали порывы довольно холодного ветра. Холмы и неспокойная поверхность Красного моря, взявшего, видимо, свое название от напряженной декоративной окраски его берегов, – весь библейский пейзаж, напоминавший о временах исхода евреев из Египта, был заметно притушен тенью от одеяла этих низких и неприветливых облаков. Чьей-то могущественной рукой и по чьей-то воле облачная пелена оказалась разорвана как раз над тем местом, где Феликс легкой походкой совершал свой довольно ординарный вояж к старому центру. Словно солнце открывалось только ему одному, только ему одному улыбалось и приветливо освещало тропу, как бы одобряя сегодняшние начинания одинокого путника.
Сакральная земля. Именно здесь, наверное, Моисей обратился к Богу за помощью и наученный небесным властелином жезлом своим ударил по воде… Море расступилось, и евреи пошли посреди моря, аки по суше, вода же стала им стеною по правую и по левую стороны. Может быть, как раз отсюда первая пара чернокожих кроманьонцев, которых потом в святой книге окрестили Адамом и Евой, отправилась на стволе оливкового дерева в опасное плавание через Красное море в поисках земного рая. Отправилась в неизвестное будущее и обрела свой рай в Месопотамии, где и дала начало роду человеческому. Как же здесь хорошо, ведь именно здесь – начало всех начал! Нет, не случайно я оказался один на один с древней землей Египта. Это рука провидения. Как бы мне хотелось задержаться, остаться надолго, очень надолго, в этой грозной, загадочной стране, где упрямый путник сможет, наверное, постигнуть смысл жизни, бесконечно балансируя на тонкой грани между жаром раскаленных холмов уснувшей суши и прохладой неумолчного, неугомонного моря. Остаться одному – только я и эта таинственная земля. Затеряться, как затерялись Адам и Ева, которых никто не знал, никто не искал и никто никогда не ждал. Превратиться в пустоту, в полное ничто.
– Ну вот, еще чуть-чуть, еще совсем немного, – размышлял Феликс. – Скоро вокруг меня, рядом со мной можно будет различить только туман, один лишь туман… и больше ничего. Никто здесь не знает, чем я занимаюсь, кто я, откуда родом, кто мои мать и отец. Я свободен, почти свободен… Конечная цель близка. До нее шаг, последний шаг… Истина где-то здесь, совсем рядом… Не случайно мой отель называется «Лампа Аладдина». Наверное, мне удалось потереть эту волшебную лампу. Что-то со мной странное происходит… – горло перехватывает, на глаза слезы наворачиваются… Может, это предчувствие чего-то особенно радостного, слезы, так сказать, очищения? Предчувствие какой-то новой, светлой жизни?.. Напоминает то, о чем Дина вчера говорила. Тишина. Какая-то особая. И одновременно – неземные звуки, наверное, это ангелы с небес спускаются, протягивают мне руку помощи. Иду, иду… Нет, уже не иду… Я готов лететь, ноги и так едва земли касаются…
У меня уже почти нет личной истории. Из моих новых знакомых… Только Дина знает о жене и ребенке. Кто эта Дина? – просто знакомая, как приехала, так и уехала. И нет ее. Меня тоже почти нет. Нет нужды в моей истории. Это не мое прошлое. Было нечто. То, чего уже нет. И ничего не осталось в памяти других людей. Потому что никому не интересно личное дело какого-то Феликса Эйлера из далекого северного города. И мне тоже оно не нужно. Все знаки на пути уже расставлены, они говорят, подсказывают – не нужен, не нужна… Надо только решиться. Еще один шаг… И разом избавиться от прошлого. Как от привычки курить. Зачем держаться за него? Жить здесь и сейчас. В течение двух дней я дважды встречался со своим прошлым. Прошлое задавало вопросы, суетилось и переживало. А у меня не возникало вопросов к прошлому, задавать ему вопросы – никчемное, бессмысленное занятие. История мне не нужна. Она шумит, вызывает страхи, беспокойства… Какая уж тут тишина, какая гармония? Головой я согласен с этим, интеллекту представляется довольно заманчивым получить полную свободу от своей истории. Но такая свобода… как бы это сказать? От нее почему-то веет грозным и неуютным одиночеством.
Временами я думаю, что личная история мне ужасно дорога. Без глубоких семейных корней в моей жизни не было бы преемственности, цели, не было бы математики, которую я так люблю, не было бы традиционных семейных ценностей. И в то же время… Кажется… нет, я уверен – эти связи и это прошлое держат меня мертвой хваткой, не дают пошевелиться под тяжестью опыта, традиций и воспоминаний, не дают сделать ни единого шага, ни одного нестандартного поступка; боюсь, если так пойдет, у меня больше никогда не появится собственных мыслей и идей. Надо освобождаться из плена традиционных ограничений; на наши поступки незаметно влияют, давят, связывают… нас держат в узде стереотипы и ожидания других людей. Никому не рассказывай, Феликс, что ты делаешь. Расстанься со всеми, кто тебя хорошо знает. А кто у тебя остался? Только самые близкие, только Вероника и ребенок, которых ты любишь… любишь больше собственной жизни. Какой же ты бездушный, Феликс, как ты можешь думать о том, чтобы оставить их? Это же форменное предательство… Если так получится, что я все-таки расстанусь с ними… Они будут и дальше жить в моем сердце, я, конечно, не забуду их, буду любить… так же, как и прежде. Может быть – даже больше. Но впредь я уже ничего не услышу о них, а они – обо мне. И тогда Феликс Эйлер перестанет существовать, перестанет, наконец, быть реальностью, превратится в туман, туман, сливающийся с вечерней мглой. И никто не сможет сказать, кто этот седовласый незнакомец. Тогда-то и наступит момент, когда можно спросить самого себя: «А сам-то ты знаешь, кто ты?». И ответить себе: «Я-то? Будь уверен, Феликс, я тоже не знаю, кто я такой».
Феликс широко раскинул руки, осмотрел красные холмы, тропинку, по которой он шел, море вдалеке и громко засмеялся:
– Откуда мне знать, кто я такой, если все это я?! Когда нет определенности, мы все время начеку, всегда готовы к прыжку. Как это интересно, если не знаешь, за каким кустом прячется кролик! Хотя, какие кролики могут быть в Египте? Но пока это не совсем так, моя проблема в том, что пока я слишком реален: у меня реальные намерения, начинания, действия, настроения, побуждения…
Не знаю, – готов я, не готов – пора принимать решение, наверное, пора уходить. Это так нетрудно – затеряться в диком Египте, стать похожим на обычного пожилого араба, ни с кем не дружить, никому о себе не рассказывать. Дружить только с теми, кто тебя не знает: Эсхил, Еврипид, Данте, Шекспир, Кафка… Здесь тоже есть интернет; я могу говорить с самыми мудрыми, с теми, кто ближе моему сердцу, с теми, кого уже нет, кто не может думать обо мне, питать ко мне каких-либо чувств, хороших или плохих. Буду писать книгу о том, что видел, знаю, о том, что лично пережил. Об истории моего народа, о загадках человеческой психики, о том, что шепчут мне по ночам тайные голоса. Вопрос, конечно, только в жене и ребенке. Здраво рассуждая… с ними ничего не может случиться, когда меня не будет. У них есть все, чтобы жить безбедно. Конечно, они будут скучать по мне, им будет меня не хватать. И мне тоже. Будет не хватать их. Но они смогут постепенно найти свою дорогу, если будут точно знать, что меня уже нет. Время лечит. Может быть, им, в конце концов, будет даже лучше без меня. Вероника моя, она еще женщина в самом соку, красавица, она, конечно, сможет устроить свою жизнь, если захочет. Вопрос только в том, как мне тихо исчезнуть, пропасть с горизонта? У меня, наверное, много общего с Федором Протасовым[8]. Тот не мог вести «добропорядочную» жизнь, жизнь по канонам того времени; что бы он ни делал, всегда чувствовал одно и то же: «То – не то… этого – не надо… а вот такое и вообще стыдно». Или вот еще: «Быть предводителем, сидеть в банке – так стыдно, так стыдно… Служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь…». Сбросить прошлую жизнь, как герой Льва Николаевича, сбросить словно старое, обветшалое платье. «Смотри, обветшалое платье мы сбросим, а после другое наденем и носим». Много раз в жизни я уже делал это. Стирал прошлое. Как рекомендовал Кастанеда. Но как сделать это сейчас? Оставить на пляже одежду, в номере – паспорт и документы. Вроде – ушел купаться и не вернулся. Разве можно найти человека в огромном Красном море? «Мои» попереживают и смирятся, в конце концов… Но вообще-то, ерунда получается… Свинство, конечно, и довольно трусливо. Это какая-то не та роль… Для слабосильного, что ли? Нет, все-таки разные мы с Протасовым. Быть «живым трупом», это что значит? Быть опустившимся, опустошенным, изжившим себя, никчемным, никудышным… Не моя роль. Для меня это тоже непросто. Поступок… Отважный, наверное… Но я ведь всегда так поступал. А теперь? – не знаю, не уверен. Придется напрямую с Вероникой говорить – типа «расстаемся». Непростая задача получается, что я могу ей сказать? Духовные поиски, стереть прошлое… Как это объяснить? Не поверит. Не поймет и не поверит. Сказать, что потерял к ней интерес, как к женщине… Тоже неправдоподобно, с чего бы это? Супер, а не женщина. Никто и сорока не даст. На улице мужики норовят записку ей в руку сунуть, свидание назначить. Сказать, что встретил другую? В принципе, правдоподобно, почему бы и нет? Вон эта малышка-аниматорша из Испании… Почему из Испании – беленькая, ресницы, брови – светлые, пушистые, какая она испанка? За тридцать уже, далеко за тридцать, а все по отелям мотается, по странам и весям, непоседа какая… А ведь она выделяет меня из всех. Дина тоже выделяет. Но совсем не так. А эта испаночка – точно выделяет, не понимаю, зачем ей такой стариман сдался? Мою-то не проведешь, не возьмешь на фу-фу, она не смирится. Скажет: «Хватит сказки придумывать, сказитель… Опять крыша поехала. Ты что, думаешь, я тебя так просто отдам какой-то профурсетке? Да и нет у тебя никого…». И ведь от нее не спрячешься. Все равно найдет. Она скажет: «Значит так – слушай меня внимательно, Феля. Несешь, черт знает что, – седина в голову, бес – в ребро. Сегодня делай, что хочешь. А завтра-послезавтра я приеду, словом, как только рейс подходящий будет. Двое суток проведешь со мной в постели – сразу вся дурь из головы вон, быстро все станет на свои места… Ишь ты, другую он встретил…». Нет, с моей так быстро не разделаешься. Куда подевалось твое хваленое спокойствие, Феликс, твоя пресловутая мудрость, твоя прозорливость, твоя способность соединять прошлое и будущее? Почему так болит сердце? Почему вокруг такая тишина, совсем не та тишина… какая-то мертвая, что ли, почему внезапно замолкли неземные голоса? Зачем я все это затеваю? Господи, на Тебя одного уповаю, на правду и милость твою полагаюсь, под сенью Твоей сохрани от вреда, к тебе одному обращаюсь: не оставляй раба своего… Научи, подскажи, укрепи, мудрость в сердце пролей…
«Не горюй, Феликс, не рви душу, момент Х еще не настал, есть еще время все обдумать, найти верное решение, пусть в голове все уложится, утрясется, пусть сердце успокоится; а «доработать легенду» – разве в этом дело, что может быть проще? Зачем вообще нужна эта «легенда», не хватает мужества правду сказать?» – Феликс думал, размышлял, сам с собой разговаривал, а ноги тем временем уже выносили его на пыльные улицы старого города Эль Дахар.
«Правду говорить легко и просто. Если это правда. А в чем собственно твоя правда?» – спросил себя Феликс и вошел в здание нового, современного Апарт-отеля.
Смартфон из будущего
Твой Новый год по темно-синей волне средь моря городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево И. БродскийФеликс оказался в шикарном вестибюле свеженького, видимо, совсем недавно возведенного здания. Спросил, где можно найти администрацию. Несколько раз его посылали из кабинета в кабинет. Он бродил по инстанциям, подолгу беседовал с шустрым, приторно приветливым, жуликоватым арабским персоналом. Выяснил, что отель еще строится, вводятся новые жилые объекты, бассейны, зоны отдыха. Не вся территория еще благоустроена. Но пляж… Пляж хороший, уже сейчас вокруг много цветов. Администрации нужны деньги. Поэтому сейчас апартаменты можно приобрести очень дешево. Феликс рассмотрел планы, подобрал уютное бунгало с соломенной крышей, расположенное в дальнем конце территории. На берегу моря. В окружении цветущих кустов. То, что нужно. «Пожалуйста, нам все равно, кто приобретает – резидент, нерезидент. Если оплатите сразу, будет скидка». Покупка укладывалась в умеренную сумму – Феликс мог бы рассчитаться хоть сейчас. «Давайте посмотрим договор, как вы регистрируете право собственности? Меня все устраивает. Сделайте мне копию, я хочу показать юристам. Нет, подписывать договор будем завтра, я приду к вам утром. Будет уже поздно, все будет распродано? Не смешите меня. Если такой спрос, то вы запросили бы вдвое больше, а не продавали бы за бесценок. Уйдет бунгало, завтра его не будет? Ну, не будет, так не будет. Будет другое. Да не машите вы руками, я уже все сказал». Феликс нашел мэрию в центре старого города. Поднялся наверх. Отдел регистрации сделок с недвижимостью. «Могу я получить консультацию? Платная? Пожалуйста. Сколько? Сто долларов, хорошо». Консультант Мухаммед, одетый с иголочки, высокий, очень интересный молодой белозубый араб. Приветствовал его на безукоризненном английском. «Учился в Александрии, потом во Франции. Теперь служу в мэрии. Так, посмотрим ваши документы, господин Эйлер». Мухаммед любезно ответил на все вопросы по гарантиям, по регистрации сделки, по виду на жительство, по налогам, по охране и обслуживанию апартаментов. «Рад был вам помочь, господин Эйлер. Рад, что вы решили обосноваться у нас, в Хургаде». Мухаммед поднялся, раскинул руки и захохотал. Он становился все выше и выше и заполнил собой все помещение: «Добро пожаловать, господин Эйлер, в наш арабский мир!». «Похоже на то, что этот арабский мир не сулит мне ни тишины, ни спокойствия», – подумал Феликс. Он с удивлением смотрел снизу на огромного Мухаммеда, на его голливудскую белозубую улыбку, а консультант продолжал громко хохотать. Потом неожиданно снова стал деловым, скукожился и стал собирать свои бумажки. «Все, я тороплюсь, вот ваши документы, вот счет – оплатите внизу, на выходе». И мгновенно исчез, сунув файл с документами в руку опешившего посетителя. «Куда вы, Мухаммед? Здесь счет на 120, а мне сказали – 100». Где теперь его искать? В ресепшн долго рассматривали счет, объясняли на плохом английском, что, наверное, оказывались еще какие-то услуги, звонили несколько раз Мухаммеду, потом еще кому-то. Ну, давайте карту, сто – так сто. Из терминала выполз чек опять на 120. Мы же договорились на сто. Ничего уже не сделать, мы сняли с карты 120. Я не согласен. Ну, ладно. Дадим вам сдачу. Долго собирали серебряные монетки и медяки – вот вам десять долларов. А еще десять? Опять какие-то звонки, неясные объяснения. «Ладно, возьмите маску для ныряния», – сказали Феликсу разочарованно. Новая маска пригодится, его, Феликса, маска уже подтекает. Рядом со стойкой висят два десятка масок. Почему маски висят в мэрии, подторговывают ими, что ли? Как тот король из еврейского анекдота, который сказал, что он будет «еще немного шить». Феликс долго меряет маски, находит подходящую… «Эта не годится, – говорят ему, – она стоит не 10, а почти 20 долларов». «Ну, тогда дайте, наконец, мои 10 долларов и возьмите назад свою маску». Служащие у стойки опять посовещались и нехотя согласились. Феликс взял маску и хотел направиться к выходу, но нигде не мог найти свои документы. Он долго всех расспрашивал, опять побежал в кабинет Мухаммеда, никак не мог его найти, нашел, в конце концов, кабинет, но там не оказалось ни Мухаммеда, ни документов. Да, когда долго возишься с мелочью, это к неприятностям. Черт с ними, документами, завтра оформлю новые. Правда, эти прохиндеи могут поменять цену. Он обнаружил, что пока бегал где-то потерял свои сандалии. К счастью, шорты при нем. Хорош бы он был – остаться без штанов при таком стечении народа. Но где же здесь выход? Из этого сооружения. Из арабского мира, который, похоже, не обещает ему ни спокойствия, ни умиротворения. Куда вдруг подевались – ощущение сакральной тишины, звуки неземной музыки, предчувствие новой жизни и ожидание таинства?
Надо выбираться из этого чуда неомусульманской архитектуры. Феликс оказался в огромном холле неизвестного назначения. Полированный гранитный пол, по периметру – стеклянные стены. Во всех направлениях бегут задумчивые люди с бумагами, торопятся… У всех свои дела. Что я здесь делаю? Прочь, прочь… Феликс медленно поднимается в воздух и летит. Вот и славненько, я теперь, оказывается, умею летать. Слава богу, я умею летать, иначе – как бы я покинул это ужасное заведение?
Полет почему-то получается совсем даже не стремительный. Может, мешает маска в руке, может, именно она перекашивает, разбалансирует движение? Феликс летит медленно и очень низко. Никто из служащих не обращает на него ни малейшего внимания. Облетает вдоль всех стеклянных стен – нет выхода. Поднимается к стеклянной крыше атриума и вдруг оказывается на свободе. Прохладный ветер остужает его разгоряченное лицо. Над берегом и морем нависают свинцовые тучи. Совсем низко. А внутри них посверкивают молнии. Не стоит высоко забираться. Феликс летит над самой землей. Вначале было светло и ясно, все хорошо видно, потом он попадает в полосу сплошного тумана. С трудом рассматривает стрелки на циферблате часов. Сколько времени? Шесть утра? А он вышел из отеля в пять. Ему казалось, что он пробыл в старом городе целый день, а выясняется – всего лишь час. Ну что ж, значит, он не пропустит утреннее купание. Странно, почему офисы в Египте начинают работать так рано?
Феликс стал ногами на землю, огляделся. Он опять на берегу, у скамейки. Там уже кто-то сидит. Странный тип – летом в дубленке. Правда, без шапки, и дубленка расстегнута. Деловой костюм, рубашка, галстук, очки. Черные кожаные туфли тоже какие-то странные – с длинными пухлыми клоунскими носками, будто набитыми какой-то ватой. «Пожилой», – мысленно окрестил его Феликс.
– Разрешите с вами посидеть? – спросил Феликс. Его голос странно вибрировал и будто исходил не от него, а пришел откуда-то издалека.
– Садитесь, места всем хватит, – ответил «странный тип».
Голос «пожилого» показался знакомым. Феликс сел, посмотрел на свои побелевшие, как бы стеклянные ладони. «Наверное, я сплю. Когда я успел уснуть, неужели там, в мэрии? Прямо на приеме у юриста. Как неудобно получилось. Арабы, наверное, там вовсю обсуждают и смеются над нелепым русским. «Добро пожаловать, господин Эйлер!» «Как вы себя чувствуете, господин Эйлер? Может вам подушечку под головку?» Дон Хуан[9] рекомендует рассматривать ладони во сне. Тогда сон превращается в реальность, и можно заниматься любыми делами – так, будто это делается наяву. Интересно, что это за тип рядом со мной? Не спит. А сопит – громко, будто во сне. Та же самая скамейка. Любопытно, из каких она теперь времен?»
– Не подскажете, уважаемый, откуда вы и как сюда попали?
– Вы что, с Луны свалились? – спросил «пожилой» хриплым голосом.
«Знакомые слова, знакомая риторика, где-то я эту сентенцию слышал недавно», – подумал Феликс.
– Откуда, откуда? – спрашивали уже об этом. Что с вами, «юноша», забыли, что ли? Объясняю еще раз для слабоумных и невнимательных. Ниоткуда я сюда не попадал. Просто сижу здесь. И когда вы появились, я уже сидел здесь. Сейчас 2012-ый. Через два дня будет Новый Год. Еще вопросы? Знаю, знаю, хотите выяснить то, что вас сейчас больше всего беспокоит, – недовольно продолжал «пожилой». – Да-а-а, люди не меняются. Кто смолоду был балбесом, останется таким до конца дней. Все суетитесь, суетитесь. Мысли в голове так и шастают, так и шастают. А толку – чуть. Многомыслие – это еще не ум. Жили бы проще. Как обычные люди живут. Не хуже нас с вами. И незачем своей умственностью упиваться. Такие высоколобые, как вы, они и есть самые дураки. Ничего я вам советовать не буду. Заигрались вы, книжечек разных начитались, вот сами и выпутывайтесь. Поразмышляйте-ка вы, мой друг, над тем, что вам и без меня ведомо. Что говорил Гедель[10] о неполноте? Мы не можем установить истинность или ложность суждений, не выходя за пределы наших, человеческих возможностей. А выйти за эти пределы мы тоже не можем, хоть во сне, хоть наяву. Потому что не боги. Пока что. Пока что мы не боги. Этот парадокс «Я лгу», вы знаете не хуже меня. Напоминаю… Если высказывание ложно, то говорящий сказал правду, и значит, сказанное им не является ложью. Если же высказывание не является ложным, а говорящий утверждает: «я лгу», то это его высказывание все-таки ложно. Оказывается, таким образом, что, если говорящий лжет, он говорит правду, и наоборот. Простой пример ограниченности нашего разума. Вы спросите, к чему это я? Объясняю… Вы чего ищете, свободы? Нельзя быть свободным, не избавившись от личной истории. Вроде, правильно. Прошлое мешает, ограничивает. Заставляет лукавить, действовать несвободно и напыщенно называть этот малодушный маневр – «осознанной необходимостью». Ну, хорошо, вы решили стереть прошлое, быть свободным, как ветер. Теоретически возможно. А с другой стороны? Вы любите своих близких, жену и ребенка, хотите быть с ними, вам с ними хорошо. Им тоже, как это ни странно, хорошо с вами. Если вы остаетесь с ними, вы – несвободны. А отказываетесь от них против своей воли, ради каких-то вымышленных принципов – разве это свобода? И так, и так несвобода. «Очиститься от личной истории, чтобы освободиться», – элементарный парадокс. Не имеющий разрешения. Ни по ту сторону сновидения, ни по эту. Вот так-то, многоумный вы наш. А советовать я вам ничего не стану. Сами и решайте. Голова-то вам на что дадена? А, если мозгов не хватает, спросите сердце… Вот и решайте, вы же свободный человек. Созданный, так сказать, по образу и подобию… И выбросьте вы эту маску. Вы что, ненормальный? Зимой ходить по улицам босиком, в шортах и с маской для ныряния. Правда, зимы в этом году – никакой, декабрь – ни морозов, ни снега. Но с маской по улице – это чересчур.
Феликс подавленно молчал.
– Да не грустите, друг мой, я вам презент сделаю. Чтобы проснувшись, вы точно знали, что мы встречались – вы во сне, а я наяву. Так что не зря вы ладони свои рассматривали. Как дон Хуан рекомендовал. В результате – думали, что вы во сне, а оказались как раз наяву. Видите эту игрушку? – смартфон называется, его нетрудно освоить. У вас пока нет таких. Вы из 2000-го? А, из 2002-го, ну все равно – у вас нет таких. Посмотрите, вот так можно звонить. А так – нажимаю S – разговаривать по скайпу. Да не задавайте вы вопросов, смотрите, смотрите.
На экране появилось знакомое женское лицо, похожее на лицо Вероники.
– Говорите, юноша, говорите, – подсказал «пожилой».
Феликс молчал, а знакомый женский голос оживленно вещал с экрана.
– Фелик, это ты? Что-то тебя плохо видно. Что ты хочешь? Вышел на полчаса за елкой… А тебя все нет и нет. Давай-ка, возвращайся скорее. Пора елку устанавливать, Новый Год на носу. У меня тут, кстати, почти все лампочки поперегорали, надо срочно поменять. Терпеть не могу, когда в доме рыбий жир вместо света. Давай, шевелись, конец связи.
Феликс проснулся весь в слезах. Ему снилось, что какие-то люди хотели разлучить его с семьей и уже почти разлучили. Он кричал, бился изо всех сил, дрался – ничего не мог сделать. Попытался вспомнить подробности сна – тоже не получилось. Осталось только очень сильное переживание, такое впечатление, будто все это происходило с ним не во сне, а наяву. Нет, это было все-таки во сне, именно во сне. Тем не менее, Феликс долго не мог успокоиться. В памяти всплывало жесткое, наглое, улыбающееся лицо чеченского полевого командира. Почему-то Феликс точно знал, что его зовут Магометом. Наверное, этот белозубый горец и забрал его жену и ребенка. Магомет громко хохотал: «Теперь ты никуда не денешься – как миленький будешь на нас работать, а иначе твоим полный кирдык будет. Добро пожаловать в наш мусульманский рай, господин Эйлер!» Ужасный сон! Там была еще какая-то мелочь, какие-то монетки, это всегда к неприятностям. А тут не просто неприятности… Потеря близких, потеря свободы. Крушение всего, что по-настоящему дорого…
Феликс обнаружил в руке какой-то незнакомый гаджет с большим экраном. «Очередная игровая шелобушка». Он напрочь не признавал электронные игры. Брезгливо потрогал какие-то кнопки, потыкал пальцем в экран. Появились фотографии. Вот отель, в котором он живет, парк, набережная, уютные уголки пляжа. Вот его номер. А это Апарт-отель в старом центре – однажды, во время прогулки, Феликс видел издали этот новый отель. Вот вестибюль, номера отеля. Бунгало на берегу моря. Открыточные виды, живописно – ничего не скажешь. Какое-то административное здание – возможно, местная мэрия. На фото – жуликоватые лица персонала. Какой-то улыбающийся белозубый арабский красавец в безукоризненно сидящем костюме. «Очень похож на Магомета, который приснился мне этой ночью, – подумал он. – Странное совпадение. Просто один к одному». Разглядывая значки и кнопки, Феликс обнаружил, что гаджет позволяет звонить по телефону. На экране высветился только один номер. Номер незнакомый, но первые цифры +7921 – это номер питерского Мегафона. Нажал кнопку «вызов»… Длинные гудки, потом механический голос произнес: «Абонент вне зоны приема». Феликс заинтересовался «иконкой» на экране в виде буквы «S» и вызвал эту «S». Он не знал о существовании «скайпа», но вызов почему-то делал осознанно. Закрутился бегунок, побежал по светящемуся колечку, на дисплее появилось имя его жены. Феликс ткнул пальцем в «вызов» – гудок, пауза, надпись: «Абонент вне сети». Что за ерунда, откуда взялась эта штука? Позвонил администратору отеля.
– Мистер Эйлер. Через три дня вы покидаете наш отель. Мы очень благодарны вам за то, что вы выбрали именно наш отель. Гаджет, о котором вы спрашиваете, это наш комплимент. Мы оставили его вчера на вашей подушке вместе с ночной шоколадкой на память о нашем отеле «Лампа Аладдина» и о счастливых днях, которые вы здесь провели. Спасибо, мистер Эйлер.
Внимательно осмотрел гаджет. Пиаровская финтифлюшка. С виду сделано неплохо. Начинка – примитив, дешевая китайская поделка. Вышел на балкон и зашвырнул гаджет в цветущий куст рододендрона.
Он снова вспомнил о том, о чем размышлял последние три дня – «стереть личную историю, чтобы стать свободным». Одна из главных рекомендаций учения дона Хуана «Путь знания индейцев племени яки». Ловушка для ума. На первый взгляд все логично, а на деле… ерунда какая-то получается. Что хорошо для тольтеков[11] и дона Хуана, для современного человека – просто бездушная схема, убивающая живую душу… Вместо обещанного освобождения… Многомыслие – это еще не ум. Излишнее знание тяготит, оно тянет вниз, делает несвободным. Стереть прошлое, говоришь, дон Хуан? Лишние знания, лишнее надо стирать, просто следует освободить голову от всякого словесного хлама. Дон Хуан и даже дон Карлос[12]… Они, конечно, ни в чем не виноваты перед нами. А вот, кто раскручивает «кастанедовцев»… Кто превращает последователей древнего учения в секту… Кастанедоведение превратилось в бизнес. Не слишком ли все это стало публичным? Ведь изначально учение тольтеков распространялось совсем не так – бережно, тайно, из рук в руки. Виктор Санчес[13], кто вы? Пособия, всяческие растолковывания, упражнения, группы, ученики… Просто бизнес. Для них бизнес, а я-то здесь при чем? «Бойтесь единственно только того, кто скажет: «Я знаю, как надо!»»[14]. В чем здесь отличие от сект – от секты Виссариона[15], нового мессии, от секты Муна[16], программирующего межконтинентальные христианские браки? К черту лишние знания, к черту «стирание прошлого»!
Феликс вновь чувствовал себя сильным, молодым и свободным. «Я свободен еще и в том… В конце концов, я сам решаю, забыть свое прошлое или нет. Люблю мою Веронику, люблю нашего сына. Они – меня тоже. Если люди нужны друг другу, зачем отказываться от этого, зачем по живому резать? Какая тут может быть гармония? Разве в этом состоит свобода? Господь никогда не требовал отрекаться от любви… К черту догмы! Я готов выслушивать чьи-то рекомендации, если это интересно – почему бы и не послушать? Но решать буду сам. Кто, если не я, поддержит Веронику? Кто сына научит, что надо выбирать собственный путь в жизни, а не плыть по течению, сложив ручки?». Феликс позвонил в ресепшн.
– Закажите, пожалуйста, такси. В аэропорт. Да, я уезжаю.
– Но, мистер Эйлер, у вас же оплачены еще три дня.
– К черту три дня.
– Когда вам подать машину?
Феликс осмотрел разбросанные по номеру вещи. Заметил новую, ни разу еще не использованную маску.
Надо бы ее испытать. Может быть, сходить еще разок на море? К черту море!
– Я буду готов через тридцать минут.
Ровно через полчаса Феликс вышел из отеля с дорожной сумкой. Такси уже ждало его. Больше всего на свете ему хотелось в этот момент поскорее оказаться дома и нырнуть к жене под одеяло.
Новый 2012 год. Отшумели зимние каникулы. Феликсу вспомнилась неожиданная встреча с прошлым за два дня до праздников. Вспомнились другие похожие встречи, которые произошли в Хургаде десять лет назад. Он нашел тетради со старыми записями, некоторые – сорокапятилетней давности. Листал пожелтевшие страницы, читал, ухмылялся, в какой-то момент даже немного загрустил. Нашел последнюю запись.
«Май 2002-го года. Пока хватает сил, не стой на месте, плыви «по» или «против» течения. Возвращайся к прошлому, цени свое прошлое. Или опережай время, плыви вперед, приближай будущее. А силы кончатся – время успокоит всех – и первых, и вторых, и тех, кто никуда не стремится. Не стоит думать об этом: пока жив, ты – властелин времени. И сего дня. И прошедшего. И будущего. Позаботься только о том, чтобы дети продолжили твое дело. Стали настоящими повелителями времени, а не плыли по течению, сложив руки в ожидании, куда это течение их вынесет».
Смерть Арона
Арон умирал. На громоздкой реанимационной конструкции – кроватью ее никак не назовешь – лежал худой, небритый старик с огромным горбатым носом, глубоко посаженными глазами хищной птицы и большими грубыми ладонями. Старик? Да нет, он еще не был стариком – всего пятьдесят с небольшим. Узкая талия и широкие костистые плечи выдавали в нем физически очень сильного в недавнем прошлом человека.
Как это случилось? Почему так рано ухожу? До сих пор твердею от прикосновения молоденькой сестрички, а уже в путь-дорогу. Путь-то далекий, наверное, и нелегкий.
Скорей всего, сам виноват. Живот болит уже несколько лет. И кровь в какашке. Думать надо было. Обследоваться, лечиться. Вообще-то, ходил к врачу. Спиртного не пить, мясо не есть, с женщинами – ни-ни. Что за жизнь?
Я, конечно, неправедный еврей. Водку пью, свининой закусываю, и до женской породы охоч. У евреев, вообще-то, все мужчины ходоки. Абрамчик, правда, Дорин муж, похоже, не ходок. Весь в семье да в работе. Все равно, неправильный я еврей. Идиш не знаю, мат-перемат на каждом шагу. В синагоге был только пару раз – и то в молодые годы. Ходил с девочками знакомиться, танцевал, пил в мороз водку из горла, в бутылочку играл. В общем, не набожный я. Что такое Тора – знать не знаю, в глаза не видел. Отец всегда лупцевал меня… Лупцевал, не лупцевал – все равно, зачем мне Тора? Жизнь и без Торы хороша… Если и есть Яхве, то он ведь все уже сделал для человека: вкусная еда, хорошая выпивка, а самое сладкое – это русские бабы – вот уж ешь, не хочу.
В общем, не пить, не курить – само собой – и это нельзя, и то… Я, конечно, обещал. «Конечно, доктор, я понимаю, доктор, обязательно, доктор». И три года назад, и год… И полгода с небольшим – тоже. Тогда, вообще, доктор строго мне выговаривал. Таблетки прописал.
А я что? – таблетки съел и опять к Ляльке. Сколько ей сейчас – тридцать, тридцать пять? Почти на 20 лет младше Сени. Сеня, конечно, мой друг и однокашник, но разве я виноват, что у него с женой ничего не получается? Так она мне сказала. Наверное, правду сказала. Иначе не бросалась бы на меня. «А ну, Арончик, старичок, покажи, на что способна старая гвардия». У нас с ней, конечно, не любовь. Я ей нафиг не нужен, только ради этого… Она мне тоже – обычная лярва, у меня таких сколь угодно было. Нет, какая я все-таки дрянь, – хорошая Лялька женщина, всей душой ко мне. И собой хороша, бестия! У нас с ней как бы соперничество. Кто над кем верх возьмет.
Только почему-то я всегда верх брал. Она говорила обычно: «Ну ладно, Арончик. Сегодня я слабину дала. Следующий раз, держись, живой от меня не уйдешь». А тогда – как в воду глядела. Не было следующего раза, схватило меня – сил нет. Кровища из задницы так и хлещет.
Увезли по скорой. Сразу на операционный стол, отхватили половину кишечника. Может, и больше. Говорят – поздно приехал. Советская медицина – лучшая в мире. Сказали, что кишки вырезали, а все одно – зря. Зашили и все. Так и сказали: «Не жилец ты, Арон Семенович, извини».
Пища уже не проходит, непроходимость кишечника. Боль страшная, с каждым днем все сильнее. Сил нет терпеть. Морфий колют. Боль отходит часа на четыре, полегче становится. Если не сплю, все думаю, думаю. Сколько мне осталось? Дня три-четыре. А может, и один – сегодня, и все. В дорогу собираюсь. Что за скандал за дверью, кто там кричит снаружи?
«Пустите, пустите! Как это нельзя в реанимацию? Человек умирает. Как это невозможно? – я должна его увидеть». «Дочка с женой уже приходили, ты-то кто?» «Кто, кто? – дед Пихто. Да пустите вы меня, черствые люди. Все равно пройду».
В палату ворвалась молодая женщина, светлая, в легком платье, в потоках солнечных лучей и воздуха, просто какая-то светящаяся комета. Кинулась на колени у больничной конструкции, схватила за руку умирающего: «Дядюшка, дядюшка, да как же это? Нет, нет, вы не умирайте, не может этого быть, мы только-только познакомились, и двух месяцев нет, нет, нет, этого не может быть».
– Не плачь, дочка. Боб-то знает, что ты здесь? Не знает… Вижу, ты такая, все сама, сама. Хорошую девчонку племяш отхватил. Я б такую встретил в молодости – может, вся жизнь пошла бы иначе. Да нет, что я говорю – у каждого своя судьба, а такая, как ты, не пошла бы со мной. Боб – совсем другое дело. Я-то с малолетства по блатным компаниям. А там что? – водка, карты, бабы. Ты не думай – ни скокарем, ни щипачем я не был, не формазонил, не бакланил… ничего не было такого. Но дружил с этими… Ростовская шпана, – дружил, а как иначе? – мои соседи, друзья детства. Учился в техникуме, но это так, между прочим. Подрабатывал на бильярде – нет, шулером не был, просто играл хорошо. Операцию мог провернуть, левый товар толкнуть, денежку заработать. Одевался с иголочки, да ты видела мои фотографии. Тогда же и усики завел. Теперь говорят – как у Гитлера, поздно мне уже привычки менять.
Лихой я был парень. Как Галю свою встретил в компании, пригласил потанцевать. Она влюбилась с первого взгляда. Красивая была, да и сейчас красивая. Самая красивая. Хоть и растолстела с годами. А лицо и сейчас красивое. Даже сегодня, когда приходила с дочкой, плакала, кричала, надрывалась: «не уходи, Арончик, не уходи», а все одно – лучше ее нет…
Дочь Света не очень получилась, на меня похожа – поджарая, длинноногая, с моим шнобелем – сама посуди, чей еще у нее может быть шнобель? А Галя красивая. Галочка у меня самая лучшая. Бегал я, конечно, много, не сиделось на одном месте. Запои по несколько дней… Друзья находили меня в городе, приводили домой. А она ждала. Плакала, убивалась, ждала, а потом приводила в чувство. Все мне прощала, и сейчас прощает.
Что не сиделось? Жилплощадь есть, это в наши времена – будь здоров! Работа неплохая, фабрика моя сантехнику клепает, унитазы, раковины, и заработок хороший. На это всегда спрос будет, как без отхожего места жить? – вот и спрос. И семья у меня – дай бог каждому. А жена… Лучше моей Гали никого нет. А чего бегал? Такая натура у меня подлая.
Да нет, дочка, не только в этом… Куда ни кинь – дурной я человек.
Умирать? Нет, умирать не страшно. Ты, наверное, думаешь, я в ад попаду? Нет никакого ада. Это у меня вся жизнь была адом, сам его и создавал – вот этими вот руками. И для себя. И для Гали моей, и для дочки.
Думаешь, я Галю не люблю? С первого взгляда полюбил ее. Такая чистая девочка, такая добрая. Женщин-то у меня много было. И до, и после женитьбы. Она одна любила меня по-настоящему. Как же я мог не ответить на ее чувство? Просто души в ней не чаял, а сейчас – тем более.
Нет, смерти я не боюсь. Боюсь только, как Галя без меня жить будет. И дочка. Вы с Бобом их не бросайте.
– Что же, дядюшка, вы считаете – смерть и все, и ничего больше? А как же Бог?
– Какой бог, твой православный, что ли, или мой еврейский? Не знаю я. Что-то, наверное, есть. Ну, решили, что бог это… Называют так. Это все не по силам нашему человеческому уму. Насчет бога не знаю. Не видел его. Говорят, есть люди, к кому приходил. Ко мне – нет, точно не приходил. Ни бог, ни ангел. Не заслужил, видно, высокого посещения. Черти тоже не приходили. Нет, тут я, пожалуй, вру, дочка. Говорят, ведь, «напился до чертиков», верно говорят, бывало у меня и такое. Как допьешься до точки, всюду черти мерещатся.
А, ты про смерть… Я, конечно, не мыслитель какой-нибудь. Хотя народ наш умным считается. Аарон – первый еврейский священник… Но я-то не особенно умный, хоть и Арон. Обычный человек, природный что ли. Какова моя природа, так я и жил.
Но ты все-таки послушай меня. Это же так просто.
Вот человек умирает. Человек или собака, или какое другое животное, к примеру. Тело из молекул состоит, из атомов. Что, они тоже умирают? Нет, ничего такого с ними не происходит. Молекулы – не знаю, а атомы точно никуда не исчезают. Атомы, как кирпичики, они атомами и остаются. Уходят в землю, в воду попадают, растениями подхватываются, в новой жизни участвуют. Чувствуют себя при деле. Атом главную игру ведет. Из него все строится. Так что тело наше не умирает. Как, я думаю, и все остальное.
Ты меня про остальное не спрашивай. Это тебя надо спросить, дочка, что там остальное? Может, и душа. Сознание наше. Оно ведь сложное. Разве оно может так – раз и исчезнуть? Оно тоже остается. Куда девается, куда девается… Ученые вы теперь, а простых вещей не понимаете. На тот свет уходит. На тот свет – зря что ли люди так говорят? Просто так говорят? Нет, дочка, народ умнее нас с тобой. Народ ничего просто так не скажет.
– Что же там, дядюшка, на той стороне?
– А я почем знаю? Наверное, там мир, такой же, как и наш. Может, и не совсем такой. Но жить там, я думаю, тоже можно. И совсем неплохо. Наш свет. Есть еще «мир иной». Может, и не один этот «мир иной». Может, и много их. Вот туда мы и уходим. Сколько уже народу нашего с Земли туда перебралось.
– Как же, дядюшка, я рада, что у вас настроение сейчас получше. И говорите, и улыбаетесь.
– Морфия дали побольше, вот и говорить могу. А потом еще я тебе очень рад. Рад, что у племянника моего жена – такая чудная девушка. Сколько уже прошло с вашей свадьбы – месяц, два? Да, два месяца. Красивая ты. Самое главное – добрая, лицо у тебя доброе… Отзывчивая. Молодец, Боба, что нашел такую чудную девочку.
– Ну, ладно, дядюшка. Что это вы все меня нахваливаете? Вы меня и не знаете совсем, не такая уж я и чудная.
– Хорошая, хорошая. Если скажут, что нехорошая, не верь, у меня глаз – ватерпас.
– А вот и нет. Как в первый раз я приезжала в Ленинград, мы с Бобом уже встречались, это было год назад… До сих пор не могу себе простить этого. Что на меня нашло? Помутнение разума какое-то… Я, ведь, мерзавка, дура провинциальная, изменила тогда ему. С молодым мальчиком, барабанщиком из оркестра…
– Ну, так что?
– Как что?
– В жизни все бывает, дочка. И все забывается. А лучше бы – запомнить, чтоб это тебе уроком стало, уроком и предупреждением. Чтобы в другой раз не сглупить и больше уже не оступаться.
Да нет, не думай, хорошая ты. И с Бобом у вас все хорошо будет.
А за меня не беспокойся, я ухожу спокойно. Может, чему-то эта жизнь меня и научила – заживу Там по-другому. Говорят, что Там ближе к Господу. Какая ерунда. Если он есть, и если уж он создал эти многие миры, тогда почему в одном мире он должен быть далеко от нас, человеков, а в другом близко? И за себя тоже не беспокойся, в смысле смерти. Тебе, конечно, рано об этом думать. Но все равно – там все будут, никому не избежать этого. Так уж наша жизнь устроена.
– Пусть так, дядюшка. Если уж мы все перебираемся в этот самый «мир иной», – что это, дорога в один конец, что ли? – тогда кто-то должен и к нам от них приходить.
Иначе их мир очень быстро переполнится. Почему обратно никто не приходит?
– Почему не приходит? Мы, может, и не возвращаемся. А кто-то из того мира, видимо, приходит к нам. Наверное, таких очень даже много.
– Как же узнать, кто нашенький, а кто с «того света» прилетел?
– Как не узнать, милая? Боба своего любишь? А не думала, что он не от мира сего? Не думала? Не здешний он, не такой, как мы с тобой. Почему не такой? Да, посмотри на него. Открытый, свободный. Обо всем знает. Все-то у него ладится. Только захотел чего-то, тут же все и получилось. Живет в ладу – и с самим собой, и со всем светом. Нездешний он. Пришелец в наш мир. А я-то его веником охаживал, он тогда еще совсем молодым парнем был, впервые в баню пошел, я привел его и ну молотить по ребрам ладонями, ладони-то у меня видишь какие жесткие, а потом веником, веником… Хороший парень, племяш мой, прозрачный, безоблачный человек. Не от мира сего.
– Дядюшка, а сами-то? – вокруг вас лучи прямо так и ходят. Мне кажется, вы теперь ничего не боитесь, будто новую жизнь начали. Может, почувствовали, что болезнь ваша отступает?
– Не надо обманываться. Невозможно уже что-то изменить, дочка, я знаю, что меня ждет. Сегодня – завтра. Но почему-то ничего не боюсь. Не только не боюсь – чувствую себя по-настоящему счастливым. А знаешь, почему? Потому что я теперь свободен, впервые по-настоящему свободен.
Не надо ни врать, ни изворачиваться. Могу, наконец, Гале всю правду сказать, что гулял, что изменял… Она и так знает. Что ее одну всю жизнь любил. Если бы сейчас встать и пойти, я смог бы начать все по-новому. Никуда бы не побежал. Насколько проще ничего не вытворять. Не ловчить. Не выманивать у заказчика деньги – зачем?
Мне и так хватает, я ведь неплохо зарабатываю… И потом – не надо врать и обманывать.
Знаешь, почему я на войну не пошел? Никому не говорил, даже Галя не знает, а тебе скажу, дочка… Мне вообще легко тебе рассказывать, как в поезде – симпатичному попутчику. Так вот, не пошел на войну… Сделал себе белый билет, вот почему, дал денег военному комиссару. Если можно было бы повернуть время вспять, ни за что бы так не поступил. Не врал бы, не обманывал. Пошел бы воевать, как все. Мог и не вернуться. По крайней мере, умер бы как честный человек. Умирать ведь не страшно.
Иди, девочка, я устал. Когда увидишь Галю, скажи ей, что Арон всю жизнь только ее одну любил.
– Сами и скажете.
– Да я уже и сказал. Похоже, не поверила она. А тебе поверит. Завтра еще раз скажу, а как не доживу до завтра?
* * *
Галю покачивало, она уже не плакала, только принимала одну за другой таблетки. Ее поддерживали под руки дочь и сестры. Рядом с сестрами застыли фигуры их мужей и детей. Пришел и Сеня с супругой. Высокая, видная, с бледным, словно опрокинутым лицом, она стояла, намертво вцепившись в руку мужа, неподвижная, как беломраморная статуя. Были здесь и молодожены – Боб, племянник усопшего, с хорошенькой, молодой женой.
Рабочие кладбища суетливо сбрасывали ржаво-коричневые полосатые срезы земли в мокрую могилу, тяжелые комья гулко стучали по крышке гроба.
Когда все закончилось, родственники поехали к Гале. Вспомнили Арона, выпили по стопочке – «пусть земля ему будет пухом». Молодожены вернулись домой, жена рассказала Бобу о недавнем посещении больницы.
– Знаешь, Боб, дядюшку тогда словно подменили – от него будто сияние исходило. Мы о разном говорили, он сказал, что считает себя дурным человеком, что жил скверно, суетливо, обманывал, ловчил и все такое, а теперь ему незачем что-то скрывать, можно говорить все, как есть, сказал, что впервые чувствует себя свободным и совсем не боится смерти. Ты был в тот день на работе. А я после больницы весь день проплакала.
– Жаль дядьку. Я любил его. Гулял, конечно. Но что жил скверно… Не знаю. Хороший он был человек. Я, например, от него только хорошее видел. Еще до войны вытащил моего деда из Соловков, тот, к сожалению, недолго прожил после этого…
Сеню, например, своего однокашника, просто спас. Во время войны тот оказался в плену, по возвращении попал в фильтрационный лагерь, «путевки» в ГУЛАГ избежал, а вот в трудовые батальоны вполне мог загреметь – без права смены место работы и возвращения домой. Ему удалось сообщить о себе на «большую землю», дядька подключил прежние ростовские связи, нашел влиятельных людей… Помогли, Сеня попал в «нужный» список и был отпущен домой. Вернулся к обычной жизни, нашел работу, женился…
А что повинился, правду рассказал… Исповедался перед смертью. Как-никак – на встречу с Богом отправился. Хотел напоследок душу очистить.
– Ты, Боб, умеешь увидеть все с лучшей стороны. Мне так хорошо с тобой – так не хотелось бы, чтобы у нас осталось что-то недоговоренным; мне, наверное, тоже надо перед тобой повиниться.
– Я не священник, чтобы грехи отпускать. Между нами и так ничего не стоит, дорогая, – Боб обнял и поцеловал жену.
– Нет уж, выслушай меня. Помнишь, я первый раз приезжала в Ленинград? Почти год назад… До сих пор не могу себе простить…
– Мне это совершенно неинтересно, душа моя.
– Ты с ума сошел, что ли? Тебе что – все равно? Как так, почему? – отвечайте, Борис Николаевич, когда жена спрашивает.
– Отвечаю, милая, отвечаю. Когда уходит близкий человек, кажется, что на мгновение заглядываешь вместе с ним за край жизни и невольно задаешься вопросом – а что действительно важно для нас, для тех, кто остался?
Ты ведь любишь меня? А я – тебя. Это абсолютно неоспоримый естественнонаучный факт, разве нет? Только это и важно.
Сноски
1
Есикава Гомэ.
(обратно)2
Чикамога – название рассказа А. Бирса и место сражения 19-20 сентября 1863, в котором участвовали 66-тысячная армия южан и 58-тысячная армия северян; в сражении погибло почти 30 тысяч человек.
(обратно)3
Рэй Эттар.
(обратно)4
И. А. Бродский, «Рождественский романс»
(обратно)5
Рыба-наполеон – одна из самых крупных коралловых рыб в мире и самый большой представитель семейства губанов.
(обратно)6
Скорпены – род морских лучепёрых рыб. Одни из самых опасных морских животных. Название этих рыб происходит от принятого в иностранных языках наименования «скорпионовая рыба».
(обратно)7
Бхагавадгита, (санскр. «Божественная песнь» или «Песнь Господа») – памятник древнеиндийской религиозно-философской мысли на санскрите, часть шестой книги «Махабхараты»
(обратно)8
Федор Протасов – центральный персонаж пьесы Льва Толстого «Живой труп»
(обратно)9
Дон Хуан. В своих книгах Карлос Кастанеда описывает свое обучение у Хуана Матуса (дона Хуана) – мага, представителя древнего шаманского знания.
(обратно)10
Теорема Геделя о неполноте – теорема математической логики о принципиальных ограничениях всякой формальной системы.
(обратно)11
Тольтеки – индейский народ юто-ацтекской языковой семьи, живший на территории средневековой Месоамерики. Тольтеки – одна из величайших цивилизаций прошлого.
(обратно)12
Карлос Кастанеда (дон Карлос) – американский писатель и антрополог, этнограф, мыслитель эзотерической ориентации и мистик, автор книг-бестселлеров, посвящённых шаманизму.
(обратно)13
Виктор Санчес – мексиканский исследователь, создатель рабочих семинаров для личностного и духовного роста. Вдохновлённый книгами Карлоса Кастанеды он разработал широкий спектр техник и методик для личностного и духовного роста.
(обратно)14
А. Галич. «Поэма о Сталине».
(обратно)15
Виссарион – основатель и глава нового религиозного движения «Церковь последнего завета. Последователи Виссариона убеждены, что он – «Второе пришествие Христа». Христианские церкви считают, что Виссарион – шарлатан, лжехристос и лжепророк, его община – тоталитарная и деструктивная секта, а его последователи – несчастные люди.
(обратно)16
Церковь Объединения – новое религиозное движение, основанное Мун Сон Мёном в 1954 году в Сеуле. «Церковь объединения» причисляется к деструктивным и тоталитарным сектам.
(обратно)





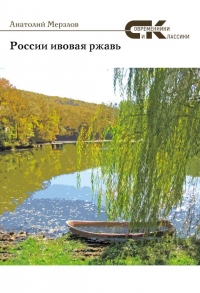

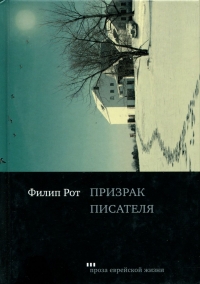





Комментарии к книге «Цветные рассказы. Том 2», Саша Кругосветов
Всего 0 комментариев