Владимир Николаевич Дружинин Тюльпаны, колокола, ветряные мельницы
…И МНОГОЕ ДРУГОЕ, УВИДЕННОЕ
АВТОРОМ В ГОЛЛАНДИИ, БЕЛЬГИИ И ЛЮКСЕМБУРГЕ
Картины Голландии
В кломпах
Только попав в Голландию, я понял по-настоящему, что такое кломпы.
Для этого мне пришлось их надеть.
Часа два назад я еще мчался в самолете. За иллюминатором был синий провал моря и плоский край земли, покрытый серебряной паутиной каналов. Кломпы — деревянные башмаки с загнутыми кверху носами — всерьез и прочно вернули меня к земле.
В кломпах походка становится медленной. Человеку непривычному легче всего просто стоять на месте.
Я стоял и разглядывал дом моего друга Герарда. Волна плюща на темно-красной кирпичной кладке, белые обводы окон. Высокая труба, к которой я мысленно пририсовал аиста. Не спеша повернувшись, я посмотрел через ограду садика. Там, на другой стороне улицы, были такие же дома под дождливым январским небом — опрятные и безмолвные. Они очень редко открываются для гостей, и, значит, мне повезло, что я в прошлом году в Ленинграде подружился с Герардом.
Кломпы, говорит Герард, залог здоровья. Они предохраняют ноги от сырости, а ее здесь хоть отбавляй. Для работы в саду лучшей обуви нет. Герард и отдыхает в них после службы, вырвавшись из центра Амстердама, из лабиринта его улочек и протоков.
Мне тоже пригодились кломпы. Если бы не они, я не смог бы так скоро отвязаться от гула реактивных моторов, застрявшего в ушах. Кломпы позволили мне перевести дух, оглядеться. Вообще нельзя путешествовать только в самолетах, в автомашинах, в скорых поездах.
Полезно побывать и в кломпах.
Времени у меня много — целых сорок минут тихой прогулки, необходимой после еды. Ходить пешком сейчас модно. Как раз напротив живет основатель клуба Гуляющих по Вечерам. Герард рассказывает, что многие горожане, обитающие в своих коттеджах бок о бок, познакомились лишь в клубе, в совместных походах.
Осторожно ковыляя, я выхожу за калитку. Улицу резко отсекает канал. Из-под моста вынырнула самоходная баржа. Она движется малым ходом, словно на ощупь. Путь ее, и без того узкий, стеснен причаленными к суше вонботами, то есть жилыми судами. В тесовой ящикообразной хибарке, под прямоугольным листом железа, вечно на воде живут те, которым не по средствам уютные коттеджи, задрапированные плющом.
Канал тянется к самому горизонту, по равнине, будто выутюженной катком. Пейзаж неправдоподобно плоский. На нем, как на музейном макете, отчетлива каждая деталь: кубики фермы, щеточки тополей, выращенных для защиты от ветра, мельницы. Да, мельницы и сегодня машут крыльями над голландской землей.
Редкие прохожие разговаривают вполголоса. До чего же спокойная страна, на первый взгляд…
И однако, может быть, на том вонботе, где маленькая девочка в кломпах играет с котенком, или в том домике, где сад погуще, скрывался от гитлеровцев удивительный человек, наш соотечественник.
Впервые я услышал о нем от Герарда в Ленинграде, на встрече с голландскими туристами. Краткие данные уместились на одной страничке блокнота: Анатолий, родом откуда-то с Волги, военнопленный, был грузчиком в Амстердаме, бежал, примкнул к Сопротивлению. Ловкостью отличался сказочной, дурачил врагов, гениально менял облик… К сожалению, Герард не был знаком с Анатолием, рассказывал о нем с чужих слов, но обещал выяснить больше. Мы обменялись адресами, начали переписку.
И вот довелось навестить Герарда. Готовясь к поездке в Голландию, я набросал себе план, и в нем значилось: искать следы Анатолия.
Герард пригласил сегодня на чашку кофе старого партизана. Он сражался вместе с Анатолием, наверняка сообщит много интересного.
Надо думать, воевать тут было нелегко. Эта ровная страна кажется простодушно откровенной, неспособной удержать что-либо втайне. Где тут спрячешься? Рядки тополей прозрачны, лесных зарослей нет. Даже если прижмешься к земле, все равно будешь виден на ровном бархате травы. А она зеленеет круглый год, не боится редких снегопадов, недолгих морозов.
Сороковая минута была на исходе, когда я сбросил кломпы у порога. В прихожей Герард, согнувшись, орудовал щеткой. Он чистил мои ботинки.
— Нет, позвольте, — запротестовал он. — Вы гость… У нас такой обычай…
Он выпрямился во весь свой огромный рост и выставил вперед щетку, как бы обороняясь.
Мои ботинки ослепительно засверкали. Но я не прикоснулся к ним. В комнату, на зеркально чистый пол, я ступил в тапочках.
— Как удачно, что вы приехали, — говорит жена Герарда, Марта. — Мы все время одни.
Она показывает мне главную достопримечательность дома — южное растение в горшке, распустившее ярко-малиновые лепестки. Зимой это случается редко. Кому же принадлежит заслуга?
Марта улыбнулась и посмотрела на мужа. Я понял, что за цветами ухаживает он и никому эту заботу не уступает.
Зелени в комнате много. Она нависает над круглым столиком, за которым мы беседуем.
Зазвонил телефон.
Герард кого-то долго слушал, повторял отдельные фразы, переспрашивал.
Вернулся он опечаленный.
— Вы извините, — сказал он. — У Якоба грипп. Он все равно хотел прийти, но его жена не выпускает. В этом году грипп очень опасный.
— Ужасный грипп, — подтвердила Марта.
Эх, досада! Но Герард поспешил меня утешить. Старый партизан сообщил любопытные факты.
— На словах будет не совсем понятно, — смутился Герард. — Вы уж потерпите, пожалуйста. Якоб просил… Он вам объяснит на месте…
— Где?
— На Стеенстраат, в центре. Там есть один ресторан… Якоб приглашает туда на ленч послезавтра.
Жена Якоба обещает вылечить его точно в срок. Что ж, тогда огорчаться не стоит. К тому же, Герард еще в письмах клялся, что скучать он мне тут не даст.
Завтра воскресенье. Мы куда-нибудь поедем.
— Я знаю, куда! — восклицает Герард, сияя.
На столике лежит карта. Голубой цвет, цвет воды, вторгается в Голландию с севера и едва не рассекает ее надвое. В глубине залива, на западной его стороне, сгустком квадратиков-кварталов чернеет Амстердам. Севернее — маленький удлиненный островок, словно висящий на ниточке.
Там и опускается палец Герарда.
Хозяева переглядываются и загадочно молчат. Я чувствую, они готовят мне сюрприз.
Тетушка Лоберия
То, что на карте выглядело ниточкой, на самом деле двухкилометровая полоса земли. Насыпали ее недавно, и Герард называет свой родной Маркен островом по привычке.
Да, именно родной! Дежурный у шлагбаума узнает Герарда и приветливо кивает нам всем, — уроженец Маркена, его супруга и гости могут проследовать бесплатно. Дорожный сбор — только с «чужих».
Зимой их, конечно, мало. В теплые же месяцы на Маркен, как утверждает путеводитель, устремляются десятки тысяч людей из разных стран. Что привлекает туристов?
На стальном фоне воды, сливающейся с небом, отчетливо выделяется сгусток деревянных построек. Крыши из красной черепицы, зеленые или черные, просмоленные дощатые стены, белые кресты окон, рыбачьи сети, вздрагивающие на ветру. Ни единого дерева. Плоский бесплодный кусочек островной земли служит подножием этому видению старой Голландии.
Мы оставляем машину — улочка слишком узка для нее — и я убеждаюсь, что дома настоящие, что в них живут…
— Тетушка Лоберия должна быть у себя, — говорит Герард, взглянув на часы.
Вот и на Маркене откроется мне дружеская дверь. А «чужие» ведь любуются, главным образом, фасадами…
У порога тетушки Лоберии, как и у других порогов, стоят кломпы, притом кломпы особенные, расписанные синими и красными цветочками. И дверь необычная, из двух частей — нижняя створка и верхняя. Чтобы поговорить с посетителем, достаточно распахнуть верхнюю, — не всякого ведь впустишь в дом!
При виде тетушки Лоберии мое сердце этнографа замерло. Высокая, седая, широкая в кости, она показалась мне молодой и легкой — таково волшебство народной одежды. Многоцветно вышитый нагрудник, пышные рукава красной блузки, пояс с тончайшим узором, богатство красок, подбиравшихся веками, как бы из протеста против однообразия ландшафта, пустоты моря. На голове у тетушки Лоберии белая кружевная шапочка, закрепленная двумя красно-белыми лентами, стянутыми под подбородком. Из-под шапочки по бокам выпущены локоны, а спереди — челка, подвитая так, что она образует козырек.
Племянник не кинулся в объятия к тете. Они молча кивнули друг другу, но дверь открылась вся целиком. Мы очутились в комнате, которая могла бы быть гордостью музея. Тетушка Лоберия буквально растворилась среди тканей, резных шкафчиков и поставцов. Они не просто хранят посуду — они выставляют напоказ тарелки, прижатые к стене перекладинками, чашки, висящие пониже, на крючках. Такого же почета удостоены ложки, — они тоже на виду, их поставец не менее тщательно украшен резцом. Портреты степенной родни, гравюрки дополняют убранство стен.
Посреди комнаты торчит железная печка — не очень надежная защита от холода, и тетушка Лоберия, садясь к столу, ставит ноги на ящик с горячими углями. Ночью она крепко закутывается в своей кровати, за ситцевой занавеской.
Впрочем, кроватью это сооружение трудно назвать — скорее ящик или шкаф, на дне которого и спит тетушка Лоберия. Перед ним табуретка. Тетушке Лоберии надо встать на нее, чтобы попасть на свое ложе, приподнятое над полом для защиты от наводнений.
Племянник осведомляется о здоровье. Тетушка коротко отвечает. Сама она ни о чем не спрашивает. Моя незнакомая личность не вызывает у нее видимого любопытства.
— Все вышивки — ее работа, — говорит мне Марта. — Нагрудники она меняет каждый день. Для кого? Нет, не для гостей, не для туристов. Для себя…
Тетушка Лоберия молчалива, но за нее очень много рассказывают ее костюм, ее вещи. О временах стародавних, когда люди не спешили так, как сейчас. Об утлых рыбацких парусниках, о нескончаемых днях ожидания… Только рукоделье — стежок к стежку, петля за петлей — помогало выносить тревогу за ушедшего в море.
К тетушке Лоберии муж не вернулся. Погиб он или прибился к другому берегу, до сих пор неведомо. Случилось это почти полвека назад. Она же осталась в своем мирке, встает всегда в один и тот же ранний час, кормит козу, поросенка, чистит и моет свое жилье, меняет нагрудники, аккуратно вдевает под шапочку накладную челку, — своих волос уже не хватает. Вечером вышивает новые нагрудники, шапочки, пояса, ленты, полотенца местным маркенским орнаментом, переходящим из века в век. Ждать ей с моря некого…
А впрочем, как знать, не томит ли ее извечное женское ожидание, словно застоявшееся в этих стенах. Может быть, под удары шторма она безмолвно разговаривает с пропавшим без вести и с другими ушедшими языком символов, возникающих на полотне под иголкой: сердце означает любовь, птица — веру, якорь — надежду.
Тетушка Лоберия снимает с комода ларчик, вынимает свои изделия.
— О, вы ей понравились! — шепчет мне Марта. — Она редко показывает…
Тут и праздничное, и траурное, темных и приглушенных тонов, причем, последнего больше. На Маркене полторы тысячи жителей, а фамилий всего тридцать шесть, браки — в пределах своего селения, и, стало быть, тетушка Лоберия непрерывно чтит память какого-нибудь близкого или дальнего родственника.
Прощалась она с нами без слов, без улыбки. Выпустила, закрыла нижнюю створку двери и проводила нас взглядом — скрестив руки, прямая, строгая.
На нас, одетых по-городскому, таращили глаза детишки, все в кломпиках, в длинных юбках до пят, все с кудряшками. У мальчиков на чепцах выстроены розочки.
Мы покатили обратно по дамбе. Маркен, крохотный заповедник прошлого, скоро растаял позади. На материке, с его городами, заводами, автострадами, нейлоном, он вспоминается как сновидение. В живучести народных традиций я убеждался часто, но Маркен потряс меня.
— Ну, допустим, — рассуждает Герард, — тетушка Лоберия приедет в Амстердам. В музей, смотреть Рембрандта, она не пойдет. Она и представления о нем не имеет. Что она может получить в смысле культуры? Она неграмотная. А если бы и умела читать, то на свои гроши купила бы разве что книжонку с убийствами, с похождениями гангстеров — перевод с американского. В кино посмотрела бы фильм с подобной же прелестью. Словом, для народа у нас коммерческие поделки самого дурного вкуса. Признайте, — то, что ее окружает, то, что она выделывает своими руками, гораздо красивее и чище!
Я не мог не согласиться.
— Конечно, есть другая сторона медали. Спальные коробки, в которых тепло, но душно… И вообще замкнутость, со всеми ее последствиями. Вот, например, история с прививками! Наука, слава богу, нашла средство против полиомиелита — детского паралича. А на таких маленьких островах многие отказались, не впустили врачей. Грешно, дескать. Бунт против воли божьей. И что же? Десятки ребят — калеки…
Тут мне привиделась дверь из двух створок, плотно закрытая, почти слившаяся со стеной. Да, не все, что хранится за ней, нужно для жизни. Но за сокровища народного искусства, постоянно обновляемые, спасибо тетушке Лоберии!
Человек и вода
Мы удаляемся от большой воды Зюйдерзее — таково привычное название залива, вдавшегося в Голландию, — но нигде ни на минуту не теряем из вида воду малую, воду озер, прудов, каналов. Земля с виду ненадежная, зыбкая. Квадраты полей — словно плавающие ковры. На каналах стоят мельницы. Они хоть и ветряные, но каким-то образом связаны с водой.
— Вы думаете, они мелют зерно? — улыбается Герард. — Это наши водокачки. Защищают нас…
Вода в солнечный день голубая, смирная, опасность неощутима. А между тем Голландия — корабль, воюющий с бесконечной бурей. С доисторических времен палуба — суша — понижается, море атакует. Зюйдерзее не что иное, как огромная пробоина, прорыв стихии, унесший множество жизней.
В борьбе с ней росли и мужали поколения. Фризы — предки нынешних голландцев — приносили жертвы воде, но не выпускали из рук лопаты, рыли каналы, возводили валы, на насыпанном, приподнятом грунте ставили свайные дома. Римлянин Плиний Старший с недоумением писал о смельчаках: «Не знаешь, земля служит им обиталищем или вода».
Фризы соорудили первые польдеры — участки земли, отвоеванные у моря, обнесенные преградами, осушенные с помощью канав, отводящих воду. Но до нашего века счет сурового матча был в пользу воды. Жестокая штормовая осень уничтожала труд десятилетий.
Вряд ли найдется другая страна, очертания которой так сильно и безостановочно меняются в ходе поединка между человеком и водой.
На современных картах уже нет Зюйдерзее. Прямая, жирная черта отсекает его от Северного моря. Пролом заделан, залив скован двадцатикилометровой дамбой, и водное пространство, ныне замкнутое, уже не «зее» — море, а «меер» — озеро. «Эйселмеер» — сообщает карта. Прибрежные дома на Маркене, стоявшие на сваях, уже обрели нижние этажи — первый признак того, что угроза наводнения отодвинулась. Придет время — исчезнут с карты и контуры Маркена. Он окажется в глубине материка. Под прикрытием дамбы можно уверенно создавать польдеры, наращивать сушу.
Идея осушки Зюйдерзее зародилась в конце прошлого века в голове конторского служащего Корнелиуса Лели. Гигант ста восьми килограммов весом, как указывают голландские биографы, точные во всем, он томился на своей службе за мелкими расчетами и проектами, по заказам фермеров и заводчиков. Велик ли толк от хрупких сооружений! Разве удержат они высокую, взбитую ветром приливную волну! Зюйдерзее надо загородить и выкачать насосами.
Проект грандиозный, дерзкий! Поговаривали, что Лели сошел с ума. Но богатырь обладал не только могучим талантом. От отцов и дедов, оборонявших свою землю от моря, он унаследовал и спокойное упорство, столь характерное для голландцев. Только в 1918 году проект был одобрен. Работы подвигались медленно, а во время экономических кризисов экскаваторы и землесосы застывали надолго. Лели не дожил трех лет до завершения строительства дамбы. Ее открыли в 1932 году и отдали должное замечательному инженеру: первый же польдер, примыкающий к мощной преграде, назвали его именем.
Юное озеро Эйсел постепенно уменьшается. Десятки тысяч гектаров уже осушены. Бывший островок стал холмиком на ровном поле. Покрывается ржавчиной старинная пушка, некогда извещавшая о нашествии воды.
Голландская пословица говорит: «Бог сотворил землю для всех, кроме нас». Польдер требует громадного труда. Земснаряды возводят в озере вал, затем год и другой пыхтят насосные станции, освобождая изолированный участок от воды. Обнажается топкое дно. Его вспарывают траншеями, чтобы скорее просохло, и все же затвердевает оно только через два-три года. Но пахать еще не время, — надо еще промыть почву, удалить морскую соль, а потом разрыхлить и удобрить.
Уже немало урожаев снято на первых польдерах жителями новых селений, но насосы не прекращают работу, в дренажных трубах клокочет вода. Влаги здесь избыток, испаряется лишь половина того, что выливают дождевые тучи.
Недавно голландцы подвели итог: из шестисот тысяч гектаров, отнятых морем за столетия, возвращено пятьсот семьдесят тысяч, главным образом — в последние годы. Значит, счет борьбы ныне — в пользу человека. Подсчитано, что труда для укрощения Северного моря затрачено в сто раз больше, чем на постройку Суэцкого канала.
Море пытается взять реванш. Отраженное дамбой Лели, оно в 1953 году ринулось в наступление южнее, на острова провинции Зеландия, одолело береговые валы, затопило сто с лишним городов и деревень. Погибло тысяча восемьсот человек.
Нет, праздновать победу еще рано. Нация по-прежнему на тревожной вахте.
Дай воде волю — и она зальет всю «палубу» страны-корабля, всю приморскую часть, на которой живет больше половины голландцев.
Помню, в детстве мне попалась книга американской писательницы Мэри Додж «Серебряные коньки». Меня восхищал храбрый мальчик, спасший свой край от наводнения: он первый заметил течь в плотине, припал к отверстию и сунул туда пальцы. А волны лезли на насыпь и грозили его поглотить. Этому выдуманному мальчику в Голландии поставлен памятник. Здешние ребята хотят верить, должны верить, что мальчик был. Необходимость защиты страны от стихии внушается с детства, как первейший гражданский долг. «Общество охраны и улучшения дамб и каналов» основано в шестнадцатом столетии, но его не назовешь пережитком старины. Оно и теперь охватывает почти всех жителей.
До сих пор действует закон, обязывающий каждого отбивать натиск моря, не щадя сил. Кто увидел прорыв, изъян в ограждении и прошел мимо — тот преступник и подлежит суду. Впрочем, такие казусы неизвестны.
Собираясь в Голландию, я много читал о замечательном, всенародном сопротивлении морю, но, странное дело, все это как-то забылось здесь, в ясный, тихий день. Дозорные, как живые, так и механические, не бросаются в глаза. На зеркало канала опущен крохотный поплавок. Он соединен с меленкой, ярко выкрашенной, будто игрушечной. Стоит воде подняться выше нормы — и меленка, получив электрический импульс, бешено закрутится, подавая людям сигнал. Задача больших мельниц, насосных станций, дренажных труб, шлюзов — регулировать обширное, сложное водное хозяйство. Где излишек — там убавить, выбросить в море или перекачать, добавить там, где воды не хватает.
Работа гигантская и в то же время неприметная, кропотливая, скромная…
Когда машина выносит нас к морю, к песчаному пляжу с курортными строениями, я не сразу различаю передний край обороны, главную линию укреплений. Она сливается с дюнами и лишь местами показывает свой зубчатый гребень. Частокол мощных свай, усиленных бетоном, камнями, всюду противостоит морскому прибою, тянется по берегам рек Рейна, Мааса, по всем протокам их общей, широко раскинувшейся дельты, а также по Шельде, пересекающей Голландию южнее. Ведь реки вздуваются, задержанные встречным ветром, и становятся опасными.
— Вы, наверно, слышали, — говорит Герард, — есть план «Дельта». Очень хороший план. А выполняется плохо. Вообще хвалить нас не нужно, мы мало сделали.
План «Дельта» касается Зеландии, пострадавшей от страшного наводнения. Катастрофа и заставила взяться за дело. Тамошние острова — аванпосты суши — надо соединить дамбами, оградить весь архипелаг и побережье от произвола моря. Лели мог лишь мечтать об этом, — глубины там во много раз больше, чем на Зюйдерзее. Перемычки и шлюзовые ворота для прохода судов строятся исполинские, высотой в десятки метров.
Однако современной технике работа вполне по плечу. И Герард имеет все основания быть недовольным.
Беда в том, что масса средств уходит на вооружение. Голландия втянута в НАТО — в сговор с американскими вояками. Им нет дела до стройки в Зеландии. Им подавай военные гавани, аэродромы, казармы, подавай солдат. Голландцы платят из своих кошельков. А что получают взамен? Угрозу — двойную! Не только бедствия войны подстерегают их, но и опасность наводнений, все еще не согнанная с порога.
— О, если бы мы могли трудиться для себя! — вздыхает Герард.
Тогда, полагает он, битва с морем была бы завершена в ближайшие десять — пятнадцать лет, а не в будущем столетии, как обещает правительство.
— Народ, конечно, протестует, но… Кстати, вы увидите сами. Вечером, на обратном пути…
— Неизвестно, — отозвалась Марта.
— Ну, почему же, — возразил Герард. — Он же выиграл процесс.
— Мало ли что! Я слышала…
Загадочный разговор обрывается, и я так и не узнал, что же мне надлежит увидеть. Перед нами возник…
Стеклянный город
Мы вышли из машины.
За кюветом бродит по кочкам цапля, не обращая на нас никакого внимания. Не из жалости ли оставили ей клочок болота? Дальше земля осушена, поля простираются до самых стен стеклянного города. Голубоватый, легкий, цвета неба, воды в канале, он кажется почти нереальным.
Улицы, переулки стеклянных зданий. В центре, будто ратуша, возвышается громадный куб с выгнутой крышей. Но есть и другие постройки, каменные, приземистые, — видимо, склады. В воскресный день город безлюден. Лишь кое-где за стеклом — смутные человеческие фигуры.
— Цветы, — говорит Герард.
В мае ковры-польдеры вокруг города заблещут всеми возможными в природе красками. Автобусы будут привозить толпы туристов — любоваться тюльпанами, драгоценной голландской цветочной нивой. Сейчас лицо индустрии цветов будничное, не для показа. Поля с зимующими луковицами еще черны, кажутся заброшенными. А цветы январские едва различимы через стекло оранжерей. Посетителей там не очень жалуют. Голландские селекционеры тюльпанов, так же как художники и закройщики в парижских домах моделей, работают секретно. Ведь того и гляди фирма-конкурент перехватит находку, вынесет на рынок!
Как же получилось, что страна у Северного моря, исхлестанная приливами, студеными ветрами, прославилась на весь мир своим цветоводством?
Давным-давно плавал на корабле матрос — парень красивый, но бедный. И осмелился он полюбить ясноглазую, златоволосую дочь капитана. Разгневанный отец запер девицу в каюте, а матроса выгнал. Только и успел тот захватить, что медную кружку, ложку да луковицу тюльпана — дивного цветка из далеких краев. Поселился он на польдере, посадил луковицу, томимый одним желанием — вырастить тюльпан, столь же прекрасный, как его любимая. Сила любви велика — учит легенда. Всех поразил невиданный цветок.
Герард, поведавший мне легенду, лукаво подмигнул. Нынче никакой капитан не откажется выдать дочь за владельца, скажем, вот этих оранжерей и плантаций…
А если обратиться к фактам… Тюльпан не боится холодов, не капризен. Родина его — Турция, Индия, но влажные польдеры ему пришлись по вкусу. Первые луковицы, привезенные сюда в шестнадцатом веке, дали отличный урожай. Тюльпаны стали украшением дворцов, усадеб, купеческих особняков. Наступила тюльпанная лихорадка. Луковица нового сорта, как крупный бриллиант, составляла огромное богатство. «Баржа с зерном, два вола, две овцы, пять свиней, две бочки масла, тысяча фунтов сыра, четыре бочонка пива, два меха с вином, кровать, одежда, серебряная кружка». Это — цена одной луковицы, приведенная в документе трехсотлетней давности. А нередко тюльпаны добывались у соседа ударом кинжала, пулей из мушкета.
Нельзя сказать, что страсти затихли. Теперь, в зале аукциона, десятки глаз прикованы к стрелке, медленно движущейся по большому циферблату. Служители вкатывают на тележках цветы, образцы партии тюльпанов, предлагаемой покупателям. На скамьях — оптовики, хозяева крупнейших магазинов. Перед каждым на столе — кнопка. Задумал свою цену — не зевай, жми кнопку, как только стрелка достигнет нужной тебе цифры, останови ее, останови раньше других! Если никто не даст больше, товар твой. Стрелка, постояв мгновение, идет дальше. Задержи ее, если можешь заплатить дороже! Не можешь — жди, моли бога, чтобы твоя цена была последней. Щелчок! Значит, ты вышел из игры, товар достанется твоему сопернику.
Говорят, все меньше покупателей бывает на майских аукционах. Коммерсанты помельче разоряются. Оптовики ворочают миллионами, торгуют цветами по всей стране и еще больше их отправляют за границу: в грузовиках и вагонах — в страны Европы, в самолетах — за океан.
Я пытаюсь представить себе атмосферу аукциона, душную, тяжелую от жадности, от ненависти к противнику. Испарину на лбах, потные пальцы, тянущиеся к кнопке. И цветы на тележках, чистые лепестки, доверчиво открытые людям…
Из оранжереи выходит коренастый мужчина в белом халате, шагает нам навстречу:
— Добрый день, — говорит он. — Что господам угодно?
Ничего, мы просто гуляем.
— Цветы сегодня не продаем.
Однако минут десять мы беседуем. В стеклянном городке выводят разные южные растения, но главная культура — тюльпаны. В оранжереях они цветут круглый год. В поле луковицы высаживают осенью, а летом, после цветения, их выкапывают, хранят в закрытом помещении, сушат там, очищают. И снова вывозят в поле. Луковица постоянно обновляется, тюльпан ведь многолетний.
— Ручной цветок, господа, более послушного не сыскать! Посудите сами!
Загибая пальцы, он перечисляет достоинства тюльпанов. Дольше всех цветет — целый месяц. Дольше всех, срезанный, держится в воде. Богатство оттенков — рекордное…
Мы прощаемся, и Герард вкладывает ему в руку монету.
— У нас в Голландии, — объясняет мне Марта, — принято за все платить.
Снова стрелка спидометра ползет к ста, снова сливаются в месиво мачты и фабричные трубы, вонботы и цепочки автомашин, ножницами смыкаются автострады и виадуки, веером расправляются каналы.
Здесь, на самой «палубе», у сурового моря, стянулось больше половины населения страны, перевалившего за двенадцать миллионов. Чего ради? Отчасти ответ нам дал стеклянный город. Да, область угрожаемая, но зато плодородная — нет лучше земель в Голландии, чем польдеры.
В устьях рек швартуются морские суда, встречаются с самоходными баржами из глубины страны, из Бельгии, Франции, Западной Германии. Где гавани, там выросла промышленность.
День на исходе, вспыхивают вывески бензоколонок — первые штрихи ночного рисунка страны. Дуга светящихся бусинок обозначает мост, огни на мачтах вмешались в гроздь зажженных окон.
Герард развертывает карту. Мы сбились с дороги? Нет, он вспомнил свое обещание.
Тут недалеко — фармацевтический заводик… Владелец решил не отставать от рабочих, взял да и зажег на фронтоне: «Голландия, разоружайся!». То есть четко по существу — вон из Атлантического пакта! Что поднялось! Заводчика — к суду. Недозволенная пропаганда! Он, понятно, ссылается на конституцию. Но крючкотворы нашли уловку. Свобода печати, говорят, в законе имеется, а вот свобода выставлять неоновые лозунги не упомянута. Следовательно, нельзя! Все же, знаете, его пришлось оправдать. Процесс страшно возмутил всех… Сейчас за поворотом мы увидим лозунг…
— Посмотрим, — произнесла Марта.
— Он же выиграл дело, — сказал Герард, уловив скептическую нотку.
Мы свернули там, где нужно. Вскоре Герард нетерпеливо заерзал.
Впереди, на вершине башни, почти невидимой в темноте, поднимался в небо оранжево-красный рекламный вензель. Марка фирмы. Под ней должен быть лозунг…
Мы напрасно высовывались из машины, напрасно задирали головы.
— Погасили, негодяи! — буркнул Герард.
— Святая простота, — усмехнулась Марта.
— Извините, — сокрушенно бормотал Герард. — Нас учили верить в бога и в конституцию, понимаете… Такой громкий процесс… Я надеялся…
Он бросил еще один взгляд на башню, с последней надеждой.
Северная Венеция
Да, так уж повелось величать Амстердам — северной Венецией. Подчинился этикету и я — как-то невольно, должно быть, из опасения прослыть невежливым.
Однако стоит выйти из многобашенного вокзала, чтобы сразу же понять — Амстердам не имеет в мире подобия ни тем более двойника.
Несколько шагов — и набережная. Вокзал на островке, передо мной пристань прогулочных катеров, слева и справа мостики. На том берегу — красные дома с белыми очертаниями окон, как в пригороде, но узкие и высокие, в три-четыре этажа… Морской ветер треплет флаги на катерах, снежками носятся чайки.
Мост, две минуты ходу — и опять вода, вправленная в траншею, облицованную розовым гранитом. Изобилие каналов и роднит Амстердам с Венецией. Что еще?
Венеция — южанка, черты ее яркие, броские. Родилась она у теплого моря; острова, данные природой, послужили прочным фундаментом для пышных патрицианских дворцов. Венеция не глушит свою красоту, а подчеркивает, с жаром выставляет напоказ, зовет к себе сладкими песнями гондольеров. В Венеции крутых мостиков и узких улочек, недоступных автомашинам, приезжий чувствует себя как бы в особом мире, далеком от нашего века. Венеция служит туристам, но одета знатной госпожой, ослепляет чужеземца своим нарядом. И он в праздничной толпе, бурлящей днем и ночью, отрывается от реальности. Ему легко поверить, что на Большом канале и сегодня живет и царствует дож, что по мосту Вздохов ведут осужденных, что под куполом фантастического храма святого Марка воины складывают добытые на востоке трофеи.
Если из Венеции — города вельможных палаццо, шедевров кисти и резца — перенестись в Амстердам, то первым ощущением будет, наверно, покой, отдых для глаз.
Невысокие здания, скромные, узкие фасады, единственное украшение которых — опрятность и чистота. Белые ободки оконных проемов кажутся накрахмаленными. Невозмутимая вода канала — серая под северным небом. Немыслимо вообразить здесь гондолу с фигурным, капризно изогнутым носом…
Уличный гомон то ли тонет в каналах, то ли уносится в небо вместе с чайками — так неожиданна, непонятна тишина в Амстердаме, почти сельская. Толпа молчаливая, сдержанная, едва слышный рокот катеров. Неяркие вывески. Ничего показного. Амстердам не ошеломляет, не сулит иллюзий. За мостиком, за поворотом улицы — те же окна без занавесок, простодушно приглашающие заглянуть внутрь. И другая набережная, такая же, с вонботами, причаленными к гранитной стенке. И опять облачко чаек — посланцев моря, лежащего рядом.
Амстердам не старается вам угодить — он по-простому открывает приезжему свой повседневный быт. На главной улице Дамрак, что значит выступ дамбы, передвижной ресторатор за прилавком, под застиранным холстом, потчует селедкой — главной национальной едой. Плати, бери порцию и, как все, суй кусок, надетый на палочку, в общую тарелку с мелко накрошенным луком. Повози там, прежде чем отправить в рот. Или попроси целую рыбку и, по примеру коренного амстердамца, возьми ее за хвост, опусти к себе в рот и сними зубами все мясо с хребта. Не стесняйся!
Немного дальше, на той же главной улице, играет шарманка — гигантская, невиданная шарманка, величиной с автобус. Один красный от натуги молодец крутит рукоятку, исторгает несложную музыку, еще популярную в Голландии, а его напарник, шаркая по тротуару стоптанными башмаками, протягивает прохожим банку из-под консервов, повелительно звякая монетами.
Невдалеке я увидел двух мужчин. Они степенно расхаживали взад и вперед у подъезда заокеанской фирмы. И они молчали — в этой стране не любят лишних слов. А слова самые нужные они несли на себе, на квадратах фанеры, закрывших спину и грудь: «Долой американских захватчиков!»
Короткая Дамрак вывела на центральную площадь Дам, то есть Плотина. Место притяжения здесь — универсальный магазин «Бейенкорв» — «Пчелиный улей». Отделка внутри скромная, рекламы так же мало, как и на улице, — лицо Амстердама вообще не отягощено косметикой. И девушки-продавщицы предпочитают естественные краски, пышут деревенским румянцем. В свободные минуты они, будто на сельской улице, сбиваются табунком, шепчутся, хохочут, даже шлепают друг друга, разыгравшись. Не любо — не смотри, приезжий! Здесь перед тобой не ходят по струнке, здесь нет такого вышколенного обслуживания, к которому ты, быть может, привык в Брюсселе или в Париже.
На площадь выходит темный, грузный фасад дворца — единственного в городе. И этот не имел бы столь высокого титула, остался бы ратушей, если бы не Наполеон, посадивший здесь на престол своего брата. Тогда-то Голландия и получила короля. До того она была республикой.
Гид, показывающий дворец туристам, не преминет сообщить, что здание покоится на сваях, числом тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят девять. Впрочем, на сваях — весь Амстердам. Грунтовые воды обильно омывают их, предохраняют от порчи. Когда, в связи с работами на Зюйдерзее, подпочвенная влага хлынула на осушенные места и уровень ее понизился, в Амстердаме поднялась паника. Сваи будут гнить! К ним просочится воздух! Пришлось инженерам поломать голову. Редкий случай, когда воды в Голландии оказалось мало…
Кто бывал в Венеции, тот унес в душе тревогу за этот город, выдвинувшийся на своих островах в грозное море. Оно захлестывает его все чаще… Здесь же люди не испытывают страха перед стихией, хотя Амстердам вырос на суше, которую добыл сам. Напор воды отброшен окончательно. В названиях улиц то и дело звучит: «плотина», «шлюз», «вал», «канава». Деловитые термины гидротехники — однако сколько в них победного смысла!
На плане Венеции — архипелаг, на плане Амстердама — рисунок, похожий на срез древесного ствола. Превращая низину, заливаемую солеными волнами, в польдеры, город наращивал кольца валов и каналов. По ним тоже можно отсчитывать возраст: чем дальше от площади Дам, исконной сердцевины города, тем застройка моложе.
Город, осажденный стихией, мало заботился о своей внешности. Расчетливые Генеральные Штаты — так именовалась торговая республика — не возводили величавых чертогов. Дома самых богатых купцов на Херенграхт — набережной Господ — не выделяются в ряду других старинных построек. Откровенная незатейливость крестьянской фермы, только надстроенной, увеличенной в вышину! Большие города соседей — Антверпен, Кельн — как бы увенчаны грандиозными соборами. У Амстердама нет ни одного, который был бы им под стать. На редкость мало здесь достопримечательностей, обстреливаемых фотоаппаратами туристов.
Гуляя по набережным, не сразу заметишь Башню Слез, стиснутую домами, заслоненную ими от моря. Уже трудно представить себе матросских жен и невест, когда-то поднимавшихся наверх, чтобы махнуть платком уходящему паруснику.
Я миновал башню, дошел до конца канала, до реки Эй, расширяющейся в устье. Открылась панорама порта, шеренги судов, крыши пакгаузов, многоэтажный белый лайнер — будто франт, случайно очутившийся среди просоленных, обшарпанных работяг. За ними, на том берегу, вытянулись корпуса северной, промышленной, части города, плоские и однообразные, как всюду в мире. Мне захотелось обратно, в неповторимое, на уютный «грахт».
Что же пленило меня в Амстердаме — какое здание, какой уголок? Нет, ничего в отдельности, все вместе, трогательная естественность этого города, который никогда не старался быть красивым. Фантазия не участвовала в прокладке каналов — их расположение продиктовано суровым расчетом, стратегией битвы с морем. Нет на набережных ни гранитных парапетов, ни чугунных решеток, — они мешали бы причаливать к дому, сгружать товары. Оттого кажется, что укрощенная вода льнет к людям, доверчиво открытая.
Но мне слышится голос Герарда:
— А сколько машин ухнуло в каналы! Скатываются чуть ли не каждый день…
Да, машин в городе — буквально через край! Набережные узки, автомобили, ожидающие хозяев, прижаты к воде, чуть ли не нависают над ней кузовами. Герарду уже невмоготу каждое утро искать стоянку — он оставляет свой «фиат» у пригородного вокзальчика, едет в центр на электричке и на службу приходит пешком.
— Нас здорово выручил бы хороший, дешевый общественный транспорт, — утверждает он. — Так на это нет капиталов. Выпускать автомобили, видите ли, выгоднее.
Достаточно побродить часок по каналам, чтобы наткнуться на спасателей с лебедками. При мне вытаскивали из воды велосипед. А что с седоком?
— Выплыл, — сказали мне.
Кое-где над водой — раскидистые деревья. Кажется, передо мной затененная заводь в старинном парке. Я не устаю разматывать лабиринт амстердамских каналов, меня поддерживает ожидание нового, ободряющее путешественника.
Скоро обед, встреча с Якобом — ветераном Сопротивления. Адрес у меня записан: канал, и вместо номера два слова:
Наси и бами
Прозевать ресторан невозможно, сказал мне Герард, буквы в витрине крупные. Напротив — голубой вонбот.
И действительно, искать долго не пришлось. Я явился первый и успел разглядеть затейливую отделку зала. Резные колонны из темного дерева, узорчатые перегородки между столиками, сплетения нейлоновых лиан, плакаты, призывающие пить «кока-колу» и местное пиво «Амстел». А под потолком парит, распахнув широкие крылья, птица Гаруда, мифическая птица, знакомая индийцам и индонезийцам.
Смуглый яванец принес меню. Я отыскал наси и бами в числе многих экзотических блюд.
Какими же судьбами, почему оказался в Амстердаме этот уголок Индонезии?
Три столетия маленькая Голландия владела огромной, далекой «страной тысячи островов». От заморских владений теперь осталось немного, но в Голландии по-прежнему замечаешь как бы отблеск тех широт. В разговоре нередко звучит энергичное, звонкое «касьянг» — индонезийское «хорошо». В доме Герарда и Марты после «ватерзой» — отварной курицы с овощами — подают на десерт кусочки маринованного имбиря, сладкие и вместе с тем обжигающие рот. Пресная кухня северной Европы уже не обходится здесь без южных добавлений. Индонезийские рестораны неизменно популярны.
В одном из них я и нахожусь сейчас.
Официант объясняет пожилой чете по-французски состав «рейстафел» — рисового стола. Вскоре там появилась миска с вареным рисом, мясные и рыбные заедки на маленьких тарелочках, батарея пузырьков с разноцветными соусами.
Вошел Герард и вслед за ним — Якоб, тоже высокий, немного сутулый. Наверно, он много лет провел за письменным столом. Застенчивый взгляд голубых глаз. Понадобилось усилие, чтобы представить себе его в антифашистском подполье, в смертельной борьбе. Но внешность сдержанного голландца обманчива — не угадаешь, на что он способен.
— Он знал Анатолия, — сказал Герард.
Якоб потупился.
— Очень мало, — проговорил он. — Я помог ему здесь устроиться.
— Где именно? — спросил я.
— Вот здесь.
В этом ресторане? Значит, меня пригласили сюда не только ради тропической кулинарии… Но что за идея — поместить русского парня, уроженца Волги, в компанию смуглых, под крылья птицы Гаруды.
— Во-первых, — сказал Якоб, — он был тонкий, как юноша, и форма носа, к счастью…
Мы беседовали по-английски, и он, не найдя нужного слова, объяснил мне жестом: Анатолий был курносый.
— А во-вторых… Нет, это как раз самое важное — Анатоль артист. Он играл на сцене. На любительской, в своем клубе. Но там был большой зал. Анатоль говорил, — больше, чем в нашем Муниципальном театре.
— В каком городе это было?
— Саратов, — произнес Якоб старательно. — Я помню, что он жил в Саратове.
— Что ж он делал в ресторане?
— О, — оживился Якоб, — он все умел делать.
В глазах голландца это главное достоинство, куда более существенное, чем игра на сцене.
— Золотые руки, — сказал я. — В русском языке есть такое выражение.
— Да, да! Очень остроумно… Золотые руки! Я теперь буду знать.
— Золотые руки! — подхватил Герард. — Я сожалею, что не изучал ваш язык. Однако что вы будете есть?
— Наси и бами, — ответил я машинально.
Проворный яванец подлетел к нам. Я попытался мысленно представить на его месте Анатолия.
— Его держали на кухне, — пояснил Якоб. — Для безопасности. Он же сбежал из лагеря, его тут спрятали. Сперва он мыл посуду. Через три или четыре дня заболел повар, но Анатоль уже научился стряпать по-индонезийски. Хозяин был поражен. Анатоль чинил проводку, мебель…
Сутанто, так звали хозяина, был человеком верным. На родине, где-то на Яве, он печатал прокламации против колониальных властей, угодил в тюрьму, бежал и в Амстердам прибыл под чужим именем. Отец прислал ему денег, Сутанто открыл ресторан, а точнее говоря, клуб недовольных. Анатолий попал к хорошим товарищам. Он подчернил брови, усвоил индонезийские жесты, — например, не забывал в знак согласия мотать головой вправо и влево.
Его окрестили Арифом. Поди проверь! При посторонних он чаще всего молчал. Но однажды насмешил до колик гитлеровского офицера ломаной немецкой речью с яванским акцентом.
— Сутанто уже нет в живых, — прибавил Якоб.
Здесь никого уже нет из прежних. А обстановка почти не изменилась. Так же мерцала зелеными стекляшками глаз мудрая птица Гаруда.
Какова же роль Якоба в судьбе русского? Я спросил — и голландец снова потупился.
— Роль незначительная, — сказал он. — В порту был один грузчик, наш человек…
— Кушайте, — вмешался Герард. — Остынет…
Я едва одолел свое наси — гору жирного риса с наструганными кусочками говядины. Острый черный соевый соус оказался весьма кстати. Бами я пробовать не стал, — это тоже, в сущности, плов, но с копченым мясом. Отведал я и хрустких лепешек из молотых креветок, — без этого обед не был бы вполне индонезийским.
Едят в Голландии сосредоточенно. Якоб заговорил, когда подали кофе.
— Грузчик приходил ко мне за взрывчаткой. Нам надо было пустить на дно фашистскую посудину…
В боевой группе состоял и Анатолий. Как ни следили надсмотрщики, а дружбе голландцев с советскими военнопленными помешать не смогли. В порту ведь много укромных закоулков.
— Взрыв получился отличный, фашисты забегали… Анатоль сообразил, что ему лучше исчезнуть. И вот я читаю записку: «К тебе зайдет Вальтер, отдашь ему для меня деньги, сто семьдесят, да еще тридцать семь, которые ты задолжал в прошлом месяце». Вальтер, конечно, кличка. Цифры — номер рубашки для Анатолия, его рост.
Анатолий покинул порт с ночной сменой, в толпе грузчиков-голландцев, одетый так же, как они. А наутро поступил к Сутанто. Так война свела в одну шеренгу, плечо к плечу, яванца и волгаря.
Анатолию выправили удостоверение личности. Он снял комнату на втором этаже, над кухней и, когда надо, спускался и поднимался по потайному лазу. На кухню, с черного хода, иногда являлись к нему беглецы из рабочих команд «ост», соотечественники. Анатолий кормил их пряной едой, отправлял дальше с адресами…
Всю зиму Анатолий провел в ресторане «Гаруда». В марте сорок четвертого ищейки оцепили дом. Хозяина и еще троих индонезийцев схватили, Анатолий стукнул жандарма табуреткой и выскочил в окно.
Сутанто вернулся из лагеря больной и прожил недолго.
Якоб посмотрел на меня, как бы извиняясь. Увы, больше он ничего не может сообщить, то есть ничего достоверного, но он наведет справки…
Якоб допил кофе, вынул бумажник и извлек из него маленькую фотографию. Такая точно была в удостоверении Анатолия. Якоб сберег карточки своих друзей военного времени. Эту он переснял — специально для меня. Лицо юное, черты мягкие, легкие. Брови двумя четкими дугами, белые зубы приоткрыты в улыбке. Он выглядит беспечным, этот парень из Саратова, скрывавшийся здесь под именем Арифа. Как он чувствовал себя в неожиданной роли, среди вычурных, невиданных декораций, в таинственном сиянии фонариков, подобных жукам-светлякам в сумраке джунглей?
Что же стало с ним? «Наверное, спасся», — думаю я, глядя на фотографию. Как хочется узнать о нем больше! И увидеть тех, кто выручал его, не щадя жизни…
Я поворачиваюсь к Якобу, крепко жму ему руку. Без слов. Он понял меня.
Мы поднялись.
— Итак, ваши планы? — спросил Герард. — Рембрандт? Мой вам совет: не торопитесь. Сначала вам следовало бы побывать
У Виллета Хольта
Я уже привык к тому, что голландцы говорят о своих великих художниках, как о современниках, ныне здравствующих и ожидающих нас у себя дома.
Но кто такой Виллет Хольт?
Его дом на Херенграхт открыт для всех. Но вы забываете, что вы в музее. Сдается, хозяин только что вышел и оставил дверь не запертой. И вот-вот вернется из… семнадцатого века.
Дело в том, что здесь бережно сохранены не только картины, гобелены, дорогая мебель, но решительно все, чем пользовался Хольт при жизни, вплоть до булавки, до штопора, до ножниц, которыми снимали перегоревший свечной фитиль.
Посетитель попадает сперва в парадные залы. Гнутые резные ножки кресел, просторных диванов, шелковая обивка, грозди бронзовых амуров, повисшие на канделябрах, величавый мраморный камин. Все это — искусное подражание королевским дворцам Парижа. Будто застывший мадригал возвышается золоченая арфа.
Но Виллет Хольт был купцом. Если всмотреться, богатая гостиная открывает нам его происхождение. Он, впрочем, и не лез в дворяне. Натюрморт на стене изображает миску с мулями — черными морскими раковинами, рядом с миской, на грубом фермерском столе — маленькие круглые булочки, какие пекут и сейчас на острове Маркен. Простое рыбацкое угощение!
В кабинете хозяина хрустальная люстра бросает свет на громоздкий сундук, стянутый толстыми железными обручами. Вряд ли декоратор, создававший убранство дома, рекомендовал Хольту поставить здесь, на виду, это грубое вместилище денег. Наверно, возражал, спорил… Но кричащий диссонанс не смутил купца. Ничуть! Похоже — он нарочно выпятил свой сундук, назло какому-нибудь обедневшему графу-просителю, залезшему в долги…
У Виллета Хольта обширная библиотека. Мерцают тиснеными корешками трактаты по медицине, астрономии, наставления по счетоводству, труды философов. Из них широкой известностью пользовался Барух Спиноза, атеист, старавшийся раскрыть естественные причины всего сущего.
А вот «Похвала Глупости» — одна из самых выдающихся книг тогдашней протестующей Европы. Ее автор, Эразм Роттердамский, был, в сущности, странствующим обличителем. Голландец по рождению, он учился в Париже, жил в Италии, в Англии, во Фландрии, всюду бичевал деспотизм, алчность, высокомерие. Осмеливался клеймить и владык церковных — их нетерпимость, узость взглядов, лицемерие.
Эразм пишет о коронованных особах: «Они уверены, — что честно исполняют свой монарший долг, если усердно охотятся, разводят породистых жеребцов, продают не без пользы для себя должности и чины и ежедневно измышляют новые способы набивать свою казну, отнимая у граждан их достояние».
О вельможах Эразм говорит, что «нет, пожалуй, ничего раболепнее, низкопоклоннее, пошлее и гнуснее их, а между тем во всех делах они хотят быть первыми».
Жестоко достается и священнослужителям всех рангов: «лишь об уловлении денег пекутся они».
Все эти речи произносит Мория, богиня глупости. Таков сатирический прием Эразма. Прием, распространенный в литературе, в сказках: помните, ведь Иванушка-дурачок на самом деле вовсе не дурак. Несомненно, Виллет Хольт понимал Эразма и, верно, восхищался им.
«Похвала Глупости» вышла первым изданием в 1511 году, задолго до того, как Виллет Хольт построил себе особняк на Херенграхт. Но она должна была занять место в библиотеке купца. «Похвала Глупости» — одна из тех книг, которые воодушевляли противников феодализма, вооружали их новыми идеями, пробивали дорогу Виллету Хольту и его собратьям.
Держать такую книгу было ничуть не опасно для него. В то время, как мы увидим дальше, власть нового класса в Голландии утвердилась прочно.
В доме Хольта ничто не напоминает о религии. Но есть у купца одно помещение, которое можно назвать святилищем. Это кухня — громадная, на весь полуподвальный этаж, оборудованная словно для трапезы великанов. Над очагом жарились на вертеле целые туши. Набор посуды и всевозможных инструментов для готовки и сегодня восхищает поваров и гастрономов. Водяной насос подавал воду из кранов в посудомойки, выложенные металлом. Купец не пожалел средств, чтобы украсить и кухню: на великолепном изразцовом панно синеет море, развеваются флаги фрегатов.
Для чьих глаз предназначалось зрелище? Виллет Хольт, надо полагать, тратился не для челяди, — видимо, он сам часто спускался на кухню, давал инструкции, выбирал лакомые куски мяса, фрукты, приправы.
Нельзя покинуть дом, не увидев еще одну достопримечательность. С первого взгляда это — шкаф с игрушками. Но нет, забава не для ребенка… На полках — комнаты, отделенные перегородками, с обоями, с портьерами, коврами, гарнитурами из красного дерева. В спальне — кровать под балдахином, на кухне — многопушечные фрегаты на изразцах, в прачечной — паровые утюги. Все уже знакомо, так как перед нами — модель дома, в котором мы находимся. Картины, канделябры, стол, накрытый к обеду, даже безделушки на камине… Верно, не один ремесленник мастерил крохотные копии всего купеческого инвентаря. Несомненно, купец испытывал потребность запечатлеть свой быт, свой образ жизни. Он был очень доволен собой. Он гордился добытым и бросал вызов кому-то…
Подозревал ли Виллет Хольт, что он покажет будущим поколениям не только свои вещи, столь им любимые, но и свою душу именитого горожанина, человека «золотой эпохи» Голландии?
Прошлое придвинулось ко мне…
Долгая, кровавая борьба с испанцами позади. Независимость отвоевана в 1648 году окончательно.
Прежде не было у голландцев своего государства. В Нидерландах, то есть на «низких землях», веками сменяли друг друга завоеватели. Когорты римлян, германцы с Эльбы, с предальпийских возвышенностей, потам владыки Франции, немецкие венценосцы Габсбурги, и, наконец, могущественные самодержцы Испании…
Испанцам принадлежали области, охваченные ныне границей Бельгии, а также Люксембург. Все эти провинции — лишь крохотная частица пространств, подчиненных Мадриду. Многопушечные корабли католического величества, его закованные в латы воины покорили Мексику, вывезли оттуда несметные грузы золота.
Однако карлик смело выступил против великана. Вспыхнуло восстание в городах — растущих центрах ремесла и судоходства. К мастеровым, к торговым людям примкнули крестьяне, рыбаки, толпы гезов — вконец обнищавшей голытьбы. Восемьдесят лет войны, то затухавшей, то разгоравшейся снова, предшествовали победному сорок восьмому. Торжество, правда, неполное — собратья на юге не добились успеха, в Брюсселе еще хозяйничают оккупанты.
Но северные провинции, голландские, свободны!
Сорваны со стен приказы короля Филиппа — злобного, болезненно высокомерного, любившего истязать людей и животных. Не страшен больше герцог Альба — изгнанный королевский наместник. Нет чужих солдат.
Отменена и религия врагов. Убрались восвояси епископы, жадные до угодий и поборов, монахи, продававшие отпущение грехов, замазаны известкой лики католических святых, погашены костры инквизиции.
Утвердилась новая вера — учение Лютера и Кальвина. Она не донимает церковными обрядами, не признает ни девы Марии, ни сонма божьих угодников.
Правда, лютеранство еще выпустит когти. Его служители тоже не чужды наживе. И у них в запасе — мертвящие догмы, преследования инакомыслящих. Недаром Эразм Роттердамский в свое время отказался поддержать Лютера. Но пока что новая вера либеральна, не грозит казнями за вольнодумство. Вот почему в доме Виллета Хольта читают труды свободолюбцев и даже безбожника Спинозы.
Жизнь круто изменилась. Соседи за рубежом диву даются: победители управляют собой сами, без короля, без архипастыря. Во главе Генеральных Штатов — так называется республика — люди незнатные, владельцы мастерских, судов, портовых складов, магазинов, простые мужики, известные лишь туго набитой мошной. Такого еще не бывало. И как господь терпит? Но, видать, он благоволит голландцам — их города и села, разоренные войной, отстроены, ткачи вырабатывают прекрасные сукна и полотна. Не меньшим спросом пользуются изделия кузнецов, ювелиров. Все страны покупают голландские товары.
Высокобортные парусники на изразцах у Хольта — это военный флот Генеральных Штатов, отлично вооруженный, надежно защищающий Амстердам и другие города на побережье.
Голландские мореходы славятся своим уменьем и пытливостью. На картах появились маршруты Виллема Баренца, совершившего три плавания по Ледовитому океану в поисках северного водного пути в Китай. Льды не позволили ему пройти так далеко, но многие районы Заполярья стали доступнее. Навечно осталось на карте имя Баренца — на обследованном им море.
Голландцы обосновались на Цейлоне, на Яве, проникли в Центральную Америку. В северной они воздвигли город Новый Амстердам — впоследствии Нью-Йорк.
Такова она, «золотая пора» Голландии, пора триумфа. В особняке на Херенграхт я дышал ее воздухом. Мне хорошо запомнился хозяин, бесконечно гордый собой, своей родиной, всем достигнутым.
Он уважаемый человек в Амстердаме. Он участвует в управлении городом. Многие бедняки еще тешат себя иллюзией, что пришествие Хольтов избавит их от всяких невзгод…
Нам, конечно, следовало побывать в его доме. Иначе нам трудно было бы почувствовать прошлое Голландии.
Теперь нам легче будет понять чудо «золотой поры»— удивительную вспышку художественного гения.
Волшебное окно
Тихая излучина набережной, забитая машинами, сухой шорох безлистых ветвей над головой, потом узкая старая улочка с одиноко синеющей рекламой пива — и я у дома Рембрандта.
Увы, дом оказался пустым и холодным. Музейные витрины, расставленные во всех этажах, как-то не заполняют его. В комнатах, отделанных в начале нашего века темным дубом, неуютно. Гравюры Рембрандта, разложенные по линейке, с датами и пояснениями, кажутся репродукциями из учебника — до того выстужено это здание, некогда жилище величайшего мастера.
Я искал здесь то, чего не могло быть. Дом опустошен давно, еще при жизни Рембрандта. Кредиторы вывезли его мебель, его коллекции редкостей, зеркала, книги, оставили только голые стены. И те художник вынужден был покинуть.
Мне вспоминались вычитанные когда-то фразы о власти золотого мешка, которой художник не подчинился. Очевидно, он не мог бы угодить Виллету Хольту.
— Если уж вы желаете понять, — сказал мне Герард, — то не спешите. Действуйте систематически. Рембрандт от вас не уйдет. Поезжайте в Гарлем, к Франсу Галсу.
И я поехал в Гарлем.
Город раскинулся у моря, улицы его упираются в дюны. Где-то я видел такие дюны? И эту церковь над красными крышами, захолустные каналы в заросших травой берегах, высокие, стремительные облака?
Где? Вероятно, в Эрмитаже, в той Голландии, что на холстах старых мастеров.
«…всего занимательнее, так это то, что ты видишь на картине — ты видишь и на улице или за городом. Те же города, те же каналы, те же деревья по бокам, те же маленькие, уютные, выложенные темно-красным кирпичом невероятно чистенькие домики. Просто удивляешься, как умели тогда голландцы передавать все, что видели…»
Так писал русский художник Серов. Он прекрасно выразил чувство узнавания, которое испытывает, я думаю, каждый приезжий.
Странное чувство! Годы мчатся, все изменяется, а путешественники, сравнивающие натуру с картиной, неизменно твердят: да, Голландия именно такая, какой ее писали.
И вот я снова среди картин, на голландской земле. Можно еще раз сличить натуру и ее изображение. Музей Франса Галса богат исключительно. Тут, как нигде, представлен и сам Галс, и другие знаменитые гарлемские живописцы.
Якоб Рюйсдаль написал равнину, по которой я только что проехал. Вал прибрежного песка вдали, беспокойное небо — точь-в-точь сегодняшнее. Прохлада словно льется на меня из рамы.
Геррит Беркхейде приглашает на главную площадь Гарлема, где я только что был. Кажется, смотришь не на картину, а в окно, пробитое в стене, выходящее на улицу, во двор или в соседнее помещение. Во дворе — петух и две курицы. Какие живые глаза у самодовольного, разжиревшего владыки курятника, какой живой, буквально дрожащий гребешок!
У Артура Кейпа, как и у многих голландцев классической школы, точность рисунка непревзойденная. Вон там, у соседа на столе, бокал с вином. Слышно, как оно шипит и пенится. Розовый срез окорока вызывает голод, дольку лимона ощущаешь на вкус. Поместите рядом самый совершенный фотоэтюд — он огорчит своей приблизительностью.
Снимок с натуры — и больше, чем снимок…
Если бы художники просто копировали окружающее, переносили на полотно без разбора все, что видно за окном, я вряд ли узнал бы на картинах Голландию.
Ведь минуло триста лет. На старой площади еще стоит церковь святого Бавона, но на площади выросли новые здания. Другие там люди. А картины упорно не стареют. Художники, значит, не просто копировали — они отбирали самое существенное, самое характерное для страны. И как будто предвидели, что будет скоро смыто временем, а что сохранится на века.
Натура, зорко выбранная — будь это дерево, пруд, уличная сценка, портрет, — ложилась на полотно как обобщение. Поиски художника от нас скрыты. Сдается, он ничего не искал, покорно воспроизвел все малейшие детали. Естественность необычайная!
Голландцы первые в мире открыли прекрасное в самом простом, обыденном. Грубая повседневность, на удивление всем, заблистала всеми красками поэзии.
Как сложен путь к этой великой находке, с первого взгляда такой доступной, просившейся на полотно! Надо было пробивать стену, чтобы овладеть живой натурой. Толстую стену, глухую, многовековую…
В течение столетий живописца держала за руку церковь. Он не смел нарушить ее предписания. Из-под кисти художников на стенах храмов, на иконах выходили иссохшие, почти бестелесные фигуры святых, ангелов, апостолов. Фигуры в одних и тех же застывших позах, смиренные, молитвенно склоненные, оцепеневшие перед всевышним или парящие в небе. Плоть греховна, учили пастыри, призывая народ отречься от всего земного.
Изваяния древних греков и римлян, запечатлевшие красоту человеческого тела, радость жизни, были прокляты с амвонов, сбиты с пьедесталов, разрушены, забыты…
Но вот поднялись вешние силы Возрождения. В Италии, а затем и на севере Европы и на Руси художники стали творить по-новому. Церковные фрески словно ожили, наполнились движением. Заблестели глаза, появились человеческие характеры, страсти.
Античные боги и герои, вырытые из земли, из развалин, снова вышли на свет. Новое искусство вдохновилось этими образцами. Оно начало развивать классическое наследство.
Преобразилась не только роспись храмов. Небывало расцвело искусство светское, независимое от церкви, — по заказам знати, как родовитой, так и денежной. Умножалось число художников, скульпторов, резчиков по металлу, кости, золотых и серебряных дел мастеров, которые украшали своими изделиями дворцы и особняки.
Каноны средневековья ветшали, падали везде, но только голландцы смогли одолеть их до конца, уничтожить начисто.
Почему?
Искусство развивается вместе с обществом. Возрождение не могло расцвести, пока господствовал феодальный строй.
Своеобразие истории Голландии в том, что здесь победа нового класса, предприимчивых виллетов хольтов, была полная. Здесь разгорелась буржуазная революция. Она сбросила короны, гербы. За рубежом плетка сеньора продолжала гулять по крестьянским спинам — здесь и она полетела в мусорную яму. А в церквах, ставших лютеранскими, фрески исчезли под штукатуркой, церковная живопись заглохла. Вряд ли где в Европе было так вольготно художникам, как в Голландии «золотой поры».
Первая на нашем материке республика! Попробуем еще раз представить себе голландцев того времени, их настроение, их восприятие мира. Мы видели богатого, обласканного судьбой Виллета Хольта, но ведь новый строй одарил, хоть и не в равной степени, каждого. Крестьянину, ремесленнику он принес избавление от иноземных насильников, от жесточайшего грабежа, от множества обид и унижений.
Родная земля никогда не была так хороша. И на первых порах каждый опьянен всеобщим национальным ликованием. Плоды победы — повсюду. Любая вещь домашнего скарба, своя одежда, своя яблоня, свой колодец, всякая живность, мельница, домишко пригожи хотя бы тем, что их не коснется теперь чужеземец.
Дрался с врагами весь народ. Правда, Генеральными Штатами управляют богатые люди, такие, как Виллет Хольт, но они — голландцы, не испанские гранды. И чудится — ничто не помешает теперь простолюдину поладить с властью, работнику — с хозяином…
Так чувствовали и художники той поры, те, что пробивали стену, начинали новое искусство. Здесь, в Голландии, я, кажется, понял их — открывателей простого мира, восторженных и дерзких.
Они — воины, бунтари. Долой коронованных, долой вельмож! Довольно писать библейские, евангельские сюжеты, диктовавшиеся католическим синклитом. Смотрите, как красивы польдеры, отбитые у моря, облака над низиной — «горы Голландии», как восхитительна мирная жизнь! Прочь все выспренное, разукрашенное, хватит преклонять колени, стукаться лбом об пол! Ну-ка, знатные, спесивые, сойдите с полотна, дайте место этому деревенскому весельчаку с кружкой пива в руке, сельской пирушке, стаду коров, убогому хлеву!
Да, это живопись протеста! Она такова даже в самых мирных сценах домашнего уюта, семейных радостей. Ведь то, что принято было считать чересчур простецким, низменным для кисти, художники страстно утверждают. И с такой же горячностью отрицают все, что нравится противникам, что модно за границей — в Париже, в Лондоне. Презирают сверкание лат, мечей, хоругвей, сражения и воинские парады, сюжеты из истории, из мифологии.
Правда, у нации есть свои герои. Бедняки — гезы — с редкой отвагой брали на абордаж испанские корабли. Но солдаты революции вернулись к наковальням, к ткацким станкам, к сохе — они не заказывают своих портретов.
Покупают картины Виллет Хольт и ему подобные, денежная верхушка республики. Сельские пейзажи, житейские эпизоды, подмеченные художником, висят в гостиных, оправленные в дорогие рамы. Заплата на мужицкой рубахе не смущает хольтов, — она, быть может, будит детские воспоминания.
Но времена меняются…
Толстосумы наращивают и капиталы, и спесь. Все дальше они от простого люда.
Художник выслушивает новые требования. Какие? Сейчас мы увидим. Перейдем в другие залы гарлемского музея — туда, где находятся работы самого Франса Галса.
Шпаги, изящные мундиры, ленты…
Офицеры, увековеченные Франсом Галсом, несомненно, бравые молодцы, но их ратные дела нам неизвестны. Так или иначе, они поручили изобразить себя не в сече с врагом, а за обильным ужином. В руках — бокалы. Шпаги, вложенные в ножны, — лишь деталь одежды, эфесы изящно выделяются на бархате. Лица холеные, сытые, беспечные, на них нет и следа военных невзгод. Довелось ли им драться за республику? Одно ясно — результатами победы они наделены щедро.
Групповой портрет офицеров занимает почти всю стену. Заказчики не могли выбрать лучшего художника — Галс требовал пространства, писал широкими, сочными мазками. У окна, прорубленного Галсом, не только созерцаешь, — ты словно сам в фокусе взглядов: баловни «золотой поры» высовываются в зал, в сегодня, оглядывают тебя с головы до ног, бесцеремонно и высокомерно. Они — элита нового строя. Художник наверняка угодил им, ему заплачены хорошие деньги. Долгие годы Галс жил безбедно. Что он думал о своих заказчиках? Пока не угадать. Он не приукрасил их. Оттенков иронии тоже, как будто, не нанесла его кисть…
Но вот шедевры более поздние — бургомистр Гарлема Николас ван дер Меер и его жена. У сановника грузная фигура, маленькие, заплывшие глаза. Пальцы сжимаются в кулак, давят на спинку узорчатого кресла. Этот человек привык стоять над толпой, властвовать. Наверно, и он был доволен художником, если не уловил едва приметное… Да, здесь Галс менее скован заказом. Бургомистр напомнил мне… петуха на полотне Кейпа, раздобревшего пернатого владыку, чей боевой задор давно затянут жиром…
Портрет супруги бургомистра — еще выразительнее. Румяное личико-булочка, притворяющееся добрым, но хитрое, выискивающее, жадное. Особенно разительно выдают жадность руки — левая хочет взять исподтишка, осторожно, а правая уже взяла, зажала что-то, прячет.
А вот полотно, на котором руки красноречивее, чем лицо, прямо пульсируют характерами, страстями. Это одно из последних творений Галса, — он уже стар и не в фаворе, вынужден просить пособия в богадельне, у дам-патронесс. Среди них — супруга бургомистра. Здесь олицетворены и чопорность, и ханжество, и злое своенравие. Напрасно здесь ждать доброты — в лучшем случае встретишь оскорбительное снисхождение. Ни одна рука не тянется к тебе, чтобы помочь, утешить. И в полукольце сидящих видишь то, что притягивает их, как магнит. К деньгам тянутся эти сухие, жесткие, властные руки, хотя художник не изобразил тут золотые флорины — оставил черную пустоту…
Приют для престарелых помещался в здании, где сейчас музей и, может быть, именно здесь, где я сейчас стою перед картиной, Франс Галс испытывал боль и унижение просителя. В портрете дам-патронесс уже не сарказм, чуть намеченный кистью, а жалоба и негодование.
Разлад между художником и богатым заказчиком еще резче вторгся в судьбу величайшего живописца — Рембрандта.
Ночной дозор
Посетителей в музее вообще мало, но в зале, где «Ночной дозор», никогда не бывает пусто. К нему стекаются люди из всех стран мира. Некоторые приехали в Амстердам только ради «Ночного дозора» — творения во многом загадочного. Вряд ли есть в старой живописи шедевр, вызвавший столько споров, столько догадок, предположений.
Я и сам шел к картине с нетерпением. Возможно, подлинник откроет мне то, чего не могли дать копии…
Историю картины я знал: в 1624 году Рембрандт получил заказ от стрелков капитана Франса Банинга Кока. «Ночной дозор» — их портрет, работа для художника несчастливая.
Стрелки рассчитывали увидеть себя за столом, за едой и питьем, в парадной форме, или в строю, тоже праздничном, торжественном, хотели красоваться, блистать своим благополучием. Так было принято писать, и стрелки — сыновья голландской элиты — не желали ничего другого. А Рембрандт не посчитался с ними. Он поднял стрелков по тревоге, вывел ночью на улицу, заставил обнажить оружие и вдобавок перемешал всех, не обратив никакого внимания на звания. Зачем художник так поступил?
Нрав у Рембрандта был колючий, неудобный для окружающих. Его и раньше не всегда понимали, а теперь объявили чуть ли не помешанным. Оправдываться он не умел. О побуждениях своих говорил туманно. Поди разберись, что значит «придать явлениям наивысшую и наиестественнейшую подвижность». Такая материя не для капитана Кока.
Понятно, что входящий в зал, к «Ночному дозору», чувствует себя немного присяжным. Вот уже три века, как зрители пытаются рассудить Рембрандта и его заказчиков.
Тем ценнее нам всем подлинник! Быть может, это мне показалось, но он действительно поведал мне больше, чем самые мастерские копии. Сила подлинника, по-моему, состоит в том, что он как бы приближает к тебе натуру, эпоху, личность самого художника. Отчего — сказать трудно, как и вообще трудно уяснить себе точно, почему «Ночной дозор» сразу приковывает взгляд. Картина словно расширяется, Захватывает все видимое пространство. Ты сам стоишь на темной улочке Амстердама и слышишь шаги, голоса дозора, который движется прямо на тебя, чем-то озабоченный, к чему-то готовый…
Особенно поражает свет. Как сказал один русский путешественник прошлого века, «вам кажется, что если бы в комнате закрыть ставни, то и тогда достаточно было бы света картины». Да, «Ночной дозор» прямо-таки озаряет зал. Но где же горит огонь? Почему он выхватил из сумрака только одну из фигур переднего плана — молодого офицера, который идет, придерживая шпагу, и внимательно слушает старшего, рассуждающего о чем-то? Рука старшего выразительно, как выразительны вообще руки в голландской живописи, вытянута вперед, она словно убеждает, устраняет сомнения, помогает высказать трудное, вызревающее решение. Ярко выделяется в глубине группы странное, как будто сказочное существо в длинном платье. За поясом — белый петух. Прорицательница, накликавшая беду и теперь притаившаяся в испуге? Рембрандт не стеснил нашу фантазию. Некоторые знатоки искусства утверждают, что ему просто понадобилось светлое пятно. А как по-вашему, читатель?
Если недосказанное, сложное вас раздражает, если вам требуется в искусстве лишь бесспорное и общепринятое, — отвернитесь! Перед «Ночным дозором» вам нечего делать…
Великих мастеров отличает доверие к человеку. Рембрандт — так видится мне — вводил зрителя в мир своих чувств и дум, приглашал размышлять вместе с ним, приложить собственные творческие силы.
Художник, искавший в жизни движение, а в движении — смысл, разбудил, вывел в ночной дозор и зрителя. Мир непрочен, оружие не должно ржаветь! В темноте таится угроза. Должно быть, на нее указывает воин в черной шляпе — справа. А свет, этот невидимый костер, разгорающийся где-то, еще слаб. Но может быть, он станет путеводным для дозора. Уродливая карлица с петухом боится света, сторонится его…
Так думал я, стоя перед «Ночным дозором». Толкований было множество, много их еще и будет. Картина заставляет воображать, думать — в этом для меня главное ее достоинство.
Стрелки капитана Кока, мы знаем, остались недовольны. Им не дано было постигнуть, что Рембрандт возвысил их, вырвал из обыденности парадов и попоек, начертал для них кистью другой, героический удел.
Великий реалист был и романтиком. Он изображал свою мечту, доблестных рыцарей добра. Стрелки послужили ему лишь натурщиками для замысла, им совершенно чуждого. Ведь пламя революции в стране давно угасло.
«Ночной дозор» — самое известное, самое сложное произведение Рембрандта, но оно не должно заслонять его гигантского наследства, множества его полотен.
Он трудился самозабвенно. Он мог десятки раз писать одно и то же лицо, упорно вглядываясь в его черты, силясь проникнуть в натуру человека, в его помыслы и хотенья, в его радость и горе. Вспоминается «Возвращение блудного сына». Художник как будто отошел от новых канонов во имя старых, изобразил евангельскую притчу. Но нет, он был чужд церковности. Его увлек драматизм притчи, человеческие чувства. Как трогательны руки отца, опущенные на плечи сына, нежные, узнающие, простившие, будто помолодевшие от радости! И тут — удивительный свет Рембрандта, открывающий под внешним глубинное, душевное.
В раздумьях о человеке, о его путях видится мне Рембрандт. Время переломное, трудное. Мечты свободолюбцев рушатся — художник с горечью пишет «Притчу о работниках на винограднике». Самодовольный хозяин, разодетый подчеркнуто пышно, — и батраки, обступившие его с просьбами, с жалобами…
Зачинателям голландской живописи представлялось, что справедливость в боях с захватчиками победила окончательно и надо лишь радоваться, созерцая природу и людей. Что зло утратило всю свою власть.
Но появились новые угнетатели, в новых обличьях, свои, отечественные, без фамильных испанских гербов. Франс Галс под конец своих лет смешивал краски с гневом обличенья. Рембрандт, охваченный тревогой, мучительно спрашивал себя: почему рухнули мечты свободолюбцев? И призывал в дозор против зла лучшие силы человеческого духа.
Скольких потомков вдохновляли и обучали творения Рембрандта и других великих, перечислить невозможно.
Бывают в искусстве годы как бы застоя, освоения наследства гениев. Их приемы повторяются, застывают, становятся догмой, пока не появляются новаторы, с новыми идеями, сюжетами, подсказанными самой жизнью.
Спустя два столетия заявили о себе художники, которые вошли в историю искусства под именем импрессионистов, — от французского слова, означающего «впечатление». Изображать впечатление, получаемое от окружающего мира, а не копировать его и не приукрашивать — таков их принцип. Началось это течение во Франции, к французским живописцам присоединились бельгийские, голландские, немецкие, русские, каждый по-своему.
Новые картины, — новое видение мира. Пейзажи голландца Винсента Ван Гога непохожи на полотна старых голландских мастеров. Другая Голландия, другое время. И художник воспринимал свою страну очень индивидуально, писал резкими, короткими мазками, красками, непривычными для тихой северной страны, — то меланхолично блеклыми, то неистовыми, будто яростными. Лица на портретах кисти Ван Гога костистые, суровые, на них печать забот и томлений нового века. Тяжесть труда — на поле, на заводе — гнетет плечи людей. Время сложное, время вторжения машины, индустрии в патриархальный быт, нелегкое и для художника.
Мне, путешественнику, его картины помогали узнать Голландию, — они словно вооружали меня дополнительным зрением, открывали то, что я не заметил, не нашел сам.
Они расширяют для нас мир, как все настоящее в искусстве.
Топор и кисть
— Вы намерены еще поездить по Голландии? — говорят мне. — Не забудьте Заандам.
Можно ли не побывать в Заандаме — городе, столь близком русскому сердцу!
К тому же я ленинградец, а в нашем городе как-то осязаемо, вместе с Медным всадником, живет воспоминание о Петре Первом.
Живет оно и в Заандаме. На центральной площади стоит памятник Петру, лишенный всякой царственности. Заандамцы видели Петра молодым, видели на верфи, с топором — таков он и в бронзе. Усердный, упорный подмастерье сколачивает обшивку судна. Пьедестал живым венком окружили тюльпаны. По вечерам мимо Петра проходят гуляющие — тихие жители тихого городка.
Имя Петра носит «снак-бар» — закусочная. Кондитерская рекламирует «бисквит царя Петра» — очень сдобный, обильно начиненный изюмом, царский по цене.
Ароматы бисквита встретили меня в кафе, выдержанном в староголландском стиле. Бутерброд с ветчиной занимает всю тарелку, едят его с помощью ножа и вилки. Над автоматической радиолой — неизбежной данью веку — темнеют чеканные тени гравюры, без малого современной Петру. Видимо, он прощался с Голландией, стоя на резной корме парусника. По обе стороны, как бы в почетном карауле, выстроились по стене шеренги тарелок.
— О, вы из России! — воскликнул официант. — Вы уже были в домике царя?
Здесь каждый готов быть моим гидом.
Петр до сих пор питает национальную гордость голландцев — он ведь приехал сюда учиться. И когда! Из учебника истории известно: Голландия в то время уже утратила престиж первой морской державы мира, ее флот неоднократно терпел урон в сражениях с Англией. Страна слабела, ее роль в судьбах мира стала второстепенной. И все же Петр, хорошо разбиравшийся в том, что способна дать Европа, выбрал первыми учителями голландцев.
Я выискивал причину, шагая к верфи, к воде речки Заан, давным-давно подпертой плотиной.
Мастерам кисти, прославившим Голландию, история отвела всего полстолетия, между тем как слава ее строителей, пусть не столь яркая, обновлялась непрерывно, до наших дней. Натиск моря предоставлял мало времени художнику, поэту, обязывал держать всегда наготове топор, молот, огонь в кузнице, не допускать ошибки в расчетах.
Даже в искусстве, в сущности, Рембрандт был единственным великим мечтателем. Выдающиеся практики рождались в Голландии чаще.
Гуго Гроций в девять лет слагал латинские стихи, в одиннадцать — оды на древнегреческом, а возмужав, оставил поэзию навсегда. Говорят, что он раскаялся в ней публично, порвал свои вирши в присутствии гостей, назвал себя жалким подражателем. Гроций вошел в историю культуры как один из первых юристов Европы. Его книга «О свободном море», вышедшая в 1609 году, пришлась как нельзя более кстати в «золотую пору», когда голландские корабли раздвигали пределы мира. Свою науку о праве Гроций считал средством устранения войн. Он ввел понятие агрессора, советовал сплотить против него международное согласие. Намечал пункты договора, который должен изолировать, обезоружить державу, «несущую нечестное дело».
В том же веке, во второй его половине, на кафедру Лейденского университета поднялся Христиан Гюйгенс. По многим проблемам точных паук именно ему принадлежало тогда последнее слово. Автор нового, небывало сильного телескопа, он открыл «кольцо» Сатурна — пояс космических обломков и газов — и обнаружил спутника планеты. Гюйгенс окрестил его «луной Сатурна».
Величайший оптик своего времени, Гюйгенс проник в природу света, доказал, что свет распространяется волнами.
В стране плотин и кораблей не могло не быть астрономов, физиков, математиков. И если в эпоху Петра Голландия становилась страной в политическом смысле малой, то авторитет ее в науках, в технике был незыблем. Кроме того, отношения между Россией и Голландией ничем не омрачались, споров ни на море, ни на суше не возникало. Петр доверял голландцам. Пригласил их к себе на службу, проверил их знания, сноровку, потом решил отправиться к ним, изучить корабельное ремесло с самых азов.
Петр живет в Заандаме инкогнито. Здесь он не царь, а простой работник на верфи, Питер. Мемуары донесли до нас его облик: высокий, в красной рубашке, в войлочной шляпе, руки в смоле, в ссадинах.
Поблажки он себе не давал ни в чем, трудился, как все — с раннего утра до сумерек. Весело переносил и усталость и тесноту в крохотном домике кузнеца Геррита Киста — хором себе не искал.
Соседние дома на улочке, извилисто сбегающей к воде, не намного моложе. Петр, проходя здесь, читал, наверно, традиционные девизы, намалеванные над входом: «Тишина и довольство», «В добрый час», «Мир и спокойствие». Кист помогал овладевать голландским. С хозяином можно было поговорить и по-русски — кузнец живал в России, работал в Архангельске.
За занавеской — шкаф-кровать, точно такая, как на Маркене, у тетушки Лоберии. Это душное дощатое ложе, наверно, было самым суровым искусом для великана Петра.
От домика до верфи несколько шагов. Это устраивало Петра, тем меньше будет на пути любопытных. Тайна его доверена только бургомистру, но она все же просочилась, бродит слух, что верзила Питер — русский царь.
Однако не все верили слуху. Царь, орудующий топором! Возможно ли. Один современник с удивлением рассказывает в своих записках: Петра не отличишь от других рабочих. Однажды на верфи поднимали тяжелое бревно, а Петр замешкался. «Эй, Питер, — крикнул ему старший мастер, — ты что стоишь!» И Петр опрометью кинулся помогать.
Петр изумлял не только заандамцев — всю Европу. В Париже, в Лондоне, в Стокгольме пожимали плечами, возмущались — как можно так ронять свой титул! Петра забавлял этот переполох. И вот еще одно преимущество Голландии для него — здесь, в республике, не надоедали церемониями, лицемерным придворным этикетом. Досаждали только ротозеи, да и то не очень назойливые. Не в обычае еще было собирать автографы, выпрашивать интервью.
«Он не мог сидеть без дела», — говорится в мемуарах. В устах голландца это высокая похвала. Неподалеку чинили мельницу — Петр и там приложил руки. Он осмотрел плотину, каналы, весь арсенал укрощения вод. Не исключено, ему еще тогда, в 1697 году, рисовался город в болотистой дельте Невы.
Не забывал Петр подбирать специалистов для работы в России, а в Голландию вызывал русских практикантов. Ибо, как образно писал один из сподвижников царя Виниус, «жатва железу есть, а делателей нет».
Я спустился к верфи. Она и теперь невелика, строит суда деревянные, большей частью вонботы. Заказов много, дом на воде раз в пять дешевле коттеджа, даже скромного. Число голландцев, живущих на воде, растет. Из центра города их вытесняют, вонботы и в Заандаме образуют как бы предместье — для тех, кто пониже достатком.
Я долго стоял на мосту через Заан. Штабеля леса, сжатого железом, длинные крыши цехов едва нарушают черту горизонта. Ветер приносит запахи свежего дерева, смолы. Спокойная вода, отливающая сталью, холодная, — рыбацкий ботик, спущенный со стапеля, словно вмерз в нее. Вечер гасит краски, сгущает тени, пейзаж обретает скульптурную, суровую четкость старинной гравюры…
Века соприкасаются. Народ ничего не забывает…
Рандстад
— У меня для вас новость, — сказал Герард. — Я тут разыскал одного ветерана… Ваш Анатоль убежал в Роттердам, а оттуда в Бельгию. В Роттердаме вам скажут точнее.
Отлично! Я как раз собираюсь туда. Проеду по всему рандстаду — край-городу. Кружочки на карте, на береговой полосе в девяносто километров почти сливаются, наперебой зовут к себе.
Увы, невозможно побывать всюду! Сойду с поезда в Гааге, в Делфте…
Поезда — каждые полчаса. Вагон с мягкими диванчиками, «сидячий», как на всех дорогах западной Европы. Осанистый, неторопливый проводник. Однако он мгновенно замечает новых пассажиров, проверяет билеты.
Опрятные вокзалы, расторопные кассиры — вы не успеете сказать, куда вам нужно, как вам вручают билет. На перронах неизменные автоматические камеры хранения — достаточно сделать десяток-другой шагов, чтобы избавиться от багажа.
Почти каждый город как бы подражает Амстердаму — прямо против вокзала начинается главная улица, и приведет она непременно к старинной ратуше и к современному универмагу. На пути к ним — не один «снак-бар», не одно кафе с пивом и мощными бутербродами и по крайней мере одно заведение, где готовят наси и бами.
В витринах любой главной улицы — круглые сыры, маргарин в роскошных обертках, бутылки с индонезийским словом «ваянг» на этикетке, означающем обыкновенное подсолнечное масло, а также много мебели, всяких вещей для дома и сада. Досочки-подносы для сыра с фарфоровыми плитками, горшки и столики для цветов, широченные кровати, ночник в виде маяка. Можно купить настенное украшение — увеличенные бумажные деньги, билеты в пять, десять, двадцать гульденов, веером. Верно, чтобы в доме не переводился достаток…
При всем этом рандстад разнообразен, многолик. Черты традиционно голландские ломает самоуверенный янки — именно так хочется назвать новые здания американских фирм. Тут пятиэтажный куб, торчащий на толстом стержне, там здание, будто чудовище на водопое, опустило одну из своих бетонных опор в пруд. Постройки безвкусные, грузные. Трюки доллара, пытающегося восхитить Европу.
Напрасные потуги!
Даже в рандстаде время не стерло голландский пейзаж. Маленьким Амстердамом выглядит Делфт, изрезанный каналами, с его кварталами-островами. Там меня опять потянуло надеть кломпы, постоять на площади, впитать ее странное обаяние. Все в ней несоразмерно-тонкая звонница высится, точно жердь, домики вокруг кажутся игрушечными, а вывески на них почему-то непомерно крупные.
Колокольня как будто смотрится в витрины антикварных лавок, ее синие отражения застыли на тарелочках, на пепельницах, на досочках для сыра. Производство делфтского фаянса, начатое в «золотую пору», не прекратилось, его следы — в каждой семье, а кроме того, оно снабжает сувенирами миллионы туристов.
Делфтский фаянс — толстый, прочный, не чета хрупкому фарфору — неотделим от Голландии, от ее полу-фермерского быта. Мотивы росписи часто повторяются.
Синие мельницы и синие корабли, синие кимоно и синие пагоды, птицы и цветы заморских стран… Среди фабричных художников Делфта не было своего Рембрандта, они пользовались образцами японскими, китайскими, подражали честно, с подкупающим простодушием. Мореход «золотой поры», парень с польдеров, был ошеломлен зрелищем чужих краев, похожих на сказку, и его удивление отпечаталось детской картинкой, до сего дня светится на поверхности, облитой глазурью.
Однако иногда у мастера оказывалось больше практической сметки, чем воображения… И он фаянсом заменял деревяшку щетки, из фаянса изготовлял раму зеркала, полку, поставец, ведро. Я видел в музее даже фаянсовые гитары. Фаянс завоевывал Голландию, как в наши дни — пластмасса.
Можно подумать, в рандстаде до сих пор только расписывают фаянс, не строят ни судов, ни генераторов, ни счетных машин — такая повсюду тишина. Особенно тихо, пожалуй, в Гааге, хоть она столица. В самом центре вместо площади широко раскинулся Хофвейвер — дворцовый пруд. Его квадратное зеркало забрызгано белыми хлопьями — стайками чаек. Когда на море шторм, Хофвейвер белеет чуть ли не сплошь — птицы находят здесь убежище.
Гаагу называют самой большой деревней в Европе. Я сравнил бы ее с разросшейся усадьбой. Блеск воды оттеняется кущами вековых дубов, кленов, лип; деревья прибоем захлестывают резиденцию королевы, виллы фабрикантов, банкиров, обосновавшихся на жительство в уютной, зеленой Гааге.
Нет, решительно ничего столичного!
Если Гаага управляет, Амстердам хранит традиции страны, то Роттердам строит и торгует. Нет в целом рандстаде места менее голландского. Больше скажу, из окон вагона открываются кварталы, начисто лишенные каких-либо национальных примет.
Бетонные кубы — белые и светло-серые. Огромные витрины, сливающиеся в одну полосу стекла, эмблемы банков, универмагов, пароходных компаний на плоских крышах. Молоденькие, подстриженные шарики-деревья, высаженные кое-где, кажутся синтетическими в унылом царстве голого расчета и прибыли.
Поезд замедлил ход, приближаясь к вокзалу, и в вагон хлынули сумерки — за окнами вырос и потянулся многоэтажный жилой дом. Совсем близко проплывали балконы, запущенные, иногда полуприкрытые выгоревшей занавеской, набитые всяческим скарбом. Видно, что живется здесь далеко не просторно, что балконы даже в зимнюю пору служат дополнительной жилой площадью. Железная кровать, с чем-то вроде спального мешка, накрытый столик, гладильная доска, застиранная рабочая одежда на крюке, ветхий матрац, брошенный на перила для просушки. Тут вряд ли найдешь синеву делфтского фаянса, все краски померкли, господствует серый цвет откровенной бедности.
Маленькая девочка поливает из кружки тощий кустик, растущий из дощатого ящика, машинально машет поезду, разбрызгивая воду. На миг бьет в глаза солнце, потом надвигается другой такой же дом и так же, с усталым безразличием показывает свою изнанку.
Хозяева города, должно быть, недосмотрели, не успели поставить ширмы из рекламных щитов — и Роттердам обнажил то, что принято скрывать. Как бы спохватившись, он старается избавить вас от неприятного впечатления. Он прежде всего похваляется своими масштабами.
Перед пешеходом, собирающимся перейти улицу, зажигается не один зеленый человечек, а целая ватага, на всех четырех ее проезжих путях. Потоки автомобильные отделены от велосипедных, тоже очень густых.
Главная улица начинается отелем — самым большим в Голландии — и заканчивается универмагом, тоже рекордных размеров. Старинная ратуша выглядит в тисках архитектурного модерна гигантским сувениром для продажи.
Приводит улица на бетонный причал порта. Сотни судов, больших и малых, сгрудились в резервуаре, отшлюзованном от реки Маас, от близкого моря с его приливами и отливами. За мачтами — тонкий, ребристый, скелетообразный небоскреб с белыми буквами на вершине: «Медицинский факультет». Мне думается, прежний Роттердам, существовавший до войны, был теплее, пригоднее для человека.
Тот Роттердам погиб от фашистских бомб, в самом начале гитлеровского нашествия. «Юнкерсы» и «мессершмитты» громили и жилые кварталы и порт, похоронили под руинами тысячи мирных людей. Массированный налет, новинка техники и стратегии, должен был, по замыслу фюрера, напугать Европу, поставить ее на колени.
На краю суши, почти у самых причалов, бронзовой скалой высится знаменитая скульптура Осипа Цадкина «Разоренный город». Над ней кружатся, стонут чайки. Они разительно досоздали памятник, наделили голосом символическую фигуру человека, изуродованного войной, поднявшего руки в жесте боли, протеста. Тело расколото, вывихнуто, пробито сталью, но оно сопротивляется, само напоминает угловатый, вызубренный, убивающий осколок бомбы.
Я понимаю, почему ваятель решил обойтись без атлета-натурщика, отбросил каноны скульптурной классики. Не любоваться звал он своих современников. Он хотел, чтобы мы всегда помнили злодеяния фашистов, чтобы от гнева сжимались кулаки.
Страстное, беспощадное творение! Оно вошло в ткань Роттердама, в его спокойный, парадно-благополучный рисунок «весомо, грубо, зримо», говоря словами Маяковского.
Между тем Роттердам уже запалил неоновые огни. Я ожидал, что они как-то согреют город, но этого не случилось. Вероятно, убогая его изнанка, пронесшаяся за окнами вагона, мешала мне примириться с новыми улицами, воздвигнутыми на пожарищах, на пустырях.
«Роттердам — город образцовый, — твердит мне путеводитель. — В нем блестяще сочетаются совершенная планировка, новейшие архитектурные формы». Охотно верю. Да, отделка фасада выполнена виртуозно. Успехов поистине громких достигла техника маскировки, техника лицемерия.
Разоренный город возродился, одежды его — новые, но суть не изменилась. На здании — клеймо фирмы, как на ящике, выгруженном из трюма. Ящики клеймят штампом, вымазанным черной краской, а здесь, на многоэтажной собственности, владелец ставит знак броский, светящийся, надменный, как герб. Дома-контейнеры с товарами, дома — сейфы, склады, и дома — рабочие казармы… Где же Роттердам, вдохновляющий поэтов?
Я вышел к гавани; мачты, борта, возникавшие из сумерек, звали меня все дальше. Бетонные глыбы центра уже позади, дома стали ниже — я вот-вот вернусь в Голландию, коренную, к которой я успел привязаться.
И точно — дверь в нее открылась. Я очутился в полумраке тесной лавчонки. С потолка свешивались фонари разных систем, большей частью «летучие мыши» с проволочной оплеткой, защищающей стекло, с трубчатыми обводьями, чтобы наливать керосин. Такие светильники еще не сданы в музей, они еще горят на маленьких рыбацких суденышках, на лодке, везущей по каналу, с покоса, копну сена. И был в лавчонке еще фонарь-ветеран, старше всех других, узорчатый, железный, — должно быть, не для продажи. Я высказал это предположение вслух, и хозяин — седой крепыш с колючей шкиперской бородой — подтвердил.
— От прадеда наследство… Он на парусной шхуне ходил, за копрой. Не близко, а?
Он говорил по-английски уверенно, чисто, — стало быть, и сам изрядно побродил по свету. А огонек в старинном фонаре подмигивал, будто вставлял что-то свое в нашу беседу.
Бухты троса, кранцы, крючья, компас в деревянном ведерке, секстан, пудовый медный чайник, не поддающийся качке, банки с машинным маслом, детали двигателя, жестяной рупор, сигнальные флаги, топор, лом, багор — все предусмотрел боцман Петер. Тут все необходимое для плавания по всем водам Голландии, тихим и бурным, под парусом и на веслах, все для того, чтобы выдержать непогоду, не заблудиться, заделать течь в борту, а также и в плотине, починить свой домашний причал, потушить пожар, позвать на помощь. В лавчонке дышалось морем, в нем клубились запахи судна, пристани, милые всякому, кто вырос у воды, под песню пароходных гудков. Я искал душу Роттердама и нашел ее. Я словно пришел к колыбели города и всего кипучего, пестрого, растущего рандстада.
Железный фонарь над моей головой загадочно мерцал. Похоже, шхуна прадеда вырвалась из прошлого, бросила якорь, вонзилась в сушу, просунула к нам свой резной бушприт. И сам прадед вот-вот кликнет на вахту своего потомка. Отважный морской волк, твердо веривший лишь в силу своих мышц, в остроту своего зрения и сноровку.
— Как идет жизнь? — спросил я Петера.
— Шатко. Сегодня цел, а завтра.
Покупателей мало. Душат универмаги, крупные фирмы. У них пускай на пять центов дешевле, а все-таки. У людей каждый цент на счету.
— Пока еще выручают старые клиенты. Я ведь кое-что сам мастерю. Сделаю, так уж прочно, не на фу-фу! Недаром тридцать два года долбил боцманскую науку.
Он вышел проводить меня. Окна контор и банков вдали, на той стороне гавани, уже погасли, полыхали лишь неоновые вензеля, прожигая вечернее небо.
— Они, — Петер показал туда, — раздавят тебя и не заметят. Я для них что? Букашка! Правда, город вымахал знатный, таких бильдингов у нас раньше не было…
«А человек стал слабее», — мысленно прибавил я. Маленький человек сделался еще меньше у подножия чужих небоскребов.
Однако не каждый согласен остаться маленьким…
Мультатули и его потомки
Наси и бами… Да, и здесь, в Роттердаме, совсем недалеко от гавани. Зов Индонезии, птица Гаруда, вырезанная над входом, из темного дерева, загадочный блеск ее зеленых глаз.
Снова напомнила о себе «страна тысячи островов». И вот я на миг переношусь в знакомую мне Джакарту. Гигантские деревья в пламени ярко-красных цветов. Неумолимое солнце прямо над головой, жалкая моя тень — словно черный носовой платок, упавший под ноги. Потоки бечаков — трехколесных повозок, приводимых в движение проворными смуглыми ногами. Уличные лотки с едой, порции риса, завернутые в листья банана. Клетки с певчими птицами на верандах…
Морские суда у роттердамского причала, кажется, приглашают туда, за экватор. Сегодня, сейчас.
Ветер романтики неистребим. Я слышу, как он треплет флаги у современных дизель-электроходов. Тем более понятен нам Эдуард Деккер, молодой конторщик. В его время, сто с лишним лет назад, путь в Индонезию был долог и опасен. Тропические острова рисовались юноше земным раем. Эдуард корпел над скучными бумагами, подсчитывал мешки с кофе, доставленные в порт, а рядом, чуть ли не у самого порога, клиперы поднимали паруса, чтобы идти на юг…
Мечта осуществилась. Эдуард уломал отца, уехал…
Минуло двадцать лет. Всю читающую Голландию потрясла книга нового писателя.
В литературе каждой страны есть хотя бы одна великая книга-подвиг. Произведение, созданное как бы на фронте, под огнем врага, произведение, доставившее автору суровую славу воина в тяжелом сражении. Такова книга Мультатули, вышедшая в 1839 году под длинным и несколько неуклюжим названием: «Макс Хавелаар, или Кофейные аукционы Нидерландского торгового общества».
Псевдоним, выбранный Деккером, объясняет, что заставило его взяться за перо. Мультатули означает по-латыни «многострадальный».
«Бессилие облегчить людям тяжесть их бремени неотступно преследовало меня», — признается он.
Только теперь он узнал, какова, по существу, настоящая цена мешков с кофе, сгружаемых в Голландии. Оказывается, плантаторы на Яве отнимают у крестьян хлеб, обрекают на голодную смерть целые деревни. Рисовые поля уничтожаются. Яванцев заставляют сажать то, что угодно белым господам: кофе, какао, деревья, дающие пряности. Заодно с голландцами местные князьки, — значит, двойной гнет лег на плечи тружеников.
Деккер мог бы жить припеваючи, как другие белые, закрыв глаза на беззакония. Но он полюбил Индонезию. Он изучил ее язык, ее культуру, красивых, стройных, искренних людей. Ему больно было смотреть, как колониалисты уродуют чудесную страну, разоряют ее.
Иногда ему, чиновнику колониальной администрации, приходит в голову безумная мысль… поднять восстание. Повести яванцев против голландских властей!
«Достаточно было одного моего слова. Да, я пожалел этих бедняг, которые пошли бы за мной, чтобы потом расплатиться собственной кровью за какие-нибудь два дня торжества».
Деккер старался улучшить положение яванцев, заступался за них, требовал суда над самыми наглыми хищниками. Разумеется, это не могло понравиться генерал-губернатору. Неудобного чиновника прогнали. И книгу свою он писал в Амстердаме, в нетопленой комнате, у бочки вместо письменного стола…
После яванской жары стужа особенно мучительна. Деккер согревался яростью. Он писал стремительно, нисколько не соблюдая традиционной формы романа, вставлял документы, обличающие грабителей, дневниковые заметки.
В центре романа — судьба Саидже и Адинды, любящих друг друга, нежных, добрых по натуре. Они выросли в благодатном климате, на щедрой земле, дающей три урожая в год. Но кормит она других. Семья обеднела, лишилась последнего буйвола. Отчаявшиеся крестьяне берут дубины, крисы — кривые яванские кинжалы — и гибнут в бою под ударами карателей.
Так было не раз на глазах у Деккера.
До конца жизни Мультатули будит совесть Голландии. Стали нарицательными его персонажи: делец Дрогстоппель, «жалкое порождение грязной алчности и богомерзкого ханжества», пастор Вавелаар, благословляющий разбой.
Книги Мультатули не устарели и в нашем веке.
В годы второй мировой войны они укрепляли дух молодых голландцев, которые дрались за правое дело.
Голландию захватили гитлеровцы, а Индонезию — их японские союзники. Желтые колониалисты ничем не лучше белых. Народная война против чужеземного гнета, тлевшая давно, опять вспыхнула горячо. Честные голландцы, жившие в колонии, поддержали индонезийцев. Так история поставила в одну боевую шеренгу парней из Роттердама, Делфта, Амстердама и смуглокожих мстителей Явы, Суматры, Целебеса, Борнео.
Индонезия вышла из войны свободной.
Однако ловкач Дрогстоппель не мирится с уроном, сохранил кое-какую собственность за экватором, пытается умножить доходы — он и сейчас запирает в сейф прибыль от мешков с кофе. И в конторе Дрогстоппеля мне видится безусый конторщик, ведущий учет товаров — так же, как это делал некогда Эдуард Деккер.
О чем же мечтает нынешний молодой голландец?
Бренчит на набережной гитара, взлетает песня. Небрежной походкой, вразвалку проходит гурьба молодежи. Один в драном полушубке, другой в толстом красном свитере, в разных носках — зеленом и сером. Волосы до плеч, какие-то металлические подвески, круглые бляшки с надписями.
«Всеобщий протест!» — гласит лозунг, нашитый на спине у тоненькой девушки в синих джинсах.
Поют вразброд, каждый погружен в свои мысли. Я встречал таких и знаю, что их объединяет. Да, протест. Более или менее отчетливо они понимают, как достается кофе, кому выгода от судов в порту, от универмагов, набитых всяким добром. Этим юношам и девушкам не нравятся дрогстоппели, их лицемерие и жадность. Им ненавистно унылое мещанство, замкнувшееся в квартирах, дремлющее перед телевизорами. Противен весь буржуазный уклад жизни. Назло ему и нечесаные космы, и кричаще броское одеяние.
В Голландии немало таких беспокойных, бунтующих юнцов. Они очень резко выделяются на фоне чистых, опрятных фасадов, степенных, молчаливых прохожих.
Молодежь протестует, но далеко не всегда представляет себе, как изменить положение вещей. Чтобы найти выход, надо набраться знаний и жизненного опыта.
Что ж, многие растут быстро.
Я говорю о тех молодых людях, которые дружно, пылко выступают с политическими требованиями. Призывают Голландию к выходу из Атлантического пакта. Не хотят служить в армии под верховным командованием американских генералов, не хотят нести бремя вооружений. Пикетируют с лозунгами у подъездов американских банков и фирм, шумно клеймят позором разбой во Вьетнаме. Шагают в колоннах демонстрантов к посольству США, чтобы сказать «нет» войне.
Вспоминаются и молодые поэты Голландии. После войны ярко расцвела здесь поэзия свободолюбивая, мужественная, порожденная антифашистским Сопротивлением.
Адриан Роланд Холст пишет о себе:
Они взвешивали на ладони Свои деньги и своего бога, У меня не было ничего, Только дорога.Дорога и светлые звезды, указавшие направление. Важно не сбиться с пути.
Кор де Бак предупреждает:
Легко не распознать, где истинный твой враг, Забвенье слишком быстро к нам приходит.Надо помнить преступления фашизма. Марк Брат будит людей, зовет священную ярость:
Разозлитесь же, наконец, Люди, братья мои, Разве еще не переполнилась чаша, Разве не наступило время Для справедливости!Путь борьбы труден, но
Все, что я сокрушал, было как мертвое дерево С прогнившей сердцевиной, Но песни меня ведут… И впереди у меня Завтрашний день.Поэты находят ясные, выразительные краски, чтобы воспеть родную землю, ее природу, поселения, отвоеванные у моря. Генрик Марсман видит широкие, ленивые реки, домики-острова, утопающие в волнах посевов, слышит повсюду «голос воды, тревожный голос воды». В стихах Тейна де Фриса предстают живописные картины Амстердама, его зимы, сковавшей серебром каналы, на их поверхности застыл месяц — «как будто вечность спит сама». А летом город — «сад на воде, в нем расцветают башни». Ян Принс посвящает стихи родному Роттердаму.
И еще я люблю в тебе, Роттердам, Твои запахи. Больше нигде, никогда Не может так пахнуть кофе, Как в гавани «Старая голова». И нигде так не пахнет кожей, И копрой, и свежей рыбой, Как в «Сельдяном ручье».Принс рисует площадь маленького городка, полную цветов и птиц. Цветы распроданы, осталась только забытая маргаритка. Принсу чудится, что птица подняла ее, взяла с собой в дальний полет, присоединившись к стае…
Тот не голландец, кто не любит цветы, море, птиц…
Случилось так, что не проза, а именно поэзия Голландии приобрела в наше время известность международную. В ней и красота страны польдеров и тюльпанов, и решимость уберечь ее от бед, бороться за ее лучшее будущее.
Значит, живет отважный дух Мультатули,
«Сделано в США»
Скульптора зовут Тадзири. Он японец, жил в США.
Когда грянула битва на Тихом океане, Тадзири и тысячи других молодых американских японцев были интернированы. Но ему не сиделось в лагере. Его тянуло в Европу, драться с фашизмом. Тадзири томился, ждал. США не сразу выступили против Гитлера. Наконец он, военнослужащий авиационной части, сходит на берег в Неаполе.
Каталог выставки не объясняет, почему Тадзири не прижился после войны в Америке, почему остался в Европе.
Может быть, расскажут скульптуры?
Но их язык необычен. Куда я попал? Это работы ваятеля или детали самолетов в мастерской, двигатели, поднятые на опоры — для ремонта, для проверки? Резец тут ни к чему, инструменты Тадзири — гаечный ключ, напильник, пила-ножовка…
Иной критик, не дав себе труда подумать, обвинит Тадзири в формализме, в бессмысленном штукарстве. Не будем спешить с приговором. Среди странных конструкций действительно есть непонятные, — я не сразу сообразил, что передо мной эскизы для большой фигуры в центре зала. Она не может не приковать внимание. Стальное дуло направлено прямо на меня. Человек или механизм? Шлем, пилотские очки, подобие открытой кабины истребителя, две вонзившиеся в землю ноги-ходули составляют единое целое. Некое античеловеческое существо, излучающее ненависть полированной своей поверхностью, ненависть ко всему живому…
Тадзири решительно отбросил всякую красивость. Убийца, захватчик не должен тешить зрение, он чужд всему прекрасному! Тадзири назвал свою работу коротко и ясно: «Сделано в США».
Он тут же, среди зрителей, — мускулистый, быстрый японец в массивных роговых очках. Острый, дерзкий взгляд. Я собирался заговорить с ним, но меня опередил увешанный фотоаппаратами репортер.
— Я против узаконенного разбоя, именуемого войной, — говорит Тадзири по-английски. — В руках милитаристов никогда не было такой техники, как сейчас.
— Ваше мнение о событиях во Вьетнаме?
— Вот оно.
Скульптор показывает на фигуру с пулеметом. Нужны ли слова? Смерть, которая свирепствует во Вьетнаме, имеет тот же адрес, она — с маркой США.
Репортер записывает. Его газета вряд ли откажется поместить интервью. Правда, многие господа в акционерных компаниях, банках, одобряют преступления во Вьетнаме. Но чаще всего про себя, втихомолку. Как-никак, здесь Европа — не дикий Техас. И газета, даже архибуржуазная, стесняется восхвалять агрессора — боится потерять подписчиков.
Что еще интересует репортера? Разумеется, личная жизнь скульптора. Он ведь приобрел популярность. Тадзири отвечает односложно, нехотя. Да, по-прежнему живет в деревне, недалеко от Роттердама. Да, женат на голландке.
Издавна поселился в Голландии японец сказочный, рисованный синей краской — на делфтском фаянсе. Потом появились на причалах живые японцы. Но такого удивительного японца — скульптора с гаечным ключом, яростного, непримиримого — не видел Роттердам. А ведь он многое видел…
Баржа «Курск»
Наконец-то мне расскажут про Анатолия!
Я сижу в кафе на Лейнбаан — серой улице одинаковых магазинов-коробок.
Если верить рекламе, это самый благоустроенный, самый современный торговый центр. На мой взгляд, самый унылый.
Жду Ханса Эйельманса, участника Сопротивления.
Заказав чашку кофе, я помедлил, читая меню, и сказал уже вдогонку девушке-официантке:
— Еще пирожное, пожалуйста!
Она кивнула и убежала, убежденная почему-то в том, что мне больше ничего не нужно. А мне хотелось есть. Я съел бы большой голландский бутерброд по-заандамски. В меню его нет. Вообще в кафе есть почти нечего. Я попросил яйцо по-русски — с майонезом, салатом и ломтиком ветчины, дежурное блюдо чуть ли не всех ресторанов мира.
Девушка посмотрела на меня сперва с любопытством, потом с некоторым почтением.
Я оглядел соседей. Перед каждым — чашка кофе. И только. Беседуют не торопясь, покуривают — видно, намерены провести за одной чашкой кофе весь вечер. Тогда я понял: официантка приняла меня за экстравагантного миллионера.
Эйельманс — здоровенный седой детина с татуировкой на обеих руках — тоже ограничился кофе.
— Во-первых, — сказал он, — я в семь часов пообедал. На сегодня хватит. Во-вторых, в Роттердаме особенно берегут деньги.
Причина несложна. Здесь — последние новинки домостроительства, а значит, самые дорогие квартиры. А это ведь главный расход. Жилье отнимает сорок процентов заработка, а то и половину.
— Вообще Роттердам так лезет в карман! За воздух только не платим… Из кожи рвемся, чтобы не отстать от века, заиметь телевизор новейшей марки, холодильник или там… — Он махнул рукой. — Навязывают, суют с рассрочкой… Сослуживец твой уже приобрел, тебе, вроде, неловко перед ним… Мы тут уже не голландцы, нет! Подражаем американцам, англичанам, черт его знает, кому еще.
Потом он сказал, что в центре все мишура, напоказ, а настоящий Роттердам — это порт.
— Вы моряк? — спросил я.
— Что, по рукам видно? — засмеялся он. — Мне в Копенгагене русалок нарисовали. Порт у них, против нашего, ерунда, а татуировщики знаменитые!
Ханс служит теперь диспетчером. А при немцах он был механиком на шлюзах.
— Анатоля прислали ко мне домой. Ночевал он у меня, а затем я посадил его на баржу в «Сельдяном ручье». Каждая гавань, понимаете, имеет как бы кличку. Забавные есть, — например, «Старая голова», «Вертящаяся лестница». Испокон веков заведено… Немцы, конечно, этих названий не знали. Они многого не знали…
У Ханса на многих баржах были надежные люди. Шкипер «Каролины» — земляк, старый приятель. Плавал он с женой, дочерью и племянником. Рыжий Ян, не дурак выпить. В тот день Ян загулял на берегу, не явился на судно. Поняли? Получилось вполне натурально. Шкипер взял в рейс Анатоля. Нахвалиться не мог после — Анатоль рулевую вахту нес образцово. А уборку сделает — пылинки не найдешь. Знаете, что шкипер сказал? «Я, — говорит, — теперь верю, что русские победят Гитлера». Смешно, правда? Мы ведь тогда были мало знакомы, газеты врали про вас без зазрения совести…
«Молодец Анатолий! — подумал я. — Был Арифом, индонезийцем, и с такой же легкостью сжился с голландцами. Поразить голландца чистоплотностью не так-то просто».
— Шкипер совсем расчувствовался. «Я бы, — говорит, — свою дочь отдал за него».
Баржа направлялась в Брюссель. Анатолий сошел с нее раньше, в маленьком бельгийском городке. Ему там обеспечили явку.
По слухам, Анатолий примкнул к партизанам и храбро воевал.
Где теперь баржа «Каролина» и ее шкипер? Увы, шкипер на пенсии, живет далеко отсюда, на острове. «Каролина», может быть, еще плавает…
Что ж, я и в «Гаруде» не застал соратников Анатолия. Но побывать там стоило, важно ведь почувствовать атмосферу… Я поделился размышлениями с Хансом, он кивнул.
— Да, да, я сам хотел вам предложить. Идемте! Барж сколько угодно, нас на любой примут.
Дует резкий ветер, обдает дождевой пылью. Где-то за плитами набережной чмокает невидимая вода. Из темноты выступают белые, желтые, зеленые мостики, черные люковые крышки, отсвечивают мокрые палубы. Чаща мачт уходит в необозримую даль. А сегодня утром я стоял на верхней площадке «Мачты Европы» — железобетонной башни для туристов, и эта гавань казалась мне крохотной в ряду других заводей. Во всех теснились суда, плотно гасили сияние каналов и рек. Их природный рисунок местами переходил в чертеж — ровный, проложенный волей человека, так как и здесь Голландия сражалась с морем, исправляла географию низины, орошаемой Рейном и Маасом.
Реки бегут у своего финиша почти параллельно, их дельты спутались, отчего Роттердам лежит как будто на огромной водной сетке. Двадцать пять тысяч судов ежегодно принимает порт, а грузов тут проходит почти столько, сколько в Антверпене, Гамбурге и Марселе, вместе взятых.
Спокойные стоянки, удаленные от моря, удобны и для океанских многотонных пришельцев и для легкой флотилии самоходных барж, прибывающих из глубин материка. Баржи под флагами Франции, Бельгии, Швейцарии, Люксембурга, Западной Германии… Им принадлежат тринадцать с половиной тысяч миль водных дорог европейского Запада, почти не замерзающих. Больше ста тысяч «речных цыган» разных национальностей плавает на баржах.
Судно — дом для шкипера. На борту он родился, сюда привел жену, здесь растут его дети.
С самых ранних лет их приучают к делу. Профессия шкипера — потомственная. Я не раз дивился ловкости, с которой баржа маневрирует в теснинах и на перекрестках, ведь сеть водных дорог бедна широкими большаками, куда многочисленнее узкие, извилистые проселки…
— Ну, как вам нравится? — говорит Ханс. — Вы не стесняйтесь, народ тут любезный.
Баржи великаны и карлики, баржи голландские и иноземные сгрудились у бетонной стенки плотной, дружной гурьбой. На них идет обыкновенная домашняя жизнь. Где-то поет, пришепетывая, заезженная пластинка. Женщина в рыжей вязаной кацавейке развешивает белье. Ветер рвет его из рук. Кое-где в прогалине света — дощечка с названием, прибитая к надстройке.
— «Курск», — прочитал я вслух и не сразу поверил глазам. Да, в компании с «Гаронной», «Брабантом», «Кельном» оказался вдруг «Курск»!
Выбор был сделан.
Хозяин сидел на мостике и читал газету, отхлебывая чай. Он выслушал Ханса, повернулся ко мне, радушно улыбнулся. Узкое, внимательное лицо, гладко выбритое, модная блестящая курточка из синтетической кожи.
— О, из России? — сказал он по-французски. — Прошу вас вниз. Там, в моем кабинете, — он показал на мостик, — очень мало места.
Мы спустились по крутому железному трапу. Две девочки-двойняшки, примостившись на одном стуле, смотрели телевизор. На экране миловидная дама показывала, как сделать дешевый, красивый абажур. Девочки не шевелились. Корнелиус — так зовут шкипера — велел им подойти и поздороваться с гостями.
— Что вы хотите выпить? Нет, не отказывайтесь! Мсье из России, такой редкий случай…
На стене — делфтские тарелочки. Мебель разного возраста — старый буфет и новый, светлый обеденный стол. Обстановка городской квартиры среднего достатка. Над телевизором — семейные портреты, а под ними цветная открытка — новый кинотеатр в городе Курске.
— Мне подарил советский матрос. Он сам из Курска. Он тоже удивлялся…
Окрестил баржу отец Корнелиуса. Тогда баржа еще не плавала. То была старая, дырявая посудина, ржавевшая на приколе, в закоулке здешнего порта, и отец — тоже Корнелиус — нашел на ней кров. До войны было свое судно, но фашисты конфисковали его. И отец мечтал починить баржу, снова взяться за штурвал. Называлась она «Святая Маргарита». Это все равно не годилось.
— Мы протестанты, мсье. Какое дать имя? Вся надежда тогда была на вашу страну, ведь Гитлеру давали сдачи только на восточном фронте. Под Курском вы ему здорово всыпали. Правда, до этого был Сталинград, но голландец, говорят, решает не сразу, еще поразмыслит. Словом, сражение под Курском окончательно убедило…
Рассказывая, он накрывал стол.
— Садитесь! Досадно, жены нет дома. Она в кино со старшей дочкой. Для нас это, знаете, удовольствие не частое — пойти в кино.
Вчера «Курск» пришел из Базеля. Груз — швейцарские часы, товар нежный. Его охотно доверяют шкиперу, — баржа ведь плавно скользит по воде. Завтра, может быть, удастся получить партию апельсинов для Парижа. Корнелиус объясняет маршрут, развернув карту: сперва по Маасу, затем по каналу, через Арденнский лес в реку Эн, из нее, опять по каналу, в Уазу и в Сену.
В рейсе — не до кино. Расписание жесткое, нельзя терять ни минуты. Шкиперу ненадежному, неаккуратному груза не дадут. Надо купить продуктов — замечай, где магазин поближе.
— Клара, старшая, бегом кидается… Слава богу, наскребли денег, купили большой холодильник. Запасаем на несколько дней.
Сходят на берег, понятно, не по трапу. Возиться с ним некогда. Я видел на палубе горизонтальный брус, прикрепленный к вертящемуся столбу. Баржа коснется стенки, и в тот же миг наваливайся на брус, отталкивайся ногами. Так, как у нас в деревне ребята катаются на калитке-вертушке.
Работа и отдых — все на воде. Куда денешься от своего судна! На суше у шкипера нет ничего — ни кола, ни двора. Отпуск? Когда нет груза, тогда и отпуск — волей-неволей. А точнее, ожидание груза.
Корнелиус обивает пороги фирм, добывает фрахт.
Клара, та пользуется временем, ходит на танцы. Иногда с женихом встречается, если он окажется поблизости. Он тоже плавает, с отцом и матерью.
— Баржа у них отличная, тысяча тонн. Наша — всего шестьсот.
Вообще жених подходящий. По всем статьям. Где будут играть свадьбу? На барже у жениха — где же еще!
— Мы, речные цыгане, обычно на своих женимся, на цыганках. С сухопутными родство слабое. Клара со своим Виллемом еще в школе подружилась…
В будущем году и младшие начнут учиться — в школе-интернате. Потом они вернутся на баржу. Им тоже, скорее всего, суждено жить на воде.
Сыновья шкиперов, те и вовсе лишены выбора. Баржа, как и ферма, от себя не отпускает. Сытно на ней или худо.
Корнелиус делится своими заботами. Крупные фирмы давят, хватают за горло. У них крупные, быстроходные баржи, реклама, конкурировать с ними трудно. Шкипер Корнелиус, маленький человек, в тревоге. Идти к богачам на поклон? Не возьмут они его с баржей, скажут: устарело судно, не годится в нашем передовом бизнесе. Продать баржу? Страшно! Здесь, как бы там ни было, ты хозяин. Ты у себя дома…
Мы прощаемся. Я желаю Корнелиусу удачи.
— Спасибо… Жалко, нельзя нам в море, а то пришли бы в Россию. Я бы в Курске побывал, матрос звал меня… Постойте, мсье, забавная история! Меня ведь уговаривали переменить название. Представляете? Один селедочник отказался грузить свои бочки. Я, говорит, с красными дел не имею. Вот ведь наглец! А я ему — как вам угодно. Красный я или другого цвета, касается только меня.
Мы отошли, и Ханс сказал:
— «Каролина» была такая же… Может быть, немного поменьше.
Баржа, на которой ушел Анатолий… След его оборвался. Но хочется думать, я еще встречусь с ним.
Фото. Голландия
Здесь, в этих особняках на набережной, живут богатые амстердамцы.
Люди небольшого достатка вынуждены жить на воде, в сырых плавучих домиках — вонботах.
Вот они — голландские кломпы, выставленные для продажи в базарный день.
Не счесть каналов в Голландии, не счесть подъемных мостиков, — они тоже неотделимы от ее пейзажа.
Дом этой голландки — самоходная баржа — тоже на воде, но он постоянно в движении по каналам и рекам европейского Запада.
Нигде не увидишь столько сыра, как в городе Алькмаар, на традиционной ярмарке сыров.
Таков Маркен — старинный рыбацкий поселок.
Своеобразен костюм рыбачек селения Спакенбург, они носят жесткие выпуклые пестрые нагрудники, похожие на латы.
«Рыцарский дом» — старинный замок в Гааге.
В городе Делфте, на родине голландского фаянса, расписанного диковинным орнаментом.
Небольшая верфь в Заандаме, где когда-то работал Петр I, кажется, мало изменилась с тех пор.
У входа в музей Франса Галса.
Многоликая Бельгия
У бельгийских друзей
Я живу в Бельгии.
Точнее — в ее столице Брюсселе, на окраине, в небольшом коттедже.
Окна не обведены белой краской, как в Голландии, и весь домик, как и его соседи, более деловитый с виду, одноцветный, из оранжевого кирпича.
У входа нет ни кломпов, ни лопаты. Садик далеко не так густо засажен, как у Герарда. В центре, вместо цветочной клумбы, красуется турник.
— Мы, бельгийцы, — объясняет мой друг Жак, — типичные горожане. Недаром Бельгию называют одним большим городом…
Жак любит четкие, законченные формулировки. Но боится прослыть педантом. Наверное, поэтому, когда он говорит, его карие глаза за стеклами очков смеются. Он точно подтрунивает над собой.
Я по привычке ищу глазами канал.
— Это нетипично для здешнего пейзажа, — просвещает меня Жак. — Ближайший канал на другом краю города.
Познакомился я с Жаком пять лет назад. Тогда он, его жена Эвелин и двое ребят занимали маленькую квартирку в центре города. Приглашать гостей было некуда. К счастью, удалось купить в рассрочку этот коттедж.
Обставлены комнаты по-спартански просто. В каждой — узкие складные кровати без спинок, столик, стенной шкаф для одежды и, как в гостинице, умывальник. Цветов почти нет. В самой большой комнате — столовая-кабинет-гостиная. Граница кабинета обозначена лишь вертящейся этажеркой с книгами, укрепленной в центре помещения, на стальном шесте.
— Бельгийцы не любят ничего лишнего, — говорит Жак.
Жилище рациональное, чистое. Единственное украшение — плакаты. Утром, просыпаясь, я не сразу соображаю, где нахожусь: взгляд упирается в синие, обсыпанные звездами маковки Суздаля. Дети спят под панорамой Ленинграда, под деревянным кружевом Кижей.
Жак часто бывает в нашей стране.
По субботам он принимает гостей. Многие являются, чтобы посмотреть на меня — приезжего из Советского Союза, расспросить, поспорить.
— Не думайте, что во всех домах так, — уточняет Жак. — Вообще в Бельгии живут замкнуто, каждый на своем островке.
Разумеется, у меня есть вопросы. Я ведь проведу здесь целый месяц и надеюсь получше узнать Бельгию и бельгийцев.
Меня наперебой снабжают советами.
Оказывается, месяц — срок жесткий. Бельгия невелика, в ней девять миллионов жителей, на три миллиона меньше, чем в Голландии, но любопытному иностранцу тут будет потруднее…
Бельгия гораздо разнообразнее. Я уже успел заметить это: за окном вагона, оставившего позади Голландию, еще тянулись некоторое время польдеры, но потом каналы и канавы исчезли, плоская земля точно разгладилась, обсохла. Чем дальше от моря, на юг, тем выше. В Брабанте — центральной провинции — уже видишь пологие холмы. А в южной Бельгии — зеленые вершины Арденн, пенистые потоки, скалы, настоящая глухомань.
В стране три языка.
Северная половина Бельгии — Фландрия, родина легендарного Тиля Уленшпигеля. Фламандцы говорят почти так же, как жители Амстердама. Литературный язык — общий с голландцами.
На востоке Бельгии — небольшая область, населенная немцами.
В южной половине страны — Валлонии — язык французский. Образованный брюсселец мало отличается по говору от парижанина. А в деревне звучит валлонский диалект, трудный для произношения, часто непонятный горожанам.
Промышленные города, шахты разрослись в Бельгии густо. А в кольце заводов, современных кварталов свернулись клубком средневековые улочки, высится храм, расписанный внутри великим художником…
Меня соблазняют замечательными музеями, старинными замками, одетыми плющом, творениями фламандских живописцев, красочными народными праздниками и, конечно, колоколами… Словом, я не успеваю записывать маршруты, названия мест, адреса.
Может быть, в Бельгии я снова нападу на след Анатолия — саратовского парня, сражавшегося в партизанском отряде. Как сложилась его судьба?
— Вы будете в Брюгге? — сказал один из друзей Жака. — Позвоните моему приятелю, Клоду Верселю. Он ветеран войны и, вероятно, что-нибудь знает.
— Ты должен поехать в Брюгге так или иначе, — говорит Жак. — Кто не был там, тот…
— Не понял Бельгию, — вставляет кто-то.
— А Льеж! Не побывав в Льеже…
А сами бельгийцы? Что это за люди, какими чертами характера они отличаются?
— О, тут тоже пестрота, — отвечает мне Жак. — Северная рассудительность, галльский темперамент… Чаще всего нас определяют так: ноги у бельгийца на земле, а голова в облаках. Как это понять? А вот присмотрись, подумай…
Все сошлись на том, что мне сперва надо провести неделю-другую в столице.
Брюссель
Есть города, которые можно охарактеризовать двумя-тремя словами. Скажем, город каналов, город небоскребов.
Брюссель не относится к их числу.
Если подойти строго, ему многого не хватает. Здесь нет архитектурной цельности Амстердама. Брюссель — пестрое смешение стилей и веков. У него нет большой воды — скажем, озера или широкой реки, а без этого городу трудно быть красивым. На плане Брюсселя голубеет лишь узенькая речушка Сенн. Она далеко от центра, обросла портовыми кранами и выполняет скромную роль подъездного пути: соединяет столицу с сетью бельгийских рек и каналов.
Проще подыскать для Брюсселя эпитет. Гигантский? Нет, не подходит. Число жителей — в пределах миллиона. Мне хочется назвать его уютным, приветливым.
Еще не исчезли здесь старые, почти музейного вида трамваи. Дома, построенные большей частью в прошлом веке, напоминают желтоватыми и коричневыми тонами старую, потускневшую мебель. Но город расцвечивают вывески бесчисленных «брассери» — кафе-пивных. Это своего рода клубы. Брюсселец проводит весь вечер в зальце «брассери», один или в компании, смотрит телевизор, читает газету. В «брассери» обсуждают новости квартала, города, дела политические.
В теплые дни столики выносят на улицу. Много киосков, лотков с цветами, фруктами, овощами. Магазины выносят часть товаров наружу, на скамьи или прямо на тротуар. Даже в центре, на торговой улице Нев, продавцы в рупор, что редко услышишь на севере, зазывают публику, расхваливают вещи, выставленные для распродажи.
Брюссель иногда называют дальним предместьем Парижа. И верно, очень многое в облике, в красках оживленной уличной жизни роднит две столицы. Говорит Брюссель главным образом по-французски, хотя все надписи — на двух языках. У него свои Большие бульвары, охватившие ядро города широким зеленым обручем.
И в Брюсселе соседствуют богатство и скудость.
В Амстердаме различаешь основательные каменные здания, похожие на фермы, и скромные избушки — вонботы. Те, кто победнее, буквально сброшены с улиц на воду. В Брюсселе люди разных достатков — на суше.
Адрес человека довольно ясно говорит, каков его доход. Например, авеню Луизы — Брюссель богатых, она вонзается в тенистый Суанский лесопарк. А самые богатые обитают за городом — в виллах, обнесенных массивными оградами, в замках. В королевстве бельгийском немало миллионеров, владеющих заводами, судами, угольными разработками, рудниками в Конго. Тысячи баронов, сотни графов, десятки принцев. Аристократам, монастырям по-прежнему принадлежат обширные угодья.
То, что на авеню Луизы выбрасывают в мусорные чаны, нередко объявляется на лотках в другом конце города, на так называемом «блошином рынке». Старьевщики роются в мусоре и извлекают кое-что, годное для сбыта.
Да, покупатели находятся…
Огромная усатая старуха торгует перчатками — истертыми, серыми от въевшейся пыли. К ним и прикоснуться противно. Рядом ветер раскачивает изношенные донельзя пиджаки — заштопанные на локтях, с пятнами, не поддавшимися химчистке.
Меня поразила груда разнокалиберных, ржавых ключей. Кому они нужны, без замков? Я смотрел и пытался представить, какие шкатулки, столы, поставцы, буфеты, гардеробы, кладовые, подвалы, чердаки запирали они в домах, может быть, уже сметенных войнами.
Подошел мужчина в плащике, чисто одетый, вынул из кармана бумажку с чертежом, начал рыться в груде, примерять ключи. Нет, этот не бедняк…
Повезло, ключ отыскался. Его, правда, понадобилось чуть-чуть подогнать напильником. Но ведь это дешевле, чем заказывать новый. На франк-другой, но дешевле.
Спускается вечер, тянет за собой мглу, поредевшую было за день. Движение стало гуще, машины цугом бегут за трамвайчиком, прямо по линии.
За витринами зажигаются елочки, маленькие, не очень яркие, экономные. Осветилась реклама банка. Молодая пара — оба красивые и веселые — катаются на роликах. Веселые потому, что знают, куда класть деньги. «Смотрите, как легко нам делать сбережения!» Так же легко, как скользить на роликах.
Если верить плакату…
Цена франка
Больше всего в Брюсселе улиц среднего достатка.
Они нешироки, здания гладкостенные, без лепных гирлянд. У тротуара тесно стоят бездомные машины, гаражей здесь мало.
В укромных «брассери» обстановка традиционная: темные панели отделки, угловые диванчики, ветеран-буфет, украшенный дедовской кофейной мельницей. Попадаются и харчевни, где принимают по-семейному: тут же, за вашим столом, сидит старушка — мать хозяина, вяжет носок. Подают «мули» — черные морские раковины в наперченном бульоне с луком. Моллюски внутри съедобны.
Порцию «мулей» можно получить и на улице. Облако пара над переносной плитой, запах сельдерея… Недороги и жареные «эскарго». Это крупные морские улитки в панцирях, напоминающих чалму. Извлекают улитку длиннозубой вилкой, держа панцирь специальными щипцами.
А там шипят под тентом ломтики картофеля — «фриты». Без них тоже немыслима обычная брюссельская улица.
Приезжий, может быть, не сразу уловит заботы и тревоги этой улицы — чистой, на вид зажиточной.
Правда, Бельгия слывет в Европе богачкой. Бельгийцам почти не приходится бросать родину в поисках работы. Бывает, инженер едет за границу по приглашению. Это другое дело. А рабочих Бельгия с давних пор сама принимает со стороны — итальянцев, испанцев, греков, даже французов. Сейчас черный день как будто отодвинулся.
Но все-таки не исчез из вида…
Приезжему из нашей страны, с нашими привычками, трудно представить себе, какая жестокая экономия скрыта за опрятными фасадами. На стойку «брассери» редко упадет десятифранковая монета — в просторечии «тюнн», не учтенная заранее в статье расходов.
Да что — «тюнн»! В семье рассчитан каждый франк. Кто знает, надолго ли поправилась конъюнктура. Да ведь и сейчас полная занятость не во всех отраслях производства. Объявлено же официально — пособия по безработице получают сто тысяч человек.
А цены! Повышаются из года в год, в особенности на продовольствие. За кило говядины или свинины изволь платить на десяток франков больше, чем в прошлом году.
Однажды маленькая булочка, прозванная «пистолетом»— в память монет пистолей, ходивших когда-то, — стала дороже на четверть франка. Это самая мелкая монета. Номер газеты — три с половиной франка, трамвайный билет — семь. Однако здесь, на улице, каких много, чувствительно и это повышение. Печать протестует. Оказывается, булочники нарушили — который уж раз! — цены на хлеб, установленные законом.
Улица сетует на то, что дороги квартиры, дорого обходятся визиты к врачу и лекарства.
Покупая телевизор, не забывают подсчитать эффект в бюджете. Два билета в кино вечером — это, по цене, килограмм масла. Расходы на кино резко сократятся. И на газеты и журналы, на футбол…
Завести машину — тоже выгодно.
— Посудите сами, — сказал мне в «брассери» сосед по столику, — машина необходима. Здесь я отдаю треть зарплаты за квартиру, а за городом жилье гораздо дешевле. Переехал бы, но всю разницу съест автобус. Транспорт и без того отнимает массу денег.
Одна знакомая при нас покупала автомобиль. Дело происходило на ярмарке автомашин. Мы проголодались, встали в очередь за съестным. Как возмущалась бельгийка, что булочка с сосиской стоила на ярмарке дороже на два франка!
Машина здесь не роскошь. Она позволяет обойтись без автобусов, трамваев, в ней дешевле можно съездить в отпуск.
…Когда я вышел из «брассери», улица уже затихала. Окна гасли. Скрылись в темноте супруги на роликах, те, что играючи откладывают деньги. Было девять с четвертью — время позднее для обыкновенной, утомившейся за день улицы Брюсселя.
Размышления у Атомиума
В холодном, вязком тумане, затопившем сегодня Брюссель, он напоминает что-то живое. Кажется, великан, который похваляется силой, жонглирует тяжелыми ядрами. Подходишь ближе, и из тумана со всей стальной определенностью выступают штанги и шары, крепко сваренные между собой, поднятые на высоту в сто десять метров.
В одном из шаров — ресторан. Вы может заказать там пулярку по-брюссельски, сваренную в масле, тающую во рту. Возьмут за нее дороже, чем в городе, но зато вы вправе похвастаться, что пообедали внутри атома. Да — атома! Ведь Атомиум — это не что иное, как молекула окиси железа, выросшая в двести миллиардов раз. Состоит молекула, как известно, из атомов. Скульптор ничуть не нарушил их расположение, он только увеличил и соединил шары-атомы полыми трубами, по которым снуют скоростные лифты и ползут эскалаторы.
Есть шар, отведенный под выставку. Диаграммы и фото рассказывают о мирном применении атомной энергии. Об этом и мечтал скульптор, проектируя свои гостеприимные атомы.
Задуманный как эмблема нашей эпохи, Атомиум возник вместе с Всемирной выставкой 1955 года. Он был ее главным аттракционом и молчаливым ее председателем. Павильоны выставки давно разобраны, а монумент пережил ее, сросся со столицей.
— Ну, красоты я тут не вижу! — раздается рядом со мной по-итальянски в группе туристов.
Там заспорили.
Красив ли Атомиум? Трудно ответить сразу. В нем есть величие. В нем — добрые пропорции самой природы. По форме монумент непривычен. Что ж, жизнь ломает привычки. Художник вряд ли должен обходить вниманием то, что открывает нам наука. Формы, краски, пейзажи, рождающиеся в реакторе, в пробирке химика, под микроскопом.
Одно достоинство Атомиума бесспорно: он выразительно напоминает о грозном нешуточном могуществе нашей активной современницы — атомной энергии.
И заставляет думать…
Бельгийцы гордятся тем, что их атомный реактор подключен в сеть, дает энергию. Но если бы атомы работали только для мира! Огромные средства идут в Бельгии на вооружение. Старшие партнеры по Атлантическому пакту обязывают Бельгию строить военные гавани и аэродромы, принимать в своих водах боевые суда с атомным оружием, снаряжать соединения самолетов, способных бросать атомные бомбы.
Возле Брюсселя расположился штаб НАТО, изгнанный из Франции.
А на стенах часто видишь надписи мелом, краской: «Штаб НАТО — вон из Бельгии!», «Долой НАТО!». В газетах там и здесь прорывается как предостережение информация о войне во Вьетнаме.
Разбой во Вьетнаме не решаются оправдывать даже буржуазные газеты, прежде восхищавшиеся всем американским. В одном из маленьких, но смелых театров Брюсселя идет спектакль «Америка, ура!», зубастая сатира на американский образ жизни. Некий «доброжелатель», не назвавший себя, позвонил директору театра — если, мол, не перестанут играть спектакль, в зрительном зале взорвется бомба. Но запугать не удалось.
Кстати, репертуар театров говорит о многом. В крупнейшем драматическом театре столицы ставили пьесу Арбузова «Мой бедный Марат». Для зрителей выпустили необычное либретто — с исторической справкой о блокаде Ленинграда и даже с картой фронта. Во Фламандском театре идет драма по Достоевскому — «Братья Карамазовы». В эстрадном — комедия Валентина Катаева. Никогда не видели брюссельцы такого количества русских и советских пьес, фильмов.
Да разве есть в наше время страны, отъединенные наглухо от других! Атомный век связывает судьбы всех народов!
Об этом думаешь на холме у Атомиума.
Шаги истории
Получасовая поездка от Атомиума в центр города — и мы отброшены на несколько веков назад.
Знаменитая Большая площадь…
Главенствует на площади Ратуша. Кружевной ее мрамор и сегодня свеж и юн. Не верится, что строительные леса сняты в 1454 году. Над пышным порталом тянутся вверх острые башенки и, перерастая друг друга, образуют мощный ствол, который силится достать до неба.
Справа от Ратуши — дворец графов Брабанта, слева и напротив — вызолоченные дома гильдий. Дворец хмурится, узкие его окна с тревогой взирают на соперников. А гильдейские дома, слитые в строю, словно купцы, одеты в самое парадное, назло вельможам. Так молчаливо длится на площади спор, давно прекращенный историей.
Конечно, вы скоро отворачиваетесь от сурового дворца. Вас пленяют сооружения Брюсселя плебейского — их поразительная легкость при изобилии орнамента, загадочные, овеянные неведомыми легендами эмблемы ремесел.
Дом корабельщиков отличен форштевнем, выпирающим из фронтона. Ниже лоснятся, извиваются тела существ подводного царства. Дом галантерейщиков охраняет лиса, дом корпорации лучников — волчица. Дом голубя, дом павлина, дом летучего оленя…
Никто не скажет точно, какие предки у этих зданий, как глубоки их древние каменные корневища. Наверно, под мостовой смешались с почвой остатки поселения бельгов — кельтского племени, упоминаемого в записках Юлия Цезаря.
Только через тысячу лет поселение стало городом, цветущим и знатным. Совершили это превращение ремесленники, основавшие свои мастерские на вилке торговых дорог — от Кельна и от Парижа к морю.
Это они: ткачи, кузнецы, корабельщики — фламандцы и валлоны — создали Брюссель и всю Бельгию, метко прозванную страной городов. Так рано и так бурно развилось здесь ремесло.
Улицы-щели, не знающие солнца, выходят на Большую площадь. Жилища мастеровых темны, убоги, но гильдии богаты, товары известны всей Европе. Чертоги ремесел на площади словно усеяны шедеврами — теми изделиями, которыми добывалось звание мастера.
Большая площадь — шедевр нескольких поколений.
И вот что еще поражает — постройки здесь возведены в пору непрерывных сражений. В Брабанте и на землях голландцев новый класс раньше, чем где бы то ни было, вышел из пеленок. Зато и война, начатая им, была здесь, быть может, самой трудной. Брюссель, Гент, Брюгге, Турнэ обучали Европу колотить феодалов. Еще в 1302 году простолюдины разгромили отборную рать французских рыцарей. Но короли, графы снова и снова грозили отнять городские вольности, обратить ремесленников в своих крепостных.
Все это ясно видишь, стоя на Большой площади. Вряд ли есть место в столице, во всей стране, где так внятен голос истории.
В XVI веке пришел новый враг — испанские завоеватели. Мы знаем, какой могучий народный гнев они вызвали.
На Большой площади, во дворце, — покои наместника короля Филиппа. Это герцог Альба. Фанатически усердный слуга деспота, он гордится тем, что погубил больше ста тысяч людей. Палачи орудуют и под окнами дворца. На железных остриях торчат головы казненных патриотов, Эгмонта и Горна.
Враги презрительно называют повстанцев нищими бродягами.
Друзья! Они кричат: «Вы босяки, вы гезы!» Что ж, будем гезами! У нас, у босяков, В сердцах — огонь, в руках — железо У босяков!Кажется, сама Большая площадь говорит нам это, как некогда Эмилю Верхарну. Замечательный бельгийский поэт часто бродил здесь, прислушиваясь к былому.
Ярость гезов, оставшуюся здесь в воздухе, вдыхал Шарль де Костер. Видишь Тиля Уленшпигеля, которого де Костер поставил во главе гезов. Потрясенный зрелищем казней, уходит с площади Тиль и произносит, обращаясь к другу Ламме:
— Слава тем, кто с мужественным сердцем готовит меч для грядущих черных дней.
Почему в северных провинциях, голландских, восстание победило, а здесь задохнулось?
Там феодализм был слабее, тут сильнее. Родовитая знать — не иноземная, а местная, — хоть и не раз была бита, но сохранила огромные поместья. Вся земля принадлежала сеньорам и монастырям, по-прежнему владела умами католическая церковь. Новому классу тут было теснее. Новая вера Лютера и Кальвина не утвердилась.
Вельможи испугались гезов и, за немногими исключениями, встали на сторону короля Филиппа. Горожане не смогли привлечь в свои ряды крестьян. Богатые купцы, владельцы мануфактур, предпочли в такой обстановке соглашение с противником. Испанские наместники удержались. Но вскоре Мадрид сам выпустил из рук южные провинции. Испания одряхлела, соседи на востоке крепли, Брюссель с Брабантом, Фландрией, Люксембургом отошли по договору к Австрии.
Столетие спустя, громя австрийцев, на Большую площадь вступили гренадеры Наполеона. Известна фраза, брошенная как-то императором: «Вся эта страна не что иное, как наносы песка из французских рек».
Но вот указы Наполеона сорваны пиками русских казаков, двигавшихся к Парижу.
Монархи-победители, собравшиеся на Венском конгрессе, перекраивают карту Европы. Недолговечная империя Наполеона рухнула, разобрана по частям. Все земли фламандцев и валлонов предоставлены Голландии.
Мнением народа Конгресс не интересовался. А между тем от Антверпена до Арденн люди сознавали свою общность, жаждали независимости. Правда, язык Фландрии почти тот же, что в Амстердаме. Но Фландрия — страна католическая, религия, исторические судьбы отделили ее от голландцев. В разросшихся городах валлоны и фламандцы трудились бок о бок, там с давних пор складывалась бельгийская нация.
Лишь в 1830 году, в горячие августовские дни, увидела Большая площадь рождение нового государства. Полетели со стен голландские гербы, бежали голландские часовые.
— Да здравствует независимая Бельгия! — кричали брюссельцы.
Сейчас уже не дознаться, кто первый вспомнил тогда, в пылу мятежа, древних бельгов, храбро сражавшихся против римлян.
Так появилась Бельгия.
Наступил мир. И надолго… Франко-прусская война стороной обошла Бельгию. Но угроза на западе росла. В нашем веке Большую площадь топтали войска немецкого кайзера и, наконец, гитлеровцы.
С болью представляешь себе флаг со свастикой над этой площадью, над святыней нации. Солдат в грязно-зеленых мундирах. Гестаповские мотоциклы…
По праву принадлежит Большой площади звание участницы Сопротивления. Нет, не только потому, что и здесь прятали и распространяли боевые листки, печатавшиеся во множестве. Площадь, где песней восставших гезов застыла башня Ратуши, внушала людям стойкость. Где вечная красота, там воздух бессмертия, и люди приходили сюда дышать им.
Дитя Брюсселя
От Большой площади совсем недалеко до угла улиц Дубовой и Банной, где стоит знаменитый Маннекен Пис. Это все еще старый центр Брюсселя, о современности напомнит лишь автомат с жевательными резинками, прибитый к стене, да машина щегольской марки, заплутавшая в сумятице кривых улочек и брезгливо фыркающая на подъеме. Сюда не проникает шум городских магистралей, и поэтому вы сперва уловите звон воды, а потом уже заметите малыша, пускающего струйку. Он стоит в нише голенький, выпятив к вам свой полненький бронзовый животик, усердно занятый своим неотложным делом. Вот уже триста лет, как звенит струйка.
Скульптор, придумавший этот озорной фонтан, вряд ли предвидел будущее дитяти.
В близком соседстве с ним, на старых домах, водружены статуэтки девы Марии и святых, но ни одно из этих изваяний не пользуется и сотой долей того почета, какое досталось Маннекену Пису.
Рассказывают, что отцом шалунишки был один из графов Брабанта. Враги обступили его замок, охранявший дорогу на Брюссель. Защитники теряли надежду отбиться, когда из внутренних покоев выбежала нянька. Опять рассердил ее малыш, намочил кроватку. «Маннекен пист!» — крикнула она графу по-фламандски. Воины расхохотались — до того это было неожиданно, трогательно, неуместно. И, смеясь, со свежими силами, возглашая «Маннекен пист!», кинулись в бой и взломали осаду. Так — утверждает легенда — Маннекен спас Брюссель.
Никто, впрочем, не поручится, что скульптор знал эту легенду. Ее могли сочинить и позднее, в оправдание дерзкой скульптуры. Да, именно дерзкой, почти кощунственной.
Фанатики проклинали озорника, грозили разбить. Но его взяли под защиту тысячи горожан. Пусть льет свою струйку, пусть издевается над ханжами.
Легче погасить бунт, чем погасить смех. А здесь, в Брюсселе, хлесткий галльский юмор соединился с суровой насмешливостью фламандцев. Люди смеялись, читая о похождениях Гаргантюа и Пантагрюэля — героев француза Рабле, бичевавшего святош, крючкотворов, обманщиков в рясах. Смеялись над «Похвалой глупости» — язвительной сатирой Эразма Роттердамского, отца гуманистов. Он сам жил некоторое время в брюссельском пригороде Андерлехт.
Нет, ни огонь, ни пытки, ни бедствия непрерывных войн не могли отучить людей смеяться.
Однако я, может быть, слишком серьезно представляю читателям Маннекена Писа — бронзового малыша. И напрасно называю при этом имена великих. Что такое Маннекен Пис? Пустячок, уличная шутка!
Да, шутка!
Но попробуйте сосчитать, сколько разящих острот, сколько острых песенок вдохновил Маннекен Пис, любимец брюссельской улицы! Именитые заискивали перед ним, Людовик XV подарил ему шитый золотом костюм маркиза. Наполеон III прислал трехцветную ленту. Поток лукавых подарков не прекратился и в наши дни — недавно, например, малышу преподнесли форму американского военного моряка…
Но куда больше других даров от своих, от чистого народного сердца. В бурные дни 1830 года Маннекена одели в блузу рабочего-ополченца. Зайдите в музей города — там весь гардероб мальчишки, около двухсот разных спецовок и форменных одеяний. В день пожарников — в Бельгии от средних веков сохранились цеховые праздники — на кудрявой головке пострела сверкает медная каска. В день почтовиков он в черной куртке, фуражке и с сумкой на ремне.
Когда студенты справляют день святого Верагена, Маннекен с ними. И он носит кепку с эмблемой праздника — медалью, на которой изображена нога, дающая пинка толстому кюре. В списке преподобных угодников Вераген, понятно, не числится — это святой пародийный, сотворенный студентами. Маннекен в нахлобученной кепке стоит важно, словно принимая парад. Мимо него шагают студенты в шутовских рясах, несут карикатуры на духовенство, кружищи для подаяний «на мессу в честь Верагена», лихо распевают:
А ну, камилавки сбивай, не жалей! Долой чернолобых, долой ханжей!Вот где раздолье Маннекену! Он в песне, на плакате, участвует во всех проделках.
Как-то раз ниша над бассейном вдруг опустела, Маннекен исчез. Забили тревогу. Полиция пустилась на розыски. Недели две горожане волновались за судьбу ребенка. Нашли его в Антверпене — тамошние студенты приревновали Маннекена к брюссельцам, приехали ночью и увезли…
Нет, нельзя отнять Маннекена у Брюсселя! Тут он по-настоящему в своей семье. Он как будто спрыгнул с фриза на Большой площади или сошел с полотна фламандского живописца и выбежал на улицу поиграть.
Маннекен Пис — сынишка Брюсселя, вечный малыш, которого одно поколение нежно передает другому.
Генерал Мими
Однажды улица, казавшаяся мне смутно знакомой, привела меня к подъезду старой гостиницы, украшенному двумя лепными витязями. Тут я и вспомнил «генерала Мими».
Пять лет назад нам, группе советских туристов, отвели здесь номера. В ресторане нам подавал невысокий, очень ловкий официант-валлонец в кительке с погонами. На его худом, подвижном лице выделялись черные глаза, живые, словно прячущие забавную тайну, и длинный нос. Мы разговорились, и — я заметил шутя, что форма у него прямо-таки генеральская.
— О мсье! — официант вдруг захлебнулся смехом. — О мсье, да, представьте себе, я ведь генерал! Да, меня так и звали — генерал Мими.
— Кто?
— Мои товарищи, на войне…
Мне не сразу удалось вообразить себе его щуплую фигуру в настоящей военной форме.
— Да, мсье, на войне.
Он посмеивался, лукаво шмыгая носом, как будто хотел свести разговор к шутке.
— А почему прозвали? Я был тогда глуп, мсье. Я постоянно сочинял разные планы, как уничтожить всех немцев тут, в Брюсселе. Планы один нелепее другого. И просился в бой. А меня держали… Ну, про меня не стоит, мсье. У меня были товарищи в типографии. Они смешную устроили шутку.
Он рассказывал, не переставая фыркать, словно и в самом деле все было только смешно и не было ни смертельной опасности, ни бессонных ночей в тесном подвале, где работала партизанская типография.
— Намюрские ворота знаете? На бульварах, рядом с дворцом Эгмонта, вы же были там. Трамвайная остановка и киоск, помните? Там и тогда был киоск. Ох, и отмочили же мы! Вы видели, как развозят газету «Ле суар»? Машина не останавливается у киоска, она только замедляет ход, служащий соскакивает и прямо бросает тюк газетчику. Ну, и тогда так же делали… Потеха! Вы послушайте — киоск открыт, публика уже выстроилась в очередь, ждет газету, подлетает машина… Точь-в-точь такая же машина, ребята раскрасили ее как нужно… Тюк сброшен, идет торговля, и вдруг у людей вот такие глаза! На фото самолет врезался в землю. А на нем свастика… Я вам разве не сказал, что это было в сорок четвертом? Ох, надорваться можно! Заголовок — сводка верховного командования германской армии, а внизу — слушайте! «Наши войска обманули противника, тихо, на цыпочках, оставили город Псков». Ну и все в таком роде. Пока немцы хватились, ребята киосков двадцать снабдили. И так быстро сварганили, что ни один, представьте, не попался.
— Не вы ли бросали связки? — спросил я Мишеля.
— Нет, мсье, о, нет! Почему вы решили? Нет. Мне не удалось совершить ничего замечательного. — И он коротко вздохнул. — Нет, генерал Мими не вошел в историю, мсье. Врать не стану.
Потом его лицо на мгновение подернулось грустью.
— Одного все-таки зря схватили, после операции с газетой. Через несколько месяцев расстреляли, мерзавцы!
Он встрепенулся.
— Его бы никогда не поймали! Никогда, мсье! Он почему-то решил сохранить клише. Держал у себя, вместо того чтобы утопить. Пришли с обыском…
— Больше никого не схватили?
— Натурально нет. Он никого не выдал.
Мишель отбежал к другому столу — его позвал запоздавший посетитель.
— Вы знаете, мсье, авеню Луизы? — заговорил он, вернувшись. — Там был дом… Тоже смешная история. Это был, конечно, самый лучший дом, гестаповцы устроились с удобствами. Сидят там гитлеровские чины, рыщут по бумагам, кого бы еще посадить, и вдруг — фьюик! Вместо всего этого — воронка! Удивительно точное попадание. А знаете кто? Бельгийский летчик. Так врезать мог только бельгийский летчик, правда? Он же сам брюсселец, быстро нашел по адресу… Конечно, наши на земле ему помогали, сигналили, указывали цель. Знаете, он многих спас. Сколько там бумаг, всяких досье погребено. Вот это герой, верно? А вы спрашиваете, мсье, что я сделал. Я же говорю — смешил командиров, сочинял сумасшедшие планы…
— И больше ничего?
— Пустяки, мсье! Не заслуживает внимания. Я вижу, вы собираетесь записывать про меня… Напрасно, мсье! Что я сделал такого! Знаете, что мне сказал командир, когда мы прощались? Он сказал: «Ты служил честно, Мишель. Ты здорово нас смешил». Это вы можете записать, мсье.
И тут Мишель рассмеялся громко, очень искренне, от всей души.
Где-то он теперь?
Я вошел, поднялся в ресторан: в зале ничего не изменилось, та же темная, старая мебель. Старое теперь в моде. Тот же метрдотель командовал официантами.
К моему удивлению, он не забыл меня.
— О, мсье из Советского Союза! Вы опять приехали! Значит, вам понравился Брюссель, верно?
Я спросил, где «генерал Мими».
— Его уволили, мсье, — сказал метрдотель тихо и отвел меня в сторону.
Оказывается, Мими нагрубил клиенту из Западной Германии, развязному верзиле с повадками оккупанта. Хозяину это не понравилось. Он придерживается правила, что клиент всегда прав.
Бедный «генерал Мими»!
Признаться, у меня была фантастическая надежда, — вдруг Мими расскажет мне про Анатолия! Но я требовал слишком многого от своевольного случая.
Вокруг Брюсселя
Брюссель не только столица Бельгии. Он еще и главный город Брабанта.
Что такое Брабант? Мало сказать — одна из провинций страны. Это сердце Бельгии, область, где с давних пор объединились, смешались фламандцы и валлонцы.
В Брабанте немало семей, где старшие разных национальностей, а дети с одинаковой легкостью говорят на двух языках.
В истории Брабант выступал как объединитель страны. И недаром национальный гимн Бельгии называется «Брабансонн».
Подобно тому, как природа нашего Подмосковья считается типично русской, так и равнина Брабанта слывет истинно бельгийской. Равнина слегка волнистая, с редкими рощицами, с частыми селениями и городками, которые точно бусы нанизаны на мелкую сетку дорог.
Нетрудно уловить, каково главное занятие брабантских крестьян, они кормят Брюссель овощами. Широко раскинулись поля брюссельской капусты. У нас она мало известна. Десяток, а то и два маленьких продолговатых кочешков располагаются на жестком стебле, высотой приблизительно в метр. Культура неприхотливая, стойкая, хорошо переносит морозы. А кочешки, сваренные в соленой воде, политые маслом, нежные, вкусные. Настоящий бельгийский обед не обойдется без гарнира из брюссельской капусты.
Есть еще одна специальность у здешних огородников: они выращивают салатный цикорий.
Салат из цикория? Мы часто пьем кофе с добавкой молотого корня этого растения. А для салата не годятся ни корень, ни листья. На второй год жизни цикорий дает странный отросток, как бы второй стебель — белый и очень сочный. Его чуть горьковатый вкус нравится не одним бельгийцам. Салатный цикорий вывозится в соседние страны.
Люди давно замечали эти отростки, но не видели в них проку, пока один бельгийский агроном в прошлом веке не пригляделся, не распробовал как следует…
Фермы то гуще, то реже, но нигде они не исчезают из вида. Тесно в Брабанте. Коровы, свиньи круглый год в скотных дворах — гулять на приволье им негде.
Вереницы машин мчатся по утрам в Брюссель, нагруженные фермерской продукцией. Попадаются и телеги, автомобиль еще не вытеснил лошадь. Нет расчета расставаться с ней — с крепкой, коренастой, сильной лошадкой брабантской породы. Вот собачьих упряжек, полстолетия назад весьма обычных здесь, уже не встретишь.
Как живется крестьянину?
— Тоже хватает забот, — сказал мне мой спутник в автобусе, мужчина средних лет в брезентовой куртке. — Долги, вот что угнетает. Во-первых, земля не моя, графская. Стало быть, плати за аренду. А машины? Сейчас без них нельзя. У кого нет средств на машину, тому один выход — продать хозяйство и перебираться в город. А сколько всего нужно? Вот я расплатился за овощерезку, теперь транспортер нужен новый, к кормушкам. Покупаешь, понятно, в рассрочку. И вечно ты должен. Конца не видно…
Чтобы поддержать разговор, я понимающе кивнул и сказал, что на собственной земле, конечно, легче.
— Это верно. Вот если бы еще я сам цену мог назначить. Скачут цены. Никогда не угадаешь, сколько тебе заплатят за твой товар. А то цикорий вдруг не идет, подавай сахарную свеклу! Или требуют свинину, а масло брать не хотят. Выходит — ты должен все иметь, на любой спрос. Мелкий фермер, он, понятно, не выдерживает. Да, многие разоряются.
— А у вас как дела? — спросил я.
— О себе что говорить, — и он как-то опасливо поежился. — Сегодня так, а завтра иначе…
— Ты прав, Мишель, — подала голос пожилая женщина в платке. — И хвастать нехорошо и жаловаться тоже. Грешно, вот почему.
Остановки у нашего автобуса частые. Кончается городская улица, дальше почти сплошная улица ферм. Через пять километров — снова город.
Четверти часа не проедешь, чтобы не возник на пути древний замок или монастырь.
Полдня провел я в Ватерлоо. Да, в том самом! До сих пор стоит ферма, в которой Наполеон провел ночь перед битвой.
Гвардейцы в высоких шапках несут караул, охраняют императора. В комнате с камином Наполеон, ссутулившись, изучает карту. Он сознает превосходство английской армии. Маршалы не решаются подойти к нему… Восковые фигуры выразительны, они позволяют ощутить переломный момент европейской истории.
Много раз топтали эту землю завоеватели. Но об этом забываешь, когда видишь уютные фермы Брабанта, его мирные поля, его рощи и яблоневые сады.
Певец Брабанта
Поэт Морис Карэм, обращаясь к родному краю, говорит:
Любя тебя, я рощей становлюсь, Одной из тех, что на ветру звенят. Вовек не одинок, — ведь я с тобой шепчусь И только тем богат, что слышу от тебя.Карэму семьдесят лет. Широкие плечи фермера, открытое лицо, смуглое от стойкого загара… Он пережил много литературных школ и течений, часто заумных, враждебных разуму. Они отшумели и исчезли, Карэм словно и не заметил их. Он прислушивается к своему Брабанту — к его деревьям и цветам, к его ручьям, к его песням.
Дом Карэма — с виду сельский. Приветливый, выкрашенный в белое, с мезонином, где поэт устроил себе кабинет. На стенах лубочные картинки — Спящая Красавица, Война мышей и лягушек.
Показывая их, он говорит с мягкой улыбкой:
— Мое детство.
Он развертывает на столе Гусиную игру. Надо бросить кость, передвинуть птицу, вырезанную из картона.
— Храбрый гусь отправился путешествовать. Видите, тут его ждет лиса, там повар с ножом!
И это частица детства, но особенно важная.
— Ты помнишь, Каприн? — Он зовет в свидетели свою жену. — Господин педагог забавляется, а?
Полвека назад сельский учитель Карэм обещал шутя своей невесте Каприн, что он напишет поэму про Гусиную игру, — сколько приключений у гуся, столько и глав. Так начался Карэм-поэт. Тоненькая книжка в серой невзрачной обложке привела многих в недоумение. Подобает ли учителю сочинять вирши, да еще на столь легкомысленную тему? Добро бы еще что-нибудь божественное…
Стихи перекликались с шуточными народными песнями. Ученикам Карэма книжка понравилась.
Каждое лето Морис Карэм странствует по Брабанту. В рюкзаке — бутерброды, тетрадка, три дождевых плаща, из них легко сделать палатку для ночлега в лесу. До чего здорово проснуться от стука дятла! Ходить надо, понятно, по проселкам, по тропам. Шоссейные дороги невозможны, — фу, пропасть, сколько развелось машин! Пешеход нынче редкость.
— Меня задержали один раз. Помнишь, Каприн? Тот полицейский был уверен, что поймал беглого убийцу.
Каприн там не было, но все равно — она его память, его помощница во всем.
Домой он возвращается с ворохом записей. Крупинки народного творчества, бытовые сценки, наблюдения над природой… И с новыми силами за письменный стол.
Весна Брабанта — «и зимой в сердце». Поэт умеет смотреть «из тысяч окон его селений».
Нежно любят Карэма дети. Я живо представляю поэта в его саду, в кольце ребят. Он волшебник. Ласточки у него учатся арифметике, считая капельки росы на паутинке. Три отчаянных мышонка сели в игрушечный автомобиль и ну гоняться в нем по городу! А вот бутылочка чернил — такая обычная на первый взгляд! Откройте ее — и из нее выйдут король и королева, раб с цепью на шее, выплывет пароход и пойдет бродить по морям, — надо только выманить все это пером!
Когда Карэма называют детским поэтом, он весело возмущается. Он никогда не писал специально для них. Да, его стихи издают для детей часто. Так уж получилось. И он притворно удивляется — не пойму, дескать, отчего!
Поэзия Карэма неотделима от бельгийской сказки, легенды. Вон при свете луны, за деревьями, несется громадный белый конь! Появляется он очень редко, увидеть его — большая удача. Ведь это конь Баяр, носивший на себе витязя Роланда.
Могучий Роланд — герой французского эпоса. Сказы о нем сложены в средние века. Отлично служил рыцарю Баяр. Наделенный необыкновенным для животного умом, он мог даже говорить. Во многих легендах Баяр действует самостоятельно. Дело в том, что алчные, завистливые короли и вельможи наперебой старались заполучить его себе. Не раз Баяр попадал в плен, ломал загородки и убегал, заслышав рог хозяина.
В конюшне графа Брабантского Баяр смирился. Он полюбил детей графа. И когда замок осадили враги, Баяр посадил себе на спину четырех мальчуганов, перемахнул через стену, а затем через реку Маас.
По легендам можно проследить маршрут чудо-коня.
Карэму часто показывали ложбинки, впадины необычного вида, словно вырытые копытом.
Фантазия фламандцев и валлонов населила Брабант великанами. Один из них — обжора Гаргантюа. Говорят, исполин съедает зараз целого быка, а запивает водой Мааса — входит в реку и черпает своими огромными горстями. Однажды, по рассеянности, проглотил лодку с людьми…
Еще в шестнадцатом столетии легенда вдохновила французского писателя — вольнодумца Рабле. Его Гаргантюа — добродушный жизнелюбец, шутник, враг церковников и педантов. Он уносит из Парижа соборные колокола, чтобы повесить на шею своей кобыле. С мечтой о доброй силе, перевоспитывающей мир, писал Рабле свой всемирно известный роман «Гаргантюа и Пантагрюэль».
Карэм по-своему развивает идеи великих гуманистов прошлого. В его стихах-сказках силен по-настоящему тот, кто и других наделяет силой.
Трогательный, бедный, босой король, придуманный Карэмом, обладает одним чудесным даром — каждый, к кому он прикасается, сам становится королем.
Очень часто поэт вводит читателя в свой дом. «Белый дом» — так называется одна из книг Карэма. Он зовет отца, мать, сестру — пусть войдут, чтобы освятить жилище своей добротой. Пусть мать сделает, по обычаю, ножом на хлебе знак креста для защиты от невзгод…
Поэт слышит, как в белом доме, в ранний утренний час, в тишине, бьется сердце матери. «Я был в тебе дрожащей, прозрачной капелькой», — говорит он. Теперь он благодарит мать за то, что она дала ему столько деревьев, птиц, звезд, «столько слов для песни, столько сердец для дружбы, столько девушек, слушающих певца, столько мужских рук — для пожатия».
В свой дом поэт зовет всех, со всех концов света: «Идите все ко мне, и ненависть умрет».
Хозяйка в этом солнечном доме — Каприн, большая любовь поэта. «Ты для меня мир, в котором я не нахожу границ», — говорит ей поэт. Он расстилает перед любимой скатерть полей, предлагает кусочек холма в цветах, чашу озера с водой, которая для любимой станет вином.
Сколько доброты, нежности в этом седом человеке с крупным крестьянским лицом, с большими крепкими руками неутомимого работника!
Он долго не отпускает гостя.
— Каприн, где письмо? Мне сообщил издатель…
В голубых глазах — искорка удивления. Нет, он и прежде не жаловался на отсутствие читателей, но такого взлета популярности, как теперь, он не ожидал.
— У вас тоже читают меня. Вы знаете, да? Один русский мальчик прислал мне свои рисунки.
Секрет успеха Карэма в том, что он сумел вместить в стены своего дома, в свой мир очень-очень много.
Он видит: еще не умерла ненависть, еще бродят по странам, по городам и селениям беды. «В доме бедняка все продано — старый шкаф, собака, даже конура и цепь, только горе никто не хотел купить». От всей души поэт требует для человека счастья, велит ему быть королем жизни, торжествовать над неправдой.
Отец бельгийских городов
Теперь на север, во Фландрию…
Есть города, возникающие перед путником, как видение былого, как сказка. Таков Суздаль, вдруг блеснувший мне своими несчетными маковками за волной колхозной нивы. Таков и Брюгге на плоской фламандской равнине.
Я вышел из автобуса у набережной Зеркал. Стенки канала почти сливаются с суровыми серыми зданиями — они словно вырастают из воды. Град будто затоплен: торчат лишь верхушки его, высокие ступенчатые фронтоны с датами из обрубков железа. Тысяча пятьсот… Тысяча шестьсот… Из ниши смотрит богоматерь, одетая в шелк, в кружева. Чьи-то руки смастерили платьице совсем недавно, оно до странности новенькое среди камней прошлого.
Вода течет медленно, ее поглощает черная тень моста, «изогнувшего свою печаль», как сказал поэт Морис Карэм. Отражаясь в канале, ломается зубчатая стена домов, даты там не прочесть, город там теряет возраст. Не сотворен ли он прихотью подводного владыки!
Вхожу в пасмурный, узкий переулок. За стеклом раскрытая книга в кожаном переплете, на ней очки. Мне вообразился седой алхимик, только что оставивший чтение. Рядом — еще очки. Не верится, что это всего-навсего витрина оптика…
Внезапно, откуда-то с неба, гулко падает удар колокола. Еще удар… Звоны колокола не гремят набатно, их голоса певуче сливаются в мелодию. Музыка донеслась громче, когда переулок вывел меня на площадь, к звоннице.
Я уже знаю, что построена она пятьсот лет назад и венчает торговые ряды. Да, светская колокольня! Поэтому отсутствие креста не должно удивлять.
Однажды на звонницу поднялся молодой американец Лонгфелло. Потом, вспоминая час, проведенный над крышами, над каналами, на солоноватом ветру, он написал одно из лучших своих стихотворений.
Через дамбы и лагуны Звон набата звал народ, Я — Роланд! Вперед, фламандцы! За свободу в бой, вперед!И сейчас раздается бас Роланда, такой же сильный, как сотни лет назад.
Я поднялся на звонницу. Городские шумы внизу затихали. Наконец мы очутились в сводчатом помещении. Я увидел инструмент, похожий на фисгармонию. От него куда-то ввысь тянулись стальные нити.
Музыкант сел и развернул ноты. Затем он надел на мизинец каждой руки широкое, черное, толстое кольцо из кожи и стал нажимать на рычаги-клавиши, бить по ним. Первыми отозвались маленькие колокола. Они загомонили, как стайка разбуженных ребят. Вмешались средние. И вдруг на нас опустился, перекрыл всех низкий, грозный бас. Карильон проснулся, загремел, заполонил город.
Набор колоколов — это и есть карильон. Брюгге завидует Генту — там сорок семь колоколов. Здесь немного меньше. Колоколами перекликаются, соревнуются десятки бельгийских городов. Нет в мире музыки более грандиозной!
Звоны Брюгге воскрешают передо мной картины былого…
В Большом рынке, на Серебряной улице, на Монетной, на Шерстяной суетится торговый люд, а в мастерских стучат ткацкие станки, грохочут кузницы. Колокола по утрам зовут на работу, а вечером, прежде чем ударить шабаш, вызванивают предупреждение, чтобы матери не забыли загнать домой детей. Пока не хлынула толпа мастеровых.
У причалов парусники из Англии, из немецких портов, шведских и из далекой Руси. Тут сгружают тюки шерсти, там укладывают в просмоленных трюмах знаменитое брюггское сукно. Запахи матросских таверн, бубен бродячего скомороха, пение монахов, выпрашивающих мзду…
Однако как могли явиться сюда корабли?
География менялась и здесь, хоть и не так сильно, как в Голландии. К городу тянулся длинный залив Звин — морская дорога, вскормившая Брюгге. От него расходились пути по суше — во Францию, в Италию, к немцам, к чехам.
Из могучих европейских городов Брюгге — один из самых ранних. Не случайно он нанес первый сильный удар по феодалам. Тогда были живы два друга, косоглазый, щуплый, едко остроумный Питер де Конинк и медлительный, спокойный Ян Брейдель — ныне бронзовые, на одном постаменте. Первый — старшина ткацкой гильдии, второй — глава мясников. Конинк зажигает горожан пламенными речами, Брейдель спокойно вооружает, формирует отряды. На бой против феодалов встают, вслед за Брюгге, Гент, Ипр, Куртрэ. Главная сила в армии народа — «синие ногти». Такова кличка мастеровых, делавших цветные сукна. И вот колокола славят победу. Грубые, презираемые знатью «синие ногти» опускают на каменный пол храма редкостный трофей — семьсот золотых шпор, снятых с поверженного рыцарства.
Полвека спустя, в 1351 году, король Франции встречает у себя граждан Брюгге как гостей. Правда, они в свите графа Фландрского. Хоть чем-нибудь надо унизить простолюдинов… Поставить им голые скамьи! Не класть подушек! Молча сбрасывают гильдейские старшины свои богатые, расшитые меховые плащи и небрежно садятся.
Пир окончен, гости встают. Смятые плащи остались лежать, и мажордом громко окликает брюжан. Господа, верно, забыли… «Имею честь заявить, — отчеканивает Эртике, бургомистр Брюгге, — у нас тоже нет обыкновения уносить с собой подушки».
Даже королю пришлось проглотить урок вежливости, преподанный могучим городом Брюгге.
А богатства Брюгге… Жанна Французская, оглядев разодетых в бархат и драгоценности жен и дочерей купцов, восклицает: «Я думала, я одна здесь королева!»
Но надвигалась беда. Кораблям все труднее войти в Брюгге из-за песчаных отмелей. Все чаще товар переваливают на плоскодонки. Решено прорыть канал от Звина к реке Шельде. В начале следующего века он закончен. Бури разрушают его, лопаты землекопов лишь ненадолго смогут отсрочить падение Брюгге.
Лансело Блондель — художник, скульптор, архитектор и инженер, предложит другой канал, от Брюгге прямо к открытому морю. Проект, опередивший свое время на три с половиной столетия!
Сегодня по каналу Блонделя, осуществленному на заре нашего века, идут самоходные баржи. Брюгге снова порт, он принимает металлы и уголь, дает ткани, машины, химические вещества.
Но этого не замечаешь здесь, в старом центре города, в заповеднике прошлого. Строить тут запрещено. И ничто не мешает приезжему любоваться стариной, слушать колокола и вызывать образы давнего Брюгге — отца бельгийских городов.
На родине Уленшпигеля
«В городе Дамме, во Фландрии, в ясный майский день, когда распускались белые цветы боярышника, родился Уленшпигель, сын Клааса».
Мне сдается, когда Шарль де Костер писал эти строки, в небе звучал карильон, — так раздольно, таким эпическим запевом начата книга.
Дамме теперь почти слился с Брюгге. Туристы, приезжающие в Дамме, шлют во все концы света открытки с тихим каналом и старинной ветрянкой. Деталь пейзажа во Фландрии редкая, так как здесь повыше над уровнем моря, чем в Голландии, и нет надобности все время и повсюду качать, перекачивать воду. Ветрянка мелет корм для голубей Брюгге — их там несметные полчища. Держать их город обязался еще во времена испанские.
Однако главная достопримечательность Дамме — загадочная плита на кладбище.
Имя, если и было, то стерлось. Можно различить лишь изображение совы и зеркала.
Уленшпигель — так звучит сочетание этих слов по-фламандски. Могила великого геза? Но ведь и в Мелльне, на германской земле Шлезвиг, есть такой камень…
Был ли Уленшпигель?
Сова — птица мудрости, зеркало — символ комедии. Как знать, быть может, Уленшпигель — псевдоним бродячего актера, будоражившего людей дерзкими речами!
Нам ничего не известно о доподлинном Тиле. Но Тиль-легенда появился давно. Во Фландрии, при испанском владычестве, пользовалась успехом лубочная книжка «Земная жизнь Тиля Уленшпигеля». Автор ее неизвестен. За чтение этой книжки, опасной для властей, наказывали кнутом и ссылкой.
Существовали и другие Тили — герои безымянных сочинений, печатавшихся в Амстердаме, в Страсбурге.
Историки литературы нашли таких же озорных подмастерьев в народных лубках Франции, Австрии, Польши, Чехии. Узнали черты, родственные Уленшпигелю, в русском Ваньке Каине. Тоже смутьян, насмешник. Издевался над власть имущими, ловко выскальзывал из царских застенков и тюрем.
Недовольная городская голытьба мечтала о своем вожаке. Восстания выдвигали Тилей, память народа удерживала их, фантазия возвышала. Но только под пером де Костера Тиль Уленшпигель стал героем большой литературы, получил всемирную славу.
Де Костер — фламандец. Его предки в XVI веке были на стороне восстания, он упоминает их в своей книге. Шарль вырос среди дедовских книг в кожаных переплетах, с детства слушал семейные предания. Бурное прошлое Бельгии увлекло его. Он изучает его в университете, затем работает в исторических архивах.
Хрупкий, мечтательный, бледный от бессонных ночей за письменным столом, — таким рисуется нам молодой де Костер. Он еще не знает своего Тиля, но он на пути к нему…
Книги и манускрипты не смогли удовлетворить де Костера. Понадобился контакт с бытом народа, с живыми сказителями, песенниками. И начались скитания.
Бродя по деревням, застенчивый брюсселец в стоптанных башмаках слушает, записывает…
Ему рассказывают про Гамбринуса — первого пивовара. Был Гамбринус подмастерьем у стеклодува, жаждал избавиться от тяжкого труда, от бедности и продал душу дьяволу. Нечистый научил его варить пиво. Только не сразу привыкли люди к горькому напитку. И, чтобы приохотить их, залез Гамбринус на колокольню и начал вызванивать, да так, что весь город пустился в пляс. Звонил Гамбринус три дня, утомленные горожане до дна осушили бочки с пивом, а когда явился за душой пивовара посланец дьявола, то и его заставил Гамбринус плясать до упаду. Измученный черт кинулся восвояси, забыв про душу…
Часто встречается в легендах Фландрии Смете Смей — отчаянный кузнец. Он тоже перехитрил самого дьявола. Де Костера поражает любимый народом образ смелого, находчивого, остроумного ремесленника или крестьянина.
Народ не унывает, народ верит в свои силы. Де Костер снова и снова убеждается в этом.
Очарованный брюсселец бродит среди гомона кермессы — фламандской ярмарки, оглушающей поросячьим визгом, бренчаньем пивных кружек, криками балаганных зазывал. На кермессах устраивают соревнования обжор — «три раза по семь». Таково условие — съесть три обеда по семь блюд. Вот где писатель мог встретить своего чревоугодника Ламме!
В Брюгге де Костер побывал, верно, на каждом из восьмидесяти двух мостов. Город всюду нашептывает легенды. У круглой крепостной башни, на зеркале «озера любви», перед странником оживала Минна, дочь главаря пиратов. Минна бежала из отчего дома к возлюбленному, кинулась вплавь через озеро и погибла.
Минна такая же верная, как Неле…
Но пока еще нет Неле — подруги Уленшпигеля. Не обрисовался и сам великий гез. Нет и Ламме Гоодзака.
В книге, выпущенной де Костером в 1858 году, фламандские легенды и предания, им записанные и обработанные. Главная его книга выйдет через девять лет.
Чтобы создать ее — «Легенду о Тиле Уленшпигеле»— писателю нужно отобрать самое лучшее, мудрое, прекрасное из народного творчества, самые яркие эпизоды революции.
Окиньте мысленно взглядом широчайший исторический фон повествования — восстание гезов, его победы и жертвы. Мучителей испанцев во главе с герцогом Альбой, злых святош-инквизиторов. Вспомните, как нарастает народный гнев против злодеев. Враги уничтожают близких Уленшпигеля, но он сам неуловим, недосягаем для палачей. В нем — бессмертие народа.
Беззаветно любит Тиля нежная, ласковая Неле. Всюду следует за ним Ламме, хоть и жалуется порой на лишения. Нам симпатичен этот добродушный толстяк, любитель колбас, окороков, пива — он полон истинно фламандского грубоватого жизнелюбия. Много друзей, соратников у Тиля. На гребне войны против захватчиков, против мракобесов высится фигура Тиля Уленшпигеля — национального витязя.
Гигантский труд писателя-патриота, многокрасочная эпопея жизни борющейся Фландрии!
Нам странно читать в биографии де Костера, что автор этой замечательной книги умер в нищете, не дождавшись признания современников. Книга не привлекла большого числа читателей. Критики отнеслись к ней равнодушно.
Тиль — дитя восстания. Возродись он в начале века — он поднялся бы на баррикады 1830 года, помогал бы сбрасывать с фасадов гербы голландского королевства. Был бы с теми, кто провозгласил независимость Бельгии.
В 1867 году, когда вышла книга де Костера, в Европе сравнительно тихо. Давно разобраны, забыты баррикады революции, национальных восстаний.
Помните фразу Тиля: «пепел Клааса стучит в мое сердце»? Клааса, его отца, сожженного на костре. В Бельгии шестидесятых годов прошлого века было мало сердец, способных отозваться на это. На отчетливый призыв к борьбе, которым проникнута «Легенда об Уленшпигеле».
Правда, в 1868 году в Брюсселе состоялся конгресс I Интернационала. Бельгийские шахтеры роптали на притеснения хозяев, жандармы усмиряли недовольство штыками и пулями.
Карл Маркс писал:
«Существует лишь одна страна в цивилизованном мире, где каждую стачку немедленно и рьяно превращают в предлог для официального избиения рабочего класса. Эта обетованная страна — Бельгия, образцовое государство континентального конституционализма, уютный, хорошо отгороженный маленький рай помещиков, капиталистов и попов».
Книга де Костера направлена против всякого угнетения. Но рабочее движение в ту пору было еще в зародыше, в становлении. Шахтеры тогда книг не читали. И уж кто-кто, а попы усердно постарались не допустить «Легенду» к простым людям.
Не вовремя явился вожак гезов…
Его ввели в строй в нашем веке бойцы-антифашисты. Имя Тиля Уленшпигеля носили в годы оккупации отряды Сопротивления в Бельгии и в Голландии.
Прогулка с беспощадным спутником
У Клода насмешливые глаза, жесткие седеющие волосы. Движения резкие, упрямые.
С Анатолием он, увы, не встречался. А слышать о нем приходилось. Да, бежал из оккупированной Голландии, воевал тут, неподалеку, в отряде фламандских партизан. Но недолго…
— Произошла занятная история. Вы не поверите, такое случается обычно только в фильмах.
Пришлось упрашивать Клода. Он отмалчивался, чтобы помучить меня. Наконец уступил.
— Анатоль, — начал он, — стал шахтером. Только он мог решиться…
Но ведь шахты были в руках гитлеровцев. Анатолий, следовательно, работал у них. И добровольно!
— Партизаны перехватили возле Ауденарде грузовик. Боши везли русских пленных в провинцию Лимбург, копать уголь. Все обошлось бы отлично, если бы не подоспели каратели…
Фашистов было много. Они окружили в жиденькой рощице кучку партизан и русских. Анатолий вырвался. С ним был один пленный, раненный во время перестрелки. Он вскоре умер, Анатолий снял с него куртку, обувь, надел все на себя. В тот же день его поймали. Он сказал, что был в машине, с конвойным, что партизаны убили солдата и шофера, повели всех русских в рощу. Назвался именем погибшего…
— Словом, еще раз обманул бошей. Знали бы они, кто попался, живым бы не оставили. Сослали его на шахту. А оттуда сбежать Анатолию труда не составляло. Такому человеку, как он… Там он быстро связался с кем нужно. Я слыхал, его переправили в Арденны.
Это все, что Клод мог сообщить про Анатолия.
Мы идем по набережной. Легкий туман клубится над каналом. Тень горбатого мостика чернеет в воде.
Клод спрашивает, как мне понравился Брюгге. Я шумно восхищаюсь. Город-музей! Город Уленшпигеля!
— Уленшпигель? Не очень-то он в почете…
Я слушаю рассеянно. Брюгге покоряет меня. Над входами даты, внушающие уважение, — тысяча пятьсот, тысяча шестьсот…
— Хорош город-музей? — улыбается Клод. — А вы жили когда-нибудь в музее?
— Нет.
— А я вот живу…
Меня манит каждая улочка. Рука поминутно извлекает из кармана путеводитель. Эти низкие, невзрачные зданьица — тоже достопримечательность, им полтысячи лет! Возведены они, оказывается, купцами и графами по обету, для бедных.
— Заметьте, — слышу я голос Клода, — тут и теперь та же публика обитает. Грузчики, ломовые извозчики, уборщики мусора.
Мы на главной улице. Пылают, раскачиваясь на проводах, ангелы, сконструированные из электрических лампочек. И здесь дома-ветераны, только чище, выше. В нишах застыли гипсовые святые, рыцари.
— Вы читали «Туманы Брюгге»?
Нет, он не позволяет мне просто глазеть и уноситься в прошлое, мой беспощадный спутник. Он напомнил мне книгу, которая наделала здесь немало шума. Да, я читал ее. Роман Даниеля Жиллеса, виднейшего бельгийского прозаика, стоит у меня дома на полочке с любимыми книгами.
— Не зайти ли к ван Беверам? — смеется Клод. — Их тут много.
Это персонажи романа. В их богатом особняке исполинские гардеробы с медными накладками, монументальные ночные столики, старинное серебро. Но в комнатах холодно из-за мелочной, нелепой экономии. Ведь на людях не жаль проиграть в рулетку сотню тысяч франков, — пусть не думают, что ван Беверы обеднели! Деньги взяты обманом, из кошелька фермера, рабочего, но это секреты фирмы, до поры до времени скрытые.
В особняке томится хорошая, душевная молодая женщина. Она вышла за ван Бевера-младшего и надеялась вырвать мужа из его мирка. Напрасно! Даниеле надо спасать себя, бросить никчемного, умственно убогого Ги. Она пошла против ван Беверов. Но такие жестоко мстят тем, кто не подчиняется их уставу. На пуховых перинах мягко спать, но они могут и задушить. Даниела должна одолеть множество препятствий. Черный фронт ханжества способен затравить, лишить куска хлеба…
Мой спутник добился своего — я уже не читаю даты, а вглядываюсь в прохожих. Та, в синей стеганой курточке из нейлона, может быть, Даниела? Но таких курток десятки в неяркой, неторопливой толпе.
— Вот вы говорите — город Уленшпигеля, — продолжает Клод. — А вы полюбопытствуйте, как с ним поступили… Ну, зайдите хотя бы в лавку сувениров, попросите что-нибудь, связанное с Уленшпигелем!
Я так и сделал.
Потомки инквизиторов
— Уленшпигель? Кто этот господин?
Лавочница смотрела на меня с искренним недоумением. Да, она фламандка. Но, к сожалению, не припомнит…
— Карл! Иди сюда!
Из-за перегородки вышел лысоватый мужчина.
— Уленшпигель? — он задвигал бровями. — Да, да, слышал. Есть книга… Но я не читал.
И это здесь, на родине Тиля! Не хотелось верить…
— Видите, каков город-музей! — говорит Клод, выходя со мной на улицу.
Оказывается, потомки инквизиторов не простили великого геза. Греховную, безбожную книгу де Костера не допускают в школьные библиотеки. И не рекомендуют читать верующим.
— А церковь сильна. Особенно здесь, ведь Брюгге оплот католичества. У нас же тут святая реликвия…
Рыцарь Тьерри — участник крестового похода, воевавший в Палестине, привез в Брюгге сосуд с «кровью христовой». Для сохранения дара построили часовню. И вот уже восьмое столетие в годовщину события по городу движется многолюдная, пышная процессия. Гарцуют латники, шагают лучники, копьеносцы. Певчие поют псалмы. На праздник стекаются паломники со всей Бельгии и из других католических стран. Тысячи туристов любуются ярким зрелищем.
— Доход для церкви, — заключает Клод, — вы сами понимаете, не маленький. А с бегинажем вы знакомы? Тогда идемте!
Стены обители отражаются в зеркальце озерной воды. Дорога тянется по дамбе, к широко распахнутым воротам. Они не запираются ни днем, ни ночью.
— Орден полумонашеский, — объясняет Клод. — Бегинка может в любое время покинуть келью, вернуться в город.
Однако что же это такое — бегинаж? Ловкий способ уловления душ, придуманный церковью еще в средние века. Принимают женщин, обычно одиноких, перенесших горе, потерявших мужа-кормильца, семью. Жить в келье постоянно необязательно. Требуется лишь не пропускать мессы и, пока находишься в стенах обители, повиноваться «старшей даме». Правила, стало быть, не очень стеснительные. А сулит бегинаж утешение, участие. В мире наживы каждый только за себя. А в бегинаже человек не один…
Есть еще немаловажная приманка: можно научиться ремеслу. В бегинаже мастерят знаменитые, так называемые брюссельские кружева. В теплые дни бегинки сидят во дворе.
Сейчас осень, спускаются сумерки. Окна келий светятся. Я вижу через окно распятие на стене и под ним чью-то склоненную голову…
— Перечислить вам все, что в Бельгии принадлежит церкви? — спрашивает Клод. — Пальцев на руках не хватит.
Католические школы — их половина из общего количества. Впрочем, и светские не свободны от преподавания закона божьего, от влияния дотошных кюре. Дальше — католические ясли, детские очаги. Католические летние лагеря для ребят, для молодежи. Католические спортивные, музыкальные, хоровые и прочие общества. Руководимые церковью организации профсоюзные, политические…
— Какой-нибудь сельский кюре, с виду безобидный, скромный — грозная фигура в околотке. Посещать мессу он как будто не заставляет. Но ссориться с ним опасно. Служащему испортит карьеру, а врач, адвокат не досчитаются клиентов. Нужны фермеру деньги — он идет к кюре. И кюре может дать из церковной казны. И с небольшими процентами. Но с условием голосовать за кандидата социал-христианской партии.
У христианской партии больше всего мест в парламенте. Через нее церковь участвует в управлении страной. К тому же церковь владеет огромными богатствами. Монастырям принадлежат обширные земли.
— Конечно, не каждый, кто ходит в церковь, верующий. Но кюре, собственно, это не так уж волнует. Подчинение — вот что нужно!
Наши шаги звенят в тишине. Уже темно, улицы безлюдны. В домах, состарившихся еще при герцоге Альбе, мерцают голубые экраны телевизоров. Над крышами, в ночном небе, мягко сияет колокольня собора, подсвеченная прожекторами.
Я благодарен Клоду. Он помог мне разглядеть сегодняшнее в зданиях-экспонатах.
Ведь оторопелому приезжему, листающему путеводитель, легко может показаться, что от средневековья остались лишь мертвые камни.
Солнце Фландрии
Однако, не следует пренебрегать путеводителем. Утром он показал мне дорогу к солнцу Фландрии.
Так хочется мне назвать искусство Возрождения, родившееся здесь с чудесной, неожиданной силой. Его горячие, огневые краски, запылавшие пятьсот лет назад.
Первый шедевр живописцев вольного Брюгге, первая их победа, ошеломившая современников, — это триптих братьев ван Эйк — Яна и Губерта. Триптих, а говоря по-русски, складень из трех частей, сделанный для церковного алтаря в Генте. Да, храмовая живопись, но совершенно новая, революционная по стилю и по духу!
Надо увидеть ее, чтобы почувствовать, какой удар нанесли братья ван Эйк по средневековым канонам и представлениям. И сколько вызвали свободомыслия, дерзких сомнений в умах сограждан!
Ван Эйки закончили триптих в 1432 году. Дата в истории искусства выдающаяся, поворотная — ведь впервые со стен церкви глянули не обескровленные, высушенные католической схоластикой лики, а крепкие, полнотелые фламандцы и фламандки. Таковы Адам и Ева, коренастые, крепко сбитые, отнюдь не блещущие красотой, начисто лишенные каких-либо примет божественного происхождения. Столь же земными получились и богоматерь, святые, играющие на арфах ангелы. А фоном для них служит не «святая земля» — условная, декоративная, как ее привыкли изображать, а родная Фландрия с ее селениями, с ее небом, с ее деревьями и цветами. Говорят, ботаники определили десятки видов растений, выращенных на триптихе кистью художника.
Писать для церкви принято было с подобострастием, как бы на коленях — ван Эйки поднялись с колен. И любопытно, что этот бунт художников одержал победу. Анафемы не последовало. Церковь — быть может, под давлением влиятельных прихожан — одобрила работу живописцев.
Это значит, почва для нового была уже хорошо подготовлена.
В музее Брюгге меня поразило творение Яна ван Эйка — портрет его жены. С этой фламандкой в рогатом чепце, внимательной, чуть насмешливой и словно слушающей кого-то, можно беседовать в небольшом, безлюдном зимою зале, можно угадывать ее мысли, особенно, когда к вам доносятся звуки карильона…
Я вспомнил работу другого художника, современника ван Эйков — Гиерра ван ден Бутса. Перед его портретом рыцаря мне казалось, что я смотрю прямо в лицо эпохе, — живое, без всяких прикрас. Художник словно говорил: не думайте, что сей сеньор — существо какой-то особой, высшей породы! Нет, он такой же человек из плоти и крови, как его оруженосец, как его крестьяне.
Искусство, расцветшее у портовых причалов, у складов, набитых шерстью, у станков и плавильных печей, небывало проникновенно обратилось к человеку.
У Гуго ван дер Гуса, живописца из Гента, фантазия неуемная, иногда горячечная. Но она не отделялась от земли. Библейский сюжет под его кистью обретал черты и аромат народной сказки, часто страшной, но затаившей где-то озорную улыбку простоватого на вид рассказчика. Изгонял зловещую церковность и лирический Ганс Мемлинг — горожанин Брюгге, хотя и он вынужден был писать по заказам духовенства. Его «Мучение святой Урсулы» в том же музее должно было внушать трепет молящимся, а на самом деле хорошенькая фламандка у декоративного шатра, среди воинов, выглядит скорее как героиня народного театрального представления. Хоть и целится в нее из лука бородатый красавец в латах, бояться нечего, все кончится благополучно…
Так пробилась на полотна во всех сюжетах реальная жизнь фламандцев на берегах Звина. Однако шедевры северного Возрождения не везде пришлись по вкусу. Великий итальянец Микеланджело, например, упрекал северян в стремлении «объять необъятное». Что он хотел этим сказать? Очевидно, то, что формы и краски окружающей жизни бесконечно разнообразны и уловить их все, перенести на полотно — задача немыслимая.
В Италии в ту пору утвердился другой стиль. Северяне и южане не учились тогда друг у друга, две школы живописи возникли самостоятельно.
В чем же их различие?
Я вспоминаю собор святого Петра в Риме — главный чертог католичества. Он воздвигнут мастерами Возрождения, но как отчетлив заказ церкви! Гигантский храм подавляет верующих своим величием, тяжелой роскошью. В Италии особенно ощущаешь власть церкви — диктаторскую, давно укоренившуюся. А простой люд беднее, чем на севере. Тем сильнее действуют на воображение посулы райского блаженства, награды на том свете.
Рафаэль — величайший художник итальянского Возрождения — не повторяет изможденные, землистые лики средневековья. Но его мадонна отличается от северных ее сестер. Плоти в ней меньше, больше мечты. Не скажешь, что перед нами крестьянка с берегов Тибра. Нежные, лучезарные образы Рафаэля как бы парят в южном синем небе.
Слабее, чем на севере, проникал на полотна простонародный быт. В искусстве царило возвышенное, идеальное.
Сказалось и влияние классических образцов. За ними итальянцам не надо было далеко ходить — античные статуи появлялись из раскопок, в сущности, у самого порога художника. Фигуры богов и героев, вполне человеческие, но совершеннейших линий и пропорций. Творцы этих скульптур не снисходили до заурядной повседневности.
В Италии могуче развилась скульптура. Ваятели древности вдохновили Микеланджело. Помню, как во Флоренции я остановился, потрясенный, перед его серией «Рабы». Фигуры не были закончены, они словно вырываются на свободу из камня, сковавшего их. Разумеется, и здесь напрасно искать черты современников Микеланджело, тогдашних флорентийцев. Нет, это титаны, мифические силачи ломают темницы, рвут цепи.
Художники севера не имели античного наследства. А протест против феодальных оков назрел. И прошлое, дикое, варварское прошлое научить ничему не могло. Лишь слабые отсветы культуры классического Рима достигали «низких земель». Северянам пришлось пробивать новые пути в значительной мере самостоятельно.
Искусство Возрождения на севере проще, грубее, ближе к конкретной земле — Фландрии.
В Брюгге, в Генте сложились свои законы, свои вкусы. Города на диво богаты, столетняя война, разорившая Францию и Англию, обошла этот край стороной. Оба города входят в обширный лен графа Фландрского, но мало зависят от него. Простой горожанин хочет видеть на полотне самого себя, свое жилище, свой труд. Быт землепашца, рыбака, ремесленника, торговца не считается низким, недостойным искусства, а напротив, привлекает куда больше внимания, чем мифы далекого юга. Живется здесь лучше, чем на юге, фламандец не склонен считать земное существование лишь мучительной ступенью, ожиданием утех на небесах.
И вот художники, поэты севера с небывалой в Европе силой воспевают радости жизни, прелести родной природы.
Так сложилась школа живописи — нидерландская школа, основанная братьями ван Эйк. Она нашла последователей в Лейдене, среди голландцев, и в Турнэ — чисто французском по нравам, словом, распространилась на всех землях нынешней Бельгии и Голландии.
Впоследствии нидерландская школа распалась на две — голландскую и фламандскую.
С голландской мы уже знакомы. Мы видели, как в Голландии революция стерла всякую церковность, всякие храмовые фрески, как обыкновенная натура стала главным и даже исключительным предметом искусства.
Фландрия осталась графской, королевской, католической.
Однако она не исчерпала себя в искусстве. Она дала миру Рубенса и плеяду его учеников.
Мы встретимся с ними. Но не здесь, в Брюгге, а в более молодом центре ремесел, торговли, творчества — в Антверпене.
Моряк по имени Антверпен
Я люблю море, люблю гомон и флаги порта, поэтому в Антверпене мне многое близко.
Правда, море можно разглядеть разве что с колокольни здешней Нотр-Дам, да и то в ясную погоду. Причалы омывает река Шельда, не очень широкая. Но город пронизан морскими ветрами, то и дело несущими холод и дождь, тротуары его блестят, как палуба. Как в Роттердаме, в каменную толщу города врезаны резервуары, где суда находят убежища от изменчивой стихии приливов, вступающих в Шельду. В извилистых, узких улочках, ведущих от набережной, звенят и грохочут по вечерам матросские кабачки.
На набережной рядами, как в театре, поставлены скамейки. Впереди нет эстрады, не бывает никаких представлений — антверпенцы сидят лицом к Шельде, любуются океанскими лайнерами, проходящими мимо, гружеными лесовозами, самоходными баржами.
Шельда пересекает всю Бельгию. Река связана с сетью каналов, а через них — с Маасом, Мозелем, Рейном, Сеной, Луарой.
«Антверпен получил от бога Шельду, а все остальное от Шельды» — такую поговорку давным-давно пустили здешние гордецы.
Их легко представить себе — разодетых в бархат купцов и старшин, когда стоишь на здешней Большой площади, перед архитектурным колдовством Возрождения. Это их поэт ван ден Вондель писал, что Антверпен сияет в мире, как алмаз на перстне. Это они перехватили корабли у Брюгге, когда песок задушил Звин. Брюгге был портом европейского севера, Антверпен стал портом атлантическим.
Шестнадцатый век смотрит из окон гильдийских домов, украшенных эмблемами судоходства и торговли, век дальних морских походов и завоеваний. Америка уже открыта. Кортес вторгся в Мексику. На пристанях Антверпена громоздятся товары, которых почти не видел Брюгге: гвоздика, корица, ваниль и новинка, еще не вошедшая в обиход, — зерна какао. Гранильщик шлифует заморские алмазы. Ростовщик принимает в уплату долга диковинное фигурное золото ацтеков.
Чтобы почувствовать морскую душу Антверпена, надо побывать в замке Стеен. Он весь, как из сказки, небольшой, с точеными башенками и мостиком через ров. В его кладке — первые камни города, положенные еще в седьмом веке. Мореходы приплывали сюда в долбленых ладьях, а в замке, говорят, жил злой великан и собирал с приезжих тяжелую дань, пока его не одолел в бою витязь Брабо.
Замок служил щитом городу, он бывал и оплотом врагов. При испанцах тут была штаб-квартира инквизиции и самого герцога Альбы. Судовые пушки морских гезов посылали сюда свои ядра.
Внутри замка, в музее судоходства, кажется, и сейчас пахнут порохом и солью штормов узорчатые рули, резные клотики, бушприт с девой моря, отчаянно раскинувшей руки. Остатки кораблей, давно погибших на скалах, в бою, или источенных временем.
Затем вы долго будете бродить среди парусников. Есть модели, сделанные сотни лет назад и верно висевшие в часовнях, как жертвы святым патронам. Свет из готических окон играет на медных пушечках, на креплениях, на флаге, расшитом золотыми и серебряными нитями.
Лежат под стеклом немые участники походов — компасы и подзорные трубы времен Магеллана; лоция, напечатанная в 1686 году, с поэтичным заглавием — «Маленький морской светильник».
А вот разрисованная, филигранная лодка, даже на лопастях весел плещутся и скалят зубы фантастические водяные твари. В такой лодке возили Наполеона. Он весьма интересовался Антверпеном, хотел использовать его как «пистолет, направленный в сердце Англии».
По приказу Наполеона вырыли первые искусственные бассейны. Появились большие суда, и для них Антверпен был доступен только в часы прилива. В бассейнах эти суда спокойно стояли, запертые шлюзами, и по высокой воде уходили.
Теперь в порту много бассейнов. И к тому же есть шлюзы, регулирующие уровень самой Шельды.
Музей не чужд современности. Он показывает модели новейших судов, дает понятие о планах развития порта.
Кроме новых бассейнов, в плане новый шлюз, надо еще поднять уровень Шельды, чтобы дать дорогу огромным супертанкерам. На очереди — углубление бельгийских каналов для приема новых большегрузных самоходных барж.
Кстати сказать, работы подвигаются медленно. Притесняет их другая статья расхода в бюджете Бельгии, как мы знаем, очень крупная — на вооружение…
Хочется смотреть и из окон музея. Там — живое продолжение экспозиции. Холодная, встревоженная ветром Шельда, скаты пакгаузов, вереница судов, словно примерзшая к бетонной окантовке берега. А иногда мимо замка, совсем близко проплывает морской теплоход — огромный в речных берегах — и заглядывает в залы музея, в чашу карликовых труб и мачт, будто ищет товарища…
Теперь в порт, к кораблям настоящим…
Они такие же, как везде, во всем мире — эти громадные, тяжелые сараи — пакгаузы, набитые мешками, тюками, ящиками, эти набережные, вымощенные бетонными плитами, транспортеры, краны. И вбитые в сушу кольца, рогатые кнехты, для швартовки, чтобы удержать в плену у берега морские суда, которые словно томятся в неволе, рвутся в свою стихию. И потоки грузовиков с товарами, вынутыми из трюмов, и порожних, спешащих получить кладь.
Тут нет светофоров, которые следят за вами в городе, вежливо просят остановиться, вежливо разрешают перейти улицу. Шоссе полностью во власти машин.
Я топтался на обочине, ежился на холодном ветру. Да прервется ли когда-нибудь бешеное мелькание бочек, закутанных в брезент станков, корзин с южными фруктами, рулонов бумаги? Смогу ли я перейти дорогу?
Наконец застонали, заскрипели на разные лады тормоза — поднялся, распахнув стальные створки, мост, перекинутый через канал. И тут я увидел то, что отличает Антверпенский порт от прочих.
Моторы ворчат, злятся на задержку, а наперерез им, по воде, словно сплав, прорвавший преграду, хлынули самоходные баржи.
Они пришли по каналу Альберта, с юга, и сгрудились здесь, у моста, чтобы войти в Шельду, отдать причалам груз или проплыть дальше, в Голландию. Похоже, они долго ждали и истомились ожиданием. Проход здесь суживается, баржи торопят друг друга. Шкиперам помогают жены, сыновья, дочери — они стоят на палубах, языком жестов дают знать, как надо увернуться от чужого борта, смягчить удар, ускорить или замедлить ход. Я вижу, как баржи с необыкновенной ловкостью проскальзывают в узкое горлышко, не теряя ни секунды времени, ни полсекунды… Ни крика, ни возгласа, ни единого слова — только отдышка дизелей, шлепок мелкой волны по бетонной стенке.
Канал Альберта ведет из глубины Бельгии. И флагов бельгийских на баржах, пожалуй, больше всего. Немало и голландских. А вот швейцарский белый крест на красном поле — самоходка пришла по Рейну из Базеля. Баржи западногерманские, из угольного Рурского бассейна, где текут рейнские притоки. Баржи из Парижа, проделавшие путь по Сене, по Уазе и по каналам — с грузом французского сахара, французских духов, синтетики. Баржа из Великого Герцогства Люксембург — на речных пристанях Мозеля она принимала тамошнее полусладкое вино.
Вот в этом и состоит особая роль порта Антверпен — тут важнейший в Европе фокус, устье множества каналов и рек. Здесь они соединяют многие страны, города с Шельдой и морем.
Антверпен фламандский
Пока мы в порту, нам не уловить национальность Антверпена. Ничего фламандского нет в облике закопченных кирпичных складов, в стальном кружеве кранов.
Вернемся в жилые кварталы.
Что-то отличает их от брюссельских… Фасады старинных зданий узкие — и это вызывает в памяти Амстердам. Но нет нигде голландских белых обводьев, обрамляющих там окна. Цвет построек в Антверпене не красный, а коричнево-черный, серый, желтоватый. А главное — фасады гораздо выше, чем в Голландии, украшены лепкой. И кажется, взирают они на прохожих с некоторым высокомерием. Если Амстердам скромен и словно позабыл свою «золотую пору», то Антверпен словно настойчиво напоминает вам о своих богатствах — прошлых и нынешних.
В городе много чисто фламандских деталей, но чтобы отличить их, надо сперва побывать в музее народного быта.
Большая, крепко сколоченная модель богатого фермерского дома. В первом этаже кухня, настоящий храм обжорства. Огромный очаг с вертелами и крючьями, чтобы жарить целые туши. Стеллажи прогнулись под тяжестью тарелок, медных сверкающих кастрюль. Ножи длиной с добрую саблю и прочие доспехи рыцарей обеденного стола. А во втором этаже две кровати для супругов, обе двуспальной ширины.
Должно быть, из такого дома досталась музею народная, лубочно-аляповатая картинка. По ступенькам, становясь старше, обрастая усами и бородой, поднимается человек. Надписи поясняют, что в тридцать лет для него только-только кончилась юность. Если он успел скопить деньги — пусть женится, хотя такой брак следует считать очень ранним. Полная зрелость наступает лишь в пятьдесят лет…
Букет цветов, полученный невестой в день свадьбы, здесь принято хранить на стене, под стеклом, так же как пряди волос умерших родственников. По воскресеньям, чтобы идти в церковь, надевали сюртуки из плотного сукна, пышные платья, отделанные толстыми «вечными» кружевами.
По деревням разъезжал на лошадях театр марионеток — вот его крупные, грубо вырезанные фигуры со свирепыми, большеротыми физиономиями.
Выходя из музея, вы возвращаетесь из прошлого века в нынешний, к главной улице, наряженной в рекламу, с универмагами и кинотеатрами. Но под слоем привозного и стандартного вам теперь легче узнать черты Антверпена фламандского.
Во дворе старого дома, у крыльца — пудовые табуретки. На стене — мощная, как шкаф, трехэтажная скворечница, какую встретишь только во Фландрии. Кажется, мы видели такую в музее.
Гигантские очаги с вертелами сохранились только в деревне, но вот чисто фламандская витрина ресторана, в ней висят бычьи туши, напоказ, для возбуждения вашего аппетита. Можете сами выбрать себе кусок, потом пройти на кухню и наблюдать за приготовлением. Если вы сумеете съесть, скажем, три свиных отбивных, хозяин запишет вас в книгу особо отличившихся едоков, а может быть, и выдаст диплом. Обжорство здесь в почете.
Толпа на улицах спокойная, неторопливая. Светофоры здесь полновластны. Пускай свободна от машин плиточная мостовая, сияющая как паркет, никто и шага не сделает с тротуара перед красным сигналом. Не то, что в бойком, галльском Брюсселе…
В сквере на карусели катаются дети. Кружатся удивительно спокойно, без крика, без визга. Маленькие антверпенцы сидят в лодочках неподвижно, прямо, даже чуть-чуть надменно. За ними сурово наблюдают няни и мамы, обучающие ребят солидной степенности, отличным, спокойным манерам.
Где уютные, оживленные брюссельские «брассери»? Их очень мало. Зато вот зал пивной просторный и высокий. Сотни, может быть, тысячи пивных кружек, среди газет, разбросанных по столам. Едва слышный шелест страниц, тихий говор.
Вероятно, Брюссель представляется антверпенцу городом южным, чересчур суматошным, шумным, легкомысленным…
Антверпен гордится не только портом. Вам скажут, что двадцатипятиэтажный дом фермерской кооперации — это первый в Европе небоскреб. Что такой искусной, как здесь, обработки алмазов нет нигде в мире, попробуйте нанести на камешек размером с песчинку пятьдесят шесть граней! Покажут образцы современной строительной техники — два туннеля под Шельдой, для пешеходов и для транспорта, и новый универсальный магазин, в который можно въехать в машине. Да, в машине — прямо на пятый этаж, где расположен гараж.
Но мне довелось заметить гордость и другого рода.
Хозяин книжного магазина сказал мне с оттенком пренебрежения:
— Книг на французском языке мы не держим.
В газетах много пишут о «языковой войне». Соседи Бельгии недоумевают: ведь до последних лет фламандцы и валлоны жили в ладу и согласии. И вдруг…
Фландрия богаче Валлонии. Плодородные илистые почвы, морские гавани обеспечили и достаток крестьянам, и преимущества для торговли. А в наше время бурно развилась промышленность Фландрии. Антверпен выпускает автомобили, суда. По количеству разных изделий Антверпен и прилегающие к нему города — на первом месте в Бельгии. Словом, Фландрия обогнала Валлонию, фламандские фирмы теснят своих валлонских конкурентов.
Больше стало фламандских книг, газет, театров.
Между тем до последних лет в Бельгии господствовал французский язык — в школах, в университетах, в учреждениях.
Фламандцы требуют равноправия и в языке и во всем остальном. Речь идет о том, чтобы предоставить обоим народам автономию, дать возможность каждому более самостоятельно управлять своими внутренними делами — образованием, здравоохранением, благоустройством и т. д. И это, конечно, правильно.
Но есть люди, которым выгодно разжигать национальное недовольство. Фламандскому рабочему твердят, что его главные враги — валлонцы. Что фламандский заводчик ему родной брат. Яд шовинизма одурманил слабые головы. Вот почему прохожий на улице, продавец в магазине отказываются отвечать вам по-французски, хотя и знают язык. А в церквах звучат призывы прямо-таки к крестовому походу против валлонцев.
Рубенс у себя дома
Проходя по главной улице, нельзя не увидеть памятник Рубенсу в сквере, возле универмага. Это несправедливый памятник. Рубенс в парадном камзоле и мантии стоит в позе придворного, собравшегося отвесить поклон.
Задерживаться тут незачем — ведь в Антверпене можно пойти в гости к Рубенсу, в его дом.
Спасибо антверпенцам: они отлично сберегли это творение великого мастера! Да, тут Рубенс проявил себя как зодчий. Дом, купленный в 1611 году, был полностью перестроен по его чертежам. Орнамент фасада легок, не назойлив. Справа и слева от входа в небольших нишах стоят бюсты великих людей античного мира, которым Рубенс так восторгался. Если внешне здание напоминает дворец вельможи, хотя и скромный по размерам, то внутри — уютное, без пышности жилище горожанина и семьянина. Гость почти сразу попадает в истинно фламандскую кухню-столовую. Очаг-исполин, вертел, поставцы, набитые посудой…
Служба надолго отрывала Рубенса от дома, от желанной работы. По поручению мадридского двора он вел переговоры с Англией, с Францией, с королевствами Севера, не раз улаживал споры, отдалял войны. Дипломатические послания, составленные Рубенсом, читаешь с наслаждением. Любое из них — шедевр ума и стиля. А владел он как фламандским, так и испанским, французским, итальянским, латынью — и к тому же с одинаковой свободой.
В гостиной хранится золотая цепь с медальоном — подарок короля Дании, один из многих знаков отличия, выпавших на долю Рубенса-дипломата. Царедворцем, любителем чинов он все же не стал. В письме к другу он признается, что «возненавидел дворы». Он узнал, «как медлительны государи, когда им приходится платить, и насколько легче им творить зло, чем добро».
А в другом письме:
«Для себя я хотел бы, чтобы весь мир был в мире и мы могли бы жить в веке золотом, а не железном».
У очага, за круглым столом друзей, вы буквально слышите эти слова хозяина дома. Здесь ближайший его поверенный археолог Пейреск, бургомистр Рококс. Здесь же побывали многие из сотен художников Антверпена — тогда подлинной столицы искусства. Угощает гостей молодая жена Рубенса, белокурая пышная фламандка Елена Фоурмен.
«Теперь, слава богу, спокойно живу с моей женой и детьми и не стремлюсь ни к чему на свете, кроме мирной жизни».
Дата этого «теперь» — 1634 год. Нет, Рубенс так и не пал ниц перед владыками.
Упорный труженик живет в этом доме. Рядом с кухней — комната, где печатались гравюры. Большой тяжелый пресс, рукоятка его до блеска обтерта руками Рубенса и его помощников. Рабочий день начинается рано, художник встает в пять часов утра. Он часто зовет позировать Елену — мы узнаем ее на многих полотнах мастера. Он, не сдерживаясь, на весь мир, всем векам сказал о своей любви.
Творения Рубенса разошлись по многим музеям, но только здесь, у его очага, видишь как бы почву гения.
Думаешь о предшественниках Рубенса, о тех, что сокрушали мертвящую иконопись средневековья, обновили искусство, открыли в него доступ солнцу, полнокровной жизни. Потоки Возрождения многообразны, и один из самых мощных — это великий труд Рубенса. Создал он так много, наследство его так многоцветно, разнообразно по темам, что мы не сразу уловим самое главное, самое характерное.
Мастер портрета? Да, Рубенс оставил нам блистательные образцы этого жанра. Он писал и коронованных особ, и простых людей. Мария Медичи, вдова французского короля… Без всякого снисхождения передал художник черты своевластия, жадности. Зато каким сочувствием согрета его «Камеристка». Обыкновенная девушка, попавшая во дворец, милая, умная, чуточку насмешливая. Ее давит кружевной воротник, ей душно среди спесивцев и лицемеров.
И вы ловите себя на странном чувстве. Кажется, вы вот-вот увидите то, что заметили сейчас ее внимательные глаза. Губы пытаются улыбнуться, а глаза невеселые. И вам тревожно за нее…
Но портретная живопись — не главное для Рубенса, хотя он читает самое сокровенное в человеке. С еще большей страстью он творит большие полотна, вобравшие много лиц, события, сочетания и столкновения характеров.
Рубенс хочет обнять все! Всю красоту, неисчерпаемость жизни во всех ее проявлениях!
У него хватает красок и широты зрения для картины «Головы негров» — удивительно современной нам, даже пророческой. Африканцы, все четыре, молодые, крепкозубые, жизнерадостные. Нет, отнюдь не рабы! А ведь в то время европеец видел только негров-невольников.
Достало у Рубенса гнева для аллегории «Ужасы войны». Прекрасен порыв женских рук, пытающихся остановить бедствие, вырвать факел у поджигателя. Злодей — сам Марс, бог войны. У его ног — тела поверженных. Венера, его возлюбленная, напрасно умоляет его пощадить людей. Другая женская фигура — это, как пояснял Рубенс, «несчастная Европа, страдающая уже много лет от грабежей, беззакония и бедствий, невыразимо мучительных для всех».
Венера, Марс — персонажи античной мифологии… Помните, соседи Рубенса, художники Голландии, изгнали их со своих полотен! Рубенс же как будто воскрешает древние скульптуры, заставляет жить и действовать богов и героев.
Но нет, он не копирует. В греческих туниках, в римских тогах — фламандки и фламандцы, полнокровные, пышнотелые, «рубенсовских форм», как принято говорить.
Все равно это непохоже на голландскую живопись «золотой поры». Век один и тот же, а пути искусства разные.
Мы знаем, в южных провинциях революция не одолела своих врагов. Власть иноземного короля, католической церкви устояла. А север стал свободным, там художники заново открывали видимый реальный мир. Самое повседневное воспринималось празднично, как свое достояние, отвоеванное у захватчиков.
История не дала такой радости фламандцам.
Это не значит, что фламандская школа живописи отвернулась от народного быта. Питер Брейгель-старший ставил свой мольберт на деревенской улице. Переливаются красками, кишат простым людом, полны движения и, кажется, смеха, песен, звона кружек гулянья и кермессы — сельские ярмарки — на его полотнах. Но в миниатюрных фигурках, одетых по воле художника сплошь во все красное, ощущается стилизация. Художник не довольствуется зарисовкой подлинного, рядит быт по-своему.
Художник революционной Голландии, упоенный действительностью, стремится передать ее во всей натуральности красок и форм. Фламандец перерабатывает ее, претворяет сильными, сочными мазками, как бы сгущает ее, широко пользуется языком аллегории, древнего мира, легенды, библейской или евангельской притчи.
Рубенс — признанный глава фламандской школы. Он выразил наиболее полно особенности ее стиля, ее содержание, ее идеи и устремления.
Искусство во Фландрии не вырвалось целиком из пут феодализма, оно вынуждено подчиняться заказам знати, священнослужителей. Оно не может отказаться от золота корон, от бархата придворных одежд, от блеска кольчуг, от монументальности, от парадного великолепия. Но оно продолжает дело Возрождения, отстаивает его гуманистические принципы. Сюжеты из церковных книг — повод для изображения чисто земных страстей и переживаний. Такова картина Рубенса «Снятие с креста». Ничего божественного — человеческая скорбь, человеческое сострадание.
Едва ли я ошибусь, если скажу, что Рубенс был самым беспокойным из коллег-фламандцев.
Выдающийся портретист Ван Дейк, ученик Рубенса, мог писать своих высокопоставленных клиентов уважительно, бесстрастно, перенося на холст все детали богатой одежды. Мы видели, — для Рубенса это немыслимо. Ему мало было зафиксировать облик человека, требовалось еще вынести ему оценку. Если есть недоброе в характере — осудить! Сила психологического анализа роднит Рубенса с Рембрандтом. С великим голландцем, который вступил в искусство в годы увядания «золотой поры», в годы горьких раздумий.
Рембрандт и Рубенс — две вершины искусства — близки друг к другу в своем пытливом внимании к Человеку. Каковы его качества, каковы возможности, назначение?
В «Ночном дозоре» Рембрандта — рыцари добра, выхваченные из мрака. Рубенс тоже искал их. Героическое начало не гасло в его творчестве.
Одна из самых замечательных его картин «Персей и Андромеда» прославляет подвиг витязя, убившего морское чудовище и освободившего из неволи Андромеду. Ведь красота и насилие, злоба — несовместимы!
Человек могуч, — говорят нам титанические образы Рубенса, его сочные краски торжествующей жизни.
Печатник Плантэн
Станку четыреста лет.
По виду ему не дашь и четверти этого возраста, — сохранили его бережно. Он действует и сегодня. Рабочий поворачивает рычаг, и тяжелый деревянный пресс, насаженный на винт, опускается. Мне вручают квадрат серой шероховатой старомодной бумаги, пахнущей типографской краской.
Я читаю:
Чтоб счастливо прожить весь твой век, Мирно и честно трудись, человек! Ссоры плодить и обиды негоже, Так же как милостей ждать от вельможи…Со стены из рамки смотрит на меня автор стихотворения. Узкое, костистое лицо, упорные, внимательные, изучающие глаза.
Поэтом он себя не считал. Он просто попытался однажды изложить в рифму свой идеал скромного, усердного ремесленника. Его нетрудно представить за этим вот печатным станком или за страницей корректуры.
Слава пришла к нему сама. Кристоф Плантэн, сын бродячего переплетчика из окрестностей Тура, что во Франции, помышлял скорее всего о верном куске хлеба. Он умел делать книги. Он прослышал, что в богатом блистательном городе книги нужны. Там оценят его искусство печатания и тиснения на коже.
В переулке, у Большой площади, на стене мастерской появился лист бумаги, убористо заполненный печатными строками. Кто найдет хоть одну опечатку, тот получит от Кристофа Плантэна премию!
Плантэн решил держать экзамен не перед старейшинами цеха, как водилось тогда, а публично. Целыми днями толпились, напрягали зрение грамотеи. Награда никому не досталась.
Антверпен принял печатника.
Впоследствии парижанин Гишардэн, видный путешественник, писал:
«Вряд ли где-нибудь в Европе есть у кого-либо больше станков, больше различных шрифтов и других средств книгоиздания, больше людей, редких по образованию, занятых проверкой книг на всех языках мира».
Восхищение Гишардэна понятно: Париж не мог похвастаться таким предприятием. Оно и по нынешней мерке не маленькое.
Крепко стоит большое трехэтажное здание, замыкающее широкий квадратный двор. Фонтан, бивший еще во времена Плантэна. Цепкие побеги дикого винограда, — они и тогда, верно, добирались до самой крыши. А внутри — десятки помещений, сохранившихся в первоначальном виде: литейная, где отливали шрифты, печатный цех, зал корректоров, книжный магазин. В нем прилавок, весы, гирьки. Тут Плантэн аккуратно проверял деньги на вес, чтобы не попали ненароком в его кассу-сундучок монеты фальшивые, очень распространенные тогда в Антверпене. Можно и сейчас, не выходя отсюда, переиздать чуть ли не любую из плантэновских книг — ведь цела вся техника, лежит запас металлических букв весом в полторы тонны, восемнадцать тысяч клише.
В библиотеке, в высоких, до потолка, шкафах с железными решетками, собрано все, изданное Плантэном. Полторы тысячи названий! Тиражи мало уступали нынешним бельгийским — тысяча экземпляров и более.
У Плантэна вышла в свет восьмитомная «Библия полиглота» на латинском, древнегреческом, древнееврейском, сирийском и арамейском, с массой примечаний, составленных историками и лингвистами. Труд сотен специалистов!
Антверпен нуждался в книгах, заказы его были бесконечно разнообразны. Романы и стихи, ноты, наставления по всем ремеслам, кулинарные рецепты, чертежи и расчеты для строителей домов, кораблей, плотин, правила игры в шахматы. Плантэн издавал газету — одну из первых в Европе.
Плантэн снабжал врачей анатомическими атласами, печатал философские трактаты.
Одна из комнат носит имя Юста Липса, видного фламандского ученого и мыслителя. Он проводил в ней целые дни за работой, обложившись книгами из плантэновской библиотеки. Здесь же собирались ученики Липса, в том числе Филипп Рубенс, брат великого художника.
И самому Рубенсу типография Плантэна была хорошо знакома. Он подружился с преемником Кристофа — Яном Моретусом, приносил сюда свои рисунки, а иногда тут же рисовал, делал гравюры.
Антверпену нужны были карты морей и земель, и Плантэн вызвал к себе Гергарда Меркатора, знаменитого географа.
Меркатор выработал принцип составления карт, применяемый и поныне. Путем математических выкладок он отыскал магнитный полюс нашей планеты, что позволило морякам точнее вести корабль по компасу.
Заказы мореплавателей — не только местных, но и иностранных — обсуждались в кабинете географии, у огромного глобуса. Председательствовал Меркатор. Приходили ученые, путешественники, бывалые капитаны.
Плантэн основал династию печатников. Книги с его маркой выходили еще в прошлом веке. Потому-то и выстояла до наших дней замечательная типография.
Впрочем, нет, не только типография. То, что создал Кристоф Плантэн, было, в сущности, и клубом интеллигенции Антверпена, и очагом наук и искусств.
Скульптор Менье
Скульптор Константин Менье по рождению валлонец. Но одна из самых блестящих работ Менье — «Грузчик» — находится в Антверпене.
Критики, писавшие о Менье, указывают, что предки его и вдохновители — в Древней Греции. Ссылаются на слова самого скульптора: «Вы знаете мое безграничное восхищение искусством греков. Чем больше я живу, чем больше наблюдаю природу, тем больше прихожу я к заключению, что они оставили произведения, где торжествуют красота и жизнь».
Но дадим слово «Грузчику».
Понять его немую речь нетрудно. Редко встретишь скульптуру с таким выразительным лицом. И вот что еще интересно: этот грузчик не один, хотя на постаменте только одна фигура. За ним угадываешь его товарищей. Он стоит во главе целой артели грузчиков, стоит, уперев руки в бок и выставив вперед ногу, с выражением вызова на крупном, мускулистом, открытом лице.
Похоже, он разговаривает с хозяином или его приказчиком, что-то требует от них. На лице нет и тени сомнения, страха. Нет, грузчик уверен в своей правоте и силе. Его противники возражают, но это жалкий лепет, грузчик слушает их с усмешкой превосходства…
Кажется, я где-то видел такого грузчика. Да, в антверпенском порту и теперь немало таких крепких парней. И кого-то он еще напоминает…
Ведь он из семьи, нам хорошо знакомой. Из семьи Уленшпигелей! Он сам говорит о себе взглядом своих озорных глаз. И губы у него такие, словно он бросает соленую, хлесткую шутку.
Говорят, от мастеров древности у Менье верность физическому естеству человека, гармония телесных форм. Одежда на скульптурах Менье условна, как бы прозрачна, — так ощутимы тела в своей красоте и мускульной мощи.
Однако грузчик не вызывает в памяти античных богов и героев! Да Менье и не искал их. Всю жизнь, а она была «ясная, словно солнечный пейзаж», как сказал бельгийский писатель Камилл Лемонье, он стремился передать красоту простых людей, красоту человека в труде.
А если искать предков Менье, то уж скорее в искусстве фламандцев. Полнокровное, плотское, оно с небывалой прежде глубиной изобразило человека в действии, в столкновениях, в хотении. И зачастую простого человека в повседневной жизни.
Страна гордых городов, страна Рубенса с давних пор провозгласила величие человека. Традиции гуманизма, традиции простой, как хлеб, жизненной правды не погибли в искусстве Бельгии.
И не могли погибнуть!
Константин Менье — человек, который воплотил их по-новому, в новом веке, родился в 1831 году, то есть через год после рождения бельгийского государства.
В то время Гент и Брюгге — старинные города ткачей — вновь обрели трудовую славу. Уже прославилось в Европе оружие, сработанное металлистами Льежа. На Шельде дымили первые грузовые морские пароходы.
Именно в Бельгии начали свою проповедь странствующие философы, последователи Сен-Симона. Их учение было утопично, расплывчато, но одно они знали твердо: «трудящееся большинство должно быть счастливо, без этого никто не имеет права быть счастливым».
Когда Менье был юношей, в Брюсселе, в изгнании, жил Карл Маркс. Там же собирался Первый Интернационал.
Знал ли об этом молодой Менье — неизвестно. Одно можно сказать определенно: его будущие герои, его антверпенский грузчик, его молотобоец, его шахтер, его рыбак уже существовали на свете. Они уже помогали отцам, привыкали к работе. Бельгия начинала плавить сталь, добывать уголь, строить машины для всей Европы.
Путь художника к главным своим героям не всегда прямой и всегда нелегкий. Вначале Менье должен был отбросить догмы, преподанные в Брюссельской академии. Вместе с художником де Гру он основывает «Свободное общество изящных искусств». Вместо дам в кринолинах и кавалеров в цилиндрах на полотне появился рабочий. Непривычная живопись!
В 1885 году Менье и его друг Камилл Лемонье совершают поездку по «черной Бельгии» — по шахтам, городам и поселкам угольного бассейна. Побывали они и на заводах Льежа.
«Я был поражен этой трагической красотой, — так выразил Менье свои впечатления. — Я почувствовал в себе как бы откровение для создания дела жизни».
С тех пор Менье отдает все силы этому созиданию. И вот оно перед нами — дело его жизни! Скульптуры, составляющие как бы панораму рабочей Бельгии.
Молотобоец, размахнувшийся тяжелой кувалдой. Он отвел ее назад, чтобы сильнее ударить, и все его тело, каждый мускул в напряжении могучего удара.
Молчаливый, понурый рыбак верхом на лошади. Он словно окаменел в седле под неустанным ветром. Лошадь тянет на берег сеть с рыбешкой и морскими ракушками — «мулями».
Бойкая хорошенькая девушка-шахтерка. Шахта еще не погасила ее юность. Она, кажется, кричит что-то, торопит товарища, замешкавшегося с вагонеткой.
Мертвый шахтер, убитый взрывом газа в штольне. Над ним в безмолвном горе склонилась мать…
Менье сменил кисть на резец — он ищет осязаемой, объемной выразительности. Навыки живописца, глаз живописца, однако, хорошо служат ему. Его изваяния замечательно портретны — он передает характер человека, его неповторимую индивидуальность. Изваяния видят нас, говорят с нами… Признаки профессии, бытовые детали даны очень скупо, чтобы не затенить основное.
Менье увидел пролетария, начавшего сознавать свою силу. И высек его черты.
Для старых фламандских мастеров величие человека было предчувствием, догадкой, мечтой. Для Менье оно расцветает воочию на черной, пропитанной углем земле. Человек велик в труде! Ему очень тяжело, его гнетет бедность, но он преодолевает все. Сил у него хватит.
Предки и потомки
Менье умер в 1905 году. Он вступил лишь в первые годы нашего века.
Где его ученики?
Картина современного искусства Бельгии пестра и противоречива. Есть художники, отказавшиеся от всякого родства. Послушаешь их — никто им не брат: ни рабочий, ни фермер, ни заводчик. Родина с ее традициями — пустой звук. Никому не обязаны, никому не служат.
А на поверку — служат! Пустышками своими, кляксами — все-таки служат.
Идут против человека…
Иначе не скажешь, глядя на бессмысленные мазки, линии, ничего не выражающие, не трогающие ни ум, ни сердце.
Однако есть художники и другого толка. Можно ли не вспомнить замечательного антверпенца Франса Мазерееля!
Мазереель — наш современник. Он весь в борениях и нуждах нашей эпохи. Рисует он горячо, с болью, с гневом. Его рисунки легко представить на плакатах, над колонной демонстрантов, в зале, где собираются люди, чтобы поднять голос против войны, насилия.
Всемирно известна серия «Идея». Все силы реакции ополчились против Идеи: в нее стреляют, ее пытаются испепелить на костре, где фашисты сжигают книги. Напрасно! Чистая, белая фигура Идеи неистребима, бессмертна. Она взлетает над кострами, она неуязвима для штыка, для плети. Никакие решетки, стены, замки не могут остановить Идею.
Черное и белое. Никакого компромисса не знает Мазереель между этими двумя красками.
«Вся яркость света и вся густота тени», — так определил стиль художника выдающийся французский писатель Ромен Роллан. Он увидел в гравюрах нечто общее с контрастной манерой Шарля де Костера.
И здесь живет Тиль Уленшпигель!
Если Менье опасался сделать своих героев грубее, чем они есть, и даже порой смягчал их черты, то Мазереель, напротив, все беспощадно заостряет. Менье часто лиричен, Мазереель же строг и яростен. Техника гравюры на дереве для него оказалась как раз кстати. Это старинная, простая техника, не ведающая полутонов. Поэтому графика Мазерееля напоминает народный лубок. Она угловата, очертания фигур скупые, резкие. В ней есть и злость Тиля и его неотесанная, тяжеловесная шутка.
Тревожно светит одинокий фонарь в припортовом переулке, озаряет мостовую, исхлестанную дождем, бездомного бродягу. А рядом спесиво пылает реклама удачливых торгашей. Мазереель чуток ко всем противоречиям нашего века. Он рисует и зловещий гриб атомного взрыва. Многие художники Запада растеряны, напуганы, проклинают цивилизацию, как будто машины, наука виноваты во всех бедах. Мазереель знает виновных.
Рисунки Мазерееля напоминают мне другого фламандца наших дней — Константина Пермеке.
Пермеке не график, а живописец. Что же сближает их? Вглядимся. Вот пейзаж бельгийского приморья. Это где-то недалеко от Антверпена. Серое море под низкими тучами, затихшее, словно придавленное. И берег — такой же плоский, как море, полоса желтого песка. Господствуют два цвета. Побережье не радует красками — и Пермеке не приукрашивает. Напротив, он как будто предпочитает писать в такие вот сумрачные, ненастные дни.
Почему?
На его полотнах нет праздников, есть лишь простая обыденность, трудная, изо дня в день, борьба с неласковой природой. Свои сюжеты художник искал среди дюн, на рыбацком судне, у скромных очагов.
Семья рыбака садится за обеденный стол. Год выдался трудный, улов нищенский. Печально, голодно в доме. Все это видишь сразу, с первого взгляда, хотя Пермеке и тут верен своей манере: люди и вещи даны контурно, деталей мало, даны лишь самые необходимые. Но какой скудостью веет от ломтя хлеба! Как он мал для мускулистых, крупных мужчин, вернувшихся с работы! Таково мастерство Пермеке — немногими мазками он умеет рассказать очень много.
Иногда художник поддавался моде, отходил от жизненной правды, не только огрублял, но уродовал человека. На холсте появлялась топорная, отталкивающая кукла.
Но по природе своей Пермеке реалист, верный сын сурового приморского края. Люди на его картинах большей частью сильные, упрямые, храбрые. Худосочная природа словно оттеняет их полнокровную, истинно фламандскую мощь.
Музей, в котором я видел полотна Пермеке, стоит на песчаной земле побережья. В окна бил штормовой ветер. Студеное море трепало суда. Почти весь год дуют здесь, не встречая препятствий, ветры с Атлантики. Край, который не терпит слабых, покоряется лишь богатырям!
И искусство, выросшее здесь, по традициям своим героично.
Могучее дерево искусства, посаженное фламандскими мастерами прошлого, не высохло, не срублено отщепенцами. Оно приносит и будет приносить плоды.
В дорогу с Верхарном
Мы покидаем Антверпен. Поезд мчит нас на юго-запад. Гладкая равнина, каналы, фермы, прозрачные рощицы. Здесь местность ниже уровня моря. Во время первой мировой войны, когда сюда ворвались немецкие оккупанты, бельгийцы призвали в союзники море, подняли шлюзы.
Операция была рискованная. Опасность угрожала и своим. Король Альберт, командовавший бельгийской армией, решил задачу блестяще. Захватчикам был нанесен огромный урон. Альберт до сих пор почитается как национальный герой. Почти в каждом городе можно найти памятник ему и живые цветы у подножия.
То и дело названия станций напоминают о битвах той войны.
На нашем пути Ипр. Возле него разыгралась ожесточенная битва с войсками кайзера. С тех пор каждый год, в годовщину сражения, на старинную башню поднимается горнист, трубит тревогу.
В вагоне со мной спутник-поэт.
Есть стихи, которые хорошо брать с собой в дорогу, настолько связаны они с обликом и духом страны. Таково творчество Эмиля Верхарна, крупнейшего поэта Бельгии. Я смотрю в окно, листаю книгу, и строки Верхарна словно вырастают из пейзажей. Кажется, не книга говорит со мной, а вон тот городок, сгрудившийся вокруг величавого собора, тополя над шлюзом, самоходная баржа, бредущая по каналу, коренастый шкипер на корме.
В далеком Брюгге мост Зеркал Ему сверкал; Мосты Ткачей и Мясников, Мост Деревянных Башмаков… Мост Крепостной и мост Рыданий, Мост Францисканцев, мост Прощаний, Лохмотьев мост и мост Сирот — Он знает их наперечет.Верхарн и сам знал мосты Бельгии, ее потоки, ее города и селения, ее песни, легенды родной страны и бурную ее историю, злодеев и витязей. Фламандец родом, он писал на родном языке и на французском, понимал всю Бельгию, любовался ею и болел за нее, мечтал о ее будущем. Стихи Верхарна — своего рода поэтическая энциклопедия страны.
Он часто обращался к прошлому — и тогда его творчество обретало выпуклую, сочную живописность образов Рубенса. Оживает в стихах Уленшпигель, кипит боевой задор гезов. Рисует Верхарн пейзаж или бытовую сценку — все у него по-фламандски весомо, зримо, контрастно.
Вот славный город с тихими домами, Где кровля каждая над узкими дверями На солнышке блестит, просмолена. Вверху колокола с рассвета дотемна Так монотонно Плетут все ту же сеть из тех же бедных звонов.Точно такой городок промелькнул сейчас за окном… А теперь к самой насыпи вынеслись добротные зажиточные фермы. Перед каждой среди подстриженных кустиков ее уменьшенная копия — домик-кормушка для птиц. И поэт открывает ворота, показывает богатство фермера: лоснящихся коров, парное пенистое молоко, полные кормушки. Слышно, как звенит тугая струя в ведре у доярки. А труд в пекарне, «плоть мягкую хлебов», Верхарн изобразил так, что ощущаешь и запахи, и печной жар. Вспоминаются натюрморты современника Рубенса — Франса Снайдерса, аппетитное изобилие яств на его полотнах.
Но Верхарн — поэт нашего века. Он остро сознавал, что сытая, богатая Бельгия — это далеко не вся Бельгия. Он развенчивал скопидомство, стяжательство, духовное убожество толстосумов. Их дома-кубышки были перед глазами Верхарна, когда он писал:
Вы жирное житье в себе замуровали С его добротностью скупой И спесью жадной и тупой, И затхлой плесенью затверженной морали.Едкого сарказма полно стихотворение «Золото».
Спрячь золото верней! Смотри, следят за нами. Спрячь золото верней! Свет солнца страшен мне: Меня ограбить может пламя Его лучей.Судорожно ищет скаред потайное место. За дрова? Зарыть в мусор, в хлам? Как догадаться, куда полезет вор? Спрятать бы в собственных костях — тогда можно уснуть спокойно!
При Верхарне разросся, подминая под себя деревни, промышленный город. К нему несутся стальные рельсы, потоки нефти. Он манит своими бессонными огнями, призрачными обещаниями. Он ненасытно пожирает труд множества людей, их здоровье, их волю.
То город-спрут, Горящий осьминог…Его хозяин — буржуа, которого Верхарн гневно бичует. Буржуа — мастер искусства подавлять, он умеет и нападать, как тигр, и красться к добыче, как шакал. А если он достигает высот, то это «мрачные высоты преступленья».
Верхарн не дожил до революционных событий, потрясших весь мир, но он предчувствовал их. Поэзия его в последние годы жизни — предгрозовая. Ему виделись восстания, мощные столкновения социальных сил, когда «вся улица — водоворот шагов, тел, плеч и рук», когда мечты поколений жаждут воплотиться и отступать нельзя. Нужно драться.
О двери кулаки разбить, Но отпереть!Подобно Горькому, Верхарн славил безумство храбрых: «Жить — значит жечь себя огнем исканий и тревоги». Правда, поэт не представлял себе ясно, каким путем двинется история, как будет устроено царство справедливости на земле. Но зловещая власть золота, калечащая людей, должна быть разгромлена, в это Верхарн верил твердо. И надежды свои он возлагал на тех, кто трудится.
В стихотворении «Кузнец» молот великана мастерового кует будущее. Кузнец не ждет спасителя с небес — безмолвные сами возьмут свой жребий. И кузнец даст им оружие. Победа видна ему, освещенная заревом горна. Исчезнут подвалы, тюрьмы, банки и дворцы, счастье будет доступно всем людям, «как на полях цветы».
В поле зрения поэта — не только Бельгия, а все человечество. Кузнец — олицетворение всемирного штурма пролетариев. И недаром В. И. Ленин — по свидетельству Н. К. Крупской — зачитывался произведениями Верхарна.
Поэт беспокоился о том, чтобы «в бой не опоздать», чтобы «подарить властительный свой стих народу». В те годы, когда многие его товарищи по перу замыкались в себе, пугливо отворачивались от суровой действительности, Верхарн считал себя участником великого движения тружеников, его певцом.
Клинки, сработанные кузнецом, «клинки терпенья и молчанья», поднялись в тысяча девятьсот семнадцатом, через год после смерти Верхарна. Бельгия не всколыхнулась. В ее литературе одиноко возвышается фигура Верхарна — поэта, побратавшегося с обездоленными.
Через «языковую границу»
Фландрия позади. Началась Валлония. Это очень заметно: все вывески, все надписи заговорили по-французски. Одна насмешила меня истинно галльским каламбуром:
ЗДЕСЬ ИСПРАВЛЯЮТ ДУРНЫЕ ГОЛОВЫ
Речь идет, к сожалению, только о куклах. Острота украшает мастерскую, где чинят игрушки.
А вот еще вывеска-шутка:
КОСТЮМЫ ПО МЕРКЕ
Тут работает гробовщик.
Дома фермеров здесь поменьше, чем во Фландрии. И не так охорашиваются, не так усердно соревнуются в чистоте. Реже попадаются подстриженные кустики и ровные квадраты газонов. Здесь охотнее засадят весь участок фруктовыми деревьями. Селения беднее, чем на севере, на жирных илистых почвах. В жилище пахнет не воском для натирки полов, а чаще всего «джосом» — валлонским блюдом из рубленой капусты с салом.
Шоссе взлетает с холма на холм. Мелькают крыши хуторов. Говорят, когда великаны сдвигали тут постройки в города, эти дома проскользнули между пальцами, застряли в ложбинах и на гребнях земли.
На остановке, в маленьком городке, меня озадачило объявление у входа в церковь. Слова в основе французские, но как будто оборванные на согласных звуках. Это диалект валлонцев, самый северный из французских. Произносят твердо, без горловых звуков и звонко чокают.
Церковь по-валлонски приглашала крестьян на мессы. Других, светских надписей на местном наречии я не видел, — нынче, кажется, одни кюре поддерживают полузабытую письменность. Хотят прослыть защитниками народных традиций!
Было время, диалект состоял в ранге литературном. Перед второй мировой войной умер последний крупный валлонский поэт Андрэ Симон. Все его стихи окрашены тоской по былому, грустью. Даже стихотворение, воспевающее родную природу, кстати сказать, одно из лучших, называется «Смерть дерева».
Новые произведения на диалекте почти не появляются в печати. Здешние жители говорят дома, в семье, по-валлонски, а с приезжими — по-французски. И книги читают французские.
— Валлонский язык отжил свое, — сказал мне спутник. — Незачем отделять себя от культуры Франции.
Мы вышли из автобуса в маленьком городке, на вид небогатом и скромном. Оказалось, что у него бурная история. В средние века в нем расцветали ремесла, горожане добились больших вольностей у сеньора. В Валлонии, впервые в Европе, появилось выборное городское самоуправление.
По праздникам над Валлонией гремят карильоны. Звонари Намюра, Турнэ соревнуются с фламандскими.
На рыночной площади, под сенью колокольни, нередкость встретить сооружение чисто валлонское — перрон. Нет ничего общего с железнодорожным. Это обычно колонна на ступенчатом постаменте, гладкая, с шаром на вершине. Считается, что перроны ведут свое начало от менгиров — священных камней древних кельтов. Некогда посланец короля или графа останавливал своего коня у столба на площади и оглашал известие.
До наших дней сохранилось выражение «перронный крик», означающий сенсацию, будоражащий слух.
Почитай, каждый городок хоть раз в год созывает окрестных жителей на ярмарку. Она не такая хмельная, как фламандская кермесса. Не в обычае здесь турниры обжор или курильщиков. Зато больше песен, плясок на площади. Не забыта французская фарандола, которую танцуют под звуки скрипок.
Иногда валлонцев забавляет красноносый Чанчес — персонаж традиционного кукольного театра. Один из родственников его — Гиньоль, французский Петрушка. Другой — лубочный фламандский Уленшпигель. Чанчес ведь тоже горожанин, мастеровой, озорник и острослов. Зрители хохочут, наблюдая потешные перебранки Чанчеса с женой — добродушной недалекой Нанетт. Донимает он своим колючим языком и чиновников, и хозяев.
…Дорога выбегает в поле, с тем чтобы через несколько минут нырнуть снова в улицу. И по внешности не определить — городская она, сельская или рабочего поселка.
Тихий канал. Медленно, чтобы не коснуться узких берегов, ползет самоходная баржа. На горизонте вырезываются халды — конусообразные черные курганы. Это отходы шахт, пустая порода, насыпанная транспортерами. Все постройки становятся темнее от въевшейся копоти.
Повернув на юго-восток, мы вступили в угольный бассейн Бельгии.
Старинные города, темные от угольной пыли, кажутся старше своих лет. Потускнели улыбки полнощеких ангелов на церковных карнизах, гипсовые щиты и мечи на фасадах домов.
Деловитый, промышленный край. У него много жгучих забот сегодня. Но ничто не забыто.
В городе Нивель каждый приезжий непременно постоит перед колокольней, подняв глаза. На верхотуре, у самого шпиля, фигура Жана Нивельского с его собакой. Гитлеровцы повредили их, когда пытались выбить из звонницы партизан. Расстрелянный Жан все же удержался. Упасть ему не дадут.
Жан — не святой, не отшельник, а веселый гуляка, любивший выпить, посмеяться, добрый чудак, бессребреник. Старая Русь именовала таких блаженными. Им разрешалось вслух говорить правду, обличать власть имущих, самого царя. Таким был и Жан.
Благочестием он не отличался. Напротив, вышучивал лихоимцев в рясах, мессы посещал редко. Однако церковь не отвергала его. Кюре не возражают против того, что рослый нивелец, одетый Жаном Нивельским, с собакой на поводке, шествует ежегодно в процессии ряженых. Процессия завершается богослужением.
Что это — широта взглядов, терпимость? Нет, практический расчет. Отмежеваться от народных праздников — значит, оттолкнуть от себя прихожан.
Впрочем, тут требуется особая глава.
Бельгийский календарь
Он исключительно богат и разнообразен — календарь местных праздников.
Тысячи людей в разных странах стараются приурочить к ним свой приезд в Бельгию. Ни во Франции, ни у немцев, ни у голландцев нет такой живучей, многокрасочной живой старины. Фландрия снаряжает для караванов своих рыцарей, кудесников, бородатого владыку Шельды, вооруженного трезубцем. Но чаще всего образы легенд оживают в Валлонии.
Кольцо шахт охватывает хмурый, невзрачный, одноэтажный Бэнш. Но как он расцветает в начале марта, в дни фестиваля Жилей!
За неделю — две на телеграфных столбах появляются розовые физиономии Жилей, вырезанные из фанеры. Начинается сбор денег на наряды — молодые парни ходят из одной «брассери» в другую, звякают копилками. Костюмы ведь дорогие.
Куртка с накладным красным узором, с нашитыми львами, такие же штаны, увешанный колокольчиками пояс. На голове нечто вроде цилиндра с белым плюмажем, с лентами, спадающими на плечи. Несколько сот молодых людей в таком курьезном одеянии составляют ядро процессии, а затем распоряжаются плясками на площади, выступают затейниками в разных забавах.
Вид разодетого Жиля ставит в тупик приезжего. Ведь ничего общего с национальными костюмами Бельгии, соседних стран! Откуда же это взялось? Споры ученых вокруг Жилей не кончены. Полагают, что в Бэнше, при испанском господстве, был устроен праздник в честь завоевания Мексики. От него и пошло…
Старинный город Моне. Филигранные башенки ратуши, загадочная обезьянка на пьедестале у подъезда. Говорят, ее надо погладить на счастье. На площади против ратуши в майский день исполняется битва святого Георгия с драконом, под оркестры и гимны во славу «мэмэ», то есть милого Жоржа или «Дуду», как именует его валлонская легенда.
Герои многих легенд шествуют в июне по улицам городка Ат. Огромный конь Баяр из дерева и тканей — на нем четыре ликующих школьника, которым выпала честь изображать спасенных графских детей. Сам витязь Роланд с огромным мечом…
Народные праздники уводят в глубь прошлых веков. Почему в одном городе в строю ряженых дефилируют, плывут над головами людей исполинские фанерные кошки в широченных юбках? Не те ли это кошки, которых запрягали в колесницу древнегерманской богини Фрейи? А есть обычай и вовсе загадочный. Мэр одного городка, открывая праздник, должен выпить бокал вина с плавающей в нем рыбкой. Объяснить церемонию пока не удается.
Заметим, ни один фестиваль, пускай чисто языческий, не обходится без участия церковников. Заботясь о своей популярности, о сохранении своей власти в стране, они встают во главе процессии, благословляют веселье, зовут ряженых в храм — и Жилей, и Гаргантюа, и русалок.
Льеж — город железа
Если Антверпен слывет столицей фламандцев, то в Валлонии такое звание заслужил Льеж.
Черная земля, черное дымное небо, и между ними, как начинка в пироге, все вперемежку. Ветхая, вросшая в почву цитадель на высоком холме, и на крутых ее склонах — трущобы городской бедноты, гирлянды застиранного белья, облезлые кошки, залетная песня-жалоба — итальянская либо испанская, греческая. Спокойное, серо-стальное зеркало Мааса, — в него смотрятся стеклобетонные корпуса университета, темная готическая церковь и шеренга портовых кранов.
Словно заезжий певец-гастролер среди рабочих, стоит на центральной площади нарядный оперный театр. На гостей похожи и улицы двухэтажных пригородов, их маленькие гостиницы, адвокатские и докторские особнячки — старомодные и аккуратные провинциалы. Они как будто не могут привыкнуть к шумному, черному, очень занятому Льежу.
Сто с лишним лет назад сюда прибыл Виктор Гюго, живший в Бельгии изгнанником. Зрелище, открывшееся тут, в долине Мааса, несказанно поразило его.
Сначала он заметил «два огненных зрачка, горящих и сверкающих, словно глаза притаившегося тигра. Затем… картина сделалась невыразимо великолепной. Вся долина как будто усеяна действующими кратерами. Одни выбрасывают вихри алого пара, заряженного звездами-искрами, другие дают только красноватый свет, в котором вырисовываются мрачные очертания селений. А местами пламя бушует в просветах между пристройками. Можно подумать, в страну вторглась неприятельская армия и подожгла десятка два пригородов и деревень, из которых одни только занялись огнем, а другие уже превращены в дымящиеся развалины».
У себя во Франции Гюго ничего подобного не видел. Предприятие англичанина Кокериля у Льежа удивляло тогда, в сороковых годах, весь Европейский континент. Еще бы — оно занимало пятьдесят семь гектаров, имело двадцать шесть паровых машин! Сталь, изготовлявшаяся новым — бессемеровским способом, шла тут же, в Льеже, на производство локомотивов, паровозов, пушек…
Железную руду привозили из Арденн, а уголь лежит под ногами — только бери! Уголь — главное богатство Бельгии, черный пояс, пересекающий всю страну с востока на запад, к Намюру, Шарлеруа, Монсу.
Говорят, некогда в угольных недрах находилось государство добрых и трудолюбивых гномов. Даже король — самый высокий из них — был всего полутора локтей ростом. Но силен же был — палица его весила пятьсот фунтов! Это гномы и научили людей пользоваться углем. Пожалели нищую вдову, замерзавшую в своей лачуге, принесли ей черные камни, которые загорелись в печке, как дрова.
Та вдова — продолжает легенда — была чуть ли не первой жительницей Льежа. Чудесные камни привлекли потом многих, и сам граф — владелец соседнего замка — заинтересовался подземным сокровищем. Только не понравился гордый, жестокий граф королю гномов, и ушли они неизвестно куда…
Что здесь правда? То, что уголь стал известен давно, во времена незапамятные. И плавка металла здесь — ремесло исконное. Еще в средние века, когда Брюгге славился ткачеством, Намюр — стеклом, Динан — изделиями из меди, Льеж был городом железа, вооружавшим воинов копьями, алебардами и мечами.
Уже тогда Маас давал выход товарам, нес их в плоскодонных ладьях к морю. Река быстро растворяла сажу и пот Льежа, она еще столетия оставалась рекой дворянских замков и парков, рекой живописных руин и пастбищ, не раз блиставшей на идиллических гравюрах.
Она же несчетно окрашивалась кровью. Льеж и другие города на Маасе насчитывают один полсотни, другой почти сотню штурмов и осад. Сражались с городами сеньоры, воевали и города между собой — из-за своих цеховых монополий, из-за торговых дорог и рынков. Владыки Брабанта сталкивались на этой земле с сюзеренами бургундскими. Поили коней в Маасе завоеватели испанские, затем наполеоновские…
В нашем веке, после долгой передышки, Маас вновь стал как бы крепостным пограничным рвом, гасившим первые разрывы снарядов, посланных с запада. Впрочем, где теперь Маас? Укажите на карте, где он впадает в море, очертите его бассейн. География изменилась, часть воды Мааса вошла в канал Альберта, поворачивающий к Антверпену, а сам Маас на голландской земле словно теряется в сплетении каналов. За Роттердамом он теряет свое имя, становится «Ватервег» — водной дорогой.
Очень много дверей у Льежа, смотрящих во все стороны, в разные страны — это худо в дни войны, зато хорошо во времена мира.
Осмотр Льежа обычно начинают с цитадели. В ее казематах застоялся тюремный холод, там глохли стоны истязаемых. Под решетками мертвенных окон — штабелек кольев. К ним привязывали бельгийцев, чтобы расстрелять. «Не забывайте моих детей», — просто и трогательно написано на рельефе памятника жертвам фашизма.
С цитадели видно далеко. В ясную погоду можно различить шпили не только голландского Маастрихта, но даже германского Аахена. Внизу разбросался город, лохматый от дыма, смешавшегося с туманом. На набережных Мааса шевелятся краны — на расстоянии их движения кажутся почти человеческими.
Я пытался отыскать границы Льежа за халдами, за скоплением поездов у вокзала. Бесполезно! И здесь, в Антверпене, как во многих местах страны, не город, а сгусток большого города Бельгии. Большой Льеж, насчитывающий полмиллиона людей. Он давно охватил загородные замки, застроил виноградник, когда-то поивший льежан бургундским. Специальности промышленного района трудно перечислить: тут плавят сталь, выпускают прокат, машины, снабжают Бельгию шерстяными тканями, обувью, консервами. Скалистые утесы над Маасом, воспетые поэтами, стали нынче заводским сырьем, превращаются в цемент.
Таков Льеж — сын угля и железа.
Как же ему живется, о чем его заботы? Попытаемся понять. Спустимся по лестнице в четыреста с лишним ступеней обратно в центр Льежа, иссеченный узкими улицами, залитый потоками машин и спешащих пешеходов.
На первых страницах газет, разложенных в киоске, повторяется короткое, тревожное слово — «забастовка». Металлисты требуют повышения заработной платы. Я вспоминаю, что Льеж часто называют беспокойным городом. Видно, недаром…
Хозяева угрожают увольнением. Найдутся другие рабочие, более покладистые. Бельгийские предприятия вербуют испанцев, греков, марокканцев, они часто соглашаются на любые условия. Иностранных рабочих в Бельгии шестьсот тысяч — и большая часть в Валлонии.
А ведь работы не хватает и своим. Именно в Валлонии больше всего безработных.
«Кризис» — это слово тоже часто звучит здесь. В состоянии кризиса, разрухи — основа хозяйства южной Бельгии, добыча угля. Шахты закрываются. По дороге в Льеж я не раз видел забитые досками ворота, покосившиеся ограды, траву на подъездных путях.
Бельгийские шахты устарели. Оборудование обновлялось слабо, производительность низкая. Шахты в Западной Германии более совершенны, дают уголь более дешевый. Тамошние короли угля, естественно, побили своих бельгийских конкурентов.
«Спасать Валлонию!» — кричат газетные заголовки. Но как? У правительства нет средств, все капиталы — в распоряжении частных фирм. А для них главное — ближайшая выгода. Оборудовать шахты заново очень дорого. Проще покупать уголь за границей — у тех же немцев.
В роли спасителей выступили дельцы из-за океана. В угольном бассейне появились химические заводы, построенные американскими фирмами. Некоторые шахты ожили, стали поставлять им сырье. Несколько сот безработных получили работу. Но всем ясно — это еще не решение проблемы. В случае кризиса американские фирмы закроют в первую очередь свои предприятия в Бельгии. А главное, принимая такую «помощь», Бельгия все теснее связывает себя с Соединенными Штатами, а, значит, и с Атлантическим пактом, с подготовкой новой войны.
И об этом думают, спорят в беспокойном Льеже.
Сердце Гретри
Мадам Кольпэн предложила мне идти пешком. Она ведет меня в сторону от центра, через голый, свистящий на ветру бетонный мост, в район Льежа, который по-русски следует назвать Замаасьем.
Мадам Кольпэн — активистка местного отделения общества «Бельгия — Советский Союз», вдова героя Сопротивления. Он служил на железной дороге, бесстрашно, под носом у гитлеровцев, задерживал составы с оружием, учинял «пробки», переправлял в поездах беглецов из концлагерей и партизан, добывал для них железнодорожную форму.
Мадам Кольпэн битый час обзванивала по телефону льежские музеи — многие сейчас закрыты, туристский сезон кончился.
И вот мы идем улицами Замаасья — тихими и сравнительно малозакопченными.
Льеж за Маасом — особый Льеж. Как некогда Замоскворечье, он бережет традиции города. Он и внешне отличается от других районов. Мадам Кольпэн показывает мне «поталы». Это ниши, а иногда и балкончики со статуями девы Марии или святого. Сейчас, перед рождеством, в «поталах» стоят свечи, а на богородице видишь новенькое кружевное платье с чепцом, в валлонском стиле. В Николин день здесь можно было наблюдать крестный ход, который, как и всюду, вобрал в себя местный фольклор. Например, странный танец «тюрюферс», исполняемый у врат церкви, в красных валлонских костюмах.
На площади, в четырехугольнике трехэтажных домиков, стоит своеобразный монумент. Бронзовая женщина держит в поднятой руке марионетку. Комичного, носатого дядьку.
— Чанчес, — говорит мадам Кольпэн.
Так вот он, Чанчес, персонаж марионеточного театра! Представления теперь даются редко. Остался один старый режиссер-энтузиаст, может быть, последний… Однако бронзовый Чанчес окружен почти таким же вниманием, как в Брюсселе — Маннекен Пис. И Чанчес участвует в цеховых празднествах. И у Чанчеса много спецодежд и униформ, хранящихся в музее.
Мы сворачиваем в сонную улочку.
— Еще один квартал, — сообщает мадам Кольпэн.
За углом — такая же улочка. Скромные, неяркие жестяные флажки вывесок: пекарни, фармацевта. Шпиль невысокой церквушки. И дом, сразу бросающийся в глаза — самый большой тут и самый старый. Итальянские окна, внизу широкие, а чем выше, тем меньше.
— Дом Гретри, — говорит мадам Кольпэн.
Мы входим к Гретри, о котором я еще ничего не знаю, но ощущение у меня такое же, как в доме Рубенса в Антверпене. Где-то здесь — живой хозяин, сам Гретри. Наверно, это он смотрит на нас из рамки — молодой человек в парике, с лицом нежным и мечтательным.
Газовый огонь гудит в старинной печке, покрытой изразцами-картинками. Чья рука затопила ее?
Раздаются быстрые шаги. Я вижу добрые глаза, голубые, как васильки, на старческом лице, и высокий, острый крахмальный воротник, стерильно свежий, одетый, вероятно, к нашему приходу.
— Мосье Дюбуа, — говорит мадам Кольпэн.
— Вы находитесь в доме, — начинает Дюбуа, — где в тысяча семьсот сорок первом году родился наш знаменитый композитор.
Но официальный тон мешает старцу, как и тугой воротник. Дюбуа разминает его тонкими, еще не старыми пальцами и уже по-другому, доверительно, рассказывает о жизни Андрэ Гретри. Именно здесь ему и надо было родиться! Он, верно, с детства слышал валлонские песни и пылкую музыку «тюрюферса». Она летела в эти окна — площадь ведь рядом, веселая площадь ярмарок, гуляний, марионеток и бродячих циркачей.
«Поющая Валлония», пожалуй, особенно ярко проявила себя именно в музыке. Известны имена Цезаря Франка — видного композитора прошлого века, выдающегося скрипача Изаи, чьим именем названы конкурсы исполнителей, проходящие в Брюсселе. Гретри — первый крупный композитор Валлонии.
В восемнадцать лет Гретри вынужден был покинуть родной город, здешние музыканты дали ему все, что могли. Учиться в Рим! И юноша добрался туда пешком, с помощью контрабандиста, указавшего путь через границу.
Минуло немало времени — и романсы, песни, оперы Гретри получают известность. Нередко звучат в его музыке мотивы освобождения, торжества Человека. Композитор и вольнодумец едет в Женеву — беседовать с Вольтером. Гретри и сам пишет философские сочинения. Вольтер благоволит талантливому валлонцу.
Все это Дюбуа сообщает так, будто речь идет о его закадычном друге. Увы, Льеж почти не видел прославленного Гретри! По совету Вольтера композитор поселился в Париже. Завязалась дружба с Жан Жаком Руссо. Сердцем, умом, музыкой своей Гретри был с теми, кто штурмовал Бастилию, свергал монархию.
Дюбуа с благоговением показывает ящичек с клавиатурой — «дорожное пианино» Гретри, для тренировки пальцев. Гретри часто ездил, давал концерты. Под стеклом разложены произведения композитора — их множество. Опера «Земир и Азор» недавно шла по телевидению. Особенно часто исполняется симфония Гретри «Сельский праздник», написанная на народные, валлонские темы. О, он не забывал свою родину!
Я узнаю, что многие предметы мосье Дюбуа разыскал сам. Кто же он, этот милый, очарованный старец? Гид или ученый-искусствовед?
Но прерывать мосье Дюбуа сейчас нельзя, — голос его дрожит от волнения. Да, Гретри не забыл свой родной город: он подарил Льежу свое сердце. Но родственник композитора, человек тупой и жадный, заявил, что завещание Гретри нехристианское. Сердце человека может-де принадлежать только церкви. Этот негодяй решил нажить деньги! Он сговорился с парижскими кюре и решил выставить сердце Гретри в часовне, чтобы привлечь верующих и, конечно, подаяния…
Тяжба из-за сердца Гретри, беспримерная по ханжеству, лицемерию, отчаянному крючкотворству корыстолюбцев, тянулась пятнадцать лет. В конце концов адвокаты Льежа победили.
— Вы видели памятник композитору на площади, перед нашим Оперным театром? В постаменте есть оконце, и там горит свет. Оно там — сердце нашего Гретри.
Осмотр дома и музея окончен. Мосье Дюбуа выключает газ в изразцовой печке.
Мы горячо благодарим его. Очутившись на улице, я не жду просьбы мадам Кольпэн и забрасываю ее вопросами.
— Как вы думаете, сколько лет Дюбуа? — слышу я. — Восемьдесят девять.
Да, он хранитель музея. От тут все: и директор, и гид, и консьерж. Когда-то он играл в оркестре театра. Уволившись по старости, получил место в музее. Он и сейчас еще роется в библиотеках, в архивах, добивается пожертвований на покупку экспонатов. Ведь город дает гроши… Старику помогает его жена, немного моложе его. Им предоставлена бесплатная квартира при музее. Оба получают пенсию, очень-очень маленькую.
— Вот и все, — говорит мадам Кольпэн. — Никакого жалованья.
Уже темнеет. Мадам Кольпэн ведет меня к памятнику Гретри. Падает снег, реклама искрится лихорадочно и тревожно. Снег ложится на верха автомашин, заполнивших центральную улицу почти сплошь. Их поток становится белым, контрастно белым в сумрачном городе.
Длинный, с позументом, сюртук Гретри опушен мокрым снегом. Чуть наклонив голову в буклях, композитор приподнял руку, отбивая такт. Сердце его замуровано в кладке постамента, и оттуда, через маленькое оконце, льется красноватое сияние.
Были, есть и будут люди, чьи сердца светят другим!
Самый знаменитый из льежан
Спросите любого, кто это. Вам наверняка ответят — Сименон. Писатель Жорж Сименон.
Репортеры подсчитали, что каждые пять минут где-нибудь на земном шаре выходит книга Сименона — новая или переизданная, на французском языке или в переводе. Автор, самый читаемый в мире! А сколько еще фильмов, пьес по произведениям Сименона!
Число романов Сименона перевалило за двести — продуктивность, не имеющая себе равных, небывалая в истории литературы.
Сименону выпала редкая почесть: его герою поставлен памятник. Комиссар полиции Мегрэ, толстый, с неизменной трубкой, возвышается на берегу моря в голландском городке Делфзейл. Именно там родился Мегрэ в голове своего создателя. Словом, гордость льежан никак нельзя назвать необоснованной.
Правда, Сименон редко бывает на родине. Но родился-то он здесь, в Льеже, на неказистой улочке, населенной рабочими и мелкими служащими, в семье конторщика. В детстве Жорж Сименон говорил по-валлонски, бегал смотреть Чанчеса.
Живет писатель в Швейцарии, рукописи посылает в Париж. Конечно же, в Бельгии такому человеку тесно. Но он остался бельгийцем. Мои льежские собеседники подчеркивают это. Во-первых, чуть ли не в каждом романе он упоминает родные места. Хотя бы вскользь, одной-двумя фразами. Кто-нибудь из действующих лиц непременно бельгиец. А случайно ли, что в романах Сименона так часто идет дождь? Притом особый, льежский дождь, основательный, упорный…
Во-вторых, он бельгиец по характеру. Да, ноги на земле, а голова в облаках. Работник удивительно организованный и прилежный, — иначе разве мог бы он столько писать! И в то же время — бурная, неисчерпаемая фантазия, необычайная способность создавать сложные сюжеты, увлечь читателя, привести к неожиданной развязке.
Я во многом согласен с льежанами. Побывав в Льеже, я, кажется, лучше понял Сименона — одного из моих самых любимых писателей.
Комиссар Мегрэ действует в Париже. Атмосфера Парижа передается в романах лаконично, часто мимоходом, отдельными, зорко подмеченными мелочами. Сименон знает Париж и любит его. Мы уже говорили, что для уроженца Валлонии культурной границы с Францией, в сущности, нет. А для Сименона и подавно. Еще молодым журналистом он уехал в Париж попытать удачи в редакции большой газеты. И удержался, приобрел известность своими репортажами, главным образом из зала суда. Розыск и суд, раскрытие преступлений — и неизбежное обнажение человеческих пороков, страстей, судеб приковали внимание будущего писателя. Огромный, кипучий Париж давал богатейший материал такого рода.
Внимательно читая Сименона, нетрудно проследить, как перерабатывает писатель эпизод из уголовной хроники, как из этой первоосновы вырастает роман.
Ему, Сименону, в самом деле понадобилась голова в облаках. И твердая земля под ногами.
Его земля — это доскональное знание быта и нравов самых различных людей: бродяги, ночующего под мостом, на набережной Сены, шкипера на барже, рабочего, фермера, кустаря, мелкого, изворотливого дельца, не гнушающегося никаким бизнесом, и крупного денежного воротилы. Вслед за комиссаром Мегрэ мы заглядываем в парижский кабачок и знакомимся с его владельцем и посетителями, в трущобы, где ютится беднота, въезжаем в ворота графского поместья. Одно это увлекает читателя. Но ведь комиссар Мегрэ ведет розыск преступника, и, стало быть, ему необходимо пролить свет на скрытое, спрятанное.
Отперт сейф с секретным замком, извлечены документы, уличающие хозяев фирмы, слывшей солидной, честной, в жульнических махинациях. Оказывается, она нагло обманывала, обкрадывала тех, кто доверил ей свои деньги.
Обитатели богатого, опрятного особняка, оплетенного плющом, производили впечатление людей порядочных. К удивлению всего околотка, хозяин дома арестован. Он убил свою родственницу, рассчитывая добыть наследство.
Добродушный увалень Мегрэ, немного неуклюжий, медлительный, не теряется нигде: ни в притоне контрабандистов, ни в светской гостиной, на зеркально сверкающем паркете, среди дорогих портретов, поставцов со старинным фарфором. Его пытаются сбить с пути лестью, подкупом, угрозами. У преступника находятся высокие, влиятельные покровители, они могут испортить карьеру комиссару. Нет, он упрямо добивается истины.
Преступление совершает и бедняк. Беспощадный к тем, кто обласкан судьбой, Мегрэ болеет за обездоленных, жалеет преступника поневоле. Мы видим, как могут изуродовать человека слабого постоянные лишения, вечная погоня за ускользающей удачей, жестокость окружающих, одиночество.
Случается, обвинение падает на человека, ни в чем не повинного. Дело уже передано в суд. Но Мегрэ не успокоился, его мучит сознание незавершенности поиска. Он чувствует: улики недостаточны, есть неясности. И он до последней минуты, до самого приговора проверяет факты, ломает голову, снова беседует со свидетелями.
Надо ли удивляться тому, что комиссар Мегрэ завоевал сердца многих миллионов читателей во всех странах, в том числе и у нас!
Мегрэ побил всех своих соперников — прочих героев буржуазной детективной литературы. Очень часто, особенно в Америке, детектив не осуждает, а прославляет насилие, грабеж. Симпатии автора — на стороне гангстера, линчевателя. Такие книжонки должны поощрять, вооружать духовно американскую военщину, которая свирепствует во Вьетнаме. Романы Сименона по существу громят это преступное, бандитское чтиво, отнимают у него читателей.
Среди соперников Мегрэ — сыщик Эркюль Пуаро, очень популярный на Западе. Создала его известная английская писательница Агата Кристи, опубликовавшая восемь десятков романов. Пуаро запоминается своим ярким галстуком, забавным тщеславием, но привязаться к нему сердечно, как к комиссару Мегрэ, по-моему, невозможно. Правда, Пуаро ловко разгадывает тайны. Но он часто равнодушен и к жертве и ко всем, замешанным в деле. Обычно в романе фигурируют несколько человек, одинаково подозреваемых в убийстве. Кто же виновник? Пуаро бесстрастно собирает, взвешивает улики. Характеры отодвинуты на задний план, действующие лица — как бы числа в математической игре.
Насколько же богаче духом, интереснее комиссар Мегрэ — психолог, исследователь людских натур и социальной среды, горячий поборник справедливости.
Многие романы Кристи — не что иное, как развлечение на досуге. Сименону удалось поднять детектив на уровень настоящей полноценной литературы.
Наблюдая изо дня в день парижские происшествия, он не заболел равнодушием. Наверное, еще суровый, мглистый Льеж, испытания, перенесенные в юности, учили Сименона серьезно относиться к жизни. Не захотел он творить головоломки из человеческих страданий и бед.
Вдумчивый читатель заметит, однако, что Сименон приукрашивает буржуазное правосудие. Своего комиссара Мегрэ писатель увидел, несомненно, в облаках фантазии. Мегрэ — герой явно романтический, хотя и трудится в реальных, сегодняшних Обстоятельствах. Полицейский сыщик, искренне желающий творить добро, далеко не так свободен, независим, как комиссар Мегрэ, рыцарь правды, почти всегда побеждающий.
Поэтому не всегда веришь в его успех.
Хорошо по крайней мере то, что Сименон не умаляет, не замазывает основное зло. В лучших его романах за отдельным преступником отчетливо различаешь главного виновника — преступные общественные порядки.
Арденны
Из Льежа я отправился дальше на юг.
Шоссе начало шалить. Равнину оно пересекало прямо, словно по линейке, а теперь кружит нас на поворотах, одолевая подъемы, подчиняясь изгибам капризной речки. Срезать, сократить путь негде — мешают откосы холмистой гряды. Она все выше. Ее хвойный плащ все чаще прорывается выступом голого камня.
Прямые линии равнины, ее геометрическая упорядоченность исчезли. Где ровные квадраты полей, рощиц, выстроенные шеренгами тополя, шахматные посадки яблонь? Посевы и сады здесь редки. Скалы, ущелья, вековые заросли не дают хода плугу.
Лес тут дикий, дремучий, необычный для европейского Запада. Густо пахнет смолой, рокочут потоки.
Местами выбегают к шоссе веселой гурьбой березки. На миг переносишься в среднюю Россию. Нов вышине, на плече горы — руины рыцарского замка. А впереди надпись, предупреждающая по-французски:
ОСТОРОЖНО! ДИКИЕ ОЛЕНИ!
И это — в «большом городе» Бельгии! Правда, в Арденнах добывают железо, валят и распиливают лес, получают из древесины разные химические составы. На реках возведены плотины, — ведь Арденны, как здесь говорят, водонапорная башня страны. Но предприятия небольшие, они прячутся по излучинам, по ложбинам. На первый взгляд, здесь царство девственной природы.
Потому и любят Арденны бельгийцы.
Им было бы скучно, душно без Арденн. Это ведь единственный край, где еще возможны романтические походы с рюкзаком за спиной, с палаткой.
Шестую часть Бельгии занимает Арденнский лес. Но он не умещается весь в ее границах. И француз, и люксембуржец, и западный немец могут, не покидая своих государств, подняться на Арденнские возвышенности. То и дело выглядывают из чащи, манят своими вывесками гостиницы: «Приют рыболова» или «Очаг охотника», а то и просто «Уединение».
Зимой приезжают лыжники, а когда снег сойдет, — любители ходить пешком, ночевать под елью, лазать. Нужды нет, что горки выше семисот метров не отыщешь. И небольшие высотки годятся для прогулок, для тренировок. Но надо быть внимательным. Плоскогорье сложено главным образом из песчаников и сланцев. Это породы хрупкие. Особенно опасен песчаник. Верхний его слой под ногами крошится, предательски осыпается.
Туристы любуются водопадами, пещерами. Одна из речек, блуждающих по Арденнам, уходит под землю и вновь выбегает на поверхность. Есть минеральные источники с целебной водой.
Интересны и особенности климата. Вообще тут холоднее, чем на равнине. Но в глубоких долинках образовались местные климаты. Из суровой хвойной чащи можно спуститься на поле, засеянное табаком. Горы защищают южное растение от северных ветров.
Некоторые районы Арденн объявлены заповедными. Там свободно, не боясь человека, пасутся олени, быстроногие газели, муфлоны с толстыми рогами, закрученными спиралью.
Арденнский лес — обиталище кабанов, барсуков, лисиц. Притаившись у поляны, охотник подстерегает тетерева. Рыболовы забрасывают спиннинг в кипучую, порожистую речку, надеясь поймать вкусную форель.
Раскидывают свой стан археологи. Найдены мечи, латы, повествующие о распрях графов, баронов. Извлечена из земли древнеримская статуя, очищены остатки бани, служившей воинам Юлия Цезаря. Арденны доставляли Риму немало забот — нелегко было держать в повиновении жителей глухого края, враждебная чаща окружала крепость с горсточкой легионеров…
Непокоренные кельты уходили в глубину леса. Их главари приносили жертвы богам. Текла кровь животных, раздавались песнопения, не дошедшие до нас. Но жертвенные камни остались. Стоят и другие камни, назначения подчас загадочного. Вероятно, своего рода солнечные часы. Стрелкой, указывающей время, служила тень. Ученые полагают, что кельты с помощью камней составляли календарь, определяли страны света, наблюдали движение небесных светил.
Этнографы привозят из арденнских селений легенды. Здесь все питает фантазию: замшелые развалины, подземелья, прорытые водой или людьми, дуплистое, зловещего вида дерево, эхо в ущелье. Приезжих интригуют названия урочищ: «Кресло дьявола», «Дворец великанов», «Священный источник».
Старый фермер и сегодня покажет вход в королевство гномов — под обрывом, прикрытый кустарником.
Не то ли вон тощее поле досталось сатане и святому Петру? Смекнул апостол, что двоим поживиться нечем, и спросил нечистого: кому вершки, кому корешки? И остался дьявол в дураках — на что они, корешки жита? Точно так же обманывал мужик медведя в русской сказке. И град Китеж есть в Арденнах — в озере, из глубин которого раздается временами колокольный звон. От стариков можно услышать и про Спящую царевну, про глупых поросят, про Красную Шапочку… Арденнский лес — один из очагов европейской сказки.
Не забыты витязи Роланд, Карл Великий, но появились и новые герои, рожденные нашим веком.
Огонь партизанской войны, пылавшей здесь, гитлеровцы ничем не могли погасить — ни казнями заложников, ни карательными экспедициями. Арденнское маки возникло в первые же дни оккупации и сражалось до конца войны, не давая немцам передышки.
Правда, и в других местах Бельгии взлетали на воздух мосты, паровозы, падали сраженные пулей предатели — фламандские и валлонские фашисты. На заводах не прекращался саботаж — сборка авиамотора затягивалась на неделю, а то и на две. Но не было в Бельгии лучшего места для мстителей, лучшего укрытия, чем Арденнский лес. Он стал, в сущности, партизанским краем, так как многие долины и холмы годами оставались во власти маки.
Бойцам помогали лесорубы, фермеры, жители горняцких поселков и городков. Друзья были на почте, на телеграфе, за стойкой кабачка, в сторожке стрелочника…
Цепочка явок, сотни маршрутов, прочерченных на потайных картах, соединяли Арденны с Брюсселем, с главой движения Камиллом Жоссе. Этот человек заслуживает памятника, книги, фильма. Увы, Бельгия еще в долгу перед ним! Человек-легенда, неподвижный, парализованный, он был для гитлеровцев страшнее рати противников. Громадные суммы были обещаны за его голову. Умер он, однако, своей смертью, от болезни, которая его медленно душила. Умер в своей штаб-квартире и, предчувствуя конец, вызвал к себе самых близких собратьев. «Я хочу, чтобы рядом со мной были товарищи по оружию», — сказал он твердо, с просветленным лицом, веря в победу.
После смерти Камилла в штабе продолжал действовать его сын, профессор богословия Лувенского университета. Его знали в кругах духовенства. Пользуясь своими связями, он держал группы партизан в монастырях в одежде монахов.
Штаб направлял в Арденны антифашистов разных национальностей. Воевали там и советские военнопленные, бежавшие из концлагерей, из бараков для «восточных рабочих», окруженных колючей проволокой.
Вы помните, в Арденны должен был прибыть и Анатолий, отважный саратовский парень.
Быть может, мы обнаружим его след…
На лесной фронт
Одну из поездок в Арденны, самую увлекательную, я совершил с участником Сопротивления.
Зовут его Петр Иванович Крылов.
— Хотите посмотреть, где был наш фронт? — спросил он меня. — Там меня, наверно, еще помнят. Познакомлю вас… Завтра, кстати, воскресенье. Заеду я за вами пораньше, часов в шесть. Ладно?
Мог ли я отказаться!
Дорогой он поведал мне свою историю. Когда-то его, юношу, увлекла с русского Юга волна эмиграции. В долгих скитаниях переменил множество профессий: грузил пароходы, мыл посуду в харчевнях, таскал на спине плакаты с рекламой мыла, сигарет. Случалось, отдавал последнюю рубашку за краюху хлеба. Учился урывками.
Когда гитлеровцы захватили Бельгию, Петр Иванович жил с семьей в Брюсселе, работал по своей инженерной специальности, прилично зарабатывал. Мытарства позади… Но как жить спокойно, если в городе враги!
— Слышу, по радио говорят — Гитлер напал на Советский Союз. Ну, думаю, теперь нечего раздумывать. Я же русский человек!
На северо-востоке страны, в области Лимбург, на шахтах трудились сотни советских военнопленных. Связи с Сопротивлением у них не было, а вырваться на волю, драться хотелось.
— Вот и поручили мне помочь им.
Большие руки Петра Ивановича спокойно лежат на баранке. Я представил себе, как он, неторопливый, рассудительный человек, принял задание, обстоятельно выяснил обстановку. Расстояние до Арденн не близкое — две сотни километров.
— Почти через всю Бельгию надо провести ребят… А вы же видите, — сплошные поселения. Глаз-то сколько!
Самое главное — вызволить пленных с шахты. Дать им одежду, документы.
— Ну, к счастью, там, в Лимбурге, у меня был старый приятель, тоже русский. Дал ему знать. Давай, Павел, пора действовать! Только вот в чем затруднение: служил он в конторе. В забой, под землю спускался редко. Не годится для дела! Подыскали ему другую работу — инженера по технике безопасности.
Немецкие обер-надсмотрщики, разумеется, не догадывались, что Павел Александрович Гайдовский получил новую должность по директиве штаба Сопротивления. «Восточные рабочие» неожиданно услышали русскую речь. Но сперва они отнеслись к инженеру с опаской. «Небось продался фашистам! Ну да, недаром его до нас допустили! Наверняка шпионит за нами!» Иногда говорили вслух, нарочно, чтобы инженер услышал. Нелегко ему было добиться доверия.
Павел Александрович устраивал по собственному почину занятия с рабочими по технике безопасности. Чувствовалось — человек хороший, заботливый.
После лекции завязывались беседы. Инженер присматривался, намечал кандидатов в Арденны. Можно снарядить будущего партизана в дорогу. В робе, которую обязаны носить «восточные рабочие», за ворота шахты не выйдешь — сцапают немецкие стражники.
— Получаю я от Павла письмо, — рассказывает Петр Иванович. — Разные семейные новости, жалобы на дороговизну, словом, обыкновенные житейские темы. Я обращаю внимание на цифры. В них вся суть. Допустим, Павел пишет, что приобрел какую-то вещь за сто семьдесят пять франков. Читать надо не франки, а сантиметры — сообщается рост человека. Таким же способом — номер рубашки, шляпы, все мерки для портного. Немного погодя приходит еще пакет. В нем фотография для удостоверения личности и записка: «Посылаю тебе карточку моего беспутного приятеля. Можешь отдать ее несчастной влюбленной, пусть утешится хоть этим». Понятно, каждый раз Павел выдумывал новый предлог. И не всегда отправлял послания почтой. Были связные…
Если русский работает в первой смене, то его, с помощью друзей в управлении шахты, переводят во вторую. Ночью стража дремлет. Русскому в окошечко душевой протягивают одежду, сшитую по мерке. После гудка он сливается с толпой бельгийских шахтеров, неотличимый от них. На трамвайной остановке его ждут. Он получает пароль, отзыв, едет в трамвае до кольца. Затем — на ферму, где обеспечена явка.
Там новобранца встречает Петр Иванович.
— Фашисты бубнят по радио о победах в России, а я думаю про себя: «Ладно, погодите, наши силы прибывают. Вот сегодня еще один в строй вступает, на моем участке…»
Теперь надо дать беглецу карту, объяснить, как он будет двигаться, где поездом, где пешком. Надо назвать людей, готовых дать ночлег, еду. Фермера, лесника, содержателя «брассери», дорожного мастера… Петр Иванович не мог проделать весь путь со своими подопечными. Обычно он брал их к себе в машину на подступах к Арденнам, недалеко от расположения отряда.
Я слушаю Петра Ивановича, не замечая времени. Вдруг я отдаю себе отчет в том, что его рассказ обрел естественный фон. Арденны — вот они! Лесистые горы охватывают нас. С большака мы сворачиваем на змеистый, затененный елями проселок. Горы раздвигаются, нас словно втягивает улица маленького городка. Низенькие, толстостенные постройки, чахлые садики.
— Где же это? — И Петр Иванович тормозит, оглядывается. — Да, да, здесь, конечно… Видите дом? Как раз возле него, чуть ли не под самыми окнами мы и застряли…
Дом такой же, как и все в Рошфоре, одноэтажный, отличающийся от соседних лишь вывеской сапожника. На боковой стене, безоконной, намалеван призыв пить пиво «Стелла Артуа». Тихий, будто уснувший дом в тихом городке. А в то время здесь находился пост гитлеровской полевой жандармерии. Я невольно ищу какие-нибудь признаки ее. Решительно ничего!
Надо же, именно здесь, под носом у жандармов, отказал мотор! А в машине, в крытом кузове, сидели, тесно прижавшись друг к другу, восемь русских, сбежавших из Лимбурга. Правда, с отличными документами. Но компания подозрительно большая. А под скамьями — пистолеты, автоматы…
Вылезаю, улыбаюсь жандарму. «Фу ты, — говорю, — безобразие! Извините, загородили вам дорогу!»
Шофер копается в моторе. Он тоже человек бывалый — не выдает беспокойства. Старательно, без всякой спешки орудует гаечным ключом.
Жандарм полистал вскользь мои бумаги, кивнул, потом подошел к шоферу, даже совет дал ему… Испугаешься — привяжутся, обыщут машину. Тогда капут. Не прорвешься — рядом немецкая воинская часть. Все пропали бы…
Я пытаюсь вообразить сцену: застрявшая машина, гитлеровец, немецкие надписи на улице, прибитое к столбу распоряжение коменданта: за содействие партизанам — смертная казнь.
День воскресный, на улице пусто. Дремлют дома-близнецы. Где-то кричит петух. Девочка насыпает зерно в кормушку для птичек. Приключение у поста жандармерии кажется невероятным.
Дорога выносит нас на край косогора. Внизу, под кручей, в узкой долинке, — уютный городок Лярош, плотное скопление зданий из красного кирпича, старинный замок на холмике. А рядом с нами — большой белый отель. Веранда летнего кафе.
Петр Иванович звонит. Дверь открывает полная, пожилая женщина. Всматривается.
— Мсье Пьер? Неужели вы?
— Да, да, мадам Бинэ, — говорит он. — Что, постарел? Да, двадцать пять лет не скинешь. Познакомьтесь, со мной гость из Советского Союза.
— О-ля-ля! Хоть бы предупредили, мсье Пьер! Печка холодная, у нас ремонт…
— О, не беспокойтесь! Мы пообедали.
— Это верно?
Мы поклялись, не кривя душой. По дороге, в ресторанчике, мы ели жареного кабана.
— Покажите гостю кухню, — просит Петр Иванович.
Газовые плиты, обитые цинком посудомойки, шкафы и полки с посудой, часы с кукушкой, деревянная табличка с выжженным изречением: «В родном доме все вкуснее». Вряд ли я когда-нибудь осматривал кухню с таким волнением, как здесь, — ведь в годы войны мадам Бинэ принимала здесь советских военнопленных. В качестве пароля они предъявляли половинку монеты в десять сантимов. Адрес отеля давал русским мсье Пьер, а иногда привозил их сам.
— Конечно, их следовало сперва как следует накормить, — говорит мадам Бинэ. — В пути они питались кое-как. Да и на шахте ели не жирно.
Никто не совался сюда выяснять, что за люди едят у мадам Бинэ, ночуют в пристройке во дворе, загружают углем топку котла, моют посуду, рубят мясо.
Гостиницу эту, лучшую в округе, облюбовали себе гитлеровские офицеры в высоких званиях. Они располагались тут на отдых. Место считалось безопасным от партизан. Хозяева пользовались полным доверием оккупантов. Постояльцев не касалось, кого набирает в свой штат мадам Бинэ.
— А я бошам прямо сказала, — если вам требуется покой, избавьте меня от всяких проверок. Я ни в чем плохом не замечена, клиенты на меня не жалуются…
Понятно, что и партизаны оберегали покой мадам Бинэ, не ставили под удар ценную явку.
— На первых порах было очень страшно. Спасибо мсье Пьеру, ободрял меня, приносил новости с фронта. Ваша армия хорошо колотила бошей. Так как же не
•помогать русским?
Я крепко пожал руку мадам Бинэ. Мы вернулись в машину, и Петр Иванович снова нажал стартер.
— Теперь на передний край…
Дорога ведет нас в глубь Арденн. Гремят под колесами мостики, то справа, то слева подбегает река Урт. Ее синева гаснет, темнеет, потому что берега все круче. Лохматые бурки леса на плечах гор. Кое-где краснота голого камня. Селения все реже. Фермы маленькие, бедные.
Деревушка Баклен — горсточка домов из диких, грубо отесанных обломков скалы. Полоски ржи, ячменя, упирающиеся в опушку леса.
Крайний дом, поодаль от прочих. Старая женщина выходит к нам, держит козырьком ладонь. Доброе лицо в мелких-мелких морщинках.
— Нет, не узнаю вас, мсье…
— Пьер.
— Подождите, — она смотрит на Петра Ивановича в упор. — Мсье Пьер! Вот радость!
Трещат дрова в плите. Булькает вода в пузатом чайнике с подпалинами на боках.
— У вас все по-прежнему, мамаша Клеманс.
Ветераны-стулья, продавленное кресло, гигантское в тесном помещении. Табличка с изречением: «Когда бедняки помогают друг другу, бог ласково смеется». Фотографии родных, картинки из журналов, приклеенные к обоям. На одном фото, самом большом, в рамке — энергичное молодое лицо. Черты резкие. Брови сведены. Похоже, какая-то мысль не дает покоя.
— Помните его, мсье Пьер?
— Да, ваш Жюль. Где он сейчас?
— Все там же, мсье Пьер. У него гараж в Льеже, вы же знаете. Гараж-скорлупка, дохода чуть-чуть, но жаловаться стыдно. На семью хватает. Внука мне подарил.
Жюль — сын мамаши Клеманс. Считалось, что он живет в Канаде. Когда боши интересовались, мамаша Клеманс показывала им письма от сына с канадскими марками и штемпелями. Вся деревня восхищалась, до чего ловко мамаша Клеманс дурачит бошей. Они так и не раскусили подделку.
Крестьяне знали, где Жюль. Совсем недалеко, в лесу, в землянке. Он командир отряда. А его мать готовит партизанам еду, а иной раз пускает к себе ночевать.
— Предатель тут не уцелел бы, — говорит Петр Иванович. — Баклен была, в сущности, центром партизанского края. До ближайшей немецкой комендатуры — пятнадцать километров. Фашисты редко показывались, боялись нас.
Жюль мог видеть сквозь прогалину родной дом. А партизанский дозорный не спускал с него глаз. Если свет в окнах мамаши Клеманс вспыхнет два раза, значит в деревню пожаловали боши.
— А у меня ужин готов. Я жду не дождусь, когда уберутся подлые наци. Мальчики-то мои голодные сидят!
Мадам Клеманс поворачивает выключатель, демонстрирует язык сигналов, врезавшийся в память навсегда. Еще горшок с цветами… Если советскому гостю интересно, то вот, пожалуйста, — горшок не случайно появлялся то в одном окне, то в другом. Вот так… Цветы не те, но глиняный жбан тот же самый.
— Я была под командой у сына, — улыбается она. — Солдатом была.
— Ну, нет, — смеется Петр Иванович. — Не скромничайте.
И правда, ее звание куда выше. Русские парни, закинутые в чужие леса, называли ее с застенчивой неуклюжестью «маман», твердо выговаривая «н». Это было, может быть, не первое для них французское слово, но во всяком случае — самое дорогое. Не только храбрость этой женщины нужна была им, но и доброта. Да, доброта — драгоценное качество на фронте!
— Один мальчик мне грибов принес. Я больная лежала. «Кушайте, — говорит, — маман, поправляйтесь. Грибы полезные. У нас, в России, их очень любят». Я их сроду не ела. Но как можно обидеть хорошего мальчика! Я поджарила и попробовала при нем.
— Понравились вам? — спросил я.
Мадам Клеманс помялась. Что это, никак она и меня боится обидеть?
— Я похвалила, — сказала она.
— Березовики, — говорит Петр Иванович. — Тут грибное место. Бельгийцам они ни к чему. Не понимают вкуса.
Как же действовал отряд?
Петр Иванович перечисляет взорванные склады боеприпасов, мосты, убитых оккупантов, захваченных мотоциклистов с штабными документами. Маки совершали ночью большие переходы, нападали там, где враг меньше всего ждал их. Приказ центра гласил: тревожить фашистов, тревожить чаще, чтобы сковать здесь, на лесном фронте, как можно больше вражеских сил.
Мы прощаемся.
— Иван… Алексей… Степан… — Мадам Эстас Клеманс, по нашему Анастасия, старательно выговаривает русские имена. — Жаль, у меня нет фамилий, адресов. Может быть, у вас записано, мсье Пьер? Я бы очень хотела передать им привет. Сказать, что мамаша Клеманс их помнит.
Анатолия она не знала.
— Возможно, он был в другом отряде, — сказал Петр Иванович, когда мы тронулись. — Подождите, тут поблизости есть еще один человек…
До позднего вечера колесили мы по излучинам Арденн. В ущелье под гребнем леса фотографию Анатолия разглядывал хозяин бензоколонки — плечистый, в высоких охотничьих сапогах. Вздохнул, бережно вернул мне.
— Как будто он… Да, Анатоль, это точно. Он недолго был со мной. В скором времени ушел.
— Куда?
— На разведку, мсье. Их послали в Труа Пон, его и еще пятерых парней. Это в Великом герцогстве. Они не вернулись, мсье, к сожалению.
Точных сведений ветеран не имеет, но ему передавали: разведчики столкнулись с группой эсэсовцев и все до одного погибли. Значит, и Анатолий…
— Вам не верится, мсье? Знаете, и мне тоже. Он всегда говорил: я и в воде не тону, и в огне не горю. У вас в России такая поговорка, правда? Сколько раз мы думали — погиб человек! Однажды он пошел в деревню за продовольствием, и вдруг боши… Оцепили местность, обыскали каждый дом. Смотрят боши — из деревни выезжает на велосипеде кюре. Спокойно этак поднял руку для благословения. И проехал! Боши и подумать не могли, что в сутане — русский, партизан. До того натурально вышло у него… О мсье, — великий талант! Нет, не стану, не хочу утверждать, что его нет в живых.
Это все, что я смог узнать об Анатолии.
Бельгия — песня
Случилось так, что водитель нашего автобуса, покидавшего Бельгию, включил радио, и я услышал песню. Голос был мягкий, неназойливый, без тени эстрадной бойкости.
— Жак Брель, — сказал кто-то из пассажиров. Люди заулыбались, как будто встретили друга.
«Плоскую страну» я уже заучил почти наизусть. Но мне не надоест эта песня, ставшая по своей популярности вторым гимном Бельгии. Брель поет:
Пусть ее волны свирепые бьют, Пусть ее ветры мне спать не дают, Пусть ливень стеною встал у окна, Она моя — плоская страна.Последняя строка — припев, она повторяется после каждого куплета все громче, все горячей.
За окнами автобуса — бельгийские фермы, бельгийские звонницы, и я еще раз убеждаюсь, в каком он тесном слиянии со своей родиной — Жак Брель, гордость Бельгии.
Я вижу его. Простое лицо, худощавое, по-молодому застенчивое. Складки озабоченного лба. Похоже, он постоянно бьется над каким-то вопросом. Это выражение не оставляет его, когда он поет. В сущности, он в то же время и беседует со слушателями, делится мыслями, чувствами. Иногда его голос снижается почти до шепота, — он как будто сомневается, просит совета. И как торжествует голос, когда решение найдено!
Брель поет. Плоская страна. Она с первого взгляда однообразна, спокойна… По нет, она вся в движении. Навстречу волнам Северного моря поднялись волны дюн. А зеленые холмы Бельгии — они словно вечный шторм. Равнина Фландрии гладкая, зато отчетливы колокольни древних соборов — ее единственные горы. А на них — морды каменных химер. Оскалившись, они рвут серую ткань низких облаков. Там один только дождь скажет вам «спокойной ночи»… Но приходят и другие дни, солнечные, синие, когда «Италия спускается по Шельде».
Речь подлинного поэта! Он сам пишет свои песни, их охотно издают.
В автобусе наверняка найдутся люди, которые с радостью рассказали бы мне о Бреле — где он родился, как начал петь. Но это не сенсационный успех «звезды», обязанный моде. О Бреле говорят с интонацией чисто родственной, — будто сами помогали ему уйти из отцовского дома в Брабанте. Уйти от денег, от сытной еды, от наследства, от картонажного отцовского предприятия, которое должно было стать его судьбой.
Увы, он вынужден жить в Париже, вздыхают бельгийцы. Ничего не поделаешь: Бельгия — маленькая страна, многим талантливым людям приходится искать работу за рубежом. К тому же Париж для южной половины Бельгии не совсем чужой. Поет Брель и по-фламандски, чем радует и другую половину сограждан.
Любовь Бреля к родине — неуступчивая, взыскательная. Ни себя, ни других он не тешит иллюзиями. У него есть враги, он прямо называет их, бичует.
Он ненавидит все показное, ханжеское. «Ханжи» — одна из лучших его песен. Здесь ханжи — в черных одеждах святош, под химерами собора. «Если бы я был богом и увидел их за молитвой, я сам потерял бы веру». В другой песне он с горечью говорит о людях, которые говорят друг другу «о стихах, ими не читанных, о любви, ими не испытанной, сообщают истины, не приносящие пользы».
Требование поэта к людям, к самому себе сжато выражено названием одной из песен — «Жить стоя».
«Смотри, как иные прячутся, едва поднялся ветер, сгибаются, боятся, как бы он не толкнул в схватку чересчур жестокую. Прячутся, бегут, опустив голову, от зарождающейся любви, прячутся в тени привычек, впитанных с детства. Опускаются на колени под тяжестью иллюзорных надежд, опускаются, чтобы прочитать молитву, хотя молиться уже поздно и нельзя вернуть свидания, которые не состоялись. Так неужели же невозможно жить стоя?»
Песня «Буржуа» ироничная, полна яда.
«Мы были голодны, бывало, сидели за пивом, пели господам, проходившим мимо: „Буржуа точь-в-точь как свиньи, они чем крупнее, тем уродливей“. А сегодня мы сидим за пивом вместе с господами и нам юноши показывают зад и поют: „Буржуа точь-в-точь как свиньи…“»
Брель велит каждому поглядеть на самого себя. «О чем ты мечтал в юности, какие смелые фразы произносил?» — говорит поэт-певец. Что же осталось от высоких идеалов? Многие ли сохранили их?
Боль Жака Бреля понятна. Мещанство в Бельгии матерое, обросшее жиром. Немалая часть рабочего класса подпала под его влияние, погрязла в копеечных интересах. Бельгийский пролетарий никогда не поднимался на баррикады. Выдающихся революционеров страна не выдвинула. Она оказалась в стороне от больших классовых боев, сотрясавших Европу.
Но она не застыла на месте, плоская страна, — напоминает Брель.
Обо всем этом думаешь, слушая песни Бреля, — меткие, волнующие, умные.
Приходит на память «Капрал Касс — помпон». «Фуражка набекрень» — так лучше всего переводится это французское прозвище. Однако капрал уже не военный сегодня. Он живет в своем домике недалеко от Бельгии, работает в саду. Правда, орудуя лопатой, он воображает траншеи, огневые точки… О, соседи считают его добродушным мечтателем. Сажает цветы, насвистывая военную песню. Тоскует по казарме, только и всего, И еще — ему хочется, чтобы она была опять В Париже — его казарма. Ну можно ли строго судить за это чудаковатого малого! Да, его тянет снова войти в Париж во главе солдат. С песенкой, которую он вот уже четверть века не может забыть. Никак не отвяжется…
Голос певца только что звучал лирично, затем резче, с иронией, — Брель не сразу дает волю гневу. Э, не до шуток! Слишком серьезно то, что замышляют кое-какие капралы и генералы там, за рубежом, очень недалеко — на Рейне! Тонко передает Брель смену интонаций. И заканчивается песня взрывом гнева против тех, кто готовит новую мировую бойню.
…Радио в автобусе давно умолкло, а песни Бреля во мне не умолкают. Они и провожали меня до самой границы.
Фото. Бельгия
Морской путь в Бельгию ведет в устье полноводной реки Шельды. Берега ее густо застроены.
В Бельгии декабрь, но продавец легко одет, его цветы тоже не мерзнут.
Десятки бронзовых ремесленников на столбах ограды окружают сквер в центре Брюсселя. На снимке — мебельщик. Замечательный скульптурный ансамбль — дань мастеровым, создававшим Бельгию, «страну городов».
В этом доме в пригороде Брюсселя жил Эразм Роттердамский.
Третье столетие крепко стоит ферма в Ватерлоо, где Наполеон провел тревожную ночь, готовясь к сражению.
Главная улица Антверпена ведет к воде, к причалам.
На главной площади Антверпена — старые дома купеческих гильдий, с эмблемами судоходства и ремесел.
Высоко над Антверпеном вздымается колокольня средневекового собора, выдающегося памятника зодчества.
Легендарный великан, с которым люди должны были поладить, чтобы заложить Антверпен.
Рубенс проявил себя и как зодчий, — дом Рубенса в Антверпене построен по его проекту.
Знаменитый Маннекен Пис, маленький озорник, о котором вы прочтете в этой книге.
Церковь «На большой дюне», основанная в IX веке, — одно из самых старых зданий в Бельгии.
Праздник — смотр стрелковых обществ в Бельгии. Впереди колонны, наряженной в костюмы прошлого века, — «король», то есть лучший стрелок, с наградами на груди, и «королева», — его жена.
Турнэ — один из древнейших городов Валлонии.
Тихие каналы, древние стены — таков Брюгге, город-музей, привлекающий миллионы туристов.
Нельзя не подивиться мастерству кружевниц в Брюгге. Вот одна из них у порога своего дома.
Острые крыши Брюгге, его резные башни вдохновили не одного поэта.
В просвете старинной улочки — звонница Брюгге, с мощным карильоном.
Упорный маленький Люксембург
Что вы знаете о Люксембурге?
Автобус стоит точнехонько на границе — задние колеса его еще в Бельгии, а передние — в Великом герцогстве Люксембург. Момент преодоления границы хорош сам по себе, а сейчас тем паче. Подумать только — Люксембург!
Что вы знаете о Люксембурге? Одно из самых маленьких государств Европы, вот, пожалуй, и все. Мне тоже известно немного. Я чувствую себя первооткрывателем.
Стоим мы на рубеже, у открытого шлагбаума, потому что надеемся увидеть пограничника. Интересно, какая у него форма? Воображение невольно, но охотно рисует камзол, панцирь, шляпу с перьями и алебарду или мушкет. Должно быть, так действуют слова «Великое герцогство», звучащие столь архаично. Да что же это такое — Люксембург? Герцогства, графства были в несчетном множестве и почти все исчезли, а вот Люксембург остался…
Где же пограничный страж?
— Слишком холодно сегодня, — притворно сокрушается Жорж, наш шофер-бельгиец, круглый весельчак, рассказчик анекдотов.
Не может быть, чтобы пограничник побоялся холода! Однако страж так и не вышел из своей будки. Мы заметили лишь мановение руки за стеклом. Великое герцогство милостиво, без всяких формальностей, приняло нас в свои пределы.
Вот те на!
Мне немного досадно. Воображаемая картина Люксембурга, охраняемого живописными мушкетерами, обнесенного крепостным рвом с подъемными мостами, была так хороша!
Вместо этого — обыкновеннейшее шоссе, рядок двухэтажных домов, прижатый к лесистой волне Арденн. Дома на первый взгляд такие же, как в Бельгии…
— На что вы надеялись! — удивляется мой сосед, человек неромантического склада. — Какая тут может быть экзотика, в Западной Европе!
И все же что-то изменилось. Мушкетеров нет, но… Сдается, не наш век, а какой-то другой встречает нас в этом люксембургском городке. Неширокие окна, прорубленные в толстенной кладке, могучие железные ворота крепостной стати, ведущие в тесный дворик. Старомодные, неразговорчивые, неяркие вывески. Они не кличут прохожего, не зазывают…
Да, автобус явно покатил нас в прошлое.
День не угас, а на улице ни души. Похоже, городок уснул. Лохматые ели, рыжие песчаные обрывы вздымаются над кровлями. Очень скоро придет темнота и не даст нам разглядеть невиданный, все еще загадочный Люксембург.
Хмурая улица кончилась, к шоссе придвинулся лес, отхлынул, и началась другая улица, точь-в-точь такая же. Плотные ряды домов-бастионов и стеклобетонная бензостанция, сверкающая, как люстра.
Жорж включает свет. Я вижу его круглые плечи и розовый затылок. Уши шевелятся. Мы все знаем, что это значит. Он всегда двигает ушами, ежится и фыркает, прежде чем рассказать какую-нибудь историю.
— Ну, что вы хотите от Люксембурга? — начинает он. — Да вы оглянуться не успеете… Страна-то вся — восемьдесят километров в длину.
Жоржа легко понять: в Люксембурге он чувствует себя представителем огромной державы.
— Как-то раз приехал сюда один турист, — продолжает он. — «Ах, — говорит, — какие красивые у вас горы» А гид-люксембуржец этак сквозь зубы: «Ничего особенного, мсье! Захолустная немецкая гора!» Тогда турист поглядел в другую сторону. «Ах, — говорит, — какой прелестный замок!» А гид ему: «Недурен, мсье! Только он тоже не наш. Он во Франции».
Водитель сделал для нас все, что мог. За стеклами автобуса уже не различалось ничего, кроме редких огоньков и косматых, черных башлыков леса на холмах. И вдруг, когда я решил, что Люксембург скрылся от нас до утра, блеснула молния.
Блеснула, но не погасла. Красноватый огонь играл и пульсировал за стволами деревьев, бежавших по обочине шоссе. Видение было неожиданным, и я не сразу понял, что произошло. Это маленький Люксембург, маленький стальной силач, сообщал о себе самое важное.
Там, в долине, литейщики выплеснули шлак. На заводе, заслоненном от нас темнотой или пологом леса, завершили плавку.
Из всего виденного в этот вечер резче всего запомнилось именно это — багровые молнии, огненные клейма нынешнего века, врезанные в исконное лесное приволье, в сельскую тишину.
Гуден мойен!
Я проснулся в седьмом часу утра и сразу сбросил с себя одеяло, точнее перину, набитую пухом и расшитую крупными яркими розами.
За окном в вышине во мраке горел на невидимом шпиле зеленый, обведенный неоном крест. Нежно вызванивали колокола. Собор Люксембургской божьей матери, пробудившийся первым, звал прихожан под свой крест, на мессу.
«Ты наша мать, мы твои дети».Колокола несколько раз проиграли строчку гимна. И снова тишина. Тишина на полчаса, после чего подал голос другой храм.
Столичные звонницы перекликались до десяти часов. Но мы, разумеется, встали гораздо раньше. В путешествии спать некогда — тем более, если вы в Люксембурге!
Серое, туманное утро вошло в номер гостиницы, очень чистый, обставленный темной старомодной мебелью.
Умывальник поражал своими размерами. Он был почти с ванную. А краны действовали каждый сам по себе, без смесителя. Из одного хлестал крутой кипяток. Значит, надо закрыть раковину пробкой, набрать воды и черпать воду пригоршнями. Так принято у немцев.
А вывески за окном — французские.
Я сбежал вниз. За конторкой, под гирляндами пудовых медных ключей, сидел портье, смуглый атлет с тонким лицом д’Артаньяна. Однако я не услышал от него ожидаемого французского «бон жур».
— Гуден мойен! — произнес д’Артаньян.
Очевидно, это местный вариант немецкого «гутен морген».
Улица гасит огни. По широкому тротуару шагают неторопливые, добротно одетые люксембуржцы. Их опекают светофоры. Мостовая пустынна, но люксембуржец, застигнутый красным сигналом, послушно ждет.
И ждет долго. Светофоры здесь тоже «люксембуржцы» — медлительные и степенные.
Важно проплывает автобус с крупным гербовым львом на боку.
Плитчатый тротуар блестит, как паркет. Его старательно моют мылом. Он свободен от автоматов, от стендов с пестрыми газетными сенсациями. Здесь торгуют только в магазинах. Витрины обставлены просто, без всяких затей.
Массивные подъезды, крупные горделивые таблички. На каждой обстоятельно указаны и специальность жильца, и все его звания. Одна табличка прямо растрогала.
«Институт мойки окон» — гласили золотые буквы. «Основан в 1900 году. Старейшее предприятие этого рода в Великом герцогстве».
Поворачиваю обратно. Пора в гостиницу завтракать.
— Гуден мойен! — снова приветствует д’Артаньян. Видимо, здесь принято здороваться при каждой встрече.
— Какой это язык? Немецкий?
— Летцебургеш.
Нам известно, что здесь два государственных языка — немецкий и французский. Что же такое «летцебургеш»?
В ресторане все говорят на летцебургеш. Основа у него немецкая, но я редко улавливаю даже общий смысл. Летцебургеш — словно ускоренный, вскипевший немецкий. Он шипит и булькает, окончания слов бесследно тонут.
Вопросов в Люксембурге все больше и больше, а ответов пока еще нет.
Целый город неожиданностей
Улица, на которой стоит наш отель, самая обыкновенная с виду и никаких сюрпризов, кажется, не таит. Я прошел несколько кварталов, повернул за угол.
Передо мной огромный мост. На той стороне, вдали — шпили церквей, желтоватые глыбы древних укреплений.
Маленький, скромный город — и гигантский мостище, широко раскинутая по холмам крепость.
Сейчас, верно, откроется река. Однако откуда ей тут взяться? И точно: вместо могучего потока блестит узенькой змейкой крохотная, по-сельски извилистая речушка. Она течет по плоскому дну обширного оврага.
Что ж, он весьма кстати! Овраг разрывает город как раз посередине на две равные части и вместе с мостами придает ему масштабы вполне столичные.
Местами город не удержался на откосах, сбежал вниз. С моста видны красные крыши Нижнего города, или Грунда, рассеченного кривыми улочками. И где-то за ним, под скалистыми обрывами, в холодном тумане, резвая Петрюсс вливается в Альзетту, а та бежит до границы страны, соединяется с Мозелем. А сюда, в недра столицы, из мягких, лесистых долин врываются ароматы арденнского приволья.
Мост позади, мы в центре столицы. Узкие улицы, узкие, словно спрессованные фасады, скупо отмеренные ленточки панелей. Сразу видно, что мы в старой сердцевине города, распиравшей крепостные стены. Небольшие квадратные площади. На одной — белые, точно накрахмаленные палатки рынка. Пучки спаржи, сельдерея, местный виноград.
Ревут, бьются о стены, распугивают голубей зовы медных труб. Продавцы покидают прилавки и высыпают на улицу. Прохожие застывают на месте. Зрелище, впрочем, традиционное, — то караульная гвардейская рота в желточной форме войск НАТО марширует к замку великого герцога.
Замок, заложенный четыреста лет назад, запоминается своим высоким остроконечным двускатным фронтоном. И он крепко зажат в городской теснине. Зеленоватая стеклянная призма универмага — в стиле супермодерн — выглядит тут пришельцем из некой фантастической страны будущего.
От улицы отбегает переулок, ныряет под арку. Над головой узорчатый фонарь, угловой балкон с готической вязью — «Мир волле бливе ват мир зинд», что в переводе с «летцебургеш» означает — «Хотим остаться такими, какие мы есть».
Где же новостройки столицы? Где ее современные жилые кварталы? Их не видно. Это город без рабочих районов, почти без фабричных труб. Не здесь сверкают зимние молнии плавки. Поэтому столица почти не растет. А наш путь ведет все дальше в прошлое.
Да, Нижний город, кажется, еще старше. Это средневековый лабиринт, притихший у подножия темных, утесов, под бойницами фортов. Редко покажется прохожий, редко мелькнет машина, обдав бензином лепного угодника в нише. Рядом с вывеской «кока-кола» — латинская надпись, высеченная на сером камне. Это древнеримское надгробие, вмурованное в стену для вящей прочности.
Сдается, я побывал уже в трех городах, не выходя за пределы столицы. А впереди казематы и крепость.
Казематы — это глубокие подземелья, пробитые в скале, общей длиной в двадцать три километра. Прежде тут хранили порох, ядра, теперь почти половину катакомб занимают бочки с вином. От них по всем коридорам идет пьяный дух. Он обвевает «Беспокойного Пьера» — странную каменную фигуру, лежащую в пещере. Кого изобразил безымянный ваятель — неизвестно. Голова приподнята, глаза лукаво прищурены, следят за кем-то… На каменном ложе теплятся свечки. К «Беспокойному Пьеру» приходят обманутые женщины, втыкают в свечи иголки, лучинки, чтобы в сердце мучителя вонзилась боль. Пьер уж позаботится!
Море вина, запертое в бочках, и оплывающие свечи, каменный чудотворец… Право, неисчерпаемы неожиданности этой удивительной столицы!
Теперь — на земную поверхность и ввысь, в крепость. Дорога лепится по кромке обрыва, — справа желваки скал, увенчанные циклопической кладкой фортов, слева пропасть, верхушки деревьев. Строителям надо было лишь дополнить природу, чтобы создать эту твердыню, прозванную Северным Гибралтаром.
Дорога ныряет в туннель или в ворота, прорезанные в пузатой башне. Путеводитель интригует нас, называя башни по именам: вот — Близнецы, а там — Три Колоса. Стены штурмует плющ, во двориках бастионов форменная лесная чаща. То посланцы Арденнского леса явились сюда, чтобы заполнить крепость, затопить мирной зеленью. Однако Северный Гибралтар и сегодня внушает почтение. Откуда же у малютки Люксембурга такие великанские доспехи? Он не добивался их. Гербы на фортах чужие — испанские, французские, австрийские, прусские.
Они словно похваляются военной удачей, трофеями, пленными, эти надменные гербы завоевателей. А что хотят поведать вон те руины на утесе, над самой Альзеттой?
Наверно, здесь мы получим ответы на многие, очень многие вопросы. Нам открывается история города и страны — бурная и трагичная, как у всех маленьких народов. История говорит нам…
Впрочем, нет, — послушаем, сначала легенду.
Племя Зигфрида и Мелузины
Отцом люксембуржцев был витязь Зигфрид, а матерью — русалка Мелузина.
Сидела она на скале над рекой Альзеттой и занималась обычным русалочьим делом — расчесывала себе волосы. Тут и попался ей на глаза могучий охотник Зигфрид.
Умна была Мелузина — вмиг юркнула в воду. Куда Зигфриду жену с рыбьим хвостом, да еще бесприданницу! Позвала на помощь тайные силы, и в одну ночь возник среди леса замок. Потом обернулась русалка красавицей девицей и вышла к своему суженому из ворот чертога.
И поселились они там вместе, народили детей. Во всем была Мелузина покорна мужу, но раз в неделю она уходила из замка на целый день неизвестно куда. Следить за собой запрещала.
Долго крепился Зигфрид, но наконец не вытерпел, пошел за женой. Спустился к реке и вскрикнул, увидев Мелузину в облике русалки. Испугалась и она. Вскочила, побежала, скала расступилась и приняла Мелузину.
Не погибла она. Нет! Время от времени выходит она из скалы то в виде женщины, то в виде мудрой змеи с золотым ключом во рту.
Кто поцелует красотку или отнимет ключ у змеи, тот освободит Мелузину от чар и получит в награду все сокровища, какие есть в стране.
В каменном своем плену Мелузина вышивает. Один стежок в год… Мелузина не спешит. Если избавитель не явится и она закончит свое вышиванье, тогда будет худо. Весь город провалится в земные недра.
Такова легенда.
Конечно, историк разнесет ее вдребезги. Мелузина для него — попросту персонаж фольклора. Речные нимфы, как известно, состояли в пантеоне древних римлян. Да и здесь, у кельтского племени тревиров, речные божества тоже, верно, пользовались почетом. А Зигфрид, могучий Зигфрид, сын кузнеца, рыцарь с волшебным мечом — герой эпоса германцев.
Вот и все, что осталось от легенды. Одно верно: происхождение люксембуржцев смешанное, кельтско-германское. Еще в те стародавние времена им выпал жребий жить на земле порубежной, на стыке народов.
Жребий суровый…
Тревиры, их язык, обычаи растворились в нашествии германцев, извечно ломившихся с запада. В 963 году на берег Альзетты явился Зигфрид — тезка легендарного витязя, немецкий рыцарь. Он застал здесь лесную глушь да голую скалу с остатками римской сторожевой башни. Окрестные жители прозвали ее «Люцилинбурхук», что значит по-древнегермански «Маленькая крепость».
От Люцилинбурхука — Летцебург, нынешнее местное название города и страны.
Позднее в канцеляриях королей придумают другое имя — Люксембург.
Люкс — это сияние, роскошь. Однако здесь ничто не соответствовало этому блистательному титулу.
У скалы, где Зигфрид возвел свой замок, проходила торговая дорога из французского Реймса в немецкий Трир. Быть может, Зигфриду грезился тут новый город, богаче и могущественнее соседей?
В то время уже славился Брюгге — город ткачей. Льеж и Страсбург сбывали изделия своих оружейников, стеклодувов, чеканщиков, ваятелей.
Обитатели Арденн тоже не ленивы. Еще в римские времена тревиры были известны как искусные виноделы и мастера литья. Мозельские вина подавались на пирах Лукулла.
Одно требовалось — мир. А он был редким счастьем в пограничной стране. Здесь, в глубине европейского материка, грудь с грудью сошлись владыки Лотарингии, Брабанта, Бургундии, немецких графств за Мозелем. А за графами, герцогами стояли короли — германский, французский.
Железные рудники зарастали, исчезали в волне леса. Даже те, что были открыты тревирами…
Только одна пора затишья, золотая пора, отмечена в средневековых хрониках. Страной правила миролюбивая Эрмезинда. Она предоставила вольности чахлым городам, поощряла образование. Ремесла оживились. Стала складываться литература на летцебургеш — на местном языке. То было в тринадцатом веке. Мелкие сеньоры теряли власть, крупные набирали силу. Два века кровавых войн — и независимость Люксембурга кончилась. В 1443 году его захватывает Филипп Бургундский. С тех пор завоеватели сменяются непрерывно.
«Если есть в мире клочок земли, который испытал всю ярость войны, то это Люксембург, который однажды в течение двух лет был завоеван дважды и нещадно разорялся как врагами, так и друзьями».
Так писал гуманист Николай Мамеранус, здешний уроженец. На месте отчего дома он застал пожарище. Получив приют в Германии, он излагал там свои мечты о «государстве красоты и гармонии». Только вдали от родины мог он составлять свои труды по философии и лингвистике.
Судьба многих люксембуржцев…
На родине Мамерануса лютовала инквизиция. Люксембург на два века стал провинцией Испании.
В соседних Нидерландах из мастерских, с портовых причалов выступила против испанцев армия храбрецов гезов. Шестнадцатый век потряс католическую империю мощной революцией. У Люксембурга не могло быть таких сил.
Пушки на фортах держали город на прицеле. Знали свое дело и палачи, и иезуиты. Народ науськивали на «ведьм». Люксембург поразил Европу своеобразным рекордом — тридцать тысяч женщин было привлечено к суду по обвинению в колдовстве. Из них двадцать тысяч осуждены и погибли на кострах.
Испанцев сменили австрийцы. Для первых Люксембург был восточным форпостом, для вторых — западным, угрожавшим Франции. Новые форты, новые бойницы в старых стенах…
Австрийцев прогнали войска Наполеона. Разгромленные в России, они потянулись обратно, и тогда в город вступили пруссаки и небольшой отряд казаков. Одна лестница, ведущая с высот в Нижний город, до сих пор зовется Казачьей. Говорят, донцы, не слезая с коней, одолели этот крутой подъем.
Для самодержцев, собравшихся в Вену решать судьбы Европы, Люксембург был той маленькой гирькой, какую бросают на чашку весов для полного равновесия. Но гирьку рвали из рук! Король Пруссии и король Голландии — оба домогались Северного Гибралтара. Дать одному — значит усилить другого.
Решение вынесли двойственное, туманное, обнадежили обоих королей. В результате Люксембург получил двух хозяев. Управляли голландские чиновники, по голландским законам. А в крепости разместился прусский гарнизон.
И опять воцарилась над Альзеттой тишина. Тишина тюрьмы… До сих пор революции обходили маленькую, подневольную страну стороной, их огонь не находил здесь горючего. В церквах, в школах иезуиты учили покорности, блюли благочестие и шпионили. Но все сроки терпения кончались.
В 1830 году, вместе с бельгийцами, Люксембург переживает свою первую революцию.
Как и в Брюсселе, летят со стен голландские гербы. Довольно иноземного гнета! Полымя красных флагов, братание с прусскими солдатами, которых тоже захватил революционный дух… Но судьба страны снова решается за рубежом — на этот раз в Лондоне. Великие державы признают отделение от Голландии, однако свободы Люксембургу не даруют — он объявлен частью Германии, одним из германских княжеств.
Возмущение народа растет. И в 1839 году — снова революция, единодушная и победная.
Крохотный народ, зернышко между жерновами истории, выжил, сохранил национальное единство, свой язык — и теперь гордо водрузил над столицей свой трехцветный красно-бело-синий флаг.
Крепость еще не принадлежит ему. Прусский гарнизон покидает ее лишь в 1867 году. Северный Гибралтар разоружается, в казематы закатывают бочки с мозельским вином.
Испытания как будто позади…
Арденнская березка
Она растет на скалистом выступе, крепостная стена отделяет ее от пропасти. Трудно понять, где тут нашли почву корни отважного, цепкого дерева.
Я словно встретил соотечественницу.
И вдруг вспомнилось полузабытое… Фронтовая зима где-то за Лугой, пленный солдат в зеленой немецкой шинели, худой, высокий, обросший черной щетиной. Он сам сдался нашим автоматчикам, поднял руки, крикнул: «Гитлер капут!» Я разговариваю с ним в избе, где на время разместили партию пленных. Мы сидим на нарах на соломе, в махорочном дыму тускло желтеет фонарь «летучая мышь».
— Я не немец, — твердит пленный.
Нет, не немец и не германский подданный. Его взяли в армию насильно. Он люксембуржец.
Я впервые вижу люксембуржца. Мобилизован насильно? Я перебираю в памяти читанное в газетах.
— Мы маленькая страна, очень маленькая, — говорит он умоляюще.
Он не немец — вот главное, что я должен понять. Он люксембуржец, из Великого герцогства Люксембург. Только так надо записать. Только так… Нет, он не просит никаких льгот, никаких поблажек. Он просто не хочет, чтобы его считали немцем.
Он смотрит на меня с тревогой — да знает ли русский о существовании Люксембурга…
Я пишу — «люксембуржец» и показываю ему. Он радостно кивает. Потом я спрашиваю, из какой он части, какие потери в части, что побудило сдаться в плен.
Он протягивает мне замызганные, перетертые бумажки. Это наши листовки, он прятал их под подкладкой шинели. На каждой в конце — «пропуск для сдачи советским войскам», на немецком языке и на русском. Есть очень старые листовки. Значит, он давно собирает их. Но возможность перейти к нам представилась только вчера, когда советские «катюши» уложили чуть не всю роту.
Многие листовки знакомы мне. Мы сами писали их — я и мои сослуживцы.
Я долго беседую с люксембуржцем. Любопытно узнать побольше о нем и его стране.
— Наша деревня в лесу, — говорит он, волнуясь. — Это Арденны, вы, может быть, слышали… Здесь у вас местами похоже… Тоже березы. А у нас как раз возле нашего селения очень много берез. Я вырос среди них, в детстве мы каждую весну бегали пить березовый сок. И вот нас пригнали сюда, на восточный фронт, я увидел ваши березы, точь-в-точь такие же… Даже место одно есть, совсем как наша Березовая долина. А потом вы сбросили эту листовку.
Он бережно дрожащими пальцами развернул листок. «Тебя ждет березовый крест» — так начиналось это послание, тоже очень знакомое мне.
Гитлеровцы, уходя, оставляли много могил с березовыми крестами. На листовке красовалась такая могила. И было сказано, что враги напрасно надеются вернуться домой со славой, с железными крестами — наградой фюрера. Березовый крест — вот что получит солдат, если не сложит оружия.
— Это было как перст судьбы, господин офицер. Я чуть не заплакал. Нет, подумал я, пусть Гитлеру будет березовый крест.
Ему повезло. Многие его товарищи не вернулись с восточного фронта. Он сказал ясно — советские «катюши» уничтожили почти всю роту.
Как звали того люксембуржца, я не помню. И вряд ли я узнал бы его здесь, на улице.
Может быть, он сегодня прошел мимо меня. А может быть, в караульной роте, одетой в желточную форму войск НАТО, я видел его сына…
Они не забыты…
На другой день мне снова пришлось вспомнить войну. Это случилось не в столице, а в городе Эш сюр Альзетт, который, впрочем, тоже именуется метрополией.
И по праву! Дело не в том, что Эш с тридцатитысячным населением — второй по величине город. Эш плавит сталь, зажигает по ночам яркие, долго не гаснущие молнии. Да, метрополия стали! Выходит, Великое герцогство позволяет себе роскошь иметь две столицы — одну административную, другую индустриальную, пролетарскую.
Адрес, который я получил, гласит: Эш, кладбище Лаланж.
Утро выдалось хмурое — шоссе, вырвавшееся из столицы, потонуло в тумане. В него с трудом врубались желтые фары машин. Едва проступали черные языки леса на пологих холмах. Город, открывшийся нам через полчаса езды, оказался, в отличие от двухэтажных городков Люксембурга, трех- и четырехэтажным. У него нет ни старинного храма, ни средневекового замка, чтобы показать приезжим, — ведь Эш сформировался полвека назад из рабочего поселка. Но он гордится своей короткой историей. Здесь в 1902 году было положено начало социал-демократической партии Люксембурга. «Красный Эш» — первый забастовщик и смутьян.
В конце кладбищенской аллеи, на фоне ограды и коттеджей, населенных литейщиками, стоит обелиск из розовато-серых плит арденнского песчаника.
«Советским гражданам, погибшим в Люксембурге»…
Друзья вручают нам список. Валентине Россошановой было восемнадцать лет, Анастасии Погоняло — семнадцать, Илье Видному — девятнадцать…
Владислав Савчук, Николай Вронский, Владислав Вронский… Это малыши, родившиеся накануне войны, вместе с матерями попавшие в неволю.
Пятьдесят два имени в этом скорбном списке. Кто-то ведь заприметил могилы этих замученных в разных местах страны, с тем, чтобы потом, сразу после войны, соединить их вместе, на кладбище Лаланж… Кто? Люксембуржцы, друзья, участники Сопротивления. Они же собрали средства на постройку этого памятника.
Прекрасный памятник, один из лучших здесь…
Я думаю о тех, чьи сыновья и дочери похоронены тут, так далеко от родины. Пусть знают: Люксембург помнит мучеников. Они лежат рядом с друзьями, на кладбище героев. Кругом — могилы люксембуржцев. Друзья показывают их, коротко сообщают — «расстрелян», «обезглавлен», «умер в тюрьме».
Друзья вспоминают годы оккупации. И мне открывается замечательная эпопея люксембургского Сопротивления.
«Мы у себя дома»
Заявление гауляйтера Зимона было поистине беспримерным — люксембургской нации не существует. Домой, в германский райх!
В послушании Зимон не сомневался. Флаги со свастикой развевались над половиной Европы. Маленький Люксембург, насчитывающий едва триста тысяч людей, не посмеет и пикнуть! Для начала Зимон приказал стереть все надписи на летцебургеш, запретить французский язык и даже ношение широких «баскских» беретов, популярных во Франции. Говорить на летцебургеш разрешалось, но слова латинского происхождения извольте заменять немецкими!
Оккупанты, а с ними и местные предатели уже праздновали воссоединение с империей Гитлера. Оставалось только инсценировать народное волеизъявление. Каждому люксембуржцу вручили с этой целью анкету.
И вдруг…
Девяносто процентов, а местами девяносто пять процентов населения ответили, что их национальность не немецкая, а была и будет люксембуржской. Подданство — люксембуржское, родной язык — летцебургеш.
Словом, на предложение отречься от своей родины народ ответил трехкратным «нет».
Народ вспомнил, как много выстрадала страна в прошлом, как упорно ее желали втиснуть в число германских княжеств. Как немцы попирали нейтралитет Люксембурга в годы первой мировой войны.
На окнах запестрело: «Мы у себя дома!», «Нацисты, убирайтесь вон!»
Это было 10 октября 1941 года. Напомню еще раз — гитлеровцы уже продвинулись на запад до Пиренеев, на севере овладели норвежскими фиордами, вторглись на Балканы, окружили кольцом блокады Ленинград.
Фашистский террор в Люксембурге усилился. «Сопротивление в любой форме, — сказал гауляйтер, — будет караться смертной казнью». К началу ноября число арестованных, казненных достигло тысячи. Но самоуверенность уже покинула фашистов. Хоть и объявили они люксембуржцев подданными Германии, но брать их в армию не решались…
Потери на восточном фронте росли. В августе 1942 года оккупанты расклеили приказ. Лицам двенадцати возрастов явиться на призывные пункты.
И опять маленький, отважный Люксембург не замедлил ответить. Утром 1 сентября в Эше на металлургическом заводе зазвучала сирена. Откликнулись заводы столицы, всей страны. В течение суток забастовка сделалась всеобщей. Остановились машины, застыли поезда, опустели учреждения, классы в школах, аудитории в лицеях.
Гитлеровцы ввели чрезвычайное положение. Немецкие зондеркоманды врывались в квартиры рабочих. По улицам, по дорогам помчались автомобили с рупорами. Людей загоняли в цехи угрозами, побоями, под дулами винтовок… Несмотря на это, некоторые предприятия не работали неделю и дольше.
Сотни патриотов были заперты в тюрьмы и лагери. Двадцать забастовщиков фашисты расстреляли. Попал в руки фашистов и сталевар Генрих Адамс, который нажал рычаг гудка, дал сигнал к забастовке.
Адамс был немцем — и по национальности, и даже по подданству, хотя прожил в Люксембурге тридцать лет. Его судили в Кельне и казнили способом «чисто германским» — топором отрубили голову.
10 сентября гауляйтер докладывал Гитлеру, что порядок восстановлен. Однако рейх получил чувствительный удар от люксембуржцев. В армию призвали не двенадцать возрастов, а семь. Новобранцы при первом удобном случае срывали с себя ненавистную форму, убегали в лес, к партизанам. Многие уходили дальше, примыкали к французским или бельгийским маки.
Сопротивление не угасало. В чаще Арденн сколачивались отряды, в них вливались беглецы из лагерей — люди разных национальностей. Среди них были и советские воины.
В первых рядах Сопротивления в Люксембурге шли рабочие рудников, литейщики, доменщики — в значительной части коммунисты. Оккупанты не раз пытались уничтожить компартию. Однажды они захватили подпольную типографию газеты «Вархайт», что значит «Правда». Заработал другой печатный станок. Все годы войны, вплоть до освобождения, появлялись боевые листки. Непрерывно действовали подпольные штабы.
…Сейчас, когда я пишу эти строки, я как будто слышу неторопливую речь Артура Узельдингера.
Он здесь человек-легенда. В течение пяти лет он сбивал со следа гестаповских ищеек. Менял документы, явки, выскальзывал из когтей смерти. Жену его арестовали, подвергли пыткам, дочь Фернанда родилась в тюремном госпитале.
Узельдингер невысок, крепок, лицо у него сосредоточенное, упорно нестареющее. Рассказывает он мало, зато энергично поощряет своих товарищей.
— А помнишь, Артур, — говорит один, — трамваи…
На губах Узельдингера легкая улыбка. Она разгорается и словно озаряет его всего. Да, памятная история! Врагов донимали всеми способами и острым словцом тоже.
В столице — Люксембурге — на трамваях красовалась реклама немецкой парфюмерной фирмы, именовавшей себя сокращенно ЕНКО. «Покупайте мыло ЕНКО!» В один прекрасный день под этой строкой появилась другая, в рифму: «Еще лучше чистит Тимошенко».
В то время наши войска под командованием маршала Тимошенко нанесли сильный удар противнику.
— Гестаповцы так и не дознались, кто это сделал, — слышу я. — Правда, Артур?
Узельдингер знает лучше. Он все помнит.
Да, шпики остались с носом. Не сумели гитлеровцы разобраться и в газетных объявлениях. Выглядели они невинно: например, счастливые родители извещают родных и знакомых о появлении на свет младенца. А скрытый смысл был доступен только люксембуржцам. В действительности читателей поздравляли с… приближением войск союзников.
Тонкости языка летцебургеш, словечки уличного жаргона, условные обозначения воюющих сторон позволяли обманывать оккупантов самым дерзким образом — в печати. Подпольщики широко пользовались таким способом связи и пропаганды.
Примечательно, что предателей почти не было.
Так в Люксембурге, через четверть века после войны, я обнаружил собратьев по оружию.
Стальной малыш
— Мы маленькая страна.
Эту фразу здесь слышишь часто и диву даешься, сколько ей придают оттенков! Один произносит смущенно и как бы прося снисхождения, другой — с сожалением, третий — с иронией космополита и сноба, четвертый — бойко, с вызовом.
В городе Эш, в «метрополии рудного бассейна», эти слова звучат веско, с затаенной гордостью. Люксембуржцы вообще не любят громких возгласов и хвастовства. Вам деловито дадут справку: хоть страна и маленькая, а стали производит на душу населения в семнадцать раз больше, чем в Соединенных Штатах.
Крепок стальной малыш!
Между тем Люксембург совсем недавно обрел профессию металлурга.
Старая его специальность — чисто аристократическая. Великое герцогство именовали страной роз. Розы графских имений, носящие титулы своих хозяев, розы монастырей, посвященные апостолам и владыкам церкви.
Завоеватели вывозили из Люксембурга садовников. Они отличались при дворах Вены, Берлина, Парижа, трудились и в Петербурге. Шедевры садоводства воспевал кистью художник Пьер Редутэ, родом люксембуржец. Приближенный Марии Антуанетты — последней французской королевы, общепризнанный «Рафаэль цветов», он оставил множество полотен и гравюр. Это, в сущности, портреты цветов. Для романтика Редутэ цветок был существом одушевленным, со своим нравом, желаниями и привязанностями.
Люксембург и сегодня разводит розы. Скрещивает, добывает новые сорта, вывозит за рубеж.
Но в пейзажи герцогства, с его розариями и парками, с башенками вельможных замков, с лесными угодьями, вторглись домны, потоки шлака, дымящие трубы. Вторглись, словно пришельцы из простонародья, в поту, в пятнах сажи и в угольной пыли.
Случилось это внезапно…
Подземное сокровище, открытое еще тревирами, очень долго дожидалось своего часа. Руду извлекали для мелких домашних надобностей, железо шло на лопаты, вилы, плуги, на решетку барской усадьбы.
За границей реками текла сталь, а здесь дело не ладилось: трудная руда, слишком много в ней фосфора. Еще никто не знал Сиднея Томаса, бедного лондонского клерка, пугавшего жильцов своими опытами. В его мансарде в пылающем тигеле творилось будущее люксембургского рудного бассейна, да и многих других.
Метод томасирования, появившийся в восьмидесятых годах, избавил железо от фосфора. Для Люксембурга это означало промышленную революцию.
Пришла она с запозданием, но очень кстати. Крестьянам становилось тесно, малоземелье гнало людей за моря, к чужим просторам. «Теперь наша молодежь, — воскликнул с облегчением один публицист, — отправится на заработки не в Америку, а в Эш».
Эта фраза, пожалуй, лучше всего объясняет то нежное, даже лирическое отношение к стали, какое наблюдаешь в Люксембурге. Да, благодаря ей тысячи людей смогли остаться на родине. Страна вырвалась из отсталости. Маленький Люксембург нашел, наконец, свое занятие в современном мире. Занятие уважаемое, а главное, прибыльное, так как сталь — самая постоянная любимица конъюнктуры в наш беспокойный век.
Недавно горняки обнаружили рудник времен тревиров, давно забытый. Это было событием не только для археологов. Нет, — новость облетела всю страну, газеты писали о продолжении бессмертной национальной традиции.
Наравне с древней готикой и руинами замков оберегаются старинные доменные печи, топившиеся древесным углем, орудия и штольни пионеров рудного дела.
Литейный завод, возникший полвека с небольшим назад, на памяти отцов, еще не утратил обаяния новизны. Нигде в Западной Европе он не пользуется таким вниманием художников, как в Люксембурге. Зрелище плавки или проката привлекает даже сюрреалистов. О стали сложены песни. В литературном альманахе поэтесса Генриетта Тейсен, влюбленная в свой край, говорит о первооткрывателях металла.
Сегодняшний пропитан хлеб их мужеством в те дни. Нет, недостоин Эша тот, кто стали не сродни!Да, по производству стали на душу населения малыш держит мировой рекорд. Но интересны не только относительные цифры. Люксембург выплавляет стали намного больше, чем все три страны Скандинавии. По выпуску чугуна он тоже обогнал их, а также Италию и Австрию.
И однако Люксембург не сделался страной-городом, как его соседка Бельгия. Сталь не смяла ни розы, ни виноградники. Завод здесь — лишь деталь пейзажа. Он не очень изменил облик Великого герцогства. От заводов бегут рельсовые, шоссейные пути, а еще больше проселков и тропинок, ведущих в заросли, где щебечут птицы, поет ручей.
Люксембург не знает заводов-гигантов. Его рудные богатства рассеяны в недрах, широко разветвлены. Почти вся южная половина страны испещрена небольшими рудниками, небольшими заводами. Эш — столица бассейна, но об этом не догадаешься, пока не увидишь трубы, домны.
Улицы тихи, малолюдны. По вечерам на главной улице в немногочисленных кафе пьют пиво, листают газеты. К сенсациям из Парижа и Голливуда — к похождениям гангстеров и красавиц экрана — житель стальной метрополии равнодушен, зато известия политические он штудирует досконально и тут же негромко обсуждает их с товарищами.
За стенкой щелкают деревянные шары — там кегельбан, такой же, как в любом городке, в любом селении.
Эш притянул не только парней из окрестных селений. Он стал обетованным городом для многих бедняков за рубежом. Каждый четвертый житель Эша — итальянец. Одни пришельцы только и думают, как бы накопить денег и махнуть обратно, другие — и таких большинство — прижились тут. Предел их мечтаний — поехать в Италию хотя бы на две недели отпуска, отогреться, поплавать в теплом море.
Увы, и это не так-то просто!..
Сыновья и пасынки
Фасады Эша излучают благополучие. От прежнего селения сохранились старые фермерские дома: широченная арка ворот, прищуренные оконца, похожие на амбразуры. Втиснутые в ряд городских доходных домов, эти ветераны усиливают ощущение добротности, простого, но сытого уюта. Выделяются большие новые здания лицеев — мужского и женского. Из отчета муниципалитета видно, что среди молодежи, получающей там среднее образование, до сорока процентов — дети рабочих. Вероятно, и эта цифра — рекорд в Западной Европе.
В Эше есть театр, хоть и без постоянной труппы. Музей Сопротивления фашистам, отличный стадион. На большом пространстве раскинуты детские площадки для игр и спорта. В обширном городском лесопарке устроен зверинец, отведены места для туристов с палатками.
Верно, не напрасно сверкают витрины туристских контор, готовых снарядить вас куда угодно — хоть на пляжи Бразилии.
В контору входит молодая итальянка. Она поднимается на цыпочки, чтобы лучше разглядеть плакат.
— Мадонна миа! — восклицает она. — Ах, синьор, это же моя Перуджа.
Бразилия ей, конечно, ни к чему. Только Перуджа! До чего же хочется побывать на родине! Клерк раскладывает перед девушкой расписания, прейскуранты.
— Санта Мария! Нет, это дорого!
Порывистая южанка не может сдержаться, она высказывается несколько громче, чем принято здесь. Лысый клерк, невозмутимый хранитель ключей от всех стран мира, смотрит на итальянку неодобрительно.
Она вздыхает, комкает платок…
Вот так и случилось, что первый в Люксембурге разговор о житье-бытье завязался у меня с Франческой, уроженкой Перуджи.
— Вы понимаете, синьор, я тут третий год уже, и совсем одна. Вы скажете — вот смелая, поехала на свой риск за границу! А что было делать сироте? О, я бы ни за что не променяла нашу Перуджу на этот холод. И потом — здесь же как в монастыре… Но что мне оставалось? Заработки у нас плохие, а тут… Тут, синьор, трубят во все трубы! Послушаешь — прямо-таки рай в Люксембурге! Ну, я устроилась в отеле горничной. Платят три тысячи франков в месяц, вот и весь рай…
Да, деньги небольшие. Понятно, Франческа снимает комнату из дешевых, но и она берет четвертую часть зарплаты. На еду хватает, но много ли остается? Девушке же надо иметь вид! За модой не угнаться, модные вещи зверски дороги. Модное покупают местные, да и то не все, а для приезжих и прошлогодние фасоны хороши.
— Да, это так, синьор! Вся надежда на дешевые распродажи. Начнет торговец сбывать залежавшийся товар, тогда и мы можем кое-как одеться.
Я спросил Франческу, во сколько обошелся бы ей отпуск на родину.
— Ох, синьор, нечего и думать! Каждый год собираюсь, и никак не выходит… Мадонна миа! За одни билеты надо отдать все, что я получаю в месяц. А там кто меня будет кормить? Есть у меня, правда, тетя, так где же ей… Я сама хотела ее выписать сюда… Пообещала сдуру…
Вот они, на плакате, — купола Перуджи. Горько расставаться с мечтой. Рядом висит карта Европы, вся в голубых стрелках авиалиний. Я на глаз измеряю расстояния. Перуджа не так уж далеко. Гораздо ближе, чем от Москвы до Сочи.
Однако почему бы Франческе не подыскать другую работу? Ведь конъюнктура нынче неплохая, найдется место и на производстве.
— Что вы, синьор, никакого расчета! Мужчина и то не добьется хороших денег, если он приезжий. А женщина!.. Вы разве не знаете, синьор? Моя подруга на заводе — и что же? Велика ли радость? Ей платят почти вдвое меньше, чем мужчине, за ту же работу. У вас в России разве не так?
Она удивилась, услыхав, что у нас плата одинаковая. Еще раз уголком глаза взглянула на Перуджу.
— О, синьор, если бы я там, на родине, могла устроиться, как здесь!
Мы вышли.
— Чао! — крикнула она мне, переходя мостовую. Ее улыбка на миг осветила голый зимний перекресток в седых пятнах инея.
Как-то сложится судьба Франчески из Перуджи!..
Вербовщики рабочей силы, реклама акционерных обществ в унисон твердят о равных и неограниченных возможностях в рудном бассейне.
Конъюнктура капризна и своенравна. У нее есть любимцы. Это рабочие-умельцы, виртуозы, люди высшей квалификации. Некоторые сохранили за собой, избавив от долгов, дедовские дома в деревне на берегу Мозеля. Дети рабочей элиты, окончив лицей, учатся дальше, становятся инженерами, врачами, юристами.
Будущее для огромного большинства недостижимое! В стране высших учебных заведений нет, дипломы добываются за границей. Среди студентов-люксембуржцев дети рабочих и крестьян составляют всего-навсего пять процентов.
Пусть рабочий, стоящий ступенькой ниже, чем элита, получает десять — девять тысяч франков. Три тысячи он отдает за квартиру из двух комнат, девять процентов отнимают налоги, четыре с половиной процента — вычеты в больничную кассу. Лечение у заводского врача, однако, не бесплатное, лекарства дороги. Словом, чтобы свести концы с концами, да еще отложить на черный день, надо экономить каждый франк. При всем том рабочая верхушка и даже средний слой живут получше, чем во Франции или в Бельгии. Да, заработки на рудниках, на сталелитейных заводах едва ли не самые высокие в Западной Европе. Что же — хозяева здесь добрее? Нет, такого не замечается. Прибавку дали немногим за счет очень многих…
Маленький Люксембург не обладает колониями, которые, как известно, позволяют хозяевам питать рабочую аристократию. Но зато есть массы приезжих — итальянцев, испанцев, греков, людей, измученных безработицей, часто готовых на любые условия.
Что может быть лучше для монополий! Вот удобная возможность разделить рабочий класс на своих и чужих, сделать кое-какие уступки и поблажки своим, а чужих прижать, задержать их на черной работе, не пускать дальше низших ступеней профессии! К тому же благовидных оправданий сколько угодно — приезжие, мол, нерадивы, смотрят в лес…
Фасады в Эше опрятные, стены толстые — за ними не сразу различишь обездоленных, недовольных и париев стальной метрополии — полуголодных бедняков. Да, есть и такие!
«Заботами благотворителей в пятницу в 14 часов начинается продажа мяса по дешевым ценам…»
Маленькое объявление не бросается в глаза. Оно словно прячется в тень, подальше от богатых витрин и от плакатов туристской конторы, приглашающих вас провести отпуск под южным солнцем.
В дальний путь
Не смейтесь, мы отправляемся в дальний путь по Люксембургу.
Взгляните на карту. От Эша, расположенного на крайнем юге, рядом с Францией, мы поедем на восток, к Мозелю, и свернем на север. Сделав круг в полторы сотни километров, мы вернемся в столицу Люксембург. На пути Эхтернах, Вианден, Клерво — города неведомые и манящие. Города, о которых мы и слыхом не слыхали до сих пор.
Но, как назло, туман. Много ли мы увидим? Влезаю в автобус, ежась от холода и от огорчения.
В тумане, как за матовым стеклом, проплывали холмы-призраки, безлюдные, будто вымершие деревни, белые от инея колокольни.
На берегу Мозеля туман вдруг раздался и открыл нам пологие откосы, темно-зеленые, почти черные от голых, тронутых морозом виноградников. Скромная речка, серая под серым небом, вилась в долине, застенчиво разделяя два государства.
На той стороне, очень близко, тянутся фермерские дома-сундучки. У самой воды, среди кочек сырой низины, громоздятся огромные выбеленные скотные дворы. Цепочка построек прерывается рощей или лоскутком поля. Местами красно- и сизокрышие здания сгрудились, облепили церковку.
Они похожи, оба берега — немецкий и люксембургский, — и все-таки не одинаковы. Там лес посаженный, лежит аккуратным, обихоженным ковриком. Здесь же лес суровый, дикий. Кажется, он нехотя, после упорного боя с человеком, уступил место винограду.
И постройки здесь другие. Они как будто старше. Это дома-укрепления. Люди, коровы и лошади — под одной кровлей, в стенах, наглухо замыкающих маленький четырехугольный двор. На улицу сторожко глядят оконца и арка ворот. Кое-где традиционный орнамент на воротах. Шляпки гвоздей, вбитых плотными рядами, составляют очертания солнца, разбросавшего лучи…
Солнце — древний символ страны виноделов! Говорят, кое-где сохранились старые давилки-жернова на круглой каменной чаше. Теперь туристы гурьбой толкают рычаг и дивятся — до чего же сильны были прежние виноделы! Домашнее приготовление вина ушло в прошлое. Виноград свозят на заводы, принадлежащие монастырю, графу — владельцу соседнего замка — или крестьянской кооперации.
Деревня небольшая, часто один посад, обращенный лицом к реке. Харчевня с могучими дубовыми скамьями, на столах миски с горохом — закуской к пиву. На вершине холма над крышами статуя святого Доната, оберегающего дома и посевы от града и бурь.
Мозель отбегает вправо, рубежом теперь служит его приток Зауэр, речонка и вовсе ничтожная, затянутая осокой. Слышно, как в Западной Германии гогочут гуси.
Виноградников стало меньше, все теснее, кудрявым прибоем надвигаются леса. Однако неужели мы так и не попробуем мозельского вина, знаменитого со времен римского гастронома Лукулла!
Тревога напрасная. Нас угощают на первом же перевале, в уютном сводчатом ресторане. Вино легкое, освежающее, в меру кислое.
Плечистые, рослые официанты, толстяк хозяин, его мило краснеющие дочки — все смотрят на нас с приветливым любопытством. Господа из Советского Союза! Оттуда клиентов еще не было. Жаль, сейчас ничего интересного нет. Зима! Надо приехать летом на праздник.
— Какой праздник? — спросил я.
— Мсье! — Хозяин поднял брови. — Вы разве не слышали? День святого Виллиброра. Наша танцующая процессия.
Я смутился.
— Безумие! — подал голос наш Жорж.
Эта явная непочтительность, однако, никого не обидела. Дочки захихикали, а хозяин сказал с чувством:
— Вы бы видели, господа, сколько у меня тогда бывает клиентов!
Разумеется, мы стали расспрашивать.
Городок стар, базилика Виллиброра с ее аркадой в романском стиле и круглыми, острыми башенками по карнизу стоит уже тысячу лет, а странная процессия еще старше. Вероятно, в основе ее какой-нибудь дохристианский, магический обряд. Из памяти народной он уже исчез.
Если верить церковникам, святой Виллиброр, англичанин, принес в Арденны истинную веру, разбил идолов и прогнал некую эпилептическую хворь. С тех пор верующие отмечают этот подвиг каждый год, двигаясь вприпрыжку в крестном ходе под музыку и пение.
Другое объяснение дает легенда. Один горожанин был несправедливо обвинен в убийстве. Перед казнью он попросил разрешения сыграть на скрипке. Последний раз… Только он коснулся струн, как судьи, публика, а затем и все обитатели Эхтернаха начали плясать. Никто не заметил, как скрипач ушел из города. День, другой и третий все плясали на улицах, на виноградниках и даже в церкви. Плясали, обливаясь потом, томимые голодом, жаждой. На счастье, явился в Эхтернах святой Виллиброр и молитвой снял чары, остановил мучительную пляску.
Поныне тысячи людей съезжаются к престольному празднику. Многие относятся к церемонии всерьез — ведь есть поверье, что участие в крестном ходе может избавить от любой болезни твоего родственника или тебя самого… Туристы — те устремляются просто поглазеть на уникальное зрелище. Но нередко их затягивает процессия.
Ведь удержаться трудно. Через весь город шеренгами, держась за концы белых платков, двигается шествие одержимых. Два шажка вперед, три назад или, сменив ритм, пять шажков вперед и три назад. Впереди приплясывает самый старый житель города, за ним — священники, поющие гимн. Грохочут оркестры.
Шествие длится несколько часов и завершается в церкви торжественным молебном. А затем народ кидается к ярмарочным лоткам, каруселям, в кегельбаны и, понятно, пивные и харчевни.
— Мсье, — сказал нам на прощание хозяин, — я вам очень советую приехать. Вы нигде в мире не увидите ничего подобного. У меня бывают клиенты из Англии, мсье. Даже из Канады, мсье. Даже из Америки.
Лицо его с жиденькими усиками было при этом благоговейное.
Когда мы рассаживались в автобусе, городок мирно дремал, притулившись к гряде Арденн, одурманенный их хвойным ароматом. И, казалось, не подозревал о своей чуть ли не всемирной славе.
Дорога все чаще взлетает с холма на холм и постепенно набирает подъем.
Уже смеркалось, когда мы нырнули в Вианден. Да, именно нырнули, скатившись с пригорка, и очутились на извилистой улице-теснине. Пышно разузоренные фонари на железных бра, подслеповатые мезонины, подвальные таверны, выщербленный лепной герб на стене, дева Мария в нише, одетая в ситцы, по-крестьянски…
Вон, вон из машины! Разве можно не пройтись по этому городку-музею! Улица сбегает к речке Ур, к мосту, а затем карабкается на холм, к руинам огромного графского замка.
Сейчас здесь — жилище летучих мышей, ящериц. Осколок Виандена средневекового, упоминаемого не только летописцами, но и капелланом Германом, самым ранним люксембургским поэтом. В своей келье он изложил стихами сказание о святой Иоланде Вианденской.
В замке шумно, весело. За столами сотни гостей. Одна Иоланда грустит, не притрагивается к яствам. Напрасно уговаривает ее молодой граф.
Ты исполнишь ли, сестра, что я велю, Своевольства дольше я не потерплю, Окажи почтенье мне с моей женой, Угощайся, пой и радуйся со мной!Иоланда не находит себе места на свадьбе брата, ее ничто не радует в родовом поместье, — она решила стать монахиней. Поэма написана в тринадцатом веке. В ней шесть тысяч строк. Это едва ли не самое грандиозное в тогдашней литературе восхваление католического благочестия.
Куда ближе нам другая глава истории Виандена.
У моста через Ур, на набережной, стоит небольшой, вросший в землю дом. Посетителям показывают комнаты, оклеенные старыми, выгоревшими обоями, конторку, чернильницу… Можно прочитать слова, произнесенные однажды здесь на крыльце растроганным седовласым человеком.
«Я хотел бы все ваши руки собрать в своей, крепко сжать своей рукой…»
У крыльца собрались местные жители, в их числе музыканты, члены ансамбля «Рабочая лира». Они пришли, чтобы сыграть серенаду в честь дорогого гостя — Виктора Гюго.
Гюго приезжал сюда несколько раз. Он очень любил Вианден. Ему нравилось просыпаться на широкой деревянной кровати, вдыхать полной грудью воздух у открытого окна, над речкой в солнечных бликах, нравилось бродить по лесам и среди развалин графской твердыни, на осенней ярмарке орехов.
Однажды на колокольне ударили в набат. Гюго выбежал одним из первых, взял ведро, всю ночь вместе с другими гасил пожар.
Гюго видели на осенней ярмарке орехов, в толпе, у каруселей, видели в таверне с крестьянами за стаканом «кватч» — здешней сливовицы.
«У вас, Сен Жак, — говорил Гюго местному леснику, — благодатная прекрасная земля, но вот сеньоры построили замок-крепость, и он повис над всей округой, как штык, воткнутый в вашу землю, и соки земли вытянули тунеядцы. С тех пор прошли века, замок разрушен, но сеньоры остались, и по-прежнему все богатства земли, добытые вами, идут к ним».
Последний раз Гюго занимал комнату в доме у моста летом 1871 года. «Меня гонит непогода», — говаривал он. Теперь даже Брюссель — постоянное убежище писателя-изгнанника — отказал ему в гостеприимстве. Гюго тяжело провинился в глазах бельгийской королевской власти. Он объявил в газетах, что его дом в Брюсселе открыт для парижских коммунаров. Для тех, кто избежал расправы и ищет приюта за рубежом.
Горько на душе у Гюго. Он знает, что в Париже свирепствуют палачи. «Грозный год», — так называется цикл стихотворений, рождающихся в Виандене. Поэзия скорби, негодования.
Но вера в будущее не покинула Гюго и в тот зловещий год. Наверно, любимый Вианден, славные, простые, неунывающие друзья помогали держать перо…
Дом у моста — святыня в Виандене. О Гюго говорят так, как будто он все еще живет здесь. Как будто его следы отпечатались на заснеженном мосту через Ур.
Неслышно течет холодная, сонная речка. Холмы и щербатые остатки крепости и дома на том берегу — все поглотили туман и темнота. Только редкие фонари едва теплятся в дрожащей, влекомой куда-то дымке. На мосту памятник, в чертах Гюго, высеченных из камня, залегли резкие тени.
Так закончился первый день дальнего рейса по маленькому Люксембургу.
В люксембургской Швейцарии
Право, километры здесь другие. Всего-навсего сотня их намоталась на спидометр — расстояние, по нашим масштабам, пустяковое. А на нем, между тем, что-то около двадцати городов, несколько областных наречий. В одном селении мы слышали знакомое «гуден мойен», в другом, — «мюрген». От волнистых равнин юга страны, лишь кое-где зачерненных лесом, мы проехали по мозельской долине винограда, затем поднялись по ступеням хвойных Арденн. Сменились пейзажи, климаты.
Что же еще в запасе у Люксембурга — маленького волшебника? Неужели новые неожиданности? Представьте — да!
Городок Клерво как будто сполз с крутой горы вместе с обвалом. Стряхнул с себя песок, гравий и, едва удержавшись на приречном карнизе, впился в ложбины своими зигзагообразными, отчаянно раскиданными улицами. Пропадая в провалах почвы, они словно прячутся от надменного двухбашенного храма. Из всех домов городка видно это серое, грузное здание, громоздящееся на холме. Волей-неволей глядишь на него снизу вверх. Кажется, даже пустые окна заброшенного замка взирают на аббатство с немым подобострастием.
Зловещая слава у аббатства Клерво. Здесь проповедовали самые жестокие изуверы. По их приказу жгли людей на кострах.
Старинная постройка кажется новой — так старательно ее поддерживают, заделывают трещины. Розовые, сытые священнослужители выходят из ворот аббатства. Им тут вольготно, Люксембург и ныне именуется крепостью католичества.
Одна из крупнейших партий в стране — католическая. Все школы — под надзором церкви. Получить место учителя можно только по ее рекомендации. За учащимися зорко следят классные дамы — монахини, классные наставники — монахи. Колледж Атенеум был основан в шестнадцатом веке при испанском короле Филиппе и герцоге Альбе, при свете костров инквизиции. Отцы-иезуиты по-прежнему обучают в нем молодежь.
Все отрасли труда охвачены католическими профсоюзами. А ремесленники, как и встарь, объединены в цеха, и каждый цех имеет своего святого покровителя. Вчера я прочел в газете, что кузнецы и слесари справляли свой праздник — собрались на обед, а затем отправились на мессу в честь цехового патрона, святого Элигия.
Святой Губерт — патрон охотников. Его день — 3 ноября, и поэтому ноябрьская сессия парламента может состояться лишь в первый четверг после этого праздника. Не все члены парламента увлекаются теперь охотой, но обычай сохранился…
Все это пришло на память у стен аббатства.
Кажется, весь городок притих перед ним, упал на колени…
Я провожаю глазами компанию монахов. Нет, они не истязают себя постами и молитвами. Из всех жителей Клерво они, несомненно, самые упитанные, самоуверенные, довольные.
Два школьника резвятся у входа в мясную лавку. Один оглянулся на монахов, высунул язык.
Мясник повесил над тротуаром кабанью тушу. Она огромная, черная, лохматая, от нее несет диким звериным запахом лесных трущоб. Мальчуганы расстреливают кабана, упоенно щелкают жестяными пистолетами. Это маленькие ковбои. На них полное, блистающее снаряжение — широкие шляпы, пояса с бляхами.
Я заговорил с ребятами.
— Вы охотник? — спрашивают ковбои по-французски.
Охотники, видно, часто наезжают сюда. Увы, я не охотник. Мальчики вежливо молчат, но чувствуется, я упал в их мнении.
— А то мы бы вам показали, где барсук живет, — сказал один ковбой.
— Мы знаем, где олени есть, — похвастался его приятель.
— Где?
— Вон там, — и он протянул руку к лесу, нависшему над городком. — Очень-очень близко.
Арденнские ковбои сосут эскимо и разглядывают нас. Им странно: зачем мы приехали сюда, если мы не охотники.
А где суматошная, тесная, окутанная заводским дымом Западная Европа? Наверно, за тридевять земель…
Мне еще предстоит дорога в глубь лесного края. Для этого надо повернуть от Клерво к югу.
Селения редки — не то, что в пограничье. Здесь настоящие просторы. Шоссе вьется по излучинам рек, потом начинается горный серпантин. Долины рек глубже и круче врезаны в землю.
Кое-где в чащах находят грубо отесанные камни. В расположении их чувствуется некий загадочный для нас порядок. Это, по-видимому, храмы. Здесь совершали моления друиды — жрецы и предводители кельтов.
Но вот еще храмы или остатки крепостей. Они высятся у самого шоссе, местами образуют сплошные улицы высоких, местами осыпавшихся, трещиневатых стен, круглых башен с пучком деревьев наверху, вместо купола. Причудливые карнизы в несколько этажей, огромные ворота в черную пустоту, узкие расщелины-переулки, теряющиеся среди этих диковинных построек…
Похоже — заколдованный, уснувший город, окаменелая легенда в лесной глуши…
Но нет, строитель здесь — природа. Стены отшлифовала вода. И она же пробила пещеры, ниши, ущелья и вместе с ветром расколола и сбросила с обрыва, прямо в кювет, мелкий плитчатый лом песчаника.
Но легенда все-таки живет в этих местах. Детям рассказывают о Виллиброре, который ходил здесь с крестом и посохом и разрушил идолов. О чудесном, бессмертном олене, носящем на голове между рогами лучезарное распятие. О странных камнях, исходящих потом или кровью. О злых, несправедливых рыцарях, сраженных здесь небесной карой.
Диковины природы щедро питают фантазию. Указатели на шоссе направляют путника в «Замок филинов» с его причудливыми, прорытыми водой коридорами, или в ледовый грот, где и в июле таится зима.
У многих стран есть свои Швейцарии — имеется она и у Люксембурга. Чем он хуже других! Здешняя, правда, миниатюрна — снежных пиков нет, возвышенности редко превышают четыреста метров. Но зато как многообразен рисунок долин, откосов, каньонов, скульптура скал, краски песчаников, серых доломитов, светлых известняков, черных сланцев. И зеленое население лесного приволья, где рядом с сосной растет кизил, недалеко от березы — грецкий орех.
Черты природы многих стран как будто сжаты в одной горсти. И напрасно туристские фирмы взяли напрокат вывеску Швейцарии — у Люксембурга есть свое имя, которого ему, право, нечего стыдиться.
Туристов здесь бывает много. Летом на зеленой ступени горы, среди узловатых дубов разбивают палатки, разжигают костры. Рыболовы спускаются по замшелым камням к речке ловить форелей.
Спустился вечер и стал безжалостно набрасывать покрывала на деревья, на скальную феерию — словно сторож в музее.
Часа через два лес отхлынул назад и впереди в темноте очертился в небе зеленый крест. Я вернулся в столицу, проделав по стране круг в сто пятьдесят километров. Но не простых, а уплотненных, чисто люксембургских. Вряд ли еще где-нибудь на земном шаре есть такие километры.
Загадочный обелиск
Из всех миниатюрных, уютных площадей столицы мне больше всего нравится пляс д’Арм — Оружейная. Она вся на ступеньке холма, и с улицы, расположенной внизу, туда поднимаешься по старинной лестнице, парадно украшенной каменными вазами. Как мосты велики для города, так и лестница, кажется, велика для площади, на которой, однако, уместились и сквер, и беседка для оркестра, и площадка для гуляющих. В теплые летние вечера вокруг музыкантов прохаживается, можно сказать, весь столичный Люксембург.
Не сразу заметишь в уголке площади невысокий, скромный обелиск со знакомой надписью — «Мы хотим остаться такими, какие мы есть». Чьи-то два лица выбиты на постаменте, но имен я не обнаружил.
Кто они?
Авось прохожий поможет мне. Размашистый, пахнущий духами господин с бархатными черными усиками охотно остановился, чтобы потолковать с иностранцем.
— Этот памятник? Позвольте, позвольте, мьсе. Видите наш девиз? Забавно, не правда ли? Попробуйте остаться таким же, когда все в жизни меняется. Очевидно, поставили в честь независимости или чего-нибудь в этом роде…
Он зашагал дальше, а я обратился к пожилой даме в пенсне.
— Право, ничего не могу сообщить, — сказала она, смерив меня внимательным, испытующим взглядом.
Не знал и подросток-старшеклассник в нейлоновой курточке, с непокрытой, коротко остриженной головой. Я остановил еще несколько человек с тем же плачевным результатом. Выручил меня только седьмой прохожий — благообразный старец в длинном пальто, высокий, большелобый, с добрыми и покорными голубыми глазами. Я почему-то представил себе его скрипачом при дворе великого герцога.
— Это памятник нашим классикам Диксу и Ленцу. Дикс и Ленц, — повторил он отчетливее, — разрешите, я покажу вам, как пишется.
Он нежно отнял у меня блокнот. Его явно обрадовала возможность сообщить приезжему эти имена.
— Дикс и Ленц, — произнес он еще раз и ласково улыбнулся.
Мне не терпелось познакомиться с творчеством поэтов-классиков. Но оказалось, их давно уже не издают. Писали они на летцебургеш, так что читать их мне трудно.
Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной на столе стопка книг, присланных люксембургскими друзьями. Мне открывается пора, которую следует именовать золотой в истории культуры страны.
Это середина девятнадцатого века.
Ветры революции носятся по Европе. Шатаются троны. Народы зависимые рвутся к самостоятельности. Они требуют равноправия для своего языка и культуры.
В маленьком Люксембурге тоже неспокойно.
Новые мысли рождаются в кружках интеллигенции. Но как их выразить, сообщить народу? Средневековый язык «Сказания о Иоланде» не годится. Надо заново создать литературный летцебургеш.
Поэтому прежде всего следует сказать о человеке, который выполнил эту задачу, облегчил путь классикам.
В городе Люксембурге, в переулке Трех Королей, в семье сапожника вырос необычайно любознательный мальчик. Чтобы учиться, он обрек себя на долгие годы лишений. Только став школьным преподавателем в Эхтернахе, Антон Мейер смог, наконец, есть досыта.
Однако кусок застревает в горле, когда кругом столько тупого и жестокого ханжества, столько зла!
Первое свое произведение — «Отрывок из письма, найденного в святой обители Эхтернаха» — Мейер пишет по-французски. Это едкий памфлет. Все чинуши городка, все церковники ополчились против учителя. Пришлось уложить пожитки и убраться.
Недолго продержался он и в другом городе. Внушать ученикам повиновение властям, духовным и светским, стало невмоготу. Мейер швырнул учебник в угол, повел урок по-своему. А затем, вместо того чтобы покаяться директору школы, заявил: «Мне не впервой ночевать под открытым небом!»
Бунтарь, скиталец, нигде не ладивший с начальниками — вот кто был Антон Мейер, автор «Переполоха на люксембургском Парнасе», вышедшего в 1829 году. Первая поэма, напечатанная на современном летцебургеш, — она неизбежно должна была быть сатирической. Перо было оружием для кипучего, яростного вольнодумца.
Судьбе понадобилось, чтобы в том же старинном, кривом переулке Трех Королей увидел свет Михель Ленц. И недалеко от сапожной мастерской Мейеров, в квартирке пекаря.
Биографы Ленца досадовали — на редкость ровный жизненный путь, никаких происшествий. Похоже, этот невысокий, аккуратный человек, застегнутый на все пуговицы, образцово-вежливый, ни разу не повысил голоса, ни на кого не рассердился.
Однако он любил читать бунтаря Мейера. И нередко писал стихи, удивлявшие друзей. Добрый Ленц, очарованный созерцатель природы, оказывается, замечает, что людьми управляет золото, что деньгами определены, скованы человеческие устремления…
Все же Ленц-сатирик слабее, чем Ленц-лирик. Одно чувство владело им почти целиком — преклонение перед родиной. Тихо, без громких фраз, восхищался он ее природой, ее песнями. Он много учился у песнопевца-народа. В селениях подхватили безыскусственно-простые, нежные стихи Ленца, стали их петь.
И поют до сих пор.
С новой силой зазвучали песни Ленца в годы оккупации. Гитлеровцы объявили Ленца поэтом зловредным. В ответ на улицах, в кафе, в поезде раздавалось:
Жизнь моя — в моей стране, Ее дыхание — во мне, Мои мечты — в ее хотеньях, Она — всех болей утешенье.Не страшась преследований, патриоты пели «Онс Хемехт» — «Наша Родина», национальный гимн Люксембурга, написанный Ленцем.
На обелиске, водруженном в столице, рядом с Михелем Ленцем изображен Дикс, его современник.
Эдмонд де ла Фонтэн — таково его полное имя. Своих предков-аристократов он не помнил, языка их не знал — первые свои французские слова выучил в школе.
«Десять» по-французски dix, причем икс не произносится. А Эдмонд прочел в классе так, как написано — «дикс». Возникло прозвище — короткое, броское, очень подходившее быстрому, шаловливому мальчугану. Затем де ла Фонтэн стал подписывать свои стихотворные опыты школьным прозвищем — случай в истории литературы редкий.
Дикс и Ленц — современники, организаторы первых литературных журналов в Люксембурге, но встречались они не часто, дружить мешала противоположность характеров. Дикс был шумным, суматошным непоседой. Занялся адвокатурой — и провалился, завел фабрику — и прогорел, так как практическая сметка у него отсутствовала начисто. Многие боялись язвительных насмешек Дикса. Он никого не щадил. Весьма высокопоставленные лица узнали себя в сатирической поэме «Совиный парламент». Автору грозили судом.
Известен Дикс и как драматург. Он дал старт национальному театру. Премьера музыкальной пьесы «Долговая квитанция», состоявшаяся в 1855 году, обрадовала зрителей не только остроумным сюжетом, но и тем, что актеры впервые играли на летцебургеш.
Долговая квитанция — орудие шантажа в руках бесчестного богача. Напрасно доверилась ему бедная вдова. Долг она заплатила, а расписку свою отобрать постеснялась. И богач требует в жены красавицу дочку вдовы. Если откажут — разорит, оставит без гроша. А девушка любит простого трубочиста. Им удается перехитрить ростовщика и выставить его на посмешище.
Дикс ненавидел толстосумов. Все их махинации терпят крах в его пьесах.
Люксембург не знал баррикад, революционных взрывов, но его отважная, чуткая литература ясно выражала передовые идеи века.
В 1872 году появился «Де Ренерт»— поэма техника-строителя Мишеля Роданжа. «Ренерт» — значит «лиса». В поэме действует Рейнеке Фукс, герой германского фольклора, не раз оживавший и под пером литераторов. Гениальнейшее воплощение хитрого, ловкого Рейнеке дал Гете. Именно его поэма и повлияла больше всего на Роданжа. Однако он удержался от простого пересказа. Его Ренерт, владыка Лев, волк Изегрим и другие участники символического действа стали жителями Арденн, люксембуржцами. Роданж по-своему очертил их характеры, дополнил традиционный сюжет эпизодами, которые прямо перекликались с местной злобой дня.
Лира Роданжа еще более гражданственна. В облике лесных животных грызутся между собой политические дельцы, поощряемые Германией, Францией или Бельгией. Роданж горячо защищает от них независимость своей родины.
Ренерт, побежденный волком, молит о пощаде. Мошенник обещает протекцию во всех начинаниях, содействие на выборах, прославление в газетах.
Сатира Роданжа колет хлестким народным словцом. Своих зверей он расселил по разным областям страны, наделил каждого сокровищами местных наречий. Роданж знал их в совершенстве, как никто из литераторов.
Золотая пора выдвинула множество одаренных людей. В сущности, диалект заслужил тогда звание языка.
Теперь книга на летцебургеш появляется очень редко. Еще встречаешь на газетной странице статью на летцебургеш, а в альманахе, в журнале — рассказ или стихотворение.
В нашем столетии окрепла литература на государственных языках — немецком и французском. Немецкий понятнее народу, лучше усвоен в школе. Он стал языком почти всех газет и большинства писателей.
Романист Эрпельдинг — выходец из деревни, всю жизнь он мечтал написать книгу о родной земле. Книгу с большой буквы, о самом прекрасном, о самом дорогом. Все сделанное он считал подготовкой к ней. Лучший его роман «Бернд Бихель» вышел в семнадцатом году. Краски у Эрпельдинга трагические, контрастные — быт людей на фоне чарующего пейзажа суров и тесен для радости.
«Был праздник мертвых. Звонили все колокола — они будили и мертвых Бенцена. В Бенцене церкви не было. Мертвых носили вниз, в долину, той же дорогой, какой свозят урожай. Там, на жирной луговой земле, на берегу Шлея, стоит церковь. Вокруг шпиля кружат галки. Церковь служит им осью движения, как и людям. Она влечет жителей Бенцена толпами в час мессы, затем они возвращаются в свои дома и потом снова тянутся к церкви. Мертвых клали не слишком далеко от церкви, чтобы колокол страшного суда донесся и к ним в долину».
Церковь и земля — вот весь мир Бернда Бихеля. Чтобы не раздробить земельный надел Бихелей, он женит сына на дочери своего брата. Но семья вырождается без свежей крови, дети-близнецы родились слепыми. Старый Бернд начал пить, хозяйство рушится и наконец идет с молотка. В этот день Бернд как будто трезвеет, он даже пытается, собрав все свои деньги до сантима, купить землю, вернуть ее. Но денег не хватило. Бернд кончает с собой.
В отличие от Эрпельдинга, Йозеф Функ — писатель горожанин. Своего героя он увидел на окраине столицы — это бедный мусорщик Штеллер. По мостовой стучат колеса его тележки, в которую запряжена собака Лина, его единственный друг. Когда Штеллер заболевает туберкулезом и попадает в больницу, врач Эммель пытается вылечить не только тело, но и озлобленную душу больного. Эммель хочет примирить его с обществом. Но напрасно! Штеллер видит и в нем своего врага, теряет веру в доктора, убегает от медиков. Он умирает дома, на нищей постели, сожженный болезнью и яростью своего протеста.
«Судьба маленького человека» — так назван этот роман, завершенный незадолго до второй мировой войны. Судьба безысходна, — ведь Штеллер жалкий одиночка.
После войны появились книги об оккупации, о борьбе против гитлеризма, например, роман Эмиля Хеммена «Выбор». Автор дает выразительную картину всенародного сопротивления. Роман автобиографичен; Хеммен сам был в числе тех юношей, которые отказались служить в армии Гитлера и ушли в партизаны. Читатель видит советских людей, заброшенных в Люксембург войной, видит, как воодушевляли здешних маки победные вести нашего радио.
Нет, не беден талантами маленький народ! Даже беглое знакомство с его литературой было для меня открытием — в Люксембурге написано много, гораздо больше, чем я мог предположить.
Из здешних художников мне запомнился недавно умерший Йозеф Куттер. Картины его разбросаны по галереям многих стран. Я видел в Антверпене одного из его клоунов. Человек в цирковом наряде лихо растягивает мехи аккордеона, а лицо его закрыто мертвенно-белой маской. Но и не видя лица, угадываешь — человеку невесело. Тощая угловатая фигура как бы изглодана, изломана душевным томлением. Картина выразительна, написана очень талантливой кистью. Куттер оставил после себя серию клоунов, пятнадцать полотен — и на каждом белеет маска. Биографы пишут, что картины автобиографичны, что бедный бродячий клоун — это сам художник. Он угождает толпе за кусок хлеба и подлинные свои чувства, мысли, свои поиски идеала он скрывает — публике это не нужно, да и не поймет она…
Многие художники, писатели, артисты, люди науки, техники потеряли всякую связь с родной почвой. Другие страны усыновили их, одарили славой. Лишь справочники напоминают по обязанности: «Родился в Люксембурге».
— Мы маленькая, очень маленькая страна…
Я часто слышу это. Говорят то с сожалением, то как бы извиняясь за что-то.
Да, территория Люксембурга карликовая. Но я, право, не могу назвать маленьким его народ, отличившийся богатырскими свершениями, богатырским мужеством.
Фото. Люксембург
Главная улица Люксембурга.
Тротуары в Люксембурге старательно моют мылом.
В Люксембурге, на одетых лесом холмах возвышаются древние замки, овеянные легендами.
В столице — городе Люксембурге — над оврагом стоят бастионы «Северного Гибралтара». Бюст Виктора Гюго в Виандене, где великий писатель любил отдыхать и работать.
Бюст Виктора Гюго в Виандене, где великий писатель любил отдыхать и работать.





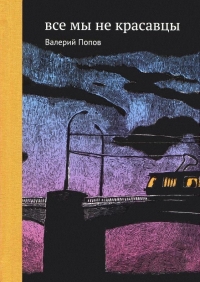



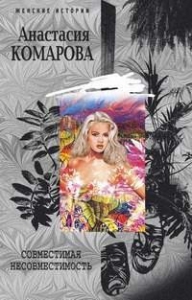
Комментарии к книге «Тюльпаны, колокола, ветряные мельницы», Владимир Николаевич Дружинин
Всего 0 комментариев