Николаевна Матвеева Бабка Поля Московская
Бабка Поля Московская
Часть 1. Деревня
Родилась Пелагея 19 мая 1895 года в небольшом сельце Петровское Чернского уезда Тульской губернии, на границе с губернией Орловской, в знаменитых тургеневских и бунинских охотничьих местах за Бежиным Лугом.
Старшая дочь в небогатой семье мельника и крестьянки, где было еще семеро детей – сестра Александра, попросту Сашка, младше Пелагеи на 3 года, и шесть братьев мал-мала-меньше, – Пелагея с детства вела весь дом. Последний брат, Ким – Аким, стал причиной смерти матери родами, в 1913 году. Ребенок выжил, а мать потеряли. Было мамке Ксении ровно тридцать лет и три года, Божий возраст.
Отец не запил, не женился вторично, но стал «бирюком», работал на мельнице день и ночь.
Когда-то мельник Василий Иванович Стёпин и его молодайка-жена, бывшая уже на сносях первым ребенком – будущей Полькой, – переехали из-под Орла сначала «на царскую мельницу» в старинный уездный городок Чернь, а оттуда – на «поповскую крупорушку» на мелкой речке Роска, за 20 верст от этой Черни, в большую деревню Лужны, где стояла на прибитой пылью сельской площади огромная кирпичная соборная церковь с пятью куполами и длинной, отовсюду видной колокольней.
Старинный древний погост рядом с церковной оградой, у вырытого вручную пруда-«сажалки» с гусями и утками, и красивый поповский дом ограждали толстые, в шесть обхватов, старые, все в дуплах и трещинах, высаженные правильным квадратом ракитки.
Барская усадьба – имение князя Урусова, предком которого был молодой генерал-герой 1812 года, чей портрет и по сей день висит в Эрмитажной галерее Санкт-Петербурга, – располагалась на горке над речкой.
Сад вокруг усадьбы круто спускался белыми по весне волнами с горы вниз, прямо к реке. Сразу от парадного входа и через центр сада неширокая аллея лип вела к уходящим глубоко в воду ступеням лестницы маленькой пристани для лодок; слева мостки и настил из гладко выструганных досок обозначали проход в купальню и бани, а справа от лодок, привязанных к воткнутым в воду шестам, располагалась менажерия с белыми и черными лебедями.
Если пройти вдоль плоского травяного берега сотню метров правее от лебединых домиков, можно было пересечь речку по белокаменному броду.
Широкая дорога с наезженной колеей круто спускалась из колосящегося желтого поля, одним краем доходящего почти до самой воды, и через брод, уже на другом берегу, из кустов ивняка вздымалась резко в зелень пойменного заливного луга.
Вокруг Лужён на высоких холмах, называемых местными уважительно «верхами», на расстоянии в полторы – много две версты друг от друга, разбросаны были еще и другие, более мелкие деревушки, из названий которых можно было понять, что это барские службы: Псарка, Сторожевая, Коньки; в огородных далях терялся широкий «двухрядный» Роскатец, деревня, названная по имени речки Роски.
Роскатец широко залегал, и впрямь, как раскатившись, между двумя горушками вдоль обоих речных берегов. Левая часть деревни Роскатец, если стоять спиной к Петровской часовне, видной с макушки горы, более широкая и погуще заросшая садами, звалась иногда по-старинному Ошуя. Правая часть, через речку, как через улицу, с малым числом домов и без садов, но вся в бешеной по весне сирени, сизой и белой, звалась Заливная, и пройти туда можно было или по шатким высоким «кладкам» из бревен, или вброд под горой в самом конце Роскатца.
При въезде в эту деревню со стороны Лужён нельзя было не остановиться, залюбовавшись небольшим, утопающим в яркой зелени, гремящим слева от дороги тоненьким водопадом.
Ручеек хрустальной красоты чистой солнечной струей бил резко вперед с высоты человеческого роста, из очень узкой расселины, не задевая камня горы. Пить его воду можно было стоя, просто подойдя со стороны горки, как бы сзади водопада, чуть опираясь на валун и открыв рот пошире. Назывался ручей Гремучим Колодцем. Вода шумной струей падала в отстоящий на метр от горы дубовый колодезный сруб, неглубокий, на высоту ведра. Был этот Гремучий ручей знаменит на всю округу. Вкус ледяной воды называли серебряным.
Сельцо Петровское, где родилась Пелагея Васильевна, расположено было на крутой горке, прямо посередине пути от Лужён на Роскатец.
Путь этот шел по огородным «задам» деревень, мимо полей и луга, через небольшую дубовую рощицу на кромке старого мелкого оврага.
Вёснами этот кусок дороги вдоль дубов пах по вечерам свежей горечью молодой коры, растрескивающей закоченелые стволы.
Одуряющий сладкий аромат поднимался и летом вместе с вечерними туманами и свивался в тонком воздухе с запахом медуницы.
Ранней осенью молодые желуди вываливались с треском из своих уже не зеленых шляпок, прибавляя к божественному дурману полусопрелых желто-розовых кружевных листьев на пушистой земле рощицы нежную ноту тления желудевой шелухи.
Зимой свежий глубокий снег здесь тонко зеленел, как подсвеченный, и крепкий ветер разносил сонный дубовый дух.
А на самой макушке другой горы, напротив рощи, на обрывистом склоне, уходящем к петлистой под ним речке, стояла краснокирпичная небеленая часовня с чугунными резными двустворчатыми вратами и забранными в ромбы чугунных же ставен тремя высокими и узкими окнами.
Часовенку эту воздвиг в 1864 году князь Урусов «в вечную память добраму Тестю». Как гласила далее надпись на чугунной доске, усопший тесть, «ГенералЪ-Лейтенант Павел Петрович Годеин, основал сельцо Петровское 01 Октября 1831 года», а сам мирно «почил в Бозе» за год до постройки часовенки там, где всегда и проживал, – в старой столице, в Москве.
По большим праздникам к часовенке поднимались, неся иконы и хоругви, красивыми крестными ходами, с Луженским батюшкой во главе.
Польке было пять лет, когда она запомнила впервые и надолго эту часовню.
Зимой ребятня деревенская любила скатываться на соломенных рогожках прямо с макушки этой горы, отталкиваясь руками от кирпичных стен, по длинной снежной бороде тропинки, до замерзшей речки. Летели со свистом, едва дыша, внизу на страшной скорости пересекали ледяную гладь мельничного затона и лаптями упирались в голубоватую глину крутого противоположного берега.
Вскоре после Рождества, в самые крещенские морозы, Полька, вся в снегу и отпыхиваясь, поднималась на горку, чтобы еще, в который уже раз за день, съехать на речной лед. Навстречу деревенские бабы, наступая на длинные подолы, по свежему глубокому снегу спускались к проруби полоскать белье, неся перед собой прижатые к животам огроменнные узлы с мокрым тряпьем, уложенным на деревянныме вальки, и громко ругали ребят за то, что те раскатали утоптанную ступеньками тропку.
Малышня сгрудилась на вершине вокруг часовенки и ждала, когда же злые тетеньки скроются из виду. Вот и Полька решила переждать.
Вдруг Ванька Артамонов, внук кузнеца, стал тыкать пальцем в чугунные воротца и сказал, ни к кому не обращаясь: «А это дед мой ворота ковал, вон клейма его, два “Аза”, около ручек выбиты!»
Ручки на вратах были, видать, медные, и сияли на холодном солнце просто как золото! Полька сопливым носом как раз до них доставала, но ничего не поняла, на что надо было смотреть.
А Ванька заорал внезапно, изо всех сил стараясь подражать знаменитому на деревне басу деда своего Андрюхи Артамонова, любившего громко петь и на клиросе, и в кабаке: «Вот они, ручки-то золотые! А ну, цалуйте их быстро, сук-кины дети!»
Полька уже не увидела, что Ванька совал всем под нос свои кулаки. Она мокрыми мягкими губами приложилась к медным ручкам ворот часовни. И приросла. Отдирая губы, еще и языком себе помогла, до крови. Все так и обмерли сначала, а потом повалились со смеху в снег. После этого случая Полька долго еще обходила часовенку стороной.
Стрельчатое окно напротив входа в часовню обрамляло захватывающий вид: на фоне голубой речной дали в зеленых берегах и синего в белых облаках летнего неба, как и на чистом белом зимнем полотне, видно было как на ладони всю Луженскую церковь с высокой колокольней. И казалось на расстоянии, что это очень дорогая барская резная игрушка.
Говорили, что вдоль реки, прямо подо дном, прорыт был версты в три длиной тайный ход из высокой часовни аккурат в самые подклети собора.
Позади Лужен, вдали, за «пятью верхами», рос черный темный лес, страшный, непроезжий, разбойничий, называвшийся Красным.
Перед въездом на последнюю, пятую горушку, на которой сразу возвышались густые синие ели Красного леса, был глубокий овраг с родниками, делавшими дно его болотистым и жутким. Место это называлось Провальная Яма, и туда на дно сбрасывали падаль – павших лошадей и коров без шкур, собак, свиней и кошек. Ходили слухи, что и убитых в Красном людей разбойники тоже сваливали туда, в ряску, сразу покрывавшую и тела, и кости скелетов.
Даже запах из этого оврага казался жутким, хотя преобладала в нем нежная горечь свежесорванной водяной белой лилии и сладость желтой кувшинки.
И, особенно тягучий в предзакатное время, туманными чарами расползался по объездной дороге бесовский тот аромат, звал подойти поближе к благоуханию, оступиться и скатиться в ледяную зеленую муть.
Да и сама речка Роска, мелкая и холодная, подпитанная родниками, неприветлива была ни днем, ни вечером, а уж в темное время в поросших ивами и высоким тростником берегах ее постоянно раздавались голоса ночной живности: филин ухал; свиристели летучие мыши; куропатки и дикие голуби взлетали заполошно и падали обратно в кусты; квакали, рыдая, на бродах лягушки, и плавали по речной глади красноватые пятипалые огромные листья. Это торчали на поверхности воды растопыренные ладони Мокрой Маши, водяной лешачихи, живущей всегда в речке Роске. Она часто хватала своими ждущими ледяными руками маленьких детей, очутившихся в воде без ведома взрослых.
* * *
Бабок, дедов, иных родственников у мельника Василия в округе не было. Поэтому после смерти его жены продолжила воспитывать детей старшая дочь, восемнадцатилетняя Поля. Младшая, Сашка, в свои пятнадцать, стала вести хозяйство. Сестры не могли не задумываться о собственных судьбах. Ведь мама обещала, что сразу по осени, как только она «опростается» младшим, отец приведет в дом сватов к Польке из деревни Архангельское, от молодого кузнеца Ивана, того, что с «золотыми руками».
Архангельское находилось в 10 верстах от Петровского, туда ездили «верхами» на лошадях, или на телегах, или на санях зимой, и редко когда ходили пешком; там тоже была своя церковь, как и в Лужнах, но только маленькая, со стрельчатой невысокой колокольней и вся белая, аж до голубизны; стояла она возле глубокого пруда, окруженного липами, и вся отражалась в стеклянной воде как белое облако.
В Архангельском жила незамужняя сестра княгини Урусовой, старая барышня Годеина. Она была «не в себе» – очень добрая, ласковая, но с кукольным неподвижным лицом, вся воздушная и в белом, распевала себе под нос по-чужому гундявые песенки, летом в жаркую погоду гулять выходила иногда прямо на деревенскую улицу, в сопровождении горничной, которая держала над ней раскрытым белый зонтик в кружевах, и лакея.
Любила покупать у девок лесную землянику, велела платить каждой из подошедших по гривеннику за туесок и следила за тем, как лакей принимал ягоду, а горничная открывала бисерную сумочку и отдавала монетку девочке.
После этого барышня тонкими пальцами в белоснежной перчатке пробегала, как будто по клавишам, слегка касаясь платков, по светлым детским головенкам. Не любила, когда девочки пытались поцеловать ей руку или просто дотронуться до доброй барышни.
К самым маленьким наклонялась близко и долго рассматривала, глаза в глаза, пока дитя не заплачет. Вдруг начинала плакать сама, и ее уводили.
Многие девочки ходили в лес около Архангельского только из-за того, чтобы встретить барышню, и если уж не удастся получить гривенник, то хотя бы вдоволь насмотреться на нее как на «диву дивную» и рассказать потом об этом в своей деревне.
Ходили туда и Полька с Сашкой. Принесли раз обе по гривеннику, отдали матери. Рассказов тех хватило надолго.
Но чаще всего в Архангельское ездили на кузню, подковать лошадей, починить плуг или так что-нибудь по хозяйству, и зайти посидеть в чайную при дороге, обменяться новостями, сходить в гости к родне или кумовьям, отдать и получить нехитрые гостинцы.
Кузнец Костюха Артамонов давно был самостоятельным семьянином. С тех пор, как помер батя, уснув зимой пьяным на санях, а лошадь привезла его уже застывшим прямо к кузнице, Костюха взял всю работу на себя и сразу обзавелся семейством. В тот год он хотел женить по осени и младшего своего брата Ивана.
Мельникова дочь Полька была как раз то, что надо. Она вошла в возраст, оказалась хоть и не больно красивой с лица, особенно по сравнению с младшей своей сестрой Санькой, зато крепкой, как молодая кобылка, и очень работящей.
Но отцу Поли теперь было не до этого; осень напролет он работал, как вол, все чаще не возвращаясь с мельницы; ночевал в доме редко, спал – не спал, а ночами скрежетал зубами и даже кричал и плакал во сне. Подходила зима 1914 года.
А перед самым Покровом Поля и ее младший брат Ким заболели оспой. Болезнь эта пришла летом – на паперти в Лужнах померла странница, уходя из церкви, где облобызала все доступные иконы, – а скользкой ранней осенью пошла зараза гулять по дворам и выкосила в деревнях много народа.
Брат-младенец умер («Бог его к маме прибрал, скучала она там, видно, сильно по маленькому своему», – сказала Санька).
Пелагея выздоровела, но покрылась «рябинами», особенно на лице было заметно розовое их «цветение». (Эти оспенные рубцы совсем посветлели и стали почти не видны только к тридцати ее годам, а к старости и вовсе сгладились, остались лишь на мягкой теплой коже под морщинистым двойным подбородком, и когда ее маленькая внучка – первенец обнимала ручками бабушкину шею, то говорила – у бабы бобо!). Поля перестала смотреть на себя в зеркало. И не любила, когда кто-нибудь у зеркала «крутился».
Весной, перед поздней Пасхой, в дом мельника все же приехали сваты от кузнецов, но сосватали только младшую, уже 16-летнюю, сестру Саньку.
Полька же, «рябая» и в едва исполнившиеся 19 лет почти «перестарок», которую «не отстоял» родной отец (не захотел он вдруг отпускать из дому дочь-няньку для малолетних, а без его воли младшая не смогла бы выйти замуж раньше старшей!), от «позора» уехала из деревни сразу же после «Красной горки», отгуляв-отплакав на свадьбе сестры.
Сашка в храме, под венцом, хороша была «как андел небесный», в паре с красивым женихом Иваном, Полькиным ведь бывшим женихом, шептались бабы.
Поля бросила отца с братьями одних, «без хозяйки», и тем самым отомстила слабовольному тяте, пожелав ему, не без злорадства, самому еще успеть жениться на молодой.
А уехала она аж в самую Москву, «к дядьке Кузьме», младшему брату своего отца, в няньки к его ребенку.
Часть 2. Москва, Главпочтамт
Дядя Кузьма Иванович, приехавший на свадьбу младшей своей «племяшки» и неожиданно забравший с собой в Москву старшую племянницу, и не просто так, а по сговору с братом, «за лошадь», жил с молодой своей женой, двумя маленькими дочками и новорожденным сыном в самом центре Москвы, в Потаповском переулке, близ Главпочтамта на Чистых Прудах.
Жил он с молодой семьей совместно с родителями жены в бревенчатом на каменном цоколе двухэтажном домике своего тестя – дьякона церкви Фрола и Лавра, – лошадиных покровителей, той самой маленькой неприметной церквушки, что стоит в одном дворе с высокой розовой красавицей – Меньшиковой башней, – и занимался почтовым «извозом». Домик дьякона построен был прямо на дворе огромной почтамтовской конюшни, окнами в переулок, а задним крыльцом выходил «в аккурат насупротив огромадной навозной кучи», и как ее ни убирали каждое утро и вечер, отвозя длинными и глубокими железными повозками конские яблоки, смешанные с соломой и опилками, как ни застилали большими деревянными коробами, куча росла и росла, и запах распространяла на все близлежащие улицы.
У дяди Кузьмы смолоду оказалась своя лошадь, молодая, спокойная и выносливая, доставшаяся ему в наследство от умершего в Орле отца, и на этой лошади Кузьма и уехал пять лет тому искать работу в Москве. Сразу после смерти вдового отца оба брата решили продать отцовский дом в Орле и жить там, где найдут себе работу. Другую отцовскую лошадь, норовистую упряжную кобылку, взял себе брат Василий, ставший деревенским мельником.
Теперь Кузьма возвращался домой «с песнями» – и вместе с бесплатной нянькой Пелагеей, и на новой коняге, которую отдал ему в обмен на прежнюю, заезженную в городе тяжелой почтовой работой клячу, старший брат. Лошадь эта новая была замечательная, и осталась в памяти Пелагеи на всю жизнь. Это был молоденький жеребец. Отец Поли два года назад оставил новорожденного жеребенка себе, не стал, как обычно, продавать, потому что кобылку его мельничную покрыл тем летом чистых кровей орловский тяжеловоз, на котором привезли на поповскую мельницу зерно от самого князя.
Жеребенка назвали Соколик, он вырос крупный, но ладный и статный, «гнедой со звездой» и с легкой лохматинкой над задними бабками. Вот из-за этого-то Соколика дядя Кузьма и взял к себе дочь брата «на кошт».
Полька заступила в няньки ранним летом 1914 года. Она забрала с собой из деревни все свое приданое до нитки: пять «штук» миткаля, три локтя кружев самовязанных, две юбки шерстяных клетчатых «тульских», три юбки нижних «простых», но с кружевами, одну понёву, два плата козьих пуховых, темный и белый, перину «перовую», подушку пуховую и одеяло стёганое сатиновое. Чулки бумажные, чулки шерстяные, душегрейку белую овчинную. А еще она взяла маленькую материнскую иконку Николая-Угодника в окладе серебром. Молча, сняла «с-под кивота, и баста».
Все добро было погружено в здоровый дубовый сундук с коваными тремя замками и уголками и с толстой железной ручкой посерединке, что легко отваливалась набок. На сундуке этом стала она спать под лестницей при кухне в теплом доме тестя «дяди Кузьме» (а не Кузьмы! Так она говорила – «у дяде Кузьме», но зато: «поеду к дяди Кузьмы»!). Постелила на жесткий сундук перину, так что и ручка его железная не почувствовалась, взбила подушку, укрылась одеялом – все свое, «и не даденное и не краденое».
Работа у проворной Поли сразу заладилась: две девочки-близняшки двух лет и младенец в городской чистоте – это тебе не шестеро пацанят в деревне. Стирала на весь дом отдельная, приходящая с почтамтовского двора, прачка. Еду готовила старая хозяйка-дьяконица («дьячиха») сама, за продуктами в соседние магазины и лавки стала ходить освободившаяся молодуха-тетушка.
Пелагею стала она звать Полина, посылала ее только в булочную. Сначала девушка входила в сладкой сдобой пахнущую из-под пола булочной пекарню, проходила мимо огромной, всегда пышущей огнем печи («потому и пышки! – пых-пых!»), в которой кочегарили мальчонка лет двенадцати и старик с седой козлиной бородой, оба в длиннющих фартуках и высоких колпаках. Колпаки эти вызывали невольное фырканье, Полька резво поднималась по витой чугунной лесенке «для прислуги» наверх, в булочную, старик ухмылялся, щипал за зад и частенько протягивал кусочек сырого сдобного «пушистого» теста. Полина тут же клала его в рот, и не было, кажется, ничего вкуснее этого крошечного сахаристого кусочка.
С детьми Полина любила гулять не во дворике – палисаде в переулке, где все одно несло навозом с конного двора, а подалее, на Чистых Пудах. Детей нарядно одевали, «ну прям как господских», нянька Полька напяливала кружевную нижнюю и шерстяную клетчатую юбку, сверху поневу, чистую рубаху с красными вышитыми курочками на вороте и широких рукавах, заплетала свою толстую, в руку, густого каштанового цвета и длинную «аж до подколенок» косу, подвязывала ее красной атласной лентой и шла как пава выгуливать своих мелковозрастных двоюродных сестер и братца.
Послушные девочки цепляли друг друга за ручки, одна из них держала за руку няньку, а та несла на другой, свободной, руке младенца, потом садилась со свертком чинно на ближайшую к песочнице лавочку, в тенек. Близняшки начинали игры, а все няни украдкой пялились друг на друга, и лишь немногие из них разговаривали с Полиной.
На Чистых было так хорошо, особенно, когда мимо проходили прогуливающиеся молодые мужчины с тросточками и непременно в шляпах и ненароком заглядывались на юных нянек. Иногда проходили сидельцы из лавочек, или подмастерья. Подсаживались, начинали заговаривать, приглашали погулять. Полька гордо отказывалась. Стеснялась, потому что всегда боялась услышать вслед «Курочка-Ряба!». Пробегали мимо вдоль сквера босоногие мальчишки-курьеры, показывали язык и свистели. Тогда Полина приподнимала уголок парадно-выходной кружевной батистовой пеленки над личиком мальчика и проверяла, не разбудили ли его эти московские дураки.
Чудесно было этим первым московским летом.
Часть 3. Продолжение чудес – в Чудовом переулке
А осенью началась война и длилась потом без конца и края. В начале зимы 1914 года дядя Кузьма был мобилизован (вместе с Соколиком), сначала долгое время возил на фронт почту и посылки, а потом, «ближе к отречению», стал перевозить тяжелые орудия, вплоть до границы с передовой, и однажды в поле настигнут был смертельным разрывом «бонбы» и погиб с конягой своим неразлучным «от немцев».
Жена его, «московская не барышня», стала получать от Почтамта «пензию на троих ребят»; старый дьяк помер почти сразу после известия о гибели Кузьмы, успев отслужить заупокойную и по любимому зятю, и по Соколику; и в доме началось «бабье царство».
Как – то постепенно Полине дали почувствовать, а потом и понять, что она стала «лишним ртом». Ей намекнула вдова-тетка, что надо бы теперь вернуться к своим, к отцу родному, в деревню. Но это было выше ее сил, она знала по редко доходящим оттуда весточкам, что все живы-здоровы, отец живет один со старшими тремя сыновьями, двое помладше – у Саньки. Та через год рожает, и вот что странно, как сглазили ее, – родит каждый раз по двойне, да все мальчиков, но они почему-то, не прожив и недели, помирают… Ваньку-кузнеца не тронули, он как работал на кузне, так там и оставался, работы сначала было много, потом – все меньше и меньше. Не хотела, нет, сильно, до отчаяния, не желала Полька возвращаться к отцу.
Чтобы избежать теткиных попреков, Поля нанялась на работу мойщицей бутылок на «Завод Коньячных Вин Арарат» в соседнем Кривоколенном переулке.
Теперь она сама платила «за постой» старой дьячихе и молодой вдовице, за свое обжитое место под лестницей на сундуке со слегка побитым молью приданым.
Революцию Полина заметила только потому, что «кли (около) Почтамта стреляли!». Выходить в булочную и в молочную в Банковском переулке стало страшно, гулять с детьми в выходные по Чистопрудному бульвару даже опасно – могли задеть шальные пули и шальные же «личности», коих появилось вдруг множество на Мясницкой площади перед Почтамтом. Главпочтамт был постоянно закрыт и охранялся вооруженными «матросиками». По соседней Лубянке двигались люди в кожаном и с наганами, гроздьями заваливались они в брички или куда-то все поспешали, громоздясь в открытых ландо автомобилей. Трамваи же ходили с большими перерывами, а потом и вовсе перестали – отключилось электричество. И опять впряглись в конки старые лошади.
Среди всей этой уймы пришлого народа толпилось великое множество молодых мужиков, но вот жениха все как-то не находилось. Несмотря на это, Полька – мойщица продолжала наряжаться каждое воскресенье, держала себя чисто и чинно, надевала все самое лучшее, даже платок купила себе цветастый, белый с маками. Но в церковь не заходила. Не то скучно стало, не то дьяк-дедушка вспоминался, как он, бедненький, аж лбом стучал на частых молитвах и всех бухаться на колени заставлял, а как не стало его, так все и разленились. Поля ставила в церкви свечки в Покров за «жениха хорошего», но не помогало. Тогда она решила оставаться всю жизнь «в девушках», да и «что толку-то от мужчин от ентих, ребятишек только наделают, и возись с ними потом всю-ю жизнь». И то правда.
Пелагея была «неученой», то есть совсем неграмотной (в отличие от своего отца – мельника Стёпина Василия Ивановича, деревенского грамотея, читавшего семье вслух и Библию, и Священное Писание и никогда не садившегося за стол, лба не перекрестив и молитву про «хлеб наш насущный» не прочтя). Когда жив был старый дьякон – тесть «дяди Кузьме» – в доме тоже читали священные книги, и дедушка этот пытался обучить молодую няньку грамоте, но неграмотная супруга его, старая дьячиха, вдруг выступила против, и на том дело и кончилось.
Почти сразу после Революции, а именно ранней зимой 18-го года, на заводе «Арарат» открыли ликбез для молодых рабочих. Туда записали Полину и ее товарку по работе Нину. К концу 1918 года Поля выучилась расписываться и читать вывески. Потом им с Ниной и еще одной молодой девушкой – дворничихой Зоей – снимавшим жилые углы за свой счет, на троих дали от завода вместо общежития (которого не было и быть не могло у завода в центре Москвы) большую 28-метровую комнату в два высоких «итальянских» окна в бывшей буржуйской квартире в Чудовом переулке Мясницкой улицы, во втором этаже огромного серого шестиэтажного «доходного дома со всеми удобствами».
Уплотненный «семикомнатный буржуй» был обрусевшим немцем, профессором медицины по фамилии Брандт, из екатерининских или даже скорее еще петровских жителей Кукуевской Слободы на Басманных улицах, в Лефортово, где он работал всю жизнь хирургом в военном госпитале, потому и не был затронут ни во время поражений Первой мировой, ни потом долгое время большевиками (его «взяли» в 38-м году, ночью, вместе с сыном – знаменитым московским футболистом, и потом о них не было больше ни слуху, ни духу). А в 1919 году за ним еще приезжал извозчик и увозил в «шпиталь» на работу.
Профессор Брандт вынужден был, в отличие от булгаковского профессора Преображенского, уступить все свои шесть «лишних» комнат, потому, что вдруг стал «врагом» еще с начала Первой мировой, как немец. Но хирурги требовались и белым, и красным, вот и оставили его работать пока. Вся его семья – «бабушка-мадам» Брандт, то есть мать; незамужняя сестра Елена Ивановна – «мадемуазель Брандт», позже переделанная пролетарскими соседями в «мамзель»; и сын Отто – Толька, будущий спортсмен, чья мать – просто «мадам Брандт», «мадама», кстати, русская уроженка из чухонцев, она уехала одна в Финляндию почти сразу после октябрьского переворота и отделения финских болот от РСФСР, – так вот, семья его почти в полном составе стала жить в своей бывшей библиотеке, квадратной 20-метровой комнате со множеством красивых книжных шкафов с пестрыми занавесками в турецких «огурцах» за стеклянными дверцами и с огромным «трехсветным» эркерным окном-фонарем, выходящим в тихий зеленый двор.
Комната же трех рабфаковок располагалась прямо напротив, дверь в дверь через узковатый коридор, и была бывшей столовой. Потолки в квартире были пятиметровой высоты, огромные окна назывались «венецианскими», подоконники были из тонких бело-серых плит натурального мрамора.
На потолке доставшейся девицам комнаты уже не висела люстра, но остался огромный крюк в центре круглой лепнины, изображавшей толстого амурчика с трубой (или ангелочка с рогом изобилия?).
Через год товарка Нина вышла замуж и «прописала» мужа к себе; на 28 метров пришлось теперь 4 человека, и Нине разрешили разгородить комнату пополам, ровно посередине между двумя высокими окнами, а также прорубить в коридор новую отдельную дверь. Теперь у Полины с товаркой Зоей остались на потолке толстая попа и ножки амурчика, а у Нины с мужем-маляром Пантелеймоном, а попросту – Пашкой, видна была кудрявая ангельская головка и ручонки, держащие над ней изогнутую трубу.
Окно в оставшейся после раздела 14-метровой половине комнаты стало еще огромнее. А вот батареи зимой топить перестали. И обратиться с жалобами стало уже некуда.
Бывший домовладелец, старик Тыртов, не уехал никуда из своего дома. Он хоть и выселился добровольно из шикарного хозяйского 12-ти комнатного бельэтажа (объединенного когда-то по задумке архитектора из двух квартир) в четырехкомнатный полуподвал, но и там был «уплотнен» татарской семьей своего же дворника (называвшего себя, кстати, «князем», вплоть до самой революции, – ведь все московские татары действительно были когда-то потомками ордынских князей – но немедленно об этом забывшего с конца октября 1917). Через некоторое время он, тоже добровольно, «уплотнил» себя семьей бывшего своего привратника и лифтера Коли Подольского, как говорили, его собственного внебрачного сына от горничной. Так вот, этот старик Тыртов никак уже не мог повлиять на неисправности в бывшем своем доме.
Газа на кухне и в ванной тоже не стало. Водопровод еще работал; и на «парадной» лестнице еще висели боковые зеркала между этажами; но о ковровой дорожке напоминали только латунные кольца в основаниях гранитных плоских ступеней – для латунных же прутков-держателей этого бывшего коврового излишества.
Кабина лифта как застряла между верхним шестым этажом и чердачными «комнатами для сушки белья» (из этих кладовых на чердаке потом тоже устроили как бы квартиру, прямо под железными листами крыши и мощными деревянными балками), так и висела на тросах, ожидая подачи электричества.
Она рухнула вниз в конце 1922-го года, после получасового введения в действие ленинского плана ГОЭЛРО в результате попытки освещения Большого театра на очередном – или внеочередном? – партийном съезде. Дом выдержал, но кое-где уцелевшие лестничные зеркала и витражные стекла по центру фасада разбились на всех этажах окончательно и бесповоротно.
Удар от падения лифта потряс и подвал. Домовладелец Тыртов, как говорили, поселился в подвале не спроста, а специально, чтобы охранять зарытый под землю в бывшей котельной клад. Из-за этих слухов котельную громили по очереди все, кто мог, но пока ничего «такого» не находили. Старик же просто пользовался старыми, «доприжимными», запасами своего угля для топки таких диких для одного из самых представительных доходных домов Москвы новых печек-«буржуек». Под предлогом проверки «на предмет трещин в фундаменте» подвал осмотрела официальная служба. В результате осмотра весь уголь был реквизирован (вместо ненайденного клада) участковым уполномоченным Народной милиции.
«Черная» лестница дома (или «черный ход»), двери на которую выходили из огромных кухонь всех квартир, была в свое время оборудована между этажами отдельными туалетными комнатами для прислуги – «уборными» с фаянсовыми, в отличие от господских фарфоровых, унитазами со спуском воды. Эти унитазы были напрочь забиты засохшим дерьмом, а двери самих уборных заколочены крест-накрест досками наглухо. Лишь неистребимая вонь из-под всех щелей напоминала о прежних «удобствах» для простого народа. Теперь и их не стало. От отсутствия воды и тепла начинались холера, тиф, туберкулез (и сифилис, точно по Маяковскому).
Затянувшееся «стародевичество» и уже перенесенная оспа оградили Пелагею от всех этих страшных болезней. Но вот подруга Зоя … Ее «свезли в заразную больницу» вскоре после наступления Нового 1924 года, с высокой температурой, в бреду. Там она вскоре и умерла, «сразу после Ленина». Так заводская работница Поля оказалась единственной законной владелицей «цельных 14 квадратных метров» жилплощади в самом центре Москвы.
Часть 4. НЭП и новое с Полиной
Подступало голодное издевательство НЭПа, и опять в Москву как в грелку из гуммиарабика «принаперли» с новой силой всевозможные «новые люди» второй волны и третьей свежести.
Вот тут и началось активное сватовство к Полине со стороны ушлых желающих «прописаться» в ее комнатке: присылали сватов от соседей, от «заводских», от бывшей «родни» с Потаповского, и даже – от милиции. Последние были особенно активны, ходили с проверкой документов, как бы «по делу», и все время разные, и молодые, и не очень; и, наконец, появился один красавец-паспортист, Степан, и Полькино сердце растаяло.
Степан Иваныч, моложе Полины ровно на 10 лет, был родом из тамбовской деревни, приехал в Москву «от голода», тоже к дяде – пожарному при охране Большого театра, у него поначалу и жил. Дядя тот быстро устроил молоденького племянника в уже столичную (после переезда Правительства из сразу ставшего провинциальным Петрограда) милицию, куда охотно принимали «по лимиту», и Степан стал жить в казарме, называемой общежитием.
Это значило, что «московская лимита» никогда не начиналась и не заканчивалась, она перманентно продолжалась. Очередные «призывы» в Москву в дальнейшем то строителей хрущоб, то тех же милиционеров, то дворников, всегда вызывали у уже «устаканившегося» контингента лютое негодование. Потому что, если покопаться поглубже, то выходит, что все жители столиц – сами «по корням» всегда «лимитчики». И не только родившиеся в первом поколении московские дети, а даже прожившие в Москве лет десять-пятнадцать «лица» уже спешат назвать себя «коренными» и попутно объявить во всеуслышание, что Москва, дескать, не резиновая! А что такого? Даже предки профессора Брандта были, выходит, лимитой из еще «допетровского заезда» немцев в Москву. Центр во все времена притягивает шустрых провинциалов в любом государстве. Как тут не вспомнить и самого знаменитого лимитчика, классического гасконца, завоевателя Парижа?
Милиционер Степан был не только удивительно красив, строен, высок и голубоглаз, он был еще и грамотен, поэтому и стал паспортистом. Он случайно прочитал забытую в пожарке у дядьки кем-то из артистов Большого книжку про трех мушкетеров. После этого Степа умело пересказывал «своими словами» историю про четверых друзей не только сослуживцам, но и все новым и новым молодым девушкам, с которыми знакомился на «своем участке» в Армянском переулке и на скверах ближайшего к его отделению куска Бульварного кольца. Знакомства же эти умный Степан заводил не абы с кем, а только с незамужними обладательницами московской прописки, имена и фамилии которых он выписывал из паспортной амбарной книги.
Однажды в выходные на Чистых Прудах Степан «заприметил» Пелагею. Будучи в полной милицейской амуниции, то есть и в крагах и в гетрах, что производило на всех девушек особо неизгладимое впечатление, он прямиком подошел к Полине и негромко спросил, почему она прогуливается по бульвару в одиночестве. Полина не смутилась и бойко ответила, что «ему какое дело?». Красавец же вдруг сказал: «А, может, я посвататься хочу?» – «Вот и приводи тогда сватов, как положено!» – не растерялась Полька. И все тут, вот после этого, и началось!
На «смотрины» привел Степан Иванович дядю-пожарного (имя его утрачено в веках, как виновника всех дальнейших бед Пелагеи). Когда гости изрядно выпили, и, конечно же, закусили, то сразу же и засобирались домой. И Пелагея сама пошла их провожать, «до уголка» Чудова переулка! По дороге дядька Степана вдруг вспомнил, что должен еще «зайтить к куме», снял картуз, поклонился со словами «Прощевайте, Пелагея Васильевна!» и сделал ручкой молодой паре.
Московское имя «Полина» дядька-пожарник не признал, и не потому, что по пушкинскому «Онегину» она должна была именоваться Прасковьей, нет, Пушкина он не читал, только памятник видел, а тот, Пушкин-то, похоже, и наврал для рифмы, ведь Прасковьи в Москве становились Пашами, или Панями (потом такое имя носила Полькина «сватья», то есть свекровь ее дочери). Просто деревенскому его уху приятнее было имя Пелагея, так звали и его родную сестру, мать Степана, которая всего на 8 лет была старше будущей своей снохи-тезки.
Дошли Поля со Степой вдвоем «до уголка». И вот на углу на том, заворачивая в сторону дома, то есть своей общаги в Казарменном переулке на Яузском бульваре, Степа сказал Поле: «Прощай, милок!» – и эта ласка запала ей в память на всю жизнь. Было это в 1926 году, Пелагее пошел 31-й годок, Степану едва исполнился 21. Скоро они «записались», и Степан Иванович был прописан в Полькины «пол-транвая» на законном основании.
К тому времени соседи за стеной – подруга Нина и Пашка-Пантелеймон – жили и бедно, и грустно, потому что Нина уже во второй раз пыталась родить ребенка (первый, как и последующие за ним в течение их совместной жизни 4 младенца, был мертворожденным). Нина тяжко переносила все свои беременности и часто заранее отговаривала Пелагею от такого неблагодарного занятия – носить детей: «От этого только мука одна смертная и слезы, живи, Полька, лучше “сама-одна”!»
Неизвестно, как удалось Степану сломить девство Полины – он и сам был несказанно этим удивлен. Получив впоследствии от нее постоянную кличку «Кот!», он видимо тяготился Пелагеей, ее «честностью» перед ним – женихом и пожизненной верностью ему – мужу, о чем Поля постоянно твердила любившему повеселиться Степе, что и сгубило их брак на корню. Степан не то чтобы очень был охоч до бабья и девок – те сами не могли пропустить такого «душку» и щеголя, «слетались на него, как, прости Господи, мухи на говно», жаловалась Полька соседям. Степан еще и не готов был морально ни к серьезности женатого положения, ни к «обзаведению» детьми. Однако, через год, 7 августа 1927 года, у них родилась дочь. Поля свято верила в то, что родившийся ребенок «остепенит» молодого папашу. Потому и назвала девочку Верой.
Часть 5. Жисть семейная…
Верочка родилась до того хорошенькая, до того подвижная, живая, с точеными ручками и ножками, с волнистым чубчиком темных волос над огромными черными глазищами в абсолютно синих кукольных белках, ярких и ясных, и до того похожа на отца, что Польке даже завидно стало где-то в глубине души, что вот родила она не себе, а ему родную девочку. И была права, потому что любить дочку Степан начал сразу же по-сумасшедшему, и уж не в пример сильнее, чем Полину.
Сама Пелагея после родов очень похорошела и расцвела; волосы забирала в тяжелый крупный пучок, закрывавший всю гордо оттянутую на недлинной крепкой шее назад и вверх голову с гладко зачесанными на прямой пробор висками. Закалывала она всю эту блестящую, промытую до скрипа массу буйных, слегка вьющихся волнами, волос диковинными «царицыными» шпильками, купленными еще «тятей Василием на тульской ярманке» в подарок невесте Ксении, матери Полины. Шпильки эти сами по себе были бы обычными, двухконечными, из легкого черного прутка податливого металла, согнутого пополам как бы в узкую дугу. Но на каждой верхушке такой дуги красовалась нанизанная и зажатая обоими металлическими концами по бокам очень большая бусина из настоящей бирюзы. Крупные бусины эти, а изначально их была целая дюжина, на воткнутых в волосы и незаметных шпильках образовывали вокруг головы чудесную зелено-голубую в темных прожилках корону – нимб, и молодая кормящая мать выглядела как святая.
Верочку кормила Пелагея только грудью, и довольно долго, но когда девочке исполнилось 6 месяцев, она вдруг «плюнула молоко», отвернулась резко от материнской груди, сильно сморщила носик и заплакала, что происходило с ней крайне редко. Больше она ни разу «грудь не брала». Обеспокоенная Полина подумала, что Верочка заболела, и рассказала о случившемся вечно беременной соседке Нине. Та, не долго думая, сразу определила так: «Знаешь, что скажу тебе, Поля: квартиру эту, видать, прОкляли, в ней здесь детЯм не жизнь!».
Тогда испуганная мамаша не выдержала и поделилась опасениями по поводу услышанного с «бабушкой-мадам» Брандт, владевшей когда-то всей этой «жилплощадью», а также на всякий случай спросила у нее, что было в прежние времена с детьми в этой ее бывшей квартире, брали ли они грудь или вот плевались материнским молоком, а сами орали от голода?
Бабушка Брандт по-русски понимала с трудом, для «перевода» пригласили соседку Настю – бывшую «белую» горничную «бабушки-мадам».
Настя жила в этой квартире «всегда», но после «уплотнения» ей пришлось обосноваться в 6-ти метровой прежней кладовой при кухне, без «своего» окна – свет туда шел из окна кухни. Почти грамотная и даже понимающая кое-что «по-иностранному» бойкая Настя теперь жила там не одна, а с мужем-каменщиком по кличке «Сипугашник».
Звали-то этого вечно сиплого от перепоя Сипугашника по паспорту Михаил Богатырев, да был он слишком мелкий и щуплый для фамилии своей. Но зато пьяный дрался как зверь – в основном, с Настей, – и ровно до тех пор, пока та не брала его за грудки и не швыряла со всего маху на постель; вот тогда он быстро смирялся и засыпал.
По выходным веселый Сипугашник очень любил играть часами напролет и почти без останову (ну разве только отхлебнет из лафитничка и быстренько закусит натертой чесноком горбушкой от черняшки), на балалайке, и это до восторженного восхищения нравилось соседям Пашке и Степке. Паша приходил тогда подыгрывать на гитаре, а Степа – на гармошке, и у них было радостное русское трио, что вечно раздражало других соседей, – «чертей чуднЫх не русских».
У Насти с Мишкой росли две девочки-погодки, Ольга и Тамара. Настя особенно долго кормила грудью свою старшую дочь, почти до двух лет, и объясняла это тем, что «жрать-то все одно было ей давать нечего!» И вот в процессе «перевода» Полькиного вопроса, в основном, на пальцах и с громким криком, все это для вовсе не глухой бабушки-мадам, Настя открыла Польке глаза: «Девка молоко твое плюет, потому оно горькое, как ты в тяжести в другой раз! Моя Лелька тоже плевалась, как Тамарка в животе подходила!».
Для Пелагеи это было ударом.
Абортов она не то, чтобы «не признавала», но в силу своей «первобытной дремучести», а также долгого житья сначала в деревне, в родительской семье, где крепкой веры мельник и мельничиха не пропускали праздничных служб и рожали, «сколь Бог дасть», и потом в московском доме священнослужителя, – считала это дело большим и тяжким грехом.
Полина не была как-то особо крепка в вере, может быть, и потому еще, что наблюдала священническую жизнь «с изнанки». Однако, понятие греха жило в ней, никогда не угасая и принимая иногда просто изуверские формы, а особенно по отношению к греховности поступков своих близких. Не судите, да не судимы будете! – это не про нее, ведь она никогда не сомневалась, – потому что и не задумывалась над этим, – в своей собственной непогрешимости.
Всю жизнь она тяжко и честно трудилась на других, не думая о себе. Судьба обходилась с ней достаточно сурово, и так же сурова была Пелагея к людям. Всех, кто относился к ней с искренним добрым чувством, кому она действительно не была безразлична, она потеряла, потому что они просто ушли из жизни. Мать, да дядька, – вот и все, кто, кажется, любил ее, и любил просто так, ни за что.
Отец, конечно же, тоже должен был любить ее, но он поступил с ней несправедливо, выдав замуж вначале младшую сестру.
Сестра? Да та всегда жила сама собой, как бы отдельно от Пелагеи, вечно занятой по хозяйству, вытирающей носы младшим, стирающей в горячем пару горы грязного тряпья и полощущей в ледяной воде все эти немудрящие одежки, отбивая их деревянным вальком на огромном плоском камне под ногами на речном берегу, и в стужу, и в жару.
Сашка, сестра… И еще сидела занозой недобрая, обидная зависть к судьбе младшей – веселой, красивой и бойкой, но при этом и строгой с деревенскими «ребятами». Санька очень любила и попеть и поплясать, и втайне от отца и от суровой старшей сестры даже выучилась у дедушки-скорняка Фомочкина, старого солдата-инвалида, которого звали на все свадьбы и посиделки, играть на его гармошке.
Саньку любили все в деревне, и стар, и млад, а Польку – уважали и замолкали при ней, и как-то тушевались, потому что она могла в самый разгар немудрящего веселья войти в избу и сказать резко и коротко о том, что сейчас надо было сделать по работе.
К слову, даже отцу могла приказать, к примеру, так: «Батя, слезь с печки и распряги лощадь, я дров привезла!» Батяня молча, беспрекословно начинал делать то, что надо. «Санька, корова недоена!» – и Санька обрывала на полуслове какую-нибудь душевную песню и покорно шла доить корову. Может, Польке и самой хотелось бы и на печке полежать, и попеть, – как ни странно, неожиданно тоненьким «жалостным» голоском, а вот плясать она и вовсе не умела, – да кто же тогда хозяйством-то будет заниматься? Ведь все на ней – не уследишь, не скажешь – и все разъехалось, мамка из гроба не встанет, не поможет… При мысли о рано умершей матери Польке и вовсе становилось не до суетного веселья. У нас мама недавно померла, а они, вишь, песни веселые поют и смеются, как ни в чем не бывало! И-э-эх, вы!!!
И за глаза, и в глаза Польку всегда называли Хозяйка. А она и была хозяйка. Все решала и делала сама, всегда! И никто ей не сопротивлялся. Потому что плохому она не научит, а все по делу, все по делу, все знает.
Вот только в бабьем своем нутре не чует иногда, что правильно, что нет… Любит она своего Степана, тает вся от его прикосновений, может иной раз на лицо его, спящего, все утро просмотреть.
А он с ней неласков, ни обнимет, ни поцелует, ни шлепнет. Встает, молча ест и уходит на работу до вечера. Вечером придет поздно и обязательно навеселе, нет, не пьяный, но чего веселиться-то? С чего, с какой радости? Денег вечно нет, Полька и вышла бы поскорее на работу, да ребенка не с кем оставить. А вот теперь еще и новая беда – не увернулась, опять забеременела.
Это все Степан, зараза, ведь просила его поберечь, а он и слушать не захотел, быстро, как нужду справил, отвалился и захрапел, не погладил даже!
Полька заплакала было громко, завыла почти, да спохватилась, что стоит пень-пнем прямо посреди кухни, а на нее, вытаращив глаза свои немецкие из-под круглых очков, с ужасом смотрит бабушка-мадам, а рядом, с большим интересом, наблюдает Настька. Приходилось часто выть и Насте, от мужниных побоев, а теперь вот пусть гордая Полька поплачет. А то как же? Время голодное, лишние рты никому не нужны!
Бабушка Брандт вдруг ласково потрепала Полину по щеке и сказала: «Будь рада, милая, будь рада!» – и тихо ушла с кухни. Настя постояла-посмотрела и пошла себе в свою каморку.
Пелагея стала мыть посуду и задумалась. Ведь вот опять «декрет» придется на работе оформлять – так и выгнать могут, не посмотрят на двоих детей. Но более всего мучила мысль о том, что Степа, как пить дать, «котует» от нее на стороне, ночевать домой часто не является, ссылаясь на ночные дежурства.
Обида, одна горькая обида! За что ей все это? Была бы сейчас одна, без детей, без Степана-«кота», горя бы не знала! Всю жизнь он ей испоганил рожей своей смазливой наглой, паразит!
И Полька все-таки разрыдалась, бросив таз с недомытой посудой, и тоже поплелась в свою комнату.
Там, в углу, в кроватке, соструганной из светлых брусочков, стояла Вера, сосала пальчик и подпрыгивала на ровненьких стройных ножках.
«Вот Кирбитиха! И впрямь!» – зло подумала Пелагея, вспомнив, как ее слишком молодая свекровь, приезжавшая из Тамбова к старшенькому Степушке с младшим сыном, двенадцатилетним Семеном, посмотреть и на внучку, и впервые на свою невестку, так вот, как свекровь тогда сказала, взглянув на Веру:
– «Наша кровь! Моя даже, отца моего, а твоего, Степушка, дедушки, помнишь его? – Кирбитова-купца!»
И уж не отрывалась всю московскую неделю от хорошенькой непоседливой Верочки, а на невестку свою даже и не смотрела вовсе, как будто ее и не было в доме или зашел кто посторонний. Поля попробовала было сказать ей «Мама», но та так на нее взглянула с насмешкой, – ничего, правда, не сказала, – что потом Пелагея ее просто никак не называла, только «Вы» да «Вы».
Зато брат Семушка так приласкался к Пелагее, что забыла она всю свою строгость, вспомнила оставленных когда-то на деревне мальчонками родных братьев и стала изливать на Семена всю свою накопившуюся нежность, избавляясь вместе с этим от чувства глухой вины перед маленькими когда-то братьями.
Семену одному шепнула при прощании:
– «Приезжай в Москву теперь, да сам, без мамки! Встречу тебя, в школу здесь устрою, что там в глуши делать-то тебе?»
А мужу Степе сказала: «Выписывай брата к нам, здесь у него доля получше будет!»
Поля вытерла слезы и сказала дочери, строго, как взрослой: «Спать ложись!».
Вера все поняла, послушно села в кроватке, потом прилегла головенкой на подушку и ласково замурлыкала, сама себя убаюкивая.
Вечером Пелагея с замиранием сердца ждала мужа, ведь как знала, что он разозлится!
Степан сразу сказал:
«Полька, делай аборт! Не прокормим! И как же это ты умудрилась, ведь не сплю я с тобой почти!»
Сказал, как плетью высек голую на виду у всей деревни! (Так бил пастух в Полькином детстве свою шалаву-жену, которая, вся деревня знала, спуталась с цыганом и родила смугленького курчавого цыганенка.)
Поля сжала губы, чтобы не заорать на всю квартиру, и тихо прошипела, как змея:
– «Прокормишь-шь-шь! Никуда не денешь-шь-шь-ся! Еще и третьего рожу, если захочу!»
Степан плюнул, вскочил. Натянул свою гимнастерку, застегнул ремень и выбежал из комнаты, а через некоторе время хлопнула дверь квартиры.
Опять ушел, скотина безрогая! Он-то – безрогая. Да вот ты – с рогами. За что, Господи! И опять – слезы, слезы!
Разговоры о переезде малолетнего Семена в Москву закончились тем, что брат действительно «выписал» его в конце лета к себе, но строго приказал помогать во всем Поле управляться с маленькой Верой и с будущим младенцем, короче, быть вместо няньки.
Семушка беспрекословно подчинился брату и «няне Полине», приехал и начал, радостно и светло глядя на Полю, помогать ей действительно во всем: подметал и мыл полы в огромной квартире в свой очередной срок, бегал в магазины, гулял с ненаглядной своей племяшкой Верочкой, ковыряясь с ней и сам в песочнице на Чистых Прудах.
Сильно уже беременная вторым ребенком, Поля не выдержала однажды ночью душного летнего бессонного одиночества, тихо оделась, чтобы не разбудить Веру и Семена, и поплелась на Чистые Пруды. Там присела на лавку напротив пруда, отдышалась, и ей стало немного легче. Тогда она поднялась и очень медленно дошла по Покровке до Армянского переулка, где в голубом роскошном особняке с самых первых дней «переворота» расположено было отделение милиции. Она хотела увидеть Степана, он был на ночном дежурстве.
В дежурной части Степана не оказалось.
«На задании!» – коротко рявкнул дежурный участковый на вопрос, а где же Степан Иванович. – «А вы бы, гражданка, в таком вашем интересном положении по ночам бы одна и не ходили, а то не дай Бог что случится! Идите себе домой, будьте так любезны!»
И Поля покорно развернулась и пошла восвояси.
Но мир, как известно, не без добрых людей. Уже у самого порога милиции ее догнала местная уборщица и захлебывающейся скороговоркой вполголоса сообщила, что «твой-то – у дворничихи нашей молодой, рыжей-бесстыжей, которую уж ночь у ей гуляет, да вон, во дворе, ее подвальное окно с желтой занавеской, вон свет у них горит, там и сидят – пируют вместе с нашим домуправом, жрут-пьют и в карты играют всяку ночь!»
Полина, хоть и схватилась сразу за живот, но все же заглянула вниз, выставив зад, в это подвальное, неплотно занавешенное, окно.
«Кот» сидел там на диване с гармошкой, сняв сапоги, положив ногу на ногу, и смеялся, чёрт красивый, во весь рот!
Полька, не долго думая, определила, где вход в квартиру дворничихи, и как-то быстренько туда вошла, прямо в комнату.
Рыжая побелела до веснушек, Степан Иванович разинул рот, а управдом рванул в дверь и пулей выскочил из ужасной этой ситуации.
Полька молча сгребла в охапку хромовые длинные сапоги, сначала огрела ими по башке «кота», потом «суку проклятую», и вышла с этими сапогами подмышкой в ночь глухую.
Через небольшой отрезок времени по аллеям Чистых Прудов за ней в одних носках до самого дома шел покорно Степан Иванович и бубнил время от времени:
– «Полька, отдай сапоги, ступать холодно!»
Она молча шагала, переваливаясь, как утка.
Так они и дошли до своей квартиры; открыла своим ключом Поля, но в комнату не пошла, а свернула на кухню. Степа – за ней.
Там она кинула на кафельный и когда-то красивый, но уже сильно облупленный пол его сапоги и села на высокую «общественную» табуретку, не включая света. А он, все еще необутый, устроился у ее ног, как татарин на корточках, зажал голову руками и затих. Посидел-посидел, а потом вдруг резко встал и начал молча шарить в кастрюле с супом, вылавливая единственный кусок мяса, которое Полька всегда свято оставляла только ему «на-после-дежурства», обделяя себя и детей.
Когда «кот» зачавкал мясом, Полина, не вставая с высокой своей табуретки, нащупала на соседском столе деревянную толстую скалку и молча стукнула Степу по темечку.
Степа упал мешком на кафельный пол, головой на свои сапоги, что его и спасло (а может быть и ее тоже – от тюрьмы за преднамеренное убийство).
Полежав немного, Степа, который с гордостью утверждал, что никогда матерным словом не ругался, а только «черным», то есть «черт!», поднял головушку и с тихим шипящим присвистом, чтобы не разбудить жильцов (а особенно скандалистку Настю с ее Сипугашником при кухне, которые, конечно же, напряженно изображали сейчас глубокий сон, ведь после звяканья ключа в замке дубовая трехметровой высоты входная дверь грохала на всю квартиру – «и мертвого разбудит» —, ворчали недовольные все, но ничего не предпринимали) – так вот, с тихим свистом Степан Иванович стал поминать и Бога, и душу, и московскую прописку, потом вдруг заплакал как ребенок, встал перед все еще сидящей женой на колени и сказал:
– «Отпусти меня, Поля! Не могу больше с тобой!».
На что Поля, хоть и обомлела, но внутренне к ответу давно уже была готова, а потому сказала сразу:
– «А ребята? Чем их тогда кормить, во что одевать? Ведь их, считай, трое. Не пущу!!!»
Степа тихо завыл и пополз по коридору к порогу их комнаты.
Утирая фартуком вспотевшее от напряжения лицо, Поля встала, подошла к своему столу, взяла ложку и машинально доела весь оставшийся в кастрюле суп.
Доела начатое Степаном мясо.
Слез у нее не было. Была тупая тоска.
За спиной появилась соседка Настя, положила руки Польке на плечи, уткнулась ей сзади лбом в шею и зарыдала.
На кухне сияла медью сковородок лишь одна «немецкая» стена. Светало.
Надо было ставить бак воды на газ, и начинать стирать «господам» – соседям их белье, кипятить, тащить полоскать через весь длинный коридор в ванную, потом отжимать на весу тяжкие простыни, а особенно пододеяльники, класть все отжатое в огромную корзинку-«плетушку» и нести вешать во двор, где в старом толстом тополе, «мужском», с красными по весне сережками, а не с противным липучим летним пухом, вбиты были два больших костыля, через которые все во дворе перекидывали свои веревки для белья и укрепляли их через метров пятьдесят на таких же костылях, вколоченных в кирпичную стену дома.
Деньги, получаемые Полей от «богатых» соседей за еженедельную стирку или уборку квартиры «вне очереди», были почти те же, что могла получать она на своей работе на коньячном заводе, «закубривая» пробками бесконечные ряды бутылок с конвейера.
Но все – таки ей больше нравилось ходить на завод. Там ее очень уважали.
Настя помогла поднять здоровенный бак с водой на плиту, быстро умылась на кухне под краном и ушла на работу.
Полька опять уселась на спасительную высокую табуретку, помешала деревянной «хваталкой» закипавшее белье и вдруг почувствовала, что под ней сильно мокро.
Посмотрела вниз и закричала благим матом: «Степан, Степан, звони в» неотложку!».
К вечеру того же дня она разродилась семимесячным сынком Николашей, любимым, выстраданным, по-полькиному сероглазым, единственно верной мужской душой в ее жизни.
Выиграв той ночью перед родами свой первый и последний бой со Степаном, она больше «пальцем до себя дотронуться» ему не давала.
Часть 6. Кирбитиха и соседи
Верочка подрастала, и вся она была, как маленькое чудо: хорошенькая, живая, смышленая.
– «Вся в отца, Кирбитиха!» – или – «Ну прям андел небесный!» – говорила ее молодая бабка, мать Степана.
С черными огромными цыганскими глазами, непоседа, Вера любила все красивое, то есть пестрое и блестящее, и расхаживала свободно по всем соседским комнатам, а их было много.
Соседи ее очень любили и как могли, баловали. А она не задерживалась подолгу ни у кого, заметно тянулась только к отцу и «не жаловала» некрасивую, крикливую и неласковую к ней мать. (В семилетнем возрасте Вера взяла вдруг со стола материнскую фотографию и «выколола глазки» Пелагее, тайно и тихо, проткнув иголкой только зрачки).
Соседка Ольга Карповна, старая актриса, бывшая кордебалетная танцовщица московской оперетки, позволяла трехгодовалой Вере красоваться перед огромным, во всю стену небольшой комнаты балетным своим зеркалом со станком.
Приходя к ней в гости, Вера сначала подходила к низкому трюмо при пышной кружевной кровати напротив этой чудовищной зеркальной стены, брала шкатулку из крымских ракушек, вынимала оттуда длинные белые бусы, надевала их себе на шею, тщательно увязывая нити по нескольку раз и, пытаясь все же на них не наступить, такие они были длинные, переходила смотреться к «большому зеркалу».
Там Вера задирала лицо кверху и высыпала на него, стараясь попасть на нос, всю пудру из старой толстенькой легкой коробочки с лебедем на синих волнах среди больших зеленых листьев.
Потом брала золотой футляр с остатками губной помады и красила губы от уха до уха.
Тут входила Ольга Карповна.
Вера замирала от ожидания, что сейчас произойдет, а старуха вдруг начинала громко восхищаться достигнутым «эффектом».
…И коробочка из-под пудры, и футляр от бывшей помады, и давно опустевший флакон духов с легчайшей тенью неземного аромата «Париж», и даже длиннющая нитка фальшивого жемчуга, – все это несметное богатство досталось Верочке еще при жизни старенькой Ольги Карповны и почему-то вызвало недовольное ворчание у матери, у Пелагеи.
Вера даже предложила однажды матери надеть на единственное у той праздничное, «парадно-выходное» и «штапельно-ситцевое» (потому что скомбинированное из двух вконец обветшавших старых) как бы новое платье эту теплую, сливочного цвета, нитку бус – «на выход».
Но мать взглянула строго и сказала, что ей, в отличие от дочери, ничего от старых «поскакушек» не надо!
Вера тогда радостно вздохнула и «прибрала» драгоценную память в пустую коробку из-под лебединой пудры.
* * *
У другой старухи-соседки, Анны Израилевны, консерваторской преподавательницы музыки, всю огромную комнату с балконом во двор занимал беккеровский рояль с вечно поднятой крышкой, да плетеное кресло-качалка с сотней подушечек-думочек.
Вера любила качаться в этом кресле, внимательно прислушиваясь к треньканью многочисленных учеников.
– «Будет музыкантшей, да!» – прочила старая еврейская бабушка, мать Анны Израилевны, имя которой – Суламифь – никто не мог произнести правильно, а отчество забыто было даже ее детьми.
Бабулька эта жизнь доживала, лежа на диване с вечными газетами, разбросанными по ее сухонькому тельцу. Газеты она прочитывала и складывала потом под себя.
Абсолютно лысая голова этой старухи торчала из-под первой газетной страницы, которую она держала так близко к глазам в очках-окулярах, что казалось, она и лицо прикрыла шелестящей бумагой.
Вера подходила к диванному изголовью, гладила старушку по лысому черепу и ждала чуда.
Чудо было вообще-то двойное: во-первых, глаза старухи – вблизи, под мощными линзами, они внезапно становились огромными как синие сливы, – и чудо номер два: из-под подушки старуха вынимала рыжий парик и как-то лихо нахлобучивала его себе на голову!
Это волшебное превращение приводило Веру в дикий восторг.
Она тихонько дотрагивалась до вдруг покрывшейся волосами макушки старухи и неожиданно быстро «срывала волосики».
При этом обе делали вид, что ничего не произошло.
Бабулька то ли дремала, то ли просто наблюдала, что же будет дальше.
А дальше Вера нахлобучивала «чужие волосики» на себя, а потом доставала из карманчика своего платья огрызок украденной у Ольги Карповны губной помады и с упоением «красила» лысую голову бабушки.
Тут встревала возмущенная Анна Израилевна:
– «Мамахэн, что Вы над собой позволяете, вся Вы опять в этом красном!!! Перед учениками неудобно!»
Бабулька лениво отвечала:
– «Да, сволочь, шлимазеле, закрой рот и не мешай ребенку!» – и манила Верочку, уже ползущую, не снимая паричка, на диван, прилечь рядом с ней на цветастую большую подушку, потом тихо поглаживала девочку по худенькой спинке своей мягкой морщинистой ручкой и бормотала ей что-то непонятное, но ласковое.
Обе мирно засыпали под бравурные гаммы.
* * *
Бабушка-мадам Брандт тоже «имела теплое чувство» к Верочке и частенько протягивала ей «угощение» – мятно пахнущий кусочек только что испеченного печенья-пирожного «кухен», или маленькую «бон-бон» – тоже мятную или анисовую леденцовую конфетку в красивом «фантике».
Бабушка Брандт научила Веру здороваться по утрам, говоря «гутен морген», а также благодарить немецким «данке шён» и делать при этом книксен.
(Много позже, уже под конец войны, когда семнадцатилетняя Вера помогала нянечкам в госпитале, расположенном в бывшей школе прямо напротив Вериного дома в переулке Стопани на Чистых Прудах, выносить «утки» и стирать бинты, ее тоже угощали раненые, которые приходили в восторг от этого «данке» и книксена, потому что те, кто успел повоевать в Германии, почему-то очень ценили все немецкое, и любое воспоминание о виденном и слышанном там было им приятно, несмотря на то, что их тогда в любой момент могли там убить.
Потом похожий эпизод попал в один советский фильм о войне, и совсем уже взрослая Вера не могла смотреть эти кадры без слез.)
Соседка тетя Нина, с огромным, всегда как будто «бегемотовым», твердым животом, часто охала и стонала при виде скользящей, как по льду, танцующей на кафельном кухонном полу маленькой Верочки:
– «Не будет тебе, Полька, с этой девкой покоя, ох, не будет!».
Вера ее не любила.
Зато муж Нины, дядя Паша-Пантелеймон, очень нравился Верочке, он угощал её селедкой со сладким чаем, и, пьяненький, прослезившись, говорил жене:
– «А ты, дура, сначала своих детей заведи, а потом и каркай!».
Тетя Нина, родившая всё мертвых мальчиков (у нее что-то не так было с кровью, врачи говорили, что если бы были девочки, то они бы выживали!), заливалась слезами и уходила к себе.
* * *
Вера и её младший брат-погодок Николай так и торчали на кухне.
Мать вечно оставляла детей полуголодными («Наварганит ведро лапши и уйдет» – ворчала соседка Настя. – «Днем белым на работе, а вечером за мужиком своим Степкой шпионит, по всем Чистым Прудам!»).
Брат Коля был плаксив, как соседка Нина, которая днем следила за Полькиными детьми.
– «Сидят дома весь день – и плачут, большая да малый, – шутил дядя Паша. – Одна Верочка молодца, никогда не хлюпает!»
Первая «нянька» детей – малый их дядька Семен – вернулся к себе «на родину» в Тамбовскую деревню, как только Вере исполнилось шесть, а Коле пять лет.
Иначе не прокормиться было в Москве.
Папаша Степан совсем от рук отбился, почти перестал давать деньги «на ребят».
Поля очень жалела послушного и смирного подростка-деверя, но денег не хватало ни на что.
Семен уехал в новом, недавно «построенном» Полиной на «стиральные» ее деньги пальто с барашковым воротником, в новом почти картузе и с большим, но лёгеньким по весу мешком с «московскими гостинцами» – белыми сухарями, то есть недоеденными и высушенными на батарее кусками белого хлеба.
Он не плакал, только крепко вцепился в плечи Полины, почти одинаковый с ней по росту, спрятал лицо в ее шею и сказал тихо:
– «Никогда брата не прощу!».
Тут заплакала Пелагея.
Простились надолго. Думали, может, и навсегда.
* * *
Наступило время идти в школу.
Веру отдали на год позже, с девяти, вместе с Николаем, и в одну школу, напротив дома, – только учились они в разных группах. (Это потом, в самом разгаре войны, в 1943 году, школы разделили, как уборные, на мужские и женские, пока реформа 1954 года вновь их не объединила).
Было это в сентябре 1936-го года.
А через год обоих детей перевели в другую, вновь построенную, школу.
На месте старой – «онегинской» – церкви, на углу «у Харитонья в переулке», стояло теперь новое четырехэтажное серое здание с огромными светлыми окнами.
Это была школа № 613, будущая «некрасовская».
В школьном дворе Вера с мальчишками играла черепами и костями, оставшимися после разорения древнего церковного погоста.
Потом все кости засыпали огромной кучей угля для отопления школы.
* * *
Заканчивался 37-й год, ничем не знаменательный для семьи Веры.
Только вот в квартире стало плохо. Ночью, хоть и запирались на все замки и цепочки, все время кто-то топал по коридору, а наутро на кухню не выходили ставить чайник (и уже никогда больше никто их не видел, а в воздухе зазвенело новое слово «забрали!») – то дядя Толя-Отто, сын доктора Брандта, футболист, то сам профессор Брандт.
И пианистка Анна Израилевна куда-то насовсем уехала вместе с бабушкой, оставив дома дочь Женю и сына Нику, тоже музыканта, который стал вдруг на скрипке своей «пилить и день, и ночь без продыху», как говорила Настя, а вскоре зимой открыл балконную дверь, выбив все стекла, шагнул во двор со второго этажа, и приехала «скорая», и его отвезли в «психическую» больницу.
Сестра его Женя, Евгения Павловна Должанская, преподаватель марксизма-ленинизма в московской консерватории, привезла его однажды вечером домой, сизого лицом, бритого наголо, тихого, в полосатой пижаме, и он стал выходить из своей комнаты с заколоченной фанерой балконной дверью только по ночам, когда квартира затихала.
Он шел в туалет, шел по длинному коридору, никогда не включая света, на ощупь, в темноте.
Если Вера тоже хотела ночью в уборную, она щелкала сначала кнопкой настольного ночника с синей лампой без всякого абажура, чем вызывала громкое ворчание матери, потом, не закрывая двери в комнате, мчалась по едва заметной световой полоске в конец коридора, до выключателя, зажигала тусклую общественную лампочку и только затем поворачивала за угол и включала свет в туалете.
Она стала бояться коридорного тихого ночного Нику как привидения, как чего-то потустороннего.
* * *
Забрали однажды ночью и Сипугашника, мужа Насти Богатыревой.
И он тоже больше не вернулся домой.
Потому что был точно расстрелян.
За убийства.
Этот тихий и щуплый каменщик несколько лет, возвращаясь ночами с работы «на объекте» вблизи москворецкой набережной, у развалин храма Христа-Спасителя, резал глотки редким встречным ночным прохожим.
Иногда за рубль мелочью, найденный в кармане убитого.
Сволакивал тела на стройплощадку, засыпал камнями, шел домой.
И дома мирно целовал спящих дочек, Лёлю и Тамару, в каморке при кухне.
Он спокойно признался во всем и показал, где именно заваливал зарезанных.
Безобидный был такой, все его очень жалели; жена Настя убивалась по нём «по гроб жизни», так и не вышла больше замуж.
Часть 7. Дворы и дети
Незадолго до начала войны московские дворы были просто переполнены детьми. Вера была любимицей и заводилой всех ребят во дворе, даже мальчишек, которых было особенно много. Брат Коля, хоть и был младше всего на год, подчинялся сестре как малолетка. Мать называла Веру «коноводка» и часто наказывала одну ее, жалея Николая.
Мясницкую улицу сразу почти после потрясающе громкого ленинградского убийства товарища Кирова уже успели переименовать в улицу Кирова, а их Чудов переулок – в переулок какого-то Стопани, «Стопанина», как говорила едва грамотная Пелагея, по созвучию со знаменитым ледовым «Папаниным», жившим в Доме старых большевиков неподалеку; про встречу папанинцев, проехавших стоя в открытых авто прямо до самой Красной площади, в венках из живых цветов на шеях, размахивая множеством букетов, бросаемых им восторженными москвичами, про то, как красиво сыпались на них изо всех распахнутых окон Садового кольца нескончаемые мелко накрошенные белые бумажки и оседали потом на плечах и макушках веселой толпы, как те снега, из которых недавно вернулись герои, Вера и Николай рассказывали потом взахлеб тем ребятам, кто не жил в Центре.
В торце переулка Стопани, прямо перед зданием Швейцарского посольства, организовали в бывшем особняке купца Гусятникова Дом пионеров, а сам Гусятников переулок стал именоваться Большевистским. Тихие переулки имели сквозное соединение через множество дворов; например, из Малого Харитоньевского можно было пройти пятью проходными дворами, минуя улицу Кирова, аж до самой почтамтовской площади у Мясницких ворот. Там сиял теперь новенькими красными буквами, на светло-сером граните облицовки под квадратом козырька, многоступенчатый вход в метро Кировская перед Чистыми Прудами, слегка чем-то напоминающий куб Мавзолея Ленина.
Любимым временем года Верочки было лето, потому что, главное, не надо было учиться, и потому еще, что не надо было мерзнуть в старых тяжелых башмаках; а летом любимыми ее играми были «расшибалочка», «штандар» с мячом и «сыщик-ищи-ворА». Однажды играли в казаки-разбойники, забежали гурьбой в огромный и пустой двор кинотеатра «Колизей», потом проскочили, легко, «дуриком», отвалив хиленькую задвижку на обитой железом боковой двери выхода, через весь кинозал вперед, от экрана ко входу, и всей кучей, мимо ахнувших билетерш, стоявших по двое у входных дверей, промчались дальше, громко топая, прямо в фойе, затем вылетели в главный вход под колоннадой, и, захохотав и улюлюкая, перебежали дорогу перед трамваем «Аннушка» и попрыгали все под отчаянный звон этого трамвая через низкую чугунную ограду «Чистиков» прямо на газон напротив пруда. Едва отдышавшись, вся дворовая кодла в три десятка, примерно, пацанят, хохоча и толкая друг друга локтями, кое-как расселась отдыхать на скамьях-«диванчиках» перед единственным прудом Чистых Прудов.
На темной коричневатой поверхности воды, едва шевелясь, плавали зеленые лодки с «парочками», а на узеньком дощатом причале пруда, подальше от Покровки, одна тетка торговала газировкой, а другая – мороженым с лотка. Мороженого вдруг так захотелось! Но – денег нет, и Бог с ним. Облизнись и пройди мимо. Вдруг, в одной из ближних лодок, Вера увидела отца, Степана Ивановича, с ярко-рыжей молоденькой и очень счастливой на вид девицей в синем платье, перехваченном на талии белым широким кушаком. Та смеялась и ела мороженое. Брат Колька стал тыкать Веру в бок, молча другой рукой показывая на парочку в плавно удаляющейся от берега лодке. Степан Иванович усиленно забрякал веслами в уключинах, стараясь отплыть как можно быстрее и отворачиваясь от детей.
Поздним вечером Коля не выдержал и обо всем, увиденном на Чистых, «наябедничал» матери. Та места себе не находила, лицо и шея покрылись темными бордовыми пятнами, она вдруг стала, как фурия, швырять все, что под руку попадет, дала Кольке увесистую затрещину, потом выбежала на кухню и там долго и громко ругалась и разоблачала неверного мужа перед неприятно примолкшими и как бы оглохшими соседями. Вера не сказала брату ни слова. Но какая-то пустота вдруг случилась в подростковой ее душе. – «Вот и все. Ни матери, ни отца, ни брата.»– подумала она. – «Ну и не надо!» – сказала вдруг вслух сама себе и тряхнула головой.
Ближе к ночи, когда мать и Колька, оба всхлипывая, уснули, наконец, по своим углам, Вера встала с постели, оделась и тихо вышла из квартиры.
На лестничной клетке ее второго этажа еще белели плохо замытые следы недавнего ремонта. Вера поднялась на чердак своего дома, где только закончили «возить грязь» после строительных работ.
В бывшей чердачной «бельевой» – сушильном помещении прямо под коньком крыши – умудрились соорудить вокруг гулкой шахты лифта подобие очень большого короба, в который втиснули, разгородив еще и изнутри фанерными стенами, как бы квартиру, с санузлом, с двумя большими странными окнами на передней и задней стенах коридора, то есть в торцах дома, и с круглыми маленькими иллюминаторами комнатных окошек, выходящих под сильно скошенным потолком прямо на ржавое кровельное железо крыши.
Собралась Вера на чердак не просто так, а в гости к новой подруге.
В надстройке над квартирами самого верхнего 6-го этажа проживала теперь девочка Капа, с бледно-восковым, удивительно правильной формы фарфоровым личиком, Верина ровесница и даже одноклассница.
Хотя Капа – Капитолина Свириченко – появилась в доме всего полгода тому назад, Вера успела так с ней сдружиться, что, казалось, уже и не было никогда жизни без этой подруги.
Вера пришла сейчас к Капе с твердым намерением остаться переночевать у нее, в Капиной нормальной семье, «на пока», а там посмотрим…
Капа с достоинством рассказывала всем при первом знакомстве, что она дочь военного и служащей статистического управления, однако, в гости к себе никого из ребят еще не приглашала. Да если бы и позвала, страшновато было бы каждому из «гольтепы дворовой» идти в гости в приличный дом, с такими наверняка очень строгими родителями.
Капитолина Романовна была гордой девушкой 14-ти лет в эту последнюю перед войной весну.
Ее семью переселили в новую квартиру под крышей из вечно заливавшегося водой подвального помещения в Таганской тюрьме, где отец Капы, Роман Свириченко, работал, а вернее, служил, надзирателем.
Мать Капы была уборщицей в Центральном Статистическом Управлении, знаменитом здании ЦСУ архитектора Карабюзье на Мясницкой.
Отец ее дома пил по-черному.
Приходил из тюрьмы, то есть, с работы, и сразу от двери медленно и степенно раздевался: снимал и пристраивал на высокую спинку старого стула в углу коридора фуражку, ремень, портупею и гимнастерку; садился на этот стул и с кряхтением, но сам, стягивал с ног сапоги и ставил их носами к выходу; затем разворачивал и вешал на перекладины под сидением байковые тухлые портянки; потом вставал, скидывал и укладывал поверху всего синие брюки-галифе, и, босиком, в исподней рубахе и кальсонах, наступая на их веревочные завязки, шел на кухню.
Там брал с полки здоровенный ковш-«уполовник», зачерпывал им из огромной, двухведерной кастрюли, сдвинув с нее вечно обмотанную тряпьем крышку, и пил, не отрываясь, минут пять, «компот» – постоянно парившуюся бражку.
Затем доставал из колченогого стола с заляпанными дверцами четвертинку водки, ею «запивал», никогда и ничем не закусывая, и ставил пустую «посуду» обратно в кухонный стол.
Потом направлялся в уборную, через малое время шумела спускаемая вода, он выходил и тут же валился на пол, на свой тюфяк, спать. Он всегда ночевал именно в коридоре, в дальнем правом углу, рядом с уборной, на вонючем тюфяке, падая туда каждый вечер, «как дрова».
Мать-уборщица работала и днем и ночью, была тихой, сухенькой старушкой, запуганной и забитой женой алкаша-«вертухая». Когда она серой мышкой проскальзывала в свой дом, никто не замечал. В ее непременную обязанность входило поддержание постоянного уровня в кастрюле с брагой да замена пустых четвертинок на полные. Если этого не было сделано, муж молча шел в коридор, защелкивал замок входной двери на «собачку», садился на свой стул и обувал сапоги. Потом отыскивал по всем углам квартиры жену, сгребал ее в охапку, бросал, как пустой мешок, на пол и бил ногами. Глухие тупые удары в зажатый руками живот не вызывали ни звука из груди Капкиной матери, она только пыталась как можно быстрее встать и побежать за водкой или за дрожжами.
«Вертухай» вставал рано утром, всегда сам, без всяких будильников, со стоном выхлебывал из пузатого латунного остывшего чайника всю воду и уходил на работу, никому не сказав ни слова. Вообще в квартире «Свириченков» постоянно царила глухая и зловещая, придушенная какая-то, тишина да кислый тошный запах – смесь хронического перегара и грязного немытого белья. Пахло, «как в покойницкой», думала впоследствии Вера, хотя ни в каких «покойницких» сроду не бывала.
И вот Вера, тоскуя от одиночества и ощущения тупого домашнего предательства и всеобщей семейной нелюбви, взлетела по лестнице к квартире Капитолины. Постучавшись три раза, как было условлено заранее, увидела в образовавшуюся небольшую дверную щель открывающую Капу.
В этот раз Вера не осталась, как обычно, стоять на пороге в ожидании выхода подруги, а быстро шагнула внутрь квартиры.
Капа от неожиданности отскочила назад и в сторону, – и вдруг споткнулась и чуть не упала.
Прямо перед настежь раскрывшейся входной дверью лежали на полу пьяные «дрова» в собственном соку, широко раскинув ноги в серых кальсонах. Видимо, папаша перепутал направление по коридору. Вера увидела и согнувшуюся на сундуке в углу перед кухней старую мать Капы. Обхватив голову ладонями, раскачиваясь вперед и назад, та молча и глухо стукалась головой об стенку.
«Полезли на крышу!» – быстро сказала Капа, ничуть не меняясь в лице. В коридоре при входе стоял комод с зеркалом, обрамленным двумя вазами белого стекла с крашеными сухими метелками внутри. Капа притормозила. Быстро отстегнула от горловины своей плоеной кофточки пышный черный атласный бант на булавке, положила его у зеркала, ровно посередине между вазами. После этого, немного полюбовавшись на свое отражение, перешагнула через отца и вышла степенно на лестничную площадку, аккуратно прикрыв за собой входную дверь.
Вере, которой еще не успело исполниться четырнадцати лет, самообладание подруги показалось просто восхитительным. Настроение почему-то просто взмыло вверх, и собственные глупые беды сделались вдруг такими никчемными…
«Обойдемся без бантОв!» – сказала Вера и захохотала, взбираясь на крышу, прямо под трубу, по ржавой внутренней пожарной лестнице. Капа захохотала тоже, цепляясь, как мартышка, за тонкие витые поручни. Вера уже пихала вверху изо всех сил плечом и двумя руками дверцу люка. Вот та раскрылась, просто распахнулась на волю, и девушки в который раз обомлели от чистого мягкого воздуха и от едва видимого на бледном московском небе отпечатка полумесяца и первых звезд. Жизнь на крыше была как всегда прекрасна.
Через полчаса подруги спустились вниз, во двор, и влились в компанию молодых соседских мальчишек. Брат Веры, Николай, вот уж странно, тоже оказался во дворе – и когда только успел? – и вместе с друзьями негромко обсуждал, как лучше всего проникнуть сейчас на последний сеанс в «Колизей», на «мировую картину». Денег на билет не было ни у кого.
«Ну, вы, бл… и лохи все!» – вдруг сказала Капа нежным голоском. – «Даже на кино для девушек не можете раскошелиться. Вера, на фига нам такие фраера обломились? Нам нужны не такие!»
Эффект от таких ее слов был схож с тем, как если бы агнец небесный рухнул на землю и обернулся вдруг козлищем.
И тут Капа выкинула еще один номер: из кармана широкой сатиновой юбки достала маленький металлический портсигар, спокойно и с достоинством вынула оттуда папиросу, из другого кармана вытащила коробок спичек, зажгла папиросу и закурила. Это привело всех просто в бешеный восторг, особенно Веру: «Дай мне затянуться!» – «Возьми, пожалуйста. Только не обслюнявь! – велела Капа. – Терпеть не могу слюнявые рты!»
С тех пор Вера начала курить, сначала не в затяжку, и редко. Потом, как-то незаметно, втянулась и начала курить постоянно. Она тоже ненавидела «слюнявые рты» и никогда не оставляла на папиросах, а затем и на сигаретах, мокрых следов. Разве что легкий след от губной помады. Так ведь это же не слюни!
А Капа курила крайне редко, потому что «следила за собой», особо гордясь фарфоровой красоты зубами. Вся «Капитолина Романовна», как она любила себя величать, была очень чистенькой, пахнувшей земляничным мылом, одетой в новенькое заводной куколкой с каштановыми аккуратными локонами. Вот только рот был тонкогуб и хищен, и глаза – не стеклянные пуговицы, а орлиные зрачки, остановившиеся в полете на намеченной жертве, холодные и не по возрасту беспощадные.
Капа угостила папиросами всех молодых ребят, протянувших к ней руки. Таковых оказалось двое, другие постеснялись. Веркин брат Коля тоже потянулся было, но получил от сестры по рукам. «А стукачам – не положено!» – отрезала Вера. Коля сразу все понял. Зато друг его, рыжий Виктор, возмутился: «За “стукача” и по морде мало!» Капа воззрилась на него сквозь дым папиросы: «Что за нравы, что за лексикон! Как ты разговариваешь с девушками?» – Виктор вдруг сплюнул, затоптал в песке почти целую Капкину папиросу и сказал: «Пойдем отсюда, Николай! Не надо нам ничего от вертухайской дочери!»
Капино беленькое кукольное личико стало совсем мраморным, она хотела что-то сказать, но тут Вера со всего маху саданула Витю коленом в пах. «Так будет с каждым, кто обидит моих друзей. Пока Я тут королева!» – и победно посмотрела вбок, на серьезного, взрослого Володю, свою первую, как поняла она вот прямо теперь, настоящую любовь.
Это он, Володя, назвал ее вчера при всех Королевой.
Ребята частенько по вечерам сидели на крыше, на толстом бревне, привязанном к трубе железными цепями на полдороге к карнизу. И Вера пришла тоже, в своем стареньком ситцевом пестром сарафанчике, надетом на единственную Верину нарядную белую кофточку с рукавами «фонариком». Она вылезла из люка под трубой, стараясь не коснуться случайно плечами ржавых краев, увидела всех и засмеялась радостно, сияя своими почти черными лучистыми и веселыми глазами в голубых аж до синевы белках. И все вчера вечером было, вроде, как и обычно, как всегда…
«О, Верунчик пришел, Верочка, садись!» – ребята оживились, задвигались, освобождая место в самой середине бревна. Сверкая в сумерках голыми, еще детскими, но очень стройными ножками в белых носках, «с припуском» на почти белые парусиновые тапки, «вычищенные» мокрым зубным порошком, Вера быстро пробежала по скользкой крыше до края бревна, и, хватаясь за протянутые руки мальчишек, продвигалась к свободному месту.
Вдруг Володя, сидевший в центре, сильно потянул ее за обе руки на себя, перехватил, как ребенка, и быстро усадил боком к себе на колени.
Она смущенно, неловко плюхнулась на парня, почти ударилась худеньким задом об острые, торчащие углами, юношеские коленки, и, чтобы удержаться и не соскользнуть, инстинктивно обхватила рукой его крепкую загорелую шею. Он придвинул Веру вплотную к своим ребрам, она почувствовала боком и грудью, как прыгает его сердце, и попыталась освободиться и сесть рядом, но он сжал ее всю обеими руками и не дал двинуться.
Ей было не по себе, и как-то странно, немного похоже на ощущение от чужой нарочитой щекотки – вроде и приятно, но как-то приторно, вроде и смеяться хочется – да уж очень близко к слезам. К тому же тесные эти первые объятия состоялись на глазах «у изумленной публики». Но она выдержала оторопевшие взгляды всех притихших вдруг мальчишек. А Володя, посидев немного, сухими горячими губами несколько раз, незаметно для других, провел по ее виску и тихо-тихо поцеловал в нежную припухлость под пушистой бровью. Потом бережно снял Верочку со своих колен, усадил рядом на бревно, а сам встал, подошел к краю крыши и на одних руках, ногами вверх, спустился по тоненьким железным ступенькам-прутьям шестиэтажной пожарной лестницы, «пожарки», во двор. На земле уже сделал сальто и, крикнув так громко в гулком дворе, что слышно было и на крыше: «Вера-а-а, ты – моя Королева-а-а!!!», исчез в подворотне.
И вот сейчас Вера как бы ждала от него подтверждения, что она, действительно, теперь, и хотелось бы – навсегда! – его королева, и что он заступится за ее подругу Капу тоже. Но Володя стоял молча, не улыбался и не говорил ничего.
И мир вдруг начал рушиться, и стало так страшно и плохо на душе, и бежать захотелось, и не видеть больше того, кто вчера сам приблизил и почти освободил от одиночества… «Пойдем отсюда!» – сказала Вера Капе. «Я – с вами!» – тыркнулся, было, за ними брат Коля. «Сидеть! Или вали – ка ты лучше к своей “мамахэн”»! – приказала Вера, и девушки ушли со двора.
Часть 8. Война
Почти в каждой комнате Пелагеиной коммуналки имелась обтянутая черной бумагой тарелка репродуктора. Радио не замолкало целыми днями, у кого погромче, у кого потише, но всегда, естественно, одинаково. В шесть утра отовсюду звучал гимн Советского Союза, в двенадцать ночи народ засыпал под звон часов Кремлевской башни.
В канун того дня, когда внезапно объявили про войну, Пелагея, как повелось по выходным, замесила тесто. Оно здорово подошло в кастрюле с ночи. Полина заталкивала его обратно деревянной ложкой, как вдруг раздался какой-то бешено воющий звук по всей квартире, а на кухню влетел полуодетый сосед Рувим Михайлович, часовщик (соседка-подруга Настя называла его «Херувим», от слова хер, конечно, а не по-церковному; он к Насте сватался однажды, сразу, как только стало все ясно с Сипугашником, но потерпел «фияско»).
«Полина Васильевна, Полина Васильевна, ВОЙНА!!!» – провозгласил, тоненько, с визгом, Херувим.
Первое, о чем подумала Пелагея: «Слава Богу, Верки нет с Колькой!»
Дети еще в начале июня уехали в заводской пионерский лагерь, и, как всегда, на все три смены. Потом еще подумала: «А кота-то моего милицейского, наверное, на войну и не пошлют!»
А Рувим метался по кухне и не умолкал, судорожно хватая себя за волосы: «Полина Васильевна, скорее же, надо срочно забрать все самое ценное и бежать в бомбоубежище!»
Полька тут же опомнилась, подхватила кастрюлю с тестом и побежала привычным «спасательным», оборонно-гражданским путем, изученным во время частых московских учебных тревог, вон из квартиры, вниз по лестнице в котельную.
В глубоком подвале сидели уже все почти жители дома. Гул голосов в подземной тишине перекрывался тошнотворный ревом с небес. Все смешалось теперь, а рай и ад поменялись местами.
По дороге от страха и паники Польку прохватил понос. И вот в темноте подземелья, под завывание московских сирен, Пелагея, не зная, куда деться, забилась в самый темный угол, сняла крышку со своей кастрюли и опорожнилась прямо в усевшее, праздничной сдобой пахнУвшее, тесто. И впала в какое-то полнейшее оцепенение. Или, точнее, выпала из времени.
Потом, когда все стало тихо, выбралась на улицу с этой своей кастрюлей, дошла до помойки во дворе, поставила все на дно мусорного бака, швырнула в сердцах вдогонку еще и длинную деревянную поварешку, заплакав от позора и от деревенской жалости к безнадежно испорченному «добру», единственному своему «самому ценному», вынесенному из дома, – но, зато, не боясь теперь уже ничего, никакой погибели от немцев. Для преодоления животного страха смерти надо было, видно, просто озвереть от унижения.
* * *
На заводе коньячных вин «Арарат» началась мобилизация. Мужчин посылали воевать, а женщин – на «трудовой фронт», рыть окопы в Подмосковье. Пионерский детский лагерь был на Оке. В заводоуправлении объявили, что всех детей заводчан пароходом по Волге будут срочно эвакуировать на Урал, и чтобы родители не беспокоились за них, всем потом сообщат окончательный адрес эвакуации.
Полина пришла рано утром в Кривоколенный переулок к заводу, там уже стояли грузовики с лавками для отправки людей на работы, борта опущены, на дне связками лежали черенки от лопат и сами лопаты в рогожных мешках. Но никто не рассаживался, не лез в машины. Среди женщин, вчера еще суровых и спокойных, наблюдалась какая-то паническая истерика. Стоял вой, какой-то дичайший, похожий на собачий. С визгом заехала в тихий когда-то переулок неотложка, запахло валерьянкой и камфарным спиртом.
«Полька, Полька, пароход с детками нашими разбомбило, на Оке, Полечка-а-а!!!» – Степан Иванович, в милицейской парадной форме, в гетрах, крагах, хромовых сапогах до колен, пистолетная кобура в кожаной портупее – красавец писаный, ее кот, сидел сначала прямой, как кол проглотил, верхом на лошади. Вдруг он свесился с седла вбок, ухватившись за конскую гриву, над женой и зарыдал в голос, утирая слезы белым рукавом гимнастерки. Он больше не следил за порядком «погружения трудовых резервов», он вообще ничего не видел перед собой, и только умная пепельно-серая кобыла прядала ушами и приседала под ним, фыркая, на тонких стройных бабках, заученно не уходя от толпы народа.
На улицу вышел директор завода, что-то говорил, что слезами теперь горю не поможешь, вся страна в слезах, а надо бить фашистов.
«Ийе-эх, Пелагеюшка, прощай, милок!» – взвизгнул Степа, взмахнул нагайкой, вырвался из конной цепи заграждения и поскакал «записываться в действующую».
Польку с другими очумевшими женщинами, затолкав, погрузили кое-как в кузов машины и повезли на Истру. Разместили в бараках, дали лопаты.
Там она, вот уж во второй раз в жизни своей, действительно напрочь выпала из временнОго потока.
Пелагея работала как оглашенная, как и все, в сутки по 16 часов; рыли окопы, валили деревья. Полина отощала совсем, у нее завелись вши, стали совсем бессмысленными, но почему-то блестящими, провалившимися в темные черные ямы над худыми по-волчьи скулами, глаза.
Она отрезала огромную свою толстенную, метровой длины, косу тупыми ножницами, по прядям, и короткие волосы пышной шапкой полезли вверх, к затылку, закурчавились, закрыли уши и пол-лица.
Бабы ахнули: Полька стала безумно хороша, но и, кажись, вполне безумна. И однажды, когда подпиленный ствол дуба стал падать прямо на нее, Пелагея не уклонилась, а застыла на месте. Бог любит троицу, и почти окончательное выпадение из времени произошло с ней вот уже в третий раз.
…Из больницы Пелагею выписали в ноябре 41-го года, точно накануне «Октябрьских» праздников.
Она шла по ощетинившейся противотанковыми ежами гулкой и пустой ледяной Москве, как привидение. В кармане холодного, изношенного, дважды перелицованного «летнего» пальто лежали два ключа, марлевый сверток с больничным хлебом и сахарином, в вещмешке несколько банок консервов с «трудового фронта», пол-литровая бутылка армянского коньяка «три звездочки» от завода, да отрезанная, завернутая в июньскую газету, каштановая коса.
В Москве начиналась метель. Завтра, сразу после военного парада на Красной площади, она должна явиться на завод и делать «заказы для фронта», то есть заливать коньяк в железные армейские фляжки и опять же «укубривать» этот нескончаемый поток на конвейере сначала пробкой, а потом завинчивать железной крышкой. И так теперь будет всю жизнь.
Пелагея подошла, наконец, к своему дому, поднялась с трудом, сильно хромая, на второй этаж к дверям своей квартиры, тихо открыла послушным ключом входную дверь и прошелестела по пустому коридору до двери собственной комнаты.
Куда-то делись с коридорных стен все корыта, раскладушки и велосипеды, остались только огромные гвозди и вбитые навек костыли. Было голо и гулко, или это в ушах шум от голода и холода?
Ключ в двери Полькиной комнаты не проворачивался. Не видно также было обычного просвета через довольно большую замочную скважину. Наверняка, мешал ключ с внутренней стороны комнаты. Бумажка с «бронью» была начисто оторвана, остались только следы сургуча с корявой бечевочкой.
«Степан, что ли, так и не уехал на фронт?» – только и успела подумать Пелагея, механически, по привычке, толкнув дверь внутрь комнаты.
Дверь вдруг открылась, раздался визг и плач, и на Пелагее зависли с обеих сторон Вера и Коля. И Поля упала на пол, потеряв сознание.
Ребята сбежали той июньской ночью с парохода, всего за несколько дней до бомбежки, и все из-за «коноводки» – Верки, которая, услышав о войне, хотела еще из пионерлагеря драпануть домой в Москву, да не получилось, их поймали, потом всех пересчитали по головам и повезли на пристань.
Сбежать удалось на одной из ночных стоянок парохода на Оке. Как они добрались до дома, уму непостижимо. Но были уже у матери на заводе, им выписали хлебные карточки и сказали, что мать в больнице, была в тяжелом состоянии, но живая. Скоро приедет домой и выйдет на работу. А их пока устроили через РОНО – Колю, 13 лет, учеником слесаря, а Веру, 14 лет, – чернорабочей в типографию. Они уже работают!
«Мам, а правда, что тот пароход с нашим лагерем разбомбило? И хорошо еще, что ты не в» психическую «попала, а то бродила бы сейчас, как, помнишь, сосед Ника по ночам, всех бы пугала!» – засыпая вечером, сказал Коля.
«Где он, наш Ника, теперь?» – вдруг заплакала Поля.
Часть 9. Дед, сума да тюрьма
В декабре сорок первого «прибыл» из деревни под Чернью Тульской области дед, Степин Василий Иванович, отец Пелагеи. Еле прибрел, вконец отощавший, больной, сильно подряхлевший и весь в синюшных узелках на коже. Он рассказал, что в деревне «от немцев» погорела сестра Сашка с детьми, осталась бездомной нищенкой, ходит с торбой по окрестным деревням; муж ее, деревенский кузнец Иван Артамонов, пал смертью храбрых, как сообщалось в похоронке, прикрывая подступы немцев к Москве с Юга, погиб под Орлом. Старший сын Петр, красноармеец-пограничник, сразу в начале войны попал в окружение под Брестом, ничего больше о нем не писали. Второй сын, Мишка, тоже служивый, хороший охотник и лыжник, а потому стрелок-снайпер, давно уже пропал без вести, еще со времен Финляндской войны; третья, дочь Шура, 18-ти лет, стала «ворошиловским стрелком» где-то под Тулой, никаких сведений о ней не было, но ее видели колхозники живой, в лесу «у наших». Марию, 16-ти лет, мать заставляла каждый день прятаться в погреб их сгоревшего дома, от угона в Германию; а малые дети стали помирать с голоду, трое еще живых ходили побираться вместе с матерью по разбитым войной дорогам. Жили в наскоро вырытой около погорелой печи землянке. Дед Василий не хотел быть «лишним ртом» ни у кого из своих детей. Пришел «до Польки проститься», лег на диван и больше не вставал, от еды отворачивался совсем, только пил воду. Он умер в Москве от голода, от водянки, прямо накануне нового, 1942-го года.
Это была первая смерть близкого человека, пережитая Полькиными детьми. Вера боялась мертвого деда, огромного, распухшего; ей казалось, что он не совсем умер, в нем как будто что-то булькало или шевелилось, и пока не вынесли гроб с его телом и не увезли хоронить на Ваганьковское, она ночевала во дворе, в домике у дворничихи тети Кати, матери Володи. Сам Володя ждал со дня на день повестки из военкомата. Ему только что исполнилось 19 лет.
Днем дети работали, вечером и ночами дежурили на своей любимой крыше – сбрасывали или тушили бомбы-«зажигалки». Москву бомбили еженощно, и по нескольку раз, особенно центр. Никто почти не прятался больше в подвал, хотя и были прямые попадания в плотно сомкнутые рядом стоящие дома.
Все соседские ребята постарше воевали на фронте. Многие одногодки – ровесники были эвакуированы, обычно, вместе с родителями.
Колька сильно уставал на своей взрослой работе и плакал холодными ночами от голода. Верка терпела и от голода спасалась пайковым куревом. Свои папиросы Коля обменивал на хлеб и все равно никогда не был сыт. Он вытянулся. Стал очень красивым, почти, как сестра, только пошел больше в материнскую породу. И мать в нем просто души не чаяла.
А любимый Верой Володя ушел, дождавшись повестки, на фронт. Были короткие и горькие проводы, плакала мать Володи «как по покойнику, незнамо с чего», осуждали соседки, пришедшие в гости. Но сын сказал, что обязательно вернется и женится на Вере, и чтобы и мать, и Верочка его ждали и каждый день писали ему письма.
Он оставил названной своей невесте, сам того не ведая, ребенка.
* * *
«Над нами нависла огромная, опасная туча» – голос диктора Левитана из громкоговорителя стал пугать, но и разгонять одновременно тупую, одуряющую скуку бытия.
Лишнего не болтали. За каждый пустяк сажали сразу, а рассказы про «колоски» и «пятиминутные опоздания» пострадавшие держали при себе. Тюрьма как была всю жизнь, так и в войну осталась страшным позором.
Работали просто без выходных. Многие падали и умирали на рабочих местах, зачастую, помимо болезней, просто от хронического голода. Продовольственными карточками начали спекулировать в быту и шантажировать на работе, суля «усиленный» паек «в целях увеличения производительности труда в суровых военных условиях». Тем самым на практике сокращая количество едоков.
Почти полное отсутствие одежды и обуви у большинства работавших в Москве простых людей (а «непростым» удалось эвакуироваться, наряду с «очень непростыми», которым даже лучше стало жить в войну) едва скрывали рабочие халаты и «спецовки», надеваемые прямо на голое тело, да безразмерные раздолбанные бахилы.
Холодными военными утрами под леденящие душу раскаты песни «Вставай, страна огромная!» и грохот дров в темноте Верочка вставала, зажигала «буржуйку», ставила греть чайник и утюг (утюг для тепла выставлялся потом на расколотый мраморный подоконник). Чай был из одного кипятка и морковной крошки, от него тошнило. Вообще тошнило постоянно, от голода. Тошнило на работе, там, наверняка, от типографской вонючей краски. И вот однажды утром Вера просто не смогла подняться с постели. Она спала и спала под звон будильника; мать и брат ушли уже на работу, а ей встать было просто невмоготу.
Когда девочка явилась в типографию с опозданием на 45 минут, больная, голодная, ее сразу же вызвали к начальству. Начальником был жирный сорокапятилетний здоровый боров, «белобилетник» с больным сердцем. Он заорал, затопал ногами, стал спрашивать о причинах прогула в военное время, когда вся страна как один и т. д. Верочка сказала, что она вовсе не прогуливает, а заболела и ей надо бы пойти к врачу, взять больничный… «Какой еще больничный, у нас в стране война, и товарищ Сталин…» (а может, и без товарища Сталина). Начальник вызвал из типографского медпункта очкастую тетку-фельдшерицу и велел ей при нем осмотреть Веру. Фельдшерица сказала: «А что ее осматривать, она же беременна, вся типография знает, она же все заблевала в туалете женском!»
Вера вздрогнула, так все вдруг стало ей ясно. Вот отчего…
Тогда начальник выпроводил очкастую обратно в медсанчасть и попросил свою старуху-секретаршу принести ему в кабинет два чая с бутербродами. Пока та все принесла, боров уставился на Веру и, облизнувшись, кратко произнес: «Не дашь – сядешь!»
Вера вскочила и убежала. А дальше началась «посадка за прогул по законам военного времени».
Пелагея, как услышала, что Веру арестовали, что будет суд, что Вера беременная, пришла к ней на свидание, опустила натруженные руки свои в подол, сцепленными узловатыми пальцами вниз, и сказала: «Я честно прожила в девушках 30 лет. Вас родила от законного мужа и в срок. На заводе на одном месте проработала с 18-го года, и нет на мне ни одного прогула, ни одного пятна; на трудовом фронте медаль вот дали. На ноге “рожа” не проходит от голода. А ты, проститутка, вся в отца своего пошла! Будь же ты проклята!» – и заплакала, и пошла домой, больше не глянув на дочь. «Да, мама, лучше бы меня тогда разбомбило на пароходе. Но только одну. Коля бы пусть спасся» – прошептала ей вслед Верочка одними губами.
В настоящую тюрьму Вера не попала, но в «предварилке» просидела несколько месяцев. Вынесли какое-то порицание, учитывая, что ей нет еще 15 лет, и что предполагаемый отец ребенка сражается на передовой (Володе туда написали, и он умолил свое начальство письменно подтвердить, что ребенок его, что Вера является его фактической женой и он распишется с ней сразу, как только ему дадут увольнительную). Он еще отдельно написал своей матери и просил взять Веру к себе от «тети Поли» и помочь девочке во всем.
Учли также, что у Вериной матери беспорочная рабоче-крестьянская биография и медали «За доблестный труд» и «За оборону Москвы», и что отец Веры, будучи непризывным участковым милиционером, сам записался на фронт, доблестно сражался на передовой и находится в настоящее время на излечении в госпитале под Ленинградом после ампутации левой руки. Помог и «вертухай» Свириченко по своим каналам. И Верочку выпустили.
Часть 10. В деревню, в глушь…
Домой она не пошла, к матери Володи – тоже. Она устроилась на работу в госпиталь рядом с домом, санитаркой-уборщицей в хирургическое отделение, и стала жить у подруги Капы, в ее квартирке на чердаке.
Капкина семья не эвакуировалась, потому что никто и не предлагал. Старый отец ходил на свою работу и не попал под призыв по возрасту. Мать как работала уборщицей в здании ЦСУ, так и продолжала. Капа была нянечкой в большом госпитале на Басманной и там же по вечерам училась на медсестру.
У Капы была старшая сестра, Тамара, но она давно уже вышла замуж, жила с тех пор отдельно, где-то под Москвой, и не очень-то хотела общаться с родными, а особенно с отцом.
Вера пришла к Капе домой уже без беременности. Ребенку так и не дали родиться. На шестом месяце произошел выкидыш, была девочка. Веру отвезли тогда в тюремную больницу и почистили, выдав справку. Поговаривали, что в тюрьме она, якобы, прыгала с высокого подоконника, вот и «скинула».
Вера стала другой, очень взрослой и по-настоящему, а не по-детски, красивой. На внутренней стороне левой руки, от сгиба локтя до подмышечной впадины, чудесным крупным ее почерком с характерной витиеватой заглавной буквой «Л» синими чернилами навсегда, по конец ее жизни, было наколото в одну некрупную строчку: «Люблю брата Колю». Распухшую и долго не заживавшую эту руку Вера сначала перевязывала бинтом, потом просто постоянно прижимала к телу, и это вошло у нее в привычку.
А Володя «пал смертью храбрых» в том же году, так и не увидев Веру.
В сумке Пелагеи постоянно находились два солдатских треугольника.
Один – от супруга родного Степана Ивановича с просьбой за все его простить, написанный медсестрой из госпиталя под его диктовку, перед ампутацией руки, за полчаса до операции.
Другой треугольник был из военной части Володи, отправленный в Москву незадолго до его гибели, с просьбой к родителям Веры разрешить ей расписку «до достижения шестнадцатилетнего возраста» и записать его, Владимира Петровича Соколина, как отца будущего новорожденного.
Два этих письменных свидетельства мужской любви долго согревали душу Пелагеи, пока совсем не истерлись в прах, да так и задевались куда-то в вытертых недрах старой сумки.
* * *
Брат Коля то и дело прибегал наверх к Капе и просил Веру вернуться к ним с матерью. Сестра не соглашалась. Но через некоторое время к Капе приехала старшая сестра Тамара. Тамара недавно овдовела, муж ее, как и у многих, был убит на фронте, и жить ей одной стало очень трудно.
Вера вздохнула и вернулась к своим.
Вскоре Капе надоело «учиться на медичку и возиться с ранеными», и она устроилась на работу к сестре Тамаре, которая, при помощи сослуживцев погибшего мужа, стала официанткой в офицерской закрытой столовой на улице Кирова. Девушку Капу взяли туда же посудомойкой.
Вера продолжала работать санитаркой. В выходной с утра и два раза в неделю по вечерам Капкина Тамара тоже подрабатывала медсестрой, и в том же госпитале, расположенном в здании Колиной бывшей школы № 645 в переулке Стопани, где работала и Вера.
Безрукий отец вернулся и стал опять работать в милиции. Когда он пришел домой, то, ни с кем не здороваясь, сразу спросил: «Вера где?» Колька помчался к Капе и привел Веру. В эту ночь вся семья была в сборе и улеглась спать дома: мать на кровати, Колька на диване, отец – на полу на шинели, а Вера – на старом Полькином сундуке с «приданым». Наутро отец проснулся и сказал, что уходит от жены «насовсем».
«К рыжей своей пойдешь? Она тебе и другую руку оторвет, нужен ты ей больно, старый да инвалид!» – плюнула Полька в сердцах прямо на пол и ушла на завод, даже чаю не попила. «Какой же я старый, мне и сорока еще нет!» – возмутился было Степан, но все-таки ушел жить к своей Рыжей.
* * *
Вскоре по радио заговорили пободрее, о победе под Сталинградом, о разгроме немцев на Курской дуге, затем и об освобождении от них русских городов. Тулу тоже освободили, и все были рады, улыбались окаменевшими и забывшими улыбку ртами.
Однажды, незадолго до конца войны, Вере тогда было уже 17 лет, мать ее, Пелагея, примчалась на капкин чердак самолично и стала звать Веру немедленно идти домой. «А что случилось-то, пожар, что ли?» – «Да иди ты скорее, отец твой тоже к нам пришел!» – только и сказала Поля. Вера подумала, что мать так возбудилась из-за прихода отца, и спокойно пошла домой.
Там, за «праздничным» столом с селедкой и водкой, рядом со смущенным Степаном, восседал Боров – начальник типографии. Вера побелела и схватилась за дверную ручку, намереваясь убежать. Полина оторвала ее от двери и выпихнула в середину комнаты, сказав, расплываясь в умильной улыбке: «Вот, гражданин начальник сватать тебя пришел!» – Видя, что до Веры все еще «не доходит», уже жестче повторила, проглотив улыбку: «В жены тебя брать, дура, понимаешь?!» – «Но… но…» – начала было Вера. – «Занокала, вертихвостка, давай лучше соглашайся, пока человек не передумал!»
Тут не выдержал брат Николай: «Мам, да ведь гражданин-то старше нашего отца, мам!»
Папаша Степан Иванович засмущался и выпил вдруг рюмочку один, «пропустил», что называется, а вернее, «не пропустил». А Боров произнес торжественно, держа свою полную рюмку на весу: «Простите меня, товарищи! Так трудно мне было! Разве не знаете все вы, что есть статья, а я-то ее наизусть вызубрил, как партийный устав, про то, что начальники учреждений за уклонение от предания суду лиц, виновных в прогулах без уважительных причин – сами привлекаются к судебной ответственности. Ладно, Верунчик, люблю я тебя, а кто старое помянет – тому глаз вон!» – и уж хотел он было выпить, как вдруг Вера подошла поближе к столу, приостановила его руку, взяла себе тоже стаканчик и налила в него водки до краев. И под одобрительные слова Борова: «Вот это – по-нашему, это – по-русски!» – выплеснула водку прямо ему в глаза, развернулась на каблуках и спокойно вышла вон.
Когда дверь за ней захлопнулась, раздался дикий вой Борова, визг мамаши и сдавленный хохот выскочившего из-за стола Кольки, тоже сразу бросившегося в коридор.
Навстречу Вере, по коридору, по направлению к комнате Пелагеи, медленно двигался приглашенный на «сватовство» сосед дядя Паша, на костылях после ранения. Сестра и брат чуть не сшибли его, отчего Колька прыснул еще сильнее, и проскочил на кухню, а потом хлопнул дверью «черного хода», убежав во двор, а Вера, вся дрожа, с трудом проговорила: «Спаси меня, дядь Паш!» Тот сказал, сразу все поняв: «Иди быстро к нам в комнату, и пусть Нинка закроется на ключ. А я потом постучу вам в стенку, когда все успокоится».
Вера впрыгнула в комнату к Нине, та заперла дверь на ключ. Неизвестно, что там было дальше, за стеной. Вера не любила тетю Нину и вскоре тихо удрала от нее опять к Капке. По дороге она услышала в коридоре, приглушенные дверью их комнаты, но все равно громкие визгливые причитания своей матери: «За что она, сука проклятая, на мою головушку навяза-а-а-лась!»
Папа Степа, напившись тогда к вечеру с соседом Павликом в усмерть, более ни в каких семейных мероприятиях с «бывшей» участия не принимал. При проводах Борова до парадного сосед все-таки умудрился «отбросить костыли», разбил лицо, и во всем опять-таки, уже со слов соседки Нины, виновата была «эта ведьма-Верка».
А Вера, покурив с Капкой на кухне ее чердака, приняла твердое решение бросить все и уехать к тете Саше в деревню.
Там было теперь уже даже и посытнее, чем в Москве, была «и крупа, и картохи», как писала в письме сестра Пелагеи. И всем колхозом (одни бабы) вселялись в уцелевшие после поджогов немцами дома. Санька с кучей детишек зажила «пространственно». К тому же и некому стало управляться с этой мелкой оравой. Обе девки старшие – Шура и Маруся – повыскочили замуж и детей вот-вот обе народят, а в доме у тети Саши и своих девать некуда. Вот Вера и решила – едет.
Сказала на следующий день угрюмой матери о своем решении. Та согласилась на удивление легко: «Езжай. С глаз долой!» – «Из сердца – вон» – тихо прошептала Вера скорее про себя, чем вслух и пошла на Курский вокзал, в чем была. Шел месяц март победного сорок пятого.
Поезда ходили до Тулы плохо, далее шли – прямо до сгоревшего Орла, нигде не останавливаясь, у города Чернь пришлось прыгать, и хоть товарняк и шел медленно, затекшие ноги Вера отбила сильно, потом долго еще лежала в грязи под откосом, приходила в себя. От Черни до самой деревни Лужны пехом было ровно 25 километров, все так и шли, если не было лошади. Теперь не то, что лошади, или коровы, собак не осталось. Но по краям дороги, в мелких перелесках, завывали по ночам настоящие волки. Вера встряхнулась и пристроила на плечо маленькую холщовую котомку с сушеными объедками из московской офицерской столовой и с парой новых галош «от сестре Польке», как написала, уничижительно прося принять на временный кошт непутевую дочь, сама Пелагея.
Поездами до Черни Вера ехала неделю, и от самой Черни до деревни шла она по весеннему мартовскому рыхлому снегу на едва заметно притоптанном «тракте». Давно голодная, в дырявых блестящих «ботиках» на босу ногу, без туфель внутри, напихав в мягкие дыры для несуществующих каблуков завернутых в клоки газеты «слоников» с комода, мраморных, а может и гипсовых, размером поболее из семи штук, что стояли в каждой почти семье. Все «слоны» рассыпались в прах в этих пустых каблуках, натерев огромные кровавые мозоли на самой середине обеих пяток.
«Ах, да ты бы, дочка, Верочка, галошки – то енти, Полькин подарок, еще бы сверху наобула, да веревочками-то и подвязала, все бы посуше было ножкам!» – сокрушалась тетя Саша, увидев у себя на пороге дрожащий «шкелет».
Веру раздели, оттерли снегом, накормили и положили на овчину на теплую печь.
И тут она стала умирать. От заворота кишок; от воспаления легких; от всего прожитого куска семнадцатилетней короткой жизни своей.
Но было не время ей тогда еще. Болела она месяца два. К Первомаю, дрожа, встала сама с печки, на тонкие ноги.
«Святая Богородица!» – и баба Саша бухнулась перед Верой на колени, как перед иконой.
Через немного дней объявили Победу. Это и было Воскресение из мертвых.
Часть 11. Неудачная дочь
Все-таки было в Верочке нечто неземное. Не от мира сего. И дело не только в красоте. Некоторые бабы утверждали на полном серьезе, что она – ведьма.
Все существа мужского пола, от стариков до подростков, не могли обойти ее вниманием. А женщины из ее окружения, да и просто впервые столкнувшиеся с ней в присутствии «своих» мужчин, если не так далеки были от Веры по возрасту, наблюдая за реакцией своих спутников, становились какими-то нервными и злыми.
А те из теток, что годились в матери и Вере, и ее ровесникам-пацанам, скептически поджимали губы и начинали вдруг говорить гадости «о таких, как Эта», не называя ее дальше ни по имени, никак.
То есть в присутствии Веры сами становились ведьмами.
Только очень пожилые и культурные женщины, которых в любом их возрасте можно было именовать «дамами», а также добрые и простые старухи, особенно деревенские, Верочку обожали.
К стану обожателей примыкало также несколько Верочкиных ровесниц, которые, как говорится, «не вышли лицом», а то и попросту были дурнушками. Эти некрасивые приятельницы любили Верочку бескорыстно и самозабвенно, беспрекословно подчинялись ее воле. Одна из дворовых соседских девчонок, длинная и сухая, как жердь, «зато умная», потому что всегда носила очки, Юлька-ЮлИща, и другая, толстая, как шар, кудрявая, как овца, Нинон, составляли по своей доброй воле постоянную Верочкину «свиту» в Москве. Высокомерная Капа, неразлучная подруга, прозвала их «Пат и Паташонок». Эти девушки Вере не завидовали; они попросту купались в лучах ее невольного и легкого, но оттого не менее могучего торжества над мужиками.
И вот теперь в деревне, как только Верочка оправилась от болезни, ее тоже стали постоянно опекать сразу несколько девушек: двоюродные сёстры Шура и Маруся, старше Веры на два года и на год, обе замужние и беременные – Мария так почти на сносях. И еще одна Шура – Филина, по прозвищу «ФэДэ» (от «Феликс Эдмундович Дзержинский» – фотоаппарат, который делали макаренковские беспризорники, а Шурочкин погибший в войну отец был у них когда-то в коммуне фельдшером).
Шура Филина – Верина одногодка и бывшая одноклассница Маруси – успела выучиться в Черни на медсестру – в память о своем отце выполнила его «наказ», но в городе не осталась, а вернулась работать в Лужны и была, по существу, единственным «медработником» на всю немалую по территории округу.
Деревня Лужны, всегда, и правда, в лугах и в глубоких непролазных лужах на дорогах из сизого топкого чернозема, была «центральной усадьбой» колхоза, носившего историческое имя «Красный Бугорок» – далеко не такое смешное, и не придуманное, как казалось, «красными»: на этом самом бугру возле страшного Красного леса пролито было в братоубийственную Гражданскую достаточно крови.
В Лужнах устоял разоренный еще в годы первых пятилеток и недорушенный немцами пятиглавый собор со старинным погостом, отделенным со временем от стены колокольни талыми водами, образовавшими овраг. Разбитая церковь из красного кирпича на своем высоком холме над рекой все еще видна была за десять километров окрест на подступах к деревне. А под церковной горой на реке Роске, на запруде, не было больше старой водяной мельницы, ее сожгли, уходя, немцы. Жернов огромной каменной «баранкой» раскололся почти ровно на два полукольца, одно упало в воду, светлея по ночам со дна, другое улеглось на самый край берега.
Теперь на плоский этот и всегда как будто теплый белокаменный полукруг напротив прежнего «мельничного места», как на сцену, забирались по вечерам на посиделки у воды, неподалеку от погорелого дома бабы Саши, эти четверо подруг.
Приходили и другие деревенские девчата. Запевалы начинали петь, звонко, по-настоящему, широко и красиво, как сама природа русская, затем вступали хором и остальные, а речка отражала и несла далеко-далеко по воде юное чистое разноголосье. Хотелось плакать тем, кто слышал это пение.
На девичьи голоса, как дикие селезни на манок, сбегались все парни-подростки из немногочисленного местного «сопливого молодняка», а главным и старшим у них был семнадцатилетний гармонист.
Гармонь означала веселье и озорство. Усталости или грусти как не бывало, девки начинали «дробить» по утоптанному глинисто-песчаному берегу голыми пятками под частушки, с привизгиванием, а мальчишки вприсядку и со свистом «лётали» вокруг них.
Гармонист играл виртуозно, честно выкладываясь весь до конца, сам и приплясывая, и припевая. Звали его Коля Белый – это был очень светлый блондин, в московских дворах такие получали обычно кличку «Седой», он и сам был пригож, и фамилия у него была красивая – Генералов.
Этого звонкоголосого развеселого Колю, с нежным ангельским лицом и синими лучистыми глазами, любили все девки, и, конечно же, одинокие «от войны» молодые бабы.
Московская Верочка всегда привечала Николая, говорила, что имя у него родное, как у брата. Гармонист Коля относился к ней тоже по-особому, и часто играл напоследок только ей одной.
Тогда подруги отходили от них, но недалеко – просто прятались, приседая, за толстым мельничным камнем, и подслушивали. А когда умолкала вдруг гармонь, ждали, замирая, что же эти двое там будут дальше делать.
Но все кончалось обычно – Вера предлагала замолкшему гармонисту закурить и курила с ним сама, что повергало всех притаившихся в ужас.
Однако никто ни разу не проболтался тетке Саше о том, что девчонка курит по-взрослому. Та бы не поняла и отстегала бы веревкой, несмотря на болезненную слабость «москвички».
Часто Вера рассказывала Николаю о довоенной своей Москве, о Красной Площади с Царь-Пушкой и Царь-Колоколом, о Чистых Прудах, катке, кинотеатре «Колизей» и о подруге Капе.
А потом Вера длинно зевала и нарочито громко говорила в темноту: «Девки, я домой иду! Вылезайте! До завтра, Николай, и спасибо тебе большое за музыку.»
Однажды прятавшаяся за камнем в три погибели Маруська начала рожать. Перепугала всех до смерти, насилу дотащили ее до постели, и вот на соломе, покрытой рогожей, она родила первенца, а Шура ФэДэ приняла у нее этого, тоже первого в своей жизни младенца, – толстую девочку Галю.
При тусклом свете коптящей масляной лампы все домашние сгрудились над роженицей и ребенком и радостно улыбались, и рассматривали деловито приплод, как если бы корова отелилась удачным теленочком. Все были довольны, бледная Мария закрыла от усталости глаза, тетя Саша взяла на руки свою, тоже первую, внучку и тихо сказала: «Первуша ты моя, звездочка!»
* * *
На крестинах Коля играл как заводной.
Крестной матерью сделали, конечно же, Шурочку ФэДэ, а крестным – тоже Николая, с год тому вернувшегося домой из госпиталей и комиссованного подчистую из-за бесчисленных незаживающих ран – мужа Марусиной старшей сестры Шуры, которой и самой предстояло вскоре родить ребенка.
Гармонист Коля стал новорожденной Галочке родным дядей, потому что мужем Маруси и отцом девочки был его старший брат – вернувшийся с войны до срока с развороченной осколком гранаты челюстью и со скрюченной в дугу после тяжелой контузии рукой, несчастный и оттого сильно пьющий – Мишка Генералов.
Мишка был черен, как цыган (говорили, что мать его и впрямь родила не от белесого мужа!), крут нравом и зол. В деревне его не любили и звали теперь за глаза тоже зло: «Косорукий» (и вот что характерно – «Генеральшей», по фамилии мужа, Марусю никто в деревне не назовет ни разу, а будет она век свой «Косорукого баба»).
Когда гости предложили гармонисту отдохнуть, выпить и закусить, тот подсел сразу к Вере и тихо шепнул: «Тоже хочу ребеночка. От тебя!»
Вера фыркнула, но затем пристально и как-то глубоко, с интересом, посмотрела на Николая.
Дальше – больше. На другой же день Коля Белый подошел к бабе Саше, как бы и по-родственному и попросил разрешения прийти в гости в ближайшее же воскресенье – вместе со своим старшим одноруким братом Мишкой – зятем молодой бабки. Получив согласие, пришел, как и обещал, с братом, но – при гармони, да еще и вместе с другом Федькой. Мишка и Федька были в повязанных через плечо полотенцах. Пришли они сватать Веру.
Через год Коле надо было уходить в армию, и он, не зная отчего, но точно чувствуя, что вот-вот начнут возвращаться с войны все демобилизованные, уже заранее опасался их будущих притязаний на Верочку и боялся с этим сватовством опоздать.
А весна Победы уже перешла незаметно и скоро в жаркое лето, и, вот правда истинная, все радостнее становилось жить, просто жить – не бояться смерти и дышать чистым родным воздухом, ходить своими ногами по своей земле, пить утром парное, но сильно разбавленное теплой водой и пованивающее заскорузлой марлевой «цедилкой» молоко, и слышать в себе и вокруг себя музыку молодой деревенской любви.
Откатывались и прочь отлетали воспоминания о прошлой нерадостной жизни дома, в Москве, где было так больно; немного ныла Верина душа по брату, по Капке, по чердаку, но никогда – по матери.
Или слишком переборщила Пелагея со своим выскочившим в сердцах на четырнадцатилетнего тогда ребенка материнским проклятием непутевой дочери, или же сглазил кто Веру, но не могла она не думать о матери без обиды, которая со временем переросла постепенно в упорное презрение на лице и глухое молчание при любом упоминании о Пелагее.
И не было еще «ни письма, ни весточки» с обеих сторон.
Вернее, было у Саньки одно недавно полученное в расклеенном конверте письмо из Москвы от сестры Польки, долго оно шло, да дошло, но тетка Саша ни читать, ни писать не умела. По одной ей понятным причинам не отдавала она это письмо Вере.
Тетя Саша вдруг, посмотрев сейчас на молодых сватов в полотенцах с петухами, прошедших так аж через всю деревню, а особенно на юного Кольку-жениха, круглого сироту, без отца и без матери, сморщила лицо и заплакала, в первую очередь, от растерянности, что не она ведь мать Веры, что ж ее – то, тетку, спрашивать, можно ли девку сватать?
Потом вдруг вспомнила, как сосватали ее саму, шестнадцатилетнюю, за кузнеца Ивана, царствие ему небесное, вперед некрасивой старшей сестры.
Полька ведь тогда от позора из деревни уехала.
А сама Полька как-то все же не по-людски с девчонкой обиходится, сбросила из дому с глаз долой, и все.
А Верочка, как жеребенок малый на тонких ножках, красавица наша писаная, ведь не виновата она ни в чем в своей маленькой жизни! Нешто можно убивать дитя свое родное такими словами, как Полька ей в письме написала про Веру, а Шурка ФэДэ прочла ей, бабе неграмотной деревенской, вслух давеча на огороде, и сама даже не поняла, почему испугалась! Разве же могла баба Саша отдать девчонке такое материнское письмо? Да ни в жизнь.
Она так и носила письмо это гадкое в кармане под фартуком несколько недель, а потом молча кинула бумажку с конвертом в печь. А легче не стало; и что же теперь делать?
Господи Иисусе, спаси и сохрани, и избави нас, грешных, от лукавого!
А если вдруг правду Полька ей написала, что «измучилась она с дочерью, совсем, и до такого края дошла, что хоть волком вой», и надо бы и впрямь поскорее мужа найти «для непутной»?
Выходило из письма вот что. Вера там в Москве у себя любить стала только девок, из своих, из одуревших от восторга перед нею, причем, любить так открыто, так похабно, то есть даже целоваться с ними в губы, а главное, не по углам, а прям на людях; да уж лучше бы она проблядью последней с мужиками сделалась, чем такое вытворять!
У Польки сосватать Веру в Москве не получилось.
Ну, а может, и впрямь, выдать девку здесь, в деревне, потихоньку замуж, пора ведь уже, самое время! Потом пусть сразу родит – и образумится, да еще их надо тайно в церкви обвенчать, пускай обойдут вкруг аналоя, оно, может, дурь-то напускная вдали от московских припадочных шалав и улетучится! Сейчас ведь вроде можно даже и не тайно в церкви-то повенчаться, облегчение вышло по вере – по Вере…
«Коль, да не сходи ты с ума» – услышала вдруг сквозь свои мысли Верин голос тетя Саша. И что говорит-то, говорит-то она ему что, батюшки!!
«Никогда я тебя не то, что не полюблю, а даже просто уважать не смогу по-человечески, если ты будешь ко мне с женитьбой этой своей приставать! Понял?» – серьезно, громко и очень властно произнесла Вера.
Как припечатала. Как пригвоздила.
И тогда, постояв немного на негнущихся ногах, оба брата и с ними «дружка», все еще в полотенце, молча вышли за порог. И старший брат, Косорукий Мишка, муж Маруси, яростно содравший уже с плеча сватовское тряпье, сходя с крыльца, смачно сплюнул сзади себя прямо на тещин порог и проорал почти на всю деревню:
«Не про тебя, видать, братуха, московские пиздорванки-то!»
И тут же слетел со ступенек от обрушившейся на него гармони Кольки. Оба брата покатились, сцепившись, в пыли, а рваная гармонь жалобно пискнула верхами, потом пыхнула басами и развалилась на две части.
«Свят – свят – свят!» – закрестилась мелко баба Саша и вдруг ясно поняла только одно, прямо как в чистом колодце на дне увидала:
Мужики, – все, все, что Веру полюбят: и что муж, что брат, что сын, что внук, – все будут несчастны через эту любовь свою СМЕРТЕЛЬНО.
Часть 12. Уж замуж невтерпеж…
В Москву Вера вернулась с огромным облегчением.
Устроилась на работу к Капе, потому что помогла ее старшая сестра Тамара, подсобной подавальщицей в «Столовую диетпитания для выздоравливающих военнослужащих при Минздраве и Минобороны», на углу улицы Кирова и Комсомольского переулка, неподалеку от Главпочтамта.
На Чистых Прудах стало весело, там гуляли «под ручку» после работы все девчонки, гурьбой; по выходным многие из них ездили на метро «на танцы» в ЦДСА (Центральный Дом Советской Армии).
Капа тоже тащила подругу именно туда. Обе девушки всегда ходили вместе, прямо «Шерочка-Верочка с Капой-Машерочкой», как говорили во дворе.
«На танцах» Капа была не для развлечений. Она обстоятельно выбирала себе военного мужа – но не курсанта, а уже готового офицера, желательно, летчика.
А к Вере подходили пригласить на танец и познакомиться почти исключительно «морские офицеры».
И этому было простое объяснение: недалеко от дома, где жили подруги, прямо напротив их переулка Стопани, на Малом Харитоньевском, находилось Министерство Морского Флота СССР.
Там, «на часах» у чугунных ворот, стояли круглосуточно по два матросика в сменном карауле; их разводящими были молодые офицеры – в шикарной черно-бело-золотой форме, в белых фуражках, с белыми шелковыми шарфами, в черных плащах, в рубашках цвета «чайной розы», при черных галстуках. Молодые или послужившие – все они без исключения просто сияли чисто выбритыми свежими и слегка обветренными лицами, иногда с аккуратно подстриженными бородками, и пахли «Шипром».
«Морские офицеры» заканчивали работу ровно в 18.00, и к семи часам вечера самые молодые из них уже были в ЦДСА в «полной боевой готовности», чтобы пригласить девушку на танец.
Лицо Веры было знакомо многим из них, ведь каждый будний день Вера шла утром на работу и возвращалась вечером в начале шестого проходным двором как раз мимо «морячков».
И очень часто караульные матросики – в белоснежных бескозырках со смешными черными ленточками, развевавшимися на их затылках над красиво окантованными квадратными воротниками – жалобно просили через чугунную решетку остановиться и поговорить, или «дать папиросочку», потом просили назвать номер ее телефона и пытались назначить свидание, выкрикивая удаляющейся Вере время и место или день увольнительной.
А их разводящие офицеры просто молча и пристально смотрели на Веру.
Верино лицо запоминали и узнавали потому, что было оно прекрасно: овальной формы, узкое, на нем огромные черные глаза как один сплошной зрачок на фоне темно-голубых, фиалковых даже, белков; густые, «свои», полудетские ресницы; каштановая грива волос, схваченная над висками двумя заколками-«невидимками»; брови, уходящие к этим вискам широкими длинными стрелами, почти под прямым углом; правильный небольшой нос – не носик, как у Капы, не пуговка, как у Нинон, и уж конечно же, не клюв, как у Юлищи, а то, что надо – красивый нос.
А красоту все подруги «наводили» примерно одинаково.
Кудри надо лбом и щеками тщательно подвивались тонкими чугунными раскаленными, еще «староприжимными», щипцами с деревянными, обгорелыми на коммунальных конфорках, ручками.
Ресницы красились при помощи плевка в бело-черную картонную коробочку с гуталинового цвета и качества тушью. Тушь ухитрялись растереть после этого до мягкости при помощи очень маленькой, притом, каменно затвердевшей от старых остатков, щеточки. Смачивание водой не приветствовалось, потому что результат был «плачевным», и только слюна не давала краске растекаться по щекам.
Потом густо накрашенные жирной этой тушью ресницы зажимали специальным станочком для придания им «зАгнутости», то есть закрученной под самые брови «мальвинистой» формы.
А в конце «производственного процесса» происходило самое жуткое для непосвященных действо: слепленные тушью ресницы отделялись одна от другой, каждая строго самостоятельно, кончиком простой швейной иголки прямо от века, около самого глаза.
Слабонервных просили не смотреть или вовсе удалиться.
Пудра с одиноким лебедем на картинке и несвежим желтоватым комком неочищенной от остатков хлопковой шелухи ваты, вложенным вместо пуховки внутрь картонной коробочки, перемешивалась знатоками на одну четверть с сухими румянами, а после этого персиково-розовой нежной пыльцой наносилась слегка, тончайшим слоем, на все лицо, – а не только на нос, лоб и щеки, как у Нинки-толстухи, которая всегда прямо-таки светилась в темноте ярко-белым мучнистым крестом во всю физиономию.
В остатки старой помады добавлялось небольшое количество глицерина и ванилина, и получался с приятным запахом божественный блеск на полных красивых губах; к тому же удивительно ровные и белые зубы никогда не окрашивались полоской дешевой рыжей помады, как у многих из тех, которые краситься вовсе не умели.
Верочке природа подарила все, что смогла: и фигуру, и внешность; а ее бархатная нежная кожа была и без косметики безупречна.
И главное, всего этого в ней было в меру.
Казалось, что Верино умело и тонко подкрашенное лицо не только естественно, но просто такое от Бога. Да так оно, в сущности, и было на самом деле.
Как ни старалась вся «сделанная» кукольная Капа, как ни цепляла на себя то бантики, то брошки, то кружевные воротнички, как ни улыбалась лучезарно каждому, имевшему на погонах от трех малых звездочек, а знакомиться-то в итоге шли молодые офицеры все же к Вере.
А беспечная Верочка говорила, что в гости не ходит совсем, а на свидание – ну, если и придет, то только вместе с подругой.
Получалось так, что новому знакомцу в следующий раз надо было приводить с собой друга, и поэтому «встречи и свидания» происходили всегда вчетвером.
Капа злилась, что те «кандидаты в женихи», на кого она успевала «положить глаз», интересовались в основном только ее подругой, а самой Капе доставались, как правило, их более скучные или невзрачные с виду, совсем «обыкновенные» или даже вовсе «заторможенные» друзья.
При этом Капитолина, которая работала в офицерской столовой уже не помощницей на кухне, а настоящей официанткой, была очень симпатичной, к тому же способной, деловой и сметливой, но, видимо, и из-за этого быстрого «продвижения по службе», вела себя с офицерами с большой долей заносчивости.
Верочка же, веселая и безмятежная, с легким, «душевным» характером, никогда ничего не умела, а главное, и не хотела, добыть для себя, ну разве не дурочка? – а приятная атмосфера на службе нравилась ей тем более, что она с трудом пережила внешне, но не смогла преодолеть внутри себя тот кошмар первой своей работы, который в любой момент жизни мог снова всплыть со дна «на чистую воду» жирным и грязным, чернильно-черным «анкетным пятном».
Капа действовала: собирала недоеденную пищу прямо с тарелок и уносила домой в прикрытой кипой газет кастрюле, служившей как бы дном объемистой сумки.
Дома ее мать делала из принесенных объедков, прокрученных через мясорубку, начинку для пирожков, которые пекла обычно с картошкой и «всякой всячиной», и продавала их прямо в доме, «из-под полы».
На вырученные матерью деньги Капа прилично одевалась. Она покупала «лоскуты» и строчила комбинированные вещи. Шила она очень хорошо и быстро, по выкройкам из довоенных журналов.
Коврики на полу в ее комнате тоже были сшиты из этих лоскутов, а также одеяла, покрывала, занавески, да не пестрые, как в деревне, а с выдумкой, с рисунками-аппликациями, с мелкими бантиками или розочками.
Пол всегда был надраен и блестел от мастики.
Капа часто одалживала вещи у Веры, и Вера иногда буквально снимала с себя что-нибудь новое и красивое, что редко было у нее из-за бедности, и с легким сердцем отдавала «поносить» Капе.
Взамен Капа предлагала какие-нибудь самодельные лоскутные цветочки или воротнички для старых блузок Веры.
Но Вера этого «украшательства» не выносила. И хотя у нее не было ну просто ничего «ценного из одежды», все в доме говорили «хороша!», когда встречались с ней.
Любимой песней Пелагеи, часто слышавшей это слово «от людей» о своей дочери, была та, старинная русская, со всем известными «жалкими» словами.
После редких праздничных общих застолий с соседями на коммунальной огромной кухне, когда еще не закипели чайники на плите и можно было немного просто посидеть за огромным, раздвинутым «во всю мочь» прежним хозяйским обеденным столом, скромно накрытым к чаю, Пелагея вдруг неожиданно тоненьким, «как у Барсовой по радио» голосом затягивала:
“Хороша я, хороша, да плохо оде-е-е-та! Никто замуж не берет девицу за е-е-ето…”– и, уткнувшись лицом в руку на сгибе локтя, начинала безудержно рыдать. Её утешали тогда всем скопом и отводили «спатеньки».
Утром Пелагея говорила Вере: «Господи, ну хоть бы ты за богатого какого или за генерала бы замуж-то вышла!»
Веселая Верочка на это отвечала: «Мам, ты что, хочешь в халате с драконами ходить? Так мы с братом тебе и без замужества моего такой с получки купим!»
«Как же, купите вы! Купишь – облупишь» – И Пелагея горестно отмахивалась от дочери рукой.
Мудрая Капа, мечтавшая о хорошем муже, вовсю использовала Верину привлекательность и на первые свидания с офицерами приходила всегда с Верой. Потом, улучив момент, она сообщала подруге на ушко, кто ей понравился больше, и Вера весело «уступала», потому что ей было все равно, она замуж не стремилась.
Однако, все избранные Капой звонили на следующий день Вере.
Потому-то Капа всегда с насмешкой относилась к избранникам Веры; если той кто-нибудь хотя бы начинал нравиться, Капа тут же пыталась его не то чтобы «очернить», но издевательски высмеять. А это она умела.
Вера всегда смеялась вместе с ней, «за компанию», поэтому, пока на Капу никто не «клюнул» по-настоящему, поклонники не переводились и шли чередой.
Телефон Веры разрывался на коммунальной стене: «Ну прям как в учЕреждению звОнют беспрерывно, нахалы!» – ворчала Верина мать Пелагея.
А у Капы раздавались только «вторичные» звонки, типа: «Нет ли, сов. случайно, Верочки у Вас в гостях?»
«Есть, приходите!» – любезно отвечала Капитолина Романовна, и когда поклонник вот-вот должен был появиться в дверях Капиной квартиры, она сообщала Вере, что вдруг ужасно разболелась голова и чтобы Вера шла пока домой, созвонимся потом.
Что та и делала, нисколько не обижаясь на Капу и даже не подозревая, почему это у подруги так часто и вдруг начинаются приступы мигрени.
Но, как ни печально это было, Верины «ухажеры» не долго сидели у Капы в гостях, узнав, что Верочка «только что ушла из-за внезапной головной боли, которой Вера подвержена с детства в результате дурной наследственности».
Вот так буквально, со здоровой головы да на здоровую голову, переходила постоянная «головная боль» в Капиных матримониальных отношениях.
* * *
А вскоре в Капиной в семье случилась сначала – беда, а за ней – и вовсе горе.
Отец Капы, Роман Свириченко, «вертухай», попался вдруг на старости лет «на взятках от родственников заключенных».
Взятки состояли из папирос и спиртного. Но так как даже и на место вертухая была огромная очередь из желающих, отца выгнали с работы и пригрозили вроде бы «завести дело».
Но свет не без добрых людей. Помог звонком один генерал из бывших его выучеников, у которого старик когда-то числился в начальниках караульной службы. Поэтому «дела» не только не получилось, но ему даже не дали огласки, а по-тихому предложили Капкиному отцу через домоуправление поработать истопником. Причем, в том же доме, где он жил.
Роман сразу согласился, но продолжал пить вчерную, уже и на рабочем месте, в подвале, в просторной «тыртовской» котельной.
Там он однажды ночью и умер, угорев прямо у котлов «по пьяному делу».
Пелагея слышала от татарки-лифтерши Кати, что, когда санитары вошли забирать труп, то в темноте подвала хорошо было видать, как изо рта покойника выходило и ровно горело пламя, так называемый неугасимый огонь. Свят-свят-свят!
Романа свезли на кладбище, а его квартиру на чердаке проветрили окончательно, матрас и тряпье, от него оставшееся, сожгли в той же котельной. Сапоги и ремень сменяли на блошином рынке на сало. Стул из коридора отнесли лифтерше в каптерку.
И не осталось от человека ничего.
Как и не было его вовсе.
«Даже и поминок не устроили, как басурманы какие-то!» – ворчала Веркина мать Пелагея.
Но матери Капы было не до поминок.
Случилось горе «похлеще» смерти старого мужа-пьяницы.
Старшая дочь, самостоятельная, умная и рассудительная, надежная опора в материнской горькой жизни – Тамарочка – «без ножа зарезала!» и «в гроб живьем загнала!» свою бедную мать.
Еще работая медсестрой в госпитале, Капина сестра Тамара, вдова военнослужащего, «павшего смертью храбрых», тайно сошлась с одним выздоравливающим офицером и забеременела.
До этого, за всю свою краткую довоенную супружескую жизнь, Тамара ни разу беременна не была.
Узнав, что это произошло, Тамара и испугалась, и обрадовалась. Самой первой об этом ее состоянии догадалась мать. И сказала неожиданно решительно: «Дочка, рожай, глупостей не делай! Поднимем ребенка сами как-нибудь, авось проживем!»
Тамара родила и пришла с ребенком домой к матери, отцу и Капе.
Крохотную, хорошенькую, как фарфоровый ангелочек, девочку назвали Викторией – в честь Победы! Вику все очень полюбили, а Вера и Верин брат Коля стали ее крестными родителями. Старики так и вовсе души в младенце не чаяли.
Записали новорожденную на фамилию деда, а вот отчество дали «Георгиевна».
Георгием звали Тамариного офицера.
Но – «победоносец» этот был женат, и, намекнув, что не за ним одним «молодая, красивая и вдовая!», а, значит, как он надеялся, неглупая по-житейски, Тамара ухаживала, – предполагаемого своего «нагулянного» ребенка даже увидеть не захотел.
А когда выписался из госпиталя, поехал жить к своей «законной» жене и детям.
Тамара же после этого поступила странно.
К Виктории заметно охладела.
Записалась вдруг на срочные курсы связистов и, оставив маленькую дочь на родителей, тоже попросилась, через знакомых, и с трудом, но устроилась все-таки на работу в ту именно военную часть, где находился Георгий с семьей.
Там Тамара стала служить, живя в казарме, где, через некоторое время, Георгий ее и нашел. Они вдруг начали все снова, и Тамара опять от него забеременела.
Тогда Георгий сказал ей, что у него уже достаточно детей, и чтобы она на сей раз «делала, что все делают». И добавил, что он ее «после такой подлости с ее стороны больше не знает и знать не хочет!».
Тамара понимала, что аборт – дело подсудное и запрещенное, к тому же, очень опасное, но стала судорожно искать хоть кого-то, кто бы смог помочь, и, не найдя, просто сошла с ума.
И, вынужденная в казарменных условиях скрывать свою беременность, тупо жила дальше.
Когда наступил ее срок, ушла в ближайший лес и родила в этом лесу, корчась от боли и страха, в вечерних сумерках, свою вторую девочку, даже не зная, кто у нее родился, и не желая ничего рассматривать.
Она задушила плод коленями, закопала в кустах и вернулась поздно вечером в часть.
Ночью, в казарме, у нее открылась родильная горячка, «от молока».
В бреду она то ли все рассказала, то ли и так все всё поняли, пошли в лес с собакой, откопали трупик новорожденного ребенка и отдали Тамару под военный трибунал, как военнослужащую.
Сначала ее хотели расстрелять, но в итоге, из-за ее состояния полнейшей невменяемости, дали 10 лет лагерей.
Георгий каким-то образом выпутался. Он все отрицал, и даже жена приезжала его «отстаивать».
Тамаре было уже все равно. Она умерла в лагере вскоре после приговора.
От нее осталась одна только большая фотография. На ней Тамара, с распущенными длинными волнистыми волосами, снятая в полупрофиль, сияла улыбкой безбровой Джоконды над кроватью, где спала маленькая Виктория.
Вику воспитывали бабка и тетка, юная Капитолина Романовна.
Капа просила маленькую племянницу называть ее только по имени, без «тетя», а та звала ее часто «мама».
Капа этого не любила.
Она и портрет сестры на стену повесила, чтобы говорить ребенку, показывая на Тамару: «Вот твоя мама! Она заболела и умерла.» Так что Виктория не знала ничего о судьбе своей матери.
А Капа ничего никому не рассказывала, потому что не просто хотела, а уже мечтала «удачно» выйти замуж.
Часть 13. Сын
Радость Пелагеи от жизни без войны потихоньку затухала, своим чередом шла все та же работа, часто сверхурочная, и легче как-то вот не становилось. Голодно было; для того, чтобы «отовариться» по карточкам, приходилось стоять в долгих ранних очередях. Домой Пелагея приходила поздно, детей по вечерам не было никогда – где-то шлялись до темноты, ночевать заявлялись одна – в час ночи, другой и вовсе под утро.
Пелагея спасалась от одиночества на кухне, при соседях. Выходили ставить чайники последний раз около десяти вечера, вода иной раз аж выкипала, до потрескивания окалины, а завязавшаяся беседа – нет. И на душе заметно веселело от простых этих разговоров.
От Степана пособие последнее на восемнадцатилетнего уже Кольку пришло в декабре – а весной парня должны были забрать в армию.
Николай сильно вытянулся, но не стал, слава Богу, дылдой, как другие, которые аж горбились от худобы и высокого роста.
Острые и очень широкие его ровные плечи так и играли мускулами, и весь он был ладный да складный, ловкий, длинноногий. Лицо узкое, худое, глаза огромные синие, что твои васильки, брови вразлет, а вот волосы цветом каштановые, как у Пелагеи, но мягкие и редкие, как у отца.
Чуб Николай зачесывал назад и гладко, и это придавало ему невыразимый налет благородства.
Улыбка на лице всегда, добрая и веселая – сразу видать, простак! И все поет, даже в ванной, заливается соловьем, и в кого только уродился с голосом?
Вот девки на нем так и висли гроздьями! И кому-то только достанется? Да ладно бы – девки, а то ведь и бабы, – и немолодые, притом, лет под тридцать, – с ума сходили, проходу не давали. Полину, мать родную, во дворе останавливали с вопросами и просьбами срамными – вот дуры-то!
Но Колька, к слову сказать, молодец был – уж не чета папаше своему, вовсе не бабник, хоть и красавец писаный. Все ездил с приятелем своим Витькой в Сокольники, в ансамбль песни и пляски его приняли в военный какой-то, голос у него прорезался, ну как прям у Лемешева, преподаватель даже приезжал, сказал, пусть Пелагея похлопочет в военкомате, чтобы Николая Степановича в армию через ансамбль этот взяли.
Вот просит Коля ему аккордеон купить, хоть подержанный – играть он уж где-то научился, теперь инструмента не хватает. А деньги где? У отца никто просить не будет, ни он, ни Верка. Гордые больно. Ну да и ладно. Пелагея теперь белье стирать еще и у соседей из верхней, восьмой квартиры, подрядилась.
Там жили две пожилые старушки – сёстры-близнецы, Гордоны по фамилии, обе – врачи, одна из них – по женским делам, тайно, вишь, баб-то принимала, ведь под судом ходила всю дорогу, да куда уж нам всем без этого… Вот, а бельища-то кровавого куча, и не знала, куда девать.
Торкнулась она, Гордониха-то старшая, раз в свою ванную с двумя ведрами мокрого белья, крышками прикрытого, в комнате ее сестрой-помощницей кой-как застиранного, хотела все прополоскать. Тут выскочила соседка – старуха Авдеева, сама-то купчиха бывшая, из прежних владельцев квартиры, и стала орать на весь дом, чтобы белья тут сифилитичного и проституточного в квартире ЕЕ никто не стирал! А то она разом милицию вызовет, пусть они там и разбираются, кто больной, а кто – нет!
Вот, видно, посоветовали Гордонихе грамотные-то соседи Пелагею попросить, знали, что она все равно по ночам стирает, вывешивает во дворе, потом выгладит и молча принесет все белье в лучшем виде!
Хорошо Гордониха платить стала, вдвое против «своих» соседей. Но и им, своим-то, Пелагея не отказывала – только вот стеснялась побольше денег попросить.
Эх, Колька, Колька, купим мы тебе инструмент, уйдешь ты в армию на три, а то и на все четыре года – и что мы с Веркой с ним делать станем – пыль с него сдувать? А ведь просит малый. Ну как тут не купить?
Думы эти «про ребят», про завтрашний день привычно перед сном приходили в голову. Пелагея засыпала часа на три – четыре, до прихода кого-нибудь из детей. Потом молча, не делая уже никаких бесполезных замечаний юркнувшей под свое одеяло Верке, уходила на кухню ставить кипятить в темноте бак с бельем и чайник на старую плиту.
Потом тихо проворачивался ключ в двери квартиры – и на кухню проходил Коля. Зажигал свет, целовал всегда отворачивавшуюся «мамахэн» в висок, быстро пил чай и шел досыпать.
Вставали оба чада в семь утра, весело дрались сначала за тапки, потом за первенство или в туалет или в ванну, а уж напоследок – за место перед зеркалом, чтобы причесаться.
– «Коль, ну что тебе там причесывать-то, на что смотреть? Одни твои залысины – а торчишь уже минут десять! На вот тебе щипцы горячие, лучше накрути меня сзади, мне самой не с руки – опять вчера обожглась» – приставала Вера.
Колька охотно и ловко закручивал длинные волосы сестры в крутые локоны, потом с непроницаемым выражением лица обмахивал ее плечи полотенцем, картинно вешал его на согнутую в локте руку, изгибался в поклоне и протягивал ладонь лодочкой – «Мадам, с Вас за всё-про всё тридцать рублей, да еще и на чай бы рубликов десять за скорость.» – «А не обоссышься?» – весело грубила в ответ Вера, и оба, хохоча, убегали вон из дома.
Вера одна знала тайну Колиных приходов лишь под утро.
Из ансамбля с репетиций Николай возвращался часов в одиннадцать вечера, входил в свой дом – и исчезал. До утра почти.
Тайна его поджидала прямо в подъезде, но внутри, на лестничной площадке, хватала за руку и вела к себе, вниз, в квартиру номер один в полуподвале.
Звали ее – Маша Тыртова, и была она дочерью старика-Тыртова, бывшего владельца всего дома. Папаша Тыртов исчез перед самой войной, как будто «скрылся в неизвестном направлении». Черный воронок за ним не приезжал, больницы и морги ничего не сообщали. Старик просто вышел из дома прогуляться до Чистых Прудов – и как в воду канул.
Маше было ровно сорок лет, работала она продавщицей в овощной палатке на Сретенке.
Была она богата и очень толста, ходила зимой в натуральной цигейковой шубе и носила «перстеня на всех пальцах» – как гудели ей в спину старушки, сами подобострастно здороваясь и первыми кланяясь Маше при встрече.
Неоднократно Машу сначала арестовывали – но не за что-нибудь, а за растраты по «ревизским сказкам», но затем, и правда, как в сказке, обязательно отпускали – и некоторое время Маша ходила без шубы и колец, а выглядела, «как кошка драная». Потом она снова обрастала вещами и золотишком, утерянные зубы тоже заменяла на чистое золото и очень нравилась сама себе.
Маше с детства никто и ни в чем отказывать не смел – боялись связываться с папашей. Она была бы наследницей нескольких миллионов, кабы не революция и не экспроприация экспроприаторов.
Но сословия ее отец был мещанского, а женат был и вовсе на безродной девушке-белошвейке, воспитаннице одного пожилого купца-старовера, притом, из членов древнемосковского скопческого кружка.
Вот он-то и дал за девкой такое приданое, что Тыртову молодому и в жизнь не заработать – три дома доходных в самом Центре Москвы, и еще кое-что, «по мелочи».
Бывшая белошвейка, выйдя замуж, развернулась во всю ивановскую, после родов стала ездить лечиться на воды в Германию, в тишайший городишко Бад Соден близ Франкфурта-на-Майне, на горячие природные, с римских времен еще известные термальные источники с бурно пузырящейся водой, называемой местными «теплым шампанским».
По зеленому и увитому балконными и садовыми розами городку прохаживались, совершая моцион вдоль новомодного шоссе, уводящего в предгорья Таунуса, влиятельные или знаменитые русские соотечественники, писатели – сам Лев Николаевич, Федор Михайлович, а впоследствии и Антон Павлович.
В начале двадцатого столетия, за пять лет времени, создан был в том городишке затейливый и напоминающий древнеперсидский мираж в пустыне «дом с золотыми шарами» по проекту архитектора-австрийца Хундертвассера.
Мадам Тыртова захотела жить далее только одна – и только в этом доме, в той его части, похожей на сказочный терем и выходящей на крутую срезанную макушку горы.
Площадка эта замыкала верхушку дома огромнейшим круглым, опоясывающим все окна балконом, обсаженным густыми кустами жасмина и шиповника.
Отец увез маленькую дочь в Россию. Дома он стал жить со своей горничной и «прижил» с ней мальчика. Когда произошла революция, Маша, как единственная законная дочь, вместе с отцом, в письменном виде, отказалась, «где надо», от своего немалого наследства и недвижимости. Потому и оставили их, видно, в покое.
Маша жила в «уплотненной» квартире с семьей Коли Подольского, соседа-лифтера, хромого белобилетника. Были слухи, что вот этот-то Коля, по дворовому прозвищу Подоля, прижит был некогда стариком Тыртовым от молодой деревенской девки-горничной, и потому звал соседку сестрой, на что Маша презрительно хмыкала в ответ.
Торговать Маша умела, и единственным своим талантом считала, рассказывая об этом всякому желающему послушать, тот факт, что ни капли спиртного в рот не брала: «Нажираться на такой ответственной работе может только идиот – а у трезвого и смекалистого все будет на-гора!»
Позволить в рамках доступного Маша тоже могла себе все – был у нее в запасе «тухляк» на многих ответственных товарищей, могущих помешать жить. И отнять «документики» у нее пытались, и в тюрягу ее сажали – но выпускали «за недоказанностью и отсутствием достаточных улик».
Поговаривали в доме, что Машка одна знает номера каких-то счетов в заграничных банках, и убрать ее поэтому нет никакой возможности.
Как бы там ни было, Маша страдала только от одного – ее никто никогда не любил по-настоящему, а не из-за денег.
Была она некрасива, с кобыльим крупом, толстыми короткими ногами. Взглядом черных, маленьких и злых, глаз могла довести слабонервных или детей аж до икоты.
После революции все потенциальные женихи ее детского окружения оказались по большей части за границей. Новые и нищие просто не обращали на нее внимания.
И вот, нажившись изрядно на спекуляциях продуктами в войну, Маша отчего-то сильно затосковала, без видимых причин.
И вдруг, выглянув в свое полуподвальное широкое окно и зевнув от непреодолимой скуки, узрела однажды летом прямо у себя перед носом, во дворе, в стайке худых и голодных, плохо одетых подростков – красавца.
«Ну и что теперь делать?» – спросила сама себя. Потом подумала немного – и все решила. Сначала вызнала у Подольского, соседа, откуда мальчик. Оказалось – со второго этажа, из шестой квартиры, сын тети Поли и брат красавицы-Верочки.
Отец, бывший участковый милиционер Степан, их бросил и живет с молодой женой в Армянском переулке.
Колька – малый работящий, слесарь высокой квалификации, да еще и в клубе каком-то военном выступает, поет и на гармошке, что ли, играет, на тот год в армию ему уходить. Девушки постоянной нет, одни только профурсетки проходу малому не дают, аж во дворе дежурят кучками.
«Так, Подольский, окажи мне одну услугу – век не забуду, братец дорогой!» – решительно сказала Маша. – Подоля аж подпрыгнул от такой неожиданной почести и стал вникать дальше.
– «Разбери мне на кухне кран водопроводный так, чтобы и починить было нельзя, понял? Да хоть выломай его совсем, ясно тебе? А потом выйди во двор, и Николая сюда пригласи помочь, без него, мол, не справишься, понял?»
– «П-понЯл, кажись, сестренка! Сейчас все враз разломаю! И позову к тебе птенчика!»
Маша зыркнула на «братца во Христе» яростно:
– «Но, но, не заговаривайся! Я – то тут каким боком задействована?»
Подольский аж глаза вытаращил: «А как же ж, ты же ж сама сказала…»
– «Что я тебе такого про птенчиков-то сказала? Ты в своем уме? Кран нам надо починить срочно, понял?»
– «Ага, ага, это я мигом – починю… сломаю, то есть, и не починю. Так, что ли?»
– «Что ли так, бестолочь! Быстро зови парня чинить кран!»
Через полчаса на кухне, под вздохи удрученного Подоли, Николай ловко прикрутил все на места и хотел было уходить, вытирая руки ветошью, как в кухню, из которой немедленно испарился «братец», вплыла, катя перед собой сервировочный столик на колесиках, сама Мария.
Одета она была в шелковый яркий длиннополый халатик, аккуратная прическа-перманент явно сбрызнута была духами «Белая сирень» – очень благоухала.
Но самое неотразимое впечатление произвел на бедного голодного Колю накрытый этот столик. Чего там только не было – и все перекрывал аромат копченой тонко наструганной колбасы и чесночный запах нарезанного холодца с хреном между горками свежего белого и черного хлеба.
«Спасибо, Николай! Меня ты знаешь наверняка, Машей меня зовут, я тут живу, Подольского нашего, безрукого и бестолкового, соседка. А, вот он и ушел со стыда, слыхал, как дверью хлопнул, обиделся он, что ли? Коленька, милый, ты ведь денег с нас не возьмешь?»
– «Нет-нет, не надо мне никаких денег, спасибо, пойду я…»
– «Не торопись, и не обижай нас, хотя бы покушаем вместе, я вот только с гостями и сама-то кушаю, а то все как-то аппетита и нет, устаю очень на работе. Сделай милость, присядем тут, на кухне, посидим по-людски, покушаем и поговорим с тобой!» – и Маша, нежно взяв парня за руку, потянула его присесть на стоящий рядом шаткий «венский» стул, потом села сама рядом на крепкий табурет.
– «Угощайтесь, мастер вы наш дорогой! Не стесняйся, Коленька, я ведь, ты слыхал наверное, не бедно живу, все у меня есть, да вот скучно мне одной, поговорить с умными людьми негде. Да ты бери рыбку-то, ну, пожалуйста, сделай милость, не обижай!
Дай-ка я тебе маслица на хлеб намажу – да икорки черненькой сверху, только ложечку! Не бойся, не отравлю! А вот выпьем мы по рюмочке сладенькой с тобой, или же ты водочку вот попробуй!»
Колька сомлел, выпил водки, закусил, только хотел привстать да убежать, как Маша спросила: «Слыхала я, что петь ты, мальчик, умеешь очень душевно. Правда это, что тебя в Большой театр принять могут?»
Колька хотел сначала что-то возразить, но потом вдруг рассмеялся весело:
– «Ну и ну! Вот слухи-то у нас во дворе распускают, это надо же! В Большой театр меня, – тут он запнулся немного, но выдавил все таки ее имя – Маша, без “тётя”, как ему хотелось сказать сдуру, хорошо, что вовремя спохватился! – И на пушечный выстрел никто бы не подпустил меня без образования музыкального туда!»
– «А о чем же ты, Коленька, – да ты выпей, вот еще рюмочку малую, давай, давай! И о чем же, Коля, ты мечтаешь?».
Коля выпил еще одну рюмку вкусной и сладкой вишневой наливки и спросил:
– «Честно?»
– «Конечно же, честно, Николай, мы с тобой люди честные – расскажи мне про свою мечту, а я тебе потом – про свою!»
К вечеру, благо был выходной, Коля, осуществив простую мечту новой своей знакомой, решил у Марии заночевать.
Но она, после всех ласк и поцелуев, все-таки сказала сразу:
– «Милый, оставаться на всю ночь тебе у меня нельзя. Ты придумай себе какие-то занятия, дежурства, матери надо знать, что ты хоть к утру, да домой ночевать придешь. Будет она волноваться, любит тебя очень! Да и как тебя, милый, не любить, такого раскрасавчика…»
Часть 14. Нескучный Сад
Наступил и быстро прошелестел желтыми листьями очень теплый сентябрь, а девушки Вера и Капа продолжали проводить вечера исключительно на танцах.
Только уже не на танцплощадках Парка культуры или в Центральном Доме Советской Армии – ЦДСА, там, они, конечно же, тоже бывали, но по выходным.
Веру пригласили «попробовать свои силы» в танцевальный коллектив при ЦДКЖ – Центральном Доме Культуры Железнодорожников, что на Комсомольской площади у трех вокзалов. Она, конечно же, привела с собой и Капитолину.
Капа наконец-то познакомилась на танцах с мечтой своей жизни – молодым, но уже солидным, тридцатилетним, а, главное, еще не женатым, капитаном.
Правда, не летчиком, а из железнодорожных войск.
Правда, не москвичом или, на худой конец, ленинградцем, а сибиряком, из Томска.
Правда, не красавцем двухметровым, а коренастым крепышом очень небольшого роста.
Произошло это вполне случайно.
Звали его все без исключения по имени и отчеству, Петр Петрович, или просто товарищ капитан.
Войну он прослужил и прошел всю, испытал ее тяжесть на себе от и до, да только войну странную, тихую вроде и вовсе не геройскую, а такую, о которой царило в стране глухое молчание, а люди умирали, надрываясь от нее, как после крупных боев.
Сводки с передовой вызывали там, где служил Петр, то есть в глубоком советском тылу, такие передвижки по необъятной территории, что без участия транспортных войск по всем направлениям военных и тыловых железных дорог не могло обходиться ни одно наступление на фронте.
На гордых когда-то железных дорогах Центральной России и Юга, порушенных и покореженных военными действиями, работали день и ночь, получая помощь и поддержку от Урала и Сибири, и не только техническую, но и военную, и инженерную.
На железных дорогах за малейший отказ подчиниться военному начальству продолжали расстреливать без суда и следствия, как за дезертирство.
В Москве Петр должен был преподавать, весь первый семестр, с сентября по февраль будущего, 1948 года, на гражданских курсах «краткосрочного повышения квалификации путейцев». Жил он в общежитии, на Маленковке, недалеко от Сокольников, в отдельной комнате, узкой, как пенал.
Жил по-военному, в обслуге не нуждался.
Вечерами, когда некуда было девать свободное время, много спал, а иной раз и вовсе не уезжал после работы в общагу, а шел пешком в Центр, на Красную Площадь, частенько – в красивый осенний Парк культуры.
Там заглянул однажды на танцплощадку и приметил двух потрясающе милых и симпатичных подруг, не столичных «штучек крашеных», о которых наслышан был от приятелей, часто бывавших в Москве в командировках, и не Фенечек колхозных, а опрятно, бедновато, но с выдумкой, одетых молоденьких московских девчонок.
Они как раз в тот момент обменивались адресами с какими-то двумя курсантиками. Один стоял, упершись кулаками себе в коленки и подставив спину, как доску для письма, другой протягивал девушкам листок бумаги и карандаш.
Одна из подруг, с чудесной мраморно-белой кукольной какой-то мордашкой, безучастно наблюдала, как другая, живая и с веселой улыбкой во все лицо, пыталась изобразить на листке, развернутом ею на спине парня, свой почтовый адрес. Паренек дергал плечами и громко вопил, что ему щекотно, друг же строгим голосом внушал ему, чтобы он не мешал, а то куда им потом будет отсылать письма – на деревню дедушке Константин Макарычу, что ли?
Пока суть да дело, вновь заиграла музыка, и товарищ капитан подошел, приосанившись, разведя руки в полупоклоне и молодцевато щелкнув каблуками хромовых блестящих сапог, и пригласил на танец девушку с личиком из фарфора.
Представился, как Петр Петрович.
«Капитолина Романовна!» – с достоинством, предварительно скользнув быстрым взглядом по его погонам, ответила, вступая с ним в круг танцующих, Капа.
На нее слегка насмешливо, но вовсе не удивленно, посмотрела Вера, проплыв в танце с курсантом, свернувшим и спрятавшим в нагрудный карман листок с адресом.
Тот, на чьей спине записывали ценную информацию, стоял огорченно поодаль и по – детски, чуть не плача от расстройства, показывал кулак другу. Потом и вовсе взял и ушел.
Тела, молодые, горячие, кружились под музыку, и кружились головы от счастья жизни, от беспричинного веселья, тугим и сильным напором вырывающегося в эту жизнь, как чистая вода из-под крана какой-нибудь мощной уличной водокачки.
«Вы прекрасно танцуете, Капитолина, чувствуете и музыку, и партнера» – произнес Петр, удивленно ощущая в себе, – и в душе, и во всем теле своем, – давно забытую, как-то все откладывавшуюся им за ненадобностью вспоминать, радость от танца с девушкой.
«Благодарю Вас, товарищ капитан! – улыбнулась в ответ Капа. – Вы тоже неплохо танцуете, особенно, ведете – властный, видимо, Вы человек!»
«Прошу Вас, Капитолина Романовна, дорогая, называть меня просто Петр, пожалуйста!»
«Пожалуйста, Петр!» – легко согласилась Капа.
«Как здорово, боже мой, какая Вы чудесная, послушная девочка! Наверное, московская маменькина дочка, из тихой профессорской семьи, и дома Вам надо быть в десять вечера…»
«Как Вы угадали, Петр? Но сегодня мама с папой на даче, а в квартире со мной осталась наша домработница, она, конечно, может проболтаться, если я сильно задержусь… Но ведь мне негде задерживаться.»
«Прошу Вас, Капитолина, примите мое приглашение поужинать, я знаю здесь неподалеку, у Нескучного Сада, на воде стоит один такой плавучий ресторанчик, еще тепло, и есть столики прямо под открытым небом, красиво зверски, – и там очень хорошо кормят!»
Капа замялась, слегка покашляла – но промолчала.
«Вы думаете о подруге? Но я и ее приглашаю, вместе с Вами, если Вы позволите!»
Тут Капа вздохнула облегченно, и в знак благодарности чуть прижалась к плечу Петра.
Музыка умолкла, объявили небольшой перерыв.
Капа потянула Петра к выходу, возле которого стояли Вера с курсантом.
«Пожалуйста, знакомьтесь! – это моя подруга и соседка по дому – Вера, – Степановна, – на всякий случай, лично для Вас!» произнесла Капа, шутливо кивнула Петру и продолжила: Петр Петрович, мой хороший знакомый, – Вера, Петр приглашает нас с тобой сейчас же пойти с ним поужинать в ресторан!»
Вера вскинула черные глаза на Петра Петровича, потом посмотрела на примолкшего рядом молодого курсанта, высокого худощавого голубоглазого блондина, и сказала: «Очень приятно, спасибо, знакомьтесь и вы – Николай Андреевич, мой хороший знакомый» – и нажала при этом на слово «мой».
«А мы с Николаем решили погулять по набережной! Поэтому не будем Вам мешать! Всего доброго, и до встречи!» – и, не дав ничего возразить открывшему было рот Петру Петровичу, Вера, весело улыбаясь, помахала всем маленькой сумочкой, взяла под руку Николая, и пара очень быстро, причем, весело подпрыгивая и припадая друг к другу время от времени, чтобы просто кратко, на бегу, взглянуть в глаза, скрылась из виду.
«Эх, нехорошо, неудобно как-то получилось – подруга Ваша так сразу вот взяла – и ушла! И с мальчиком этим… не дали даже слова ему молвить…!» – сокрушался Петр, подходя с Капой к «Плавучей Галоше», как называл этот «цыганский» ресторан на воде московский люд, о чем Петр и подозревать не мог.
«Ничего страшного, Петр, в другой раз пригласим. А про юношу – он, во-первых, на один день у нее, а потом – явно не при деньгах, так что вряд ли согласился бы пойти» – спокойным, менторским даже тоном собственницы, произнесла Капа.
Петр внимательно посмотрел ей в лицо, но промолчал.
А готовили в ресторанчике действительно неплохо.
Курица копченая была жирной и вкусно поджаристой, не обгорелой!
Шампанское было если и не со льда, так холодным. И тоже очень приятным.
Капа, хоть и не голодала, работая официанткой, все же держалась и сама ела очень мало, старалась оставить свою еду для матери и маленькой племяшки Вики.
Зато, оказавшись вдруг в ресторане впервые, да еще и не по работе – по делу ей иногда приходилось заходить в рестораны, но – с кухни, для передачи каких-нибудь бумаг, – а по приглашению военного, Капа приналегла на все, что заказал Петр. Все было так хорошо, так приятно! И человек, сидящий напротив и неотрывно глядящий ей в глаза, показался таким милым, почти родным.
Но вскоре после того, как стало совсем хорошо, ей «незахорошело».
«Плавучая Галоша» хоть и крепко была привязана к берегу, а Москва-река хоть и не бурное море, но Капу все же, видимо, укачало с непривычки, да еще и шампанское, хоть и не водка…
От всех этих «хотя» и «однако» – произошла катастрофа.
Вдруг зазвенели громко десятки гитар, взвыли мужские и взвизгнули женские голоса, и по проходам между столиками и впрямь, «шумною толпою», ввалились на эстрадный подиум пестро одетые цыгане.
Таборные быстрые пляски встряхнули и ходуном ходить заставили плечи некрасивых, чем-то похожих на негритянок, но только тощих, молодых цыганских женщин. Взметнулись желтыми, красными, зелеными и синими кругами цветА атласного салюта широчайших юбок, и понеслось…
И Капа тоже понеслась – быстро выскочила из-за празднично-красивого столика, под удивленным взглядом Петра Петровича, но подбежала не к сцене, а к перилам и стравила все съеденное за борт под разливы «Цыганочки», и на каждое «Эх, раз – еще раз!» боялась оторвать взгляд от воды, тяжело переливающейся в темноте, жирной, как мазут, нет, как курочка копченая, ой, «Еще многа-многа-многа-а-а раз!!!»
Относительно пришла в себя Капа только на набережной у парапета под Большим Каменным мостом. Остановились с Петром раз в пятый по дороге. Капа почти легла грудью и животом на широкий прохладный камень и замерла. Вроде полегчало. Слава Богу, темно было.
Петр отошел немного в сторону, покурить, хоть и было безветренно.
Боялся, как бы ей от дыма хуже не стало.
А Капе вдруг нестерпимо захотелось курить самой.
Последний раз курили они с Веркой сегодня в сумерках у входа в женский туалет в Нескучном Саду, в кустах, прячась от всех, прикрывая в зажатых кулаках зажженные папиросы и неосознанно разгоняя дым вокруг себя руками.
Если бы мать Веры, Пелагея, увидела бы «курёжку» дочери в откытую (о том, что обе девки курят, она, конечно, знала и активно не одобряла, сказала про это только два слова «Увижу – убью!»), то – все, кранты, – завелась бы в истерике и в шипении по поводу шлюх, абортов, проституток и непорядочных ночных красавиц – бабочек-однодневок, и никогда бы Вера не посмела при матери закурить. При этом при всем, зная про сына Кольку, что он, конечно же, тоже курит – молчала, хотя он, как и сестра, никогда при Пелагее не курил и папирос на виду не оставлял.
За это терпела и Капа. Уж ее-то тишайшая мать никогда и никому не сделала бы замечания, а просто молча, не осуждая, приняла бы чужой грех и похоронила его в себе. В церкви бы про себя помолилась – и простила бы.
Капа запомнила еще из школьной программы, у Тургенева, что ли, было написано про женщину одну – «не в себе», просто из-за всхлипывающей пафосом интонации учительницы: «Дура! – сказали одни. Святая! – сказали другие.»
Капа свою мать к святым, почему-то, причислить не смогла.
Она зябко повела плечами, отлепила щеку от нагревшегося уже гранита и тихо попросила Петра, просто и на «ты»: «Дай закурить!»
Товарищ капитан, как ни в чем не бывало, достал портсигар, раскрыл и протянул девушке. Капа вынула оттуда, из-под мягкой резиночки, дорогую относительно «Казбечину», подождала, когда Петр зажжет спичку, сладко затянулась – и тут же закашлялась, бросила, не загасив, папиросу под ноги, отбежала шага на три, и ее снова стошнило.
Потом Капа, как слепая, на ощупь проводя руками по парапету, медленно двинулась в сторону дома. Петр пошел за ней. «Ну, как Вы? Слушай, давай на» ты«, пожалуйста! Как ты себя чувствуешь, получше?»
«Да пошел бы ты от меня, знаешь, куда? Отвяжись ты, ради Бога, и без тебя тошно! Отстань ты от меня, прошу тебя, как человека!» – Капа, не оборачиваясь, ускорила шаг и почти побежала.
Петр шел молча за ней на некотором расстоянии. Капа все убыстряла шаг, но капитан не отставал. Вдруг, неподалеку от перекрестка возле ГУМа, из-за угла вышли трое милицейских, и один из патрульных, пропустив девушку, но остановив жестом военного, сказал, не попросив предъявить документы: «Почему догоняем?»
«Поссорились, товарищ сержант!» – четко, не задумываясь, ответил Петр.
«Ну, тогда продолжайте!» – и Петр Петрович бегом побежал за Капитолиной Романовной «продолжать».
«Капа, Капа, подожди, давай я сейчас найду какую-нибудь машину и отвезу тебя домой, назови мне твою улицу и дом!»
«Где ты ночью кого-то найдешь? – вдруг остановилась Капитолина. – Да и пешком-то до дома минут двадцать. Я живу – мы с Верой живем на Кировской, в переулке недалеко от Почтамта и Чистых Прудов.»
Но сил идти у нее было мало, она дышала часто и как-то судорожно, и сжимала руки на впалом животе.
«Бледная ты у меня какая, ну просто как смерть» – и Петр крепко взял ее под руку.
Они пошли, и он тихо заговорил: «Доползем потихоньку, не дрейфь, и не такое пережили, а тут – просто какая-то тошнота. Потому что ты беременна? Капа, не думай. Я все пойму – и приму, понравилась ты мне по-настоящему, я давно ждал, когда же, наконец, встречу такую девушку, чтобы кровь мою взбаламутила и чтобы отпускать ее от себя ни на шаг не хотелось.»
Капа остановилась и вдруг громко и яростно сказала: «Послушай, ты! Хоть тебя это ни в коей мере не касается, но я тебе скажу! Я перестану быть девушкой только в первую брачную ночь, только с законным мужем, и в собственном жилье! А ты катись лучше отсюда – колбаской по Малой Спасской!»
Петр Петрович, товарищ капитан, молча подхватил Капу на руки и пронес ее, как ребенка, всю дорогу до дома.
Изредка останавливаясь, начинал целовать ее, как безумный.
Капа поначалу была в полном ужасе: «Да ты с ума спятил, прекрати немедленно, ведь меня же весь вечер тошнило, ну, не могу я – Петя, Петенька. Ну что ты делаешь, сумасшедший! И отпусти меня, ведь тебе же тяжело!»
На что тот отвечал о том, что своя-то ноша – не тянет. А что насчет чистоплюйства – так это московские дурные выкрутасы. Развели, понимаешь, тошниловок в городе – что же еще после них ожидать-то! Жить надо только в Сибири, в своем доме у большой воды. А вообще-то, в Галошке ему, почему-то, очень даже славно поначалу показалось. До того момента, конечно, как Капа, было, «в цыганки подалась.»
Тут оба неудержимо расхохотались, и смеялись до самого дома, а уж когда Капа завела его в свой темный и тихий двор, в подворотню, и попросила Петю отвернуться и не смотреть, но подержать ее за ручку, а то она пописать очень хочет, но боится, что упадет – тут уж дошли почти до колик.
* * *
В эту же ночь, почти по тем же камням набережной Москва-Реки, до утра гуляли и целовались Вера с курсантом Николаем.
Часть 15. Николай Андреевич
Пригласивший Веру на прогулку курсант – Николай Андреевич, – понравился Верочке сразу и безоговорочно.
Был он светлейший блондин с огромными синими глазами, остроносый, высоченный и худющий до степени какого-то святого почти аскетизма, так что даже показаться могло, что именно с его лица рисовались нестеровские иконные лики отроков.
Видела Верочка уже это его лицо – тогда еще, в очень раннем предвоенном своем детстве, когда соседка Евгения Павловна, та, что историю коммунизма в московской консерватории преподавала – сестра сумасшедшего Ники – водила ее и брата Кольку в Третьяковскую галерею.
Вере запомнились после этого «похода» большие картины, возле которых Евгения Павловна подолгу останавливала маленьких своих коммунальных соседей.
Картины были «про трех богатырей, про Царевну-Лебедь, про Ивана Грозного», как рассказывали потом дети матери своей, полуграмотной Пелагее.
Некоторые из сюжетов оказались вдруг смутно знакомыми – потому что виденными на многих подушках-«думочках» или просто в рамках за стеклом развешанных вышивках соседок.
Вере особенно понравились картины про старые весенние сады с нежными девушками в воздушных светлых платьях и про святого отрока с длинным и трудным именем, а потом этого мальчика стали звать Сергей, когда он вырос.
Вот Боярыня Морозова Верочке только не понравилась, чем-то здорово смахивала эта недобрая тетка на мать – Пелагею. Ну её, ненормальная какая-то!
А брату Коле почему-то приглянулась страшная картинка с кучей человеческих черепов, вот дурак! Он эту картинку потом часто в школе рисовал. На парте. За что бывал серьезно наказан. После этого Пелагея выговаривала соседке Евгении Павловне, что нечего детей на всякие ужасти заставлять смотреть, что там, в галерее этой, слыхала она от ученых людей, и бабы голые на картинках и на статУях во весь рост красуются – «Тьфу, да не детское же там зрелишше! Более не пущу!»
А еще обоим ребятам уже особенно понравилась сладкая газировка с пирожками на выходе из Третьяковской галереи, угостила их добрая Евгения Павловна одних, даже себе ничего не купила.
Евгения Павловна объяснила, что все люди эти на картинах – из сказок, и что таких вот именно их лиц в настоящей жизни никогда почти не было, и что художники нарисовали все по чужим описаниям, как они себе представляли то, о чем в старину, и долгие годы потом, рассказывали внукам бабушки и деды.
А художники – это те же обычные с виду дети, растут-растут, как все, но вдруг, когда им попадался в руки карандаш или краски, они понимали, что вот сейчас нарисуют ту, от бабушки на ночь услышанную завораживающую сказку, – и рисовали.
Многие любили в детстве рисовать. Но у других детей получались каляки-маляки, а у тех, кто очень хотел рисовать, получалось красиво, как в той же рассказанной им чудесной истории. Когда такие дети вырастали, они учились дальше не в обычных, а в художественных школах и становились все художниками.
Первое, что поразило Верочку после того, как она внимательно вгляделась в лицо незнакомого, танцующего с ней, курсанта, – это живое, почти реальное ощущение себя маленькой девочкой в теплом и светлом солнечном столбе, идущем сверху, со стеклянного потолка сразу вспомнившегося зала Третьяковки.
В памяти возник даже тонкий древесный запах от рам на стенах, даже мелкие пылинки в лучах над красным бархатным, посреди огромного зала стоящим длинным диванчиком, на который люди присаживались отдохнуть и полюбоваться подольше на рукотворную красоту…
Вера тряхнула волосами – очень вдруг захотелось снова увидеть картину с тем отроком из детства.
Вдруг перед ней всплыло на секунду лицо деревенского полузабытого гармониста Коли Генералова – Коли Белого, как его, дразня, звали тогда у тети Саши.
Тот был сейчас очень далеко, служил где-то на Севере, переслал с товарищем, побывавшим в Москве, короткое письмо – простой, сложенный вчетверо листок бумаги без адресов, – ни своего не сообщил, ни Верин не написал – друг принес и позвонил в одно воскресное осеннее утро прямо в дверь, ровно три раза, запомнив и московский адрес, и количество звонков наизусть.
Открыла ему сама Вера, она как раз собиралась идти умываться, была в стареньком летнем сарафанчике на голые плечи, еще непричесанная, волосы подобрала под вафельное белое полотенце, узким жгутом обвязав его вокруг головы.
Открыла дверь, думая, что это подруга Капа, почему-то в такую рань, – и застыла молча, увидев солдатика, который тут же сказал утвердительно: «Вы – Вера, здравствуйте, вот вам письмо!» и протянул ей белый прямоугольник.
Вера, прямо на пороге, кивнув молча незнакомцу, раскрыла и быстро прочла послание.
В листок была вложена небольшая фотокарточка с резными твердыми зубчатыми краями. На ней снят был смешной и щуплый белобрысый подросток в новенькой, еще лохматой из-под ремней, солдатской шинели и явно великоватой ему меховой зимней шапке со звездой.
Из-под шапки, здорово придавившей книзу кончики оттопыренных ушей, сияла младенчески-простая улыбка.
Вера как все это увидела, так не смогла удержаться от смеха, почему-то извинившись перед посыльным; потом спохватилась, наконец, и пригласила его пройти в квартиру.
Но юноша вдруг смутился, заторопился и сообщил, сбегая уже вниз по лестнице, что друг его, Николай Генералов, просил передать Верочке на словах, что после службы тот «за ней приедет», так прямо и просил передать.
Вера после этого немедленно поднялась на чердачный этаж к подружке Капе.
Та еще и не вставала, была настроена меланхолически.
Выслушав Веру, прочитавшую ей хоть и «с выражением», но все равно никакое это письмо – о погоде и о природе, посмотрела на фотографию и громко прыснула:
– «Да, Верунчик, жених у тебя еще тот, знатный женишок. У меня даже настроение поднялось, до чего же мне этот колхозник понравился!»
Вера почему-то вдруг обиделась.
– «А у тебя даже такого нет!»
Капа невозмутимо возразила:
«И, слава Богу! Лучше уж никакого, чем такой “Хотишь”!»
Это «Хотишь» появилось в обиходе подруг как ярлык для наименования всех тех незадачливых ухажеров несчастных, которые и говорить-то правильно не умели.
Однажды Капу с Верой пригласили в кино два очередных лейтенантика.
Пошли на Чистые Пруды, в «Колизей».
Перед началом «картины», в фойе, где только что закончила петь зрелая дама, одетая в длинное синее панбархатное платье – «под Нину Дорду», модную тогда эстрадную певицу, – появились с лотками две мороженщицы в накрахмаленных белых кружевных коронах – «наколках» на волосах.
Немедленно вокруг продавщиц образовалось две воронки из столпившихся, и один из молодых лейтенантиков сразу молча встал «в хвост» ближайшей из удлинняющихся мгновенно очередей и поманил рукой приятеля, чтобы тот тоже к нему подошел.
Приятель, почему-то, идти не торопился и продолжал стоять с обеими девушками у закрытого еще входа в кинозал.
Вера и Капа делали вид, что ничего не замечают, продолжая болтать между собой.
Наконец, тот, кто занял очередь, быстро подбежал к ним, извинился и оттащил дружка за руку в сторонку, что-то шипя ему в ухо и активно жестикулируя.
А тот, кому шептали, громко сказал, поворачиваясь к девушкам, так, чтобы и они услышали:
«Да не хочем мы никто твоего мороженого, нечего и очередь было занимать!
Капа, ты хотишь мороженого?»
Капитолина Романовна, девушка весьма начитанная и грамотная, аж задохнулась от возмущения, и только собралась что-то «выдать» по поводу этого мерзкого «ХОЧЕМ», а особенно по поводу обращенного к ней лично этого жуткого «ХОТИШЬ», как Вера быстро ее опередила и сказала весело:
«Ребята, да не успеем мы ничего, вот уже впускают, какие у нас места? У кого билеты? Давайте быстрее, сейчас журнал начнется!»
После кино Капа не сдержалась и высказала несостоявшемуся своему кавалеру все, что успела. Схватила Веру под руку и сказала, уходя, надменно и гордо:
«С такими, как вы оба, молодые люди, со стыда можно сгореть в приличном обществе. И, кстати, в другой раз – и с другими девушками – советую вам не жалеть денег на какое-то жалкое мороженое. А нас с Верой – пожалуйста, забудьте!»
С тех пор у Капы с Верой появилось кодовое слово, как пароль для обозначения новых знакомых:
«А он, случайно, не» Хотишь«?»
Или: «Да они оба» Хочут»»!
Вера улыбнулась своим мыслям.
Николай тут же улыбнулся ей в ответ и даже, почему-то, кивнул.
Взгляд у него был хитрый, озорной и до того веселый, что Вере так и хотелось радоваться с ним вместе неизвестно чему. Просто так.
И вообще, несмотря на свою внешнюю сосредоточенность, серьезность и даже как будто постоянную скрытую печаль, на деле Николай Андреевич оказался очень смешлив.
Вера внезапно вспомнила, как в самом раннем детстве, года в четыре или в пять, научилась вдруг «косить глаза». Это до рева пугало младшего брата, и Вера очень жалела, что не удается самой увидеть себя в зеркале «с глазками в кучку», и посмотреть, что же у нее там получается?
Пелагея услышала однажды из кухни, через обе всегда настежь в коридор открытых двери, что в комнате, где дети ее играли одни, Колька-«младшой» то и дело то рыдает, то вдруг сразу замолкает.
Наскоро вытерла руки об фартук и побежала проверять, что там у них происходит.
И увидела, что Верка-зараза косит глаза и корчит рожи, а маленький боится и начинает плакать.
А как только малый заорет, Верка прекращает свои выкрутасы, подходит к нему и гладит по головке, успокаивая.
Пелагея, недолго думая, молча влепила Верке по макушке.
И обмерла в ужасе.
Девка так и осталась стоять с выпученными косыми глазами, как у злой кошки, что схватили резко за шкирку!
У Пелагеи аж живот схватило, как всегда, от страха.
А чертовка Верка, которой надоело уже стоять со скошенными глазками, сделала вдруг нормальную, но очень обиженную физиономию и сказала матери тоном взрослой:
«А по башке-то зачем было лупить? А если бы я так и осталась?»
Пелагея только отмахнулась от дочери двумя руками, потом погрозила ей пальцем и быстро ушла обратно на кухню.
Вот и сечас на Верку вдруг «накатило» – какая-то безудержная радость рвалась наружу, и хотелось похулиганить.
Вера как можно шире раскрыла свои огромные черные глаза, заглядывая ими как бы в душу своего партнера.
Николай взглянул на нее очень внимательно, нежно и серьезно.
И тут Верка изо всех сил молниеносно скосила глазки к носу.
Парень ошалел на некоторое время, а потом даже согнулся от приступа хохота.
Вера, с умным видом, продолжая косить глаза, сначала как будто поправила на носу несуществующее пенсне, и тут же как бы выронила из глазницы воображаемый монокль, быстро подхватив его рукой.
При этом оба продолжали танцевать, но Николай показал ей поднятые в восторге вверх аж два больших пальца, и Вера присела в хорошо заученном низком книксене.
Николай тоже в долгу не остался и через некоторое время сделал так: закатив ангельские свои синие глаза задумчиво к потолку, неожиданно в очень широкой, ну прямо точь-в-точь идиотской, улыбке разинул рот, – и вдруг «засиял» неизвестно как появившейся серебряной шоколадной фольгой на всех зубах.
В первый момент, перед тем, как «закатиться» от смеха, Вера даже испугалась.
Николай посмотрел на нее с нескрываемым неподдельным удивлением, спросил: «Вера, что с Вами?»
И когда услышал от нее, давившейся от смеха, просьбу «еще, еще показать! еще, разинуть рот!», снова раскрыл рот – а фольги уже как не бывало.
Вера почувствовала вдруг, что ей с этим человеком так легко, спокойно и НЕ ТРЕВОЖНО, как никогда еще не было ни с кем после погибшего ее первого – Володи.
Музыканты выводили медленный фокстрот, Вера даже не ощущала почти прикосновений партнера, до того слаженно двигалась их пара.
А Николай делал все абсолютно правильно, – и именно так, как хотелось когда-то Верочке с ее первой детской любовью, а может быть, даже и лучше, она уже все забыла, что было тогда в ее душе, и помнила только одно – свое ощущение защищенности в присутствии Володи.
И ведь они даже ни разу не потанцевали с ним тогда, ни разу!
А сейчас у Веры появилось некое непонятное предчувствие, даже предвидение какое-то, что и в том, как танцует с ней этот незнакомый мальчик, и в тихой чудесной музыке их танца стала наконец-то слышна ее судьба…
Вере вдруг показалась до слез знакомой, – но почему-то надолго забытой – и нежная смешливость Николая, и недосказанность его легких жестов и прикосновений, и то, как он тихонько подул на ее разгоряченное радостное лицо, каким естественным движением убрал с ее лба своим незаметно, но неожиданно очень колючим подбородком выбившийся из-под заколки ее локон.
И Вера сама прижалась губами к его губам.
Часть 16. Перед Ноябрем
На ноябрьские праздники 1948 года должны были провожать в армию Николая Степановича, Полькиного единственного сыночка ненаглядного; любимого брата красавицы-Верочки; верного товарища дворовых пацанов, знакомых с песочницы и качелей на Чистых Прудах; неутомимого любовника стареющей Марии Тыртовой – дочери прежнего владельца дома, где все они и жили.
Участие в военном ансамбле песни и пляски в качестве незаменимого солиста, а также работа слесарем высшего разряда на оборонном заводе могли бы дать двадцатилетнему уже Николаю возможность оттянуть службу в армии до последнего.
Но чем старше становился Николай, тем сильнее начинали его тяготить двусмысленные какие-то и все еще тайные для его матери «походы в подвал», к Маше.
К тому же, лучшего друга Виктора уже призвали в прошлом году, и он писал Николаю, что попал на Камчатку, на аэродромную службу, кормят там очень хорошо, одевают красиво и тепло – в меховые комбинезоны, летчицкие кожАнки и утепленные натуральным мехом, тоже кожаные, шлемы, обувают зимой в теплые унтЫ, а в другое время – в крепкие лендлизовские ботинки на длинной, до колен почти, шнуровке.
А еще писал Виктор о самом главном – но понятно это было лишь между строк – что, чем старше привозят к ним новобранцев, тем тяжелее таким бывает подчиниться по уставу и быть на первых порах в неизбежной роли «салабонов».
И чем настойчивее звал Витька на Камчатку, чем больше расписывал красоты природы, тем радужнее рисовалась Коле неизведанная доселе жизнь вне Москвы, порядком уже как-то поднадоевшей. И хотелось самому, своими глазами увидеть и сопки, и бьющие из-под земли кипятком неведомые гейзеры, да подышать во всю грудь соленым воздухом настоящего океана, а ведь Колька даже на море-то ни разу и не бывал, эх!
Виктор советовался там со своим начальством, как бы заполучить другана – земелю московского, почти брата, именно в свою часть, на авиабазу дальневосточную. Ведь дружок его и слесарь классный. А по части починки любых механизмов, даже баянов, просто дока настоящий.
Тут начальство – товарищ старший лейтенант – засмеялось и сказало, что баянов и гармошек у них нет, а вот если бы друг его аккордеон немецкий и рояль рассохшийся, тоже трофейный, из Красного уголка в офицерском клубе починить бы смог, то уж можно было бы тогда и впрямь похлопотать. А что поет тот москвич хорошо – так в самодеятельности у них в армейской все неплохо выступают. На баяне – нет, никто не играет. Ладно, погоди, проверим мы друга твоего.
Написали даже, и правда, в Москву письмо с просьбой разрешить целевой запрос.
И ответ пришел положительный: в московском центральном райвоенкомате сочли возможным пойти навстречу.
За Колю похлопотал также сам заместитель художественного руководителя ансамбля – и вот призвали Николая служить на Камчатку. Да только не в ту часть, где был Витька, а в парашютно-десантные войска.
Кольку этот факт расстроил было поначалу, но потом он рассудил так: расстояния там, наверное, между дислоцированными частями небольшие, и он сможет видеться с другом в увольнительных…
К тому же, чем топтаться на летном поле на обслуге авиатехники, лучше уж летать в этих самолетах самому – а потом прыгать с них с парашютом.
В Парке Горького стояла бесплатная для всех желающих совершить прыжок парашютная вышка, она и стала самым любимым аттракционом почти у всех «центровых» московских пацанов. Развлечение это было по-настоящему «зыконское».
И Коля стал радостно ждать, когда же наступит 9-е ноября – день явки осенних призывников на сборный пункт на Кировской.
* * *
Пелагея отнеслась к предстоящему уходу сына Николаши в армию – на долгих четыре года согласно роду войск – удивительно спокойно.
Надо – значит, надо! И нечего рассусоливать! Не война, чай, а в мирное-то время как же парню молодому и, тьфу-тьфу, здоровому, в армию не ходить? Позор! И так уже все товарки, у кого сыновей служить позабирали, стали ей на работе иной раз вопросы колкие задавать, уж не болеет ли чем ее Николай, а то долго «в девках» сидит, в смысле, в армию не призывают – брать, что ли, не хотят? Ай еще что?
И Пелагея единственным козырем все их домыслы покрывала – мол, ваши-то ребята простые, а мой-то – и на работе незаменим, и опосля работы – солист! Главный в хоре – военном, причем, к вашему сведению! – певец, и, к тому же, единственный с таким голосом, вот! (Понятие «тенор» было ей незнакомо, а часто повторяемое всеми слово «ансамбль», «из ансамбля» – Полька считала неприличным, потому как и выговорить его правильно не умела, и все как бы матерком от словечка этого каверзного веяло…)
Бабы-товарки на время умолкали, а потом – опять за свое:
– «Когда же сынок-то твой, Полина, в Большом Театре плясать будет в балете? Или, запамятовали мы, говоришь, поет он – вместо Лемешева и Козловского, обоих сразу заменить может?»
И хихикали, стервы, взглядом бегая, в глаза-то прямо не глядя, и ладошками рты свои поганые прикрывали нарочно после сказанного, сучонки завистливые!
Зато теперь вот Пелагея с гордостью всем сообщила, что на праздники ноябрьские будет проводы устраивать. И попросила в месткоме разрешение выделить ей из заводских запасов бесплатно, как и полагалось, три бутылки коньяка.
На старинном московском «Заводе Коньячных Вин “Арарат”, где Полька отпахала уже почти тридцать лет, существовала своя внутренняя “разнарядка”» профсоюзных поощрений.
На свадьбу и похороны самих трудящихся коллектива или их ближайших родственников выделялось, вне зависимости от занимаемой должности, по пять полулитровых бутылок коньяка безвозмездно, остальное – но только до десяти бутылок всего, то есть, еще пять бутылок, продавали за деньги «по себестоимости», без магазинной наценки – очень дёшево.
На юбилейные даты (исключительно от 50 лет и старше), на «родИны» (вместо «крестин») и, далее, на проводы в армию и на поминки, причем, строго на «девятины» – то есть, только на девятый день после похорон – выдавали бесплатно по три бутылки плюс максимум еще три бутылки по низкой цене.
А вот «звёздность», то есть срок выдержки, и марка поощрительных коньяков прописаны были четко по ранжиру, от директора завода (пятнадцатилетний «Арарат» или «Юбилейный») до последнего «чина» – грузчика (любой в «три звездочки»).
Пелагее выделили коньяк аж в пять звездочек, чем она осталась так довольна, что даже прослезилась, получая в месткоме подписанный дирекцией наряд-заказ на выдачу продукта со склада. Оценил родной коллектив ее беспорочный и честный труд! Разрешили ей также прикупить на складе «по дешевке» еще три бутылки, но уже «три звездочки».
– «Господи, да спасибо-то какое, милые вы мои!» – думала по дороге домой Поля, еле утащив все шесть драгоценных бутылок, бережно обернутых каждая в толстый газетный слой.
– «Сейчас сразу, как зайду в дом, спущусь вниз, в подвал, к Машке-продавщице. Попрошу у нее, чтобы все “три звездочки” обменяла мне на 10 бутылок водки, ну, или на 9 хотя бы, одну пусть себе за работу возьмет. Одну бутылку “пять звездочек” на стол поставить надо, только уж в самом конце, как расходиться станем, скажу, к чаю! Пусть сначала чем попроще угостятся. А то кто там разбирается, какой такой коньяк, им все едино – “клопами пахнет”! Уж кто нахлестаться захочет, пусть лучше водку с вином пьет. Нет, надо Машке и» пятизвездочные «отдать, а то ведь и вина достать не на что, пусть она кислого дешевого ящик за тот коньяк даст. Да картошки и овощей на винегрет подкинет, ведь денег – кот наплакал. Да, а “кота” моего Степана звать ли? Надо бы позвать, отец ведь. Пусть Верка его и позовет, папашу своего распрекрасного…»
И, довольная своими мудрыми соображениями, Пелагея позвонила в Машкину квартиру, один звонок.
Долго никто не открывал, но что-то внутри квартиры все-таки жило и шевелилось. Поля позвонила два раза, понастойчивее.
Дверь открыл Машкин сосед, Подольский, и почему-то рот разинул, как дурачок, и остолбенел, глядя на Полю, но не пропуская ее внутрь.
– «Здравствуй, Коль, ну, что встал, пусти – свои! К Маше я, по делу пришла, нет ее, что ли?».
– «Н-н-н-нет! То есть, д-д-д-да!» – Коля-Подоля аж заикаться сильнее начал, чем обычно, и руки у него прям задрожали аж, замок не отпуская.
– «Ну-ка, не телись! Отвечай толком, стоять мне с сумкой тяжело, а поставить ее не могу – стекло там! Где Мария?» – гаркнула Полька и попыталась шагнуть внутрь квартиры.
Но Подоля как окаменел – и не пускал. Тут за его спиной, в шелковом халате, вздымая кверху голые полные руки в приветствии, возникла сама Машка.
– «Здравствуйте, тетя Поля, дорогая! А ты что же это, Николай, соседку в гости к нам не пускаешь?» – и, отодвинув могучим боком Подолю: «Стань в сторонку!», – улыбнулась, распахивая широко входную дверь и приглашающим жестом указывая Пелагее пройти вперед, на кухню.
– «Извините, тетя Поля, что в комнату не приглашаю: не убрано там у меня, только-только с работы сама пришла, да сразу и уборку затеяла – пылищи полно по углам. Все некогда было, а сейчас вот собралась подметать, стулья перевернула да на стол сиденьями уложила, да пока гремела – их сдвигала, звонок-то и не расслышала! Садитесь, пожалуйста, а ты, Подольский, чайник нам поди из моей комнаты принеси да поставь, да и иди к себе потом, дай людям поговорить, чего встал?» – и Маша, цепким взглядом отметив здоровенную сумку, осторожно и молча, по-деловому, стала ее «перехватами» отбирать у Полины. Та, облегченно вздохнув и вытерев пот со лба концами головного платка, не раздеваясь, села на табурет.
– «Маша, ненадолго я к тебе, раздеваться не буду, и чая не надо. Хочу тебя, Мария, просить о помощи. Парня я своего в армию провожаю, через неделю, а на праздник, 7 ноября, хочу гостей позвать. Помоги мне, голубушка, коньяк на водку и вино обменять, у тебя, я слыхала, повсюду связи есть!»
Пока Пелагея разговаривала с Машей, Подоля, предварительно постучав, вошел в Машину комнату. Там все было в полном порядке, даже кровать застелена, только не очень-то аккуратно – возле самой стены высился за подушками какой-то горб, как будто одеяло ватное валиком скатали да так и застелили, не расправив. Да еще и ковер сверху накинули, а раньше он на стенке над кроватью висел. Сполз, что ли, или, может, оборвали?
Подоля покрутил длинным носом, как птица-ворона, схватил с подставки на подоконнике медный тяжелый чайник, потом, оглянувшись по сторонам, на всякий случай приоткрыл пузатый высокий платяной шкаф и заглянул внутрь.
Сдавленным голосом тихо просипел: «Коля, ты тут?» – и, не получив никакого ответа от плаща, пальто и шубы, быстро захлопнул дверцу шкафа, который все жители московских коммуналок называли всегда просто «гардероб», а провинциалы обязательно величали «шифоньер», причем, и те, и другие французского уже не знали.
Неграмотная Москва произносила бойко «в гардероПе», а приезжая провинция полагала, что, раз шкафы делают теперь из фанеры, то и называться они должны «шифанеры».
Подумав об этом вскользь, грамотей Подоля пожал плечами и потопал на кухню. Там он поставил кипятить чайник и тихо удалился. Постоял еще немного в коридоре, прислушиваясь к спокойному разговору женщин.
Говорила Маша:
– «Тетя Поля, ну, какие деньги? Мне деньги не нужны, главное – человеку помочь!
Давайте вы лучше и меня на эти проводы пригласите – вот и рассчитаемся.
Грустно мне одной, без семьи, без праздников, просто выть иногда хочется.
Никто меня к себе не зовет – как огня боятся…
Вот уж и погуляю я хоть у вас в гостях!
Колю вашего все мы в доме хорошо знаем и любим, всем он помогал, и мне с Подольским в том числе – а то бы уж и пропали мы здесь, в подвале нашем, от вечных поломок и засоров, дерьмом чужим сверху от соседей залитые!»
Пелагея аж руками всплеснула:
«Дык, Машуня ты моя драгоценная, дык приходи просто так, какие тут еще приглашения!
А за работу возьми себе коньяк, да хоть вот «пять звездочек» – ты знаешь, куда его пристроить!
Приходи, милая! Просто так приходи. Всегда тебе буду рада. Надо же, удумала – приглашения какие-то!»
– «Да ведь, тетя Поля, тогда весь дом наш так просто к вам придет, если без приглашения! А вот давайте я уж и на стол накрою, вы мне доверяете? Прямо в кухне у вас, думаю, и поставим столы, а через двери ее широкие продолжим в коридор, в переднюю, широкую его часть.»
– «А как же тогда в кухню проходить-то будем? Если вход-то в нее столами заставим?» – сразу начала соображать Поля, заведомо согласившись на Машино действенное участие в проводах.
Пелагея не удивилсь Машиному предложению потому, что и сама всегда помогала безотказно и бескорыстно всем, кто просил, чем могла: и работой, и душой, и сердцем…
– «Я ведь, теть Поль, вашу квартиру отлично знаю и помню, у батюшки моего она одна из лучших была. Там вход из кухни в соседнюю смежную комнату – столовую когда-то – существует, скрытый в спираль. Подавали горячее в прежние времена через этот узкий проход.
Если фанерную перегородку к Должанским из кухни сломать временно, всего-то три доски! то через их комнату и заходить в кухню будем, когда все столы расставим. Ну, а в коридорной части молодежь рассадим, там они, небось, и танцы устроят, и выйти им из-за столов покурить на лестницу легче будет!
Посуду я тоже свою принесу, и у соседей ваших стулья да вилки-ложки соберем. Очень я это дело и люблю, и умею – столы гостям накрывать!
А про расходы вы мне, тетя Поля, и не упоминайте – что там мы уж такого особенного с вами наготовим? Картошка, селедка, огурцы соленые, кислая капуста, постный винегрет. Это – за мной все. Принесу – приготовлю. Да пирогов всяких – это уж вы сами напечете, только блинов вот не надо – не поминки.»
– «Да знамо дело! – поджала было губы обиженно Полина, хотя сама по дороге уже подумала – надо же, дают на проводы столько же бутылок, как прям на поминки, – но потом спохватилась: “Да дорогуша ж ты моя Машенька, вот уж не знала я, не чаяла, что ты такая добрая душа! Спасибо тебе, миленькая ты моя! Поклон тебе за такую помощь земной!”»
И Пелагея встала, чинно, по-деревенски, руку к сердцу приложила и поклонилась низко перед Марией.
За дверью кухни, в коридоре, раздался звук, похожий на чихание.
Это Подоля прыснул со смеху в кулачок и быстро смылся, наконец, в свою комнату.
Часть 17. Канун праздника лучше, чем сам праздник
Ох, уж и праздник наступил – так праздник! Настоящий! Давно шестая квартира по переулку Стопани, дом 14, так не праздновала, года три уж точно, со Дня Победы!
Все соседи из четырнадцати комнат – и старые, и новые, все двадцать восемь человек, считая детишек, радостно готовились к нему. Во-первых, сам праздник, да еще и двойной – проводы Николая в армию.
Колю любили все, как родного. Красавец, скромняга, вежливый и мастер на все руки – что хошь починит!
Детишки его обожали. Визжали просто от счастья, когда он то мяч дырявый заклеит, то прыгалки веревочные порванные заново свяжет, и без узелка даже!
То просто поднимет вдруг малыша и на руках подкинет, высоко-высоко! И не страшно, потому что весело!
И все собаки, и кошки тоже – а их Коля особенно любил – ластились к нему и бежали долго по дороге, провожая.
Теперь в Москве хоть потихоньку и животные стали в домах у людей появляться – во дворах, правда, никого, кроме крыс помоечных, не было с самой войны.
В квартире Пелагеи завели своего кота – Колька откуда-то с работы притащил, там кошка у них на заводе окотилась – сама, говорит, драная-страшная, а котеночка принесла – как «сибирский валенок», серый, пушистый настолько, что блох не прочесать!
Назвали Васькой. Все его сообща, «всем миром» подкармливать стали, и поселился он на кухне, возле мусорного бачка ему блюдце его поставили. А спал он на крышке того же бака, под раковиной. Приноровился сам с крышки наверх в раковину залезать и воду пить. И вот умница какая – гадить ходил исключительно во двор, и летом и зимой, откроют ему дверь с черного хода из кухни – он убежит, а потом в парадном перед дверью квартиры сядет – и молчит, главное, и не мяукает даже, а просто ждет, кто войдет, тот его и впустит!
Умный кот!
В квартире из прежних «старых», довоенных еще соседей, остались в живых Елена Ивановна, дочь немца-профессора военной медицины, сгинувшего со своим младшим сыном Отто-Толей в лагерях или в ссылке в талдысайских голодных степях за Алма-Атой еще до войны, да ее дряхленькая совсем уже бабуля – «бабушка-мадам» Брандт, когда-то хозяйка всей квартиры.
Елена Ивановна вышла замуж и носила теперь фамилию мужа, тоже немца, но «нашего», прибалтийского, родом из недавно присоединенной Риги, и тоже, как и ее отец, профессора – но не медика, а заведующего кафедрой немецкого языка в столичном знаменитейшем инязе на Метростроевской – бывшей Остоженке.
Александр Андреевич Лепинг, статный, высокий и потрясающе импозантный, из тех, кого боготворят и дамы, и простушки – был в юности белым офицером – штабс-капитаном, получил трех «Георгиев», и судьба его схожа была в чем-то поначалу с судьбой таких военспецов, как Тухачевский. Только вот, начав преподавать военное искусство, открыл в себе Александр Андреевич таланты лингвистические и охотно занялся порученным ему высшим советским руководством составлением современных немецкоязычных военных словарей и преподаванием немецкого и английского языков для срочно сформированного спецподразделения молодых разведкадров Красной Армии.
Всю войну руководимый им иностранный подотдел пропаганды Совинформбюро составлял и озвучивал тексты антифашистского вещания на фронтах по советскому радио на немецком языке и печатал по-немецки же листовки для сбрасывания с наших самолетов над оккупированными гитлеровцами территориями СССР.
С самого поворотного времени на победное завершение войны с гитлеровской Германией профессор Лепинг в составе группы ведущих ученых-языковедов трудился над формированием титанического по задумке и исполнению объема документов, необходимых для подготовки ряда решающих встреч глав государств-союзников, а в последствии – для безукоризненного документального оформления и проведения мирового Нюрнбергского процесса.
Но в Полькиной квартире никто и не подозревал, почему Александр Андреевич возвратился с войны позже всех остальных – в конце 47 года. И наградами своими ученый профессор никогда не кичился. Только однажды и увидели его соседи при всей орденской красе на гражданском сером костюме-тройка – на Колиных проводах в армию.
К «элите» Пелагеиной коммуналки принадлежала также «грамотная» дочь пропавшей без вести вместе со своей старой матерью пианистки Анны Израилевны Евгения Павловна Должанская – преподаватель истории марксизма-ленинизма в прославленной московской консерватории на Герцена. Это она увлекалась русским искусством и водила соседских полунищих Полькиных детей в Третьяковку.
У Евгении Павловны было уже двое своих маленьких детишек, сын и дочь, но воспитывать их ей прошлось одной, и не без помощи соседок: Пелагеи и Насти Богатыревой, – «симпатии» пропавшего Рувима, – муж ярой убежденной коммунистки Евгении Должанской недавно скончался на работе от инфаркта. Говорили, что перед этим на него сильно накричал его непосредственный начальник.
Умер в психбольнице в подмосковных Белых Столбах и ее несчастный сумасшедший брат Ника, подававший когда-то огромные надежды скрипач-виртуоз. Умер – от голода.
Из тех, кто был в эвакуации, вернулись далеко не все.
Скончалась в поезде, идущем уже на Москву, так и не доехав до дома, старая балерина Ольга Карповна.
В ее комнату въехала и теперь жила, стуча всеми вечерами и ночами на пишущей машинке, сухая и длинная, в седых завитушках, немногословная с соседями и неулыбчивая, постоянно в кругленьких очочках, пожилая машинистка из машбюро на Лубянке Лидия Николаевна Тихомирова.
Ее все как-то опасались, и в гости к ней в комнату заходил один лишь Коля, его она очень привечала – он частенько чинил ее разбитый «УндервудЪ» – и поила эрзац-какао с молоком и настоящим сахаром.
Колька рассказывал потом Вере и Капе, что огромные зеркала предыдущей жилички эта «сухарница» не тронула – наверное, дурачился Коля, ей понравилось рассматривать свои мощи после ванны перед сном, считать, сколько новых морщин появилось «за истекший с 905 года период». А какава у ней была ничего так, сладкая!
Трусоватый Рувим-Херувим исчез где-то в неизвестности под Уралом.
В его комнате жила теперь нестарая миловидная и очень усталая тихая женщина, тоже Лидия, но – Ивановна, с пятилетним ребенком – девочкой. Лида была партизанкой из Белоруссии, спасла в лесу от гибели раненого болгарского коммуниста-подпольщика, полюбила его, выхаживая, забеременела и родила болгарскую девочку Галю. Фамилия у Галочки была отцовская – и чудесная – Валева.
Отец Гали был, к сожалению, женат, да еще и с двумя детьми, но, вернувшись в Софию, он никак не пострадал от своей «истории», и даже получил вскоре назначение на работу в дипломатический корпус в Москву. Супруге он честно рассказал о своем – третьем – ребенке, она, кажется, все поняла, и вскоре Лиду с дочерью «выписали» из Гродно жить в Москву. Лидию Ивановну устроили на работу на очень популярную тогда московскую фабрику игрушек номер 1 на Шаболовке.
Девочку Галю водила она в детский сад.
Соседка Лидия Ивановна была неплохой художницей-самоучкой, и мастер цеха, присмотревшись к ней повнимательнее, вскоре поручил ей самую ответственную и тонкую работу – расписывать кукольные лица.
Хоть и не было принято в квартире, потому что очень боялись, красить на Пасху яйца, всё же все соседи просто мечтали получить от Лидии Ивановны одно-единственное расписанное ею яичко.
Пелагея ставила на огонь вечером перед Чистым Четвергом для всей квартиры здоровенную общую кастрюлю с водой, сыпала в нее много соли, и каждый клал туда варить по одному куриному беленькому яйцу. Потом, остудив все под холодной водой, Пелагея аккуратно вытирала и заворачивала каждое в отдельную чистую тряпочку, затем укладывала в брезентовую крепкую сумку с твердым прочным дном и относила Лидии, чтобы та утром взяла всю поклажу к себе на работу.
Когда вечером Лида молча возвращала Пелагее сумку, та, не глядя и не разворачивая, забирала одно крашеное яйцо себе, а остальные втихую разносила по участникам крамольной затеи.
И каждый ахал в своей комнате от восторга и восхищения, получив неописуемую праздничную красоту: черные и белые лебеди плыли друг за другом по синему озеру, ангелы в вышине звонили в колокольчики, голуби и зайцы, ленточки и бабочки в виде букв ХВ, а иногда даже церковные купола и лик Богородицы или Иисуса, или Николая-Угодника и Чудотворца сияли, прорисованные тончайшей кисточкой и покрытые навеки слоем прозрачного лака.
Есть такое яйцо было невозможно и грешно.
У всех соседей эти пасхальные подарки хранились до состояния полнейшей тухлости, зато, если перетерпеть и надколоть иглой маленькие дырочки сверху и со дна, яичная середина высыхала и становилась невесомой – а картинка сияла и радовала еще долго-долго…
Иногда в коммунальном Полькином коридоре появлялся, проходя его весь до конца и заворачивая в угловую комнату направо, небольшого роста плотный, хорошо одетый гражданин, черноволосый, очень смуглый, с абсолютно сизыми щеками, слегка припудренными «от синевы». Недолго побыв в комнате соседки, он шел обратно, ведя за ручку свою дочь.
А у Полькиного подъезда, в переулке, ждала его шикарная черная блестящая машина ЗиС.
Через несколько часов вдвоем с девочкой возвращался только водитель, он и провожал ее до дверей Полиной квартиры, звонил 5 звонков, передавал ребенка с рук на руки матери и уходил, откозырнув, к машине.
С самой, почитай что, ночи на Седьмое ноября началась в квартире праздничная суета.
Часть 18. Эти праздничные проводы…
На ночь под Седьмое ноября – под самый праздник Революции – поставила Пелагея «подходить» три ведерных кастрюли теста для пирогов.
Собственно пирогами называла Полина не «закрытые» большие кулебяки, не расстегаи, и не сладкие «деньрожденные», круглые, со среднего размера сковороду, с подгоревшим яблочным повидлом, вылезающим поверху на тестяную украшательную решеточку, – а печеные пирожки с начинкой, но не мелкие, на один «укус» – а щедрые, размером «в лапоть»!
Пироги эти «лапотные» у нее получались знатные, вкуснейшие: что с капустой свежей, что с грибами, или же просто с размятой без комков вареной картошкой – пюре, по-московскому, – и со слегка ошпаренными кипятком и потом уже поджаренными на сковородке лучком и морковкой – а иногда даже и с мясом, то есть, с фаршем, пополам перемешанным с рассыпчатым рисом, проваренным в луковой же, или картофельной, крепко подсоленной воде.
И только у Пелагеи были они такие мягкие и пышные, такие красивые, смазанные поверху каждый яичным желтком – аромат от этого «печива» плыл по всем углам огромной квартиры, и сразу же, учуяв его, все поголовно бывавшие в то время дома соседи выползали на кухню, как бы по делу, чайник, там, поставить, или посуду отнести – знали потому что наверняка: угостит их тетя Поля пирогами своими всенепременно!
А когда начинали у нее выспрашивать про рецепты, то отвечала всегда Полина кратко и веско:
– «Рецепт один у нас – бедность. Ведро воды – да ложка соли, вот и весь секрет.»
Верка с Капкой, наблюдая, как Полина жарит, например, блины, постоянно удивлялись, как ловко получалось у той вовсе непростое для многих, а особенно – начинающих – дело.
Сначала смазывала Пелагея дно огромной чугунной, «низкой», без ручки, сковороды, держа ее над огнем и не очень быстро наклоняя из стороны в сторону на прожженном за долгие годы деревянном «чапельнике».
Смазка эта состояла из нескольких капель постного масла, разнесенных по всему нутру старой сковородки тремя большими гусиными перьями, тоже уже насквозь промасленными за многие разы «употребления» и связанными вместе тряпочной веревочкой в подобие малого веника.
Хранилось это перьевое приспособление в стеклянной полулитровой открытой банке в тумбе кухонного стола – и создавало в этом столе душный и никогда не выветривавшийся подсолнечный запах «честной бедности»…
Потом Пелагея начинала разливать в раскаленную сковородку очень кислое, потому что на живых дрожжах, успевшее за ночь подпереть крышку из «нутра» высокой кастрюли, блинное тесто, – и делала она это всегда «особой» ложкой – плоской, небольшого объема, некрашеной деревянной, на длинной ручке.
Виртуозными движениями успевала как-то, еще до затвердения жидкого изделия от жаркого огня, покрыть, а вернее, полить все дно сковороды тончайшим мелкопузырчатым слоем – просто на глазах становящимся насквозь «кружевным», в дырочках, хрустким по краям, блинком.
Затем блин от резкого встряхивания вперед и вверх и мгновенного наклона сковороды вбок легко слетал с нее и ровненько ложился прожаренной своей стороной на «железную обливную малированую», то есть, металлическую эмалированную, тарелку-блюдо.
Оно уже заранее подготовлено было Пелагеей и поставлено на боковую решетку плиты, под правую руку.
На этом блюде полуготовый блин – если должен был стать «пустым» – долго не залеживался и уже незажаренной своей стороной снова попадал на сковороду, «допекаться».
А если суждено ему было стать блинчиком с начинкой, – то на железной той тарелке подрастала тогда горка «полуфабрикаНтов», а потом каждый из них быстро начиняла Пелагея изнутри, по прожаренной стороне, одной столовой ложкой – и не более! – разварной гречневой каши, или творога, а то и просто – мятой картошкой с луком и яйцом.
Полька блинчики с начинкой никогда не «перепаковывала», то есть, не закрывала квадратным конвертиком со всех сторон, – а лишь «закатывала» в длинные тонкие трубочки-рулетики и выкладывала их бочком друг к другу, ровненько, на другую уже, глубокую и сильно разогретую сковородку, – и так дожаривала «до кондиции», оставляя затем храниться прямо в этой сковороде, всегда прикрывая ее вместо крышки деревянным кружком-подставкой под чайник.
…«Толстую» сковороду эту схватила Полька однажды всей голой ладонью, без «прихвата» – за мощную, целиково литую, железную ручку, как будто за деревянную – и отбросила далеко от себя на кафельный пол, закричав от дикой пронзительной боли.
Вдруг увидела бутылку с растительным маслом – и всю почти вылила на свою мозолистую, натруженную красную ладонь, прямо на вздувавшиеся, аж с шевелением, огромные волдыри от ожога.
Потом открыла на всю мощь кран с ледяной водой, подставила руку, застонав, опустила вниз глаза – на затоптанном полу кухни, веером разбросанные вокруг упавшего «чугуния», нет, все-таки «люмения», – лежали красиво поджаристые плоды Полькиного напрасного труда.
Один «плод», – давясь, прижав уши к затылку и закрывая глаза от нестерпимо горячего, свалившегося на него неожиданного счастья, уже доедал кот Васька, зараза такая…
Полька тут и заплакала – бутыль цельная масла пропала – и еда на два дня.
Да кабы больничный брать с рукой не пришлось – вона, шкура-то, клоками с ладони сползать начала!
Брысь, скотина! – замахнулась на кота, закрыла кран с водой, нагнулась – и левой рукой подобрала в тарелку все блины, оглядываясь, не увидел бы кто из соседей.
Краем фартука обернув здоровую руку, осторожно, захватила с пола треклятую сковородку, порядком уже остывшую, кое-как ссыпала туда теплые еще блинчики, прикрыла все «кружком» деревянным – и тихо постанывая, ушла с кухни.
…А уже абсолютно готовые блины – те, которые были «без ничего» – укладывала Пелагея постепенно растущей в высоту стопкой в широкую и плоскую, мятую по бокам, старенькую кастрюлю с почерневшей от времени крышкой.
Там блины слегка «допаривались» и долго не остывали. А вечером или на следующий день их легко было разжарить.
По особому «заказу» детей делала часто Полина из готовых блинов «блинчатые пироги» – пересыпала каждый снятый блин малой щепоткой сахарного песка и переворачивала, кладя на отдельную тарелку.
Далее смазывала слегка их «поверху изнанки» маслом: сначала подсолнечным, – аккуратно, «без осадка», вылитым в старую фаянсовую «селедочницу» из захватаной поллитровой бутылки, где толстым слоем оседали на дне «остатние лохматушки», дававшие при жарке жуткие, будто мыльные, пузыри – а затем уж и растопленным «коровьим» маслом – из «економного» маленького чайного блюдца.
Для этого «умасливания» насаживала Поля на старую кривозубую алюминиевую вилку половинку очищенной сырой картофелины – и окунала ее попеременно то в постное, то в «животное» масло, нанося по два еле ощутимых слоя на горячие блины.
Остатки топленого масла выливались потом в ту же селедочницу к растительному маслу, туда же меленько нарезала Пелагея обе половинки сырой картошки – заветренную промасленную и посиневшую нетронутую, – вдобавок еще крошила лук и черствый черный хлеб небольшими кусочками, заливала все месиво сверху сильно разбавленным водой мутным уксусом и сьедала сама эту «тюрю», вместо своих блинов, – чтоб детям на завтра их еще хватило.
Когда стопка посахаренных блинков на тарелке подрастала достаточно, Пелагея разрезала ее сверху длинным и всегда остро заточенным кухонным ножом на четыре части, и каждый «четвертинный» столбик перекладывала, аккуратно сдвигая, на тарелки нетерпеливым едокам.
Коле особенно нравилось съедать из такой, треугольной поверху, башенки сначала ту часть, что была когда-то ближе к серединке блина – самую сладкую, мягкую и вкусную, – а потом уже все остальное.
Вера, наоборот, просила мать не складывать блины в кастрюлю с крышкой, и не разрезать, а оставлять ей более низкую стопку целых, потому что любила хрустящие зажаренные края.
А мать Капкина, соседка «с чердака», сама умелица по части дрожжевой «затирки» для браги и по пирожкам, но – жаренным в масле, – так и вовсе приходила выспрашивать у Польки про дрожжи для блинов – какая-то «тайная закваска» там присутствовала.
И все соседи постоянно удивлялись и восхищались Полькиными блинами и пирогами.
* * *
Вся квартира готовилась к празднику – и, нет, не гудела, как улей, а тихо шевелилась изнутри незаметными мелкими движениями, скорее, как муравейник.
Начало праздненства было оговорено на обеденное время – на час дня: все уже и с демонстрации придут, кто назначен был от работы, и с парада вернутся, кому честь выпала на Красной Площади постоять и родное Правительство на верхушке Мавзолея хоть издали, да «живьем увидеть».
Демонстрация вовсю уже шумела вдоль улицы Кирова, медленно, но верно продвигаясь к самому Кремлю.
Из комнатных репродукторов звучала музыка и голоса дикторов радиовещания, а с улицы глуховато доносился через открытые форточки неподражаемый живой звук людского бесхитростного веселья.
Из отдельных звеньев длинной, драконом растянувшейся цепи «трудяшшых», как говорила Полька, – так называемой «колонны демонстрантов», – неслась на волю несмолкаемая музыка: вразнобой, но весело, лупили по огромным барабанам, били в литавры, басили обвивавшие тела и плечи музыкантов, как золотые бажовские полозы-удавы из уральских сказов, огромные трубы духовых самодеятельных оркестриков.
Одновременно заливались рьяно то тут, то там гармошки, баяны и аккордеоны, и народ на ходу по принципу – чем громче, тем лучше! – дружно пел разные песни: кто – революционные: про тачанку-ростовчанку, которая наша гордость и краса! про Щорса, про «Яблочко», а кто – веселые и незабываемые песни недавно отгремевшей Победой войны.
Про печальное петь не хотелось.
Некоторые особо бойкие выскакивали из медленно идущей к самому Центру Москвы колонны в сторонку и плясали на ходу, как-то непостижимо тоже двигаясь вперед – и всегда рядом со «своими!» – выкаблучиваясь и вприсядку, и «веревочкой», или крутились под ручку парами, попеременно в разные стороны, притоптывая и взвизгивая, – а все остальные им хлопали громко, как зрители в театре, и затаскивали заплясавшихся обратно в строй.
На всех площадях вдоль маршрута продвижения останавливались, подчиняясь командам быстро бежавших вдоль колонны распорядителей шествия в одинаковых габардиновых темно-синих добротных пальто и с красными нарукавными повязками со школьной надписью жирными желтыми буквами «Дежурный».
Поджидали, когда подтянутся остальные – и тут же снова начинались или танцы – если рядом играли, заглушая другую музыку, духовые, – или же пляски, под гармонь, чтобы и согреться – и себя – да удальство и умение собственное повеселиться на славу – народу предъявить!
Все были веселы и жизнерадостны, и совсем не наблюдалось не то что пьяных, а даже и заметно подвыпивших, потому что было довольно раннее утро долгожданного праздничного дня, который бывает один раз в год. Вот к вечеру, да по домам – это дело другое…
Люди «облачались» в самое свое нарядное из одежды, каждый старался показаться хоть в какой-нибудь, пусть малой – но «обнове», особенно молодые женщины: некоторые мерзли, например, в купленных с получки специально к празднику тонких фильдеперсовых розоватого окраса чулках, а некоторые и вовсе шли в летних новеньких босоножках, обутых на белые «парадные» носки поверх толстых темно-коричневых чулок в резиночку.
Мужчины были все поголовно в новых кепках, а некоторые – даже и в шляпах твердого фетра с промятой ребром ладони «серёдкой».
Шелковые шляпные ленты над широкими полями лоснились свежестью аж до самого вечера, а потом, захватанные не очень-то чистыми руками и мокрыми пальцами владельцев, лосниться начинали от жирноватых частых пятен.
Поэтому цвета самих шляп выбирались населением потемнее, «немаркие».
В велюровых шляпах – серых, с мягкой тульей, выступало лишь начальство да «настоящие артисты».
На Чистых Прудах, у метро «Кировская», завихрялся поток народный всенепременно.
Демонстранты, мужская часть – с алыми нагрудными бантами на булавках, со значками поверх пиджаков, прямо на пальто, а женщины – с приколотыми на воротники бумажными цветками, некоторые в повязанных назад концами красных кумачовых косынках – все почти что-нибудь, да несли, или даже везли на велосипедных колесах: если не самодельные транспаранты с графиком заметно продвинутых с прошедшего Первомая и закрашенных новыми показателями трудовых достижений, и если не портреты прошлых и настоящих вождей, – то уж хотя бы красивые длинные лакированные палки с цифрами «3» и «1», или же осенние голые ветки с привязанными к ним пышными цветами и лентами из гофрированной, ядовитого окраса, бумаги.
Народ – и мужчины, и женщины – мгновенно отбегал в сторону бульвара и организовывал слева и справа от начала центральной аллеи Чистых Прудов малые кучки «прикрывающих», то есть по очереди державших вниз головой то, что несли демонстрировать, – плакаты, а иной раз и портреты, – и мочился прямо на бульваре, под самыми толстыми деревьями и облетевшими, но густыми кустами старинной сирени.
Один из очень редких в Москве общественных туалетов находился поблизости, в глубокой арке, ведущей во двор Почтамта – и был, по случаю праздника, наглухо закрыт.
Но вот раздавался вдруг откуда-то сверху, как гром небесный, безжалостно-строгий окрик конного милиционера:
– «Прекратить безобразие!», а иногда и просто: «Только вот попрошу не ср…ть!»
– и немедленно, поправляя на ходу одежду, все облегчившиеся убегали и снова занимали свои места в колонне, частенько забывая цветущие ветки и палки с цифрами в кустах.
Плакаты, а особенно, портреты, оставлять не смели – и даже вверх ногами, прикрывая срам присевших, держать очень боялись: ведь те же, кто рядом мочился, могли назавтра настучать на работе…
Эти ветки с полуразмоченными осенним мелким дождем или даже первым колючим снежком цветками и красивые отполированные и раскрашенные палки тут же собирали дети, опасливо, стараясь не «вляпаться» после, по меткому выражению Пелагеи, «демосрантов», обходя кусты Чистопрудного бульвара.
Потом, с добычей, ребята убегали вновь на площадь, к Главпочтамту, где возле не работавшей до полудня станции метро шла бойкая и не очень организованная торговля всякой всячиной.
Городские продавщицы мороженого, кваса и «газводы» довольно быстро уходили, расторговавши свой, в общем-то, летний «прейскурант товаров», несмотря на холод.
И тогда наступала очередь других, немосковских и – незабвенных.
Безногий, на дощечке с четырьмя шарикоподшипниками вместо колес, ловко передвигая эту грохочущую по асфальту конструкцию двумя настоящими чугунными утюгами, торговал чудесными и таинственными «заморскими жителями»: в узкой, запаянной с обеих сторон стеклянной длинной колбочке, в глицериновом пузыре, вверх-вниз при разворотах, медленно плавал крошечный красный – или черный – стеклянный же чертик с белыми рожками и хвостиком, пропадая из виду в густых зарослях травы «подводного царства» по краям трубки.
Тетка с большой корзиной через локоть, в деревенском теплом платке, повязанном поверх яркого цветастого, прикрывающего весь ее лоб до самых глаз и подвернутого на висках «коробочкой», в новеньком, «к празднику», чистом сером ватнике, пахнувшем мышами и нафталином, топталась себе тихонько на углу в валенках и блестящих галошах, и вдруг звонко чем-то подсвистывала – заманивала, приоткрывая плетеную корзинкину крышку, глиняными пестрыми птичками-свистульками и деревянными, ярко-расписными лаковыми веселыми дудочками.
Бабулька, тоже в платочке, но в городском свежеперелицованном пальто с рыжей через плечо потрепанной лисой со стеклянными «чучельными» глазками, вся увешана стояла связками крашеных в разные цвета невесомо-легких крошечных корзиночек из лыка; по бокам, у самых ручек, квадратные корзиночки эти были украшены искусно сплетенными лыковыми же цветными розанчиками.
Худой и сильно, видать, подслеповатый малый в кепке-восьмиклинке с пуговкой призывно жужжал и щелкал, ловко наматывая белыми длинными пальцами на карандашные деревянные палочки с проточенной вверху по кругу широкой лункой и разматывая обратно, сургучные красные, синие и черные цилиндрики на веревочках. Такая непонятно чем, все-таки, шумящая трещотка в виде удочки с грузилом, в народе имела название не то «уди-уди», не то «уйди-уйди» – а то башку прошибу…
После ухода с бульвара милицейских вылезали невесть откуда, прохаживаясь как прогуливаясь вдоль сквера, но не ступая на околопочтамтовскую площадь, многочисленные и пестрые семьи цыган.
Цыганские женщины постарше, в атласных шалях с кистями, предлагали погадать «на веселую судьбу», а если потенциальная «клиентка» была без кавалера и отказывалась, но при этом неуверенно смотрела гадалке в лицо, та начинала пугать страшным, потом тянула за собой полусозревшую жертву в кусты за лавками и предъявляла ей ужасные доказательства будущих бед: но сначала просила, например, перекреститься и плюнуть на вытащенную из-под воротника самой цыганки блестящую новенькую иголку.
При этом рядом появлялась вдруг девочка лет десяти-двенадцати, и цыганка говорила:
– «А вот и дочь моя с нами – а божье дитя не даст соврать! Не бойся, милая! И верь мне! Помогу тебе во всем, красавица!»
Тут уж «красавица» неуверенно крестилась, потом плевала на иглу – и, о ужас! – блестящая иголка немедленно становилась ржавой!
Жертва гадания заметно бледнела и начинала дрожать губами…
«Ой, недоля твоя, девушка, недоля! Дай дальше посмотрю, что тебя ждет!» – и вот появлялось у цыганки в руках протянутое ей девочкой-помощницей сырое куриное яйцо.
«Мамаша» ловко завертывала его в обтерханный носовой платок, грозно восклицала:
– «Гляди, что увидишь!», тут же с треском раздавливала яйцо в платке – и на долю секунды раскрывала, а потом немедленно закрывала свою ладонь.
В желтой яркой середине сопливого яйца, среди скорлупок, показывался на мгновение огромный шевелящийся черный жук!
Старуха отбрасывала на землю мокрый этот платок и плевалась через левое плечо, девочка куда-то исчезала – не забыв подхватить и унести следы гадания, а клиентка, в полном ужасе и раздрае чувств, отдавала цыганке все свои накопленные специально к празднику скудные денежки из спрятанного во внутреннем кармане старенького пальтеца потертого кошелечка, чтобы «очиститься от недоли».
И получала взамен ржавую иглу с указанием зарыть ее в полночь под первой попавшейся березой…
А уличный праздник на бульваре продолжался…
Невзрослые цыганята-подростки бойко разносили веером растопыренные в грязных ладошках самодельные сладости, – и сами, украдкой от своих же старших, изредка эти сладости подлизывали: петушки и сердечки из жженого темно-рыжего сахара, насаженные на кривоватые и занозистые, если долизать до конца, щепочки-лучинки.
Молодые и пузатые, потому что вечно беременные, мамаши-цыганки с хорошенькими кучерявыми и черноглазыми младенчиками на руках, и при них худенькие девочки-няньки из тех, что постарше – с очень длинными и густыми распущенными волосами – торговали невесть из чего надутыми, раскрашенными масляной густой краской и гремящими внутри горохом «пузырями».
Мужчины-цыгане на Пруду попадались не часто – они шли, внимательно и остро позыркивая по сторонам и то и дело оглядываясь назад, да покуривали маленькие изогнутые трубочки и протягивали их вдруг некоторым, отдыхавшим на скамейках, уткнувшим руки в карманы, одиноким мужикам, с коротким вопросом: «Повеселишься, брат?»
Потом присаживались рядом, сначала просили денег. А затем протягивали дымную трубочку – давали разок затянуться, только из своих рук, трубочку при том не выпуская ни на миг, – да еще раскрывали вдруг перед носом курильщика колоду карт из нагрудного кармана, но не гадали, и играть в очко, или, понятнее, в «секу» – не предлагали. А карты перед носом клиента держали «рубашкой» – там, на крапе, в срамных позах, нарисованные наяды развлекались, кто с кем – или же с чем – умел…
И все поголовно боялись милиции.
Часть 19. По ходу дела…
Молодняк – и Кольку, виновника торжества, в том числе – просила Пелагея к столу не опаздывать и на улице всякими булочками, петушками слюнявыми цыганскими да ситром аппетита не перебивать!
В подготовке стола – а вернее, того, что на столе стоять должно было, – участие принимало почти все женское население квартиры, кроме самых старых да малых.
Мужчины – а их было не так уж и много – дружно перетаскивали из всех почти комнат в коридор и на кухню стулья и табуретки, а затем и столы.
Женщины всю принесенную к кухне немудрящую мебель протирали тряпками, а столы покрывали сначала обтерханными по углам до холстинной основы, толстыми и негнущимися клетчатыми клеенками, потом – чистыми, но «разномастными» скатерками, и уж затем сдвигали готовые столы «по росту» в один, растянутый «паровозиком».
Длинный этот «состав» формировался в виде двух букв «Т», как бы зеркально отражавшихся друг в друге вверху и внизу – точно дерево на берегу пруда. Или же как два гриба, уложенных в корзинку толстыми ножками друг к другу, а шляпками – врозь.
Одна часть столов расставлялась в широкой и очень просторной коммунальной кухне – «шляпкой» под широченным окном, «ножка» – тянулась вдоль обеих газовых плит и кухонной мебели до самой двери в коридор, где и прерывалась у выхода из кухни – чтобы можно было туда пройти.
Затем столы продолжали расставлять в широкой и просторной части коридора – бывшей овальной прихожей – и там уже «ножка» гриба была гораздо короче, чем в кухне, а «шляпка» – торцевой стол – почти упиралась в двери аж двух комнат, оставляя соседям лишь узенькую щелку для выхода – сразу «в гости».
Дыру в проходе между столами из кухни в коридор решено было потом, когда все рассядутся в кухонной части, закрыть, – положив сверху на края разъединенных столов снятую с петель дверь, как длинную узкую столешницу, обернутую вместо скатерти обычной простыней.
По разрешению Евгении Павловны Должанской, на кухню входить стало возможно через ее огромную, смежную с кухней, комнату, когда-то хозяйскую столовую – сквозь боковую, раскрытую на время, потайную дверь в стене – то есть, через бывший «раздаточный» проход для прислуги, хитро устроенный в виде завитка волны: прежде в квартире приготовленную пищу господам подавали не кухарки …
Между тем, в другом конце квартиры – в кладовке, – мужская часть соседского населения, а именно: хромой солдат дядя Паша снизу, а офицер-профессор Александреич сверху, стоя на шаткой стремянке, снимали со вбитых в стенки по самое некуда железных костылей широкие неструганые доски полупустых полок и с грохотом кидали их вниз, на старый паркетный пол пыльной, квадратной этой маленькой комнатки без окон, задуманной когда-то старорежимными архитекторами как гардеробная для всесезонного хранения верхней одежды и господских шуб.
Потом оба соседа, в едином рабочем порыве олицетворяя смычку трудового народа и советской интеллигенции, одинаково хекнув, дружно подхватывали и несли сразу все доски на своих плечах в узкий коридор.
Там, напротив кухни, они оборачивали шершавую сосновую поверхность недоделанных этих грубых полок коричневой широкой лентой плотной крафт-бумаги, рулон которой тайно стащил кто-то из населяющих коммуналку несознательных жильцов прямо с соседнего, типографского, двора, пока тамошние растяпы – «метранпажи» и присные с ними – отходили куда подальше покурить, что, кстати, им было категорически запрещено грозными трафаретными надписями на всех типографских стенах!
На концах досок оберточную бумагу закрепляли: дядя Паша подворачивал и приминал ударами мозолистых жестких ладоней острые и колкие бумажные углы на краях, а профессор, который, между прочим, «культурно работал» в старых лайковых перчатках, аккуратно обвязывал торцы тонкой бечевкой.
Обернутые доски клали по одной на сиденья каждых трех расставленных подалее друг от друга табуреток – и получались длинные скамейки.
На всех восьми конфорках обеих газовых плит дружно кипело и шкворчало праздничное «угощение»: щи с салом и курицей, вареная картошка, – и чищеная, и в мундире; котлеты – да не мелкие «магазинные, из отонков», а большие домашние, с тертым чесночком и даже с провернутым через мясорубку зеленым луком, специально выращенным у Должанских, в большущей кадке с ветвистой вечнозеленой пальмой, стоявшей в этой комнате, кажется, всегда – в углу у рояля, возле балкона.
На железных листах – по два «этажа» в каждой остывающей духовке, – ждали своего часа Полькины «пушистые» пироги.
* * *
И вот раздался длинный один звонок – общий – и в квартиру вплыла, сопровождаемая своим соседом Подольским, Мария Тыртова.
Оба несли по три, составленных друг на друга и накрытых сверху белыми льняными полотенцами, подноса – с посудой, со стаканами, с чашками.
Потом Подоля сбегал еще раз пять вниз, в свою квартиру, и принес множество кастрюль с готовыми закусками, кучу сумок с консервами и, наконец, занозистый тяжеленный ящик с вином и водкой.
Выложили закусь из кастрюлек на общие глубокие тарелки и блюда; раскрыли и прямо в жестяной «таре» поставили на столы банки с консервами; крупными ломтями нарезали черный хлеб, тонкими – белые батоны; расставили стаканчики и стаканы; положили ложки-вилки – всем, конечно, без столовых ножей.
Лишь для «хозяйской семьи» – бабушки-мадам Брандт, Елены Ивановны и Александра Андреевича, – а также для почетных гостей, да еще для провожаемого и обожаемого Николая Степановича – ну уж и для себя лично, а заодно, пусть и напрасно, но – как положено! – и для «нашей мамаши», Полины, – сервировала посадочные места в кухне за передним, основным, столом набором тарелок, приборами – в полном комплекте, с обязательным ножом справа, – а также фужерами – все «по-правильному» – Маша Тыртова.
В довершение «красоты» водружала она на чистые тарелки избранных – и, по ее мнению, «настоящих», гостей – фунтиками свернутые, как в «дорогих ресторанах», твердонакрахмаленные льняные салфетки, – а не ветхие обрывки хорошо выстиранных, но старых, кухонных полотенец, которые разложены были на каждом сиденье для «своих» людей: обыкновенных, привычных – и непривередливых.
Пелагея, насчитав аж три сервизных тарелки мал-мала-меньше в пирамидке на месте перед собой, а также обнаружив под обеими руками мельхиоровые тяжелые нож, вилку, маленькую вилочку и две ложки – столовую, да еще какую-то даже не чайную, а десертную – сразу от растерянности потребовала себе у Машки «ну хотя бы бокал заместо хрусталю!».
Мария сразу расстроилась, что пожалела и не захватила четыре богемских высоких бокала цветной огранки, – от отца еще оставшихся из прежней парадной дюжины …
Но Полька, тыча пальцем в милую сердцу огромную свою фаянсовую чайную чашку с толстой ручкой, увиденную вдруг на угловом столике с лишней посудой, заорала, радостно кивая Марии:
«Да вотон – он, бокал-то мой, а то к чему же еще эти лишние рюмки-то пачкать!» – и попыталась вернуть ошалевшей Марии свой нетронутый, тонкого стекла, фужер на длинной ножке…
* * *
Тут в дверь опять зазвонили, все с кухни закричали:
– «Открыто, открыто у нас, проходите!» – и стала вваливаться в квартиру шумная молодежь: сам сынок Николаша – и с ним еще куча друзей из его музыкального коллектива, представившихся Польке, весело смеясь, как «семеро козлят»!
А «Серым Волком» при них явился «самолично» почтить Колькины проводы в армию своим присутствием уважаемый и знаменитый заслуженный артист – заместитель руководителя и дирижер ансамбля песни и пляски Московского военного округа, – которого тотчас же Пелагея усадила на единственный «барский» резной дубовый стул с высокой, как у трона, спинкой, во главу стола, под широким кухонным окном.
– «Пелагея Васильевна, уважаемая, спасибо – я тут у Вас сразу, хоть и полковник, а почувствовал себя, как свадебный генерал!» – засмеялся тот.
Но вот пришли Колькины товарищи по работе на заводе, вместе с бессменным начальником механического цеха, Иван Иванычем, – которого тоже усадили в торец, под окно, рядом с «музыкальным генералом».
Оба начальника вежливо пожали друг другу руки и, покашляв для приличия, – что Пелагея восприняла мгновенно и правильно, тут же поднеся им на блюдечках по «величальной» стопке водочки с пирожком, – выпили «за знакомство» и вступили в интересный для обоих разговор об уходящем в армию воспитаннике.
Несмело начали подходить к кухне, заметно стесняясь, соседи по квартире.
Полька всех усаживала на заранее распределенные места, Мария сразу же подавала кому водочки с огурчиком соленым, кому винца – кто просил.
Молодых гостей – включая самых близких «местных» друганов и подружек Колькиного детства по родному двору – ну и, конечно же, «чужедворок»: Юлищу с Нинон – Веркину постоянную «свиту», – а также чуть более взрослых соседок: Лельку с Тамаркой – дочерей Насти и покойного Сипугашника, – рассадили в коридорной части.
Там же стоял уже в уголке, почти на взводе, на крепко сколоченной солидной с виду галошнице часовщика Виндлера – нового соседа из славного города … как бишь его? ну да ладно, все равно – короче, был не из здешних – новомодный патефон, с пластинками и запасом новеньких иголок, – который, опять же, был частной собственностью упомянутого выше товарища.
Самого Колю тоже усадили вместе с молодежью – возглавлять этот противоположный кухонному – коридорный – конец общего стола, поближе к друзьям.
А рядом с Николаем, за торцевым столиком, но с краю, на месте, где должна была бы сидеть сеструха Вера, пристроилась почему-то Маша Тыртова, которая объяснила всем сразу, – а больше, понятно, удивившейся Пелагее, ведь та, было, приготовила Марии почетное место рядом с собой – что отсюда ей будет сподручнее «хлопотать насчет стола».
Колька как-то недовольно поморщился, но – промолчал.
Тут в дверь квартиры народ потянулся с лестницы «косяком» – это подошла «делегация» от приглашенных соседей по дому.
С третьего этажа спустилась Авдеиха – купчиха, бывшая владелица, а ныне – просто «старшая» по восьмой квартире.
Авдеева пришла с ровесником Кольки – сыночком Вовой, которого во дворе все иначе, как «Сопа» не называли, потому что он не только сопел вечно забитым соплями носом, но еще и ругательное слово «ж. па» в детстве так, на «с», как «сОпа», и произносил…
Сопа был слегка не в себе, и потому – непризывной «белобилетник».
Колька все детство оставался единственным во дворе, кто не бил Вовика Авдеева и относился к нему по-человечески.
Вова резким движением обеих рук от впалой своей груди протянул другу тяжелый кожаный футляр на тонком ремешке – и уселся молча рядом с Колькой, никого не спрашивая, по другую сторону от той, где пристроилась на уголке Мария.
И сразу же тихо захлюпал носом, не то от вечного насморка, не то – от горя, что Коля – друг уходит так надолго – в какую-то гребаную армию…
А все – и Колька в том числе – уставились глазами на подарок – действительно, с барского плеча: на чудесный новенький фотоаппарат.
Некоторые ребята уже было запротягивали к нему руки – но Авдеиха вдруг властно взвизгнула:
– «Николай, отдай подарок матери! Потом открывать станешь! И не вздумай его в армию с собой забирать, понял?»
Коля лишь смущенно улыбнулся и сказал, почему-то обращаясь только к Вове:
– «Спасибо огромное, Володя, вот не ожидал – большое тебе спасибо!» – и передал подаренную вещь матери.
Пелагея сразу же пошла в комнату и быстро спрятала фотоаппарат в сундук, надежно заперев на висячий замок тяжкую дубовую крышку…
Пока Полька бегала туда-сюда, пришли гости «с чердака»: тихая согнутая в дугу маленькая старушка в белом платочке вела за ручку крошечную хорошенькую девочку трех с половиной лет – Викторию, свою внучку от «загинувшей» старшей дочери, племянницу Капитолины и крестницу Коли с Верой – верных соседей.
Девочку соседка Лидия Ивановна немедленно отвела в свою комнату, ставшую на время «детской» – к дочери Гале и детям Евгении Павловны, за маленький, но как у взрослых накрытый столик, и даже с «детским шампанским» – некрепким, в темной толстой бутылке с «ненашей» этикеткой, яблочным сидром, подаренным болгарским Галочкиным папой.
По-взрослому серьезно попросив пятилетнюю дочь «присмотреть за всеми гостями – а особенно за маленькой ВиктОрой» (ВиктОра – потому что Виктор – а не Викторий – так называла она по-белорусски соседскую эту девочку – и так стали звать ее потом все во дворе), – Лидия Ивановна спокойно вернулась в шумную взрослую компанию.
Бабушку Вики усадили за стол рядом с Настей Богатыревой – Настя до этого оживленно о чем-то беседовала с соседом Пашкой-Пантелеймоном, но тут сразу же отвернулась и замолчала, не глянув даже на старуху.
Нинка, жена Пантейлемона, которой очень не нравилось, что Настька весело и вполголоса – не слышно – значит, невесть про что! – трепалась с ее муженьком, согласно кивавшим все время в ответ, как болван какой, – потянулась через Пашку, упираясь в него всей своей огромной грудью, – не без значения! – и далее через Настю, протянув руку так, что почти задела соседку по носу, – поздороваться с Капкиной матерью.
Старуха покивала, «поручкалась», тихо улыбнулась и снова застыла.
А в коридоре встречали шумным радостным гудением ненаглядную Капитолину Романовну – да не в одинаре, а под руку с бравым капитаном-железнодорожником Петром Петровичем, глаз с нее не сводившим.
Парочку эту пригласили не к молодежи – а «в президиум, в президиум!» – отдав дань уважения погонам Капкиного жениха.
Их пару последней пропустили со стороны коридорного входа в кухню – и закрыли за ними накладной «столешницей» возможность выхода …
Зато создали еще места для гостей.
Петр, проходя сзади и мимо Капкиной матери, ласково тронул старуху за плечо, нагнулся к ней и что-то сказал, та кивнула ему благодарно – и прослезилась, сразу вытирая глаза длинными концами головного платка.
Капа, молча улыбаясь, пробиралась перед ним к двум свободным местам рядом с «генералом» – и мать свою как бы и не приметила.
И уже возле самого «генеральского трона» Петр Петрович нежно, но властной рукой, отстранил девушку на место между собой и Еленой Ивановной – усевшись сам сбоку от пожилого, но, видимо, все еще опасного соседа.
Тут, наконец, раздался «завершающий» аккорд – появилась румяная, веселая, – и – «Бесподобная сестра моя – Вера Степановна!» – как, вскочив, провозгласил во весь голос Николай, пока Маша стягивала с нее новенькое, глубокого синего цвета, модно расклешенное и недлинное, мягкое на ощупь пальто-«троакар», а потом принимала и в шутку напяливала себе на голову задом наперед Верину тоже синюю шляпку-таблетку с коротенькой сетчатой вуалеткой в черных «мушках».
На покупке к празднику этой Веркиной обновы решительно настояла Пелагея.
Но кто бы видел, в каком пальто ходила она сама…
Серый потертый барашек воротника и тоненький, сбившийся от старости ватин подкладки черного когда-то, дважды перекрашенного и сизого теперь длиннополого – и впрямь, «шушуна безсезонного», как шутила сама Полька – а по-другому и не обзовешь – не грели уж давно ни тело, ни, тем более, душу.
Коле плакать хотелось иногда от безысходности – и от нищеты их с Веркой матери.
И стыдно ему было за то, что сам он «пристроился» при Маше…
А тем временем Вера с привычным – спокойным и доброжелательным – удовлетворением окинула взглядом всех поразевавших вдруг рты на ее неземную красоту Колькиных приятелей, радостно кивнула «родным и близким» соседям, сделала далеко сидящим и незнакомым «патриархам» вежливый «книксен», громко сказала бабушке-мадам Брандт: «Гутен Таг, гнедиге Фрау Брандт!» – и подмигнула Капе с Петром Петровичем.
Тут пронеслось шквальное:
– «Вера, Верунчик, иди к нам! Мы сдвинемся!
– Верочка, садись рядом с нами – вот твое место!
– Красавица, не прогневайтесь – приглашаем к старикам! – а кто-то из “семерых козлят” и впрямь “закозлил”: схватил принесенную с собой классическую “испанскую” гитару и проиграл трижды туш!» – почему-то…
Колька счастливо хохотал, показывая всем на Веру, и вопил:
– «Эх-ма, знай наших!»
А Пелагея на это «Ма» громко, как могла, крикнула Вере:
– «Вера, сюда!» – и показала ей рукой на место справа от себя – то есть, рядом почти – да вот жаль только, что через угол стола! – с Колькиным начальником цеха Иваном Ивановичем – вдовцом, между прочим, и отдельная квартира у него; одно «но»: жил он в этой своей квартире не один, а с двумя сыновьями-подростками и со старухой-тещей, их бабкой, как успела выяснить Пелагея из рассказов сына Коли о своем замечательном начальнике.
А чем черт не шутит? А то вот чуть было Машку – чужую – сюда не пристроила!
Пелагея незаметно отщипнула от ломтя черного хлеба маленький кусочек корочки и положила его на самый уголок стола – на всякий пожарный, чтобы не было, не дай Бог, по примете, промеж начальником и Веркой семи лет без взаимности…
Вера изобразила в ответ на зычный материнский приказ умильную улыбку, на время исчезла в глубине коридора и появилась вновь – уже на кухне, неожиданно для многих вдруг как будто «просочившись сквозь стену» – и вызвав снова у молодых бешеный восторг и аплодисменты.
Похлопал одобрительно в ладоши и «музыкальный генерал-полковник», затем привстал галантно и, не забыв при этом крепкими костяными пальцами обхватить девушку за талию, пропустил ее, в обход Иван Иваныча, на свободное место рядом с Пелагеей, посетовав про себя, что «ранг не позволяет» устроиться рядом с Верой на простой деревянной лавке – да и геморрой, пожалуй, тоже…
Часть 20. Знамение
Как только Верочка уселась за стол, мужчины одновременно почти разлили по первой.
«Вступительное слово» предоставили не по чину, не по количеству наград и не по возрастному цензу, а по «старшинству знакомства с отбывающим на службу в ряды Советской Красной Армии призывником»: так велела Пелагея, ни с кем не советуясь, но «по справедливости».
Отец Верин и Колин, Степан Иванович «милицейский» – так и не пришел.
Вера ходила даже накануне в адресный стол – киоск «Мосгорсправка» у метро Кировская, напротив голубенького красивого здания Тургеневской библиотеки, мимо которой в полуметре от заляпанных грязью оконых стекол дома проходил кольцевой трамвай «А» – любимая и надежно курсирующая почти через весь Центр «Аннушка».
Хотела Вера написать отцу, по его новому местожительству, – телеграмму-молнию, что ли, выслать, как уведомление «явиться туда-то в такое-то время по случаю проводов сына в армию…»
Но тетка из справочного окошка выдала за мелкие деньги адрес… самой же Веры.
Поэтому сейчас, ровно из середины кухонной части сдвинутых столов, с заметным усилием, покряхтывая от боли в укороченной от старой раны ноге, опираясь рукой на мощное плечо супруги и тихонько позванивая скромным, но кавалерственным набором полной солдатской Славы, поднялся, уже заплакав, сосед дядя Паша.
Смог он сказать, и правда, только одно слово:
– «Сынок!» – и все.
Дядя Паша вытянул в Колькину сторону левую руку, в правой руке дрожала стопка, и потихоньку выплескивалась на скатерть до краев налитая прозрачная, как московская слеза, знаменитая русская водка.
На другом конце стола Колька, вставший одновременно с Пантелеймоном, немного подождал – и вдруг тоже сморщил лицо и залпом опрокинул себе в рот свою водку, не дождавшись после тяжкой паузы больше ни слова от любимого соседа, заменившего ему сейчас вот, при всем этом торжественном и церемонном собрании, родного отца.
Дядя Паша крякнул, глянув на Кольку, сказал еще одно слово, свое любимое:
– «Молодца!» – и выпил сам, потом махнул горестно рукой и уселся на место, продолжая сотрясаться в беззвучных рыданиях.
– «После первой – до второй – перерывчик – небольшой! Верно, товарищи?!» – спас положение Колькин начальник Иван Иванович, поднимаясь и одновременно наливая себе, потом оторопевшей и уставившейся абсолютно без слез в одну точку Пелагее и – сразу за этим – наполнив вином Верин фужер.
Заговорил начальственный Иван Иванович очень громким и решительным басовитым баритоном, привычным к умелой раздаче яростных звездюлей, прекрасно долетавших до всех глухих от рождения и аж приседавших по углам редких нерадивых работников в своем шумном заводском цеху.
– «Сядь, Николаша, и не надо, не вставай ты больше!
Друзья, давайте же все успокоимся и больше плакать не будем!
От радости разве что!
Или может, чуток еще кто захочет из женского полу всплакнуть, видя такого прекрасного жениха перед долгой разлукой – ну и пускай себе!
А мы же начнем, наконец, друзья, наш праздник! Великую Октябрьскую социалистическую революцию! и еще наше событие большое! достойно отмечать и праздновать – молодого новобранца на славную службу нашей Родине провожать! И давайте же, дорогие и уважаемые товарищи, вспомним слова нашей прекрасной и любимой песни:
– Выпьем за Родину, выпьем за Сталина – выпьем, – и снова нальем!»
И тут уже, после такой зажигательной речи, все действительно почувствовали, что вот он – праздник-то настоящий!
* * *
Закуски были замечательные, и много еще их оставалось на столе, когда выступил «музыкальный генерал».
Тут Коля все-таки опять поднялся с места, а с ним и все ребята из его ансамбля.
И пока товарищ главный военный музыкант рассказывал всем собравшимся, какой талант и самородок является соседом, другом, братом и, главное, сыном! для присутствующих здесь – то молодые парни успели построиться в коридорной части в два ряда, впереди себя выставили Колю, надели на него, туго подтянув лямки, «общественный» баян, затем с одного боку от Николая встал гитарист, – а с другого – худенький мальчик с мандолиной.
Вот начальник закончил свою речь, со смаком выпил, слегка подзакусил, полез целоваться с Пелагеей – а заодно уж и с ее дочерью, как-никак родной сестрой своего солиста – а потом поднял обе ладони вверх, призывая народ к тишине, и плавно взмахнул невесть откуда взявшейся, и впрямь как волшебной, – дирижерской палочкой.
И вот раскатами нежных, нарастающих звуков музыки и юных голосов, поначалу – почти речитативом, – началась дивная по красоте и простоте своей история про заглянувшего себе на беду раз по осени в партизанский виноградник и увидевшего там смуглую красавицу-модаванку влюбленного паренька…
Грянул мужской, отлично распевшийся, хор: запел дружно и звонко-едино про
– «Рас – куд – рявый клён зеленый, лист резной!» —и не выдержали обе подружки закадычные, сидевшие через стол почти напротив друг друга Капа и Верочка – одновременно взглянув друг на дружку, молча, – и оттеснив слегка дирижера в угол кухни, – выскочили под огромное кухонное окно, и стали, как заправские две красавицы цыганки-молдаванки, плясать, – изгибаясь до земли и одними только плечами и грудями молодыми-налитыми поводя, – под звенящий соловьиный и нежный голос Коли, под разливы волшебницы-мандолины, под вздохи баянных мехов и серебряные переборы старой испанской гитары…
Затихла музыка – встали, как вкопанные, на фоне рамы высокого, темного уже с улицы, окна, протянув картинно друг к другу тонкие красивые руки, обе девушки – опустил легкие ладони дирижер – и громыхнула несмолкаемая овация!
Все гости задвигались, некоторые даже вскочили со своих мест за столом, закричали:
– «Би-и-с!!! Бра-во! Еще, еще!!!»
Потом заскандировали в едином порыве, все разом, продолжая громко хлопать в ладоши:
– «Про-сим! Про-сим!»
А дружок Вован, тихий Сопа, – вдруг нестерпимо оглушительно свистнул в две руки – четыре пальца, – как будто голубей гоняя во дворе, на своей хлипкой голубятне!
Мамаша-Авдеиха не могла его достать из-за «господского» своего стола, чтобы дать сынку как следует по мозгам, а посему и поручила это дело Машке Тыртовой, показывая молча жестами, что той надо предпринять.
Маша была всегда понятливая, поэтому исполнила задание с полной отдачей, – треснула Вову от души по лысой макушке, приговаривая при этом:
– «Хочешь, дурак, все деньги мамкины просвистеть, бестолочь!» – ну а заодно уж и Подоле своему по уху заехала – на всякий случай, – потому как тот собрался, было, подвиг со свистом пересвистать, уж и пальцы грязные в рот потащил – да вдруг отдернул, дубина, башку свою стоеросовую…
Что тут было говорить – пел дальше будущий военнослужащий Николай Степанович без останова все, чему выучили его в родном краснознаменном ансамбле за эти годы…
А народ все требовал еще и еще!
Вот тут уж встала с места Пелагея – и разливать начали наваристые щи.
А потом раздали всем – певцам и не певцам – горячую картошку с котлетами.
Затем объявили перекур.
– «С дремотой!» – провозгласил уже сильно пьяненький дядя Паша – и пошел – пошел «мелким хромом», как только откинули, наконец-то, перемычку-столешницу для выхода в коридор – к себе в комнату «отдохнуть маленько!», сопровождаемый грузной супругой, почти тащившей его на себе.
По дороге он поймал Колю и крепко его расцеловал:
– «В уста твои сахарные! За голос твой золотой!» – и опять зарыдал, уткнувшись мокрым лицом в тети Нинину обширную грудь.
– «Иди – иди, чудище!
Вот разревелся-то, дуралей!
За весь день слОва сказать не смог!
Коля, не надо! Не помогай, сыночек, сама я его дотащу до кровати – он же легкий стал, как пушинка, ссохся весь!» – приговаривала соседка тетя Нина, идя со своей ношей по узкому коридору.
* * *
А потом, ближе к полночи, как уж догуляли, как замолкло радио, – оставили всех молодых ребят ночевать в комнате нового соседа-часовщика Ёськи Виндлера – так он сам себя просил их «зап-просто, а шо такэ?» называть.
Улеглись молодые мужики вповалку на полу, на расстеленных одеялах и матрасах, собранных со всей квартиры.
Погасили свет, перестали кряхтеть, сопеть и возиться, наступила тишина, кто-то сразу же захрапел – и Николай почувствовал, как в пространстве незнакомой этой соседской комнаты начала вдруг по-особому – и жутко – растворяться густая чуждая темнота.
Она уплотнялась с каждой секундой, но не в ней, не в осязаемой почти, как кусок шелка на лице, тяжелой этой темноте, а – прямо перед зажмуренными от пронзительного страха глазами, – вернее, в тончайшем промежутке замкнутого и близкого к бесконечному нулю, красным окрашенного, пространства между сомкнутыми веками и бешено крутящимися во тьме глазными яблоками – то есть, в глазах, но за веками, мигающими неестественно учащенно, точно в такт начинавшемуся задыханию, – возникла вдруг как живая – а может, впрямь и была живая – фигура сгорбленной в дугу тщедушной старухи в белых одеждах.
Старуха трясла головой, растопыривала над спиной тощие руки – как курица крылья, пытаясь не то взлететь, не то – поднять лицо, и, наверное, впериться глазами в того, кто так и не сумел заснуть, почуяв ее страшное присутствие в плотном воздухе.
Старая бабка эта не могла удержать на слабой шее голову прямо, она вертела ей в обе стороны и вниз, а из глаз шли синими конусами едва различимые лучи, шарившие по полу, по основанию стен, по углам и по пыльным плинтусам как морские прожектора по берегу в яркую лунную ночь.
Казалось, что свет больше никогда не проникнет в эту комнату за плотно занавешенные шторы, и что все спящие здесь вповалку больше не проснутся, а тот, кто сейчас бодрствует, будет этой старухиной тенью обнаружен – и…
В ночном гулком от пустоты коридоре раздался неожиданный до дикости телефонный трезвон – явный межгород, непрерывные звонки.
Кто-то из спящих на полу закашлял и привстал, нашаривая рукой обувь рядом с постелью, но не нашел и снова рухнул досыпать, заскрипев зубами и пристанывая.
Телефон надрывался в коридоре безрезультатно – и вдруг затих.
В это время старуха застыла на месте и тихо пропала, как будто вошла в некую невидимую – темнее темноты – дверь.
Николай пошевелиться не мог от ужаса, ледяной пот покрыл спину, и почти остановилось сердце.
Но вдруг стало ясно, что старухи больше нигде нет.
Николай вздохнул облегченно и тоже провалился в сон.
* * *
Когда зазвенел будильник, пришла Пелагея и стала тихонько трогать сына, чтобы разбудить только его – и не потревожить остальных.
Коля сразу открыл глаза и спросил совсем не сонным, а каким-то усталым голосом:
– «Мам, что-нибудь случилось? Кому звонили-то всю ночь по телефону?»
– «Да никому не звонили – праздник ведь, напились, небось, и просто попали не туда!
Вставай, сынок, собирайся, чайку попей – и иди с Богом, ребята – музыканты твои – тебя проводят, сейчас уж они на кухне завтракают!
Мы с Веркой не пойдем – что там, на улице, мерзнуть? Долгие проводы – лишние слезы. И пальто у меня холодное.
А мне болеть, сынок, никак нельзя! Задолжала я всем почти, – ну да ничего, расплатимся потихоньку как-нибудь.
Ступай, ступай, сыночек, иди умывайся, вещмешок ведь у тебя давно собран – ты уж прости меня, не обижайся зря!»
– «Мам, да что ты, конечно, все правильно, нечего вам с сестрой туда идти, я вот когда приеду, устроюсь, все в письме опишу подробно!
И вот еще, мам, что: ты, прошу я тебя очень, продай по-тихому Вовкин вчерашний фотоаппарат, скажи, мол, Коля с собой его увез – никого не спросил. А ты, мам, себе пальто, пожалуйста, купи! Прошу тебя, пожалуйста!»
Полька молча залилась слезами, низко нагнув голову, – и не сказала ничего.
Ни да, ни нет.
И ушел Николай из дома, ни с кем, кроме матери не попрощавшись, даже сестру не разбудив – чмокнул только ее в нос, спящую…
С ним вышли еще трое провожатых, и он тихонько прикрыл за собой тяжелую дверь сонной своей квартиры – и так и не узнал, что звонили ночью как раз ему: от друга Витьки, аж с самой Камчатки, дежурный врач из военного госпиталя, сказать, что лежит парень у них при смерти вторые сутки – и просил он всех слезно об одном: позвонить домой в Москву другу – Николаю и сказать ему только эти три слова:
СЮДА НЕ НАДО!!!
А когда все вчерашние оставшиеся ночевать гости и некоторые соседи собрались поздним утром снова на кухне – доедать «остатки-сладки», чаи погонять, а то и опохмелиться – выяснилось, что бабушка-мадам Брандт этой ночью тихо преставилась…
Часть 21. Город не принял…
– «Вера, вот твой билет в Ленинград, на завтра, на вечер; и примерно в то же самое время, через вечер, послезавтра, ты уже будешь там, на Московском вокзале, – и я тебя встречу. Когда выйдешь из вагона, стой прямо на перроне, никуда не уходи, слышишь?» – хозяйским тоном, но с улыбкой, распоряжался курсант Николай Андреевич.
Вера слушала и не слышала – а просто любовалась им: такой он стоял перед ней ловкий, подтянутый – ни единой складочки лишней на форме, гладко выбритый, невероятно худой, немного еще – и был бы совсем не виден в профиль, а чуб свой длинный, косо уходящий на очень коротко подстриженную макушку, подбрасывал Николай то и дело, гордо вскидывая голову – ну как есть настоящая Белокурая Бестия.
– «Верочка, ты все поняла?» – пытливо всматриваясь в рассеянное какое-то, уклоняющееся от прямого взгляда лицо подруги, Николай обеими руками взял Веру за плечи, прижал к себе крепко-крепко, но не поцеловал – с сожалением оторвался от все кивающей согласно Верочки, поправил фуражку, весело полыхнул синим пламенем огромных глаз из-под козырька, потом вскочил на высоко отстоявшую от края платформы подножку, какое-то время постоял еще на верхней ступеньке рядом с проводником – и нырнул вглубь вагона.
Медленно, но верно набирая скорость, дымящий паровоз сдвинул разом, с жутким скрежетом, все вагоны отходившего с московского Ленинградского вокзала поезда в северную сторону – и Вера осталась одна.
И сразу же стало ей ужасно грустно, просто тоскливо даже…
Но грусть ее долгой быть не имела права – ведь уже завтра вечером – вдогонку Николаю – и сама она поедет в славный город Ленинград – а если по – московски, так в Питер, – но, конечно же, не на давно уже прошедший «Октябрьский парад», а на встречу Нового года и, соответственно, – что и было, в общем-то, главным поводом, – на празднование двадцатитрехлетия своего любимого «Николая Второго», – как называла его Вера, но только про себя и при подругах, – которого угораздило родиться точно в ночь на первое января.
Николай Андреевич не смог «поприсутствовать» на проводах в армию «Николая Первого» на ноябрьские праздники по уважительной причине – не дали увольнительной.
Зато сейчас разрешили ему «по делам службы» оформить командировку в родной город – «в Санктъ-Петербургъ», как до сих пор еще писала ему на редких поздравительных открытках в «адресе отправителя» старая – «из бывших» – хозяйка его ленинградо-питерской коммуналки Елизавета Ермолаевна Владимирская, по бывшему мужу – Радзиевская.
Вручая эти открытки с краткими, но все-таки старомодно-витиеватыми поздравлениями и неизменными пожеланиями «доброго здравия и процветания» от «ЛизОчка» – так все в квартире звали чудаковатую старуху – «товарищи с почты» и младшие командиры постоянно внушали Николаю Андреевичу, чтобы он «прекратил это безобразие с обратным адресом и довел до сведения пишущей правильное современное написание!».
– «То есть, без твердых знаков, что ли?» – так и подмывало спросить у компетентных товарищей.
Николай представлял себе, не умея сдержать улыбку, выражение лица ЛизОчка: когда кто-нибудь «делал замечания в ее адрес», она смотрела на него точно так, как на выползшего вдруг среди бела дня на стену отвратительно надутого людской кровью огромного клопа – и как она, обожаемая его Лизочек, начнет после этого испепеляющего и навсегда отработанного по технике и продолжительности взгляда, часто-часто обмахивать лицо своим древним и непременным костяным веером с изрядно потускневшими, но все еще прекрасными, изображавшими светскую жизнь нежных маркиз и пастушкОв, расписными ветхими пластинами, правда, невосполнимо утерянными уже во многих местах…
А потом старуха величественно развернется и уйдет «прочь!», выкинув изящно вперед и вверх кисть правой руки и запев глубоким и сильным контральто заученную ею еще в далеком дореволюционном детстве фортепианную пьеску про себя: «Мой Лизочек так уж мал, так уж мал!..»
Николай Андреевич всем существованием и воспитанием своим обязан был Лизку – любимейшей соседке и тайной его крестной матери.
Он назвал ее, как умел, – как только научился говорить – «Крёня», как-то услышав от своей родной и единственной тетушки Инны Антоновны, сестры отца, взявшей его на воспитание и заменившей ему умерших родителей, что, оказывается, «баба Лиза – его крестная!»
И этой своей много раз повторяемой «Крёней» едва и впрямь не «подвел под монастырь» Елизавету Ермолаевну, торжественно-женственную и импозантную, как настоящая «императрикс Елисафет Петровна».
А говорить Коля начал – может, заново – или и вовсе впервые? – только в восемь своих лет.
Мать, отец и двое младших братьев Николая умерли от голода в старинном немецком поселении в Саратовской области в период рассвета – то есть в самый разгар – коллективизации.
Приехавшая из Ленинграда хоть как-то помочь Инна, младшая сестра отца, опоздала – и забрала с собой в город единственного уцелевшего и все время молчащего – видимо, глухонемого, – старшего племянника – пяти или шести лет, тетка Инна Антоновна помнила только, что родился он на Новый – но не то 26, не то 27-й – год, как сообщал ей тогда брат, Андрей Антонович, в поздравлении с Рождеством…
А дальше по жизни ребенок был просто передан спасшей его родной теткой на руки ее соседям.
Главной «сиделицей» с этим ангельского вида немым мальчиком стала Лизок.
* * *
Судьба Елизаветы Ермолаевны, дочери небогатого, но весьма зажиточного столичного акцизного чиновника и потомственной, – правда, третьей гильдии, – купчихи, «из бывших крепостных крестьян» из петербургского пригорода Колпино, забросила ее с родителями, благодаря служебному положению отца – в самом начале юности девушки – и в самом конце переломного девятнадцатого века, – в Польшу, в Варшаву, как оказалось, на долгие годы…
В тамошней гимназии отличница-Лизок вскоре обрела близкую подругу, очень начитанную, трепетную, но вместе с тем решительную девушку, чей старший брат и все его друзья ненавидели «вшистко российское и пшкелентое», то есть, все русское и проклятое, и поначалу, когда Елизавета – девушка, только что прибывшая из столицы Великорусской Империи – прямо из центра угнетения бедных поляков, – впервые пришла в гости к новой знакомой, ее избегали все, кроме старого и вдового отца варшавской подруги.
Но со временем, узнав смешливую и весьма неглупую петербурженку поближе, а также поняв, что Елизавета никоим образом не соответствует определениям «враг» или, хуже того, «предатель», молодые люди из едва знакомой, но уже прекрасной по произведенному первому впечатлению польской столицы если и не приняли Лизка полностью в свой круг, а может, даже и «кружок», то во всяком случае постарались использовать ее в своих благородных целях, «нещадно эксплуатируя» при этом связи и возможности ее родителей.
На свою беду Лизу угораздило страстно влюбиться в брата подруги.
А тот, как назло, оказался невменяемым аскетом и борцом за идею.
К тому же в дальнейшем выяснилось, что идейность его имела крепкие корни.
А вернее, один – но самый крепкий – потому что брат был тайно связан любовью со своим главным и великим идеологом, – проживавшим, однако, безвыездно в Париже.
И Лизку не скоро еще удалось бы избавиться от своих – увы, уже стародевических – заблуждений и порывов оказания бескорыстной «помощи народу» благодаря родительским деньгам, если бы не эта трагическая информация.
В очередной раз вернувшись из поездки в Париж, брат подруги первой в своем доме встретил Лизу, которая так трогательно-просяще и радостно-возбужденно вскинулась при виде своего кумира, что тот не выдержал, бросил вещи в прихожей, схватил Лизу за руки и потащил в свою комнату.
А там признался ей, как он несчастен, – потому что любовь его осталась на сей «заезд» к французам безответной – боготворимый им гений передовой польской мысли элементарно переключился на одну путешествующую в одиночестве и весьма состоятельную американку, женился и тут же отбыл с ней за океан…
Лизок была не просто потрясена – она чувствовала себя дважды преданной.
Изменник не только растоптал ее чувство – он коварно и изуверски-примитивно опошлил ее отношение к жизни и к тому романтическому флеру в ней, о чем обычно повествовали, закатив в полном экстазе глаза, все ее подруги – и к той непостижимой умом тайне, что происходила в идиллических сладких романах про любовь между мужчиной и женщиной.
Всяческие сношения с семейством подруги были Лизком решительно прерваны.
Подруга плакала и не понимала, в чем дело.
Ее старый отец нанес визит родителям Елизаветы в надежде узнать, что же произошло между девушками и почему его дочь постоянно впадает в слезы, когда он спрашивает, где же Элиза и почему она так долго к ним не приходит…
Родители и сами оставались в недоумении. Лиза же молчала, как кремень, и даже ни разу не всплакнула.
Между тем, коварный обманщик отбыл в Англию и исчез, казалось, навсегда.
Лизок играла матери на фортепиано, читала запоем все попадавшиеся под руку книги, ездила каждый сезон то в Италию учиться рисовать акварелью, то на успокоительные воды в Карлсруэ, то на остзейские пляжи.
Она скучала – и начинала заметно округляться и стареть…
Почти накануне войны, ставшей сразу же мировой, отца Лизочка в награду за двадцатипятилетний срок его «беспорочной службы на государственной ниве» перевели снова на Неву же – в Петербург.
Но вернулась семья, как оказалось, уже в Петроград.
И более никто никуда оттуда выезжать «на старости лет» и не собирался – если бы не тяжелая и неудачная война, Революция и последующие события, которые превратили затем город «и вовсе в Ленинград».
Пожилых родителей Лизка поначалу никто и при новой власти не трогал – отец как работал средней руки чиновником, так и продолжил свою деятельность в схожем по назначению новообразованном Комиссариате, а мать не работала никогда, но и происхождение ее низменно-купеческое, на крестьянской основе, никому пока не мешало.
Сама же Лизок перешагнула уже рубеж тридцатипятилетия, и, охваченная тоской больших потерь, как-то вдруг поняла, что спасение от собственного ужаса надо находить в оказании помощи тем, кто находился в еще более ужасном состоянии.
И Елизавета Ермолаевна – не без протекции, впрочем, старенького папаши – устроилась преподавательницей в ликбез – и стала получать продуктовый паек в Петроградском филиале Народного комиссариата просвещения по Подотделу ликвидации безграмотности.
Там она и услышала случайно, через третьих лиц, что в Москве, где-то чуть ли не в самом Кремле, жив-здоров и трудится на благо молодого советского государства некий товарищ Радзиевский – брат ее польской подруги, давно исчезнувшей к тому времени в волнах разгулявшейся по миру смерти – Он, Тот самый, несостоявшийся «в плане личной жизни» Елизаветы.
Тогда Лизок, все еще не оставлявшая крамольных мыслей увидеть, поговорить – и, может быть, даже попытаться обратить на путь истинный простых междучеловеческих отношений свою единственную и безнадежную варшавскую «пассию» – стала добиваться поездки в Москву – в Центр, в Наркомпрос на каких-то Чистых Прудах, – наверное, даль какая-нибудь от нужного позарез Кремля – на внеочередной слет работников просвещения, по призыву самой Надежды Константиновны!
Упорная Елизавета Ермолаевна добилась невероятного успеха, намного превышающего по значимости то, чего ей хотелось.
Она не только разыскала прежнего своего кумира молодости, – одинокого, не очень удачливого в жизни и так и не добывшего себе настоящего положения «в товарищах» – но и, неожиданно для себя, сделала ему предложение руки и сердца – на абсолютно бескорыстной основе, просто, чтобы увести его из жуткой и ставшей вдруг, с ее точки зрения, какой-то «местечковой» новой столицы – Москвы «товарищей».
И Лизок вышла замуж – неожиданно и сразу получив полное и радостное согласие пана-гражданина Радзиевского.
Они в тот же день «записались» в ближайшем от служебной квартиры жениха ЗАГСе и вскоре, после получения свежеиспеченным супругом нового назначения, переехали жить в Питер.
Родители Лизочка были приятно удивлены и сообщив, что они «весьма и всячески рады приветствовать такое ваше решение, милые дети», – потеснились в своей, давно отданной на принудительный постой чужим людям, квартире – собственно, даже и не потеснились – у Лизка была своя спаленка, отдельная от родителей, вот в ней-то и стали жить молодожены.
Причем, спать они стали тоже в одной постели – и как-то раз глубокой ночью Лизок, в сорок с лишним лет – нет, невозможно рассказать, ну кто поймет – не то, чтобы «потеряла девственность» или же «стала женщиной» – лучше сказать, ее законный муж вступил с ней в некие – какие же все-таки? – чисто физиологические взаимоотношения, которые при большой натяжке может, и можно было бы назвать «половыми» – если бы не трещина в заднем проходе…
Это была первая и последняя попытка их «телесной» близости.
Когда в самом начале тридцатых умерли родители – друг за другом, тихо и незаметно, как и жили – так и не «тронутые» ленинградскими властями, Лизок все же решительно настояла на разводе с мужем, вернув себе вновь – и слава Богу! – фамилию отца и прописавшись сама в освободившуюся после смерти матери комнатку, а мужу «оставив» прежнюю свою спаленку.
А далее судьба уже бывшего мужа ЛизОчка самым тесным образом переплелась с событиями по случаю убийства тов. Кирова – и гражданин Радзиевский исчез, к сожалению, окончательно и бесповоротно – видимо, даже, с лица земли…
В спаленку немедленно после этого исчезновения заселили некую военизированной внешности … нет, пожалуй, все-таки даму, а не гражданку – Инну Антоновну, совслужащую средних лет и довольно высокого, судя по всему, ранга.
А потом она привезла откуда-то из-под Саратова чудесного – тихого, беленького и голубоглазого, но очень худенького – кожа да кости – одни глаза на личике – мальчика, как выяснилось, ее родного племянника, усыновила его официально – и прописала к себе в комнатку.
В силу непрерывной своей занятости, Инна намеревалась отдать мальчика не в школу даже, а в интернат – но ни в школу, а тем более, в интернат Николаю на первых порах своей новой спасенной жизни ходить не привелось – из-за постоянных, друг за другом следовавших болезней ребенка, поэтому и сидеть с ним, и заниматься по необходимой школьной программе стала пенсионерка Елизавета Ермолаевна, сама, без всяких просьб и обращений к ней со стороны соседки Инны Антоновны.
Зато, если бы не Инночка, то пришлось бы и Елизавете, и воспитаннику ее Николаю Андреевичу тихо помирать в блокадном Ленинграде.
Только благодаря усилиям Инны старуху и подростка эвакуировали в Ташкент.
Сама же Инна Антоновна уехала со своим учреждением в никому не известном направлении – и письма ей надо было писать почему-то на московский «почтовый ящик» до самого почти окончания войны.
После снятия блокады все эвакуированные стали потихоньку возвращаться в пустой и полумертвый свой город, в старые квартиры.
Вернулась сразу же после Победы к своим пенатам и Лизок, зажила тихонько дальше.
Лизок мечтала – и передала свою мечту воспитаннику – чтобы Николай стал морским офицером.
Она пробовала даже хлопотать насчет Нахимовского училища – но там отказали, без объяснения причин.
Себе и Коле старуха объясняла это «неудачными медицинскими показателями».
Инна Антоновна в такие объяснения не верила – но в подробности не вдавалась.
Вернулась Елизавета из эвакуации одна – потому что Колю призвали в армию прямо из Ташкента – в апреле 1945.
На Западный Фронт Николай Андреевич попасть не успел.
Но в августе 45-го их едва обученный призыв погнали на Дальний Восток – добивать японцев.
Николай был там ранен – легко, в руку, попал в госпиталь, а из госпиталя некоторых – и очень немногих – из выздоравливавших молодых бойцов из Москвы, Ленинграда и республиканских столиц, а именно тех, кто успел получить законченное среднее образование, перевели, с зачетом срока службы в действующей армии, после многократных собеседований и проверок, на обучение в военные училища и даже академии.
Моряков было, к сожалению, не надо – а вот военных инженеров стране не хватало.
Николай хотел строить мосты – над водой, такие, как те, которые полюбил он с самого своего спасения теткой, когда она впервые показала ему, онемевшему, сказочный и туманный город возле холодного, но прекрасного по завораживающему запаху, моря.
* * *
Предстоящая завтра поездка в знакомый только по рассказам город – когда-то давно возникшую на болотах прежнюю столицу Российской Империи – Петербург, и прославленный недавней войной Ленинград, – выстоявший в фашистскую блокаду: страшную, нечеловеческую, обрушившую на жителей смерть от голода, холода, болезней и непосильной работы; в блокаду, принесшую неизбывное горе всем советским людям, русским и нерусским, – воевали-то все без исключения за свою единую, для всех родную, страну – Веру эта поездка очень волновала и даже пугала немного.
Вера никуда еще не уезжала из своего московского дома дальше маленького городишки Чернь – нет, не города даже, а просто поселка городского типа в Тульской области.
Южная железная дорога направления Москва-Симферополь, по которой Вера в конце войны едва добралась до родной деревни ее матери Пелагеи, чтобы там спастись от гибели и голода, начиналась Курским вокзалом – который так и выглядел, как настоящие московские неприглядные ворота – на Юг.
Задворки и закоулки этого вокзала, оббеганные по тысяче раз дворовыми ребятами – Веркиными ровесниками – то есть, и казаками, и разбойниками единовременно – да и сам Курский вокзал, с нарисованными на его серых стенках мелом и полустершимися уже от дождя и снега «летними» стрелками направлений, куда бежать дальше в поисках повсюду затаившихся внутренних врагов, – все то тихое и гулкое, с детства знакомое «архитектурное сооружение» в конце дворового пространства казалось Вере гораздо ближе и родней этой шумной и оголтелой от приезжего народа площади Трех вокзалов, на которую сейчас, проводив Николая, ей надо было выйти, чтобы попасть в метро.
Вот виден стал Вере вокзал Ярославский – пряником печатным из пушкинской «Сказки о Рыбаке и Рыбке», которым заедала что-то – а главное, и так несладкую жизнь своего старика – глупая и жадная старуха.
А украшен был этот фигурный пряник вкусной розовой земляничиной поверху фасада.
Звал вокзал Ярославский уехать в былинные места древней Руси, где чахнет над златом Царь Кощей, и где до сих пор пахнет русским духом из сырого темного бора, в котором спряталась избушка на курьих ножках – к лесу задом, к Москве, наверняка, передом…
На противоположной стороне площади вокзал Казанский чудесным Золотым Петушком до сих пор дразнил ордынскую татарву, полоненную навеки, и если поехать, куда вели стальные рельсы, то можно было еще увидать, как там, в той широкой и вольной степной стороне, бросал в волны озлившейся стареющей красавицы-Волги неудачник и гуляка запойный Стенька Разин персиянскую княжну али шемаханскую царицу – один черт, испугала эта девка красотой своей восточной неописуемой великую – и возревновавшую до буйства Матушку.
А точеный, строгий и холодный – тихо презирающий суетливую Москву, к самому Святому Петру – Ключнику небесных ворот устремленный, высокий и колко-острый, нерусский шпиль вокзала Ленинградского вызывал в Верочке всегда, с самого детства, одни и те же чувства – немого благоговения и восторга.
И все рассказы тех, кто побывал, или даже когда-то жил в этом незнакомом Ленинграде – тихом Петербурге – слушала Вера с восхищением и замиранием сердца, тайно ощущая, что всё там: и реку, и каналы, и дворцы, и мосты, и сады, – и даже белые, почему-то всегда беззвездные и как морок обволакивающие душу незнакомца, ночи – Вера уже как будто бы видела однажды, давным-давно ощутила как свое – и привнесла все это, немного измененное с виду, в момент своего рождения – вместе с собой – в Москву.
Обе Площади – и Красная, и Дворцовая, обе реки – Москва и Нева, оба Сада – Летний и Нескучный, нравились Вере потом всегда одинаково.
А пока старое как мир выражение «Увидеть Париж – и умереть!» казалось Верочке абсолютно верным по отношению к Ленинграду. Только ей хотелось увидеть Город на Неве и остаться там – жить.
По московскому радио часто транслировали передачи с рассказами о блокаде, о разрушениях в Ленинграде – но и так же нередко передавали удивительного, чистого звучания, живую – с приглушенным покашливанием слушателей, с едва уловимым скрипом деревянных откидных сидений – прекрасную музыку прямых трансляций из концертных залов ожившей Северной Столицы.
Передача «По музеям Ленинграда» – об Эрмитаже, о Русском Музее, о ходе непрекращающихся реставрационных работ во всех почти пригородных дворцах, а особенно – в Детском Селе, в Петергофе и в Гатчине – Веру просто завораживали.
И стало для нее новым – но уже любимым – название незнакомого морского форта: Кронштадт, – где Николай Андреевич – её Николай Второй – будет проходить практику перед окончанием училища.
Коля станет после этого настоящим военным инженером – мостостроителем.
А где у нас больше всего разрушенных войной мостов? Вот и распределение Николай должен получить в Ленинград.
И Вера – если завтра, нет, вернее, послезавтра – если она сумеет понравиться строгой, а судя по фотографии – так даже суровой – и некрасивой пожилой женщине с умным и недобрым взглядом – Инне Антоновне, тетке Николая по отцовской линии, – тогда Николай и Вера со спокойной совестью смогут расписаться и даже остаться «на первое время» у нее, у Инны Антоновны, пожить в ее комнате, в коммуналке где-то на Лиговском.
И все же Веру напрягала как-то эта недавняя «студийная» фотография Николая Андреевича с Инной Антоновной: красавец-племянник трогательно наклонялся с высоты своего роста к неестественно-прямо сидящей на венском стуле тетушке.
Николай был в парадной форме, Инна Антоновна – в строгом твидовом полумужского покроя темном костюме с сильно подбитыми ватой квадратными плечиками.
Узкий и недобрый «бантик» плотно сжатых губ был явственно увеличен в контурах темным силуэтом помады.
Тетка работала в каком-то строго засекреченном учреждении, связанном со строительством кораблей.
Часто и надолго уезжала в командировки на Камчатку и Сахалин.
В Ленинграде на работу ее увозил по понедельникам шофер на военном лизинговом стильном «Иван-Виллисе», с новым и непривычно-странно звучавшим названием – не то «Джамп», не то еще как-то похоже.
Домой приезжала тетя Инна только субботними вечерами, – сама добиралась на электричке и на метро; в воскресенье она обычно отсыпалась и убиралась в квартире и в комнате, и потом снова ее увозили на работу.
Ключи тетя оставляла у пожилой соседки Елизаветы Ермолаевны, а если и та куда-то вдруг уезжала – очень редко, в основном, только на Пасху – на кладбище к родителям, да еще иногда летом в Гатчину – на дачу к старому ученику, он сам приезжал к ней – своим ходом, брал под руку и выводил на улицу, там ждало их такси «до места» – то Елизавета передавала тогда Иннины ключи старухе-соседке из квартиры напротив.
Эту старушку из соседской квартиры звали Ксения Ивановна, но прозвище у нее было «Петербуржская» – без «Ксении».
Была она шибко богомольная и порядком не в себе.
Постоянно ходила к местам поклонения настоящей святой Ксении Петербургской, специально собирая вокруг себя «всех желающих» – за небольшие деньги «на бумажки и свечечки».
Женщины, что приходили к бабе Ксюше, были разные, и некоторые жаловались потом на старуху, – если их просьбы и молитвы почему-то оставались без последствий, и помощи с неба им оказано не было – прямо в милицию…
Бабку забирали, давали пятнадцать суток, как за хулиганство, – и снова отпускали.
С Богом.
Все это обстоятельно рассказал Вере перед своим отъездом домой Николай Андреевич – на тот случай, если вдруг никого не окажется дома, то ключи от комнаты могут быть именно у какой-то из этих двух соседок.
* * *
Всю дорогу в поезде Вера глаз не сомкнула – и простояла в тамбуре, где можно было покурить, не отрываясь от окна даже в темноте – до чего же было интересно и здорово!
Вере купил Николай плацкартный билет на нижнюю полку, слава тебе Господи, хоть ноги задирать не пришлось.
Одно только «ужасно огорчительное расстройство» вызвал у Верочки тот факт, что порвались вдруг в дороге на обоих мысках в стареньких туфлях новые, ни разу еще не надеванные шелковые чулки – а других «выходных» у Веры и не было, а простые она надевать «в гости» не захотела…
Денег и так особо не было – поэтому чай Вера пила только один раз.
А еще и потому, что стеснялась часто в туалет заглядывать. Лучше уж никаких чаев или кипятка в дороге – и так народу полно.
Наконец, поезд запыхтел и остановился на темной, как и сама декабрьская ночь, платформе.
Верочка вышла и радостно огляделась. Как учил Николай, осталась стоять на платформе возле вагона именно там, только чуть впереди, где и сошла с подножки.
После того, как поезд, постояв что-то около часа, отъехал от платформы, Вере стало очень зябко – и страшно так, что зубы застучали.
Николай так и не появился.
Часть 22. Преодоление
Колющий продрогшие на перроне лицо, руки, ноги, особенно коленки, ледяной столбняк таял и болезненно-медленно отпускал тело в теплом здании Московского вокзала славного города Ленинграда.
Здесь, в этом городе и на этом его главном вокзале работал, слава Богу, и туалет и буфет – два самых важных заведения в жизни любого странника в ночи, – если он, конечно, не совсем еще дозрел до вольного звания «калики перехожего», а потому совершал перемещение своих «порток на другой гвоздок» на паровозе, а не пешим ходом…
Стакан вовсе почему-то не спитОго, а крепкого и сладкого чая – и даже с толстым кружком лимона, не отнявшего совсем, а лишь облагородившего цвет напитка в тяжком мельхиоровом подстаканнике – и тонюсенький – «культурный» – бутерброд с сыром показались Верочке райским спасением.
Таким же неожиданным для нее спасением в попытках осуществить заветную мечту – и съездить в Ленинград к другу Николаю на свидание – и с ним, и с городом, о котором он мог рассказывать часами, самой увидеть, наконец, белые ночи и чудесные музеи, прокатиться на гудящем и дымном пароходике по незнакомой Неве и по морскому заливу – да вот только денег не было совсем, ни гроша – и вдруг «алтын»! – стала неожиданная встреча с дядькой своим, который ее и брата вынянчил – с Семеном Ивановичем из тамбовской деревни – родины Верочкиного отца: «гуляшшего кота» Степы.
* * *
Отец про Колины проводы в армию прослышал от случайно повстречавшейся с ним до этого на Чистых Прудах Нины – жены Пантелеймона, но сам все равно не явился, а прислал вместо себя младшего своего брата Семена – которого он недавно «вызвал» в Москву и устроил по «острому лимиту» работать в милицию постовым.
Семен сразу же получил заранее забронированное место в милицейском общежитии, ни дня не поночевав в новой семье своего «беспутного» брата.
Работа захватила Семушку полностью и целиком, а в оборот их всех, деревенщину колхозную необученную, взяли с места в карьер – сначала, в первую голову, прям на вокзале, построили кое – как и спросили, кто умеет «ходить за лошадями» – и Семен, как это ни странно – один! – радостно шагнул вперед.
Лошадей Семен Иванович не только любил и уважал, – он понимал их, а главное, умел их лечить. В мать пошел, наверное.
Матушка его, урожденная Кирбитова, бабка Веры по отцовской линии – и тоже Пелагея, как и Верина мать, – была дочерью купчишки мелкого сельского, умела «зубы заговаривать» – нашептывала что-то – и у любого болящего из деревни снимала этим шептанием своим запросто – и на длительное время – зубную боль и маяту.
Отец у Семушки и у старшенького Степушки – не люб оказался тестю своему – купчишке скопидомному – ну никак.
Потому что: «Больно уж вольно дышать хотел!» – приговаривал старик.
Тестюшка потом как прозвал его, так и осталось с тех пор за зятем это семейное прозвище – «Иванушка-дурачок».
Был их папашка родный Ваня «офеней» – простым разносчиком товаров разных мелких – и ненужных, но для баб да для девок сельских привлекательных, ходил по деревням со своим лотком на шее, выставлял товар прямо у церквей или на базарных площадях.
Инда и в шею гоняли, особо от соборов богатых.
И на дорогах, размоченных дождем до масла – хорош был и мягок чернозем Тамбовщины! – грабили его не раз и слава Богу, что не вовсе убивали, а только били почем зря да товар с лотком отымали.
А Ванюша как оклемается – так все и посмеивается, дурачок.
Видать, мозги-то последние отшибло ему, а так что рот-то растягивать без толку?
Умный бы был – жил бы в городу, уж давно по делу своему торговому в выученики к какому-нибудь купцу богатому пошел, в ножки бы бухнулся за науку – за подсказку, как людей половчее обманывать да обсчитывать.
А как же?
Не обманешь – не продашь! Таков закон древний с изначалу века.
Брал Ваня у будущего своего тестя «мелкими кучками», да под залог, на продажу «вразнос», товар не шибко-то ходовой: гребенки, платки. Бисер рассыпной; яйца и ложки деревянные расписные; вручную девками зимними долгими вечерами на посиделках расшитые тем же бисером покупным кисеты – уже, однако, и с махорочкой в кулечке малом газетном внутрях.
Газетки-то обрывочки тоже можно было немедля, сразу в ход пускать – сворачивать из них «козью ножку», да и закуривать!
А чтобы прикурить-то самому – вот тут же тебе и кремень, и трут, аль кресало.
А хошь – и вовсе спичек «самовспыльных» коробок купи-тка – чиркнул раз об сухую подметку – «вона и зажглася!»
И дешево – и сердито, то бишь весело – все удобственные вещи сразу на лотке на шее у парня – перед прохожими! Только знай, налетай да раскошеливайся, народ!
А сам-то нет-нет, да и поглядывай, как смеркаться начнет – чтобы успеть до надежного дому, где точно не обворуют, да еще и накормят-напоят, иной раз и задарма – потому и любил Ваня ночевать по пути своему веселому у молодых солдаток или вдовиц – вот красота!
Потом приходил в дом «поставленника» своего – Кирбитова-купца, отдавал ему денежку с проданного, себе лишь на неделю веселой жизни – да на рубашонку новую приобресть – оставалось, тут же брал у того же Кирбитова ткани на рубаху, расплачивался, остаток «чистый» денежек – на гульбу – в малый кошелечек за пазуху прятал.
Шел в дом – отдавать материю девкам Кирбитова, большим рукодельницам да мастерицам, – рубаху шить.
Все дни три дочери у папаши в деле были, вышивали, шили, золотошвейничали, с их работы прекрасной и кисеты-то, и кошельки бисерные люди в очередь заказывали.
А другой раз и от батюшки сельского собора заказ поступит – хоругвь золотом расшитую точно по старинному, изветшавшему уже лику, подновить, облачение новое вышивкой да жемчугом мелким речным украсить…
Вот однажды вошел Ванька в светелку, где девушки на лавках под окнами как обычно с работами сидели, поздоровался.
Протянул уж было старой их няньке сверток с матерьялом, – договор у них с купцом такой был, что за «шитво» денег не платить! – и вдруг подняла на него глаза свои огромные, ясно-зеленые, младшенькая – Полюшка. И улыбнулась…
И когда только вырасти девушка успела – ведь зимой еще как пацанка малаявозле дома в снегу возилась, с собаками дворовыми с визгом играла …
И все – пропал Ванек!
В ходку свою новую по деревням ни у одной из баб приветных не посмел остановиться – а вдруг огласят?
Пришел к «купцу-грознОму отцу» на поклон – с просьбой отдать ему, офене честнОму Ивану Васильевичу, в жены Пелагеюшку Кирбитову.
Отец ответил ему таково:
– «Энтой осенью выдаю замуж сразу всех троих – погодки они, без матери росли, сам воспитал, как умел».
И добавил:
– «На свадьбах – сыкономлю! На приданом – нет! А за приданое мое ставлю условие такое одно – и решительное: женихи все после венчания в моем дому жить остаются! Места – полно! А дочери мои – как шили-вышивали, да мне готовое сдавали – так и продолжать станут. А кому не по нраву такое мое родительское повеление – ступай прочь!»
Вот что тут будешь делать? Как пошел Ваня в «приймаки» – так в них и остался.
В девятьсот пятом, как уж везде «пошаливать» народ стал, родился у него с Пелагеей первенец – Степан, красивый, смышленый мальчик – радость от него и тепло так и били волной, все его любили и баловали, особенно дед.
А через десять лет, «в пятнадцатом годе», пожгли купчишку сельского – свои же, видать, односельчане.
Кинулись всей семьей добро спасать, – темной ночью шумел-горел пожар-то, – да куда уж там – полыхнуло на пол-села. Ничего не осталось.
Ванька – офеня с полгода уж как на фронте воевал с немцами.
Да и сгинул – и не было о нем более ни слуху, ни духу.
Дед вскорости помер. От удара.
Сестры схоронили отца да и разъехались по родным мужей своих.
Средняя по дороге от тифа померла, была бездетная.
Старшая – Ульяна – аж до Москвы самой докатила, муж ее там, с фронта вернувшись, – газом немецким потравленный, израненный да контуженный, – пожарником устроился при самом Большом Театре.
А Пелагея на сносях уже вторым своим, запоздалым, была – Семеном, куда тут ехать.
Так и родила – недоношенного, у старушки одной – бабки повивальной – в избе ее махонькой.
Мыкалась потом одна с двумя детьми – ох, и трудно было.
По чужим людям бродила – ни у кого долго старалась не задерживаться.
Вот пришла побираться в один хуторок, присела на край дороги – маленького покормить, большому дала из котомки корку, велела ему из ручья воды принести в мятой кружке, да и самому попить как следует.
Тут видит – идет по дороге тетка, толстая, да справная, в легких сапожках сафьянной кожи, а сама, не хуже Пелагеи – нищенки, тоже узел большой, – тяжелый, видать, – на палке через плечо несет – уморилась, да рядом присела.
Посмотрела баба эта, как дитя грудь сосет – и вдруг горько так заплакала, ни слова не говоря. Стала платочком утираться – дорогим, по уголкам красиво гладью вышитым.
Встрепенулась тут молодая мать – узнала свою работу на платке! Да и сама себе заплакала. Разревелся тогда и мальчонка грудной – уж «до кучи».
Тетка вдруг плакать перестала, утерла мокрое лицо, сказала:
– «Ну, здравствуйте вам! А ты с чего это тож соплями, прости Господи, разбрюзла? А?»
– «Здоровы будьте, тетенька! А плачу я, что платочек давнишней моей работы у Вас увидела. Муж мой такие-то продавать ходил, Иван-офеня. А теперь на фронт его забрали. А батя погорел, бездомная я с двумя мальчонками осталась, вот и горе!»
Тетка так и впилась глазами в кормящую молодую мать.
– «Так ты, значит, Ванюшкина жена? Знавала я его, раскрасавца. Ночевал он у меня в дому иной раз – пока не женился…
Да ты же, девушка моя, мастерица большая! Пойдем ко мне в дом, вон, на краю леса изба белеет за высоким забором, пойдем, милая, не бойся! Одна я давно уж тут живу, а теперь ты со мной вместе – и с ребятишками – поживешь, поможешь по хозяйству.
Где второй-то твой бегает? А, вон, вижу, от ручья идет – воду несет. Хороший это знак – полную кружку аль ведро воды навстречь увидеть!
Иди-иди сюда, миленький! Ох, как ты на батю-то своего похож – да и на мамку-красавицу тоже!
Ну, теперь жить будем все вместе, как сумеем!»
Тетку звали Матрена, а короче – тетя Мотя. Была она старой солдаткой, бездетной и одинокой, получала за давно уж – на Балканах еще – убитого мужа небольшую пенсию в уездном городке. На то и жила.
Ванюшку-офеню любила крепко. Да пришлось забыть, когда оженился.
Матрена знала и умела собирать и сушить травы лесные, луговые, речные да полевые.
Люди считали ее знахаркой, но в церковь она ходила всегда исправно, просила у батюшки «заступления грехов», – потому Мотю и не сторонились, а лекарства ее из травяных отваров завсегда помогали.
Так и стали жить – бедновато, да неплохо, дружно, главное.
Тетя Мотя приносила Пелагее из уездного городишки запас ниток, канители золотой и бисера, а из деревень – работу ручную, заказанную.
Плату за готовое брала продуктами – яйцами, хлебом, картошкой, другими овощами, редко – курицей или уткой, один раз – даже гусем жирным, тяжелым.
Просила людей отдавать птицу живьем – потому что оставляла у себя «на хозяйство», прикупала потом им парочку – и неслись куры, плодились гуси и утки, уходя на ручей и приходя сами домой большими семьями, а уж дом-то по ночам охраняли – лучше любой собаки: так начинали гоготать, кричать и крякать в загончиках своих в сенцах, что чертям тошно бы стало!
Когда случился переворот – и не заметили бы, если бы новые люди не стали церковь разбивать да иконы и хоругви выбрасывать и жечь. Попа увезли в ссылку.
Понесли тут в избушку на край леса к обеим одиноким женщинам бабы деревенские спасенные иконы да утварь церковную, и даже – руками Пелагеи-мастерицы расшитые одежды священнослужителей.
Матрена сначала отказывалась все это прятать – очень страшно было.
А потом придумали обе вот что: вся изба Матрены разделена была ситцевыми занавесками на веревках как раз на четыре угла – по числу «жителей».
Повесили женщины на все стены избы иконы плотными рядами – протянули от угла до угла еще по одной длинной занавеске – да и прикрыли все три стены, кроме той, на которой окна были.
Кто там увидит, внутри-то, за прежними четырьмя занавесками, что на стенках вместо обоев – тоже тряпки, да, может, для тепла?
Другую утварь церковную спрятали в сундук и перетащили его в отдельно вырытый за домом, к лесу поближе, сухой холодный погреб для картошки и всяких запасов. Завалили сундук пустыми мешками драными, кусками рогожи, сверху поставили кадушку с солеными огурцами – ешь – не хочу!
Да и забыли про «крамолу».
И жить стали очень спокойно – никто их не трогал, прямо на диво!
Видно, иконки те охраняли домик солдатки и отпугивали «нечистую силу».
Степан успел до октября еще, до революции, закончить с «гербовым листком» о завершении учебы ЦПШ, то есть, церковно-приходскую школу, – «три класса и коридор» – как шутила над ним потом его московская супружница – Полина, сама-то и вовсе почти неграмотная!
Писал он красиво и чисто, и дело это понимал и любил. К нему частенько обращались односельчане за помощью – и так он «подсоблял» матери и «тете» выживать – и выхаживать болезненного и хиловатого младшего братишку.
А в 22-м году, в семнадцать лет, когда в уезде окончательно установилась власть Советов, за ним приехали двое конных красноармейцев и забрали – велели ехать с ними, сразу дав ему лошадь, которую привели с собой в поводу.
Поскакали обратно в город втроем.
По дороге ему объяснили, что им позарез нужен грамотный полковой писарь – и Степан, недолго думая, стал служить в конной дивизии при комиссаре и вскоре вступил там в партию, получив от боевого командира рекомендацию.
Но гражданская война подходила к концу, и Степану, вырвавшемуся из тихой деревни, захотелось после боевой, но краткой своей службы, жизни городской – и обустроенной.
Тут он и вспомнил про тетку свою родную, Ульяну, которая жила в Москве.
Попросил начальство выдать ему служебную характеристику и направление на военную учебу в этот город.
Накоротке заехал домой – попрощаться с матерью, братом и тетей Матреной.
И – уехал завоевывать Москву. Завоевал, став паспортистом в милиции. Более он ни разу в родные места не возвращался.
А младший брат Семен, когда взрослым уже подростком вернулся от брата Степана и его жены Полины из Москвы, «из нянек», так и продолжал жить с матерью и с чужой теткой в старой избенке, преодолевая все трудности деревенской нелегкой доли.
Наступил страшный голод и раскулачивание, насильное объединение крестьян в «коллективные хозяйства» с отбиранием домашнего скота в обобществленное стадо, – за которым, в общем-то, некому было присматривать. И Семен нанялся на работу в колхоз – сначала просто в пастухи, а потом – в конюхи, из особенной своей страстной привязанности к лошадям – которые не могут, как люди, вырвать тебя с твоей любовью из сердца – и забыть навсегда!
Семушка всегда был слаб здоровьем – покашливал, часто жаловался, что болит голова.
Когда попал на работу в конюшню – стало ему гораздо лучше, и даже сам дух конских «яблок», которые убирал он из каждого стойла, шел ему на пользу.
Но в армию его служить не взяли – из-за сильной общей истощенности организма, почти дистрофии, и туберкулезных затемнений в легких.
В самом уж начале войны с фашистами пересмотрели его «медицинские показатели» – и переосвидетельствовали, очень удивляясь, куда же делись туберкулезные пятна?
А дистрофию преодолеть – да и попросту не подохнуть с голодухи – помог ему лошадиный корм, который заваривал он коням и ел, давясь слезами, сам.
Служил Семен Иванович до самой Победы в фуражном взводе одного из конных полков знаменитой Конармии, тем же конюхом, водовозом и говночистом, как подтрунивали над безответным, едва грамотным, солдатиком из деревни некоторые «городские» – и не верили ему, что он пять лет жил аж в самой столице нашей Родины – Москве, и видел своими глазами и Красную Площадь, и Мавзолей Ленина…
И ранен был неудачливый Семен в неприличное место – наклонился низко с метлой – и ударило его сильно в самую что ни на есть пятую тощую точку; остался внутри ягодицы как ложкой вычерпнутый огромный белый шрам с пустотой.
Повезло, однако! Не согнулся бы в дугу – снайпер германский может, и башку бы прострелил.
И вообще, считал Семушка, выздоравливая, – жизнь его хорошо протекает, жаловаться не на что. Лечат бесплатно, живет на всем готовом, к обеду даже масла сливочного на кусок белого хлеба кладут!
Взял после войны – да и вернулся обратно в деревню. К мамаше старенькой – тетушка – то уж Матренушка долго жить приказала.
А там – что началось! Чума какая-то, ей же Богу! Бабы, после войны одинокие, да на мужичью ласку голодные, стаями за ним бегать начали – да и девки сельские на выданье тож не отставали! Продыху и проходу от них Семену не было!
Да начинали-то хитрО – с матушки.
Подкатывались к ней и просили – о помощи, одной – крышу поправить, другой крыльцо кособокое поднять, а более всего просили плугом землю огородную слежалую, на коровах четыре лета кой-как паханную, перепахать на лошади – единственной на всю деревню, только у Семена, – привез он ее из армии как подарок его колхозу за его же верную службу!
Мать всем все обещала – надеялась, что хоть какая-нибудь сынка-тихоню «распечатает», да может, и замуж пойдет? И внучков народит?
И по вечерам Семену как по списку доклады делала: «К кому табе нынче, к кому завтря пойтить!»
Семен шел помогать – а делать-то что?
И даже колхозная председательша попросила лично ей «помочи оказать» – на сеновал на чердак ее слазить, да остатки старого трухлявого сена вниз вилами покидать – а то боязно ей, что сама «с такой верхотуры сверзится и разобьется, ебеныть, нах… вдребезги – кому тады хозяйством управлять?»
Вот уж и попользовалась нахальная бабища на сеновале на этом Семеновой «немощью» – аж до «упадка всех сил» довела горемыку! Да хуже того: еще и всем остальным колхозницам, кто уж больно интересовался, как они там с сеном-то на чердаке, управились ли? – в картинках расписала, руками разводя чуть не на метр в стороны, каков он мужчина-то, тихоня-то наш – ловок оказался!
Тут бабы очередь нарушать начали – и хватать мужика уж прямо за штаны на улице стали, к себе в гости зазывая!
Ругался на них на всех Семен именно в такой последовательности:
– «Черт, дура, шалава! Шалава, дура, черт!» – и отбегал в сторонку, от греха подалее.
Так и торкался безотказный Семен в каждый вдовий дом, нигде, однако, особо надолго не задерживаясь – аж домой все реже приходить начал.
И вот заявился один раз очень поздно вечером – а мамка-то померла! Лежит в уголку на кроватке своей – и больше уж не дышит.
Брату отписал – в Москву, но Степан на похороны не успевал – но и на поминки не приехал.
Зато ответил Семену, чтобы тот бросал свою деревню и срочно ехал в Москву – «тута имеет место быть крайняя нехватка постовых милиционеров»!
Запер тогда Семен Иванович одинокую свою избушку, окна-двери досками крест-накрест заколотил – и поехал в столицу.
* * *
Вера улыбнулась, вспомнив о той встрече с дядькой Семеном возле их с матерью Пелагеей дома.
Семен стеснялся сам появиться перед Полиной – он ведь жил в Москве уже больше трех месяцев, а ни разу даже не позвонил – потому что попросту – не умел! – и не узнал, как там она и дети, которых он очень любил – еще и вдобавок за отца родного, их совсем забывшего…
Какие они уже взрослые стали! Коля, любимец, уж и в армию уходит! Да, надо ведь как-то помочь, ну хоть малостью – и он пошел по знакомому адресу, остановился у подъезда Полькиного – как родного, так и не забытого – дома, и попросил пробегавшего мимо во двор парнишку подняться в шестую квартиру и вызвать Николая Степановича, чтобы он вышел на улицу, поговорить надо с одним знакомым ему человеком!
Малый сбегал, позвонил, ему открыли, и он протараторил:
– «Кольку вашего там внизу в парадном дяденька какой-то на разговор требует!» – и убежал.
Поскольку открывала мальчонке Юлища, которая собиралась сама выйти на улицу покурить, то после услышанного она позвала не Николая – его дома не было, пошел с ребятами «по Москве напоследок прогуляться», – а Веру, чтобы уж вместе с подругой подымить в темной арке большого двора.
Вера выскочила вниз сражу же, даже пальто не надев – потому что подумала, внезапно испугавшись, почему-то о нехорошем.
Юлища помчалась за ней вниз по лестнице, неся в руках свой пуховый платок, еле догнала, накинула Вере платок этот на плечи и услышала от подруги резкое:
– «Отойди отсюда подальше! Дай с человеком поговорить!»
Юлища даже не обиделась, зная, что Вера зря ничего не прикажет.
– «Надо – так надо», – и Юлища завернула за угол, в дворовую арку.
– «Здравствуй, Семен, ты, что ли? Почему к нам не поднялся? Чего боишься? Не съедим ведь мы тебя, пошли, а? Коля придет – он погулять вышел – обрадуется очень, честное слово! И мать рада тебе будет!»
Семен дрожащими губами пробормотал:
– «Здравствуй, Вера, дорогая! Не могу я сейчас, не готов я к встрече с мамой вашей, ох, не готов! А ты пожалуйста, не обижайся – да возьми вот тут я принес, на черный день – то есть, я хотел сказать – в дорогу, может, ему – Коленьке-то, пригодится! Ну, Вера, спасибо тебе. До свидания, красавица моя!» – и, сунув Вере в руку небольшой бумажный сверток, прямо бегом побежал от нее в сторону метро.
Вера, забыв про Юлищу во дворе, стала подниматься в свою квартиру, и на лестнице развернула газетный кулек. В нем были свернутые в трубочку и перетянутые черной резинкой несколько крупных купюр.
Вера с благодарностью и теплом подумала о дядьке своем, все-таки он молодец. А вот отец их родной… – а кто же знает, только ли Семен передал для Коли эти деньги, пусть и небольшие, да зато не лишние.
Вера хотела отдать их Николаю завтра утром, прямо перед его выходом из дома – как неожиданный приятный подарок – а Коля тогда ушел, ее даже не разбудив. И все из-за матери – паникерша какая-то, вечно боится опоздать – вот и брата выперла из дома поскорее, чтобы, не дай Бог, не задержался, чтобы не ругали… Эх!
А вот поеду-ка я на денежки эти неожиданные, от родни дорогой на башку свалившиеся, прямо в Питер! Точно! И все дела!!
* * *
Порывшись в сумочке, Вера достала открытку, которую обстоятельный и хозяйственный Николай Андреевич буквально «силком всучил» ей в руки перед своим отбытием в Питер, потому что открытка эта была получена им от старухи-соседки Елизаветы Ермолаевны, и там четким каллиграфическим, но древним каким-то почерком, был указан обратный адрес квартиры, в которой и проживал – и «прописан был законно» – ее Николай Второй.
Она-то – Елизавета Ермолаевна, старая Лизок – и открыла Вере входную дверь своей квартиры.
После неуверенного Верочкиного приветствия и сообщения, что она – Вера из Москвы, и приехала, собственно, к Николаю – а где, простите, его комната? – величественная Елизавета тоже назвала себя и сказала:
– «Пройдемте сначала в мою комнату – что же в прихожей разговаривать…»
– «А где же сам Николай? Его нет разве? Понимаете, дело в том, что он – мы договорились, что он встретит меня сегодня на вокзале, на перроне даже – а он не пришел… Хорошо еще, что он дал мне Вашу открытку с адресом – Вы не поверите, я так легко нашла Ваш дом и так быстро добралась пешком…»
Вера сразу же отметила огромное сходство и дома, и подъезда со своим, московским, – и даже лифт был тот еще, «чугунный», правда, с другим – более вычурным, что ли, кованым «рисунком» дверей.
И квартира Николая располагалась – как и у нее в Москве – на втором этаже, только номер был более счастливый – седьмой…
А длинный и тоже узковатый коридор квартиры был неожиданно пустынен и гулок, не висело в нем по стенкам ни велосипедов, ни барахла старого, как в Москве.
– «Милая, прошу, проходите в мое жилище и раздевайтесь, сейчас я пойду поставлю чай, а Вы пока придите в себя – совсем закоченели на наших северных ветрах!
Дайте, я приму у вас пальто – там в углу справа, в моей комнате, есть вешалка для верхней одежды и ящик для сменной обуви, мы ничего не держим в коридоре – кто угодно может войти и запросто стащить все, что ему заблагорассудится.
О темпора, о морес!» – и Лизок распахнула перед Верочкой правую створку своей огромных размеров и высоты белой двойной блестящей двери.
Вера хотела уже было переступить порог – да вдруг увидела нечто, от чего душа ее заметалась в тоске и растерянности…
Под высоченным потолком сияла старинная хрустальная люстра, она лила свет на лакированную поверхность такой невиданной красоты «наборного», в крупных, повторяющихся равномерно «букетиках» – вставках из орехового, вишневого и даже черного цвета кусочков деревянных паркетин пола, – что наступить на такое истинно музейное чудо в стареньких зимних полуботинках было бы преступлением.
А снять эти ботинки – и остаться в продранных на обоих мысках – то есть на самом видном месте – чулках оказалось и вовсе немыслимо!
– «Ну, что же Вы встали, Вера, смелее! Входите-входите, ах, не выдумывайте, полу этому в обед сто лет, ничего ему не сделается, даже если Вы и вовсе не будете снимать обувь!
Этот паркет – единственная моя гордость и богатство, которое никто не отнял до сих пор… Вот я и надраиваю его каждый день – заняться-то уже, видите ли, больше и нечем – к тому же, доложу я Вам – отличная разминка для старых костей!» – заговаривала проницательная Лизок онемевшую и остолбеневшую на пороге комнаты Веру.
– «Нет, нет, простите, спасибо, я лучше Николая на улице подожду!» – и Вера рванулась по полутемному, мрачному, длинному коридору обратно к двери, стала крутить во все стороны замок – он не поддавался!
– «Погодите же, деточка! Я же за Вами не поспею! Вернитесь немедленно!» – запыхавшись слегка, Елизавета Ермолаевна догнала Веру, схватила ее за плечо и развернула сильными неожиданно руками к себе лицом.
– «Стойте и никуда не уходите!
Дело в том, что сегодня мне позвонила его тетушка, Инна Антоновна, и сообщила, что Николай был вчера задержан военным патрулем, снят с поезда и доставлен в комендатуру где-то в районе Тосно, здесь недалеко, на Московском шоссе.
Инна пытается сейчас с работы как-то выяснить, в чем же дело, и помочь!» и Лизок, полуобняв сразу обмякшую девушку за плечи, повела ее обратно к себе.
Лизок вдруг усмехнулась по дороге:
– «Какое счастье! Благодаря моему древнему и капризному, да еще и с “секретом”, замку, который вот уже много лет все хотят сменить – да руки не доходят – мне удалось не выпустить Вас, Верочка. Наверное, это – судьба!»
* * *
Обвинение Николая по протоколу, составленному военным патрулем, гласило:
– «Находясь в нетрезвом состоянии, устроил в поезде форменный дебош».
Дело же было все в том, что на подходе уже к Ленинграду решил Николай Андреевич выпить пива и направился в вагон-ресторан.
Там, среди разогретых всякими крепкими напитками людей в военной форме, протиснулся он к буфетной стойке, купил пива и, со своей откупоренной буфетчицей бутылкой и толстым, наполненным до краев стаканом, стал пробираться к единственному свободному месту.
Так хотелось пить, таким вкусным и приятно-холодным оказался первый глоток на ходу, что Николай лишь взглянул вопросительно-весело, молча кивнул головой соседу и уселся, на самый краешек, за последний перед выходом столик.
Чем вызвал жгучее недовольство сидящего напротив в расстегнутом кителе и изрядно употевшего краснорожего товарища майора.
– «Курсант, салага, тебе и постоять не вредно будет перед боевыми офицерами! Слышь, что ли? Оглох совсем, говорю! Встать! Смирно!
Николай, стиснув зубы до желваков, спокойно встал, взял свою бутылку, оставив пустой уже стакан на столике, и пошел к выходу.
– «А ну, стоять! Стоять, я сказал! Кру-гом, шагом марш!» – заорал пьяный майор.
Николай развернулся. Приблизился на полшага к майору.
Тот довольно заржал, вычерпывая что-то складным ножом прямо из консервной банки с бело-красно-черной бумажной этикеткой, на которой было написано крупно: «Крабы дальневосточные». Прихлебнул прямо из зеленого горлышка, захватанного сальными пальцами, шампанского, и громко рыгнул.
Тут в голове Николая что-то взорвалось – и дальше он не помнил себя, не помнил, что делал… А товарищ майор еще и жару поддал:
– «Вот то-то же! О, да мы, оказывается и храбрыми один раз побывать успели…» – но вдруг поперхнулся своими словами.
А Коля, наоборот, заорал в истерике на весь вагон:
– «Чатку жрете японскую, сволочи! Шампанским запиваете? А там ребята, – други мои – навек полегли – пошли на гибель уже после Победы! – за эти ваши сраные консервы!» – и размахнулся полной почти бутылкой с пивом…
…Дзот накрыли телами своими трое: прокрались сзади чуть ли не до самой макушки невысокой сопки, в подошве которой укрылись враги, и прыгнули сверху, в связке, на плюющий огнем из подземной щели, из засады, японский миномет…
Двух первых изрешетило насквозь и насмерть, а третий отделался издолбанной в клоки до белой плечевой кости рукой…
Но дзот замолчал.
Первым двоим дали Героев – посмертно. А третьим – оставшимся в живых – был Николай Андреевич.
А когда догнала его – уже в госпитале – медаль «за отвагу» – носить ее он не смог – стеснялся, но вынужден был нашить на парадный китель малую планку.
Вот и подложила ему незаслуженная эта медаль огромную – и заслуженную вполне – подлянку в жизни…
Николай сидел под арестом в комендатуре и был даже как будто доволен, доводя себя до зубовного скрежета жуткими злыми мыслями о том, что не сможет стереть из его памяти смерть друзей уже ничто в этой его никчемной жизни.
Так ему и надо…
Часть 23. Судьба-злодейка…
Инна Антоновна так и не смогла уехать сегодня, в последний свой на неделе – субботний – рабочий день домой.
Она все сидела в своем служебном кабинете и еще и еще раз набирала номер единственного в Ленинграде человека, который смог бы помочь ей вызволить Николая из беды.
Все время было то вдруг занято, то никто не снимал трубку и не отвечал на длинные гудки – видно, тревога разливалась от этих ее нервных звонков даже и по ту сторону провода и отпугивала всех…
Инна представляла себе тишину огромной просторной и прекрасной квартиры в бельэтаже, окнами многих своих эркеров-фонарей выходившей на обледенелую и потому сейчас не темную вечернюю Неву.
Да, тишина и покой – все, что нужно в этой жизни человеку много думающему, выстрадавшему, человеку, повоевавшему и за страну, и за народ, – причем, за народ очень конкретный, составлявший его самое тесное и непосредственное окружение – то есть, за людей, мыслящих такими же, как и он – Идол Мио – категориями, что позволяют прорываться из нищего и страшного для многих состояния несвободного бытования в пространство поистине надмировое, очищенное от всяких мелочных помех…
Не всякому дано стать ученым с мировым именем, и не всякому выпадает испытать счастье быть «в обойме» при таком человеке, трудиться изо всех своих даже и самим собой неизведанных внутренних сил, выполняя его задания, и видеть рядом с собой таких же одержимых и влюбленных в светлого гения людей, объединенных общей трудной и зачастую фантастически неразрешимой проблемой – созданием «плотного тела» теоретически возможной, но реально еще никем в мире не осуществлявшейся мечты.
Государственная задача, государственная поддержка… И – обожаемый руководитель. Человек, вызывающий слезы любви к себе из-за своей заботы и доброты к обыкновенным своим сотрудникам – от простого слесаря до ведущего проект инженера.
Тогда весь спаянный этим идеалом – трудно сказать, каким больше – самим руководителем или же нерожденным пока еще детищем его технической творческой мысли – так вот, тогда состав исполнителей работает не замечая дней до тех пор, пока дитя это новое не сойдет со стапелей.
И не тревожит душу того, кто пребывает в тиши кабинета, соблазн устоявшегося – и безбедного давно уже – быта.
Но вот семью его – привыкшую как-то сразу к немыслимым для простого советского человека «благам» – еще как тревожит! Не сами эти привычные уже «блага» – а страх, смутный животно-человеческий страх от возможной потери таковых.
Удивительно при всем при том, кстати, что никого из родни как будто бы не страшит вовсе потеря самого «кормильца»!
Да, собственно, семьей он сам – Идол Мио – для себя считает только тех людей, с кем работает: то ядро, с которым дышит «ноздря в ноздрю» – как говорит его прислуга – кухарка, пожилая деревенская тетка, а готовит она божественно и просто – то есть, просто божественно!
Инна Антоновна, вспомнив доброе блинообразное – как солнце русское – лицо этой кухарки, невольно улыбнулась, но вдруг и забеспокоилась – а она-то что же к телефону не подходит, надо же, неужели что-то и у Идола моего случилось, не дай Бог?
Инна в нетерпении забарабанила пальцами по кипе недописанных листков на своем огромном столе. Ну вот, не может она все же полностью абстрагироваться от «земного притяжения».
Сколько уже лет, как она поняла, что любит своего Идола не только как божество, а еще и как мужчину, крепкого, веселого, надежного – и абсолютно несвободного…
Он ни разу не дал ей повода для какого-либо оправдания этих ее представлений о нем – ни разу не дотронулся даже до нее – нет, однажды только, когда она сделала особенно быстро те математические расчеты, часть которых досталась на ее долю, – Идол погладил ее по кудрявой горячей голове, молча, с уважением и неподдельным удовольствием в глазах.
Относился ли этот жест к ней самой – то есть, к ее женской «оболочке» – или же он оценил в ней тогда простое старание и ум?
Трудно было это все определить – но жест был теплый и не «отцовский» – рука его сжала ей волосы на затылке, собранные в плотный пучок, – но быстро отпустила.
И тут вдруг Инна поняла, что если бы он вот сейчас опрокинул ее, захватив за непокорный никому еще в жизни загривок, прямо на пушистый ковер в своем кабинете – вот это и было бы ее реальностью выпадения из холодной и крепкой раковины, куда она загоняла сама себя в ожидании «достойного мужчины»…
Да, слишком оно тянет за душу – «земное притяжение» – и он боится слово лишнее сказать не по работе, а что же она сама и все остальные?
Да тоже боятся, и как еще! Нельзя, нельзя быть слугой «двух господ» – а как же любить их одинаково – того, Отца народов – и этого, Идолище Мое единственное – невозможно! И это иногда прямо так и разливается в воздухе самом институтском, растекается в невской атмосфере на судовой экспериментальной, от всех закрытой-заклЮченной – как заключённой! – верфи…
Эх, не получается у них у всех – у товарищей ее верных и близких – любить по заказу, ну хоть ты плачь! И шныри эти в штатском всё расчухивают! Всё тоже понимают… Но пугать нечем и незачем – все стараются на благо Родины, как уж тут придраться? Невозможно. Да и не нужно. Не мешайте только дело делать, а там уж сами разберемся, без сопливых, кто кого больше любит.
Господи, вот зачем только эта любовь земная дважды в жизни на нее надавила, да так, что и не продыхнуть!
Коля, бедный мой, любимый мой детеныш! Зарок ведь себе давала – никаких любовей, никаких мужей или детей – вообще, никакой привязанности в жизни!
Ни к чему все это, ну, никому не надо – и как с болью-то справляться потом? Если всё равно обязательно всё отнимут, отрежут, растащат – нельзя ведь стало ничего иметь за душой в этом фантастическом государстве-утопии. Где всех утопили – сначала в братской, то есть, в собственной своего народа крови – а потом – в жидком говне насилия над душами!
Пришли – приползли враз из всех щелей ушлые-дошлые, без души, да с идейками о собственном благе – и с пистолетиками, испугали всех смирных, веровавших, обобрали и убили. А затем убили их же самих еще более хитромудрые и жадные. Да хрен бы с ними, что убили – но тут вступает в силу любимая Иннина математика – наука неподкупная – и прокручивает в мозгах страшную геометрическую прогрессию…
Так, ладно, что можно сказать сейчас по телефону – и что вовсе не следует произносить вслух, и как встретиться, чтобы рассказать, что произошло?
– «Говорите!» – раздался вдруг в трубке мужской молодой голос…
Боже мой, Он! Он сам!
Инна собралась, сжалась и произнесла, поздоровавшись и назвав себя, одну только коротенькую фразу:
– «Срочно требуется Ваша помощь, чтобы разобраться в расчетах.»
– «Берите шофера и приезжайте на объект, я тоже сейчас выезжаю!» – был спокойный ответ.
– «Спасибо, еду!» – и только положив трубку, Инна Антоновна вспомнила, что водителя – то она давно отпустила, а своим ходом она добираться будет гораздо дольше, чем Идол Мио!
Но тут на помощь пришел дежурный – и Инна с трудом, но все-таки успела!
А потом помчалась на всех парусах домой – завтра Николая должны будут выпустить – и она за ним заедет, заберет его из кутузки, и совсем чуть-чуть времени останется разобраться до праздника с его документами – но, конечно, никакой Кронштадт ему уже не светит…
Так что – этот Новый год напрочь испорчен, и вообще будущие все его – и ее тоже – года – как они теперь сложатся?
Тут Инна Антоновна, как ни крепилась, как ни радовалась тому, что удалось повидаться со своим Идолом почти наедине – не считая его водителя, от которого он тоже как бы оторвался, пройдясь с ней рядом далеко, вдоль над ледяной береговой кромкой уходящей в залив реки близ Адмиралтейской верфи – расплакалась, горько и сладко одновременно.
* * *
А дома ее встретило вдруг это «Существо» – Инна взревновала Николая немедленно после того, как еще ранней осенью услышала о чудесной девушке Верочке из Москвы – красавице, плясунье и хохотушке…
– «Да, может, и красавица – не спорю, я в таких вещах не очень-то разбираюсь! Но – с семилетним образованием! Книг не читает – незаметно, по крайней мере, что читает! работает в столовке – прекрасно, просто прекрасно, живет без отца, с полуграмотной своей мамашей – и не стесняется о ней такое говорить!» – размышляла вслух Инна Антоновна перед Елизаветой Ермолаевной за чаем после рассказа о том, чего добилась сама и чего ей это стоило, и после того, как Лизок отправила Веру в свою комнату – было решено, что спать «Москва» – еще одно прозвище от Инны – будет у Елизаветы все дни, что проведет в Ленинграде.
Елизавета тоже, как и ее воспитанник, все восхваляла внешние качества этой невесть откуда взявшейся «невесты» Веры – и Инна с первого взгляда на московское сокровище поняла, что Николай – её мальчик маленький Николаша, белокурый ангел, чудо – ребенок, собственность её единственная и самая драгоценная – погибнет теперь с Этим Существом и потеряется безвозвратно…
– «Да не лукавь же ты хоть передо мной, хоть сама перед собой, Инночка!» – пристально глядя в глаза «Великого Математика» – как окрестила и Вера свою будущую… кого же? свекровь разве? – а, ну да, наверное, приемную свекровь! – говорила Лизок горем убитой соседке:
– Я чай, не хуже других эта девочка Вера! А уж что же с разгону твоего делового о ее характере да о способностях говорить, когда мы человека совсем еще не знаем! А вот одно я только тебе сейчас скажу – не ревнуй! Не она – так другая найдется! И еще неизвестно, какая! Вера, кстати, сразу же спросила, чем помочь, что «поделать»? – и старуха засмеялась добродушно.
– «Что, вот этими словами так и спросила, “Что Вам поделать?” – что ли?» – изумилась Инна Антоновна.
– «Да, Инночка, и это так мило у нее прозвучало! А потом я научила ее разжигать дрова в нашем титане в ванной – чтобы она помыться смогла, и вдруг она побежала, схватила со стола всю грязную посуду мою, осмотрела, нет ли остатков, составила все в таз – и потащила мыть под краном с уже горячей водой! Вот! А я-то, дура питерская, ни в жизнь бы не додумалась! Все из чайника да из чайника в кухне поливаем-шпаримся! А тут вот – раз – и все дела!!!» – веселилась Лизок.
– «Да мы никогда ничего на тарелке не оставим! Она не думает о том! – вскипела вдруг Инна Антоновна. – А к тому же, спускать грязную и жирную воду в нашу ванную – хоть та и ободранная вся, а все-таки неприятно еще и хлоркой эту ванну после отмывать! Да и посуду все же кипятком обдавать положено, а не горячей водой! Да тащить потом этот таз обратно на кухню – тут уж вообще всю посуду переколотить можно, если споткнешься! Эх, да что там говорить!» – и Инна горестно взмахнула рукой с полупустой чашкой.
Красивая фарфоровая чашка с николаевским вензелем выскользнула из ее пальцев и разбилась с нежным звеньканьем на мелие кусочки. Брызги остывшего чая попали Инне прямо в лицо…
Тут Инна опять разревелась, а Елизавета, встав, обняла ее, прижала ее голову к своему животу и тихо сказала:
– «Замуж тебе надо, Иннхен, пока еще не поздно! Спокойной тебе ночи, девочка, – а на Верочку не злись – не надо этого никому, и в первую очередь – тебе самой.»
Часть 24. Новый Год
Новый, четвертый по счету послевоенный, московский 1949 год собиралась встретить Пелагея дома в полнейшем одиночестве, то есть, у соседей – Евгения Должанская всех пригласила к себе «под пальму» около рояля – всегда вместо елки украшенную перед каждым новогодним праздником простыми, из газетной бумаги вырезанными и склеенными неумелыми детскими ручонками гирляндами.
На стекла балконного окна Евгении Павловны и огромного «тройного» эркера общей кухни теплым картофельным крахмалом приклеивались вырезанные фестончиками, похожие на круглые, вязанные крючком нитяные настольные салфетки, «снежинки» – из «белой» бумаги, то есть из простых чистых листов, выпрошенных у машинистки Лидии Николаевны под такой особый, праздничный случай!
«Испорченных» листков, что просили отдать им на «звездочки» соседские дети, у нее никогда не имелось – во-первых, печатала она настолько профессионально – «вслепую» – и грамотно, что исправлений не допускалось.
А потом, то самое ее «Бюро», – как с неожиданно ласковой ноткой в голосе произносила суровая постоянно и нелюдимая соседка «Тов. Тихомирова Л. Н., звонить в отдельный звонок», – то есть тот известный каждому советскому гражданину лубянский Комитет госбезопасности, где работала она в машбюро почти что с самого начала возникновения знаменитого до дрожи ЧеКа – а начинала молодая выпускница Московских курсов стенографии и машинописи Лидочка еще «при живом Железном Феликсе» – обязывало ее по инструкции «все имевшие появиться черновики незамедлительно предавать огню, а пепел размешивать и спускать в унитаз, а за неимением оного под руками – пускать по ветру в темное время суток».
Ну, или примерно так…
Об инструкции этой вскользь упомянул однажды ни за что ни про что обиженный «тамошними» фронтовик дядя Паша.
После госпиталя, где пролежал он «с ногой» почти год на долечивании, как подменили прежнего выпивоху и весельчака, – а по жизни неутешного отца пятерых доношенных, но мертворожденных детей, и не очень верного супруга несчастной своей, смолоду и навечно страдающей неизвестными хворями жены Нины.
В одной с ним палате на соседней койке оказался молодой мальчик – семинарист Троице-Сергиевой Лавры Егорий – «Егорушка – Неходячий», сызмальства страдавший костным туберкулезом и «пристроенный» в военный госпиталь имени товарища Бурденко по просьбе, якобы, шептали санитарки, аж старого патриарха Тихона, к которому в войну обращался, люди говорили, «сам товарищ Сталин».
К мальчонке этому щуплому, с измученным болью личиком цвета восковой незажженной свечи, едва ли заметному тельцем под больничным одеялом, если бы не растянутому за ноги и за руки на «распялках» – и впрямь, как к распятому – к Распятому! – приходило больше всего «навещавших» – и женщин, и мужчин, разного возраста – все то были братья или сестры, и откуда у него столько набралось родни – никому не было известно.
«Родня» мальчика не оставалась безучастной ни к кому из еще шестерых в палате – каждый больной бывал одаряем хоть малой конфеткой, хоть пряником, хоть просто ласковым словом.
Егорушка-Неходячий незадолго до того, как выписывать велели дядю Пашу, помер, тихо так, как уснул.
Но успел, видно, сказать что-то такое бывшему фронтовику, отчего тот крепко задумался.
Дядя Паша, которого все, кто обращался к нему по имени-отчеству, называли ПантелеймОн Сергеевич, узнал впервые в жизни от Егорушки, что звать его надо правильно ПантелЕймон, ведь святитель и целитель есть на свете такой, а отчество дяди Пашино – от имени Святого Сергия-Великомученика и русской православной веры заступника дано.
Вот и думай теперь, как дальше жить и поступать, дядя ПантелЕймон…
И вновь обретший имя Пантелеймон долго не думал – как оклемался малость после госпиталя, так и уехал в Загорск, нанялся там при Лавре по три недели в месяц безотлучно работать «на восстановлении» церковным маляром и на самой верхотуре золотить купола, звезды на них и кресты, а несколько дней после этого, на четвертой неделе, проводить дома в Москве для отдыха.
Через полгода, примерно, вызвали его на Лубянку, для «внушения». И как-то очень сильно «обидеть постарались». Пригрозили даже выселить из московского центра – за тунеядство, поменять его прописку – и жене уж заодно – навсегда на загорскую, а в его комнате поселить людей более благонадежных.
Неизвестно, кто за дядю Пашу заступился – но кто-то точно очень сильный, – и отстали от него в конце концов.
После этого он стал все реже и реже возвращаться к себе домой даже в положенную ему четвертую, «Нинкину неделю».
Жена очень на него обижалась, все собиралась сама съездить-проверить, кто его там на самом деле держит, может, и приворожил кто?
На такие ее угрозы и предположения отвечал дядя Паша просто и прямо:
– «Живу я в келье, со стареньким монахом-художником. Хорошо мне там, понимаешь? А как сюда приеду… Душит меня, Нина, и в Москве, да и в квартире нашей, дух сатанинский, давит! Чую его нюхом. Нутром! Не могу здесь больше долго находиться, прости!» – и плакал, виновато закрывая лицо узловатыми пятернями.
И хотя паленым в коммунальной квартире пахло крайне редко – ну, разве что сковородка или кастрюля какая, либо чайник, случайно на огне забытые, прогорят, или «глажка» у кого-нибудь неудачно дырой, «наскрозь» прожженной утюгом, завершится – все же:
– «Несло скольки разов из-под двери тихомировской гарью от шерсти ильбо жженой серой, кубыть из пекла, ей-Бо», – по словам тоже ставшей набожной после страшной кончины муженька ее, Сипугашника, соседки Насти Богатыревой.
Полька нет-нет да и делилась шепотом с подругой Настей, что, мол, – «Чекистка-то наша уж больно долго нынче в туалете заседала, а потом за собой все, видать, газетку жгла, спичками гремела.
Чтоб, это, запах вонючий перебить.
Вот, видать, не в коня он ей пошел, корм-то бесплатный с работы – дармовой, да, значится, дерьмовый!
Вишь ведь, какими сумИщами все в комнату свою прёт и прет с работы по вечерам – а потом, видно, жрет ночами – ажник до усрачки!
Даже чайник не выходит ставить, как все люди – у ей, вишь, спиртовка!
Чартовка у ней, а не спиртовка! А сама вся тож как ведьма какая – худищая, вот правда сказано, не в коня корм! Тьфу, тьфу, тьфу, сгинь, нечистая сила! Прости нас, Хосподя!»
Настька вторила Пелагее:
– «Да, Поля, точно она с нечистой силой знается – вечно у ей ночами огонь горит, как ни выйдешь в коридор-то по надобности – все из замочной скважины у нее свет!
Я не подсматриваю, ни Боже мой!
Но зачем она всю дверь дерьмантином обила – ишь, барыня какая, прям как у хозяев наших захотелось ей! да еще и по низу да по бокам напуском-то прикрыть всюю щель кажную велела?
Вот нам с тобой, Поль, небось, прятать от людей нечего – живем, как на юру – ветер кругом, пусто везде в наших комнатах, разве что вошь в кармане – да блоха на аркане – заместо собаки сторожевой, там воровать-то нечего, коль и прИдут!»
– «Тьфу, ты, Настя, типун тебе на язык, не к ночи будь сказано! – кто к нам придет, кому мы, к Богу, нужны-то!»
Тут раздался звонок в квартиру: один – второй – третий – и замолк!
Значит, звонили Польке – три звонка было ей.
Настя как хотела что-то сказать, так и застыла, разинув рот, потом начала вдруг быстро-быстро вертеть головой, глядя то на дверь входную, то на соседку.
Пелагея, хоть и заметно заволновалась, все же сразу пошла открывать.
По дороге с надеждой сама себя спросила:
– «Может, это к Вере моей кто?» – и вплотную подойдя уж к самой двери, открывая замок и еще возясь с замкнутой короткой и мощной цепочкой, нарочито громко, – специально для тех, кто собирался войти, – добавила, заглядывая в щель:
– «Не все же знают ведь, что Вера к жениху своему в Ленинград уехала на праздники!» – и, наконец, распахнула дверь.
– «Да ты что, Поля, дорогая, – правда что ль, это, про Верочку-то?» – раздался в дверях басовитый и радостный, чем-то неуловимо знакомый мужской голос…
На долю секунды сердце Полькино упало в тартарары, забилось часто и больно в самой глубине, а глаза уже без вопроса и поиска, все определив, и – вот ей-богу, в сильном разочаровании, выдали ей, что это – не муж ее, блудный кот Стёпа, вдруг заявиться решил – по случаю праздника, как ей показалось по голосу.
На пороге, растерянно улыбаясь и переступая с ноги на ногу, в длинных и таких по-родному знакомых хромовых «праздничных» сапогах, но не в обычном милицейском обмундировании, а в коротком, лохматом по низу и из рукавов, ремнем перетянутом, белом тулупе и в таком же бараньем треухе на голове, высокий и широкоплечий, гораздо выше своего старшего брата, и как-то крепче и мощнее всей фигурой, стоял Сёмушка, Семен Иванович, деверь наш ненаглядный!
Плечи Семена, сборя пазы под рукавами, оттягивали назад лямки заметно тяжелого, под завязку набитого, вещмешка.
– «Ой, батюшки, Семушка, миленький, да проходи же поскорее. Что ж ты на пороге-то застрял!» – запирая дверь, причитала Поля. – А что ж не позвонил ни разу? Ведь Вера мне сказала, как тебя увидела, что ты с лета с самого в Москве, живешь в общежитии, у брата якобы работаешь? Правда ай нет? Смотри, Настя, дорогая моя соседушка, как мальчик-то наш Семен Иванович вымахал!» – подталкивая Семена в спину по коридору к своей комнате, верещала радостно Поля.
Тут уж и Настасья свет Федоровна вступила – да со слезами! – тоже начала, маленькая, да юркая, резво забежав по коридору спереди гостя, обнимать его за романовский полушубок, упираясь носом в холодную блестящую пряжку ремня, ойкать и охать про раскрасавца, да про миленького нашего, да «дырагова-зылатова!» Но отошла в сторонку перед Полькиной дверью.
Семен, войдя в комнату, первым делом сбросил с себя тяжкий вещмешок, огляделся, куда бы его приткнуть – и обалдел неожиданно от того, насколько эта полупустая, вовсе почти без мебели, до боли знакомая и родная, так, в общем-то ничем и никак не изменившаяся комнатка, каждую паркетину пола которой он знал наизусть, надраивая дерево до естественного цвета сначала мокрым речным песком для чистки кастрюль, а потом почти кипятком поливая и сразу же вытирая досуха – «чтобы детЯм бОсыми ножками бегать!» – какой же комнатка эта стала маленькой – просто такой тесной и узкой, что аж в плечах сдавило!
Поля не отрываясь глядела, как степенно Семен «рассупонивается», тянется повесить одежду:
– «Да Поля, родная, Господи! Даже полка с крючками все там же висит, около двери над сундуком! Надо же! И сундук все тут же стоит, как и был!»
– «Да куда ж оно все денется-то, и крючки, и сундук-то! Да что им сделается-то!
Семен, да милый ты же мой, да какой же ты молодец, что навестил, в гости пришел! Да как подгадал-то хорошо, прямо под Новый год! Я уж и пироги сёдни спекла, мы у Должанских посидим, всей квартирой, кто захочет.
А то ведь я теперь – как сирота казанская – одна-одинешенька осталАся!» – и Полька быстро промокнула мутную слезинку застиранным фартуком.
– «И вот ты ко мне заглянул, так и пойдем в гости вместе, да что там “неудобно”» – неудобно у чужих, а у своих все удобно!
Мы там недолго побудем, у Евгеши-то, но обязательно, – а то обидно всем станет, коли вовсе не заглянем, нешто можно так-то!
Зайдем, выпьем по рюмочке – ай, Семен, у меня же уж что-что, – а коньяк-то всегда припасен! – как наши на работе говорят – «НЗ», непритронутая заначка! Да знаю, знаю я, что «неприкосновенный запас» – просто мы на заводе все так шутим, понимаешь?
Да давай мы с тобой быстренько за встречу – сейчас сколько время? Десять вечера уже? А ты, небось, голодный ходишь? А, ну что уж там вам в столовке поужинать давали – уж все и проскочило, небось?
А вот у меня сегодня – щи. Да настоящие, из кислой капусты – и даже с петухом! Давай волью, пока горячие! Я на всех на нас сварила, петуха Лида Иванна спроворила – ты ее еще не знаешь, так познакомишься!
Она очень хорошая и одна девочку Галю воспитывает. А отец Галочкин – болгар!
Он в Москве часто, вот им и помогает хорошо, ребенку, то-есть.
Сам-то он женатый, да двое детей. Да нет, не турок же он какой, чтоб две жены ему иметь. Они православные даже. Так уж у них получилось с Лидой – на войне согрешили. А война – она все всем списала.
Ты помнишь, Семен, двух Настиных девочек – Лёлю и Тому? Вот кто тебе в жены-то особенно подойдет! Что ты там в мешке-то своем закопался?
Да, я же от радости тебя и спросить забыла – ты как, надолго ли ко мне в гости, ночуешь или уж подольше, может, поживешь?»
Полина не могла остановиться с вопросами.
А Семен не успевал отвечать.
Он молча выставлял на круглый крепкий ее стол, накрытый одной толстой потертой клеенкой – «бархатная» – а вернее, плюшевая, кое-где обветшавшая до реденькой основы бордовая скатерть «с кистями» – то есть, с желтой бахромой из переплетенных вокруг друг друга толстых шелковых ниточек – была уже приготовлена и лежала рядом на стуле – свои «гостинцы».
Подарки были просто царские: шесть литровых железных банок «ненашей» сгущенки, сказано было, когда паек выдавали, что несладкой, американской! шесть полукилограммовых, необычной формы – «утюгом» – жестянок с мясом, как наша ветчина:
– «Видишь, Поля, свинья нарисована! Только очень крутого посола, сказали – чтобы варить с этими, как их! Ну, как наш горох, только покрупнее! А, с бобами, вспомнил, не знаю только, что за такие за бобы» – и он вывалил на стол плотный и крепенький холщовый мешочек, туго набитый – килограмма на два – скрипящими на ощупь фасолинами необычайно крупного размера.
Полька тут же про себя прикинула, какой же хорошенький мешочек будет, когда опустеет – для круп! Все вот посылочку Коле в армию никак она не соберет – ну нет денег, хоть плачь! А тут хотя бы вот мешочек уже пригодится – все не просыплется в посылочке греча-то, уж больно сынок Николаша с детства с самого «грешную» кашу уважал!
Небось, на Сахалине-то на его, на краю на самом земли, одной рыбой вяленой соленой кормят, где-то слышала она, да чай там с тюленьим жиром вместо сахара вприкуску дуют…
Это вот только пишет он – уж два письма успел прислать! что кормят их там «на убой» – у нас в Москве, на Крестьянской Заставе, где золовка Настькина живет, ездили мы к ней на трамвае «Аннушка» в гости и видели мы с Настей – как по Скотопрогонной до бойни полудохлых коров вели – эту «убоину» и собака бы жрать не стала, одни кости да кожа!
Поле вдруг стало стыдно, что она, не спросясь хозяина, уж подарки его «определить» успела.
Тут на свет появились три здоровых, литра по три каждый, ребристых металлических бочонка, с торчащими, но запаянными, как бы «горлышками» – для слива, видимо!
– «А это что? Горючее, что ли?» – не удержала неприличного любопытства Поля и быстро прикрыла рот рукой…
– «Ага, Поль, угадала! Масло это! Только не машинное, а растительное!
Да чуднОе какое-то, все разное, вишь, картинки какие – это кукурузное – и не выговорить!
А эти две – сливовые, глянь, из слив зеленых – по-нашему, терн, – и даже вот из чернослива масло выжимать научились.
Да ладно, Поль, авось не отравимся! Жалко, конечно, что не подсолнечное – ну да что уж тут поделаешь – дареному коню в зубы не смотрят!»
– и Сенька вдруг запнулся, застеснялся, как бы Поля чего не подумала, что он ей гостинцы вроде «на тебе, Боже, что нам самим не гоже» – притащил.
– «Ну вот, Поля, вроде и все подарки. Ты уж прости меня, коли что не так! Вот сельди были банки пятилитровые у старшИх, мне не досталось, то есть, не положено, вот что мне было жаль».
Поля стояла молча, будто онемев от привалившего под самый Новый Год такого счастья.
Потом вскинула на Семушку полные слез глаза – и как кинулась его целовать, хватая за уши, за волосы, прижимая к губам и его грубые красные руки, пропахшие для кого-то противным, а для нее – так самым родным, детство ее деревенское напомнившим вдруг запахом конского пота.
В этот самый момент в комнату вошла Настя, даже и не постучавшись, а только быстренько, для приличия, произнеся: «Тук-тук! Можно?» – и вошла – и обмерла, увидев, как Сенька с Полькой оба плачут в голос и друг другу ручки целуют…
А на сам Новый Год, за гостеприимным соседским столом у «Должанихи», как пробили уж куранты по радио двенадцать, и выпили все и закусывать начали, налегая, кстати, на тонко порезанную, чудесную на вкус и вовсе несоленую ветчину из «цельных двух» утюговых консервных Семеновых банок, продолжила свой «рождественский сказ» об увиденном ошалевшая Настька, пальцем показывая то на радостную Польку, то на смущенного Семена:
– «И вот захожу я и что вижу? Стоят они двое эти столбом посередь комнаты перед столом Полькиным, на котором такие невиданные богатства трофейные разложены и расставлены – пять бочонков с вином, али даже и десять – и еще что-то!» – все повторяла, увеличивая число несметных подарков с каждым новым тостом, напрочь убитая чужим благородством и очень быстро захмелевшая соседка Настя. – Ой, налейте мне скорей, а то в горле пересохло!»
Потом продолжила, утерев рот рукавом:
– «И, главное, стоят – и плачут навзрыд! Когда им только и надо, что радоваться!
Да ты, Поля, что же все до сих пор за свое свидетельство о разводе не заплатила!
Теперь тебе, как ты уже всех деток своих пристроила – один красавец в армии, только придет нескоро, а как придет, так сразу женится и к жене уйдет – к Машке к своей богатой!
А вторая красавица – жениха достойного в Ленинграде себе нашла – уж мать-то им и вовсе не нужна стала, теперь, говорю, тебе, Пелагея Васильевна, как можно за Семена замуж не выйти?»
– и Настя хмельно захохотала.
Все собравшиеся за столом промолчали, Семен сидел, опустив глаза и красный как рак вареный, а Полина, выпучившись на подружку Настю, от потрясения после таких ее выводов сначала икнула, потом встала, сгребла подругу «за грудки», приподняв со стула, и громко, как бы ко всем «свидетелям» обращаясь, сказала, пальцем тыча Настьке в нос:
– «Она – охуела!» -
и отбросила ее назад, на стул, – у той аж голова на шее хрустнула!
Тут же взяла за руку Семена и потянула его к двери:
– «Пошли домой!» – и он закивал и пошел – а у самой двери Полька обернулась и добавила:
– «С Новым Годом вас, товарищи!»
Часть 25. На круги своя…
Пелагея вошла в свою темную комнату, включила свет и стала разбирать сначала Верин диван – для Семена, а затем и свою постель, за шкафом, стоявшим поперек комнаты, лицевой стороной к окну, а спинкой, занавешенной пестрой тряпкой, к Полькиной кровати и делившим узкий пенал комнаты как бы пополам.
Колину раскладушку после его ухода в армию повесили на крюки в кладовке – «на прикол» до его возвращения…
Поля думала, что сейчас она вот ляжет и проплачет всю ночь «от позора», который учинила над ней соседка дорогая Настя.
Но, как только голова ее дотронулась до подушки, она уснула тут же крепко и без снов, так и не заплакав.
Семен успел сообщить Пелагее, что у него три дня отгулов и что он хотел бы «поночевать» у нее ночки две – а то устал он маленько от казарменного распорядка и от храпа возвращавшихся после дежурств своих товарищей.
Он, хоть и вышел след в след за Полей из гостей от Должанских, но по дороге завернул на кухню покурить.
Встал, сам того не зная, как это обычно делала Вера, опершись спиной на стенку в удобном уголке кухни возле двери на черный ход, между раковиной и плитой, на боковой решетке которой стояла пустая консервная банка для обгорелых спичек и бумажек, а рядом с ней, на небольшой кучке длинных узких газетных обрывков для розжига, лежал полупустой спичечный коробок с зачирканными до дыр боками.
Банка эта служила пепельницей для курящих соседей – в комнатах по умолчанию не курил никто, но и на вонючую черную лестницу выходили редко – только если было много гостей.
Впрочем, когда на кухне был народ или готовили, там тоже никто не курил – тогда уж по привычке выходили на улицу, в подворотню, там не было почти ветра – прикуривалось хорошо, и стряхивать пепел и бычки можно было прямо на асфальт.
Семен закурил в одиночестве, не зажигая света.
Вдруг зазвучало довольно громкое в тишине кухни мурчание, откуда-то снизу – и об колено Семена стал ласково тереться толстый пушистый серый кот, он стоял, выгнув спинку, на огромной крышке мусорного бака под раковиной и перебирал лапками от удовольствия, но когтей не выпускал.
Семен погладил кота, пощекотал по щечкам, сказал ему: – «Ну, ну! Хороший!»
Тут в коридоре послышались голоса – это от Должанских расходились спать по своим комнатам соседи. Кот быстро спрыгнул на пол и убежал куда-то в коридор.
На кухню, в свою каморку без окна, возвращались сразу трое – Настя и две ее взрослых, на пять и три года старше Веры, дочери: Ольга – Лёля по-домашнему, и младшая Томочка.
Так как свет на кухне был погашен, они не заметили стоявшего в уголке возле плиты Семена и не обратили внимания на дым от его выкуренной папиросы, потому что девушки сами незадолго до этого выходили перекурить.
Пьяненькая и тихо плачущая Настя все бормотала одно и то же:
– «А что? Неправда, что ль?! Ну что такого я ей сказала? А?» – и потом стонала, «музыкально» скрипя старыми кроватными пружинами.
Видимо, раздевали ее дочери, потому что она ойкнула:
– «Да тихо же вы, криворукие, прямо все волосы повыдирали – гребенка же у меня в пучке!»
И потом снова принималась за свое:
– «А что, неправда что ль? Я сроду не врала никому, все в лицо говорила!!»
– «Ой, мам, да замолчи же ты, наконец, надоела!» – в два голоса повторяли дочки.
– «И кто тебя вот за язык тянул, все это за столом при всех ей вываливать на башку? Про Семена что-то наплела! А особенно – про Николая! Ты что же, при них с Машкой в ногах кровати стояла и свечку держала, когда они спать ложились? Зачем ты все это матери-то его выложила?» – ворчала молодым баском старшая Лёлька.
Ей вторил нежный голосок младшей Томочки:
– «Вот мам, представь, если бы вот тебе про нас кто-нибудь такое сказал, что мы с кем-то давно уже спим!?»
Тут скрип пружин достиг невероятной громкости – мать, очевидно, попыталась резко вскочить с кровати, но зазвенела особо жалобно одна какая-то пружина, и Настя внятно произнести успела только:
– «А то вы не спите! Убью!!!» – вдруг задохнулась, и тут что-то громко полилось на пол с отвратительным и легко узнаваемым омерзительным плеском кусками, – и потянуло через открытую кухонную форточку на Семена, давно докурившего и застывшего на месте, чтобы улучить момент и проскользнуть мимо их двери из кухни в комнату Поли, тухлой кислятиной.
Сразу же из их каморки выскочила в одной ночной рубашке Леля с пустым тазом в руках, подбежала к раковине, поставила внутрь этот таз, потом быстро на всю катушку открыла водопроводный кран – и отскочила, завизжав от ужаса, только что заметив темную огромную шевелящуюся тень рядом, в углу.
Таз, успевший уже наполниться почти до краев ледяной водой, опрокинулся с ребра раковины на кафельный пол кухни и облил фонтаном с ног до головы и Лельку, и Семёна…
В этот самый миг из Настасьиной двери вылетела с ведром, веником и совком в руках Тамара – остановилась посреди кухни с вонючим ведром и тоже заорала, как резанная.
В кухне вспыхнул свет, и на пороге молча столпились все почти соседи.
Вдруг, в наступившей внезапно тишине, в которой только кран с водой бушевал, как и прежде, из Настькиной конуры донеслось громкое, звериное какое-то рычанье, явно уже нижними регистрами утробы, – и ее, даже спокойный какой-то, голос:
– «Всех убью, с-суки!» – а затем уже раздался ее мерный и мощный, просто мужицко-дворницкий, храп.
И все собравшиеся в кухонных дверях переглянулись и почему-то на цыпочках, стараясь не шуметь, разошлись по домам.
Семен, мокрый, как мышь, завернул, наконец, бешеный кран.
Оглядел себя и понял, что всю одежду надо снимать и выжимать.
Тут же он взглянул на поднимавшую с пола таз мокрую Лелю, неожиданно огромные и круглые груди которой вывалились из глубокого выреза мокрой ночной рубашки, облепившей ее ладное и худенькое тельце до того, что видны были все косточки-позвонки на тонкой и гибкой спине.
Томочка уже убежала в торец длиннющего коридора – вылить ведро в туалет и зажечь газ в колонке в ванной для нагрева воды.
Семен, абсолютно неожиданно для самого себя, шагнул навстречу Леле, обхватил ее, дрожащую от холода, маленькую, как мокрый щенок, вдруг задрожал крупной дрожью и сам, поднял Ольгу на руки и быстро понес, круто повернув за угол кухни в коридор, в ванну.
В ванной комнате было удивительно тепло, потому что Тамара, все еще возясь с тряпками в раковине, уже наполняла облупившуюся до черноты огромную чугунную, когда-то покрытую белоснежной эмалью ванну горячей водой.
Семен как внес Лелю, так и опустил ее, прямо в мокрой ночной рубашке, в теплую воду.
Потом наклонился над ванной и стал медленно снимать с Лели пузырившуюся по поверхности воды эту ее грубую рубаху, не обращая будто бы внимания на Томочку, которая сбоку от него, невозмутимо довыжав в отмытое ведро чистую тряпку, расстелила ее на полу под дверью ванной, вылила воду из ведра в раковину, перевернула ведро вверх дном и поставила его в угол под общественную скамейку.
Боковым зрением, в настенном зеркале над раковиной справа от себя, Семен увидел, как Тамара развернулась, высунулась за дверь в коридор – видимо, решила молча уйти – но вдруг через мгновение в ванне погас свет, а Томочка вдвинулась спиной обратно в ванную комнату, освещаемую теперь лишь таинственным сине-фиолетовым и дрожащим пламенем из трубочек газовой горелки – и закрыла всех троих на щеколду изнутри…
* * *
Наутро Пелагея, отлично выспавшись, сладко потянулась – и в первые секунды сразу же после того, как открыла глаза, почувствовала, что в комнате она не одна.
Потом вспомнила, что это у нее ночует Семен, и то, что было вчера: свою радость от встречи с Семеном и от его щедрых подарков – и потом ярость и гнев от слов соседки Насти.
Да и выпила Поля вчера на радостях сильно более положенного…
Сразу же на душе стало омерзительно до тошноты.
Но надо было подниматься, идти ставить чайник и готовить завтрак для дорогого гостя.
Расчесывая, сидя в постели, круглым гребнем густую свою и очень длинную гриву – каштановую, без единой сединки, – ну разве что только на висках несколько серебряных волосинок – да и то было бы незаметно, если бы не зачесывала волосы назад, – заплетая толстую косу и укладывая ее в большой и плотный пучок, Пелагея механически доставала из-под подушки черные крупные шпильки и втыкала их вокруг макушки.
Непонятная какая-то истома разливалась по всему ее отдохнувшему пятидесятичетырехлетнему телу, еще крепкому и жилистому от худобы, вызванной тяжелой физической каждодневной работой и недоеданием.
Пелагее вдруг вспомнился ее чудесный и – батюшки, до чего же неприличный сегодняшний сон: снилось ей, что вот спит она не одна, а снова с мужем Степаном, да не с тем, кто наяву, в прошлой их семейной жизни, спал с ней, и правда, как кот деревенский: «сунул-вынул-и убёг»…
Ласкали ее во сне тяжелые родные Степановы руки, мяли крепко застывшие ее груди с крупными коричневыми сосками, не опустившиеся еще ни после двух давно выкормленных детей, ни от возраста.
Вползал твердым и толстым, длинным ужом в промежность горячий змей-искуситель, шевелился там, устраивался, выползал и заползал обратно, давил с болью изнутри на самый низ живота, пока не закричала она в восторге – и не проснулась…
Надев на себя домашнее платье, снятое со спинки стоявшего при кровати стула – никогда Пелагея не нашивала халатов этих: как можно, если сразу же выходишь на люди на кухню, да работу начинаешь – что еще за манера – халатами фалдить! – стала она застилать свою постель.
И в диком ужасе, чуть не закричав, отпрянула, приподняв одеяло – весь бок постели, простыня, матрас на кровати, даже сверху пододеяльник пропитан был бурой заскорузлой кровью.
Пелагея взглянула на свое исподнее – подол рубахи и все ноги сверху измазаны были тоже ее кровью.
Закружилась комната, замелькали далекие огоньки – Пелагея тяжело рухнула без сознания рядом с кроватью.
* * *
В женской больнице пролежала Поля ровнешенько пять недель.
Там ей «повырезали все, что мешало в утробе».
Как только можно стало ее навещать, приходили к ней соседи почти каждый день, приносили, кто что мог, развлекали разговорами да расспросами о самочувствии и быстро уходили, чувствуя ее полнейшую безучастность и списывая все это на тяжелое послеоперационное состояние.
Но не были у нее ни разу ни Семен, ни Настька, ни дочь Вера.
– «Если бы не Семен», рассказывала Нина, жена Пантелеймона, «то был бы Польке полный капут.
Так много крови она потеряла, что, когда «скорая», ими, соседями, вызванная приехала ее забирать, то он завернул «бессознательную» Польку в одеяло, поехал с ней до больницы и сидел там до ночи, пока его не выгнали, а опосля того вернулся в квартиру и навел полнейший порядок в ее комнате, все белье до малой тряпицы своими руками перестирал, нас просил только погладить да сложить, а сам ушел в казарму, ему уж на службу, был, надо было заступать – и более не показывался и не звонил.
Вера тоже не звонила и не возвращалась – мы ходили к ней на работу, Лиду Иванну, то есть, посылали: там в столовой сказали ей, что Вера, оказывается, перед самим Новым-то годом уволилась с работы «по собственному желанию».
Как и Капа, подруга ее закадычная.
Пошли мы к матери Капкиной узнавать, может, ей что известно?
А Капа-то ведь замуж поехала в Сибирь выходить – и тож ничего: ни пишет, ни звонит…
Мать ее плачет-рыдает, мол, как дитя-то, – Викторию-то есть, – на одну пенсию прокормить? Куды ея затем девать? В сад-то даже не устроишь по немощи бабкиной!»
Что делать «с Верой пропавшей» – Полька не сказала, только рукой махнула – никуда более ходить не надо, покрутится-повертится, да и домой к матери, к Полине Васильевне, все одно заявится, чует Полькино сердце!
А вот не было ли вестей каких – письма ли – от Николаши?
Нет, от Коли пока в ящике почтовом ничего не получалось.
Зато страсти и ужасти какие про Витьку Ермакова, другана его, известны стали – аж через кофту толстую мурашки Нину продирают до сей поры, как Польке рассказывает!
«А было с ним, с Витей-то нашим дворовым, вот что. Какие-то, вишь, диверсанты японские напали на то летное поле, да ночью, все в черном, как снег на голову – и всех там совецких, кто сторожил в ту смену, позарезали.
Да не просто ножиками протЫкнули, а как поиздевались-то, ужасть!
Кому глазки повыкололи. Кому горлы поразрезали, от уха до уха. А кому и вовсе бошки поотрезали, да и в нутро – в брюхо распоротое – повтыкивали!
Вите нашему повезло еще – ему только ухи напрочь отсекли. Да в тело, в руки-ноги, звезд железных тучу целую понатыкали!
Витя один почти с Камчатки-то той комиссовался, до госпиталя на самолете добросили, а там уж его еле спасли наши русские врачи – да и то, как мать его рассказывает, вЫходил его какой-то кореец из наших, кто япошек энтих смолоду ненавидел и «слово» против них знал!
Дымил-курил он над Витьком чем-то все время, слова свои волшебные бормотал, пока тот без памяти лежал!
Мать Витина говорит, переживает он очень, что Кольку твоего туда служить сманил!
Ну, не знаю, Поля, он всем твердит, что просил предупредить в Москву звонком, чтоб Коля туда не ехал!»
Полька вспомнила сразу заполошный ночной звонок и краткий свой разговор с человеком на том конце Земли, который сказал, что доктор он Вити Ермакова, и что просит тот перед кончиной своей другу Николаю передать: «СЮДА НЕ НАДО!»
А Полька ответила ему тогда, как оно все и было:
– «Что уж теперь! Завтра едет Николай, видно, судьба его такая!» – и трубку сама первая повесила.
И без того горько было сыночка отпускать, зачем же еще душу-то травить мыслями глупыми да плохими! Беда захочет – так везде найдет. Это за счастьем, говорят, гоняться надо…
Но когда Нина, без перехода, не спросясь, вдруг подтвердила Польке то, что сказала на Новый Год соседка Настя, – что Машка – Колькина любовница – Полька ответила Нинке так:
– «Ни за что не поверю, и не черни мне малого, стерва ты настоящая. И не приходи ко мне в больницу больше!»
Но к Машке после всего – сильно охладела.
Часть 26. Становление
Пелагею выписали из больницы к середине февраля, и она снова пошла на работу.
До пенсии «по старости» – до шестидесяти – ей надо было трудиться на заводе еще целых шесть лет, хотя огромный непрерывный стаж ее работы – гордость ее самая, почитай, после успехов сына, конечно! – главная в жизни – то есть «35 годков уже – и все как есть на одном месте без прОдыху!» – позволял уже выйти на пенсию «без содержанию».
Вот именно – безо всякого содержания, а кому ж это надо?
Инвалидность ей в больнице чуть не дали, хотя предлагали ненастойчиво, правда, но она сама резко от этого отказалась – не привыкла бы она никогда считать себя «невалидом», да еще «по женским делам», страмота какая-то…
Пелагее выписали вместо этого специальную справку «по предоставлению легких работ, без поднятия тяжестей «сверху 2-х прописью двух килограмм».
Да это все что – смехота одна бы позорная была!
Самые «легкие» работы на винзаводе доверяли только мужикам-разнорабочим, бочки полные двухсотлитровые в подвалах перекатывать «по ребрам» на железную низкую платформу, да с нее после на тележки со специальными крюками грузить – а как составишь по шесть таких бочонков на тележку, так и тяни-толкай, как хочешь, вывози из подвала на двор – да знай уворачивайся, если, не ровён час, телега та на тебя сверху поедет!
А хуже всего, если бочку с «товаром» повредишь, аль и вовсе растреплешь – не расплатиться тебе будет во веки веков, аминь!
И не сносить тебе тогда башки – по судам затаскают!
Во какая у нас ответственная «легкая»-то работа бывает!
У мужичонок-то иной раз прямая кишка наружу вываливалась, а уж грыжи-то у всех поголовно были нажиты!
Вот и выбирали даже на такие «легкие» работы – будто бы только пустые бочки мыть да катать надобно! – бабенок покрепче, поздоровей да помоложе! От них завсегда толку больше бывало, чем от мужичонков хилых московских.
А тут эти врачи-вредители, всё со своими инвалидностями суются – «по женским делам»! Курям на смех, да и только.
В прошлом годе у Татьяны-грузчицы, когда зимой тележку груженую она из подвала на обледенелую доску подъемную железную криво поставила, да удержать сама попыталась – не отскочила, как любой мужичишка бы алкаш точняк удрал бы сразу на полусогнутых! – дык у Тани нашей, ох, и здоровА была девка! – сил хватило удержать весь груз, пока народ подбежал!
А потом ее тож в больницу свезли – селезенку порвала и матка опустилась, аж выскочила! Обратно ей вправляли!
Теперь вечно бездетная она осталАся, да и хорошо, что так-то!
Да на кой они, дети эти. Нищету плодить на страдания, только и всего.
В иные года голодные в деревне даже кошки с собаками не плодились! А может, и людям также надо? Вот богатым можно детей рожать – ученым-профессорам, артистам, или большого чина военным… да что-то не слыхать, чтоб у них, у богатых-то, больно много детишек было!
Господи, как же там Верка-то моя со своим военным?
Уехала – слова не сказала, что с работы уволилась.
Паспорт при ней – а то как же в дороге без паспорта! Билеты ей жених заказывал и покупал – по службе своей, оформлял ее, как официальную невесту, адрес свой где надо, сообщил.
Вроде, все чин-чинарём было, и малый ее, Николай – положительный с виду, и тетка у него вроде должна быть богатая, устроенная – помогать им должна ведь она, тетка-то?
Ведь у ней они оба теперь живут – а что же душа-то так материнская ноет, что Вера так надолго застряла в чужом городу, у чужих людей?
Говорила, на неделю вроде отбывают, день рождения Коли своего в самый Новый год отметит, с тетушкой его познакомится – договорятся, когда свадьба будет и где.
Может, совсем в другом городе, ведь Николая перевести куда-то из Москвы из военного училища, как весной он учебу закончит, обещали – на постоянную службу-работу.
И он уж давно бы возвратиться на учебу в Москву должен был!
А я ведь и сама не знаю, где он тут живет-учится, Вера говорила один раз Коле нашему, что от ихнего любимого Парка культуры неподалеку, на Фрунзенской набережной, вроде – да я не прислушивалась, мне не интересно было – пусть как хотят!
Ай на Зубовском бульваре, ай на площади Зубовской, что ль? Где склады-то военные провиантские!
А, кстати, насчет провианту, что Семен нанес – надо ведь все равно, хошь-не хошь, а к Машке мне обращаться – кланяться идти.
И Семен что-то опять пропал – видно, устает очень. Работы у него много, конечно.
А Настьку-змею подколодную и Нинку-кулацкую подпевалу – ни в жисть не прощу!
С такими невеселыми думами дошла Пелагея мелким шагом до родного завода коньячных вин Арарат, что в Кривоколенном переулке в старинном особняке расположился, густым садом и колючей проволокой огороженный.
Любимый коллектив весь обрадовался, и каждая товарка в раздевалке, где все они в халаты белые, колпаки и сапоги резиновые с перчатками переодевались, чтобы потом по колено в воде целую смену вокруг конвейера отстаивать, каждая до единой, подбежала к Поле руку пожать или приласкать, обнимая.
Польку, слава Богу, никто из начальства ни про какие справки и не спросил – сдала больничный в директорском секретариате, да и встала на свое место у конвейера. Как и раньше было – вот хорошо!
И на душе сразу радость запела – все, как один! Делом заняты – думать некогда. Красота! Слава тебе, господи!
Часть 27. Женский День – Восьмое Марта
– «Поля, виниться к тебе пришла!» – услыхала Пелагея у себя за спиной и впрямь виноватый – нарочито «жалкенький» голосок соседки Настьки однажды утром на кухне.
Вот и подарочек мне сегодня, аккурат на Восьмое Марта – примирение, или, видать, случилось что! – подумала про себя Поля, а вслух не произнесла.
– «Чтой – то ты как будто кошка крАдешься – тихо, на мягких цирлах! Напугать так можно дО смерти!» – не оборачиваясь, спросила Пелагея ничуть не испуганным голосом и сняла с веревки над плитой свое пересохшее за ночь посудное затертое-застиранное полотенце.
– «Дык, Поля, дорогая, давно тебя из двери караулю, как уж ты на кухню ступила – когда ж ты отвернешься – кто тебя знает, а может, ты бы меня увидела да и ушла бы сразу, слушать не захотела!» – глядя Польке в лицо честными серенькими глазками под набрякшими веками, подобострастно откликнулась Настя.
– «Ну, слушаю тебя! Что тебе? Поздравить захотела?» – строго вопросила Пелагея, сама в душе сильно обрадованная., что Настька первая пошла на попятный – а то Полька бы сама ни в жисть первая на мировую не пошла бы!
А уж скучно стало ей в квартире без обеих-то родных подружек – Нинки бестолковой и без подлой Настьки!
Прям слово сказать некому – со всеми другими все только «здрасти-до свиданья» да о делах квартирных, про газ-электричество, или как суп гороховый варить, рассказывать новому соседу «зебаржанцу» – Йоське: очень он Полькин суп гороховый зауважал!
А сам как хорошо готовит – и всегда-то у него мясо и свежие овощи, таскает с рынка Центрального дорогущего цельными авоськами, у него там все знакомые, он их потом в гости к себе табунами зазывает – мужики одни приходят, ни разу у него никто с бабой в гостях не был!
Сидят себе тихо, не пьют и не буянят, а потом плакать, ай петь, начинают.
Тянут так жалобно слова какие-то, не разберешь – и слышь, опять смеются – закусывают!
А как начнет он что свое варганить – так всю плиту займет-задрызгает, все у него шипит-кипит и вкусно так пахнет, иной раз аж голова у Польки закружится!
Мы что из овощей знаем, кроме картошки-моркошки, огурков-помидорков, лука-чеснока да капусты? Ну, редьку, репу, свеклу да вот горох!
И вроде все – а он, Йоська-то, перец вострый да траву всякую разноцветную «газовую» – потому как пУчит с нее сильно непривычный русский живот! – сырую лопает, всюду кладет – в тарелку с супом добавляет!
А то икру баклажанью какую-то вздумает готовить – мы знаем икру кабачковую хохляцкую, угощал кто-то – а, да Лиде Иванне привозили с родины, проездом, из-под Минска, ведро цельное икрянки этой рыжей – ничего, есть можно! – у Лиды полдеревни родни ее тогда заночевало – а что, всех бульбашей разместили, весь Белорусский вокзал!
От мыслей о еде Польку замутило даже, и она скорей-скорей стала ставить чайник на плиту.
А Настя вдруг зачастила, пыталась, видно, все – в ней за долгое время молчания аж разбухшие новости выложить – поделиться с мудрой Полькой немедленно:
– «Прости меня, Пелагеюшка, дуру грешную, ох прости, подруга дорогая!
Во-первЫх – за тайну за Николашину, никому не известную, прости!»
Тут Полька хмыкнула неопределенно – а Настя испуганно затараторила дальше:
– «А во-втОрых прости за мысли-слова про Семена твоего Ивановича – деверя, ох, прости!
Ведь он намедни, Полюшка, Лёльке моей предложение руки и сердца сделал!
Да ты, поди, уж и знаешь все – я, чай, ты же ему и посоветовала так сделать!»
– и, не давая оторопевшей Польке и слова вставить, быстро продолжила выливать на нее как из ушата с холодной водой свежие новости:
– «Леля – то моя, проститутка – о Господи, да прости же ты мою душу грешную, что я все ругаюсь да ругаюсь, когда радоваться надо! – Лелька моя уж на третьем месяце беременная!»
Тут Настька не выдержала и в голос завыла, обнимая Польку за плечи:
– «Поля, дорогая, помоги!!! А вдруг он, Семен-то, раздумает? ЖенИться-то раздумает, да ребеночка вдруг не признает?
Говорит моя дура-Лёля, что вроде в Новый год они слепилися!
И успели-то когда?
Я вся больная лежала с горя, как ты меня на хер тогда при всех соседях послала!
Да и ты потом сразу заболела – Бог тебя, видать, наказал! (– при этих словах Полька сделала слабую попытку отстраниться, но Настька прижала ее еще сильнее) – а ведь он ночь – то всю при тебе ночевал! Все соседи свидетели!
И когда успел девку мою обрюхатить? Ума не приложу! На кухне, что ль?
Так Тамара при мне в каморке нашей неотлучно была, спала она, говорит, чутко – все ко мне прислушивалась – не померла ли я с отчаянья-то?
Да и Тома бы первая мне обо всем долОжила, если бы что прознала! Я ее всегда подучивала, за старшей сестрой-шалавой следить в оба!
Ну, вот опять я Лёлю ругаю, а ведь они у меня девки-то обе честные, клянусь!» – и Настя тихо зашмыгала носом, утираясь подолом фартука.
– «Честные! Ага!» – начала Полька, но вдруг осеклась.
Что она сейчас скажет, то ведь на всю жизнь потом не забудется.
Как бы там ни было, сообщил он ей об этом или не сообщил – а решать судьбу Семена не ей, а ему самому.
Разберутся сами, кто там у них честный был, а кто – нет. И от кого ребеночек родится.
…Две тяжких волны настроения перехлестывались сейчас в Пелагее – и то как будто гасили друг друга, то вздымали в ней боль с удвоенной силой.
Пока Настя умывала слезы под кухонным краном, Поля полжизни своей пережила, вспоминая младшего брата обожаемого мужа Степана – доброго, ласкового мальчика Сеню.
Как же он любил ее детей, как чутко понимал непростые отношения между ней – «няней Полей» – и «браткой Степаном», которого Семен тоже крепко любил в детстве и любить не перестал – а вот уважать «после Москвы» уже не смог.
Вспомнила, что единственной отрадой в ее пустом доме по вечерам были ей не ее малые дети – а этот полувзрослый мальчик, радостно и светло встречавший Полю каждый вечер – злую, усталую, как всегда беспокойную, потому что опять так и не нашла скрывавшегося «по бабам» муженька Степу…
А маленькие все же ухожены и накормлены, чем было – а в бедной комнате царила чистота, мир и тепло – и Вера с Колей весело играли прямо на выскобленном добела полу…
Но вот врывалась в этот тихий вечерний мир она – Пелагея.
Родная мать, от которой сразу сторонилась любимица папашкина – Верка, и начинал жалостно реветь маменькин сынок Коля.
Семен бегом бежал на кухню разогревать остатки ужина, а Полька тяжко бухалась в деревянное «кресло» – тот же хлипковатый «венский» стул, но с квадратными, вытаращенными вперед полукольцом крепкими подлокотниками – и тупо уставившись в стенку перед собой, ощущала в душе хроническую, глухую и неизбывную, обиду на отсутствовавшего мужа.
Но тут в комнату возвращался с разогретой сковородкой Семен, ставил еду на стол, на деревянный кружок подставки, а потом садился перед Полькой на пол и снимал с нее тяжкие залатанные боты, и обувал ее больные, гудящие, все в крупных подагрических шишках от постоянного стояния в резиновых сапогах по колено в ледяной воде ноги с сильно искривленными, залезающими друг на друга и вверх пальцами, в старые тапки…
И Пелагея начинала испытывать телесную радость, шедшую в измученную душу прямо от гудящих ног, сбрасывавших усталость длинного и трудного дня.
И когда уезжал этот юный Спаситель, когда прошептал ей на перроне, уткнувшись лицом в ее воротник, что брата ни за что не простит, и слезы сдержал, шевеля острым молодым кадыком на худой и длинной, но крепкой шее, было Польке горько и сладко в самом нутре ее бабском, было, было!
А какую же радость принесет ему эта Лёлька, смазливая молодая свистушка?
Ведь он королевы-жены достоин, умной и замечательной! Его счастье составить может только взрослая, степенная женщина!
Так, Поля, а может, и вправду ты сама на него глаз положила?
Да нет, глупости все это, ведь ты же до сих пор Степана своего без памяти любишь, что уж там самой себе-то врать?
Семену нужна жена не только рассудительная, но и богатая, обеспеченная, с жильем! Что ж ему, весь век по общагам маяться?
Ну, положим, дадут ему комнатку какую-нито в Москве, в коммуналке, со временем.
Лет эдак через дцать, от работы от его, и это опять же неизвестно, ну а до того как же жить, семьей обзаводиться?
А все-таки кто же ей тогда во сне перед больницей-то снился? И снился ли?
Жгучая волна стыда окатила Пелагею – и вторая волна не замедлила – горящей ненависти и ревности к секухе-Лёльке, уже и беременной, поди ж ты – а от кого, а от кого же???
Вот тоже вопрос, и его еще надо выяснить!
– «Честная – это когда кровь на простыне, понятно?!» – с яростью в голосе продолжила вслух Пелагея.
Настя вздрогнула, закрыла кран с водой и ехидно так сказала, глядя прямо Польке в ее ясные голубые неподкупные глаза:
– «Ну, тогда, подруга, ты у нас с той ночи, как Семен тебя в больницу-то свез, а потом два дня белье твое постельное кровавое стирал да сушил – самая честная будешь!»
Часть 28. Дела бедовые
– «Ну и стерва же ты, Настасья Федоровна, человека болестью попрекать!!» – раздался на кухне слезливый уже с утра голос соседки Нины:
– «Тебе бы в курятнике-то жить надо было – накудахтаться, яйцо снесши, да на насест потом взлететь повыше – а оттуда всех с головы до ног обдристать, а самОй-то – чистенькой белой курочкой остаться!» – и Нина в сердцах грохнула свой здоровенный латунный чайник со всего маху на плиту.
Чайник, победно прошедший всю гражданскую войну с боями за право наполняться кипятком на многих полустанках, с сильно намятыми и в недавнюю войну Отечественную старенькими боками, вдруг брякнул – тоже как бы осердясь! – своей кривенькой ручкой, постоял – постоял – и остался без носика!
Луженый раз сто уже муженьком Пашей длинный задорный чайный нос упал со звонким грохотом на кафельный пол кухни и долго там еще дребезжал, дергаясь в предсмертных конвульсиях…
Полька и Настя одновременно обернулись на только что гневом пылавшую, а теперь растерянно тычащую рукой в сторону отвалившегося чайного носика соседку Нину, затем вдруг посмотрели все трое друг на друга – и разом прыснули, а потом и захохотали в три голоса:
Нинка – со стонами «Ох, ох – хо!»
Полька – с подвизгиванием, а Настька – неожиданно молодым – Лелькиным! – заливистым баском!
Коммунальный мир и женская дружба были полностью восстановлены.
Вечером договорились устроить посиделки «на троих» в Нининой комнате, пока муж ее не вернулся из «Посада» – как по старинке называл он любимый его Загорск.
Полька налила Нине кружку своего кипятку, поставила ей на стол и быстро ушла на завод – женский праздник был рабочим днем…
* * *
На заводе прошло торжественное собрание – всех женщин сердечно поздравили от парткома, от месткома и лично от руководства, каждой работнице выдали по праздничному подарку – традиционную трехзвездочную поллитровку армянского коньяка.
Некоторым передовицам вручили почетные грамоты – а иные редкие счастливицы даже были награждены небольшими денежными премиями – в их числе оказалась и Пелагея Васильевна – как мать молодого солдата!
Неловко взойдя на невысокую сцену заводского зала для совещаний, Пелагея сильно смутилась и разволновалась до слез, получая из рук самого директора и грамоту, и бутылку, и тощий премиальный конверт из грубой оберточной бумаги.
Потом ей протягивали для рукопожатия руки члены президиума, не вставая при этом из-за стола, покрытого длинной красной скатертью из того же, кажется, куска плюша, что и заводское Почетное знамя под портретом вождя.
Пелагея отступала со сцены: сначала боком, а потом задом-задом, кланяясь на все стороны, и чуть не упала с трех ступенек в зал.
Ее вовремя подхватили сидевшие в первом ряду – и все засмеялись необидно, но ободряюще – а Полька, дойдя до своего места и устроившись среди товарок, все прижимала к груди дорогие подарки и плакала неостановимыми беззвучными слезами умиления и сердечной благодарности – все чернила на грамоте ее расплылись лиловыми звездочками…
Торжественная часть закончилась, и без перерыва объявили праздничный небольшой концерт художественной самодеятельности «силами заводоуправления».
Все обрадовались и начали громко хлопать – у Пелагеи же были обе руки заняты, она не знала, куда все приткнуть – и бутылку боялась разбить, и грамоту помять.
Очень хотелось раскрыть конверт и посмотреть, сколько там денег – но этого делать было совсем нельзя…
Насилу дождавшись, когда допоет последнюю армянскую долгую печальную песнь начальник подотдела по охране труда – как говорили, племянник самого директора! – Полька вышла из зала вперед всех и побежала в туалет.
Там, запершись в кабинке, она положила на пол плотную грамоту, поставила на нее бутылку, надорвала, наконец, конверт – денег было немного, но собрать Коле посылку хватит! – и уж потом по-быстрому облегчилась, подхватила снова свои подарки и скорей-скорей – даже руки не помыла – вышла.
Еле протиснулась в дверях туалета сквозь длинную уже очередь оживленных женщин и пошла в переодевальную подсобку – прятать в свою сумку всю праздничную «нечаянную радость».
Пелагея хотела уж было и пальто надеть, чтобы уйти домой, как тут в подсобку ввалились самые близкие ее товарки по смене и затащили ее силком и без долгих разговоров в коридор на втором, директорском, этаже.
Там для всех были уже принесены столы – но без стульев, – из управленческого буфета, с разложенными на них бутербродами. На отдельных подносах расставлены были большие граненые чайные стаканы и открытые бутылки все с тем же коньяком.
И праздник был продолжен.
Правда, закуски на нем оказалось значительно меньше, чем выпивки.
Поздно вечером, в сопровождении двух самых стойких подруг по работе, одна из которых несла ее сумку, Поля, ведомая «под обеи микитки», с песнями дошла, наконец, до своего подъезда.
Там, в тамбуре парадного, она стала прощаться, отбирая у них свою драгоценную торбу, и искать ключи.
Товарки поняли, что ее надо еще будет поднять на второй этаж до входа в квартиру – а там уж позвонить соседям, чтобы открыли, и передать им весь груз, включая Пелагею, с рук на руки.
Позвонили – открыла Нина, ахнула, всплеснула руками, потом подхватила сначала протянутую Полькину сумку – «Осторожно! Там коньяк!» – в один голос вскрикнули все три пьяных бабоньки, вот что значит сплоченный трудовой коллектив!
После этого Нина приняла Польку на всю свою обширную грудь, помахала рукой подругам, и те радостно ушли, закрыв за собой тяжелую дверь – и уже на лестнице снова запели русскую народную песню.
Нина довела Польку до своей комнаты, потому что так было гораздо ближе от двери.
Устроила сначала ее сумУ, потом раздела и разула Пелагею и молча усадила ее на свой весь потресканный и когда-то черный кожаный, с откидными валиками, диван.
Полька ничуть не удивилась, попав в комнату к Нине, только спросила – а где же Настя, ведь на праздник обещала прийти, где она? – и сразу же улеглась на диван с ногами, без подушки и без одеяла, и уснула мертвым сном.
Нина тихо села за стол, с которого уже давно были убраны остатки немудреного «междусобойчика» – не удался у них нынче с Настей праздник без Польки, нет, не пошел!
Или все-таки удался?
Для Настьки – так точно удался, ведь она сегодня настоящего зятя в дом себе захапала!
Ну, слава Богу, хоть успокоится теперь – а Лельке-то, Лёльке как же повезло! Просто счастье привалило!
Собрались они часов в семь уж вечера сегодня с Настей на посиделки, думали, вот-вот Поля должна с работы прийти, у ней ведь короткий день обещали. А завтра-то всем опять на работу! Ну, сидели-сидели. Уж час цельный прошел. Уж по третьей стопочке вишневки налили – и вдруг в дверь к Нине стучатся!
Сначала подумали, что это Поля пришла тихо – вроде даже слышали, что кто-то в квартиру дверь ключом открывал – и вот так теперь шутит – к своим долго и молча стучится!
Сказала Нина:
– «Да входи, входи, не бойся, чего уж там – совсем не убьем! Прибьем только малость – за сильное твое опоздание!»
Вдруг в комнату входит – кто бы подумать мог? – Семен, деверь Пелагеин!
И спрашивает:
«А меня пУстите на ваш девишник, тётеньки? У меня сегодня тоже праздник!»
Ну, мы с Настькой – тыр – пыр – растопыр – садись, Семен Иванович!
Говорим, что, дескать, «няня Поля» его еще с работы не приходила – запоздравлялася, небось, либо короткий день отменили – мы того не ведаем.
– «Что, ай день рождениЕ у тебя, милок?
Ну, с Восьмым МартОМ тебя тогда тож!» – а сами смеемся, рюмашку ему протягиваем, капустки ему закусить в Полькину чистую тарелку кладем.
А он отвечает, что, мол, лучче гораздо даже, чем день рождение-то! – давайте еще одну рюмку, теть Нин и МАМА!
А сам при том на Настьку хитрым глазом кОсит, встает, прямо с рюмкой, обратно идет к двери, открывает – а тама Лёля на пороге сияет, как пятак медный!
Как завизжит радостно, как мать свою обнимать кинется!!! Мама, мама, поздравь нас – мы сегодня с Сенечкой расписались!!!
Ой, что было! Что тут было!
Анастасья свет Федоровна сама на ново – спечённого зятька обниматься полезла, прям так на шее у него и повисла, плачет-рыдает.
Вдруг метнулась в свою каморку – Я щас, я щас! – пришла обратно – бегом прискакала: вместе с Тамаркой, и вместе с иконкой Заступницы, которая у нее в углу в головах висела всегда!
Ну, стали молодые как положено перед матерью, и благословила их, деток, она на вечные узы верного брака! Хоть он у них в паспортах уж записан оказался!
А Тома как вдруг зарыдала – и вон из квартиры нашей убежала, на улицу. Едва пальто на нее накинуть успели – и так ее еще и нет! Где шляется? Ночь уж на дворе давно! Когда придет?
Настя уже спать ушла, к себе.
А ты тоже спишь, Поля, или слушаешь?
Ну, спи, спи! У меня будешь нынче спать – мы твою комнату открыли без тебя – запасным твоим ключом, ты уж прости, если что! да на Верин диван молодых полОжили!
Часть 29. Бесприютная любовь
Квартира затихла, наконец, до самого утра. Уснули все – даже у тов. Тихомировой погас свет – значит, можно было возвращаться.
Можно – но нельзя.
Тамара долго сидела и плакала сначала в своем дворе на мокрой и холодной скамейке в самом углу двора, возле убогого дворницкого домика тети Кати, пока в кухонном окне на втором этаже свет не погас совсем – то есть, прекратилось и то смутное свечение, что долго еще шло из их с матерью и Лелькой убогой каморки…
Господи, ну что же делать? Что мне делать? Ведь я люблю его больше, чем моя пустоголовая и развратная сестра, то есть я-то его и правда люблю, а Леля – Лелька никого, кроме себя самой, никогда и не любила, а теперь ей надо было просто «прикрыть живот»…
Вот и нашла такого – но Тамара даже в мыслях не смогла произнести точное русское слово «дурак».
Просто Сенечка – доверчивый, легковерный, простодушный и благородный. Даже страшно за него становится – живет, как юродивый, ничего вокруг плохого не замечает, все у него «ладно да складно – эха, хорошо!»
Зла не хватает, когда он на Лельку влюбленными глупыми глазами, не отрываясь, смотрит! Ну что он в ней такого нашел, чего у Тамары нет?
Тома – настоящая блондинка с голубыми глазами, хоть и небольшого роста, да с фигурой что надо – талия, бедра, попа и ноги – все на своих местах!
Грудь, правда, маловата – но ведь главное разве – вымя иметь? Как Леля – та уж настоящая корова, все блузки в груди ей малы – не только Томочкины, даже и мамины! А сама тощая, черная вся как смоль, талия и бедра одинаковые, как бревно обточенное, а ноги, хоть и не кривые, а зато, как у мужика, волосатые – она их папкиной бритвой старой подбривает, ну и позорище, кому рассказать!
А к Тамаре вот все мужчины сначала так и липнут, потрогать сразу руками хотят, за круглые щеки потрепать, по попе похлопать – а толку, правда, поле этого никакого, отшивает их всех она холодным своим и презрительным взглядом синих льдинчатых неулыбчивых глаз.
Зато Леля – как выйдем на Чистики прогуляться, как начнет она все сорок сороков зубов своих лошадиных сахарных кому попало в широкой улыбке оголять – как будто это она с сестрой так оживленно разговаривает! – ну, все тогда, пиши пропало!
Тут же к ней хвостом очередь – знакомиться пристают, зубы тоже скалят, телефончик просят!
Веселое что-нибудь залепят – тут уж Леля и вовсе в голос заржет – ну, вот правда, как кобыла молодая!
Небось, поэтому она Семену и понравилась – ведь он от лошадей-то с ума сходит!
Тамара замерзла окончательно. Встала, вышла со двора и постояла напротив своего дома в переулке, с той стороны тоже ни в одном из соседских окон квартиры света не было.
И она решительно шагнула в свое парадное.
Медленно поднимаясь по плоским серым мраморным ступенькам, Тома все никак не могла представить себе, куда же теперь ОНИ легли? Ведь и она, и Лелька спали на раскладушках в торце материнской кровати, утром их убирали и вешали на крюки в коридоре.
Неужели мама уступила им свою кровать? А сама она, как теперь и Тамара, будет у Лели своей в ногах валяться?
О, господи, как же Тома надеялась, что их не распишут!
Ведь Тома тогда, как только она их всех втроем ночью в Новый этот несчастный год в ванной заперла и сама разделась и в воду залезла, никогда голого мужчину, да еще и в возбужденном состоянии, сроду не видала.
В неясном свечении газовых горелок Семен, сбрасывая с себя одежду, возвысился над ней (про Лельку она тогда вовсе забыла – как будто и не было той напротив в огромной ванне, и только Тамара, как настоящая царица, правила бал!) и сам вошел в воду и встал на колени, боком к Тамаре.
Потом сгреб ее левой рукой, прижал ее грудью, прикрытой его ладонью, к бортику, а попой к своему твердому как камень животу – и то же самое сделал с Лелей, только рукой правой.
И Тома внезапно ощутила справа от себя горячее тело родной сестры, с которой как будто слепили ее боками в одно целое мощные и тоже родные почему-то мужские руки.
И тут Леля сделала что-то невообразимое – крепко обняла Тамару и стала страстно ее целовать…
Вода вдруг слегка приподняла и так невесомую Томочку и насадила резко на напряженный стальной прут, толстый, – но одновременно и нежный на ощупь изнутри – никогда еще не испытанное девушкой ощущение.
Как утопающий, схватилась Тамара за край ванны, чтобы вдохнуть воздуха – и тут ее как будто освободили – на некоторое время оставили в пустоте – а рядом вдруг сильно вздрогнула и застонала от счастья сестра Ольга…
Это попеременное счастье было бесконечно.
Никто не произнес ни единого слова, лишь тихо вытекала горячая вода из сдвинутого до самой стенки крана да чуть слышно шипела газом колонка…
Вышли потом крадучись, как воришки, из ванной по одному – и растворились молча в недрах безмолвного, все по привычке поглотившего коридора.
Для Тамары это счастье оказалось более неповторимым.
После того, как заболела тетя Поля, Семен ни разу не появлялся у них в квартире.
И вот – пришел! И объявил, что они с Лелей уже и расписаться успели!
Никогда не думала Тамара, что родная сестра – такая скрытная!
То есть, та рассказывала ей иногда, что тайно встречается с Семеном на его работе – считай, на милицейской конюшне – и ясно же было с самого начала, что не в общагу ведь к нему переться – а куда еще? Только на конюшню, спать на соломе!
Но когда сестра Леля поведала шепотом, что у нее давно нет месячных, однако, вовсе не тошнит, и чувствует она себя хорошо – а жрать ей как хотелось всегда, так и теперь хочется, уж что-что, а аппетит-то уж у Лельки никогда не пропадал, ни при каких обстоятельствах! – затошнило вдруг Тамару …
Нет, все у нее хоть и было в порядке с месячными, тьфу, тьфу, пронесло! – на душе стало тошно – от боли, от зависти, от безнадеги.
– «Ну и что, ты думаешь, он на тебе ТЕПЕРЬ женится?» – с тайной слепой надеждой на отказ Семена вопрошала тогда жарким шепотом сестру Томочка, а сама думала – ведь он же только к тете Поле на Новый год приходил в гости, вот и все! Может, он даже спьяну и не помнит, что там в ванной у нас было!
Лелька уверенно отвечала сестре, ни на секунду не задумываясь:
– «Кто, Сеня не женится? Ты что, Тома! Он ко мне уже раз пять приставал с таким предложением! А теперь, как узнает, что я беременна – точно не отстанет!
Но ты подумай, Тома – нафиг мне этот ребенок сдался, жить и так негде, денег не хватает, работаем за гроши – замуж надо выходить за такого, как, вон, Йоська Виндлер – новый сосед, вот это будет жизнь у его бабы!
Да только такие на русских не женятся – ну, если и женятся, то сами становятся как наши – нищими да алкашами! Что мне делать, ума не приложу!»
И вот – приложила! Уж как и приложила же Леля Тому! Как дверью со всей силы долбанула!
И вот расписали же их все-таки!
А сначала, когда еще о беременности она своей не догадывалась и Сеня уж ей, шалопутной и шальной, сильно надоедать своей любовью неотвязной стал – Лелька надеялась, что не дадут ему – милиционеру – с ней, с дочерью расстрелянного отца, расписаться законным браком!
Как же, не дадут! Семена ясно обнадежили, что очень даже распишут – ведь дети по закону за отцов-уголовников не отвечают!
Он же не политический был, гражданин Богатырев Михаил батькович, а чистой воды – у-го-лов-ник!
Так что не боись, Семен Иванович, на тебя это никак не повлияет! Женись себе на здоровье, да на свадьбу пригласить не забудь!
* * *
Да, думала Тома, открывая как можно медленнее и потише, дверь в квартиру – еще и свадьбу Лелькину эту мне придется пережить!
Как же мне теперь быть? Что сделать можно? А сейчас-то куда идти, им, и правда, в ножки бухаться – спать ложиться?
И она на цыпочках пошла пока по темному коридору, как всегда, на ощупь по стенке, в туалет.
А туалет оказался занят. Ну, как назло! А как же писать хочется! Тома шагнула в соседнюю ванную комнату, не зажигая света, лишь расстегнула пальто – и присела на высокий край ванны. Тихо зажурчала ее струя, уплывая в черную дыру.
Вдруг послышалось, как в уборной спустили воду и стали открывать там дверь – щелкнул крючок.
Тамара вскочила, едва успев натянуть трусы, и встала, как вкопанная – потому что в ванной вспыхнул свет, и на пороге появился сосед Йоська – в полосатой пижаме, расстегнутой на буйно-волосатом животе.
Произошла немая – слава Богу! – сцена, а Томочка, молча, как ни в чем не бывало, и, сделав вид, что как бы еще раз, протянула руку к умывальнику, открыла кран и слегка побрызгала на лицо водой, захлопав длинными белесыми ресницами.
Йоська Виндлер преодолел свой немой испуг, стал застегивать курточку пижамы на все пуговицы и кратко прошептал:
– «Плачешь ты здесь, что ли?»
Тамара кивнула головой – и вдруг и правда разрыдалась – бурно, неожиданно, а Йоська шагнул ей навстречу, прикрыл ей рот рукой, потом закрыл изнутри дверь в ванной комнате.
– «Иди сюда ко мне, джанечка! Не плачь, не плачь, кто тебе обидель, а?»
Но та Томкина новогодняя история, разбудившая в ней всех чертей, мирно спавших совсем недавно в холодной ее душе и в двадцатипятилетнем давно уже перезревшем теле, так и не смогла полностью повториться.
Йоська не стал гасить свет и наливать горячую воду – он быстро развернул молодую соседку задом к себе, принагнул, задрав ей пальто и платье на затылок – при этом руки ее сами собой уперлись в края ванной – и долго еще трясла она головой над лужей собственной мочи на дне полупустого, забытого кем-то из коммунальных жителей корыта и вдыхала этот запах – но так и не смогла, как ни пыталась, дотянуться и открыть большой кран, чтобы смыть все следы.
Часть 30. Приехали…
Потная, расхристанная Тамара все порывалась сдернуть с себя пальто – но не тут-то было – цепкие руки соседа впились в ее бока и не отпускали.
Но как только он почуял приближение экстаза, то ловко так отскочил от девушки и кончил ей на оголенную спину, сдавленно завывая и бормоча нечто нечленораздельное на бусурманском своем наречии – а потом резко опустил подол ее платья, и когда Тамара распрямилась, даже заботливо одернул на ней разъехавшиеся в стороны полы пальтеца.
Тамара вдруг подумала, что он мог бы и пригласить ее к нему в комнату – ведь жил он – одын, савсем одын – в приличной по метражу половинке бывшей хозяйской огромной гостиной…
Но хитрый сосед не только не позвал к себе переночевать, но вышел в темный коридор, погасил свет в ванной, потом обернулся и громким шепотом попросил Тамару никому ни о чем не рассказывать – а днем так даже и виду не подавать, что она с ним «была» – а за это молчание он ей кое-что подарит, вахха, клянусь!
Сейчас им нужно расходиться по местам осторожненько, чтобы «комар муху не увидель, да!»
Проскочить в свою комнату незаметно, а вернее, беспрепятственно, Йоське не удалось.
На середине темной коридорной дороги с ним столкнулось молча чье-то костлявое, но большое тело – и обойти его не удавалось ну никак – он влево – и оно влево, он резко вправо – и это, – тело то есть, – немедленно тоже вправо забирало, как будто шаталось от стенки к стенке.
Йоська быстро попятился назад, к ванной и туалету – только протянул трясущуюся руку за спину, чтобы нашарить выключатель, как вдруг наткнулся на что-то горячее и лохматое…
И вот тут Осип Адамович Виндлер не выдержал – и завизжал от страха.
Тут же, ему в унисон, завопили в ужасе еще два голоса – сзади и спереди, один тоненько, а другой хрипло – и, наконец, щелкнули выключателем, и зажегся свет в открытой настежь ванной.
Сзади стояла растрепанная, как ведьма, Тамара – про которую Йоська уже и думать перестал – и сипела, а не орала, от перехватившего горло спазма.
А спереди фальцетом выводила свое:
– «Вой, вой, кара – У-У-л!!» – Пелагея свет Васильевна, которая, к тому же, проснувшись только что в чужом месте, да не совсем проспавшись, на одном инстинкте нашла выход из Нинкиной комнаты и поторопилась ощупью по родным стенкам – как и каждый из коммунальных жителей – по наизусть заученной народной не зарастающей тропе в уборную.
– «Эх, да пусти ты! Ну-ка, кому сказала, пропусти скорее!!» – перестав орать, как только зажегся свет, Полька отпихнула обеими руками в сторону нехилого своего соседа Йоську, как мишку плюшевого, и помчалась вперед, к желанной двери, более уже не произнося ни слова – боялась, видимо, расплескать по дороге остатки эмоций….
Тома вдруг тоже резко рванула по коридору мимо Йоськи, – только в сторону кухни, – не обращая на недавнего своего страстного партнера более никакого внимания.
Осип Адамович, прилепившись к холодной зеленой стенке узкого коридора, покрутил головой – сначала вперед, потом резко назад – затем покрутил пальцем у своего виска.
Пожал плечами – и только хотел, было, степенным шагом направиться к себе и завалиться там, наконец уже, спать – как вдруг рядом из Пелагеиной, почему-то, комнаты, прищемив его при этом довольно сильно дверью, но вовсе не заметив, что стукнули не по стенке, как обычно – с грохотом, а по мягкому – и потому бесшумно – быстро выскочили сначала Семен, полностью одетый «на выход», а за ним – соседка Лёля! – причем, ну надо же, как всегда, представшая перед Йоськой в одной уже привычной ему ночнушке!
Лелька босиком пробежалась до выхода – проводить уходящего Семена, чмокнула того в щечку – и скрылась за углом на кухне – конечно же, пошла в свой кубрик.
Едва Осип Адамович вновь попытался отлепиться от стены, – но не успел! – как из уборной, под шум спускаемой воды, вышла и тут же везде погасила за собой свет Пелагея.
Позевывая, она медленно и успокоенно вошла в свою комнату, закрыла дверь и затихла – видимо, улеглась досыпать.
От всего пережитого Йоську вдруг снова потянуло в сортир, и он со стонами и причитаниями вынужден был вернуться под сень струй.
А когда он вышел из бесперебойно работавшего всю ночь заведения и доплелся, наконец, измученный в край, до своего жилища, перед ним вдруг начала осторожно и с легким скрипом распахиваться входная дверь в квартиру, только недавно с громом захлопнутая за Семеном…
Тихо и медленно, но уверенно открываемая чьими-то ключами снаружи в предрассветных сумерках высокая дверь эта до такого ледяного ужаса напугала Йоську, что он, молниеносно проскочив, наконец, в свою обитель, судорожно заперся изнутри на амбарную чугунную задвижку, хотел было кинуться с размаху в постель и залезть под одеяло с головой – но вдруг ощутил, что ватные от страха ноги его облеплены абсолютно мокрыми пижамными штанами.
Йоська горестно не всхлипнул даже, а взрыднул – но тут услышал, как в тот же миг в коридоре хлопнула, все-таки, не удержавшись, и очень даже знакомо по шуму, дверь в квартиру.
Зазвучал чуть приглушенный, но веселый женский, ни с чем не сравнимый – бархатный просто! – смех, потом послышалось как будто бумажное шуршание и стук тяжелого – вроде бы – чего-то, уставленного на пол, – властный, но радостный мужской голос стал слегка укоряюще басить о чем-то – наконец, все перекрыл звук сочного поцелуя и уже нескрываемо громкий радостный голос Верочки:
– «Мама, это мы приехали! Мы стали мужем и женой и решили жить у нас! В Москве! Ура, по-моему!» и громкое аханье соседки Пелагеи:
– «Николай Андреевич, дорогой ты мой, да брось ты этот чемодан к чертовой матери, да проходи же, миленький, не стесняйся!
Значит, приехали!
Ну вот и слава Богу.»
Часть 31. Письма с Малой Родины
«Здравствуй, дорогой сын Николай Степанович!
Пишут тебе из дому из Москвы твоя мать и сестра Вера – я попросила Веру написать за меня, а уже она потом сама от себя что-нибудь к этому письму припишет.
Дорогой наш Николаша, сынок. Получили мы все твои письма, за которые тебе большое спасибо, вся квартира наша, все соседи до единого тебе кланяться велели и передавать привет и пожелание хорошо служить и поскорее вернуться домой.
Мы все тобой любуемся на общей фотокарточке. А я, мама твоя, страшуся, как же вы там все с парашУтов прыгаете – страшно ведь. А ты все зубоскалишь, все у тебя отлично и хорошо. Ворот не застегнул!
Мы ради (зачеркнуто) рады, что тебе неплохо служится, но сын, я беспокоюсь, как же ты там – и прыгаешь с воздуха, и ездиешь-поешь по концертам самодельным?
Голос разве тебе не от (зачеркнуто) даден – вот ты и себя не бережешь, ты бы лучше там, в армии-то, просто бы служил, а не выступал по семь ден на неделе, нешто так можно?
Куда Вас гоняют, нам знать не положено, мы и не спросим, да боязно за тебя, Николаша, сынок, ох как боязно – а ты пишешь редко!
Прости меня, мамашу твою беспокойную, может, что не то говорю – ну да ты же дурачком-то никогда не был, вот я и надеюсь, что глупостей не будет от тебя, любимый мой сыночек.
Вот, прости за долгие сборы да обещания – посылаю тебе при письме при этом посылочку с твоей Родины – с Чистых Прудов, мешочек крупы гречки твоей любимой, сгущенку несладкую банку – Семен кланяется ей тебе, привет от него.
Но тут и подсластиться есть чем – с булошной с нашей Филипповской, что на углу на Кировской – сухарики с сахаром обсыпанным, а с Чай-Правления, с китайского домика того, любимого твоего, насупротив Почтамта, тебе два цыбика малых чаю байхового – более класть в посылку не велят!
Да простого сахара голова не сильно большая, да щипцы колоть тот сахар не дали тоже приложить, ну да ладно, уж как-нибудь ты там с ребятами вашими его поколете.
Носки кладу на дно, их тебе связала тетя Нина дяди Пашина, оба тебе шлют горячие приветы и пожелания здоровья.
Коля, сынок, служи хорошенько, начальство слушай во всем. Мне за тебя грамоту и премию дали на работе, вот как!
Более писать заканчиваю, крепко целую тебя. До свиданиЕ!
Пиши нам про все! Об нас не беспокойся. У нас все по-старому.
Мама твоя родная Пелагея Васильевна Офеничева.
Далее Вера тебе напишет! Служи, сын, мы гордые тобой!»
Коля в который раз перечитал слова матери – красивым, крупным почерком сестры написанные на тетрадном в клеточку листке, перевернул и прочел продолжение – от Веры, которая написала немного, но сумела рассказать о самом главном и волнующем:
«Привет от Рыжего – он жив-здоров, но беспокоится о тебе. Не пиши ему пока, обожди. Он почти в порядке, даже работать устроился в какое-то ателье, но не шить, а радиоприемники чинить.
Колька, ты написал бы Маше, она просила тебя попросить – ой, ну ты понял, да?
Я все ей передала, что ты велел, чтобы она тебя простила и забыла – а Маша всполошилась и заплакала.
Твой фотоаппарат она у матери нашей выкупила – та вроде не поняла ничего, но пальто мы ей, наконец-то, справили – а мать все передо мной оправдывалась, что это ты ей велел… Вот и правильно! А фотоаппарат, Маша сказала, будет тебя дожидаться! Вот такие дела.
Да, Коля, я, можно сказать, замуж вышла – за Николая Вто (зачеркнуто) то есть, мы еще не расписались, он только рапорт подал – а пока все нет ответа, ну, да ничего – подождем.
У него недавно только закончились неприятности с учебой, и он много пропустил, но вроде бы все уже в порядке – я с самого Нового Года гостила у него в Ленинграде, а теперь мы вернулись в Москву – он будет учиться снова и жить уже не в казарме – там и места больше нет, недавно списали на другого курсанта! – а в нашей комнате – пока как будто бы «койку снимает» – ему, между прочим, положено, за него будут маме нашей даже платить! да и для соседей пусть лучше так! – и мы втроем с мамой станем жить и будем тебя ждать!
Колька, держи хвост морковкой и не задавайся там слишком, артист ты наш любимый!
Коля, пришли мне твою фотокарточку большую, с «автографом»!
Целую, люблю, твоя сестра Верунчик!
Пиши скорее ответ!!!
Да, привет большой от Николая Андреевича и от всех остальных наших ребят – от Юлищи и Нинон, от Сопы, от Томы с Олей!
Коль, ты представляешь, Сопа наш – Вовка Авдеев – на Нинон жениться собрался! И Нинка – не против даже, ты подумай! Зато Авдеиха почему-то резко против… Во дает!
Ну, посмотрим, чья будет победа в этом боксе!
Весовые категории у них примерно одинаковые, но Нинон значительно превосходит Авдеиху по возрастной категории, ты понял?
Капка, зараза, совсем не пишет – просто пропала куда-то, в Сибирь с Петром как уехала – так от них все ни слуху, ни духу! Вот хитрая какая лиса!
Целую крепко, Вера.
Москва, весна! 1949 г.»
Весна – она и не только в Москве с восклицательным знаком, особенно когда тебе двадцать один год, ты молод, весел и красив – но на службе в армии…
Летать и прыгать с парашютом Коле нравилось очень, особенно он любил момент первого зависания в воздухе после раскрытия купола, а еще ему казалось одновременно, почему-то буквально в тот миг, как только он приземлялся, что все кончилось – и этот его прыжок был последним…
И больше ничего уже не будет – как будто никто не позволит, не допустит, чтобы такое Колькино неземное счастье повторялось.
И откуда только эти мысли странные в башку залезали?
Каждый раз, как ребята снова и снова ждали в гудящем и тряском самолете сигнала приготовиться, Коля про себя молился почти – так был благодарен судьбе за повторение неповторимого.
В самом раннем детстве, года в четыре, они с пятилетней Веркой как-то ранней весной пошли кататься на санках в школьный двор, где каждую зиму специально делали из снега и заливали сбоку на огромной куче угля ледяную горку.
Надо было сначала взобраться с санями на самый верх, и для этого на уголь клали плашмя длинную деревянную стремянку, по которой поднимались, а потом уже переходили на утрамбованную снежную площадку на самой макушке горы и скатывались с нее.
Над верхушкой снежной горки размахивало крупными ветвями голое дерево. Одна ветка ну просто так и манила-зазывала за нее ухватиться и спрыгнуть вбок от горки в глубокий и пушистый сугроб.
И Вера подтолкнула однажды пустые санки с горы – пусть себе сами катятся! – неожиданно подхватила, сняв варежки, толстую согнутую в дугу ветку – и прыгнула вниз, в снег.
Коля не успел даже сообразить, что же сделала сестра – как вдруг увидел – нет, просто почуял нутром, – что снизу на него – в лицо прямо! в глаза! – с бешеной скоростью летит обратно, разгибаясь после шального прыжка, эта кривая ветка.
И Коля вдруг сам прыгнул на нее – и пока летел вниз – долю долей секунды – сумел ухватиться за эту ветку горячими голыми ладошками – и вдруг как будто повис в воздухе, а потом красиво и медленно спланировал в кучу снега рядом с ничего так и не понявшей веселой Веркой!
– «Правда, здорово, да, Коль? Давай еще так попрыгаем! Ты чего, Коля, ты что – плачешь? Ты стукнулся, что ли, ногами? Да вроде мягко же тут, в снегу? Ну ты даешь, вот дурак! А, ты испугался! Ты испугался!!!» – и Верка захохотала и побежала отлавливать их санки.
* * *
Тот испуг преследовал Николая в температурных детских снах во время простуд и длинных «настоящих» болезней.
Не испуг даже – а сначала сладкое и неземное чувство счастья от полета – и вдруг резкое и внезапное его прекращение, как потеря – без боли, без страха – но с такой неожиданно сильной и горькой мгновенной тоской оттого, что это блаженство вдруг закончилось, что Коля плакал после этих видений.
То ли эти непонятные сны, то ли мальчишеское упрямое желание доказать всем – и самому себе в первую голову – что ты не трус, заставили однажды в конце жаркого мая девятилетнего уже Кольку совершить новый полет.
Ребята только что закончили учебу и ждали с нетерпением скорой отправки в пионерский лагерь, а пока слоны слоняли по пустому двору.
Мать Пелагея была на работе, а соседка тетя Нина вдруг вышла во двор с черного хода посидеть на скамейке.
В руках у нее был черный дождевой раскрытый зонт, с длинной, как трость, крючком загнутой деревянной ручкой, и под этим старым зонтом тетя Нина хотела укрыться от солнца, «как стара барыня на вате».
Не успела она устроиться с газетой на лавочке, как в кухонное их раскрытое окно на втором этаже высунулась Евгения Павловна и позвала Нину к телефону.
Та быстро пошла в квартиру – а зонт оставила, где сидела, раскрытым.
Вдруг налетел теплый ветер, и зонт покатился по двору.
Коля, не долго думая, зонт поймал и сам скрылся с ним, еле протиснувшись, в дверях черного хода.
Верка мелом чертила на асфальте двора неровные, но большие «классики» и ничего не замечала.
А зря.
Потому что Коля вдруг позвал ее откуда-то сверху звонким голосом:
– «Вера, смотри!!!»
Она подняла голову и увидела, что красивая дуга лестничного окна над самой дверью черного хода – в переходе между первым и вторым высокими этажами – не блестит более пыльными стеклами, а на широком подоконнике настежь распахнутого окна под раскрытым зонтом стоит – нет, уже падает вниз, прямо на асфальт, ухватившись за ручку-трость, ее брат…
Черный зонт на мощных стальных спицах не сломался – лишь груздем выгнулся наизнанку в Колькиных судорожно сжатых руках.
– «Судьба Онегина хранила – ему лишь жопу всю отбила!» – долго потом «цитировала» сестра и уточняла, кто автор:
– «Ас Пушкин – летчик такой был! Тоже на зонтах любил полетать!»
* * *
И уже лет в 17 Колькиных, в весну Победы, когда в Парке Горького установили вновь довоенный еще – и бесплатный – аттракцион с парашютной вышкой, Коля с Витей Рыжим оттуда просто не вылезал…
И зря Витька думает, что он Коле подсуропил эту долгую службу в парашютно-десантных войсках.
Коля счастлив здесь, с ребятами, которые его не только любят – как многие раньше просто за голос – но и уважают.
И неизвестно еще, за что больше – за песни его – или за отличные прыжки…
Часть 32. Логика жизни
Какая острая непреложность – прятаться со своей любовью ото всех, постоянно хотеть быть с ним, в нем, над ним, рядом с ним, под ним, наконец, в его руках, замыкавших ее всю нежно, но стальным замком; делать с ним одновременно вдох после глубокого затяжного поцелуя, который еще немного, и окончился бы, кажется, бездыханностью и гибелью обоих – это граничащее со смертью и безумием потрясение Веры от абсолютного единства их душ и тел, без мыслей и о дурном, и о прекрасном, без страдания и даже без восторга, а просто на едином желании не расставаться ни на самый краткий последний оборот плоского камешка, что поначалу будил большие круги ходить по спокойной воде, а затем, все быстрее кувыркаясь и переворачиваясь в воздухе, взбаламутил и сморщил всю поверхность тихого омута прежнего существования до одной – единственной точки, в которой сам же и канул под воду… вот что такое была ее и его жизнь после их встречи в зимнем городе апостола Петра.
* * *
…Тетка Инна Антоновна строго-настрого приказала старой соседке Елизавете Ермолаевне не допускать в свое отсутствие по будням добрачных контактов молодой пары и следить за тем, чтобы племянник Николай – проштрафившийся и спасенный исключительно благодаря усилиям тетушки, – знал свое место, а именно: ночевал бы в теткиной комнате один, без московской подруги, а Вера чтобы исправно к наступлению позднего часа шла бы спать на диван у Елизаветы.
Потому что не хватало нам вот еще только за глупость очередную мальчика, не приведи Господь, в случае чего отвечать!
И убежденная атеистка Инна, неожиданно помянувшая Бога всуе, поднимала указательный палец почему-то к потолку – просто какой-то полнейший атавизм.
Мудрая Лизок утверждающе-бодро, но молча, кивала, поддакивая, своей седой головой и лукаво как-то все же улыбалась, смущая тем самым прямую душу Великого Математика Инны.
Пожив на этом свете долго и разнообразно, она узнала точно только одно – вода всегда течет так, как хочет.
А если не течет, то застаивается и начинает дурно пахнуть.
А чтобы направить ту воду в правильное и спокойное русло, не надо никогда ставить препятствия – снесет вместе с дамбой, как бешеная Нева в ненастье.
* * *
Сразу же после встречи всей квартирой вместе с приезжими, – понаехавшими тут! гостями, из большой деревни по имени Москва, но, однако, увы, без милого Коленьки, – питерского Нового холодного и неизвестно что сулящего года тетя Инна, как обычно, уехала на целую неделю – на работу.
А Николая Андреевича освободили из-под ареста через два дня после праздника и собственного дня рождения – потому что все уже было предугадано и сказано до них однажды в этом городе одним поэтом с Мойки, и «снег выпал только в январе – на третье в ночь».
И вот как только снег этот все же выпал, явился домой по первопутку и Верочкин Николай Второй – с истерзанной душой, виноватый перед всеми, но так ничего себе и не объяснивший, за что ему все это? как будто бы и впрямь тот, последний русский царь, непосредственно после отречения от престола.
А особенно стыдно было перед Верой – не смог встретить ни ее, ни с ней Новый год – загремел в кутузку, и наверняка же недаром говорится: Как начнешь год, так его и проживешь…
Да в общем-то надоело как-то сразу всё, и какая разница – в камере ли на губе в Питере сидеть, или в казарме в Москве торчать: главное, от себя-то самого никогда ведь не убежишь, не скроешься, и суд собственной неподкупной души куда страшнее осуждения людского…
…Только лишь о Верочке раздумья позволяют забыться на время и вдруг поверить в то, что все еще можно будет как-то переосмыслить и даже, может быть, испытать счастье.
* * *
И вот на то самое счастье, нежданно свалившееся как этот новый снег на голову, уехала на целый месяц сначала на святки, затем на Крещение, то есть на очередное богомолье – ну как в подполье ушла – соседка Ксения Питерская.
Ключи от своей комнаты-кельи она, по обыкновению, отдала Елизавете Ермолаевне, и тоже строго – как и Инна Антоновна – приказала ежедневно следить за неугасимой лампадкой, вовремя подливать маслица – ну и само собой, чтобы не случимши, упаси Господи, пожару!
Вот этот-то божий дар – ключ здоровенный, безусловно, от Рая – ведь ад никто пока на ключ не запирал! – и передарила Лизок Верочке в тот же миг, как только закрылась дверь за отбывшей Инной.
Что-то брызнуло хрустальными радугами в Верочкиной погрустневшей за последнее время на чужбине сердцевинке – и она впервые заплакала, да почему-то радостными слезами, а вернее, красивыми, тоже алмазными и радужными, слезинками.
… Когда вернулся в дом Николай, робко и неуверенно как-то нажав два раза на звонок, первое, что молча сделала Вера, выйдя ему навстречу открывать дверь, – протянула тяжелый медный ключ.
Николай даже не посмотрел на этот ключ – он глаз не мог от Веры отвести.
Она медленно и осторожно подошла близко-близко, чмокнула снизу в колючий подбородок – и потащила за рукав прочь от двери.
В коридоре было очень тихо – деликатная Лизок не стала даже высовываться из своей комнаты. Надо будет – сами позовут!
Позвали – а вернее, появились они у Лизка, прося дать поесть хоть что-нибудь, а лучше всего – так только чайку горячего попить! – на следующее утро.
И так было все то время, пока не ночевала дома Инна Антоновна.
Лизок каждый день выставляла им накрытые салфеткой бутерброды и холодную картошку с молоком на свой кухонный стол, а потом забирала поднос с пустыми тарелками.
– «Святым духом питаются, бедные мои!» – почему-то грустно вздыхала Елизавета.
А где-то через неделю приехала домой тетя Инна, заахала, заохала, захлопотала – разделила! На целых два дня!
Зато сообщила, что еще месяц, по крайней мере, дело Николая не будет закрыто – а до окончательного решения он должен находиться дома постоянно, никуда не отлучаться в город – и тем более, не уезжать!
– «Ты поставил под удар всю свою дальнейшую карьеру, а может быть, даже и жизнь!» – с каким-то даже злорадным упреком провозвестила Инна Антоновна и зыркнула орлиным оком на Веру:
– «И пока не будет решен вопрос о продолжении твоего обучения в Москве, – а это, наверное, протянется месяц с лишним или даже подольше – ты будешь не просто валяться на диване и ничего не делать, а займешься самообразованием!
Мне привезут из Москвы верные люди необходимые учебные пособия, и я сама буду тебя контролировать! Все, разговор окончен!» – безапелляционным тоном сообщила новости тетка.
И продолжила более мягко, как бы даже извиняясь:
– «Вере, к сожалению, возвращаться в Москву придется одной – на какое число у Вас обратный билет, Вера? Когда Вам надо выходить на работу после отпуска?»
Ответил Николай: «Тетя, нам – мне и Вере – надо с тобой серьезно поговорить!»
– «Я уже поговорила с Вами обоими – и, полагаю, более, чем серьезно! И говорить нам больше пока не о чем – по крайней мере, до тех пор, как ты, я надеюсь, закончишь учебу! Я думаю, и Вера, как девушка вполне разумная, должна со мной согласиться.
Главное – это образование и дальнейшее трудоустройство на приличном месте, с достойным окладом, с возможностью выезда, наконец, в другие страны – хотя с этим, мне кажется, уже все завершилось, так и не начавшись…
Но я приложу все усилия, чтобы эта твоя несуразная выходка не вышла тебе боком окончательно и бесповоротно! Пройдет время – и все, может быть, уладится и будет пересмотрено…»
– «Тетя, милая, ты прекрасно знаешь, что я пригласил Верочку к нам в гости для того, чтобы представить тебе мою будущую жену! Мы завтра же пойдем подавать заявление, и Вера будет теперь жить у нас! С нами!
Потом мы уедем к ней, будем жить у нее, пока я не окончу учиться. А с работы в Москве она уволилась перед приездом к нам – по собственному желанию.
И когда мы с ней поженимся и уедем туда, куда меня направят по распределению, то в той же военной части, где мне придется служить, станет работать при мне и Вера!»
Тут Инна Антоновна совершила роковую ошибку, но из нее просто вырвались ядовитым плевком эти слова:
– «И кем же, позвольте поинтересоваться? Не иначе, как давал… то есть, простите, подавалкой, тьфу ты, подавальщицей в офицерской столовой?!!»
Вера встала и быстро пошла вдруг к двери с тихой просьбой: «Извините, пожалуйста.»
Николай рванулся за ней, пытаясь остановить, резко протянул вперед руку, чтобы удержать Веру, застыл на секунду на месте, внезапно вскрикнул, схватившись за раненое плечо, и упал в обморок.
Обе женщины, не глядя друг на друга, кинулись к нему, встали перед распростертым на полу телом на колени – Инна в головах, а Вера – обняв его ноги…
* * *
… В госпитале Николай Андреевич провалялся три недели, потом еще три недели был на реабилитации. Диагноз – последствия не долеченной контузии, выход осколка плюс подозрение на микроинфаркт.
И опять тетушка упросила врачей написать в анамнезе что-нибудь только про операцию по удалению из раненого плеча осколка, без всяких «подозрений на», которые еще, к тому же, рассуждая логически, необходимо доказать!
Все время болезни Вера постоянно находилась при Николае и выхаживала его как нянька почти одна, не подпуская к любимому телу чужих женских рук.
Вскоре Верочку стали узнавать и все врачи, и больные – те даже частенько звали на помощь именно ее, обижая этим обслуживающий медперсонал.
Но Вера быстро нашла общий язык и с нянечками, и с медсестрами, и даже со старшей палатной сестрой – дородной и знающей себе цену особой со сложной прической и, видимо, еще более сложной судьбой, которая и создала в итоге из этой женщины начальницу, пожалуй, пострашнее даже тети Инны!
А та, кстати, оказалась на поверку просто испуганной маленькой девочкой, – да, да, Великий Математик, суровая и неумолимая Инна Антоновна, сдалась без боя – согласилась на все и сразу ради спасения своего ненаглядного детеныша, которого она так сильно боялась потерять навсегда, что делала для этого все возможное – по закону бутерброда, не подчинявшегося уже порой ну никакой логике!
* * *
Инна поплакала-поплакала – и решила попросту смириться с тем, что мальчик-то вырос – и хотя никто ей не доложил об этом, а сам принц так даже и песенку не спел, как тому Королю – Эрасту Гарину – в замечательном фильме про Золушку-Жеймо, – все-таки ясно было самой Инне как дважды два: все это ее так называемое смирение будет, безусловно, иметь временный характер.
Но забыла Инна Антоновна, что не бывает на свете ничего более постоянного, чем временное: в том числе и наспех сформулированные и принятые априори, без глубокого анализа, умственные построения…
Абсолютно аналогично ситуации с теми новыми городскими постройками, с подзабытым со времен Первой Мировой немецким названием «Barakken» – то бишь, баракам, что успели уже расплодиться во вновь становившихся тесными послевоенных городах-героях, а особенно в Москве и в Ленинграде.
Бараки эти по архитектурной форме своей вроде бы и были немецкими, а вот по содержанию – или уж, точнее, по содержимому? – оказались, почему-то, вполне даже люмпен – пролетариатскими.
Ну, а убогий и кривой уровень жизни заселившего эти временные постройки барачного люда оказался куда хуже даже, чем у их создателей, строителей и первых поселенцев – то есть, немецких военнопленных.
Поскребыши войска непобедимого германского Рейха протаранили впервые старую Москву по самому Центру вздрюченными после Сталинграда и Курской Дуги огромными и нескончаемыми цугами – то есть, вошли все-таки, сволочи, в Москву, – как ворчали на кухнях московских коммуналок такие, как Полька и Настька:
– «Без мыла к нам в … душу влезли, ети их фашистскую мать! хоть не мытьем, так катаньем», – и самим только фактом своего присутствия на советской территории ухудшили жизнь простых победителей: содержать поверженного врага и кормить его – хотя бы дважды в сутки – оказалось делом и экономически, и морально довольно непростым и весьма и весьма накладным…
* * *
Как бы то ни было, дети – Николаша и Вера – всё решали сами, молча и быстро, торопились так, как будто боялись чего-то недоделать, упустить, отстать от жизни…
И откуда это вдруг у молодых такой страх не успеть?
Подобный испуг, думала Инна, всегда ведь раньше наблюдался исключительно в поведении стариков и старух – причем, только полувыживших из ума, а потому и напрочь забывших за обвальной чередой российских революций, войн, эпидемий, расстрелов и смертного голода о том, что время – относительно, а значит, то бесконечно – в горе и в ужасах, то – скоротечно как чахотка – если жизнь русская устаканивалась хотя бы немного и появлялся вдруг некий малый просвет впереди в густых и темных тучах.
И вот торопились тогда пожилые люди прожить побыстрее – ах, кабы не отняли! – узкую светло-серенькую полоску своей радости.
Радоваться можно было, например, тому, что не просто успел, а еще и сумел удачно отовариться по карточкам.
Или, к примеру, получить кусок материи на новую одежду – в награду за доблестный труд.
Или даже, – но это уж, если и впрямь очень крупно повезет и профком с месткомом расщедрятся не только для совсем заслуженных – может быть, билетик бесплатный аж в «сам-Большой Тиятр» вытянуть по жребию, чтобы постоять там за колонной на верхнем ярусе и послушать музыку балета, да увидеть «хучь однем глазком» глубоко внизу танцующую заводной куколкой фигурку Ольги Лепешинской или – вдруг счастье?! – то и Галины Улановой…
…Поспешное с точки зрения тетки решение Николая Андреевича временно перебраться жить в Москву к невесте – а там видно будет! – Инна Антоновна постаралась укрепить с тылов и добилась выдачи письменного разрешения на оплату военным училищем одного курсантского койкоместа в Москве, тем самым неожиданно вогнав нищую Пелагею с семьей (то есть, с Верой) в разряд сдающих жилье через фининспекцию «частников» – ну почти что спекулянтов!
Вопрос же с женитьбой-распиской – то есть, с положительной резолюцией на поданный Николаем Андреевичем рапорт – Инна, напротив, постаралась затормозить – а почему, знала пока только она одна…
Причина была чудовищна – и проста, как выеденное яйцо, но от этого еще более нерешабельна: по данным, обрушенным на бедную голову тетушки компетентными органами, невеста «сидела»!
В тюрьме!
Да не за воровство или уголовку какую-нибудь мелкую, а по причинам политическим – за опоздание на работу во время войны с фашистами…
То есть, избранница в жены будущему советскому офицеру-командиру являлась настолько морально неустойчивой, что при ином стечении обстоятельств могла бы вполне даже получить срок как враг народа.
… Тот факт, что опоздавшей в типографию девочке Вере, не эвакуированной в тыл, как большинство детей ее возраста, а работавшей наравне со взрослыми в ту суровую и очень неясную московскую зиму сорок второго, было тогда всего четырнадцать лет, не смягчал, в представлении Инны Антоновны – в отличие от вынесших только административное наказание судей военного времени! – а, напротив, лишь отягощал Верину – главную! – по жесткому стародевическому мнению тетки жениха, – вину: беременность.
Инна мучилась страшными сомнениями: как сказать племяннику?
То, что он понятия не имел о прошлом Веры, было для Инны Антоновны аксиомой.
Но надо же было как-то спасать мальчика!
План возник тоже временный: ничего пока не говорить никому, а как можно дольше затягивать с резолюцией на его рапорте о предполагаемой женитьбе.
Решение-то, дело ясное, будет отрицательным – в этом Инна ни секунды не сомневалась.
Но вот о причинах этого отказа – и скорее даже, о самой формулировке запрещающей резолюции – надо было крепко подумать.
А с другой стороны – а что тут думать-то!
Пусть будет написано в правом верхнем углу синим отрицательным карандашом лишь одно слово – «Отказать!» – безо всяческих разъяснений или комментариев – и росчерк – и все дела!
К тому же, мальчика надо начать серьезно лечить – сделать для него академический отпуск, и потом восстановить в учебе труда бы не составило, а за отчисление по состоянию здоровья Инна не боялась – у ее знакомых врачей хватит и ума, и возможностей извернуться с соответствующим случаю диагнозом.
А потом бы уж и запихнуть Николая на реабилитацию в самый дальний угол Союза – например, в гарнизон или на плавбазу на Сахалин или на Камчатку – где, на секретном подлодочном хозяйстве, тоже работают такие люди, которые беспрекословно исполнят приказ Инниного начальства…
И самому Николаю будет наверняка приятно и интересно побывать там, где он служил, и не просто служил, а воевал – и получил не только ранение, но и награду – медаль за отвагу.
А далее – будем посмотреть, как говаривал Инночкин Идол Мио…
Может, и любовь у Николая на таком расстоянии от столицы поутихнет, – и вот тогда-то, осторожно, в письме, намеками, и надо будет просветить его насчет сложностей в биографии этой москвички, которая ну всех питерских просто околдовала и очаровала – и как ей это только удается – не биться головой об стенку от стыда за содеянное!
Мальчик наш – существо тонкое, чувствительное, он – не простит!
И когда развеется вся эта его ненужная и неправильная по жизни любовь – тут-то и надо будет уже по-настоящему заняться сватовством, найти достойную невесту из приличной семьи, а привлечь к этому делу необходимо непременно Лизочка!
И невдомек было бедной Инне Антоновне, усердно хлопотавшей под самый Новый год об освобождении Николая из-под ареста, что же за истинная причина толкнула курсанта на такую дикую выходку, как удар бутылкой по голове вышестоящего по званию товарища военнослужащего…
Часть 33. Танцы-шманцы
…В комнате Пелагеи поставили Николаю Андреевичу поначалу, сняв с пыльных антресолей в кладовке, Колькину раскладушку.
Но как-то быстро стало понятно даже щепетильной Пелагее, что ни к чему вся эта канитель с застиланием и расстиланием ненужного спального места.
Да ладно уж, чего там, все равно скоро распишутся, пусть спят себе вместе на диване…
Скромный и обходительный, не по-московски вежливый и аккуратный Николай Второй довольно быстро обжился в новой для него столичной коммуналке.
Со всеми соседями познакомился сразу, как приехал, и вскоре привык, как будто так и жил в Вериной квартире всю жизнь, да только уезжал иногда ненадолго в славный город Питер на побывку к тетке.
Стал ходить на учебу с удовольствием.
В бывшее свое общежитие зашел вместе с Верой, сердечно встретился с товарищами, познакомил с невестой, посидели, поговорили, пригласили ребят на скорую, видимо, свадьбу.
Жизнь в ожидании хорошего события потекла размеренно и счастливо.
Поля вскоре просто души не чаяла в будущем зяте – и за картошкой сходит, и полы все в огромной квартире идеально помоет в ее дежурство, и в кино Колизей даже с собой приглашал – три билета купил, ну как тут было не пойти, хоть Верка и хмыкала всю дорогу…
Ведь даже сын Николаша ни разу не сподобился мамашу в кино позвать – а этот…
И звать-то его тоже как легко было – так и лежало на языке, что твоя конфетка леденцовая, привычное «Коля-сынок»!
Вера даже матери замечание один раз сделала, что ведь не сынок он ей, что же так Колю-то своего собственного быстро забыла!
Да сама Пелагея, иной раз, уж и думала – вот как будто заменил ей Николашу этот добрый и отзывчивый, ласковый белоголовый юноша.
Но все же ныла душа по сыночку родному, вот и искала себе замены любовь материнская, было бы на кого излить.
Верка-то как была насмешница, так и осталась, не имелось у нее тепла к матери никогда, хотя теперь вроде бы с Андреичем со своим и стала Вера другой – не поймешь только, что-то они оба задумчивые какие-то, все разрешение это на расписку никак не получат.
Спят вместе, как муж с женой – а Вера, Бог ее знает, к добру иль к худу – все пустая ходит.
И неизвестно еще, уж не осталась ли она бесплодная после Володеньки своего – Царствие ему небесное, светлая память павшим…
Полька уж удумала было поинтересоваться как-нибудь, невзначай будто, у дочери, что у ней там – все ли по женским делам в порядке?
Да постыдилась, и забоялась к тому же: еще взбесится Верка опять, как кошка дикая, и выкинет хреновину какую-нибудь, как тот раз при сватовстве с ее бывшим начальником произошло…
Ну ее, пусть как хочет – а там посмотрим.
Главное, чтобы не было войны.
* * *
Вера, между тем, устроилась работать поблизости от дома, на Главпочтамт – разъездной, сопровождающей почту.
А по вечерам – вот же уговорил ее жених Николай! – стала она в вечернюю школу ходить, сначала в восьмой класс, а то ведь только семилетка у нее была, а уж потом – как восьмой класс одолеет, даже и в техникум поступать можно будет.
Ведь неудобно как-то – и права тут тетушка Инна Антоновна – при скором получении высшего образования будущим мужем оставаться самой даже без среднего!
И Вера охотно пошла учится, почти позабыв, что когда-то хотела только танцевать…
Впрочем, на танцы они с женихом тоже как-то сходили, в любимый ЦПКиО, но Коля очень болезненно среагировал на то, что Верочку непрерывно приглашали – виду старался не показать, а сам побелел весь и расстроился как-то очень уж явно.
В общем, удовольствия прежнего от танцев этих Вера никакого не получила.
А дома, в семейной обстановке при такой отсталой мамаше, как Пелагея, тоже не растанцуешься. Да и музыки никакой – бедность наша…
Вот у соседа Йоськи Виндлера, например, был свой патефон, но он его у себя в комнате никогда не заводил, почему-то, зато охотно приносил с собой туда, куда приглашали его в гости.
Места особенно ни у кого в доме не было, чтобы посидеть в гостях «с танцами».
Все ютились кое-как по обгрызенным конатушкам, поэтому молодежь – соседи по дому – чаще всего стали собираться – стихийно как-то – у Вовки Авдеева с Нинон, на третьем этаже, в их огромной – двадцатиметровой – комнате с балконом, точно над Должанскими, теми, что с роялем.
Вовкина мать, старая Авдеиха, после недавней драки с молодой супругой сына, слегла и уже не встала.
Из больницы отвезли ее сразу почти на Ваганьковское – освободила ненавистной невестке место под солнцем – вернее, при солнце – сыночке Сопе.
Вова же не стал горевать – он как бы и не заметил подмены, просто одна вечно орущая на него властная толстая женщина сменилась другой, молодой и тоже почему-то теперь им недовольной…
Да ладно, все бабы такие, лишь бы та веселая жизнь, что началась без матери, продлилась подольше – эх, красота!
И в складчину собирались уже «у Нинон» – прекрасно было само ощущение свободы от надоевших стариков – и от пространства пустой почти комнаты, лишь по углам заставленной высоченными, под пятиметровый потолок, огромными дореволюционными еще шкафами какого-то «красного дерева» – хотя и цветом вовсе даже не красными…
Между шкафами по стенам стояли две кровати – одна простая железная Вовкина, а другая деревянная, большая семейная, мамина, загороженная хлипкой бамбуковой ширмой с затейливым рисунком – журавлиными танцами: покойный отец Вовкин будто бы еще с первой японской войны из Манчжурии ширму эту приволок.
Весь левый дальний угол перед балконом занимал диван – огромный, но без спинок, а с кучей вышитых пестро и затейливо объемными пушистыми розанами засаленных подушек-думочек – мать Вовкина называла диван тахтой.
Над диваном этим, уложить на который легко можно было человек десять, светлело большим квадратом заметное пятно на обоях от бывшего ковра, канувшего куда-то в торгсиновское небытие задолго до войны.
Теперь на стене ясно заметны были длинные темные полосы от раздавленных пальцами клопов…
У самого входа в комнату, за наглухо закрытой половинкой огромной распашной двери приютилась короткая, обитая полосатым когда-то атласом, вроде табуретка, только с завитыми в трубочку боками, то есть несуразная какая-то вещь под названием козетка – Вовка называл ее для ясности клозетка.
На ней сиживала когда-то Вовина бабуля, мать Авдеихи, и горевала об отсутствии своей любимой оттоманки, то есть такой же козетки, только подлиннее, на которую можно было даже и полуприлечь, принимая гостей.
От того времени осталось в темной памяти Сопы краткое стихотворение:
«Я в печальной позе лежу на кэль кэ шозе»– бабушка говорила по-французски и поясняла внуку, что слова эти значат «кое-что, нечто» – и поминала при этом обязательно некую мадам с цветами Рекамье…
Далее произносилась с прононсом чисто русская поговорка о том, что глупо, в сущности, «по волосам плакать», то есть, видимо, горевать по мебели, набитой натуральным конским волосом.
Но все же весьма обидно, не правда ли, что частично бывшая меблировка ее когда-то собственной квартиры номер восемь «отошла» при большевиках вместе с комнатами по соцраспределению новым подселенцам – хамам!
Лишь сестры-медички Гордон за стеной не вызывали отрицательных эмоций у бабушки – хотя тоже прибыли девицы эти в свое время на московские курсы акушерок Бог весть откуда – «с-под Харкива».
Происхождение самой Ба – урожденной мелкопоместной дворянки – тщательно скрывалось в дальнейшем, и спасло ее в революцию только то, от чего она всю предыдущую свою жизнь испытывала страдания – «ужасный мезальянс» с богатеньким купчиком Авдеевым позволил ей и дочери ее записаться в анкете как членам семьи торгового служащего.
Сам же торговый служащий пристроился было за огромную взятку в комитет по продовольственному снабжению, но, увы, пал безвременной жертвой в период раскулачивания после одной из поездок в подмосковную деревню – пал бесславно, от примитивного орудия пролетариата, то есть булыжника в голову.
Дочь вышла замуж по любви за нищего прапора, который сообразил вовремя переметнуться на сторону красных, за что и пожил при красной мебели тещи и тестя аж до конца тридцатых.
Умер он, однако, очень удачно – сам, потому что пил тайно – а иногда и явно, неделями, – горькую, отчего, кстати, и мальчик Владимир, сын его, рожден был не совсем здоровым.
Старая Авдеиха не учуяла поначалу особой угрозы от новой «подселенки» – Нинки.
Она даже и рада была бы прописать на своей, ставшей слишком уж большой для двоих после смерти бабули жилплощади, какую-нибудь достойную, желательно, тихую и покорную деревенскую девушку, с дальней целью заиметь в доме и няньку для Сопы, и бесплатную домработницу для себя.
Нинка же, хитрованка по жизни, потому как произведена была на белый свет в бедняцкой полуподвальной многодетной и горластой семье в деревянном домишке на задворках Сретенских переулков, так уж поначалу мягко стелила – и подстелилась, наконец, под бестолкового Вовика, у которого девушки отродясь еще не бывало ни одной, с его вечными соплями.
Постаралась Нинон на проводах друга его Николая в армию очень даже не зря – тихий и недалекий Вова, по ее восторженным рассказам подруге Юлище, оказался на редкость неутомимым и очень сильным любовником, он мог заниматься этим делом вечно и бесконечно – и уж на что Нинка видала – перевидала в своем подвале всяких разных юрких хахалей, по большей части, правда, одноразовых, – все они и в подметки не годились Авдееву-младшему.
При первом объявлении Сопы о своем намерении жениться как можно скорее, Авдеиха сразу же спросила, почему вдруг такая спешка, и уж не хочет ли, часом, какая-нибудь ушлая прошмандовка повесить на дурачка свою позднюю беременность?
И на отрицательную божбу сына только хмыкнула и велела привести избранницу в дом.
Нинка покорно пришла, в новом креп-жоржетовом платье, с превеликими муками и лживыми обещаниями выпрошенном «на поноску» – потому что единственном – у своей такой же толстой тетки.
Поздоровалась чин-чинарём с будущей свекровью, и, следуя повелительному жесту той, попыталась тихо в углу присесть на бабушкину козетку – но намертво застряла боками, приподняв вместе с собой никчемную ту узкую вещь, и так и потащилась в полусогнутом состоянии до здорового квадратного дубового стола, стоявшего посредине комнаты, чем сразу вызвала бешеный хохот хозяйки и полное обалдение Вовы.
Нинон ухватилась обеими руками за края крепкого стола, а подбежавший Сопа в страшном напряге сдернул все-таки проклятую клозетку с задницы невесты.
Нинка, вся красная и злая, как дворняжка, плюхнулась на обтянутый кожей и вроде крепкий с виду стул возле стола, а тихоня Вовик схватил козетку, распахнул балконную дверь – и выкинул и так уже треснувшую семейную реликвию с третьего этажа прямо во двор.
Авдеиха прекратила смех, выпучила глаза, вскочила и начала визжать на весь дом, что кто тут такие-сякие сопливые распоряжаться еще будут ее имуществом направо и налево, а ну все пошли вон из ее комнаты! И из ее квартиры!
Тут встала и Нинон, так же, как и мама Вовина, уперла руки в боки и заорала даже громче и звонче ее, чтобы посмотрел, дурак, не пришиб ли кого во дворе под окном до смерти своей поганой табуреткой мамашкиной гребаной?
Вова в каком-то даже восторге сначала полез с Нинкой на глазах у мамы целоваться, потом послушно кинулся проверять, свесившись с балкона аж по самые некуда, где же валяется, куда же упала разнесчастная клозетка, но от той даже и следов не осталось – не было никаких обломков под двумя балконами!
– «Да нету там ничего, идите обе сюда, сами посмотрИте!» – призывно замахал руками Вова, и две грузные туши одновременно рванулись в одну довольно-таки широкую двустворчатую балконную дверь – но вовремя и тоже одномоментно вдруг притормозили – дошло до них, что хилый старый балкон всех троих может и не выдержать…
Закончились смотрины на редкость мирно – чаепитием из матово-зеленых чашек парадного когда-то кузнецовского сервиза, вынутого на свет божий из самых потаенных недр авдеевского затейливого буфета – готического зАмка в натуральную почти величину.
Часть 34. Компот
Вовина свадьба с Нинон, как и свадьба Лёльки Настасьиной с Семеном, деверем Полины Васильевны со второго этажа, тоже прошла ранней весной, но только, в отличие от шестой квартиры, очень тихо и как-то незаметно – ну, записались, ну сходили в ЖАКТ, прописали Нинку на свою жилплощадь…
А в паспортном столе даже и не спросили ничего особенного, вот времена-то какие настали, не то, что прежде, бывалоча!
Сама же молодая очень не хотела, чтобы ее многочисленная орава нищебродов-родственничков припёрлась, нажралась-напилась на шару, а потом бы ей же, Нинке – толстухе, и завидовать бы тут же, с места не сходя, начала.
Потому позвала она к себе на свадьбу за столом посидеть не мать с отцом, а одну лишь тетку свою, хоть и малограмотную, но культурно пьющую на людях.
Та ей, кстати, платье то, свое кобеднешное, единственное и неповторимое, безразмерное, на свадьбу так и подарила, носи, мол, Нинка, и дальше, ты в нем, в платье этом счастливом, долю свою нашла!
Вове – мальчику тоже костюм новый справили – из залежалого, дедовского еще, отреза в мелкий рубчик с полоской, да больно уж он, глупый дурачок, брючины широкими, как клеша матросские, сделать в ателье велел – вот ведь сама как недосмотришь – и никакая невеста без места не дотумкает проверить!
Вот и все были подарки – от свечи огарки…
* * *
А после этой свадьбы сына старой Авдеихе стало однажды к вечеру, когда все ещё на работе были, как-то очень уж скучно.
Чаи, что ли, погонять? Или вот, вспомнила, лучше компоту попить!
Вчера поздно, к ночи уж, только сварила, – как Вова любит, из одних почти груш и много сахару – а потом кастрюлю с компотом на балкон остудить вынесла.
Да и забыла, дура старая, утром перед работой сынку-то кружечку налить, так и ушел – он сильно рано на свой завод уходит, что в Даниловском монастыре, лампочки электрические готовые весь день на конвейере проверять, горят ли – или брак…
Нинка сильно позже уходила в типографию её, что в соседнем дворе находится, да этой кобыле и предлагать ничего неохота – и так, как бочка сорокаведерная ходит, руки бубликом, боком в дверь не пролезает – пусть сыночку поболее останется!
Пойти достать, попробовать, что за компот получился, уварились ли грушки-то?
* * *
Авдеиха накинула теплый платок, высунулась на балкон, поежилась от холода, разглядела в сумерках на полу в уголке кастрюлю с крышкой и подтянула к себе, потом перехватила поднять, и пока выносила компот в комнату и закрывала балконную дверь, испытала какое-то очень нехорошее чувство – но не успела вслушаться в себя, как в комнату вошла вернувшаяся с работы Нинка.
Старой Авдеихе так неприятно всегда становилось, если не было сына дома, а эта чужая, никогда не стучась в дверь и потому пугая, нагло и спокойно заходила в комнату, уже вроде бы и ее тоже, ничего не попишешь, а все равно противно…
Авдеиха приоткрыла молча, ни слова невестке не говоря, крышку – и обмерла.
Компоту осталось в подозрительно легкой кастрюле чуть ли уже не треть – а на дне идевательски одиноко сморщилась половинка недоеденной груши…
Нинон даже не поняла, что это вдруг просвистело мимо ее уха, как будто дискобол метнул на стадионе свой снаряд – а отдача от прямиком отлетевшей к Нинкиной башке кастрюльной крышки свалила старушку-свекровь на пол.
Авдеиха яростно задергала руками и головой, силясь встать на ноги и что-то произнести, вращала сильно покрасневшими белками, но только мычала – и вдруг сникла, сомлев, а потом и вовсе закрыла глаза…
Скорая с носилками уже отъехала от дома, когда ничего не подозревающий и так и не узнавший сермяжной правды про постигший родительницу удар Сопа вошел в комнату и увидел, что его жена допивает прямо из кастрюли мамочкой сваренный вчерашний компот…
Часть 35. Потанцевали
Но все это было уже так давно, что перестало казаться правдой – и теперь каждый субботний вечер в комнате Вовы и Нинон происходили веселые посиделки с танцами.
Музыка была обеспечена Йоськой, зачастившим что-то в последнее время уже и на третий этаж.
Танцевали с упоением, под водочку, закусывая чем бог послал, а вернее, тем, что приносили с собой гости.
Не хулиганили, не озорничали – до милиции дело не доходило!
Часто подливая веселому хозяину, иногда и ночевать оставались, загостившись, когда Сопа уже крепко спал на своей «девичьей» прежней постели.
Временные постояльцы утрамбовывались штабелями на тахту, а молодая хозяйка Нинон укладывалась всегда одна на свое просторное супружеское ложе.
Уж кого она пускала к себе под бочок, точно не ведомо, но поговаривали некоторые несознательные якобы очевидцы, что чаще всего обнимала Нинон на ночь дорогую подругу – сухую, как жердь, Юлищу – потому-то, дескать, у молодой Вовиной супружницы и детей все не было!
А с самого края, как ласковый кот, примащивался к обеим подружкам в поздний час, но ненадолго, хитромудрый часовщик Виндлер.
Патефон его уже так и стоял в Вовиной комнате, а то что его было таскать туда-сюда то и дело?
И вообще, стал вскоре Йоська лучшим другом медленно, но верно спивающегося Сопы.
Однажды в пылу дружеских откровений, когда оба вышли покурить на балкон – Йоська, кстати, вовсе не курил, как оказалось, по причине слабых от рождения легких, как он всем объяснял – и не пил ничего, окромя кислятины сухенькой – так вот, на вопрос наивного и полупьяного уже Вовы, почему сосед все еще не женат – ведь это такое, понимаешь, приятное дело! – признался новому другу Сопе друг Иосиф, что он сделать этого ну никак не может, потому что отец его – верующий азербайджанский еврей, и обязан женить сына только на азербайджанской еврейке из такой же крепко верующей семьи.
Сопа почесал в затылке, оценивающе и по-новому как-то посмотрел на соседа – типа, ну надо же, попал! – и мудро посоветовал послать такого тёмного папахена, живущего, к тому же, где-то далеко в горах дикого кавказского забайкалья, а не в столице нашей Родины, на дальний хутор с большим приветом и жениться здесь уж как – нибудь и без него!
Йоська глубоко вздохнул, закатил под потолок свои бараньи глаза с поволокой и сказал коротко и ясно:
– Не дадут! Возле синагоги зарежут! Папа с мамой такого позора не переживут!
– Так ты что, еще и сам в синагогу ходишь? – изумился Сопа.
– А как ты думал? Кто меня тут в Москве бы пристроил, как не наши единоверцы?
Мы все друг за друга, друг за друга – вот и до вершины кто-нибудь доползет!
Все наши про всех своих тут в вашем московском муравейнике знают от и до, и если кому помощь нужна или деньги – всегда пожалуйста!
Но если субботу не соблюдаешь или там явно законы наши попираешь, молиться не ходишь, с гоями и гойками больше, чем надо, на глазах мелькаешь – не сносить тебе башки тогда, сразу в разум приведут и домой отправят.
А то и еще куда похуже…
– А я тебе, Иосиф – вот имя-то у тебя какое, прям и произносить-то страшно! – вот в чем признаюсь тогда: вовсе я по фамилии-то и не Авдеев!
То ведь дед да бабка мои по матери эту фамилию имели, а уж мать моя замуж-то вышла за офицера царского, венчана была под его фамилией как Шадрина, то есть, я же Шадрин должен бы быть, но советская власть их брак не признала без регистрации, и взял отец мой, скрепя сердце, мамашину девичью фамилию – ну а меня и подавно под ней записали.
И не знаю я об отце своем совсем ничего, кто он, откуда, где его родные…
Вот мы какие, русские, иваны, родства-то не помнящие!
И Вова пустил скупую мужскую слезу на плечо тоже заплакавшего друга…
* * *
В одну из таких танцевальных суббот заглянула на огонек к подружке Нине и Вера с женихом – да не с пустыми руками, а с тети Полиными пирогами с картошкой, горяченькими еще, завернутыми в толстую газету.
Пироги тут же разошлись на ура, все до этого танцевавшие присели ненадолго передохнуть, а Верочка со своим Николаем, быстренько выпив положенную штрафную, стали одни исполнять медлееное танго под любимейшую их музыку «В парке Чаир».
Жевание прекратилось, все затихли и не отрываясь смотрели, как эта и впрямь будто зачарованная, слаженная пара создавала чудесную сказку под сладкую музыку забытых и исчезнувших навсегда времен.
Когда замерли последние звуки пластинки, все продолжали молчать – как будто не очнулись еще от приятного легкого сна.
И только Йоська Виндлер, голосом громким и потому неуместным каким-то, вдруг выдал:
– Вот такую я себе хочу жэнщину, Вова! – все бы отдал!
Николай дернулся, было, к нему, – но скандалу не дали развиться.
Тут же нарочито громко и восторженно заверещали Нинон и Юлища, восхищаясь прекрасным танцем, захлопали в ладоши все остальные, но Николай потянул Веру за руку, она по – клоунски стала приседать, шутливо кивать направо и налево, как бы молча благодаря за комплименты и показывая жестами, что от всего сердца рада – и они быстро ушли.
– Зачем ты это делаешь, Вера, к чему все эти твои ужимки дурацкие? Тебе что, так важны эти люди, которые и мизинца твоего не стоят, или приятно было услышать, что выкрикнул этот баран, наконец?
– Коля, а тебе не кажется, что ты слишком высокомерен с моими друзьями?
И разговор их в очередной – который уж – раз не получился.
Они не виделись на неделе не только днем, но и по вечерам, ведь Вера училась.
А ночью в постели, когда обычно и происходили их настоящие встречи, Николай резко отвернулся носом к стене – Вера спала с краю, и тоже повернула лицо к близко стоявшему от дивана круглому столу, полежала немного и стала тихо вытирать набегавшие слезы углом льняной скатерти.
Она пыталась проверить себя, в чем же не права – всегда почти не права, он постоянно недоволен ее поведением.
Что же в ней такое появилось, чего раньше не было – или он не замечал?
Николай утверждал, что в ней погибает настоящая актриса – но это он так шутил, а если уж честно – то Вера очень жалела, что забросила совсем свой танцевальный коллектив, ни разу там после отъезда Капы не появлялась.
А теперь уже, наверняка, поздно – взяли кого-нибудь на их с подругой места, да и времени нет из-за вечерней школы.
Вот если бы поступить в театральное, стать актрисой, разъезжать по гастролям, а может, даже, сниматься в кино…
Но для этого все равно надо кончить школу.
Надо – значит, надо.
И правильно Николай ею недоволен – она недоучка, многого не знает, но делает вид, что понимает – потому что в таких случаях просто молчит, а, как известно, промолчишь – за умную сойдешь…
Но все же еще впереди, и она вовсе не тупица, учится неплохо, учителя даже довольны – а все потому, чтобы понравится еще больше Николаю.
Что же он там, в своем углу, зубами так заскрипел?
Вера развернулась и с силой прижалась всем телом к колючему и угловатому, костлявому и неприступному, родному своему существу.
Но вместо того, чтобы обнять ее в ответ и начать целовать – тихо-тихо, чтобы не услышала за шкафом Пелагея, Николай вскочил, натянул брюки и вышел из комнаты.
Вера долго прислушивалась, не идет ли он из туалета обратно – но его все не было, и она забеспокоилась почему-то.
А потом вдруг, неожиданно для себя, крепко уснула.
И не услышала, как он, наконец, вернулся в комнату, оделся быстро в форму, взял шинель и свой дембельский полупустой чемодан, положил на обеденный стол ключи и тихо ушел из комнаты, невольно хлопнув в конце коридора тяжелой квартирной дверью.
Давно не спавшая Пелагея обмерла в своей постели и боялась пошелохнуться.
Так плохо, так страшно на душе ей не было еще, казалось, даже после прошлых ссор с обожаемым супругом Степаном Ивановичем.
Часть 36. Сады и огороды
…А накануне, в пятницу, произошло одно событие, о котором ни Пелагея, ни Вера так и не узнали.
Пятница была у Николая Андреевича любимейшей на неделе, потому что занятия заканчивались раньше, чем обычно, а на субботу приходился день самоподготовки к скорым уже госэкзаменам.
По пятницам Николай просиживал над книгами и конспектами всю вторую половину дня один в комнате – до самого прихода Пелагеи Васильевны с работы.
Он очень любил это кратковременное одиночество, именно потому, что было оно недолгим.
Устававший от казарменной и коммунальной суеты и от московской вечной спешки, Николай Второй с удовольствием проводил время дома. Он тогда неспешно, с хрустом косточек, растягивался во весь рост на диване с книжкой, подложив под затылок на высокий валик аж три мелко вышитых подушки-«думочки».
Почитав немного, клал раскрытую книгу на грудь корешком вверх и впрямь задумывался, глядя в высокий потолок на нежную голубоватую тень от объемного белого полукружья лепнины для люстры.
Эта половинка большого круга, перевитого гирляндой из дубовых – или лавровых? – гипсовых листьев, и разделенного, как диагональю, межкомнатной стенкой, была не пуста.
Ею обрамлялась часть фигурки ангелочка, вылепленной в самом центре потолка огромной когда-то комнаты.
Взгляд привычно упирался в толстую алебастровую попу и ножки, все в перевязочках, с круглыми пяточками, ангела-ребенка – улетевшего уже наполовину на едва обозначенных кончиках крыльев в соседнюю, дяди Пашину, комнату, такую же узкую, как и комнатка Пелагеи.
Странные мысли приходили тогда Николаю – ему сразу очень хотелось встать и пойти в ту соседскую комнату – «досмотреть» купидона, или младенца-гения, трубившего в рог – изобилия? и рассыпающего цветы и фрукты – а может, это были такие сладкие, душистые звуки?
И, так и не сходя со старого Пелагеиного дивана, дорисовывая в воображении кудрявую и пухлощекую улыбчивую головку, Николай в некоей полудреме явственно ощущал странное желание – чтобы Вера родила ему когда-нибудь вот такого же толстого младенца…
Но только хорошо бы – девочку, которую можно было бы брать на руки и не отпускать от себя, прижимая к сердцу этот тяжелый, теплый и – свой, абсолютно свой! комочек.
… Он помнил смутно, но точно, что уже держал когда-то, давным-давно – в страшно далеком и очень солнечном, ярком кусочке своей жизни, маленькое теплое существо в мягкой на ощупь пеленке, помнил это скорее даже пальцами, руками и косточками под животом, чем ушедшим почти, полустершимся и очень обрывочным детским ощущением.
Николай совсем забыл, как выглядели его родители – он уже у тетки, немотствующим ребенком лет шести, видел иногда во снах лишь лицо матери – наклонявшийся над ним светлый смазанный овал с лунными лучами пушистых волос, – мальчик тянулся весь к этой незнакомой и всегда печальной женщине – и просыпался в слезах.
А потом обязательно приходил и внезапно накрывал душу ребенка такой черный страх, что лучше было бы и вовсе не просыпаться.
И если в незанавешенное окно комнаты светила луна, он ее боялся, потому что в ярком диске контурами будто проглядывало чье-то неземное, равнодушно-недоброе лицо – маска ожившего мертвяка.
…Утешала тогда его, мычащего во сне, разбрасывавшего острые худенькие локти и коленки и глухим стоном на «А-а-а…» все зовущего кого-то, мягкая и ласковая бабушка-соседка Елизавета Ермолаевна, она или сама ложилась рядом, или брала мальчика из постели на руки, носила его по комнате, приговаривая что-нибудь тихое и доброе, и он засыпал уже без снов.
А днем успокаивала маленького Николая большая вода прекрасного города – Нева, ее каналы и притоки.
В любую погоду он смотрел подолгу с какого-нибудь – высокого или малого горбатого – моста на стального цвета тягучую поверхность вод как зачарованный, и этот морской и речной одновременно город завораживал его, восхищал и видимо давал силы жить.
Тетка Инна Антоновна говорила тогда старой соседке Елизавете, что те, кто рожден и вырос возле Большой Реки – любой большой реки, – но сама Инна имела в виду в первую очередь Волгу, на которой и родилась, и выросла – то без гулкой тишины этой огромной воды ощущать жизнь в полную силу такие люди уже не смогут.
Они пожизненно влекомы к речному простору, и их всех так же, как море тянет к себе родившихся на морских берегах, непреодолимо прибивает когда-нибудь к родному берегу.
…Тетю Инну вернул лишь однажды на родину ее детства великий голод.
* * *
Бабка Инны и ее старшего брата Андрея была поволжская немка, из потомков переселенцев-колонистов еще Екатерининских времен.
Эти немецкие колонисты быстро и отлично наладили близ Саратова, кроме всего прочего, разведение нюхательного и курительного табака, и торговлю им вывели на второе место после соляной в Поволжских губерниях.
Бабка смогла «обрусеть» до конца, и почти единственным немецким словом было у нее «арбайтен-работен», да еще вот напевала она вдруг бездумно, занимаясь вечно каким-нибудь делом, сама себе под нос, старинные немецкие песенки, видимо, колыбельные.
Зато сумела передать и своей единственной дочери – полу-немке по материнской линии – и обоим внукам стремление к этому «работен» по-честному и с душой, доводя любое начатое дело, каким бы долгим, трудным или муторным оно ни было, не просто до завершения, а до абсолюта.
Сама бабка Ганя – Ханна по-немецки – была сызмальства простой – да не очень-то и простой! – домохозяйкой в маленьком, но добротном охотничьем домике своего отца – егеря.
Тот похоронил в долгой дороге переселения из силезских чахоточных болот на Юг неизведанной, но благодатной, по рассказам, России свою жену и остался один с дочкой-подростком на руках в незнакомой и нищей местности.
Так и не обнаружив на великой русской реке Волге никаких кисельных берегов, егерь поступил на работу в имение, в распоряжение местного управляющего – тоже немца – у одного саратовского помещика, и стал строить себе маленький домик, а дочка – разводить перед этим домом огород и даже сад.
На ловко сколоченной деревянной тачке с большим, но легким деревянным же колесом девочка Ханна привозила в тяжелых комлях земли яблоневые и терновые дички, кусты дикой малины и черемухи, найденные и выкопанные ею в пойменных глухих зарослях.
Под каждым малым деревцем Ханна аккуратно вокруг стволов раскладывала живыми мокрыми кусками длинный болотный мох и рядом высаживала кустики земляники.
За отхожим местом вырыла однажды жарким летом неглубокую, но широкую круглую яму, стенки ее изнутри и дно укрепила плетеными ивовыми прутьями, так, что получилась огромная корзина, как бы утопленная в землю.
Положила над этой ямой сверху – ровно посередине – бревнышко и оплела его, как двумя крыльями бабочки, ивовыми же полукруглыми крышками.
Завалила дно этой корзины сначала сухими листьями, на которых разложила мох, и на нем уже рассыпала и расправила слегка еще какие-то корешки-ниточки с землей и зеленой травой – и снова засыпала все листвой и сеном.
Накрыла крышками по бокам – и прямо на крышки этой своей «плетушки» каждый вечер лила воду – как будто бы и поливала.
А к концу лета выросли в ее корзинке грибы – круглые, очень белые, с темно-коричневой подпушкой шляпок.
Пожарила Ханна эти грибы, подала отцу, ничего не говоря, вечером за ужином с картофелем.
Тот попробовал, языком защелкал, как вкусно показалось – но и спросил вдруг грозно, откуда курятина, неужели цыпленка малого безо времени зарубила, или в курятнике ласки побывали, кур подушили?
Узнав про чудо-грибницу, отец дочку очень похвалил, сказал, что у нее, видимо, от рождения «зеленый палец!» – то есть, все у нее растет, к чему ни прикоснется – и велел ей сделать еще одну такую корзину.
Ханна, когда чистила дома и другие грибы, лесные, всегда воду с обрезками сливала в грибницы, так что впоследствии стали в ее корзинках появляться и лисички, и сыроежки.
Грибы пришлись по вкусу и старому управляющему, бывавшему в охотничьем домике в гостях, и тот привел Ханну в имение, познакомить с садовником.
Русский садовник и сам был не лыком шит – учился у одного француза разводить зимние сады, но только от Ханны узнал он толком, как правильно выращивать барскую прихоть из Европы – нежные грибы-шампиньоны да безвкусную непонятную спаржу.
Девушка Ханна так и осталась служить при господской оранжерее.
Но и свои посадки никогда не забывала.
Местным мальчишкам предлагала поливать ее огород, и за каждую третью бадейку принесенной из далекого ручья темной торфяной воды давала по свежему огурчику с медом, или по кружке топленного с малиной молока.
Вскоре на огород с красочным смешным – нерусским – чучелом и на садик перед домом егеря в немецкой слободке за светлым низким заборчиком стали приходить любоваться окрестные жители.
Домиком самим восхищались тоже. Не говоря уже о цветах.
Под привитыми Ханной молодыми яблоньками расцветали ранней весной ровными волнами на оттаявшей земле, сначала впритык вокруг самых стволов, белые и синие подснежники на тоненьких зеленых стебельках.
Потом пробивались, чуть позже по весне, более широкими ободками лесные фиалки и ландыши, и затем окаймляли их зелень после цветения, в начале лета, вовсе уж по краям отствольных кругов нежные и удивительно разноцветные – немецкие! – лиловые маки и бледно-розовые, а не голубые, крупные садовые васильки.
Зрелым же летом мальвы всех оттенков – стеной вдоль посыпанных белым и стеклянно-блескучим на солнце отборным песком дорожек, никогда не зараставших, потому что – соленых от местного этого песка! – поднимались выше головы, соревнуясь в росте с мелкоголовыми, лохматыми в коричневой медвяной сердцевинке и цыплячье-желтыми по лепесткам подсолнухами, тоже высаженными в один стройный ряд перед загородками – для красоты, а не для лузганья их семечек.
Осенью капуста егерская давала огромные кочаны, а горох, репа и брюква «сладкие были у Ганьки, как сахар».
Многие стали просить семена на рассаду, некоторые соседи хотели обменять овощи на муку или зерно.
Однако, когда Ханна решила предложить на обмен и свои «белые» грибы, русаки ее обсмеяли, сказали, что грибы эти – поганые, растут сухие на каждой коровьей лепешке за любой околицей, пока не сопреют, и что только немцы могли так учудить – грибы эти ядовитые есть, да еще и выращивать!
Ханна этих русских не понимала, и все только повторяла:
– «Но почему же вы не знаете – это же шампиньоны! Шам-пинь-оны!!»
– «Да иди ты со своими ентими шы – шы – шпиёнами! Сама их хавай, да смотри, ти, моя, не отравися-ти!» – возмущались бабенки из местных…
Ханна очень обижалась на них, просто до слез.
Жаловалась отцу.
Тот гладил ее по голове, успокаивал, как умел, повторял ей уж в который раз, что они здесь – только колонисты, пришлые люди, и что нигде не любят тех, у кого хозяйство поставлено много лучше, чем у других.
Со временем Ганя вышла замуж – все-таки за русского, хоть и вопреки воле отца.
Но зато сосватал ей этого русского жениха сам управляющий – вот так и стал ее суженым сын старшего садовника – первый помощник отцу по оранжерейному делу, скромный и тихий белесый малый, беззаветно любивший и свои деревья, и свою немецкую, но окрещенную в православную веру, молодуху Ганю.
Родилась у них дочка Паша – Павлина-Паулина.
Замуж она вышла рано, и тоже за местного русского – Антона-плотника, и с ним успела нажить только двоих детей.
Антон прожил на земле недолго – утонул в Волге жарким летом, купая коня.
Оступился коняга, заскользил по дну под сильным течением, захрапел, забарахтался, стащил за собой под воду хозяина, да с испугу и ударил его по виску копытом.
Было это в памятный год столетия Бородинской битвы, в самый разгар подготовки губернии к приему государя-императора – в преддверии всероссийского празднования трехсотлетия Дома Романовых.
И не дано было узнать молодому Антону-плотнику, что будет дальше с несчастной Россией и с не менее несчастной его супругой Пашей – вдовой с малыми детками: тихоней Андреем и умницей-любимицей Иннушкой…
Пришла в жизнь беда, да как водится не одна.
Первая мировая война докатилась и до старого домика бабы Гани. И хотя поволжские немцы давно уже стали добропорядочными россиянами, начались притеснения.
Юная вдова Паша-Паулина, унаследовав от своих родителей дар умело обращаться со всякими растениями, научилась от матери своей и искусному выращиванию грибов – старинная, давно уже сопревшая в дедовском саду корзинка с шампиньонами дала мощную разветвленную грибницу-огород, обновлявшуюся из года в год и приносившую большую пользу в хозяйстве.
Но вот из-за этих-то грибов и пострадали впоследствии все почти отпрыски бабы Гани – потому что прозвище в деревне за нею, а значит, и за всеми ее последышами, так и осталось:
«Ганька – шпиёнка»…
* * *
– И когда кто-то из завидУщих соседей добавил однажды к старому семейному прозвищу еще и слово «немецкая» – то вдОвой Паше с детьми стали уже и откровенно, вслух, угрожать, и даже гнать ее «домой в Неметчину».
Но, как будто бы по пословице – «не было счастья – да несчастье помогло» – разразилась Февральская Революция, а за ней и Октябрьская – и оба этих события не затерли, не уничтожили, а наоборот, объединили бывших немецких колонистов в свою отдельную автономию в молодой республике Российских Советов.
Трудолюбивая Паша и детей своих – Инночку и Андрея – приучила к разумному хозяйствованию, работали все они, и старая бабушка, и дед, не покладая рук – и пышно цвели ими посаженные сады каждую весну, а изрядно политые их трудовым потом огороды поддерживали жизнь при любых неподвластных переворотам условиях…
Дети незаметно подрастали, а старики также незаметно старились – и тихо померли, друг за другом, уйдя в сады вечно цветущие…
Паша – «шпиёнка» сама так и не вышла больше замуж.
А вскоре пришлось женить сына Андрея, от которого после деревенских посиделок забеременела красавица-невеста.
Русские родители девушки выгнали ее из дому.
И тогда сын привел ее в свой дом, сказал обо всем матери – та обняла молодую плачущую девушку, поцеловала и оставила жить.
Так потом сами, без родичей со стороны будущей жены, и свадьбу сыграли, и стали младенчика ожидать.
А дочку Инну проводила Паулина на учебу в город – способная очень девочка оказалась, все учителя ею сельские нахвалиться не могли, и сама она к учению очень стремилась, – да и тесновато стало в домике прадедовском после женитьбы Андрея.
И, не дожидаясь, пока жена брата родит ребенка, освободила дочь Инна родительский дом и поступила сходу на рабфак при Саратовском университете, квартируясь год целый с подругой у знакомых.
А со второго курса перевели Инну – как лучшую студентку, «одаренную способностями к математике» – в государственный университет далекого города Ленинграда, где выделили ей место в общежитии и зачислили на повышенную стипендию.
Инна домой даже на каникулы не приезжала – и далеко, и денег особых нет, писала матери тоже не часто – времени не было, с головой погрузилась и в учебу, и в общественную жизнь.
В письмах справлялась о здоровье родных, особенно хотелось бы увидеть, наконец, маленького племянника.
Время шло, а она все не сообщала ничего нового о своей личной жизни – все о друзьях, так и не ставших женихами, да и то писала вскользь, а больше о том, что ее интересует исключительно наука – и не могла выбраться на каникулы домой, а может, и не хотела…
Брат Андрей сообщил, что скоро у нее уже и второй племянник – или племянница – появится, звал приехать – Инна даже не обещала, а присылала редкие посылки.
Однажды с оказией, через военного одного, передала «много мануфактуры» – на пеленки будущему ребенку, на платки, и платья матери и невестке – и на рубашки Андрею и маленькому его сыну Николаю хватило, вот как даже!
Но слышала, знала, да и нутром чувствовала Паулина, что городская жизнь была и трудной, и голодной. И чем уж там кормили Иннушку в студенческой столовой – наверное, пустыми щами из мерзлых овощей да котлетами из той же черной картошки…
Потому что даже в богатом Поволжье жизнь в начале тридцатых вдруг изменилась – и круто пошла вниз, как с ухаба рухнула, а из-за чего – непонятно…
Засуха и неурожаи бывали нередко, но в тот год пришло – и уже не исчезло никогда более – кое-что похуже: отнимать вдруг стали у людей все трудно нажитое, скот, урожай – и объединять всех принудительно в коллективные трудовые хозяйства, а неплохой урожай приказано было осенью полностью отдать – приехали военные, все забрали и отправили на элеваторы – для «выполнения государственного плана хлебозаготовок», как говорили понаехавшие из городов – да даже и среди своих расплодившиеся вдруг, как та же саранча – и откуда только взялись? – агитаторы.
Планы в больших городах, может, и выполнили – а вот в деревне заволжской, прежде и сытой и зажиточной, сократились и посевы, и поголовье скота – «объединенный скот» первым начал голодать и гибнуть, потому что корма взять для него стало негде – не запасли городские, все отобрав, не догадались, умники…
Горе-колхозники стали скот забивать, но их наказывали беспощадно те же агитаторы, тогда люди сами начали пытаться уйти в города, но их не отпускали, а самовольно ушедших предавали суду.
Налетевшая на беду на Поволжье суровая бесснежная зима 1932 года и вовсе уж житья не дала, а весной деревня ринулась на мерзлые поля – «колоски собирать» и – ловить сусликов, мышей, кротов, ставить силки на перелетных птиц.
Летом начались «посадки» – то есть, стали людей сажать «по указу о защите социалистической собственности» – приговаривали обезумевших от голода полуживых собирателей прелой гнилой брюквы – матерей от голодных детей, да и самих детей – еле шевелящихся полувзрослых подростков с расшатанными от зимней цинги зубами – к долгим годам тюремного заключения.
Люди гибли быстрее сусликов, брели, ошалелые, по бездорожью из деревень до городов и замертво падали на землю, или на шпалы железной дороги, чтобы больше никогда не подняться…
… Облик Инниной аккуратной слободки вдруг изменился до неузнаваемости.
От прочных крестьянских домов местами остались лишь трубы печек и горки мусора и угольков.
А новоиспеченные колхозники, работая за неоплачиваемые трудодни, стали менять вещи на хлеб, поэтому одежда у всех обносилась.
Дворы опустели, и появились признаки почти забытых еще в двадцатые годы эпидемий: тифа, чумы и холеры.
* * *
От холеры вымерла слободка почти полностью, помер и брат Инны – Андрей, и его молодая жена, и младшенькая девочка.
Ушла со двора хоронить их всех друг за другом на дальний погост – то есть, увозила их тела на древней семейной тачке с большим колесом, чтобы сбросить в общую яму под тонким слоем земли и гашеной извести, – свалила и сама пропала – и все не возвращалась в опустевший страшный дом с хлопавшей на ветру полу-оторванной дверью – бабушка Паша…
А пятилетний Коля, не дождавшись ее, со страху убежал далеко от своего дома уже под вечер, долго прятался по чужим опустелым дворам, к ночи залез в просторный под чьей-то огромной печи, торчавшей трубой в выгоревшей до тла слободской избе, как в зев огромной Рыбы-Кит, и закрылся изнутри большой заслонкой, как закрывала его, паря в протопленной остывающей печке, когда – то сама бабушка.
Там он пролежал долго, прикрытый от ветра, сначала плакал, потом уснул, проснулся, и терпел днем до тех пор, пока жажда – мучительнее, чем даже голод – не выгнала ребенка снова на улицу.
Обессилевший Коля проплелся к знакомому ручью за околицей, на который ходили они однажды с отцом – тот учил сына ловить рыбу-пескаря, подводя в воде под стайку любопытных рыбешек картуз и быстро вынимая его из воды вместе с добычей.
На затоптанном песчаном берегу большого ручья он припал к воде, жадно напился, встал и увидел краем глаза, что в кустах, сбоку от него, совсем рядом, белеет краями знакомый тканевый фартук с вышитыми гладью петухами, потом заметил пеструю юбку – да, да, бабушкину!
Он заплакал громко, подбежал поближе к лежавшей в землю лицом бабушке – прямо в шее у нее, под пучком растрепанных волос и спущенного на плечи платка, торчала лопата с обломанным черенком.
Ребенок больше ничего не рассмотрел – упал без сознания, и не рассказал ни разу, – потому что онемел – о том, что увидел, и что с ним было – и дальше тоже долго молчал, когда его нашла приехавшая слишком поздно тетка, так ничего и не узнавшая о страшном конце родной своей матери – «шпиёнки».
(продолжение следует)
Часть 37. Сундук
«Каждый – убивец самому себе, что стар, что млад. И не надо другого никого винить.» – сказала однажды Пелагея.
Николай Андреевич сначала, когда услыхал эти, промелькнувшие мимо ушей, слова Пелагеи, быстро раскатывавшей скалкой тонкое тесто для лапши, – слова негромкие, в ответ кому-то из соседок на коммунальной кухне, – то даже и толком их не запомнил.
Запала в душу интонация – знающей все наперед, много безнадеги пережившей, но не отчаявшейся ведуньи.
Да, Мать права.
Николай сразу, как только поселился у Веры, стал называть Пелагею не по имени-отчеству, а «мать». Не мама, нет, к ней это слово не подходило совсем. Только Мать – как родина, как сыра-земля.
Права Пелагея.
Это только кажется, что людям «помогают» уходить на тот свет – другие люди, невыносимые или случайно смертельные обстоятельства, болезни и черные неотступные мысли – нет, все это окончание земного бытия заложено в самом тебе.
И носит этот неизбежный конец внутри себя каждый, от первого своего вздоха, едва выйдя из материнских теплых вод.
А вот протянуть с последним глотком воздуха до восьмидесяти или девяноста, и не впасть при этом в маразм, или, скорее, в детство – опять же для других, сам-то человек в любом состоянии, даже в коме, наверняка знает про себя, чего он хочет и как живет, чтобы осуществить задуманное – так вот, продлить свое существование на этом свете, то есть просто подольше продержаться в краткий период между удачной закладкой биологической бомбы жизни человека до ее обязательного взрыва в конце, что, собственно, и означает прожить долго – это уж искусство, высший пилотаж.
Этот разной длины бикфордов шнур – жизненный путь, а вернее, вечная попытка убедить самого себя, что можно как-то определить, а там уж даже, Бог даст, и изменить его длину – и ощущается людьми по-разному.
Инстинкт здесь бессилен – и ни самосохранение, ни стремление к самоуничтожению не могут удлинить или укоротить Богом данный шнурочек.
И еще – нельзя плевать на то, из какого материала достался человеку этот невидимый кусок шнура – будь он хоть из веревки, хоть серебряной цепочкой – держи его в чистоте и не завивай ненароком или нарочно вокруг своей шеи.
Плевать вообще не стоит ни на что и ни на кого. А также ни при ком. Как это соседка Лизочек что-то в детстве Коле из библии пересказывала, что нельзя изрыгать из себя ни слюны, ни гадких слов, как-то так…
Топка кислородного костерка под названием новая жизнь начинается только при условии, что случайная встреча двоих высечет вдруг искру и превратит этих сопряженных друг с другом незнакомцев, иногда и независимо от их желания, в отца и мать.
Искрящийся бенгальский огонь плотской любви дарит людям большие семьи.
Но в любой семье каждый растапливает свой костерок самостоятельно.
Ему обязательно помогут дровишками – как-то покормят и в младенчестве, потом в детстве, а в юности он все возьмет сам, любым способом.
Кто – как тот ласковый теля, который двух маток сосет.
Кто-то – как сможет, не задумываясь, иногда и выламывая руки тем, кто его любит.
Другой – как клоп, или пиявка, не отвалится, пока не насосется.
Иной – и вовсе как глист, невидимый сидит внутри в печенках и там же и гадит, где жрет.
Но большинство для горения этого костра на полную катушку начинает работать самостоятельно. Чтобы и прокормиться, и отдать долг, и позволить себе роскошь самому кормить свою собственную семью и детей.
А бомбы эти, то есть мы сами, человеки, по-разному взрываются, то громко, то, как вдали – глухо и неприметно, но взрываются все и всегда. Святая смерть – умереть сразу, не успев ощутить боли от собственного распада. Или во сне, дома, не болея, а внезапно – тихо уснуть и не проснуться. Эта святая смерть, в чистоте телесной, даруется немногим.
Если смерти – то мгновенной…Некоторые бомбы просто с шипением гаснут, некоторые лежат десятилетиями в земле и не взрываются до очередных раскопок прошлого – и тогда их обязательно пытаются обезвредить, то есть осуществить заветную мечту самой этой биобомбы быть уничтоженной чужими руками.
Но бывает и так, что чужие-то руки оказываются невинными мальчишескими: налетают на такие бомбы, давно затаившиеся в прежних, заваленных новым мусором руинах, мелкие несмышленыши – дети и пытаются подорвать найденное богатство, не прислушиваясь к грозно предостерегающему молчанию неразорвавшегося снаряда.
Если раны – небольшой.* * *
В ту пятницу мысли Николая о ребенке от Веры прервал длинный одинокий звонок.
Кто-то из соседей открыл, о чем – то спросили, потом голоса двинулись внутрь квартиры, вдоль по коридору зазвучали шаги – точно, грохот от подкованных сапог, этот звук Николай смог бы узнать и во сне – и вот кто-то остановился перед его дверью и постучал – но не властно, а осторожно, неуверенно как-то.
Николай встал с дивана, оправил рубашку, поддернул брюки – ремень он вынул, когда завалился почитать – и спокойно сказал:
– «Да! Войдите!»
На пороге за открывшейся дверью, невольно зажмурившись от прямого света ярких еще, хоть и предсумеречных лучей солнца из огромного окна, возник небольшого роста, но крепкий и очень голубоглазый и светловолосый – или седой? – старший сержант в полном походном обмундировании.
– «Я извиняюсь, здравствуйте, а Вера здесь живет?» – спросил сержант, и, не давая ответить, тут же продолжил: «А Вас я знаю! Вы – Николай, верно?»
Николай Андреевич утвердительно кивнул, вроде бы и поздоровавшись, и жестом пригласил гостя пройти поглубже в комнату, после чего прикрыл за ним дверь и молча стал снимать с него шинель.
Гость поддался легко, начал рассупониваться, поглядывая с опаской на свои кирзовые сапоги, на что Николай Второй ответил щедрым хозяйским отрицательным жестом – мол, ничего, ничего, не надо разуваться, и так сойдет! – и тогда гость, облегченно вздохнув, вынул из вещмешка два каких-то явно мягких газетных свертка, пару банок мясных консервов, буханку черного, по-деревенски душистого хлеба и, наконец, поллитровку.
Коля в ответ достал из буфетных недр два чайных стакана, начатый батон белого московского хлеба, блюдце с сыром, тонко нарезанным еще вчера и успевшим пустить значительную слезу посередине завернувшихся осенними листьями подсохших ломтиков, две чайных чашки, фаянсовый чайник со старой некрепкой и полу спитой уже заваркой и сахарницу с песком и двумя слипшимися навек карамельками типа «подушечки» – более в буфете Пелагеи ничего съедобного не оказалось…
«А Верочка где?» – усевшись за гостеприимный стол, спросил сержантик.
«На работе, придет после восьми вечера.»
«Эва, как поздно – то! У меня билет на Курский вокзал до родины, до Черни Тульской области, на шесть вечера! Что же, я так ее и не увижу?»
Николай Второй уже разлил тем временем по первой.
– «Ну, за встречу!» – произнес он, чокнулся с гостем – и оба залпом выпили.
Тут же, занюхав сыром и дружно положив его на место, налили по новой.
Сержант стал ловко открывать своим армейским складным ножом банку консервов.
В комнате, раззадоривая скрываемый голод молодых мужиков, поплыл запах настоящей тушеной говядины – с ума можно было сойти, как здорово запахло!
– «Да, Коль, я ведь не сказал тебе, что мы с тобой – тёзки! Так давай выпьем за наше знакомство, за мир и за дружбу! Ты похватывай, похватывай мясцо-то, это ведь тебе не московские полудохлые харчи!» – и гость, тоже, как оказалось, Николай – который вот только – Третий, что ли? Но такого в российской истории не наблюдалось, вроде бы? – щедро навалил из банки на нарезанные довольно тонко, почти как и сыр, куски белого хлеба красное мясо, прикрыл сверху один такой бутерброд еще и толстым ломтем от ржаной буханки и протянул все сооружение, ловко перевернув, прямо к губам Николая Андреевича.
Пока тот с наслаждением прожевывал это редкое произведение искусства, гость успел налить и по третьей. Потом торжественно как-то произнес:
– «Братка, Николай, не знаю, слыхал ли ты обо мне от Верочки – я родом из той же деревни, где живет тетка твоя, Александра Васильевна, – из Лужён, то есть, а фамилия моя знаменитая – Генераловы мы.
Мишка, брательник мой старшой, – муж двоюродной вашей с Верой сестрицы Марии, и ребятеночек у них уже есть, девочка Галя, то есть, племяшка ваша с Верой двоюрОдная! А моя – так и вовсе рОдная племянница!
Галю мы с Верочкой годов пять тому назад вместе окрестили, то есть, с Вериной самой близкой подругой Шурой Филиной мы были крестные отец и мать, значится, и стал я Шурке ФэДэ кум, а она мне кума.
Но главное, что и с Верой, и с тобой, Николай, мы теперь через девочку Галю почти что родня!
Но приехал я сюда к вам в столицу нашей Родины сразу после срочной, в отпуск, чтобы стать Вам еще роднее! Потому как остаюсь на сверхсрочной и хочу забрать с собой Веру – сначала на родину на мою – и ее предков, в деревню Лужны, а потом в мой военный городок под Кременчугом – где я еще и не был сам ни разу!
И хочу перед тем, как спросить и Верочку, и всенепременно мамашу ейную, то есть вашу мамашу! – Пелагею Васильевну – хочу задать тебе, братка, тоже вопрос: как ты на это смотришь?
Каюсь, брат Коля, писал я ей редко, все больше думал о ней день и ночь. Но ты меня прости, друг, не обижайся – да я и писарь-то не ахти какой, но в душе горит к сестре твоей Вере неугасимый огонь! Давай за это мы и допьем по последней!» – и сержант выпил, закусил, потом вдруг заоглядывался, вроде и не заметив оставшийся стоять на столе после долгих его слов, так и не тронутый хозяином комнаты, стакан с «последней».
– «Брат, вот Вера, твоя сестра, мне еще в деревне рассказывала, что живете вы в огромной своей собственной квартире, что обслуживает вас прислуга наемная – одна готовит, а другая белье стирает и чинит – потому как отец ваш находится постоянно на секретном партейном посту, очень высоком, и с вами может видеться только изредка, так сильно он занят по работе, и что комнат у вас на троих с мамашей не меряно, все они большие, просторные, и окнами прямо в Кремль упираются, и что когда куранты бьют, то вы аж глохнете от ихнего звона и поскорее, если лето, окна закрываете!
Дай же мне хоть глянуть из окна из Вашего, на Кремль вблизи посмотреть!!!
Да, а вот еще она мне что говаривала, что стоит в вашей самой большой комнате в квартире черный фортепьян, или же рояля, и Вера на ней любит по вечерам всякие ноты разыгрывать! Дай же хоть на тот инструмент мне подивиться, я музыку очень уважаю, сам играю на гармонии, – проводи в свои хоромы!»
– «Знаешь, что я тебе отвечу, дорогой ты мой старший сержант Генералов Николай Батькович?»
– «Ивановичи мы с Мишкой, чтоб ты знал далее!» – восторженно уточнил Коля Белый.
– «Да-да, ясный перец, кто же у нас в России не Иванович? Ну, так вот, дорогой мой Николай, должен я буду тебя сильно огорчить! Очень сильно!
Но ты, милок, не унывай, держи фасон и армейскую выправку!
Вера вот уже год как замужем.
Не далее как завтра утром уезжает Верочка со своим мужем на Дальний Восток, на всю оставшуюся жизнь.
Вот такие дела, товарищ старший сержант – прости и не грусти!»
– «Т-так-с, понятно… Опоздал я, значит, с явкой со своей… Ну, ладно, Николай, пошел я тогда, что ли, на вокзал, там поезда подожду… Нет, ты не провожай меня, брат, пожалуйста, я сам… Передай эти вот гостинцы, что в газете, Вере, будь другом, и мамаше вашей – там они разберутся сами, кому что.
То-то ты водку не допил – не надо, зла не оставляй, допей, Коля, за наше с тобой и Верочкино здоровье. Ну, пошел я…» – и он быстро встал, подошел к вешалке, снял свой мешок, потом стал было в задумчивости натягивать, не попадая в рукава, уже протянутую ему Николаем Андреевичем шинель, но вдруг резко рванул ее к себе и, так и не надев, открыл дверь комнаты.
– «Да, товарищ Генералов, а что касается рояльного инструмента – разве ты не заметил? Вот же он, в углу стоит! Хотя иногда на нем в очередь дрыхнет ленивая наша прислуга!» – и Николай Второй протянул руку по направлению к Полькиному деревенскому огромному сундуку с приданым, окованному по углам ржавым железным кружевом…
Коля Белый дико взглянул на натужно хохочущего Николая Андреевича и пулей вылетел из комнаты, немного повозился с замком парадной двери и навеки покинул волшебную по долгим представлениям со слов любимой Верочки шестую квартиру по Чудову переулку близ Кировских Ворот.
Часть 38. Прыжок
У Польки не зря болело сердце и ныла душа в ту ночь – потому что не только у дочери не заладилось опять в жизни – но и у сына ее, у любимого Николая Степановича, в далекой его армии на Дальнем Востоке тем временем случилось непоправимое.
В местной армейской мелкотиражке напечатали об этом примерно так[1]:
«Командование части с прискорбием сообщает, что вчера ночью, в результате несчастного случая, при исполнении внепланового разведдесантирования силами двух парашютистов, погиб командир взвода, старший лейтенант комсомолец Михалев Пров Игнатович. На экстренном собрании в клубе оставшийся в живых его напарник по исполнению поставленной задачи, заместитель командира взвода старший сержант комсомолец Офеничев Николай Степанович, а также командир и члены экипажа несущего самолета Ан-2 подробно рассказали, как всё это произошло.
Несчастный случай имел место при выполнении затяжного прыжка. Командир взвода вследствие более легкого физического веса и малого роста должен был по инструкции прыгать вторым. Однако, что подтверждается всеми участниками операции, неожиданно ст. лейтенант Михалев поднялся с места прежде сигнала и закрепил свой карабин от вытяжного фала к тросу перед ст. сержантом Офеничевым, а затем, уже по сигналу, прыгнул первым, в грубейшее нарушение установленного порядка. После он начал раскрывать свой парашют также с нарушением назначенного заданием времени в сторону упреждения.
К тому же случилось усугубившее ситуацию природное обстоятельство – при выполнении прыжка его не до конца раскрывшийся парашют попал в мощный восходящий поток воздуха, а так как десантник был небольшого роста и небольшого веса, его стремительно понесло вверх и вбок.
В этот момент его заместитель взвода, старший сержант Офеничев, влетел в его стропы, запутался в них и сапогами – непреднамеренно, а в силу инерционной тяжести падения с ускорением – ударил своего командира взвода в голову. В результате удара старший лейтенант скончался, а старший сержант ещё какое-то время, зацепившись за стропы командира, продолжал полёт вместе с уже не подававшим признаков жизни старшим лейтенантом Михалевым. Затем ст. сержанту удалось отделиться от парашюта старшего лейтенанта и успешно приземлиться, так как их унесло недалеко от назначенного места десантирования.
Командование части из этого несчастного случая со смертельным исходом будет делать соответствующие оргвыводы.»
…Пока командование делало свои выводы в этом весьма прозрачном случае, Полькин любимый сыночек Коля сидел, а вернее, ходил отвечать на допросы, на губе, вплоть до окончательного решения начальства, что же с ним теперь делать.
Через месяц его отпустили, полностью оправдав, дело закрыли, тело погибшего Михалева уже успели отправить на родину малой скоростью в оцинкованном гробу, так что проститься с комвзвода у Николая не получилось.
А прощаться ему пришлось вскоре со всеми, с кем он служил и вместе выступал в самодеятельности – «согласно отдельного распоряжения» руководства его переводили – с исключением из комсомола и разжалованием в рядовые – в стройбат под Тамбовом, в Моршанскую часть – то есть неподалеку, как он смутно помнил по рассказам матери, от тех мест, где родились его отец Степан и его дядя Семен Ивановичи…
Длинный и мучительный, частью в вагонах, а часто и на товарняках, долгий до тошноты от неуюта переезд на новое место службы в сопровождении пожилого старшины-сверхсрочника считал Коля заслуженным наказанием. Вообще все свои потери воспринимал он как справедливую кару за содеянное. Может быть, поэтому и не убивался так по поводу последствий случившегося. Он даже искал себе наказания – чтобы искупить невольную свою страшную вину. Но все же повезло ему здорово, что не посадили лет на десять и не выгнали из армии с позором, это да. Заступились многие, сделали, что смогли. Дай им всем бог здоровья на долгие годы, как учила приговаривать мать в детстве.
Сколько уж раз он все перетирал в памяти ту ночь, не будь которой, жизнь бы была просто прекрасна.
Ну почему, почему все так случилось, и именно с ним – звонкоголосым, веселым и добрым красавцем, исполнительным и аккуратным, покладистым, но и озорным московским шутником и балагуром, любимцем и товарищей по службе, и командиров?
Пожалуй, лишь один только погибший Прошка Михалев был слишком уж строг и придирчив к Коле, так на то он и был его непосредственным начальником – командиром взвода, что уж тут поделаешь.
Низенький, худенький, неприглядный на лицо деревенский паренек брал должность строгостью – вплоть до откровенной грубости – но и обстоятельностью.
Зол ли он был на Колю, или завидовал ему, как поговаривали – встретил Проша Колькино назначение на должность своего заместителя очень неприветливо, но руку пожал, буркнул поздравление и не преминул заметить, что приказы, конечно же, не обсуждают – но…
Но что скрыл за многозначительной паузой, осталось неясным.
Коля, недавно получивший лычки старшего сержанта и новую должность, честно постарался понравиться своему комвзвода – исполнял все четко и правильно, старался заметно, изо всех сил, да все зря – не только устной похвалы ни разу не вызвал, а даже и улыбки простой дружеской от Прова не удосужился получить – хоть и были многие замечания старлея зачастую простыми придирками.
Типа – «Ну и что ты, москва-столица, моя москва, лыбишься от счастья, – что опять прыгнул и не обосрался?»
Начальство попробовало их сдружить, дало совместное задание – и вот что вышло на деле.
В ту ночь не вынесло, видно, взыграло ретивое у командира – как это так, он ведь по старшинству должен быть первым, везде и всегда, а в этой задаче, когда их всего только двое, как это можно пропускать вперед подчиненного? Кто сейчас-то придумал это выстраивание по весу – это же не тренировочный полет для целого взвода!
Вот он и вскочил, отстегнулся и сиганул первым, в темную ночь. А потом как сразу запрыгал, как заметался – под самыми ногами, да вдруг еще и вверх подлетел, запутал стропы, ноги Николаю просто отбил головой!
… Вот Витька Рыжий – друг – ведь рассказывал в письмах, что они аж на летном поле в унты мягкие обуты ходили – а мы даже прыгаем в сапогах, с портянками, да вместо настоящих шлемов одну п…здянку на веревочках старую линялую на голову надеваем – и под нее, кто умный, те же чистые зимние портянки подкладывает!
Но разве упасут портянки башку от смертной беды? Они даже ноги в сапогах от гнилого грибка почти у всех у нас не спасают…
Эх, беда-беда, не приходит одна, зараза подлая!
Пришла нежданно – негаданно и вторая беда: за время отсидки в предвариловке начали у Коли волосы выпадать, и образовались две огромных залысины над поседевшими висками – клоками кудели вылезали, особенно со лба и с темени. Но, как говорится, снявши голову – что уж там. Старослужащие ребята – сами все почти лысые – предупреждали некоторых, что здесь у каждого будут волосы выпадать – вроде бы от сильно повышенной радиации…
Вот третья беда – а они всегда по-трое по земле ходят, дай Бог, чтобы уж последняя – вот это тоже уж беда так беда. Пока летел с мертвым Прошкой, страха не чуял – но орал, говорят, «Ма-ма-а-а!!!» не переставая на всю округу, аж в самолете за шумом мотора слышно было – на одной высокой ноте последнюю свою в жизни арию чистым тенором выводил…
Доктор сказал, что связки порваны так, что восстановлению не подлежат – скажи спасибо, что хоть тихо, да все-таки будешь говорить.
Спасибо, доктор – прошептал, но еще до сих пор так и не понял, как теперь жить дальше – учиться хотел на настоящего певца – вот и все, приехали, стоп машина, задний ход.
Как там летчики поют? «Прилетели – мягко сели, присылайте запчастЯ – фюзеляж и плоскостЯ!»
Приехали между тем – в Тамбов.
Сержант-сверхсрочник сказал, зевая:
– «Станция Петушки – сбрасывай мешки, альбо и горшки! Пошли прописываться по новой части.»
Пошли, прописались, все путем, сержант сердечно, по-настоящему попрощался, да уехал – и так вот, среди почти чурок одних нерусских, прослужил Полькин сыночек Николай еще два года до дембелей, до ноября 1952 года.
Страстно мыча, играл часто для сослуживцев на баяне – только этот инструмент и был в Красном уголке.
Всегда закрывал при этом глаза и плакал беззвучными слезами – вот как его по-настоящему музЫка разбирает, говорил его новый самый главный командир, полковник по званию, тоже вытирая глаза после Колиной игры.
Эх, слышал бы он, как Коля пел когда-то!
– «Но – вот простудился, сорвал голос – и теперь петь не могу» – рассказывал сам про себя солдат.
Полковник иногда даже, правда, нечасто, поиграть звал в гости к себе домой, в свою комнату в офицерском доме – простой избенке с печью, где ютился с семьей: пожилой миловидной супругой – библиотекаршей и взрослой, дебелой и высоченной дочерью, Колиной почти ровесницей, года на два его постарше.
Звал командир баяниста не просто так, хотя и вовсе не из-за дочки на выданье – ухажеров у нее хватало, как шутил отец: «Однако, сидит на родной бахче, как та дыня – щупают многие, да никто брать не хочет – то ли дорого, то ли страшно ошибиться!»
Хотелось старому полковнику от забот своих каждодневных отдохнуть, посидеть по-мужски, поговорить по-человечески за бутылочкой беленькой с приятным молодым москвичом, а что биография у парня уже и сейчас непростая, так у кого же у нас все гладко бывает?
Только у, прости Господи, покойничков, да не к ночи будь сказано…
* * *
А Коля стал понемногу отходить душой после этих встреч в нормальном человеческом окружении, и особенно ему по сердцу пришлась не дочка доброго полковника Женя – симпатичная, но очень уж капризная и избалованная чрезмерным мужским вниманием девушка, – а супруга начальника, строгая, но в то же время и очень доброжелательная седая библиотекарша, в теплом тонкого пуха длинном платке на плечах. Ее серые ясные и умные глаза, всегда слегка прищуренные, когда она с облегчением снимала очки, заглядывали, кажется, в самое существо каждому, кто имел счастливую возможность с ней беседовать.
Недаром звали ее все между собой – и солдаты, и офицеры – София Мудрая, а не Софья Дмитриевна или мать-командирша.
В том-то все и дело, что никогда не лезла она к мужу с просьбами или же с пересказами своих разговоров с его подчиненными – об этом стало бы все же каким-либо образом и когда-нибудь все равно известно – и не пыталась командовать вместо супруга, нет.
Бывало так, что в трудные или щекотливые моменты гарнизонного бытия обращались люди, терпящие бедствие, именно к ней, не к полковнику – к нему шли или даже уже и не надо было – потом, после совета Софии.
Сам полковник не мог обойтись в жизни своей без ее ненавязчивых советов или подсказок, как иной раз поступить. И он неоднократно, на собственном опыте, убеждался в правоте жены, в ее безошибочной интуиции – вовсе не женской, чувственной, а четкой и деловой – особенно, если ему казалось, что надо все сделать по-своему, по-другому. В результате почти всегда, когда он, принимая трудные решения, делал то, что самостоятельно, то есть вопреки намекам Софьи Дмитриевны, посчитал правильным, это оказывалось в лучшем случае бесполезным или бездейственным.
Жена тогда, как только он возвращался домой, суровый и нахмуренный, явно в плохом настроении или сильно возбужденный, подходила к нему и смотрела ему в душу своими удивительными глазами, с мягкой усмешкой спрашивала, как дела, приобнимала за плечи, прижималась лбом к его лбу и называла упрямым бычком.
Читальный зал и библиотека, а по-простому, изба – читальня, стали для многих единственной отдушиной в монотонной и несладкой стройбатовской службе, даже для тех, кто, как это ни смешно казалось новичку Николаю, и читать-то умел едва-едва, по складам!
Для таких находила библиотекарь интересные книжки «с картинками» – как для маленьких детей, хотя выдавала посмотреть толстенные тома с репродукциями картин и портретов из музеев мира или с фотографиями и описаниями разных городов. Некоторых солдат она просила не порвать ненароком папиросную защитную бумагу над красочными изображениями и смотреть такие драгоценные старинные книги только из ее рук – она присаживалась рядом за стол и попутно рассказывала солдатам в доступной их пониманию форме – как сказку какую-нибудь – так интересно! – историю того или иного произведения или биографию самого художника.
И странное дело, когда призывали народ явиться в Красный уголок на самоподготовку, многие шли туда неохотно, а вот в читалку спешили все почти сами, без понукания и принуждения, в редкое свободное время. Солдатики пересказывали друг другу своими словами, что поняли из объяснений Софии, и те, кто слушал, но еще не видел сам, тоже хотели пойти и своими глазами поглядеть на чудесные картинки.
Главным же для всех них было, конечно, человеческое общение с душевным и одаренным светлым человеком – София Мудрая, как сами они того и не подозревали, заполняла в их умах и сердцах природно существующую от рождения у каждого мыслящего человека, но ставшую лакуной, нишу духовности, замещала собой веками существовавшую и не так уж и давно отнятую у людей, объединенных в одну обширнейшую страну, потребность в обращении к посреднику, которому видно дальше, чем простому смертному – посреднику, в сущности, между небом и землей, чтобы заполнить ту страшную тоскливую пустоту, которая так и зияла в простых и бесхитростных душах на месте упраздненной официально веры в Бога.
Нравилось и Коле приходить в большую эту библиотеку, буквально по клочкам собранную любовно Софьей Дмитриевной, потому что было по-настоящему интересно беседовать с библиотекаршей.
Она никогда не повышала голос, что уже резко отличало общение с ней от убогих попыток наладить «контакт с подчиненными» вечно орущих старшин или отдающих сухие краткие приказания офицеров.
Софья Дмитриевна всегда, казалось, светится мягкой своей, всепонимающей улыбкой, – той, которая не на лице, а в глазах, и в то же время женщина эта не вызывала ничего материнского – чувство к ней было теплым в мыслях о высоком, «как если бы святая с иконы на землю сошла» – сказал однажды, отбросив лопату возле бесконечной стройбатовской траншеи от-забора-до-обеда, один полуграмотный деревенский солдатик.
Коля же набирался от библиотекарши не только ума-разума – так много книг он еще в жизни не прочел, как здесь, на новом месте службы в армии! – но и какого-то утешения духа и утишения боли от постоянно сверливших мозг жутких воспоминаний.
При ней он исполнялся некоего грустного спокойствия, что после содеянной им непоправимости – смерти человека – никак не снисходило на него, когда он оставался наедине с собой.
Домой матери и Вере он долго ничего не писал – думал, что уж за него постараются, все отпишут, как было, из армии.
А когда все обошлось, когда сказали, что он ни в чем не виноват, но просто надо его показательно штрафануть и потом перевести в другое место несения службы, это якобы и для него самого будет полезно, и что домой и на работу никому ничего не написали, а только в его военкомат внутренняя переписка деловая поступила, брат сообщил Вере кратким письмецом о своем переводе в другую область и обещал: как только приедет, обустроится на новом месте, так и напишет поподробнее.
Его полутайна томила и не давала сил чувствовать себя нормальным человеком.
Однажды он вдруг решился и, уже уходя из библиотеки, протянул Софье Дмитриевне вырезанную из газеты заметку о случившемся с ним на прежнем месте службы. Статейку эту хранил он завернутой в клетчатый чистый носовой платок на самом дне ящика своей солдатской тумбочки. Так и передал ей для прочтения – в платке, шуршащий тонкий сверточек, – а сам быстро убежал.
Ночь он почти не спал до самой побудки. Ему снилось коротко – или казалось на верхней кровати его скрипучей солдатской двухэтажной «тачанки», – что он летит вовсе без парашюта, и летит медленно, размахивая руками, как крыльями, или, вернее, как будто бы плывет брассом в прозрачной теплой голубовато-зеленой чистейшей воде, в которую превратился вдруг ставший соленым воздух.
И он во сне понимает, что это – Черное море, хотя ни разу в жизни его не видел, зато много слышал о нем, прекрасном и глубоком, приносящем счастье и здоровье тем, кто в нем купается, – от одного прежнего сослуживца, родом из Феодосии.
Когда проснулся, запавшие его худые щеки залиты были слезами, он слизывал их – вот и соленая вода – а на душе вдруг, на некоторое, очень краткое время, наступило спокойствие. Длилось оно секунд пять, пока по больному месту вновь не прорезала как рваной консервной крышкой мысль о том, что он убил человека.
Когда в следующий раз полковник позвал его к себе домой, ни Софья Дмитриевна, ни Коля не подали виду, что им бы надо поговорить наедине.
Дочка Женя быстро поужинала и ускакала из дома, чмокнув в щечку мать и погладив отца по лысой макушке, а для Коли пошевелила пальчиками: «Пока, солдатик!»
Унесла на кухню мыть посуду и Софья Дмитриевна – она тоже попрощалась с Николаем, сказала, что пойдет потом приляжет и немного почитает.
Полковник начал было открывать вторую бутылку водки, но Коля вдруг сам для себя неожиданно попросил:
– «Не надо, пожалуйста, Федор Алексеевич!»
Командир пожал плечами, но поставил бутылку на место, так и не открыв.
– «Вот ты, Николай, большой молодец, что лишку не пьешь! Хвалю, если ты и всегда так, а не только при мне! Поэтому хочу тебе сделать одно предложение – не приказ, от которого ты не смог бы отказаться – а именно предложение, ты подумай хорошенько и мне потом доложишь, что решил. Вот слушай» – жестом отстранил вопрос в Колиных глазах – «и на ус себе мотай! Скоро к нам в часть пришлют новую машину, совсем новую – не мой “Иван-Виллис” лендлизовый, его ведь надо будет обратно как-то возвратить – а нашу, советскую новую мототехнику. И вот что я думаю – у меня водитель скоро демобилизуется, а пока есть возможность, прикажу, чтобы он тебя поучил водительскому делу. Всегда в жизни пригодится! И если ты не дрейфишь, то – Николай, иди учись – будешь меня потом возить – вплоть до твоего увольнения со срочной, а вдруг ты и в Москву не захочешь возвращаться, здесь останешься? Девушку тебе найдем, оженим, комнату дадим – со временем, а? Ты как на это смотришь? Давай решай, завтра утром доложишь, когда к тебе мой водитель подойдет, да или нет. Все, можешь идти, Николай!»
И опять думал Колька, возвращаясь в казарму, что предстоит ему бессонная ночь – теперь от какого-то даже счастья, что внутри теплым огонечком загорелось, так уж захотелось ему немедленно начать учиться водить полковой настоящий джип, что аж сердце бешено заколотилось – впервые за долгое черное время – от настоящей радости!
Разделся и уснул он мгновенно, без сновидений.
Утром подошел к нему на плацу водитель полковника, спросил кратко:
– «Ты, что ли, будешь далее Папу возить?» – на что Коля лишь утвердительно и энергично кивнул головой, судорожно сглотнув слово «Да!»
– «Ну, добро! Держи пять! Научу. Буду забирать тебя, как он скажет» – и состоялось крепкое рукопожатие.
… День пролетел у Кольки как во сне. А вечером удалось забежать ненадолго в библиотеку. Софья Дмитриевна сидела там одна за своей стойкой выдачи книг и что-то записывала при свете большой настольной лампы.
– «Здравствуйте, Софья Дмитриевна, вот, успел, хорошо – книжку принес сдавать…» – робко начал парень.
– «Здравствуй, Николай. Вот теперь и поговорим. Давай сюда книгу, но не присаживайся, а пойдем с тобой на задний двор, покуришь там у стены, где пожарный стенд, а я от тебя неподалеку у крылечка постою и воздухом подышу, совсем почти на воздухе не бываю – настоящая библиотечная крыса стала!» – и София улыбнулась и потянула солдата за рукав к выходу.
Подошли к ящику с песком, возле которого стояла железная урна, и Софья Дмитриевна вдруг сказала:
– «Дай мне, пожалуйста, спички!»
– «А разве Вы курите, Софья Дмитриевна? Я не знал! Вот, берите, пожалуйста, но только папиросы солдатские у меня, простые, очень крепкие…» – растерялся Николай и стал было протягивать библиотекарше свою мятую пачку.
– «Когда-то курила, Коля, да как поняла, что Женьку на свет надо будет произвести, сразу бросила – и с тех пор не курю. Я ведь у тебя только спички попросила – давай сюда мне спички свои – и будем мы, Николай, беду твою жечь!»
И с этими словами София Мудрая достала из кармана вязаной кофты знакомый носовой платок в клеточку, развернула его, вынула оттуда газетный листок, чиркнула спичкой и подожгла бумажку с угла.
Листочек вспыхнул и сразу сгорел дотла.
– «Вот и беда твоя вся сгорела!» – спокойно сообщила командирша, а платок носовой затолкала снова себе в карман.
– «Да как же… да как же сгорела, когда я заметку эту наизусть, слово в слово выучил…» – выдохнул Коля и ошалело уставился на женщину.
– «Ну и что, ты теперь и слова все эти неграмотные, и казенные выражения сам, своей рукой, заново переписывать начнешь, чтобы уж точно никогда их не забыть?
Может, родне предъявлять станешь?
Или детям своим будущим?
Забудь, Николай, говорю тебе, вся беда твоя уже сгорела – и платок я тебе твой не отдам, буду им сама себе слезы вытирать да тебя вспоминать, когда от нас уедешь.» – и Софья повернулась, чтобы идти обратно:
– «Холодно что-то стоять тут с тобой, пойду к себе. И ты иди, Коля, ни о чем не думай и ни в чем не сомневайся.
И помни одно – по твоей воле ничего в твоей жизни не совершается, а на все есть единая Воля – не наша, другая!
Иди с Богом!»
Так или иначе ему было сказано, но Николай в ту минуту почуял всем нутром, что кто-то будто вынул из его сердца огромную ржавую иглу, и хоть то место, где торчала она, еще болит – но уже не так нестерпимо, и есть надежда, что рана, наконец-то, начнет заживать.
Часть 39. Кручина
Как всегда неожиданно в Москву пришло лето – уже пятидесятого года – круглого и похожего цифрой на сдобу или юбилейный каравай.
Ходили-ходили в тяжелых, неловких и темных одежках – ан вот и жара-жарища. И сразу вдруг запарились. А одеть все одно неча.
На бельевых веревках в асфальтовом тепле родного Веркиного двора под старым толстым тополем, незаметно, за один почти день растерявшим свои красные апрельские сережки, вывешены были теперь на просушку зимние вещи – «хомут да клещи», как говаривала Пелагея про свое имущество.
Выбивали с остервенением «пыль веков» из редких, кое у кого сохранившихся, дореволюционных еще, кажись, цигейковых драных шуб неопределенного цвета с одинаково рыжими почему-то развалами на сгибах.
Летали «клочки по закоулочкам» от частых и гулко отдающихся в подворотне ударов плеток.
Сестры – близняшки Гордонихи вынесли Польке освежить две каракулевых потертых муфты, две лохматых, как бездомные дворняжки, горжетки и два своих, крытых треснувшим кое-где по швам сукном, лондонских салопа модели «стара барыня на вате», как говаривал когда-то сынок Николаша.
– Вот, Николаша, чтой-то ты замолчал, пишешь нам редко, Вера сказала, что перевели тебя под Тамбов – а ведь оттуда письма быстрее должны приходить, ведь не дальний свет, а своя уж Расея? Быстрее – да не чаще, вот в чем загвоздка. – рассуждала сама с собой Поля, карауля чужое, доверенное ей добро – а то ведь сопрут, и вся недолга, а что?
Сырое даже белье один раз стащить попробовали – да такая солидная с виду женщина во двор с корзинкой большой, плетеной крышкой прикрытой, вошла! И не в жисть не догадаешь, что – воровка бельевая!
Ну да не на таковских напала, курва!
Полька как чуяла – из окна кухни во двор как глянула – а та, паразитка, уж почти все кружевные подзоры, что покрасивше да весом полегче, поснимала и в корзинку свою поклала! Споро так работала – вроде и не торопясь, а уж враз полверевки опустело.
Стой, стой, воровка! – хотела было закричать Полька в окно, да вовремя додумала, что как закричит она, так та-то, жульница-то, тотчас и сбежит!
Бросилась тут Пелагея Васильевна, забыв о ревматизме с подагрой, как молодка, со всех сил по черной лестнице вниз – кубарем летела, да успела!
Подбежала молча и бесшумно – была в мягких тапочках зеленых клетчатых, на веревочки завязанных, с ножницами прорезанными дырками с боков и сверху для шишек на скрюченных, горбами выпирающих пальцев, чтоб не давило – вот подбежала-то Поля незаметно к той воровке, суке проклятой, со спины да и вцепилась ей в волосья – та от неожиданности аж корзинку выронила, белье сырое в пыли изгваздалось – пришлось потом все перестирывать!
– Забывать нас ты стал, Коля милый, ай там нашел уж себе кого – какую кралю. Что память тебе об нас с Веркой, если встретил ты там забаву молодую – загрустила вдруг Пелагея и утерла глаза краем ветхого фартука.
– Вот уж и зАпон весь истрепался, надо бы от платья старого ситцевого, что на заду все прохудилось, спереди кусок от подола оторвать, да надвое располовинить на верх и низ и новый себе сшить, а рванье остатнее – грудь и спинку, все в заплатках, на тряпки пустить – только рукава еще ветхие не забыть выпороть и разгладить – на выкройку, а то тесны стали все другие-то рукава, руки что-то в полноту поперли, да и живот – и откуда что берется.
Ведь не ем ничего, окромя картошки пустой да пшенки с подсолнечным маслом, на чаю одном с хлебом – с сахаром весь день сидим, да на ночь молочка в чай вольешь немного, чтоб живот от голода не кружило. А пузо все растет на старости лет, а ходить все тяжелее становится – ноги тож распухают-болят, ноют ноги-то, едва таскаюся…
Грустно, грустно все как-то стало дома, Верка целыми вечерами пропадает допоздна – все в школу ходит, говорит, девятый уж класс скоро закончит, а там не знаю, всамделе куда таскается. Может, и не в школу вовсе?
А в выходной в какой-то кружок театральный шастает – лучше бы уж в хор какой-никакой записалась да ходила, как Коля – ведь поет, тоже мне, как цыганка – Пашка-сосед ее на гитаре бренчать выучил – и к чему это все, театры – то эти ее, романсы всякие – ведь там, глядишь, привяжется к ней артист какой, не дай Бог, женатик, вот видная она у меня девка-то, да потом и греха обратно не оберешься!
А Николай-то Андреевич, жених-то наш – и глаз не кажет уже давненько, и не пишет тоже ничего. Вот Вера вся избегалась на Почтамт, все «до востребования» надеется что получить – либо сговорились они так с Андреичем заранее уж, не знаю, и знать не хочу! Да нет, все-таки интересно мне было бы на них посмотреть, как далее жизнь сложится. Чует мое сердце, что не расстались они до конца, материнское сердце веще – а также думается мне, что и не получится у них серьезного-то ничего, он же военный человек, а Верка моя – ветреница!
А было так, что на рапорте Николая Второго с просьбой разрешить женитьбу на Верочке желанная тетушкой Инной Антоновной резолюция начальства «Отказать!» так и не появилась.
Отозван и тщательно порван был рапорт этот.
В ту ночь, как сорвался Николай Андреевич, как цепной, и убежал из Вериной квартиры, бродил он долго-долго по Москве, по ночному Бульварному Кольцу – по кругу, то есть, – в больших раздумьях, как жить дальше.
Незадавшийся визит деревенского Вериного друга детства Коли Генералова и его уверенная попытка забрать Веру к себе в военный городок на сержантское сверхсрочное жалование, а после того поехать с ней жить на его малую родину в колхоз Красный Бугорок – или Красный Лапоть, как его там, ухмыльнулся про себя Николай Второй, взорвала в душе будущего мужа мучительную бурю ревности, злости и неожиданно жгучий стыд за то, что вот он – в сущности, простой постоялец строгой и жесткой праведницы по жизни Пелагеи Васильевны – спит давно с ее дочерью и не женится.
Возникает естественный вопрос – почему, что или кто мешает? Рапорт провалялся, небось, в каком-нибудь замшелом канцелярском углу без движения, а Николай даже и не подумал ни разу – до приезда сержантика – поинтересоваться вплотную и всерьез, что решено, какие будут дальнейшие указания начальства.
Сама Вера – не говоря уж о Пелагее – как будто бы и забыла вовсе об ожидании разрешения на ее же, между прочим, собственное замужество, и ни разу не спросила, как там дела?
А что – ей, может быть, это замужество вовсе и не нужно – может, ей и так хорошо – спать с ним, а жить своей собственной жизнью, уходить общаться с чужими людьми, танцульки посещать, не выходя из дому, там на нее смотрят восхищенными глазами всякие пошлые мужики, богатые притом, что может быть, тоже немаловажно для Веры – откуда ему, нищему курсанту, знать, что у нее на уме?
Стоп, почему ты думаешь так нехорошо о своей вымечтанной девушке, считай, что о своей уже действительной и реальной жене – что, в сущности, для вас обоих значит этот штампик в документах, кроме присвоения будущей жене фамилии мужа и удовлетворения правомерных ожиданий двух пожилых женщин…
Хотя, почему же двух? Одной, одной только Пелагеи! Ведь тетушка Инна всегда выражала откровенное свое неодобрение и с трудом уступила на словах – или переступила через себя? – то есть, все-таки дала свое согласие на брак – нет, то есть, только на подачу рапорта! – и то, когда Николай загремел в госпиталь.
Стало быть, она и не хотела никогда по-честному, в душе ее, женитьбы племянника, тетка родная, заменившая ему всю исчезнувшую с лица земли семью!
А если уж Инна Антоновна чего не захотела, то, может, и пошла попросила кого-нибудь из командиров об отсрочке разрешения, или и вовсе об отказе – ведь не она же, не своими руками, будет оттягивать-отказывать…
Господи, какой же он наивный дурак – плывет по течению, ни о чем никого не спрашивает, не теребит, не просит – и не задумывается о последствиях! Кто-то должен за него решать его личную судьбу – это ли не абсурд?
Ему уже двадцать три года, за спиной – война, ранение, вся почти оконченная курсантская учеба, жизнь с женщиной, которую полюбил раз и навсегда – это особенно понятно стало, как только раздаваться начали чужие восторги по поводу его невесты и появились даже притязания на замужество!
Боже мой, бежать надо в этот чертов штаб, спрашивать, нет, просить, умолять об ускорении разрешения на законный брак – а иначе…
А что, что случится иначе, как ты докажешь им всем, что терпение твое кончилось и ждать более нет ни сил, ни возможности!
Вот если зададут вопрос – у вас что там за спешка, ребенок что ли намечается? – твердить тогда всем им, невзирая на неправду – Да! Намечается! Сегодня же ночью наметился у нас ребеночек – и давайте, ну давайте, жените же меня, а то!
– А то лопну от нетерпения, вот что на самом-то деле.
Надо немедленно придумать что-нибудь, какую-нибудь вескую причину спешки!
Да что тут придумывать! Уже все всё до тебя попридумывали – и действовало пока безотказно.
Надо будет предупредить всех, и в первую очередь, Веру и Пелагею Васильевну, что, если вдруг спросят – отвечать, четко и по-военному: так точно, беременные мы, девочку ждем!!! – о черт, да кто спросит-то?
Да Те, Кому Надо – если спросят, хотя бы и тетя Инна – если позвонит или, не дай бог, сама приедет – а почему же не дай Бог?
Вот, вот еще вопрос – и как же не вписывается деятельная и кипучая тетя Инна в эту московскую размеренную жизнь, очень простую и без затей, без грандиозных честолюбивых планов на будущее – рассчитанных на его, Николая, будущее, только не им самим – его властной теткой!
А сам-то он почему не «с усам», почему не скажет сам себе, в глубине души хотя бы, что привык он к теплой и нетребовательной московской житухе, к коммуналке и комнате Вериной, к старому их любимому дивану прикипел – и не тянет его ни в какие уже морские дали, а мосты Москве не особо и надобны.
Вот закончит он учебу в июне, получит диплом, а вместе с ним и назначение на место несения службы – и уедут они с Верой в необустроенность, надоевшую за время жития по казармам. А где еще жить-то?
Но ведь и у Матери – у Пелагеи – долго не проживешь, вернется через полтора года из армии сын ее Николай Степанович, надо будет и ему семьей обзаводиться – так что же ты, в примаках так и останешься?
Или в Питер податься? В теткину крохотную комнатенку?
Вот если бы Елизавета Ермолаевна пожить нас к себе пустила! Давно я ей не писал и не звонил, вот гад!
Как же тогда прекрасно было все с Верочкой… А сейчас? Сейчас что – не прекрасно?
Или она другая стала?
Да, пожалуй, другая. Еще более красивая и – очень вдруг какая-то самостоятельная. Раньше в глаза мне часто заглядывала, ответа или подтверждения искала. Сейчас – нет. Вопросы, видимо, исчезли. Но и о чем же, право слово, и спрашивать тебя, когда ты – как Мать говорит – ни тпру, ни но! – долго уж слишком телишься со своим жениховством – вот и не задают тебе, болвану, лишних вопросов более.
А может, по правде-то потому не задают, что привыкли к тебе, как к мебели – как ты вот к их дивану – и неинтересно в твоем постоянном немом обитании ни о чем тебя спросить – ведь ты или ответишь с иронией, с превосходством, или опять же отмолчишься – как и не к тебе вроде бы обращались.
Говорит кому-то недавно мать: «Ищи не в селе, а в себе!»
Правильно. Все с себя и начинается. Пойду утром же, сейчас же, уже недолго осталось, все там в их канцелярии разнесу!
Ага, бутылку только не забудь, захвати – как тогда – вот все одним махом сразу и порешишь!
Да ладно, ну что ты за человек такой – все ерничаешь, все ехидничаешь – да над самим собой!
Над кем смеетесь?..
…Николай с удивлением обнаружил себя, рассуждающего, усиленно жестикулируя, – а вроде и ни капли не пил! – сидящим на лавочке в Верином дворе.
И понял, что все в нем сомневающееся и сомнительное – это, вернее всего, от тетушки, а вот любовь – от господа бога. И никуда ему от своей любви не уйти, покуда жив.
Часть 40. К сестры Саньке
– Ну-ка, не тронь фитиль в лампе, не замай, говорю, сядь обратно за стол и сиди тихо, не шумаркни! Вот счас забалуетесь еще, вот и прИдет к вам Тот-то!
– Кто, баба Саша, еще сюда придет?
– Ну правда, мам, кто?
– Говорю вам, Тот-то придет! Тот, кто в клеть и в сенцы без стука входит, а в избе-то уж по лавкам попрыгает-постукает, да в печке ночью чугунки поворочает – да и наозорничает, опрокинет все, и щи, и кулеш разольет! А все вы, баловники, его призываете, тихо не сидите, гроза вас расшиби! – негромко ворчала и припугивала Александра Васильевна внучку свою – четырехлетнюю Первушу-Галю, а больше, конечно же, двух последышей-сыновей, чудом выживших крошечными в лето Сорок Первого близнецов уже десяти лет, Ваньку-Мокрого да Ваську-Скорого – сироток без погибшего на проклятой войне на той папаньки, Ивана-кузнеца.
Мокрым Ванька звался привычно, как трава-сорняк, а еще и за то, что частенько голосил, то есть пускал слезу, по любому, мелкому даже, поводу. Зассанцем, однако, он не был, и страшно обижался, опять-таки до слез, если кто спрашивал, почему прозвище такое ему присвоено – не ссытся ли инда в постель? С ровесниками лез в драку, а взрослых более не любил, если кто так шутил нехорошо!
Брат его, Васька-Скороход, или Скорый, был, в отличие от Ваньки, очень шустрым, да и бегал быстрее всех не только луженских, но и раскатцовских и петровских мальчишек, и тоже встревал в драку за брата, если того обижали. Но не так дрался, как, раз ударив, мгновенно удирал, чем и обижал неповоротливого Мокрого – и тот опять ревел, уже от обиды на братана, растирая грязными кулаками слезы с соплями, зачем же он утек?
На дворе стоял темный летний и душный вечер с мелким росным дождем и тихими пока зарницами.
В деревне Лужны, перед бедняцкой, крытой старой соломой избенкой Полькиной сестры Саньки – строгой бабы Саши для внуков, – прямо перед первым из трех ее маленьких окошек, каждое в четыре мелких стеклышка, примазанных к рамам простой темной глиной, росла огромная старая липа.
Вдруг она стала сильно раскачиваться и зашумела от налетевшего ветра.
Долбанул вдалеке первый гром, сильно отстав от блескучего росчерка небесного хлыста толстой желтой молнии.
Задребезжали мелким гвоздяным дребезгом хилые оконные стеклышки, в щели задуло, лампа замигала и сразу закоптила.
Притихшие и испуганные дети сидели за голым, хорошо отскобленным и стоящим прямо у окна струганым столом, опоясанным со всех сторон четырьмя недлинными лавками, вместе с матерью-бабушкой Сашей.
Та сучила нить, вынимая кудели из мешка с новой волной – чесаной, состриженной на «позатОй неделе» с единственной ярки и баранчика – овцу закололи от греха еще зимой, потому как стала она после окота «трухАть и перхАть» – простыла и заболела.
Длинный полосатый холщовый мешок – а он прислан был сестрой Полькой из Москвы с белыми и черными сухарями – сушеными недоеденными кусками городских булок, батонов и черняшек – был один такой плотный, чистый и подходящий для работы с овечьей шерстью.
Потому-то волна была смешана вместе, черная и белая, и нить на веретено ложилась пестрая – веселая, а не серая.
Когда было еще светло на улице, баба Саша села с веретеном за стол, опираясь об его край локтями, как всегда, прямо напротив окна, ловко пристроила мягкий мешок возле себя на лавке, и приказала детям сдвинуться по бокам от окошка, а не «застить» свет своими затылками. Но пришлось вскорости зажечь керосиновую лампу с закопченным драгоценным стеклом, и фитиль выкрутить поменее, пока совсем уж не стемнеет.
А сейчас гроза началась настоящая, с ливнем, с ветром, переходящим в вихрь.
Баба Саша перекрестилась на малую икону Николая Угодника в красном углу, быстро встала и взяла в руки лампу со стола.
Дети тоже соскочили со своих мест и прижались к ней, как цыплята к наседке, а толстенькая Первуша так и под юбку норовила спрятаться под бабушкину, но нашла место только под длинным серым фартуком.
– Пошли все быстро за печь, спать ложитесь, а я сейчас скотину пойду во двор посмотрю, как бы крыша не протекла там, солома уж больно редкая… Ну, внучка, вылезай, не мешайся, сейчас вернусь! Лампу с собой захвачу, а то в сенцах темно.
– Мам, не уходи, страшно! – заканючил было Ванька-Мокрый, – или хотя бы лампу нам оставь!
Тут в окнах опять сверкнуло, затем грохануло одновременно со всех сторон залпом – как «катюшами» в войну.
– Я сказала, быстро всем спать ложиться! И не бояться ничего – я рядом, на дворе, сейчас же приду и с вами лягу. Да, вот вам всем по куску хлеба и крынку целую с молоком, по очереди пейте, не деритесь и не разлейте молока-то!
– Да, ма, ты выйдешь, а Тот-то враз к нам и взойдет! – да еще и на печку вспрыгнет! – отцовским баском и не без умысла произнес Вася-Скорый.
Тут уж брат Ванька не выдержал и заревел, а на него глядя, заплакала и Первуша:
– Ба, не уходи, не уходи!
– Сейчас как дам вот сыночку Васеньке дурному по затылку – сразу весь страх пропадет! А ну не голосить! В лампе керосину и так мало, а я тут с вами лалы развожу!
– и Санька быстро выскочила из избы в темные сени, поставила мигающую лампу на мучной высокий ларь, нащупала толстую задвижку и заперла крыльцо изнутри, а потом обернулась и пошла открывать противоположную дверь в скотный крытый двор, который одним боком прилегал к печной – теплой зимой – стене избы, а тремя стенками, сплетенными из лозняка и обмазанными глиной с соломой и кизяками и побеленными под самую крышу, выходил на задний двор и огородик.
Навстречу ей пахнУло навозом, мокрой шерстью и нашатырем. Забекали-замекали овца и баран, хрюкнул пару раз и коротко взвизгнул в углу поросенок Борька. Всполохнулись у дальней стенки на шестках куры. В застрехах под соломенной крышей с улицы зашевелились и загукали горлицы и лесные голуби; плотно и бесшумно прижавшись к жерлам глиняных гнезд, выглядывали из верхних углов, блестя глазками на слабый свет лампы, черные головки ласточек и попискивали тихонько изнутри два или три их птенца.
Сашка прошла через крытый двор, хлюпая по соломенной подстилке, до малой плетеной и обитой старой клеенкой дверки, с крошечным окошком над ней, в огород, и тоже плотно закрыла и ее изнутри.
Вернулась в сенцы, там почти уж догорел керосин в лампе, подхватила ее, прикрывая рукой, и вошла опять в горницу, закрыла за собой дверь на большой крюк. Было тихо в избе. Гроза приотстала, едва посверкивая, дождь почти неслышно лился на солому крыши.
Санька проверила, что делают ребята за печкой. Все трое лежали спали на широкой и высоко набитой соломой и свежим сеном постели на плотно утоптанном голыми пятками и чисто выметенном полынными вениками земляном полу. Укрылись до носов пестрой домотканой мягкой рогожкой, как всегда – у стенки Ваня, в середке Галя, а с краю – Вася, но ближе к матери, которая уж на самом краю примащивалась и с устатку захрапывала сразу, как ложилась.
– Мам, там, в крынке, на загнетке, мы тебе молоко оставили – сонно пробормотал Вася.
– Спи, спи, сыночек, спасибо, милый, – Санька погладила мальчика по тонким шелковым волосенкам заскорузлой ладонью с узловатыми уже от тяжкой работы пальцами и, задув лампу, поставила ее наверх на полку, взяла крынку с остатками молока в одну руку, а другой стала задергивать помигивающие в ночи окна ситцевыми на вытертых веревочках коротенькими занавесками, сначала от угла, где печь, потом уж второе и за ним первое от входа окошко, да остановилась, привычно крестясь, у иконы Чудотворца.
И тут краем глаза заметила в палисаде перед окном, что липа какая-то странная стала – короткая какая-то, но широкая, – да и вроде бы, ах, батюшки, раздвоенная! – а внутри ее, из трещины-то, огонь золотой горит, ровным пламенем, как свеча дорогая толстого воска, без искр сияет в ночи…
Санька, доведя приостановившуюся вдруг руку до полного креста, быстро глянула на икону на свою, а святой Николай седобородый тихо ей сказал:
– Что стоишь, матушка, бери молоко, небесный огонь им заливай.
Не помня себя, кинулась Сашка вон, схватив крынку, выдернула одной рукой крюк здоровый, выскочила в сенцы, вышибла задвижку, ринулась к липе – тут и спохватилась, что мало, мало молока-то оставили ей ребята, как же она огонь-то погасит – а там, как раз на высоте глаз, еле-еле огонечек свечной в расщелине дерева теплится.
Вылила Санька на него молоко – вот он и вовсе угас.
Санька в беспамятстве и совсем обессилев, развернулась и пошла к дому, как села на крыльцо, не помнит, куда крынку дела, не заметила, только видит, под ее окном, рядом с ней, возле крыльца, старичок светлый стоит, старенький, голова вся белая, как лунь, и борода тоже белая.
Да и навроде и не стоит, а земли не касаясь, в воздухе находится.
Говорит он Саньке тихо, вроде бы и спрашивает ее, а сам уж рукой манит:
– Гляди, матушка, через окно в избу свою, что увидишь, никому не сказывай, пока помирать не станешь, или как почуешь, что собой спасти кого-то сможешь, тогда скажи ему – предупреди!
Тут Санька встала под свое окошко и видит в четырех темных поначалу стеклах вдруг разные картинки яркие и живые.
В правом верхнем стекле красный терем стоит, а из окна его висельник на веревке свешивается, – молодой красавец в парчовом золотом кафтане и желтых сапожках остроносых сафьяновых, а на крыльце молодуха в тяжести заметной, в зеленом сарафане, в обмороке лежит. А позади терема пыль столбом поднялась, ускакали на резвых конях разбойнички…
Под этой картиной, в нижнем стекле с правой стороны, в купеческом доме толстый купец с купчихою чаи распивают, а в уголке нищий стоит, голый, босый, больной, голодный и тело в струпьях, едва вошед, его уж оба гонят, а кухарка ихняя вовсе метлой поганой за дверь выпихивает…
Слева в верхнем стеклышке лес темный, ели высокие качаются, пруд красоты неописуемой с лилеями водяными, в пруду месяц ясный купается-отражается, а на дне пруда девушка-утопленница виднеется, вся в белых одеждах, но не русалка, нет, а скорее невеста из-под венца, либо уж жена обвенчанная – на правой руке кольцо золотое в воде поблескивает…
Снизу с левой стороны отражает четвертое стекло веселый пир горой, царский прямо, стол в красивых палатах каменных весь целиком яствами уставлен, слуги напитки-наедки всякие разносят, все на том пиру веселые, смеются-заливаются, музыканты хорошо так играют, заслушаешься, гусли гудут, как комар …
Или и правда, комары загудели, перед рассветом, а где же дедушка? Пропал куда-то…
Сидит Санька полусонная на своем крыльце, свежо стало, она тихо поднимается, идет к детям спать ложиться, ежится под попонкой и тут же засыпает в молочном их теплом дыхании.
Солнце встает, мычит недоенная корова у «богатой» соседки, кудахтахтахают куры, дети заворочались, вот-вот проснутся.
– Батюшки! – вскакивает с постели баба Саша,
– Ведь пожар было ночью начался? Ай мне приснилось? – и летит на двор проверять, а там обугленная липа стоит с длинным пеньком почерневшим и раздвоенным вверху, а под ее листьями, чуть уже подвявшими, крынка пустая валяется.
Санька вернулась в дом и привычно перекрестилась на икону. С нее добрыми глазами, но строгий ликом, взирал на матушку Александру Васильевну святой Николай – старец из ночного видения. А что показывал – забыла она.
Пора детишек поднимать, мальчикам сегодня очередь скотину деревенскую пасти.
А Галочку пора к мамаше ее, к Маруське, отводить, на деревню Сторожевую. Там зятек, Мишка Косорукий, черт, о Господи, свят-свят-свят, уж наверняка из запойного своего бесстыдства выйти должон…
* * *
А в далекой Москве приснился Польке сладкий и печальный сон про деревню. Про васильки и ромашки, про мед липовый. Про сестру Саньку.
– Ох, Верка, надо мне в деревню, на родину, съездить – душа болит. Отпуск я, чай, лет сто как не брала, а ведь только еще через целых четыре годика – уж будет на дворе год одна тысяча девятьсот пятьдесят пятый! страшно аж представить, как время-то летит! – выйду я на пензию по старости, ровно 60 годков мне стукнет, коли доживу!
– Да доживешь, мам, куда ты нафиг денешься! – весело сказала дочь Вера и упорхнула на работу.
– Да вот, поеду! Поеду к сестры к Саньке! Проведаю! – и Пелагея стала уж обдумывать, что с собой взять в подарок сестре – что получше! – и ее многочисленной родне, – а тем уж как Бог на душу положит.
Часть 41. У бучала
Колька – зять, любимый, Шурки – старшенькой Санькиной дочки – муж, тоже попивал, но ума не пропивал.
А и неча ведь было пропивать-то особо. И не то чтобы дурачком он был, Колька-то Филиппов, а пришед с войны полнейшим инвалидом хромым – укоротилась у него одна нога раненая значительно – тихим стал, задумчивым, неразговорчивым, хотя, говорят, и раньше он особо не трепался, потому, верно, и попал служить во фронтовую разведку.
Брал Николай немецких языков в тиши тыловой вражеской, ночами прокрадывался охотничьей своей тихой поступью в немецкое расположение с задачей обнаружить и взять живым чина повыше рангом, чтоб известно тому было поболее, чем простому-то солдату, про планы фашистские.
Ждал в засаде долгими ночными часами – чаще один, иногда с другими товарищами, как будто в лесу зимой на кабанов охотился, пока яйца не промерзнут и звенеть не начнут, друг об друга стукаясь, чтобы к какому-нибудь по нужде вышедшему ночью из жарко натопленной штабной избы фрицу быстро подобраться, приставить нож к белой глотке немецкой.
Сделать все быстро надо было и так, чтобы заорать не успел, сука фашистская, дурным голосом, не заблеял бы, как баран, дать ему по виску тумака, кляп в рот, руки связать и взвалить на себя обомлевшего и впрямь как баранью тушу, а там уж торопиться доползти с ним до своих.
Научили Кольку военные переводчики-штабисты – был один такой жидковатый, чернявенький, мелкий сам собою, но шибко умный зато – как языку пойманному, приставя плотно финку к кадыку немца – кстати, чисто выбритому всегда, воняющему по-первости одеколоном, а потом уж частенько от ужаса говном, а то еще и облюется, падла, потом тащи его на себе, и сам весь сладкой тухлятиной провоняешь, но это забывалось в пылу удачной охоты – так вот, заставили Колю выучить одну короткую немецкую фразу, а про что она – не объяснили, но послушные фашисты почти все замолкали, завороженно вслушиваясь в труднопонятное произношение русского разведчика, больше, однако, понимая язык смертельно острого лезвия…
Мало кто из пойманных начинал орать, но – были случаи, и тогда резал Николай бестрепетной рукой заоравших, как баранов резал, как свиней у соседей закалывал, али телков молодых буйных, в деревне родной в мирные прошедшие годы.
А по приказу надо было, уходя в любых условиях, успеть под огонь и бешеную стрельбу потревоженной охраны обыскать убитого тщательно и принести все бумаги и документы, всё, что обнаружил на трупе, и сдать начальнику разведки.
Но бумаги бумагами, да не у всякого они интересные. Главное – какие в башке сведения имеются. А молчать будет – ему там уж наши разговориться помогут как-нибудь. Потому живых брать нужнее было, чем дохлых.
В одну незадачливую ночь, когда попался фриц уж очень важный, весь в крестах, и начал драться за свой планшет до упора, сначала молча, а потом вдруг так вскрикнул, редко слыханным звонким и сильным голосом – видно, глотка у него луженая была! – успел позвать на помощь, пока не захрипел, – вот тогда и раздробило Коле ногу до хлюпающей кровяной каши в сапоге, а как дополз до своих, сдал проклятый планшет – тут уж потерял сознание.
Потом был очень долгий и голодный госпиталь, да не один, а вот слились все как бы в одну сплошную боль, и далее – тихая мучительная хромая жизнь сначала на костылях, затем учился обходиться одной только толстой палкой, а выписывать стали тогда, как уточкой-раскорякой сам пошел. Зато море единственный раз в жизни – больше уж никогда не привелось – в последнем, санаторном госпитале для выздоравливающих, повидал – священное Байкальское!
Из армии списали под чистую, а надо было бы еще повоевать, уж 44-й год шел, скорая Победа не за горами была. Обоих старших братьев потерял за войну, знал только, что один, самый старший, точно погиб, это Коле еще в штабе сообщили, а второй пропал без вести. Женами обзавестись братья так и не успели – сначала финская война помешала, потом с немцами…
В деревню свою Петровское «кли (около) Лужен», возвратился Коля к концу самому весны, спешил-торопился к дому родному, а нашел лишь колья обгорелые и заросший бузинными кустами палисад.
Папку-старика немцы еще осенью сорок первого на крыльце прям стрельнули – он им дорогу в дом свой руками немощными, крестом по двери распятыми, загородить пытался – и в ближний овраг возле леса сбросили, как падаль, вместе с другими, кто сопротивляться им вздумал – вот бабка Фрося-Трубочка, та, что трубку цыганскую курила, плюнула одному в ноги – и даже не прикопали их, уж бабы тайно ночью жухлой травой мертвые тела, помолившись Господу об упокоении душ праведных, едва прикрыли…
А дом-то крепкий был, новый, для сынков Алексаши, Григория и Коли-младшого, сироты, без матери годовалым оставшегося, на века жизни поставленный, каждое бревно, что колхоз на постройку новой избы взамен старенькой халупы выписал, с любованием ошкуренное, шершавыми ладонями отцовскими и братов оглаженное – дом этот сначала не тронули немцы, жили там, а уходя поспешно все дома, что целые еще стояли, и скотный двор колхозный, и мельницу, и ригу, и мосты все деревянные, и церкву, где они конюшню свою устраивали, всё пожгли.
Возвращался Коля в деревню свою задами, пробирался ночами, шел, сойдя с санитарного эшелона в разбитой врагом Черни, со стороны Росстаней, а не через Лужны, днем последним майским на подходе к Петровскому в буйных сиренях Раскатцовских отлеживался, чтобы бабы не увидали, как едва бредет он, хромая, с тощеньким вещмешком в протертой как марля светится шинелишке – все, что в войну он от Родины получил.
Печально было его возвращение, и долго плакал бесстрашный некогда разведчик горькими и все никак не пьяными слезами, лежа в своем бурьяном и чернобылкой заросшем огороде и отхлебывая беспрерывно из заткнутой газетным пыжом бутылки разведенный несильно медицинский спирт, подаренный на прощанье за короткую ночь военной торопливой любви чернской фельдшерицей, что с поезда раненых принимала – сказала, что сама родом из Лужен и что найдет его, если придется по деревням с санитарными обходами ездить.
Была молоденькая фельдшерица костлява и черна, очень некрасива, пахла карболкой, а глаза блестели бешеными белками в рассветных сумерках. Звать Шурой Филиной, а кличут Шура ФэДэ – может, слыхал про отца моего когда, может, и слыхал, да вот тебя что-то не припомню. Стал быть, первая ты у меня, только подумал, но по гордости не признался ей Колька.
Ни к кому из соседей Коля не пошел, а куда-то запропал после плача своего на родном пепелище.
Отыскала его случайно вскорости юная и боевая девушка Шурка Артамонова – «доблестный Ворошиловский стрелок», бывшая со своих шестнадцати лет всю оккупацию снайпером у тульских и орловских партизан, старшая дочь Пелагеиной сестры Александры. Девку даже наградили медалью, которую носила она с гордостью по выходным и праздникам, с единственного платья шерстяного не снимая.
Пошла она полоскать на речку к броду Раскатцовскому белье и обнаружила молодого тощего красавца, здорово подзаросшего седой почему-то щетиной, спящим на берегу Роски.
Уснул Коля возле самого «бучала» – огромной бомбовой дыры-воронки, образовавшей посреди узкой речки подобие небольшого круглого прудка, что успел уже за войну зарасти по берегам ивняком. По слухам, засосало это бучало в свое жерло на глубоком дне убитого осколками той бомбы немецкого мотоциклиста прямо с мотоциклом. Мальчишки боялись там летом купаться и нырять, но кто посмелее, видал, вроде, на самом дне, метров в восемь глубиной, в особо солнечный день три немецких буквы на ржавой железной пластинке…
Шура не долго рассматривала Николая – тот проснулся немедленно под чужим взглядом и лежа, сразу схватился за бок, ища, видимо, пистолет, но мгновенно опомнился и как-то затих – девушка усмехнулась и спросила коротко:
«Ай застрелить хотел, малый?» – потом фыркнула и стала спускаться с небольшим тючком мокрого белья на деревянном вальке к плоскому камню на подходе к мелкому броду.
Когда голова ее в выцветшей косынке скрылась под берегом, Коля перекатился и привстал со стоном на ноющее здоровое колено и аж шею вытянул, чтобы наблюдать и далее «чудное виденье». Шура уже по щиколотки зашла в речку, набрызгала ступней воды, чтобы промыть, на плоский белый камень, положила на него валек с бельем. Затем подоткнула юбку под резинки штанов, оголив круглые мощные икры и ляжки – Колька на берегу едва слюной, сразу незнамо откуда набежавшей, не подавился – и прошла еще чуть дальше в воду, наклонившись, стала полоскать тряпки.
Забирала их по одной, пускала сначала свободно плыть, но тут же ловила и сильно бултыхала туда-сюда в воде, прозрачной и холодной еще так, что руки до локтей заметно покраснели.
Лупила глухо, но весело вальком, отчего из тряпок сочилась в речку муть от мелкой стиральной золы, снова споласкивала, а потом разворачивалась к берегу лицом и выжимала белье почти насухо, аккуратно выкладывая его на дерево валька.
…Коля замер и быстро лег опять на бок, боясь обнаружить вставанием жуткую хромоту, когда девушка, подхватив под мышку свою ношу и отпуская юбку из-под резинок на волю, стала выходить на высокий берег.
Там, на чистой и сочной молодой траве, прямо рядом совсем с тем местом, где лежал Коля, она неторопливо встряхнула всё отжатое и расстелила на просушку, глянула молча и будто бы насмешливо синими глазами на парня из-под косынки, потом сняла ее с головы, встряхнула «бараночкой» из двух тонких русых косичек, навзничь прилегла на траву отдохнуть, подложив под голову обе натруженных руки, и прикрыла этой своей старенькой косынкой лицо.
В этот момент Коля вдруг забыл про все свои хромые страхи и соколом вскочил на ноги – какая-то сила подхватила его и будто впрямь понесла по ветру к отрывающимся от земли взбухшими парусами полотенцам.
Опустился над дремлющей девушкой на колени, вдруг увидел два темных пятна под мышками на заметно поношенной голубой ситцевой кофточке, плотно прикрывающей очень высокую грудь, и пахнУло на него никогда не знаемым с младенчества материнским теплом, так, что уткнулся он носом в эту Шуркину грудь и заплакал счастливыми слезами…
Часть 42. Родня деревенская
Как ни странно, на работе Пелагее отпуск предоставили с первых чисел августа 1951 года сразу же и безоговорочно, как только она его неожиданно для себя набравшись смелости и зайдя на второй – небожительский – этаж в профкоме попросила. Полагалось ей за текущий только год отгулять целых 18 рабочих дней – да куда столько, ей бы одну бы недельку, а остальные дни – компенсацией денежной, как и всегда. Да шут с ним, со здоровьем, береженого бог бережет…
И вот свершилось – и билет на Курский вокзал помогли бесплатно почти выписать, за 30 % стоимости – это надо какая радость!
И провожаемая Веркой, с мешком сухарей и фибровым огромным и неподъемным чемоданищем, Полька уселась на свое шикарное плацкартное место сбоку в проходе. Вещи проводник молодой, как глянул на дочь Веру – так шЕментом помог распихать, и все потом отстать никак от девки не мог, аж до самого конца Веркиного провожания, замужем ли она, и если нет, то поедет ли с ним жить в Симферополь – там у них с мамой дом свой с виноградником, бычков заведут, свое хозяйство отдельное наладят…
Тут встряла, наконец, Пелагея:
– Вера, ну иди-иди, нечего тебе ждать, как поезд тронется, иди уже домой! – и не обняла, не поцеловала, а только сморщившись брезгливо – не любила она лизаться! – подставила Верке щечку для поцелуя, и та упорхнула по-быстрому, все чему-то как всегда смеясь, и ручкой помахала под окошком уже с платформы.
Мать взмахнула ей одной рукой, скорее, отгоняя, чем прощаясь, – другой рукой держала она крепко на коленях самую главную сумку с документами и еще одну, тоже очень главную, холщовую, с плотно обернутыми в газеты четырьмя четвертинками «Московской» – для раздачи их строго по одной Санькиным обоим зятьям, а другие две – на погост к мамушке и так самим с сестрой одним посидеть.
На самом дне Полькиного чемодана лежала в тряпки завернутая бутылка коньяка, а в мешок с сухарями спрятала она в куске старой клеенки поллитровку с фиолетовым денатуратом – на заводе его давали машины протирать.
Кто там эту бутылку обнаружит, если вдруг милиция заинтересуется, что баба в поезде везет, кто найдет бутылку-то среди сухарей московских – то есть, на батарее зимой или в духовке летом высушенных бесформенных кусков московского белого и черного хлеба, случайно забытых на ночь на столе или попросту недоеденных, да не самой – Полька грехом большим считала оставлять куски на тарелке и доедала скудную свою пищу всегда до конца, да еще и корочкой тарелку до блеска протирала – так что и мыть не надо было!
А отдавали Пелагее черствый хлеб, но не заплесневелый и не надкусанный – такие корки бросали в отдельный бак для пищевых отходов, пованивающий мощно за кухонной дверью на черной лестнице дома – все соседи по коммуналке.
Выкладывались будущие московские сухарные гостинцы аккуратно на железный лист от духовки, специально выставленный «для деревни» на кухонном огромном подоконнике, служившем Польке разделочным столом.
Самой добросовестной из соседей в этом деле помощи неимущим была Лида Ивановна, мать Галочки-болгарки.
Избалованную худенькую девочку пичкали всякими вкусностями, а она ела очень плохо и мало и всегда оставляла нетронутым свой хлеб – вот соседка Лида тогда обязательно нарежет эти куски меленько, сверху еще солью посыплет и поставит сама все в духовку на Полькином противне – а потом еще горячими выставит сухарики на разбитый мрамор подоконника.
Запах тут пойдет по кухне душистый хлебный, и тогда уж многие любители потчевались втихаря, особенно подружки Веркины, что на кухне курили – все почти слопают, малую горсточку только для блезира оставят, да и ходят хрумкают.
Потом из-под крана водой нальются до краев – вот и сыти на халяву-то!
…Паровоз шел до Черни шибко, обещал проводник, что часов за двенадцать уж точно доедет. И что он мне все чай свой носит, а денег брать не хочет! Полька и так еле терпит, как в уборную хочется, а придется обе сумки с собой забирать, а то не успеешь глазом моргнуть, как обчистят! Народ пошел лихой, ничего не боится после такой-то войны!
В тамбуре была, конечно же, большая уже очередь, да делать-то что! Придется ожидать, пока не лопнешь. Но тут опять этот малый-проводник незаметно так к Пелагее подошел, суму ее холщовую себе на руку перевесил и повел ее в другой конец вагона, а там своим ключом ей дверь, служебную, видать, открыл и с сумкой-то обратно ушел!
Такого счастья Полька давно уж не испытывала, как в той уборной!
Тщательно прощупала в пришитом к изнанке панталон кармане большие – в смысле, размера, а не количества – бумажные деньги, затем пристегнула еще раз для верности булавкой здоровой тот кармашек, ну и в лиф успела слазить – бумажки помельче пересчитать.
Что ж, пришлось ей за чаи-лимоны проводницкие и за отдельный туалет вытащить для него одну из заветных четвертинок.
Проводник сразу все понял и принял – отказываться не стал – зато уж при высадке во всем ей помог, вещи выставил на платформу аккуратно и только смущенно телефонный номер у Польки спросил, но отбрехалася она – сказала, что неграмотная совсем и тех цифер вовсе не вспомнит…
А там уж на станции чернской Коля-зять старшой Санькин на лошади встречал, сразу ее признал каким-то образом, и хоть ну ни грамма она на Саньку-сестру похожа ни в жизнь не была, ни ростом, ни лицом, ни темнокаштановым цветом густых волос – Сашка белобрысая с тонкими волосенками всю жизнь была – и ни даже голосом своим низким – у Саньки голосок тонкий сроду был! – сказал, что мол, вы, тетя Поля, прям как мать вылитая!
Тут Полька стала не мешкая доставать, пока в телегу не села, персональную Колькину четвертинку – не успела развернуть-протянуть, как уж Николай проворно так ее перехватил. Вмиг откупорил бескозырку алюминиевую – и сразу же все до донышка и выпил…
Занюхал рукавом, бутылку пустую в телегу в сено аккуратно так закопал и похвалил, что, дескать, водка очень хорошая. Ну так уж хороша, что даже и прочухать ее не успел.
Жаль иногда ему, что на фронте каждый день сто граммов боевых обязательно давали, а теперь вот отвычка наступает, бабы если только самогонки поднесут, да и то за тяжкую работу.
Ну, тут Полька разжалобилась над мужиком и ему еще одну четвертиночку выделила…
– Эх, тетя Поля, дорогая вы моя, ну вы же и человек! Мать родная настоящая! Да я вас век лелеять буду, вы к нам навсегда приезжайте! – запел-затянул Коля, да как вдруг взмахнет кнутиком, как лошадь дернула, что Полька на свой мешок с сухарями спиной внутрь телеги так и повалилась, чуть язык себе не прикусив.
Довез, однако, очень споро – и цела осталась, и даже через брод когда переезжали, вещей и задов не подмочили, а инда раньше такое часто в глубоком том броду случалось – обмелела, видно, Роска-то.
За бучалом на бугру стояла навстречу подъезжающим тощенькая маленькая женская фигурка, распустила вдруг платок с головы, замахала им шибко, потом бросила его себе на плечи и кинулась бегом наперерез лошади с горки!
Лошадь умная была, сама притормозила – тут Полька рванулась, все позабыв, из телеги, и с плачем – аж до воя утробного – бросилась к сестре своей родной. Так и повисли обе на шее друг у друга, изредка отрываясь, чтобы глянуть быстро дружка на дружку и заплакать уже все тише, все спокойнее.
Как до избы добрались, что детям сказала, как за стол небогатый сели – не помнила уже Полька. Уснула на трявяном душистом и высоком матрасе на полатях в сенях, да под попонкой, как в детстве спалось – без задних ног.
Уж когда алектор пропел, да и не три разА – вовсе не слышала. Очнулась от солнца в головах горячего, во всю ивановскую из оконца жарящего. И весь день целый наступивший не могли они с Санькой наговориться. Так и журчали ручьями быстрыми сплетающимися и разбегающимися обратно то басовитый говор московский уж совсем акающий Полькин, то частый окающий и гхекающий тонкий говорок Саньки.
Ребятишки – Васька да Ваня – забегали схватить по сухарику из сладкой московского белой булки и дивились, как это мамка и тетя Поля разговаривать еще не устали?
Тут в избу вошел, степенно сняв картуз, Коля-зять, и Санька спохватилась собирать на стол.
Шура не пришла, девочка ее приболела, пришла только Манька с маленькой Галей, но без мужа – и сообщила, прикрывая инстинктивно ладонью заметно подбитый глаз, что Миша ее тоже малость захворал – ну, мать ее сказала, тогда все ясно – опять он начАл свою волынку, стакан люди ему поднесут один, а он уж и все, развязалси! – пропойца чертов! – так и не дадим мы ему ничего, раз такое дело, обрадовалась Полька за то, что одну четвертинку сэкономила и сейчас же ее на середину стола и выставила!
И, главное, всем как-то хватило, что удивительно, и даже немного вот еще осталось – Коля только один вежливо крякнул, и ему разрешили допить остаток.
Все похлебали паренных в печке русской постных щей с толченой отдельно, без варки, крепко просоленной волокнистой жесткой свининой – «ветчиной», как у них она называлась, поели, обжигаясь, из той же огромной, одной на всех, выдолбленной из дерева круглой миски – «чашки», по-деревенски, заедая свежеиспеченным кислым ржаным хлебом, пшенного кулеша жидкого молочного, очень вдруг сладкого – ведь тетя Поля сахар-песку, невидаль такую, из Москвы привезла!
И потом, как все ушли, и Манька с девочкой, и Николай, Санька про него и рассказала.
* * *
Да, знала, нет, все ж таки не знала, а только нутром материнским чуяла Полькина сестра Сашка, что не все было в порядке и в семье любимого тихого зятя Коли.
Полюбил он Шуру-дочь в один миг, как с фронта только-только воротился, еще за год до конца войны, на дороге с ней возле речки нашей повстречался, и накрепко полюбил, глаз с нее не сводил влюбленных, сразу свататься, один, правда, пришел – и Александру Васильевну мамой назвал и умолял просто, чтобы дочь свою ему в жены взять разрешила.
Что тут вдовой матери, самой еще с двумя малыми мальчонками да в тесной избенке делать осталОся – конечно, сынок, мужиков на деревне молодых никого уж нет, только ребятишки, а кто с войны раненый вернулся, тот уж всю деревню обрюхатил, прости Господи, и дочь мою вторую замуж взять уж успел – а ты, дочка, сама-то как, схочешь Николая-то в мужья – аль уж и ты в тяжести, спаси Господь, и вы у меня разрешения опосля содеянного спрашивать решили, а?
Шурка-шельма, вот шельма настоящая! – только все фыркала по дурацкой своей привычке, как кобыла молодая – но зять будущий такую формулировку загнул, что и не понять:
– Что мне, мама, самому сломать придется – то сам и починю, любит кто если кататься, то и саночки везет.
– А скоро ли нам саночки-то возить придется, а? – с угрозой в голосе вопросила Александра Васильевна.
– Не загадывали мы еще, мама, не знаю, что Вам и ответить, – скромно потупился Николай.
Тут Санька спохватилась – что это она, как допрос пленного тут устроила, какое ее дело, коли женятся – и согласно занукала и закивала потом вовсе молча головой, чтобы уж лишнего не сказануть.
А вот дурья башка, икону-то со стены так и не сняла – забыла просто!
Одну-то иконку малую, ту, которой Марию благословляла, со святой Варварой-красавицей великомученицей, так ей и отдала – в дом к Мишке Косорукому, забодай его комар! Вот Манька и терпит как Варвара от Мишки каждый день надругания…
Да Мишка-то много попроще был, чем Коля-будущий зать, ведь Николай – то был партейный, он уж икон и попов и венчаний никак не признавал… А зря! Зря, и все тут!
Так вот и стали жить молодые, сначала в сельсовете записались, потом, на краткое время только, к теще Коля жить пришел, пока им землянку на Роскатце, недалеко от Петровского, на новом месте – неподалеку от Гремучего колодца рыли, а как готова та была, так еще и рядом под черемухой под единственной летнюю кибитку спальную сколотили, попонками со всех сторон обвесили – да и ладно пока!
Зажили они с Николаем в своей землянке хорошо, козу даже купили, кур развели, Николай плотничал на центральной усадьбе, только к ночи домой приходил, а то и вовсе в опилках ночевал иной раз, но все у них мирно вроде было поначалу.
Когда кто спрашивал Шурку на покосе из баб одиноких, из девок – вековух военных, как же это ей сходу такого единственного мужика ухватить себе удалось, та на полном серьезе при всех ответила – Я ухватила? Да это он меня выплакал! – и хмыкнула вроде бы даже обиженно…
Потом, уж к концу лета, заметно стало, что Шура вроде бы в тягости – так-то она все одно полненькая, налитая была, кровь с молоком, грудь десятый номер, а тут уж на груди ни один лифчик старый не стал налезать, пришлось новый прямой, с одними вытачками только, ей сострачивать, как старухи старые с обвислыми уж совсем плоскими сиськами инда носили.
А может, это и просто так казалось, или оттого, что бабой стала, распозлась она маленько – кто ведает? Теперь уж не упомнишь.
Вот как-то раз, к осени дело было, пришла Шура к матери, к братьям малым в гости, пошла было баньку по-черному истопить, да что-то нехорошо ей потом от дыма-то сделалось, и оставила ее Саня у себя дома на печке переночевать.
А под утро встала мать рано – а Шуры уж нет, домой, видать, улетела – не утерпела, или к мужу на лесопилку пошла.
А в постели ее, под подушкой, маленький пузыречек темного коричневого стекла без пробочки мать нашла – вонючий такой, да и сразу его на двор в мусор и выбросила.
И вот веришь, Поля, пока бабы спрашивать не стали, чтой-то Шура твоя – али и не тяжела была, вроде уж как она с тела заметно спАла? – мать и не догадывалась, что дочка скинула…
И все как-то в голову не приходило спросить напрямки, а что, доча, случилось ли что с тобой, да и было ли что у тебя плодное-то?
Так и не смогла Санька рта раскрыть, а потом все дела да работы невпроворот, все ведь на бабах колхоз-то выезжал, да, да, на однех только бабочках…
Под весну победную и Верочка из Москвы как приехала, так и забот наделала полон рот – чуть не померла от заворота кишок, насилу спасли!
После Маша рожала, Первушу-Галочку нашу распрекрасную внучечку золотую.
Спасибо, Шура Филина-ФэДе повитухой сделалась заправской, помогла дитя принять, вот кому спасибо так уж спасибо и поклон земной за участие.
Странный, однако, случАй-не случАй, а вот разговор произошел сразу после того, как на крестины на деревенские народ намекать стал – что уж тут на радостях не угостить-то всех по такому детскому поводу?
Вот день назначили, выбрали крестной матерью Шуру ФэДе, конечно, как воспреемницу девочкину, а крестным отцом поначалу даже наш зать Коля-партейный коммунист – вызвался быть, невесть с чего.
Но тут вдруг крестная будущая уперлась – и ни в какую, говорит, я не хочу, чтобы Николай Филиппов моим кумом стал – давайте другого Николая, дядю родного девочки, Генералова Кольку, то ись, так того и сделали крестным отцом.
А странно было то, бабы сказали, что уж ты, врачевательница ты наша единственная-ненаглядная, женатого Колю отторгла от кумовства – не потому ли, что кум с кумой никогда потом меж собой повенчаться не смогут?
Так-то посмеялись про себя, да и забыли, а зять Коля вдруг вспыхнул весь – да и ушел с крестин, сказал, на работу завтра рано ему очень, а жену свою Шуру даже с собой не позвал…
А ведь была уже Шурка по второму разу беременная, ничего не есть-не пить не могла, а бегала в кусты то и дело, возвращалась потом бледная и все голову на плечо мужу клала, а тот сидел, как истукан, закурить за столом боялся, все тоже в сторонку отходил, а к нему медичка наша присоединялась – курила лишь одна она из женщин, потому что в военном ее госпитале невозможно было не токмо что не курить, а и спирт ее пить там приучили – иначе не выжить было медработнику на войне ну никак…
…Дочь Шура трудно очень рожала свою девочку, чуть не померла в Чернской больнице.
Коля-зять горевать остался в больничном коридоре, а Санька уехала домой к себе в деревню с водовозом луженским, что в тот раз на телеге своей длинной култыхающей бочку с керосином огромадную в сельсовет повез, на облучок к нему едва дыша, пристроилась.
Лишь только взошла в темноте мартовской холодной в избу, так и пала на колени пред иконой своей Александра Васильевна, стала у Бога молить через Николу-Чудотворца, чтобы дал он выжить бойкой снайперше, а уж ребеночка-то как получится – а коли живо останется дитя, то выходить она, бабушка, подмогнула бы изо всех оставшихся сил.
Разродилась Шура только благодаря умелой помощи фельдшерицы Шурочки Филиной – ФэДэ, деревенской «подруги жизни» Веры московской.
Весь долгий вечер и начало ночи, глаз не смыкая, не отходила от тяжелой роженицы бывшая медсестра, а ныне единственная начальница на всю тоже единственную медсанчасть, когда-то уездную – а теперь ставшую провинциальным госпиталем на захолустном полустанке южного от Москвы направления.
И вдруг поняла – придется ей просто по книжке-по учебнику кесарево делать, – и сразу же утвердилась от безвыходности в своем решении, и надо теперь было выйти ненадолго в коридор, чтобы мужа роженицы предупредить.
Сообщить ему необходимо было о том, что всякое случится может, и хоть и опытная она уже фельдшерица, да только – военная, все время исключительно мужской пол спасать приходилось.
А в коридоре так и ахнула – сидел там, сгорбившись, согнувшись в три погибели на деревянной лавке, старый старичок – и где же был, куда сгинул вдруг за эти часы отчаянного ожидания тот самый израненный скромный красавец, кто полюбился ей прошлым маем отчаянно за одну-то только ночку и к кому так и тянуло ее с тех пор хоть на краткий миг доехать-повидаться в его сельцо…
…Было у них с Колей во второй раз все как-то случайно, бешено, ненасытно, в тихом лесу ехала она одна жарким полднем на бричке, лошадь медленно пробиралась, все норовя завернуть в кусты и смахивая то и дело хвостом лихих слепней, вдруг на лесной дороге, в медвяной, осязаемой даже в воздухе волне запаха от зарослей иван-да-марьи, и возник ее единственный.
Как током их обоих вдруг прошибло, как грозой ударило.
Налетели оба друг на друга, подались в густые заросли, на шелковую и высокую, тоненькую лесную траву легли, разделись оба, себя не помня, догола, а потом долго еще в пруду лесном маленьком, затаенном от всех глаз людских, в мягкой теплой воде, не разлепляясь, поплавком как рыбий пузырь висели.
Вдруг лошадь на дороге зафыркала и тихонько заржала – стала хозяйку звать.
Разлепились они – как ужаленная, из пруда Шура одна выскочила, а он бесшумно нырнул в воду и как канул – поплыл, видимо, к противоположному берегу.
Не поняла тогда фельдшерица, отчего лошадь заволновалась, что там на дороге произошло, оделась с трудом и вся дрожа от пережитой радости и страха, поехала в свой дом, что стоял пустой и заколоченный, без хозяйки, на самом краю верхнего ряда новых луженских выселок.
…Было и еще раз у них – приходил Коля ночью прямо к ней в дом, без стука вошел сразу в избу – уж как открыл ножом оба замка – уличный и в сенцах – то ему одному ведомо, свалил прямо на пол в углу тяжелый мешок с зерном – сказал, что заработал на трудодни, решил вот ей отнести – надо же ведь и кур кормить чем-то, раз мясным и молочным хозяйством сестра не обзавелась – да, а звал он ее всегда только Сестра, – Милосердия, конечно, – ведь была она одним из тех его ангелов-хранителей в женском обличье, что по всем госпиталям таких, как он, спасали и спасли не однажды.
Тогда, сбросив мешок, развернулся он, было, чтобы уйти, да Шура на нем сама повисла, прилепилась к спине, как рыбка-уклейка, и легли они в тот раз в чистую домашнюю постель, а не на дежурную больничную койку, и было все у них тихо-тихо, нежно-нежно.
И перед самым рассветом он молча ушел, не обернувшись.
Всего трижды испытала с ним Шура свое счастье, зато всегда до самого конца, до донышка.
И ни разу не понесла от любимого, ни разу.
Однажды, вскоре после той ночи, приходит к ней домой одна баба, соседка Нинка, молодая и разбитная вдова, тоже бездетная, палец у нее распух, просила нарыв вскрыть и забинтовать.
Шурочка сделала все, как надо, Нинка сказала спасибо и что она счас, мигом, воротится с бутылочкой и они по случаю удачной операции это все вспрыснут, побежала к дверям, да споткнулась на ополовинненый уже мешок с зерном, на полу в углу так и лежавший.
Притормозила вдруг и присвистнула:
– Ну ты и даешь, тихоня, стране угля – хоть мелкого, но до хрена! На мешке клеймо нашей снайперши мужика, Филиппова!
– Да ты что, Нин, там Филина написано, просто грязью заляпалось – испуганно и уже потерянно соврала Шура ФэДэ.
– Ага, Шур, а мешки тебе в Чернской больнице за колхозные трудодни раздавали, как прям нам, колхозникам, ага? Да ты не дрейфь, подруга, я никому не расскажу, не бзди горохом, а вот мешки-то пустые ему сдавать на пересчет все равно придется, давай, вываливай все зерно в ларь, я мешок возьму и ночью дойду им в огород подброшу, либо на плетень за домом повешу, давай, давай мешок-то! – и Нинка убежала с мешком не ведомо куда.
Что из этого мешка вытряхнулось:
Шура-жена пришла к Шуре-любовнице на работу и вытребовала у нее подсудную чистку, – за аборты давали до самой смерти товарища нашего И. В. Сталина десять лет лагерей – и когда дело было сделано, прямо с мокрым хвостом пошла к матери в баню, а от нее едва доковыляла до дома. Причем, исключительно при помощи какой-то фэдэшной самодельной настойки, от которой, думала, что если и помрет по дороге, то хотя бы пузырек мать должна найти и тем самым разлучницу и отравительницу тоже здорово прищучить.
Дома живой дождалась родного супруга, и как только тот вошел в дверь, в лоб спросила, как часто он с Шуркой ФэДэ еблей занимается.
Наивный, неискушенный в бабских глубинах и подоплеках, выросший на руках отца и старших неженатых братьев в сугубо прямолинейном мужском коллективе, Коля честно признался, что всего три разА у них с медсестрой и было…
– Так, все ясно, бараетесь, значится, еженедельно – сделала свой спокойно внешне высказанный вывод супруга и поманила Колю пальцем за собой в пуньку в сад. Коля послушно, как бычок колхозный на веревке, за ней пошел.
Шурка отодвинула часть досок с крыши, посыпалась сенная труха, и на свет божий показалась отличная снайперская винтовка.
– Видишь табличку медную? Именная! Это вроде разрешения на ношение оружия, понял? Так вот – еще раз мне донесут, что тебя в кустах с Шурой ФэДэ – причем, именно с ней, со страхолюдиной, – на других мне почему-то наплевать! – тебя, говорю, черта хромого, в кустах на ней с голой белой, в ночи мелькающей жопой твоей тощей видели – я ее как белку в глаз с такого расстояния пристрелю, что никто и представить не сумеет, что это было. Все понял? А теперь пошел вон, я устала, у меня сил нет на тебя, козел безрогий!
Да, и вот еще что запомни – ты теперь у меня рогами обрастешь аж до яиц, спереди и сзади – в дверь вот эту проходить не сможешь. Все усвоил? Свободен! – и Шурка, запихнув оружие обратно под доску, рухнула в обморок.
Болела она долго.
Все время спала и просыпаясь, плакала.
Колька весь аж почернел, но ухаживал за ней один, молча.
А однажды ночью позвала его Шура тихим ласковым голосом – он обомлел сначала, а потом поддался, и так им стало вдвоем хорошо и тепло, что через три дня буквально Шурку стало страшно тянуть на квашеную капусту, и она готова была руками из бочки вонючей ее хватать и в себя запихивать, пока не лопнет…
* * *
А сейчас Шурка умирала, не разродившись.
Только вышла Шура Филина в коридор, так и бросился Николай к фельдшерице, схватил ее молча за плечи, сам трясется – видно, даже плакать не может, и не понятно, в себе он – или не в себе…
И сказал он ей такую странную вещь:
– Спаси мне жену, сестрица, прошу тебя! Я клянусь, что если жива она останется, если ты ее спасешь, то я больше никогда, никогда с тобой любиться не буду, я обещаю тебе! – и плюхнулся, зажав руками виски, обратно на лавку.
Так значит, вот он как ее любит, жену свою – муж Шуры Артамоновой, уж теперь не Артамоновой, а Филипповой Александры Ивановны, помирающей в данный момент в операционной. Как странно – одинаковое начало фамилий у обеих Шур теперь – как в школе про Филиппка: Хве-и – Хви – ле-и – ли …
Передернуло аж Шурочку, но только выпрямилась она в струнку и сказала:
– Все, что в моих силах, сделаю для Вас, Николай. Как судьба скажется, так и будет, – но сделаю все, – можете не сомневаться, – развернулась решительно, вошла в палату и крепко захлопнула за собой дверь своей собственной женской судьбы.
рассказы
Странный недуг
Никому не нужные люди получаются из детей, которых не хотел никто.
Юная мать, не успевшая принять никакого решения за первые три месяца беременности, иногда и в последующие полгода также не вполне понимает, что произошло. Некоторые даже надеются, что «само рассосется».
Но вот ее ребенок уже орет, а потом все время требует, сначала – есть, потом – неотступного внимания, иначе «упадет, убьется, помрет».
Его «пустили на свет», теперь от него надо спасаться, от выпущенного.
Спасение – бабка.
Эту мокрую, горластую вещь надо сбыть бабке, и мир – твой. Наслушаться при этом можно всякого, это – да. Но ведь и не подарок ей оставляешь. А тот еще подарочек. А зато взамен – свобода! Сво – бо – да, и дальше все в порядке. Ребенок обихожен – раз, накормлен – два. Многое узнал о матери, кто она такая есть и почему. У бабки – как за каменной стеной.
А вещь-то все недовольна, все канючит, все мамку кличет, бабке весь живот ногами избрыкала, в дверь порывается, «убечь» хочет. Зачем? За чем? Да за видением-привидением. Видел ребенок нечто, мама называется, он помнит.
* * *
Воздушное платье, сладкий запах, белые руки. Они гладили по головке, и тогда сразу хотелось спать. Но руки те исчезали, а подхватывали другие: шершавые, больно подпиравшие голый зад и ножки, так, что становилось неуютно до стыда, рот сам собой сползал набок, и мокрые щеки царапал край бабкиного фартука, заскорузлого и слегка вонючего. Отпихнуться от него двумя руками значило получить по заднице. После этого хорошо оралось, всласть.
…Девочка привыкнуть не могла к тому, что мать существует отдельно от нее. Она обожала смотреть, как мать красится, сидя вечерами перед небольшим подковообразным зеркалом. В пепельнице дымилась папироса, дым обволакивал сначала прекрасное веселое лицо матери, а потом исчезала вся она. Всегда исчезала, даже когда всей своей маленькой тяжестью Девочка висла на ней, пыталась забраться на колени и мяла нарядное материнское, с чудесными цветами по самому подолу, платье.
В три года Девочка все понимала, но не умела говорить, зато умела молчать или кусаться. Умела молча умолять. «И в кого же ты у меня такая?» – сокрушалась мать. И Девочка улыбалась живыми умными глазенками, потому что была рада услышать, что она «у нее». Не где-то, не у бабки, не в яслях, а у нее, у мамочки.
Везде, где не было мамы, было плохо. Там стригли наголо, и это называлось «ясли-лето-дача». Там чужие толстые тетки в белых грязных халатах могли поставить в угол за шкаф, потому что Девочка кусала всех, кто трогал ее руками. Там давали играть розовым противным пупсом, голым и холодным на ощупь, и не давали любимого драного медведя без ноги. Там хором сюсюкали стишки. И доставали до горла ложкой с комковатой и остывшей манной кашей, пока не вырвет.
Вторым именем Девочки было «Немка». И она к нему привыкла. Все думали, что Девочка будет немая. Но однажды пришел в гости прямо с работы любимый девочкин дядя, брат матери, водитель троллейбуса, и остался стоять в дверях, не раздеваясь. Потом громко сказал бабке: «Ну, мать, чуть-чуть сейчас человека не задавил!» Девочка посмотрела внимательно на его белое лицо и четко повторила «Чуть-чуть!». Потом начала говорить все, и чисто, никогда не картавила.
Одним из самых отчетливых ощущений было празднование первого дня рождения годовалого ребенка. Девочка родилась в ночь на второе января, и сопровождавший ее с тех пор праздник Нового Года с самого раннего детства был связан с запахом елки, огоньками разноцветных лампочек в звенящих розетках из серебряной и золотой фольги и блеском стеклянных игрушек умопомрачительной красоты. Надели на Девочку новое, долго потом самое любимое, первое платьице, байковое, темно-зеленое в белый горох, очень мягкое на ощупь. Сверху нацепили беленький фартучек с лохматыми крыльями за спиной. Мама приподняла свою Девочку и поставила к елке близко-близко. В руке у мамы горела одна настоящая свечка в кусочке бабкиного пирога. Мама присела и сказала «Дуй на огонек! Тебе уже годик, у тебя день рождения!»
Девочка немедленно зажала двумя пальчиками пламя маленькой свечки. Это была первая, ею осознанная, боль.
Утром было очень темно, и только белели подушки в кружевах. Мама одела Девочку, тихо и не зажигая света, чтобы бабушку не разбудить, и они ушли в снег и ветер. Пришли куда-то, в длинную комнату с плачущими детьми. Мама исчезла. Весь день потом было серо и хотелось спать. А вечером опять была мамина рука, до дома.
Дома бабушкин диван вплотную, по всей ширине узкой комнаты, подходил к круглому столу. Этот стол назывался «Развернуться негде».
Включали лампу, и шелковые вермишельки тесьмы оранжевого абажура отбрасывали длинные тени на потолок. За столом сидела бабка, ужинала, от нее неприятно пахло котлетами. Но под столом было хорошо. Девочка там пела. Красиво и громко. Что-то веселое, свое. Там, под бахромой тяжелой и длинной плюшевой скатерти, пахло пылью. Было видно, как мелькают то и дело быстрые мамины ноги, сначала в тапочках и босиком, потом в чулках и без тапочек. А потом в черных блестящих туфлях на тонких высоких каблучках. Тут Девочка все понимала и заводила совсем не ту песню, с одними и теми же скучными словами и на одной щемящей и протяжной ноте: «Мама, не уходи-и-и!!!»
Но мать словно не слышала и быстро упархивала каждый вечер, как птичка.
Бабка с трудом наклонялась под стол и откидывала край скатерти со словами: «Враз замолчи!», и, немного погодя, уже в сторону двери: «Вертихвостка!». Это слово неизменно вызывало в Девочке обиду, почему-то за себя. И она нарочно думала потом, засыпая, что Вертихвостка – это именно она, Девочка. Такая серая птичка, меньше воробья. Сидит себе за оконным стеклом на гремучем карнизе и смотрит в комнату. Но тут птичка расцвечивалась, крутила маленькой красивой головкой в круто завитых кудрявых черных локонах и быстро-быстро подергивала хвостиком с тремя пушистыми розовыми перьями. И были у птички на ножках крошечные блестящие туфельки на острых каблучках. И Девочка ждала, когда же она – птичка полетит в небо, в какой-то момент радостно взмахивала крылышками, взлетала и засыпала совсем.
Еще Девочка очень любила болеть. Мама читала ей тогда целыми вечерами и никуда не уходила. И был мамой сваренный горячий и сладкий клюквенный кисель. Мамин голос не должен был исчезнуть в такие вечера, и на душу Девочки сходила уверенность в завтрашнем дне. А завтра будет еще и послезавтра.
* * *
Однажды Девочка с бабушкой возвратились в конце лета в Москву из деревни (как-то связанной со словом «пензия»), от бабушкиной сестры. В деревне Девочке очень понравилось, там было так тепло и зелено и пахло бабочками. Еще там были несмолкаемые куры, лошади и корова с теленком. В саду жила рыжая собака Мушка, похожая на лису. И два серых сибирских кота, которых Мушка воспитала как родных и все время брала их за шкирку и то вылизывала, то куда-то перетаскивала из своей будки. Внизу под домиком, где кончался сад, была речка с острыми камнями в холодной воде и шатким мостиком много длиннее, чем ширина самой речки. В том месте под мостиком, где воды уже не было, росли сплошным ковром удивительной красоты голубые мелкие цветы с желтой крошечной серединкой, они пахли медом и Чистыми Прудами в Москве, где оставалась мама в странной гулкой тишине серых высоких каменных домов.
Темным вечером поезд приехал на Курский вокзал, бабушка взяла в одну руку тяжелый чемодан, в другую – мешок с деревенскими «гостинцами», и велела Девочке не отставать и идти «след в след». Девочке досталось нести свой сачок для бабочек из красной крахмальной марли. На перроне Девочка не выдержала и «поймала» бабушку сачком, надев его прямо бабке на голову. Бабуля ничем не смогла помешать «пойматься», обе руки ее были заняты вещами. Она притормозила, чуть не рухнув на больные колени, и Девочке стало стыдно и очень жалко бабушку.
Потом они долго звонили в свою огромную коммунальную квартиру, и ровно по три раза застывала тишина за дверью во всю длину коридора, по которому так здорово можно было кататься на трехколесном велосипеде, подаренном дядькой.
Вот в этот-то вечер Девочку настигла и больше никогда уже не покидала странная болезнь: внезапные приступы задыхания души, смешанного с ужасом в желудке.
Входную дверь им открыла мама, и Девочка сразу же бросилась на нее и повисла молча, тяжелая, ботинки в глине и мокрый нос, и висла до самого конца коридора. И больше ничего уже не надо было, только бы не отпускать маму, обнимать ее, такую родную и красивую, в незнакомом шелковом халате, перехваченном по тонкой талии поясом с кисточками. А потом, на пороге их с мамой и бабушкой комнаты, возникла вдруг эта болезнь.
На недосягаемой маминой кровати, до подбородка спрятанный под маминой простыней, лежал и зверски улыбался всеми своими зубами человек с черной лохматой головой величиной с телевизор.
Может, Девочка и умерла бы тогда на месте от первого приступа своего неизвестного недуга, но бабка ей в этом помешала, потому что уронила чемодан. Он рухнул, развалившись поперек комнаты, одним своим железным углом попав бабке на больную мозоль на ноге. Потому что бабушка говорила «вокно», «вострый», то и кричать она стала «Вой, вой!!!» Вот Девочка и завыла. А квадратная голова сказала вдруг: «Я – Боря.» И даже не поздоровалась.
После этого Девочка помнила только, что купала ее в ванне не мама, а бабка, а Девочка представляла себе, что это мама заворачивает ее в большое пушистое полотенце и несет спать к бабушке в постель, за книжным шкафом, у стенки, где был охотник в лесу у мельницы, он стрелял уток, а еще другой плыл к нему на лодке мимо избушки с крестом на острой крыше и мимо каменного полукруглого мостика, по которому лошадь везла телегу с мешками в темный лес; это все называлось «Германия», и Девочка засыпала.
Но в тот вечер бабка, искупав девочку, сказала: «Вот тапки твои, иди сама ложись, большая уже, 5 лет. А горшок твой мать теперь в уборную выставила» – «Бабушка, я с тобой пойду!» – «Ну, сиди, жди, пока в ванной пол подотру, потом чайку с тобой попьем на кухне.»
А после, в темноте шуршаний, когда бабушка уснула и засопела, вдруг возник шепот матери за шкафом, и взорвалась глухая боль нового приступа страха в желудке, и задохнулась душа. Девочка застонала. «Господи Иисусе Христе» – заворочалась бабка.
Надо было просто встать и пойти убить Борю, но мать вдруг тихо и нежно засмеялась в их с Борей темноте.
Девочка вспомнила щенка в деревне, у соседского ровесника Васьки, как толстый Васька пинал его ногой, чтоб щенок не шел за ним из дома, а тот полз, и скулил, и визжал, а полз за Васькой, никак не мог остановиться. Тогда Девочка подошла и ударила Ваську со всего маху по лысой голове, потому что, когда щенок бегал раньше по улице, то был веселым.
Васька в два счета спихнул Девочку в лужу.
Пока она встала и снова дернулась драться, Васька убежал. Зато щенок остался, помахивая коротким хвостиком, рядом с испачканной до ушей Девочкой.
Неизвестный недуг мог затихать только при мысли о тех, кто тебя любит просто так, за то, что ты уже есть.
Кладовка
«Господи, какая удача! Посмотрели с полдюжины квартир в новых домах-монстрах возле Кремля, от Арбата до Маросейки, тут есть чудо какие красивые – новейшего австрийского стиля “Модерн”» – с вычурными подъездами в форме глубокого завитка морской раковины, с окнами – лотосами, с чугунными коваными решетками оград в виде готических острых роз с листами. Все хорошо, но: ту квартиру, которая устроила бы всех нас, мы с Вилли нашли в районе Чистопрудного бульвара.
Знаешь, дорогая Ютта, я все хотела спросить у тебя, – ты говорила в своем последнем письме, что Ляйпциг тоже строит новое на манер Парижа и Вены, – какую бы ты предпочла квартиру, если бы вышла сейчас замуж? Наверное, квартирку-бонбоньерку с видом на кирху. Впрочем, ты еще слишком молода для того, чтобы самостоятельно выбирать, твой будущий муж, а мой любимый младший братец, сам решит все эти проблемы или даже начнет строить свой дом. Все же, когда он вернется из своей Канады (представляю, как там, в Монреале, испортится его парижский французский), Эжен наверняка получит какую-нибудь архитектурную премию за оформление старорусских рядов на Нижегородской ярмарке. Наших московских накануне нового века тоже охватил порыв ломки старого, обветшавшего. Хотим «воздухов» просвещенной Европы, я так просто хочу в дом горячей постоянно воды из крана ванной, и без этих дров, истопников на кухне и визга телег и ржания лошадей во дворе.
Так вот о находке: квартира во втором этаже в новом высоченном шестиэтажном доме, отделанном серым гранитом по фасаду. Внутри дома – электрический лифт с лифтером в униформе, на манер гостиницы «Франкфуртер Хоф», где ты встречала нас нынешней весной.
Ступени лестниц – серый мрамор, такие плоские и «легкие» на подъем, что мне в моем настоящем положении весьма удобно. На всю высоту фасада выходят сплошные, почти без перекрытий, огромные лестничные окна. На стенах меж полувоздушных лестничных пролетов – большие зеркала, причем, без рам, но все же как бы обрамленные по полям цветными зеркальными кусочками, наподобие желтых кувшинок на зеленоватых листьях. Везде ковры, воздух, свет…
Дом тот в тихом переулке, что застроен купцами братьями Гусятниковыми, а знаменит проулок этот голубым особняком, выстроенным недавно другом нашего Эжена модным уже архитектором Дриттенпрайс для – вообрази – нового русского нувориша, бывшего крестьянина! Соседями будут Беренсы; поговаривают, что сами Высоцкие, чаезаводчики, которые сейчас должны вернуться из Китая, подрядили племянника Кляйнов прямо-таки на дворец! Интересно, в шанхайском ли стиле?
Ну да Бог с ними, я хотела описать тебе саму нашу квартиру. Мы не стали снимать ее на год, а заарендовали сразу на двадцать лет, так решил мой Вилли, он отлично понимает в таких делах, ведь успешно практикующий домашний доктор должен жить поблизости от солидных клиентов. Так вот, квартира: 8 основных помещений расположены так, что выходят на площадку грушевидной формы, то есть сначала идет весьма просторная передняя – шестиугольная, скорее, право, овальная, как утолщение груши, которая затем переходит в длинный коридор (будто верх этого воображаемого плода).
Шестигранник той потрясающей прихожей имеет на каждой грани по одной двери: парадная входная – в центре, слева от нее – дверь приемного кабинета, далее следует дверь гостиной; прямо напротив входа – дверь в узкий коридор жилых покоев, а справа – от столовой и, наконец, от просторной кухни. Двери в парадно-гостевые покои и в кухню – двустворчатые, а поверху имеют прозрачные стекла. Кабинет и кухня оборудованы внутри небольшими тамбурами, чьи стенки поверху на треть сделаны из толстого стекла в частых переплетах, и, как ширмы, не доходят до потолков. Создается ощущение дачной веранды и необычайной легкости пространства.
Между кухней и столовой в стене устроена потайная вытянутая арка для подачи горячего, с узкой дверью на кухню. В кухне же под широким подоконником размещен просторный ледник. Газовые кухонные плиты и газовый нагрев воды в ванной комнате. Отдельный вход для прислуги.
Представь себе, что я увидела там и ощутила, когда впервые мы с мужем побывали в этой квартире утром, в двенадцатом часу: это был восторг, и ты сейчас поймешь, почему.
Подъехали в коляске, к дому 14 в Чудовом переулке, что неподалеку от дворца князя Юсупова у Красных ворот. Там няня моя гуляет иногда с малышкой (знаешь, Ютта, Эжен мне рассказал, ограда юсуповского сада знаменита на всю Москву, ее не то привезли, не то вылили по образцу церковной в ярославском поместье старого князя). Швейцар открыл тяжелую парадную дверь; сопровождающий ждал нас внизу и провел на второй этаж. В левой стороне он своим ключом открыл огромную входную дверь в квартиру под шестым нумером (а надо заметить, что потолки в ней необычайно высокие – около пяти метров, и латунная табличка с цифрой расположилась почти под сводом).
Вступаю в прихожую первая, Вилли спрашивает, еще в дверях, где зажигается электричество, бой показывает на выключатель, на медный колокольчик тоже электрического звонка и на трубки телефонного аппарата на резной полочке, подвешенной слева на стене. Вдруг я говорю им, чтобы не включали сейчас электричество.
Я просто замираю, как зачарованная, в легкой дымке голубого света. Он льется в просторную прихожую сверху из застекленной части всех закрытых дверей. Я – как бы внутри волшебного фонаря с прозрачными верхними стеклышками. На гранях чисто вымытого новенького хрусталя над дверьми сияет солнечная радуга. И она отражается мелкими брызгами в подвесках шарообразной хрустальной же люстры в центре прихожей.
Дорогая Ютта, когда все же был включен свет и открыты все двери, также и внутренние между комнатами, анфиладой, ощущение чуда не то чтобы вовсе исчезло, но перешло как-то сразу в воспоминание. То есть квартира эта стала совершенно моя, понимаешь, и уютная, и красивая, и – я знаю теперь – волшебная.»
* * *
Кусок старого, а вернее, старинного письма на плотной, красивой, почти не пожелтевшей от времени бумаге, Девочка нашла в кладовке своей «родовой» коммуналки, в пыльной, квадратной, как чемодан, плетеной корзине со множеством застежек. Нутро этой допотопной корзины было обшито клетчатой зеленой шерстяной тканью и скрывало до поры до времени, пока ремни застежек не полопались, кучу писем на непонятном Девочке языке. Вернее, на трех чужих языках. Лишь этот обрывок русского письма можно было с напряжением понять, и хоть почерк был крупный и каллиграфически-четкий, твердые знаки мешали, они почему-то норовили читаться как мягкие.
Девочка читать умела с пяти лет, в кладовку она приходила спасаться от тесноты комнаты, в которой жила ее большая семья. Кладовка, бывшая когда – то «гардеробной», представляла собой квадратное, без окон, небольшое помещение в виде высокого колодца. Недавно приходил в квартиру плотник и сделал широкие, внахлест по периметру, на пяти уровнях, полки из неструганых белых досок, чуть пахнувших хвоей.
Самодельные эти полки соседи сразу забили всякой рухлядью. Откуда-то появились ржавые тазы и корыта, чугунные утюги, дырявые баки и тюки с тряпьем. Полки, хоть и прочно висели на глубоко вбитых в стены костылях, просто прогибались под тяжестью этого хлама.
На потолке висела голая груша тусклой лампочки. На полу, привалясь верхним концом к полкам, громоздилась здоровенная, вся в засохшей масляной краске, шаткая стремянка. В небольшом свободном от барахла квадрате в центре комнатки стоял, изображая стол, высокий табурет. Он накрыт был старой льняной салфеткой, украшенной рваным «ришелье». Под этим табуретом ютился сбоку очень низенький детский стульчик. За этим как бы столом, сидя, скукожившись, на маленьком как бы стуле, Девочка читала. Запоем; иногда по ночам, закрывшись от квартирного населения намотанной на гвоздик в стенке и на дверную ручку бечевочкой. Эту бечевочку порой обрывали соседи, чтобы закинуть на полки кладовки с глаз долой набитые всякой дрянью мешки.
Бесцеремонно сгоняя Девочку с места, вставали в тапках прямо на «скатерть» высокого табурета, потом перешагивали на ступеньку деревянной лестницы и закидывали старье на «свои» полки. Спуск давался гораздо труднее. Редкие ступеньки были частью подломаны, частью отсутствовали вовсе. Надо было хорошо изучить все тонкости и подвохи этой стремянки, чтобы не грохнуться. Мало кому удавалось избежать падения, хоть и низкого, и трудно было Девочке удержаться тогда от звонкого хохота.
Иногда в кладовку к Девочке приходили подруги-ровесницы со двора. Их было трое, ровно по количеству «нормальных» ступенек стремянки, на которых Девочка рассаживала своих гостей. Сама она садилась тогда на свой стульчик, спиной к двери, а лицом к подружкам на лестнице. Общались очень весело и громко, потому что Ирка, как самая маленькая и легкая, сидевшая обычно на верхней ступеньке, часто взбрыкивала и ботинками задевала Светку со средней ступеньки. Та, в свою очередь, дергала руками и била Ирку по коленкам, а Ольга внизу резко запрокидывала к ним голову, чтобы посмотреть, что там происходит сверху, и стукалась головой об дно корыта на стене. Происходил звук «Бом-м-м!» – «Ну прям как Царь-Колокол», – комментировала просвещенная хозяйка, – и все четверо кисли от смеха. Громче всех заливалась веселая Девочка, даже подпрыгивала на своем маленьком стульчике и повизгивала от смеха.
Но однажды вдруг рожицы всех троих, сидящих на лестнице, разом вытянулись, и смеяться девицы резко перестали. Хозяйка же продолжала громко, с воплями, хохотать одна, ничего не подозревая. Потом как-то боком-боком развернулась к двери и тоже, но медленнее, чем подружки, замолчала. И сильно покраснела. Дверь кладовки была настежь распахнута. На пороге стояла старуха-соседка, самая древняя среди жильцов, Елена Ивановна, бывшая владелица всей квартиры. Она давным-давно в полном одиночестве жила в своей собственной библиотеке – единственной в квартире самой большой (не считая кухни) неразгороженной комнате. Там изначально было только одно, к тому же, балконное, окно. Елена Ивановна, в толстых роговых очках, огромными серыми глазами строго, но молча, смотрела на шестилетних дурочек. Потом, так же молча, она закрыла дверь и ушла.
Никогда еще Девочке не было так стыдно. Ирка, Светка и Олька попрыгали с лестницы, как воробьи, и разбежались по домам, не говоря ни слова.
* * *
Некоторые соседи случайно или нарочно гасили свет в кладовке, выходя вечером из уборной или из ванной, так как все три выключателя «мест общего пользования» были рядом. Девочке становилось не то, чтобы страшно, но не по себе в наступавшем вдруг полном мраке. Тогда она сама обрывала бечевку и выходила в темный коридор, на ощупь добираясь до двери своей комнаты.
Квартира Девочки представляла собой огромную московскую коммуналку из 15 (бывших 8) комнат столичного «доходного» дома конца 19-го века, в 25 минутах ходьбы от Кремля, на Чистых Прудах.
Почтовый адрес девочки звучал гордо: Москва-Центр, улица Кирова, переулок Стопани, дом 14, кв. 6.
На входной двери в квартиру со стороны лестничной клетки прибиты были 4 железных почтовых ящика, 1 общий звонок и латунная табличка с фамилиями жильцов и количеством звонков каждому, итого 14 звонков.
В коридоре на стене слева от входной двери висел общий телефон. Крупная надпись с адресом и номером «Б-8-34-07» приколота была иголками и булавками к обоям над телефонным аппаратом. Надпись эту сделали вырезанными из газет и наклеенными на лист бумаги клеем «канцелярским казеиновым» печатными буквами.
Высота потолков – метров пять. Когда наряжали с бабушкой елку, ставили не старую стремянку, нет, Боже упаси! Снимали с обеденного круглого стола скатерть, стелили газету, на нее ставили кухонный прочный стол, на него – высокий «коммунальный» табурет, а уж на табурет – Девочкин хоть и маленький, но крепкий стульчик из кладовки. Тогда рукой можно было дотянуться до елочной макушки и надеть на нее из рубинового стекла в золотой оправе почти кремлевскую звезду.
В многоугольной просторной прихожей было много дверей, если считать и входную. Не было только двери в узкий длинный коридор. С правой стороны единственная «стеклянная» по верху огромная дверь вела в кухню, рядом и слева такие же двери, но забитые вместо стекол фанерой, не вели никуда, перехваченные крест-накрест досками. В их нижней части были прорублены неширокие входы.
На кухне ютились 14 столов, и хоть она и была площадью в 36 кв. метров, и имела «тройное» огромное окно во двор, но широкий подоконник тоже использовался как стол. У стены справа стояли две газовых плиты по 4 конфорки. Перед плитами, в правом дальнем углу, возле самой двери на «черный ход», была раковина с единственным краном для холодной воды. Под раковиной стоял трехведерный мусорный бачок с крышкой. На крышке этой любил спать «всехний» старый кот Васька. Еще он любил попить водички прямо из-под кухонного крана, как и Девочка.
Ближний угол справа от входа в кухню занимала небольшая комнатка со стеклянными поверху стенами в белых деревянных перекрестиях – как на дачных верандах. Это была прежняя кладовая для продуктов, свет в нее попадал только через окно кухни, но там жила теперь семья из 3-х человек.
По бокам длинного коридора было когда-то по 2 двери с каждой стороны – слева в бывшую спальню хозяев, за ней – в бывшую детскую; справа вдали – в бывшую комнату для нянь и горничных, и ближе к кухне – в бывшую библиотеку.
Все эти прежние двери были давно заколочены, и, как и коридорные стены, закрашены вагонной темно-зеленой краской. Рядом прорублено по 2 новых входа – на каждое окно выгородили по узкой комнате.
Велосипедные рамы и раскладушки, стиральные доски, лыжи и санки, – все обернутое в пыльные тряпки или в брезент имущество висело на вбитых жильцами прямо в стену здоровенных гвоздях и устрашало своими очертаниями, грозно раздувая коридорные бока.
В торце длинного коридора еще 4 двери: слева – в ванную комнату, далее – в туалет, затем – в бывшую гардеробную (ныне «кладовку» со стеллажами для рухляди и корыт), и в правом углу – новая дверь в половину бывшей комнаты для прислуги.
На 1 ванную и 1 туалет приходилось в квартире 22 человека: 17 соседей плюс 5 человек – семья девочки: она сама, ее бабушка, мать, отчим и младший брат.
Полы в ванной комнате, в туалете и в кухне были когда-то выложены черно-белым кафелем в виде ромбов и кубов, создававших ощущение объема. Теперь плитки во многих местах были выбиты, выщерблены и заложены простыми досками. Сама ванна в квартире была ужасна – огромная, черная внутри, отколупанная по бокам и особенно по дну. На стенах, кроме газовой колонки с толстым желтым краном, доходящим и до огромного разбитого фаянсового умывальника, было прибито здоровыми гвоздями прямо через голубоватый «мраморный» кафель множество деревянных пустых полок для отсутствующего мыла и полотенец. Все держали свои банные принадлежности по комнатам.
Но под ванной было одно, известное, наверное, только Девочке, чудо: ванна стояла на четырех огромных бронзовых львиных лапах.
Когда делали капитальный ремонт, старую ванну заменили на маленькую, в которую больше не влезало корыто для белья. Львиные «ноги» спилили газовой сваркой и унесли в неизвестность.
Фарфоровая ручка сливного бачка в туалете (т. е. в «уборной») висела на бронзовой же отполированной цепочке и представляла собой изящный дамский кулачок с едва прорисованными перстнями и английской надписью на браслете вокруг запястья:
«Ве саreful!»
Как сохранилась ручка эта до первого ремонта квартиры до середины шестидесятых годов, остается «тайной, покрытой мраком». Исчезла она, когда бачок сменили на новый, низкий, с пластмассовым черным отвинчивающимся шариком. Шарик этот пропал сразу же после первого ремонта нового унитаза. Поговаривали, что дремучий сантехник дядя Коля-Подоля (он же когда-то инженер Подольский) случайно унес его в кармане своей форменной телогрейки и потом потерял. Неизвестно. Такие шарики в новых отдельных квартирах в хрущобах стоили по три рубля. Пол-литра водки можно было купить на такие деньги.
В кухне на левой стене, сразу за дверью, висела Доска объявлений с «Графиком дежурств по уборке квартиры», со счетами на оплату телефона и коммунальных (буквально) услуг. Левая створка кухонной двери, собственно, просто отсутствовала, а правая, без стекол, навеки задвинута была странным каким-то столиком, на единственной очень толстой ноге по центру, бабушка сказала, бывшим «ломбардным», с остатками зеленого сукна, а ныне изображающим кухонный.
Ломберный этот столик вовсе не был заложен в ломбард. Его отнесли в антикварный мебельный комиссионный магазин на Фрунзенской набережной понятливые новые соседи-бакинцы незадолго до Олимпиады. Получили немало. В ящичке для карт завалялся серебряный николаевский рубль и листик чьего-то письма на старой плотной веленевой бумаге:
«Милая Ютта, ты просила меня присылать тебе письма по-русски. Вот, я исполняю твою просьбу. Мы ждем тебя на Рождество у нас в Москве, в нашей новой квартире.
Обнимаю тебя, моя дорогая! До встречи!
Helen Brandt, Moskau, im August 1900».
Александреич
– «Ся-дЕ-ить, ти-ли-фон! Але-але!» – ангельским звоночком заливался полуторагодовалый Сляпка под дверью соседа по коммуналке.
Вообще-то ребенка звали Славка. Но лифтерша тетя Катя, плохо говорившая по-русски, как-то раз, завидев Славика, сидящего в своей красивой, белой, плетеной по бокам и тяжелой коляске, которую с трудом вытаскивала из лифта его мама (а не отец, как обычно), потрогала мальчика за ручку и громко спросила:
– «Сляпка! Где твоя папка?»
Ребенок заулыбался и заоглядывался, повторяя: «Папа, папа! Где папа?»
Но папы не было видно, а мама покраснела и быстро увезла коляску от любопытствующей тетки, которая как будто бы и знать не знала – слыхом не слыхала о том, что Славкины родители недавно разошлись.
Со временем папка все-таки «вернулась» обратно в семью, а Славочку все стали называть «Сляпка».
– «Славик, не кричи так. Все равно тебя никто не поймет, я сама позову!» – Девочка, – а она была взрослее своего брата Славки на целых шесть лет – степенно, три раза постучала в ручку двери старого профессора Александра Андреевича и четко и громко позвала:
– «АлександрЕич! Вас к телефону!»
– «Благодарю Вас, дети, иду-иду!» – отозвался приятный низкий голос.
Тяжкая, обитая толстым, стеганым, как одеяло, дерматином, но очень мягкая на ощупь и вся в тусклых желтых звездочках-шляпках гвоздей, дверь соседской комнаты отворилась, и в коридор вышел старик, высокий и полный.
(«Статный наш красавец, хозя-а-ин!», – как говорила бабушка Девочки.
А еще она утверждала, что дверь эта «хозяйская» обита была «не дерьмантином, а настоящей телячьей кожей, а гвоздочки на ей – как есть чистое золото!»).
Старик неспешно прошел к общему для всего сонма соседей телефону, который назывался «настенным» и прибит был, то есть, «висел», прислонившись к ободранной стене слева от входа в квартиру, в самом начале многоугольной просторной прихожей.
Профессора уже минут десять «ждала» тяжелая телефонная трубка (сделанная и впрямь как бы из двух курительных трубок – одна головка сверху, другая снизу, – и слепленных между собой прямыми чубуками).
Трубка «ждала» – значит, была вложена, или вставлена, в середину черного аппарата, шарообразной своей «слуховой» верхушкой зацепившись и повиснув между рогатыми рычагами, а толстой крепкой ручкой с «говорильной» нижней головкой обхватив и прикрывая пружинящее колесико набора, с десятью белыми буквами на нем, от А до К, с дырочками для пальца над каждой цифрой, продавленной не очень точно под свернутым слегка вбок колесом.
Профессор одет был в мягкие вельветовые темные домашние брюки и недлинный бархатистый полухалат глубокого синего цвета, с поясом из переплетенных шелковых косиц с кистями.
Над воротником-шалькой лежал безукоризненной чистоты апаш светлой фланелевой рубахи. На шее под воротом повязан был мягкий шелковый темно-синий же платок, глухо именовавшийся «галстух».
На ногах старика были пуховые серые толстые носки ручной вязки и турецкие шлепанцы черного сафьяна, с маленькими кисточками на загнутых вверх мысках.
За кисточками этими охотно бегали, пытаясь дотронуться, и маленький Славик, и старый коммунальный кот Васька, который уже давно ни за чем другим не бегал.
В молодости Васька попробовал было однажды повиснуть и на проводе от «ждущей» телефонной трубки.
Когда тяжеленная трубка все-таки упала, раскачавшись, и стукнула кота по круглой башке и по спинке, Вася все сразу понял и больше к телефону «не подходил».
А вот маленький Славик обожал «подходить к телефону».
Он просто «родился в рубашке», потому что, как только научился ходить, не раз пытался подергать «за веревочку», которая звонко звенела на всю квартиру.
И полукилограммовая трубка, конечно же, падала вниз, но, слава Богу, всегда мимо ребенка, и лишь раскачивалась, стукаясь об стенку, но не доставая до пола, да при этом, от боли, наверное, верещала изнутри довольно громко «Але-але!», и всегда – разными голосами.
Славик был в восторге и рвался послушать, кто там? – а его сестре бабушка строго-настрого велела смотреть за ним, когда телефон начинал «названивать».
В обязанности старшей сестры входило также и задание «держать и не пущать» обоих мелких хулиганов при попытках напасть на тапочки Профессора.
Брата Девочка легко и ловко перехватывала поперек живота и убирала прямо из-под ног почти уже готового упасть на пол в коридоре старика.
Но вот с котом Васькой было намного сложнее.
Шельмец отлично знал, что его сейчас схватят «за шкирку», поэтому ловко кусал протянувшиеся к его загривку ручонки.
При этом передними лапками старался успеть наиграться красными профессорскими кисточками.
А задними цеплялся за пушистые носки обреченного соседа и как бы «ехал» то на одной, то на другой его ноге.
Иногда Васька серьезно застревал когтями в толстых носках и не мог убежать, поэтому начинал вдруг громко «мявкать» (у Бабушки все коты «мявкали», потому что собаки «гавкали»).
Тогда Александреич вставал как вкопанный и тоже начинал издавать непонятные призывы: «Хильфэ, хИльфэ!»
Тут к нему на помощь шла тяжелая артиллерия в лице соседки тети Насти.
Кота брали «за шкибон», причем, сразу резко и обеими руками, потом шустренько тащили на кухню, открывали, толкая задом, кухонную дверь на «черный ход» и беспардонно вышвыривали вон, при этом с большой скоростью и накрепко захлопнув за ним возможность вернуться.
(Но забывали злые люди о том, что существовали в квартире еще и кухонное окно с форточкой, к которому трудно, но возможно было пробраться по уличному карнизу, и парадная дверь, до того огромная, что ее долго пытались открыть ключом. Вполне можно было, не особо торопясь, продефилировать, гордо задрав хвост, прямо на кухню и залечь на свое теплое местечко на крышке любимого мусорного бачка под водопроводной «раковиной»)
Было неясно, почему предложение Бабушки «Срезать пумпончики с тапок к чертовой матери!» старик постоянно игнорировал.
Не очень понятно было также и то, что за слова выкрикивал Профессор.
Девочка потом интересовалась у Бабушки, а что это он сказал?
Бабушка обязательно тогда прикладывала себе ко рту указательный палец с растрескавшимся крупным ногтем и говорила шепотом: «Они же немцы!»
Звучало здОрово, но все равно непонятно…
– «А что, тетя Настя – тоже немка?» – продолжала допытываться Девочка.
– «Какая она, к Богу, немка!» – и Бабушка, почему-то, фыркала в кулак.
– «Но, Ба, она же поняла, что он хотел убрать кота!» – «Так это и ты даже понимаешь!» – улыбалась бабулька. «Просто люди есть разные, русские и не русские, и говорят они на разных языках. Вон наша лифтерша тетя Катя – татарка, она и говорит по-русски через пень-колоду, прости Господи» – и бабка опять хмыкнула. «А с мужем своим, дворником нашим, они ведь по-татарски тарабарят, ты ведь их тоже никогда не поймешь!»
Девочка задумалась. Потом опять спросила: «Ба, а почему мне не интересно, что говорит тетя Катя, а зато интересно, что сказал Александреич?»
– «Ну, уж это ты сама у себя спросить должна, отстань, а?» – и бабуля пошла на кухню.
В длинном коридоре ей навстречу, внимательно глядя под ноги, освобожденный от кота Александреич двигался по направлению к ждущему аппарату.
Левую руку профессор держал в кармане халата, трубку телефона взял правой рукой, на которую предварительно надел вынутую из другого кармана специальную мягкую матерчатую варежку.
Затем он достал маленький пузырек с чудесным запахом, всегда одним и тем же, неизменным и незабываемым (на желто-голубой этикетке черными и, притом, немецкими, буковками было написано, как выяснила Девочка через много-много лет: «Кельниш Вассер, Глокенгассе 4711 – то есть, Кельнская вода, Колокольный переулок, 4711») и, слегка побрызгав одеколоном на трубку, тщательно протер ее белым носовым платком, и только после этого, поднеся к лицу продезинфицированный эбонит, немного в нос сказал, наконец, своим колдовским голосом:
– «Алло – алло – алло, я слушаю Вас!»
Нелюбовь
Люда родилась в самом центре Москвы, в коммуналке неподалеку от Чистых Прудов. В пятом классе девочка эта пришла в новую школу и в новую, неясную до поры, жизнь чужих, и при этом плотно сомкнувшихся за четыре года их общности друг с другом, своих ровесников. Девочка Люда была отличница и бойкая, потому что боялась. А боялась, потому что не умела любить. А не любила, потому что страстно не хотела любить, никого. А особенно чужих. Чужих чьих-то детей. Она даже в дневнике своем не до конца признавалась в том, как не любит этих всех детей, и ровесников, и тех, кто младше. И особенно младенцев не любит. А на взрослых ей не то, чтобы наплевать. Просто вот взрослых-то она и не боится. Ей с ними как-то все равно. Неинтересно.
Люду воспитывала бабушка, вечно ворчавшая на то, что ей посадила на шею «Людку эту» красавица-дочь, «вертихвостка Верка». Мать Люды была замужем во второй раз, родила еще одного ребенка, Людкиного брата Славочку. Славочка был тоже красавец. Людка же с пяти лет страдала от слов своей матери: «Ну почему же ты не похожа на меня, страшненькая моя!» Потом мать добавила: «Ну, ничего, вырастешь – и, может быть, еще выровняешься. А не возьмешь в жизни красотой – возьмешь умом, ведь ты же не дура. К тому же, натуральная светлая блондинка!» – и быстро провела рукой по Людкиной «соломенной крыше, как у отца». Людка тогда ответила, немного подумав: «Лучше бы я была красивая дура.»
Мать расхохоталась низким, чудесным своим ведьминским, слегка прокуренным смехом, крутанулась перед зеркалом на тонких высоких каблуках и убежала. Людка вдруг поняла, что мать ее не любит. А ведь и Людка мамочку свою тоже не любит.
Людка ее обожает. Но об этом надо было молчать.
«Сколько неразгаданных вещих снов, сколько недосказанных нежных слов…»
С тех пор, как появился Славка, что-то светлое проснулось вдруг в Людкиной шестилетней сердцевинке. Она стала обожать его тоже, даже больше, чем свою мамульку ненаглядную. Славочка стал Людкиной собственностью, ее ребенком-первенцем. Она назвала бы его Ванечка, но ее никто не спросил. Делала она со Славкой все, что могла – поила из бутылочки, боролась с вечной его пустышкой – «дудухой», и чтобы она не загораживала краями своими половину его маленькой ангельской мордашки, вынимала соску эту у него изо рта (а иногда, для проверки ощущения Славкиного счастья от дудухи, сосала ее сама и удивлялась, почему это он так орет от горя, а она ничего особенного не чувствует, ни вкуса, ни радости). Людка любила вынимать Славочку из коляски и качать на ручках, когда никого в комнате не было. Однажды она его уронила, прямо на голый пол, а он лежал и молчал. Людка подумала тогда, что он умер. Она испугалась смертельно и побежала прятаться в туалет. В дверях столкнулась с бабушкой, боднула ее головой в мягкий живот, добежала до туалета и закрылась на ветхий крючок.
Наступила гробовая тишина, только сердце выпрыгивало от ужаса. Вдруг раздался громкий вопль бабушки: «Убила! Малого убила!!» Людка поняла, что Славка точно умер.
И это она его убила, своими руками.
В дверь уборной рвалась бабка с криком «Вылезай, чертова сволочь белобрысая!» Но я же не нарочно, пойми ты, бабушка!!! Тут Людка услышала такой рев и рыдания, что не сразу поняла, кто это теперь заорал благим матом.
Дверной крючочек тенькнул и отлетел, перед ней стояла разъяренная бабка. На руках у нее орал набравший, наконец, воздуха в легкие Славка. С огроменной пунцовой шишигой прямо посередине лба. Бабка треснула Людку по башке со всей силы и заплакала.
Люда прижалась лицом к Славкиной толстенькой ножке в драных на розовой байковой пятке ползунках, обняла бабульку за тухловатый от грязного фартука живот и заплакала тоже.
Трое плачущих в обнимку родных людей. Все пострадали только от Людкиной любви. Значит, никому она, любовь эта Людкина, не нужна. Никого я больше любить не буду, чтобы не было так больно.
Вечером пришли с работы мать и молодой противный отчим. Поинтересовавшись, почему это на лбу у ребенка шишка, отчим услышал странный ответ бабки: «У какого ребенка? У твоего или у чужого?» – «На что это Вы, мама, – проскрипел зубами отчим – намекаете? Вы хотите сказать, что Славик не мой сын, не от меня?..» – «Борис, замолчи! – это вступила мама Вера.
Тут продолжила бабушка: «Я хочу сказать, и давно уже, что у вас только один ребенок. А другой… а другая у вас – безотцовщина горькая! А я сидеть с двумя детьми отказываюсь, я старая уже, у меня руки слабнут, я детей роняю!» – уже в голос рыдала бабушка.
«Хорошо, завтра же мы с Верой и со Славиком уезжаем жить к моим родителям!» – «Скатертью дорожка, дорогой зятек, а мы с Людкой и на одну мою пенсию проживем, не подохнем!» – «Мама!!» – «Что, “мама”! Замамкали! Вон из моего дома, чтобы никто больше не возвращался! Люда, ложись спать, поздно уже, а я капелек сердечных пойду попью»
– «Сама меня до инфаркта довела! – кричала мать, они собрали все в коляску, взяли полуспящего Славку и, не попрощавшись с нами обеими, уехали.
Людку охватило странное чувство: это была такая дикая смесь из страха, что вот опять назрел безобразный надоевший ежедневно повторяемый скандал вместо тихого вечера; из огромного облегчения, что бабка ее не предала и не проболталась, кто уронил ребенка; из обиды на бабку за слово «безотцовщина» – ведь был же у Людки настоящий, родной, как он всегда говорил Людке по телефону пьяненьким голосом, «законный» отец, только он крепко пил и ревновал мать, бил ее, а утром плакал и стоял перед ней на коленях, пока они не развелись.
Людке было тогда три года, она смутно припоминает, как сидела в комнате на горшке около своей кроватки. Мягкие цыплячьего цвета «штаны китайские с начесом» сползли с коленок до самого не очень чистого пола, за что ругалась бабка, и тут открывается дверь и входит Отец, отрывает ее от прилипшего горшка, прижимает ее к колючей своей щеке, дышит на Людку противным кислым запахом, так что становится невыносимо, и Людка, успевшая подхватить рукой на лету падавшие уже штаны, начинает лупить этими штанами отца по его такой же цыплячье-желтой голове и молча выдираться из его неловких объятий.
А он плачет и говорит, что видит ее в последний раз и что он ее, доченьку свою ненаглядную, обожает и будет ей всегда теперь звонить по телефону.
Тут вошла бабушка, выперла папашу в коридор, перекрестилась, и он исчез из Людкиной жизни надолго.
Удивительно, что Людка запомнила четкую картинку в зеркале: две абсолютно одинакового цвета лимона головы сливаются в одну, а сверху их прикрывает пуховое лимонное облако!
Потом у мамы появился сначала новый муж Боря, а потом новый ребенок Славка.
Мать никогда в жизни не называла Людку дочкой или доченькой, все Люда да Люда, а иногда даже и торжественно Людмила. Родилась Людмила точно в день рождения своего отца Николая, козерога упрямого, первого января, но ночью.
Накануне маму увезли прямо от новогоднего стола. День она промучилась схватками, потом все утихло и она уснула. Проснулась к ночи первого января. Только в ночь эту никто не хотел работать, все смотрели телевизор, тут мама привстала тоже пойти посмотреть «Карнавальную ночь», но вдруг стала рожать. Записали рождение девочки вторым января.
Мама очень была разочарована тем, что не мальчик родился, ведь она «все уже голубенькое заготовила, а тут – девка, позор какой-то, и надо же – все, ну все кругом, мальчика пророчили. И имя было готово – Владимир, школьная моя любовь. А теперь как назвать? Ума не приложу.»
Тут нянечка, принесшая ей девочку в первый раз покормить, сказала: «Назови ее Людмилой. Все Людмилы – счастливые!» И мать согласилась. Вот в Карнавальной ночи какая Людмила роскошная играет! Вера поднесла девочку к груди, нянька слегка прижала голову ребенка губами к соску, и…
Люда отвернулась от матери и молча продолжала шевелиться в своей пеленке. Нянька обмерла, а Вера прикрыла грудь ночной рубашкой и сказала: «Ну прям как чувствует, что у меня молока почти и нет, даже есть не хочет, толстая какая, четыре кило почти!»
Нянечка унесла Людку в соседнюю комнату и покормила сцеженным другой роженицей грудным молоком. Люда с удовольствием почмокала из соски и уснула. «Будет искусственница твоя дочка!» – сказала утром матери няня. «Дочка, надо же, как же это так, слово-то какое!» – «Хорошая дочка, хорошее слово!» – возразила нянька и махнула на Веру рукой. «Иэх, ты, мамаша!» Вера сделала вид, что задремала.
Отец, зато, сразу обрадовался, стал называть Людку Милочкой-доченькой и своей копией. «Ага, Коля, она – ну как есть патрет твой вылитый» – подтвердил хмельной уже слегка сосед дядя Паша, когда Людочку всей кухней первый раз купали и как бы «крестили» – крестным был этот самый дядя Паша, «потому как он маляр по окрасу церковных куполов, его из Загорска, то есть Сергиева Посада, отцы святые домой в Москву не отпускают!» – говорила соседка и бабкина подружка тетя Настя, она же – крестная.
Стояли в Москве настоящие Крещенские морозы. Потом, когда наступило потепление, бабушка с тетей Настей тайно окрестили Людочку в Меньшиковой Башне около Почтамта на Чистых прудах. Крестик, правда, сразу куда-то спрятали, боялись очень, что «партейная» часть населения огромной коммуналки «протреплется» и всем из-за них мало не покажется. Да потом так крестик-то и не нашли, потеряли, наверное, по дороге. «Все равно она – крещеная!» – тихо делилась со всеми «своими» бабушка.
Жизнь Веры с первым мужем, Людкиным отцом, не налаживалась. Он не мог простить молодой жене её красоты, охлаждения к нему от страха еще раз забеременеть, кокетства с мужчинами, которые плелись за ней и правда, «по пятам, и отбою от энтих паразитов не было, все им телефон свой давала, или еще что, ну, я не знаю!» – рассказывала бабка маленькой внучке. – «И запил твой папаша родной, и стал руки свои распускать, она его исцарапала раз, как кошка, когда он ей врезал, а он схватился руками за виски, замычал, лег спать, а ночью чуть не помер, дрожал весь, синел, неотложку вызывали, увезли его с заражением крови, а потом, как болел он долго, вернулся домой к нам, а она в кино, в Колизей, уж с Борей со своим, Славкиным папашей, усвистала. Дождался он их во дворе в нашем, я уж думала, будет с Борей с этим драться насмерть, а он уж напился за время ожидания и сказал ей: “Вера, давай разводиться, только дочь не отнимай у меня!”. Потом пошел с тобой, маленькой, прощаться, а сам пьяный как свинья, и жалко ведь его, когда был трезвый, ведь не мужик, а золото, молчит и все работает, как вол. Вот, а ты его, засранка, папу свово, по морде штанами избила! Он заплакал-зарыдал и пропал. Не знаю, говорят люди с его работы, что он на Север завербовался. Поди, чай и замерз там с медведЯми белыми, ведь он даже алиментов не присылает. Думает, нам тут сладко с тобой. Кому мы нужны, Боре, что ли? Или матери твоей – вертихвостке? Кому вообще лишний рот нужен? Вот и бесится Боря этот, что ты у нас есть. Ну хоть хватило бы уж у нее ума только одного ребенка завести!» – «Бабушка, ну как же одного, а меня куда же, а потом, я им и Славочку не отдам, пусть они себе еще родят, а этого уж нам с тобой оставят!» – «Тьфу, ты, типун тебе на язык, а то и правда еще нарожают! Ну, все, хватит, спи!»
Меншикова Башня
Как я впервые пришла в церковь? Вот то, что помню сама до сих пор с самого раннего детства.
Как-то теплым, приятным и зеленым московским летом года так 1956 – мне было около трех с половиной лет (а надо заметить, что совсем четко помнить себя я начала в следующем, фестивальном, 1957 году) – мы с моей бабушкой Полей и с ее подружкой бабой Настей, нашей соседкой по огромной коммуналке, гуляли на Чистых Прудах – рядом с домом.
Бабушка в том году вышла на пенсию, потому что кончился мой ясельный возраст, а мест в детском саду Главпочтамта, где работала моя мама, не было.
Поэтому бабуля стала «сидеть» со мной сама.
Сначала предполагалось, что – до первого класса, а потом получилось и дальше, и жили мы с ней вдвоем до тех пор, пока я от нее не удрала, выскочив замуж сразу же после окончания школы…
Моя бабушка – мамина мать, ровесница прошлого века – родилась в деревне, под Орлом, в бунинских и тургеневских местах, недалеко от Бежина Луга.
В Москву она приехала десятилетней девочкой, еще до революции, – в няньки к малым детям родного своего дядьки, да так потом и осталась жить в его московской квартире, в переулке неподалеку от Почтамта и Чистых Прудов.
Дом, в котором родилась и моя мать, и я сама, стоял возле двух знаменитых – и действующих в начале пятидесятых годов, – что было тогда большой редкостью, – старинных церквей, нетронутых и целых, кстати, и по сей день, слава Богу.
Все соседи называли их попросту: большую – Меньшикова Башня, а малую с ней рядом – Фрола и Лавра – Лошадиных Покровителей.
Так вот, гуляем мы с бабушкой и бабой Настей ранним летним вечером по Чистопрудному бульвару – и, дойдя до его середины, сворачиваем направо в переулок и проходим почти мимо розовой с белым, красивой, высоко торчащей над зелеными деревьями, большой колокольни – причем, молчаливой тогда, без колоколов.
И я вдруг спрашиваю (конечно же, сама я сейчас помню тот день лишь только по ярким летним краскам, по приятным сильным запахам и по самому общему смыслу разговоров, – а все другое осталось в моей памяти после нескольких, повторенных в разное время бабушкой, рассказов об этом событии):
– «Смотри, бабушка, что это за домик? Какой домик красивый розовый около яселек стоит!»
А почтамтовские ясли, куда меня сначала носили, а потом – водили, с года до трех моих лет, действительно были рядом с церковью, в двухэтажном, до сих пор сохранившемся, тоже очень красивом доме из темно-бордового кирпича, со стрельчатыми, высокими, как бы вырезанными в форме «бутылочек» окнами, обрамленными поверху, с уличной стороны, белым, кирпичным же, кантом в виде узких «горлышек» – как мне тогда казалось.
И только много-много лет спустя я догадалась, что дом-то этот – бывший «поповский»…
Так вот, показываю я пальцем на шпиль Меншиковой башни и прошу обеих бабок:
– «Пойдем туда! Пойдем посмотрим, как красиво!» – и тяну их за руки за собой.
А баба Настя, соседка, вдруг и говорит моей бабушке:
– «Польк, слышишь – девка-то как чувствует, что мы ее с тобой в этой церкви крестили! Ты-то сама помнишь, как мы ее – Людку-то, с соседушком Пашкой, кумом моим, крестницу-то нашу драгоценную, в пеленки едва закутали, да домой пока донесли на руках – так всю дорогу боялись, что соседи, партейные да военные, вдруг про наши крестины прознают – и мало нам не покажется!
Да так вот, впопыхах да второпях, крестик-то ее не то в церкви обронили, не то на улице из одеялка выскочил, – так и не нашли, одна только ленточка розовая атласная – да неразвязанная, главное! – у нее тогда на шейке осталась!
Поля, точно, давай мы ее сейчас, прямо вот сей момент, раз она сама нас туда тянет, в церковь и отведем! Да и спросим у батюшки, можно ли нам будет новый крестик-то ей попросить?»
Бабка моя Поля сразу согласилась – видимо, мучила ее мысль о потерянном медном младенческом крестике!
И вот мы втроем: я – посередке, бабки держат меня за ручки – входим под прохладные каменные своды в «розовый домик».
Внутри – кругло, высоко, чудесно пахнет, горят огоньки – и очень, очень красиво.
Впереди, прямо передо мной – золотая лесенка. Я бросаю руки обеих бабок и быстро-быстро поднимаюсь по этой чудесной лесенке из трех узорчатых ступенек – и считаю их вслух: одна, две, три…
Над верхней ступенькой висит большая-большая, но темная картинка в очень красивой, со стеклянными блестящими камушками, рамке.
Я трогаю руками нижние камушки, до которых достаю, и поглаживаю их. Они так прекрасны, что не помню ничего, что было на самой картинке.
Бабки за мной, почему-то, не идут наверх, не снимают, – а тихо шипя на меня, чтобы немедленно слезала, стоят внизу у лесенки…
Появляется толстый румяный Дед Мороз с бородой – но не в голубой зимней шубе с белым воротником, как у нас дома зимой под елку ставим, а в летней – очень длинной, и воротник золотой; он что-то тихо говорит моим бабкам, я хочу послушать тоже и сама спускаюсь со ступенек с обратной стороны лесенки, все оглядываясь – с сожалением! – на камушки.
Подхожу к доброму бородатому деду близко и без страха.
Обнимаю его молча за толстый живот, ощущаю его руку на своей белобрысой макушке.
Что делали обе бабуськи – не помню, и был ли еще народ в церкви?
Никого не было – так мне ощущается.
Потом дед вдруг запел – или не он, а просто внутри запели, – грустную песню, так что плакать захотелось. И только уж я собралась было заплакать, как в меня брызнули «из веника» водой – и я совсем не испугалась, только вздрогнула, – зато плакать расхотелось, а лицу приятно стало и прохладно.
Совсем ничего не помню, как мы из церкви вышли, как дошли до дома – вдруг в лифте поднимаемся, и обе бабки по очереди мне стали внушать:
– «Никому не говори, Людочка, где мы были и что видели, кто бы тебя ни спросил!»
Я, наверное, кивнула молча – но точно не помню.
Потом, совсем вечером, перед сном, сидим всей семьей за круглым столом под апельсиновым абажуром и чай пьем: я, бабушка, дядя Коля – моей мамы брат, его жена тетя Вера, отец мой Николай (они вскоре с мамой развелись) и мама – тоже Вера.
(Меня всегда восхищала в детстве эта двойственность имен в нашей, счастливой тогда еще, веселой и молодой, семье: Вера и Николай – сестра и брат, погодки и почти близнецы – так были похожи – выбрали себе тоже Николая и Веру.
А кто были друг другу мой отец и моя тетя Вера, жена дядьки, вернее, как их надо было правильно называть – я так и не запомнила от бабушки.)
Вот мы сидим все вместе, вшестером, а мама меня вдруг и спрашивает:
– «Ну, что, Люда, что вы с бабушкой сегодня делали? Гуляли?»
И я отвечаю – очень честно, потому что не «никому», а маме:
– «Мы с бабой Полей и с бабой Настей ходили сегодня в цирк!»
– «Господи, что это вас, мам, вдруг с тетей Настей на Цветной бульвар-то понесло, в такую даль?» – только и успела сказать моя мама, как бабушка на меня прикрикнула:
– «И что горОдит, и что вот она горОдит! Чай допила? Ну и спать иди давай быстро!»
Тут я обиделась и заплакала.
А что было дальше – ничего не помню.
…Львы на воротАх…
Людка всю жизнь любила «лёвиков» – то есть львов в любой их ипостаси: живых в московском зоопарке и в Цирке на Цветном, или в кино про укротителей, а по телевизору если показывали, все бросала и смотрела не отрываясь.
Маленькой была – молча брала свой плетеный горшковый стульчик с дыркой посередке, придвигала к экрану с линзой как можно ближе и смотрела неотрывно на львиную жизнь в саваннах и прериях, пока бабушка с соседями не переключали африканские страсти на какой-нибудь правильный фильм.
И вообще, львиные все изображения любила Людка: что подаренную маме фарфоровую фигурку, привязанную цветными тонкими атласными ленточками, собранными в чудесную «розочку», к конфетной коробке, что елочную растрепанную и даже полысевшую игрушку у соседки Евгении Павловны, что мраморного одного – тот лёвик жил на письменном огромном столе у соседа-профессора Александреича, восседал гордо, выкинув вверх переднюю лапу, на пресс-папье, штука такая была под ним, как качалка деревянная, вся обмотанная промокашками, чтобы чернила высыхали побыстрее, когда что-нибудь напишешь перьевой тонкой ручкой из сандалового дерева с запахом мамулькиного старого веера.
Еще один лев был у Александреича на древней желтой открытке, присланной ему еще маленькому его отцом из настоящей Африки, город Каир, 1888, одни восьмерки, вот и запомнилось – Людка осторожно гладила эту пышную гриву одним пальчиком – надо было каждого встреченного льва обязательно погладить или просто дотронуться рукой чтобы можно было, ну а если не дотянуться, то хотя бы близко посмотреть – льву в самые глаза…
Родилась Людка, по словам обеих её бабушек – московской Поли, маминой мамы, и ленинградской бабы Лизы – папиной тетки – очень не вовремя – обе бабульки еще на пенсию не успели выйти, московская аж три года работала, перед тем, как с Людкой сидеть начала, так и запихнули ребенка с трудом в ясли на эти три года, а в сад уже не отдали – и слава Богу!
Здорово помогла тогда вторая отцова тетка – ленинградско-московская, Инна Антоновна, она хоть и не пенсионерка была, а все же приезжала на Кировскую, на Людкины Чистые пруды – гулять с ребенком, или же увозила к себе на служебную квартиру на метро Кропоткинская – зимой так вместе с санками – на Гоголевский бульвар.
Вот там-то и зародилась Людкина страсть ко львам.
Памятник Гоголю охраняли аж четверо – и все их черные холодные морды, вовсе даже и не страшные, потому что львы эти напоминали смешных собак, сияли золотыми носами, натертыми до блеска колючими и влажными детскими варежками.
А может быть, и не на Гоголевском, а на Чистопрудном бульваре возникла неожиданная эта любовь – но было это точно зимой!
Ведь, мотаясь на санках по Бульварному кольцу, можно было познакомиться со многими крупными собаками, пока бабушка не успела их отогнать – и вот такую одну собаку, рыжую и добрую, по прозвищу Мишка, впрягли однажды в Людкины санки – и перед глазами замелькали пушистые толстые ножки, загнутый хвост – а оглядывалась изредка назад морда в абсолютно львиной гриве!
И стало ясно, что язык-то у львов – темно-фиолетовый, вот что!
А однажды Инна Антоновна – которая не разрешала называть себя бабушкой, а тем более «бабой» и бывала в Москве наездами, а жила в скучной служебной квартире на Метростроевской, где не было никаких соседей и даже чаю попить на кухне было не с кем, – так вот, Инна Антоновна взяла и увезла с собой шестилетнюю Людку в славный город Ленинград на Октябрьский парад, где был и это он, это он – Ленинградский почтальон, а также жил Человек рассеянный на улице Бассейной – ну и все остальные Тотоши и Кокоши гуляли там свободно по бульварам – назывался этот бульвар Летний Сад, и было в нем очень холодно и мокро, и все мраморные статуи стояли заколоченные в ящиках.
И рек было там так много, и мостов, и Людка чуть не сошла с ума, когда ее посадили верхом на лёвика у реки Невы, но вода вздувалась и доходила почти до лап зверя, и пришлось очень немного верхом покататься – а зато возле Русского музея даже сфотографироваться удалось возле одного льва, положив на его макушку свою беленькую круглую заячью шапочку.
В Ленинграде было весело у бабы Лизы – она разрешала кататься по лакированному паркету в ее комнате и покупала тортик «Ленинградский» любимый и водила по утрам, когда Инна Антоновна была уже на работе, в кафе Норд на Невский проспект – это как у нас улица Горького – пить бульон с пирожками.
В квартире бабы Лизы стояла точно такая же огромная черная ванна с отколотыми изнутри белыми боками, но было там и кое-что поинтереснее, чем в Москве в Людкиной коммуналке – весь угол ленинградской ванной комнаты занимал и уходил толстой трубой в потолок чугунный круглый титан, окрашенный серой масляной краской.
Через толстый слой этой краски выпукло проступали тела двух дерущихся драконов, и из пасти того, что торчал уже перевернутым вниз головой, открывалась дверца с дырочками. А внутри, за нею, горел настоящий огонь, и можно было подкладывать дрова, прямо как в печку в деревне у бабы Саши, сестры родной бабы Поли, у которой гостевала Людка все прошлое лето.
Но дровишек было не так уж много на полу на железном листе под ванной – оказывается, их прятали от соседей – тоже как дома, в Москве, только там был газ, а потому тырили не дрова, а чужие обмылки и полотенца…
Людка вспомнила про свой дом и бабушку – и про сильно округлившуюся и ставшую почти некрасивой маму – мама сказала, что скоро у Люды появится братик или сестренка, и будет очень тесно в их маленькой комнатке, поэтому надо пока подольше пожить в Ленинграде у бабушек – но так ее вдруг потянуло из холодного чужого города домой, мимо Бологого и Поповки, прямо на Ленинградский вокзал, а там и до Лермонтовской рукой подать – что пришлось возвратить ребенка на руки родной бабы Поли – в добавок к будущему новорожденному.
Когда Людка вошла, наконец, в свою полтрамвайную комнату, там никого не было – баба Поля застряла на кухне в разговорах с соседками, противный отчим Боря ушел на работу, а маму отправили в больницу «на сохранение» – ее надо было обязательно сохранять, потому что она плохо себя чувствовала…
Людка явственно вспомнила еще один такой одинокий день в комнате – этим летом они с мамой случайно остались одни на целые сутки! Бабушка уехала навестить сына Колю «с ночевкой», у отчима было дежурство.
Им с мамой никто не помешал сначала съездить на только что открытую ярмарку в Лужниках, купить там маме новые туфельки, а Людке – глиняную негритянку с синим пучком на голове, с глазками-синими бусинами и с красными выпученными губами, она почему-то сильно напоминала бабулю, когда та была в духе – а это редко случалось.
А ближе к вечеру удалось сходить на Центральный рынок за цветами.
И вот везде в комнате были расставлены по вазам, вазончикам и даже некоторым сахарницам и плошкам цветы – все, какие произрастали в середине лета, и такой был в их с мамой комнате чудный сладкий запах, что от счастья просто звенело в голове и хотелось почему-то плакать.
Мама и впрямь чуть не заплакала, когда раскрыла вечером обувную коробку, чтобы еще раз надеть новые туфельки – они с трудом застегнулись на сильно опухших усталых ногах.
Но решено было, что утро вечера мудренее – и они с мамой – о, счастье! – легли на мамин диван «поночевать» – а так Людка спала на одной кровати с бабушкой – выключили свет и включили телевизор, а там как раз вдруг показали передачу про реку Амазонку и огромных двенадцатиметровых анаконд – и лёвиков тоже показали! И тут уж Людка не выдержала и уснула на самом интересном месте.
Даже не успела попросить маму «покрутить огонёчек» в темноте – мама курила в этот раз в комнате, а тихий шелест высоких тополей в тишайшем переулке, разлет теплого ветра и тюлевых занавесок сливался в ту ночь с приглушенным великолепием джунглевых звуков из черно-белого телевизора – это был голос американской певицы Иммы Сумак…
…Когда бабушка наговорилась, наконец, с подружками своими – соседками бабой Настей и бабой Ниной – про «перьвого зятя своего Колю» и про встречу с ним внучки «в одинаре в Питере на вокзале» – отец провожал Людку до Москвы, а потом тем же поездом вернулся в Ленинград, где жил он тоже уже не один, а с какой-то тетей Ритой, которая прийти на Людкины проводы не смогла, так как ей стало очень плохо с животом – она, оказывается, вместе с отцом готовилась подарить Людке братика или сестренку – и к чему мне столько подарочков, недоумевала Людка, пусть бы жили бы мы все вместе в любой из наших коммуналок – но лучше в московской, родной, места бы всем хватило! – Людка так и спросила бабулю в лоб:
– Ба, а давай мы все – мама, папа, ты и все, и новая тетя Рита и может даже Боря этот – съедемся в одну квартиру, или в нашу, или уж ладно уж, вот к бабе Лизочке – а Инна Антоновна пусть в своей служебной в Москве поживет! И оба, кто родится, к ней пусть в ту квартиру пустую поедут – нет, мы их будем, конечно, навещать, а она с ними будет гулять целыми днями, чтобы те дома не орали – а то баба Настя сказала, что мне теперь и в школу пойти нормально не дадут – заорет младенчик ночами, тут уж и не уснешь.
Бабка Поля схватилась сначала за голову, а потом от смеха – за живот:
– Да, кыска ты моя белобрыска, вот никто ведь не научил, а уж какую коммунизьму развела в головенке своей соломенной, ой, уморила, ой, счас приду, в туалет только сбегаю!
А войдя вскоре в комнату, бабка с таинственным видом сказала:
– А знаешь, куда сегодня в гости мы с тобой пойдем, ни за что не догадаешь, потому ты с ними и не виделась никогда!
– Куда, Ба, куда – далеко?
– Ну вот закудыкала, нет, недалеко. На Кировскую, после магазина «Чайправление» три дома!
– А кто там живет?
– А тама твоя тетка двоюродная Маша с мужем и с твоими братьями троюродными теперь живет, вот кто! Недавно из-под Тулы переехали, муж ее, Орест Львович, большим человеком стал: как есть главный булгахтер на винзаводе, выписали их в Москву всем семейством – заслужил, воевал, орденов-медалей аж в ушах звон, в глазах блеск стоит!
– Ну надо же, и сколько же у меня теперь сразу братьев оказалось?
– А если бы не война – ты ее не знаешь, Бог миловал – так у тебя и дедов мно-о-го было бы, наши с Санькой братья все погибли, младший Мишка, средний Яшка, те холостые, старший Иван – он уж женатый был, Маруся его дочь, Петя самый старший в шпитале от ран скончался, в сорок третьем, детей так и не нажил со своей кралей, та все красоту свою берегла, до сих пор небось все бережет, да, Аким тоже – но тот в младенчестве помер, что это я… А у тети Маши твоей, к которой в гости пойдем, как есть-говорится семеро по лавкам. Семь сынов родила, мать-героиня, и никак не остановится – все до девочки хотят!
– Ба, да ну их. Давай не пойдем! Я что-то маленьких в колясках не люблю почему-то все больше и больше, а их там аж семь колясок! Еще обкакаются все, а нас заставят пеленки стирать!
– Вот дурья башка, эта Настька, опять девке все мозги проканифолила, вот зараза! Да ты что, кыска моя, этим ребятам уже – четверо сильно старше тебя. А пятый – твой ровесник Боря, а шестой и седьмой в детский сад уже пошли! А восьмым Маня беременна, думают тоже Машей назвать, если девочка будет…
– Ну вот еще, там еще один БО-РЯ! А вдруг мы с ним подеремся? Не хочу туда в гости, не нравятся они мне!
Но тут бабка Поля, как заправский знахарь и тонкий психолог, сообщила как бы невзначай:
– Ну и ладно, не ходи, сиди дома играй, я одна пойду. Я уж купила два кило сушек, два кило ирисок и пряников два кило – вот все гостинцы раздам, тебе ни пряничка, ни бараночки не отделю, раз ты такая упрямая.
Людка хмыкнула довольно ехидно:
– А я, Ба, мороженое больше всего люблю, ты что, забыла? Так что пряниками ты меня туда не заманишь, вот!
– И не собиралась тебя никуда заманивать – и вот тут Ба выложила козырную карту:
Просто хотела дом тебе тот показать – там перед самым парадным огроменный Лев каменный на часах стоит – вход сторожит, он с щитом еще…
– Ой, бабулечка, а когда мы пойдем-то? – живо засобиралась Людка, забыв про все остальное – А потрогать-то его можно, льва этого, а погладить?
– Да почему же нельзя-то! Одевайся, пойдем!
И Лев ошеломил – огромный, на гранитном кубическом постаменте, грозный, как рыцарь, но веселый и очень красивый.
Пока входили с бабушкой в высокий настежь распахнутый подъезд и поднимались с тяжелой сумкой на первый этаж, Людка головой обвертелась, чтобы на льва сзади посмотреть и узнать, как на него залезть можно.
Но Ба дернула за руку, а сама прокрутила два раза еле дребезгнувший звоночек с закрашенной надписью по его окружности «Прошу повернуть».
И как ни странно, их услышали и открыли. Провели по длинному коридору в огромную комнату с двумя большими окнами и черным потолком, закоптившимся, видимо, еще от буржуек гражданской войны.
Людка сразу же попала в теплые объятия большого и почему-то твердого живота тети Маруси, бабушку расцеловывал одноногий дядя Орест, сильно скрипя деревянным протезом, а семеро ребят мал-мала-меньше чинно стояли по росту и ждали молча своей очереди.
Тут тетя Маша командирским звонким голосом приказала старшему Володе взять сумку у бабушки Поли и помочь гостьям раздеться, потом проводить Людочку помыть руки и всем садиться за стол – Боря рядом с Людой!
Людка впервые в жизни сидела за столом с таким количеством мужчин и заметно стеснялась. Ей, как и всем, старший Володя положил на тарелку кусок белого хлеба, немного вареных макарон и сардельку.
Макароны, да еще и не посыпанные сахаром и не залитые яйцом, не зажаренные с корочкой, Людка терпеть не могла, а вот сардельки любила. Проткнув вилкой толстую шкурку, Людка очистила сардельку, но несколько неудачно – «с мясом», шкурку аккуратно отложила на край тарелки, а остаток мяса на вилке съела с хлебом, потом и вилку положила на нетронутые макароны.
И руки сложила чинно на коленях под скатертью, стала ждать компота.
Вдруг сидящий рядом Борька дико уставился на непонятную ему новую сестру, мгновенно схватил шкурку от сардельки с Людкиной тарелки и быстро проглотил, не жуя.
А сосед справа с утраченным сразу после знакомства именем просто ручонкой сгреб макароны и запихнул себе в рот их все. И тоже, кажется, не прожевал.
В гробовой тишине звякнула слетевшая на пол с тарелки Людкина вилка.
Далее был ужас и Ледовое побоище – тетя Маша зарыдала, закрыв лицо обеими руками, дядя Орест Львович схватил со стула полотенце и попытался встать, но быстро расчухавший расправу Борька ласточкой помчался к двери, однако, отец оказался проворнее и подставил ему свою деревянную «ножку».
Положение спасла бабушка Поля.
Театрально взмахнув руками, она завопила своим знаменитым на все Чистые Пруды баском:
– Стойте, ребята, сядь, Орест Львович, Маша, успокойся и разливай компот – вот вам гостинцы к чаю, сушки, пряники, конфеты – на всех хватит, налетай!!!
И старшие мальчишки строем, собрав посуду со стола, отнесли ее на кухню, а мы с Борькой разложили по тарелкам бабкино угощенье.
Компота было много, два ведра, наверное, и очень вкусного, и пряников в тот раз все же хватило на всех.
А хитрый Борька, когда Людку с бабкой всей толпой вышли провожать на улицу, ловко подтянулся на руках сзади постамента и встал за львом, делая ему «рожки».
– Лев и Обезьяна! Басня Крылова! – провозгласил торжественно дядя Орест.
А бабка Поля с легкой сумкой и душой благостно произнесла «Господь с вами!», поклонилась всем, вместе со Львом, взяла Людку за ручку и пошагала домой.
Продлёнка
Перед самым Новым Годом весь первый класс «Б» на уроке труда дружно расписывал самодельные поздравительные открытки.
На прошлом уроке были заранее бледной акварелью – розовой, голубой, желтой или зеленой – более-менее аккуратно или не очень – у кого как получилось – затонированы, а затем просушены четвертушки альбомных листов.
Но забыла, видно, любимая учительница Нина Михайловна сказать всем, чтобы надписали на обороте фамилии, и потому при раздаче заготовок Людке досталась противная розовая, с неровными потеками, чужая бумажка, а ведь сама она точно помнила, что старалась изо всех сил и выкрасила свою будущую открытку в изумрудно-васильковый чудный оттенок.
Правда, посередине тогда небольшая клякса получилась, но промокашкой удалось сделать пятно почти незаметным, вот только зря она еще по мокрому полю ластиком подтерла – небольшая такая дырочка наметилась, но ведь потом все равно на этом месте будет рисунок и надпись…
И все-таки жаль, что не того цвета заготовка ей досталась – ну да ничего не поделаешь, не будешь же у всех сорока двух человек выискивать теперь, где что.
А Нина Михайловна обещала, что открытки сегодня станут у всех волшебными!
Сначала она продиктует классу текст поздравления, все напишут его так, чтобы в середине, после слов «С Новым…» и перед словом «Годом» осталось много места, а потом раздаст по рядам трафареты с цифрами, и тогда надо будет закрасить пустые места и получится год, тот, который теперь и будет скоро новым – и чудесным!
Получив, наконец, от соседа по парте Алеши заметно уже замызганный твердый картонный трафарет, Людка сосредоточенно стала закрашивать его жирно-фиолетовой, едва держащейся на конце кисточки, краской, стараясь не сдвигать ни в коем случае, чтобы не размазать. Пришлось поэтому немного подкрасить пальцы и ногти…
Тут подошла Нина Михайловна, сказала «Стоп!» и аккуратно отлепила трафарет от будущей открытки.
На листке проявились четко четыре цифры: «1961», а дальше шли слегка расплывчатые и кривоватые слова, потому что чернильное перо у Людки было, как обычно, не очень-то хорошим – вот всегда так, в Детском Мире надо было перья-то покупать, а не в крошечном магазине Школьник напротив Курского вокзала!
Ну и что? А где же чудо-то? – чуть было не спросила Людка, но учительница сказала:
«Все справились? А теперь аккуратно поверните ваши открытки вверх ногами!» – Класс дружно зашуршал – и тут раздались восхищенные вздохи и оханья – и дошло, наконец, до Людки – вот оно, чудо-то! Год как был, так и остался неизменным – 1961-м!
…А после зимних каникул наступили «новые деньги», на монетках которых тоже была выбита эта волшебная цифра-перевертыш!
Мама принесла домой зарплату и показала бабушке и Люде эти новые, «маленькие», как сразу сказала бабуля, деньги.
Людка с самого первого сентября первого класса начала ходить на продлёнку, потому что бабуля «сидела с ребенком» – то есть, с младшим братом Славкой.
После уроков некоторые ребята не шли домой, а оставались в школе в группе продленного дня, там они обедали в школьной столовой, потом спали на раскладушках в классной комнате продленки, а затем – почти до вечера – делали уроки, и только в 6 часов их отпускали домой.
Школа Людкина возле Чистых Прудов была прямо напротив ее дома, две минуты бегом, но все равно бабушка старалась, с маленьким Славкой на руках, гулять в это время в школьном дворе, чтобы встретить старшую внучку-школьницу.
В те дни, что приходилось торчать в школе до вечера, Людка грустила и маялась – спать днем не хотелось вообще, а уроки она делала очень быстро. Единственной радостью оставался школьный обед – наваристые кислые щи, на второе обычно вкуснейшие тоненькие как пальчики сосиски с отлично промятым картофельным пюре, причем, без комков и на воде, а не на прогорклом топленом масле, как всегда у бабульки. А на третье часто давали сладкий компот и мягкую булочку с маком. Не любила Людка только коржики, от них начинала икать, и еще одно мешало всегда в школьной столовке – это противный запах хлорки от жирных пластмассовых столов.
Бабушка давала Людке на продленку каждый раз по три рубля. Некоторые родители платили за своих детей сразу за неделю, но Людку отправляли не каждый день, так как мама работала на Главпочтамте посменно и иногда сидела с сыном сама.
Вот и теперь, перед уходом в школу, протянула бабушка новую зеленую бумажку с цифрой 3.
Людка еще раз подивилась, как сильно отличаются новые, вкусно пахнущие маленькие денюжки от шлепморозистой большой трешки старого образца.
… С деньгами Людка впервые познакомилась еще в несознательном и полунемом возрасте – сидела как-то на горшке и вдруг на полу под кроватью увидела в густой пыли три блестящие желтенькие копеечки. Людка тут же быстренько и потому с громким чмоком отлепилась от своего горшка и поползла за сокровищами, зажала в грязном кулачке все три монетки и вернулась на горшок, ласково приговаривая: «Де-е-нюшки мои, де-е-нюшки!» Потом от нетерпения похвастаться побежала к бабушке на кухню и сразу показала, что нашла. Бабушка и все соседи, кто был на кухне тогда, долго смеялись, а соседка баба Настя сказала:
– «Ну, вот, девка, теперь пора тебе копилку заводить!»
А через некоторое время и впрямь появилась у Людки копилка – да большая, почти с нее ростом – это сосед-профессор Александреич снял с полки из кладовки и поставил там на пол ярко раскрашенного садового гномика с белой бородкой и в красном колпачке, в зеленой жилетке и синих шароварах. В руке, прижатой к толстому животу, гном держал настоящую курительную трубку и лукаво улыбался в усы. Александреич сказал, что зовут человечка Цверг и теперь он весь принадлежит милой Милочке, как тогда все звали Людку.
Колпак на макушке у Цверга слегка откололся, и было видно, что сделана вся фигурка из толстого белого гипса, а под колпаком на затылке имелась большая прорезь – и вот туда-то и надо было бросать деньги, чтобы их спрятать от самого себя – то есть, копить.
Все соседи, кто был на кухне, показали Людке, как это делать, и бросили в гномика по монетке – те гремели, падая, где-то внутри красных сапожек Цверга. Тогда и Людка отважилась расстаться со своим богатством – и все три копейки, глуховато звякнув, исчезли – то есть, накопились…
Людка сначала часто прибегала в кладовку проверить, не сбежал ли ее Цверг, и погладить его по красной обшарпанной шапочке за то, что он послушно стоял на месте и всегда улыбался. А денежки, между тем, копиться перестали, потому что бабушка сказала, что мы все бедные и денег у нас кот наплакал, то есть их просто нет… А на нет и суда нет – и Людка легко забыла про гнома.
В ее трехлетнем возрасте любимый дядя внес однажды в комнату огромную коробищу, снял с высокого подзеркальника старое зеркало и водрузил на его место чудесную вещь под названием телевизор. Пустую коробку отнесли в кладовку, задвинули в угол и поставили в нее гнома – так Цверг стал жить в своем собственном домике.
А Людка и все соседи стали смотреть этот телевизор. Днем показывали по новой – второй! – программе всегда одни и те же два чудесных фильма – или комедию «За двумя зайцами» – про цаплю одну, Проню Прокоповну, – «Обхохочешься! – говорила мама – одна вывеска на базаре чего стоит – хомуты “Сукинъ и Сынъ!”» – Или, самое главное, шел фильм-балет «Хрустальный Башмачок» про Золушку. Там не было слов, была только музыка и танцы. А Людка все понимала. После фильма этого Людка вышла на кухню и легко заскользила по гладкому кафелю на цыпочках – под свою музыку, которая слышалась сама, видно, где-то далеко на улице звучала? С тех пор Людка долго так пыталась ходить на мысочках, ей казалось, как балерина.
Один раз, когда она самозабвенно вытанцовывала на пустой кухне, вошел старенький сосед деда Паша ставить свой чайник и позвал Людку к себе в комнату – сказал, что у него гости и пусть она для них попляшет, а он подыграет ей на гитаре. Людка легко согласилась, вошла в веселую прокуренную комнату с чужими гостями, поздоровалась, а дед вдруг ударил по струнам «Барыню» – и Людка пошла-поплыла на цыпочках вдоль дивана и стола и стульев с громко прихлопывающими взрослыми, забыв про них совершенно, и остановилась, как только с резким звоном оборвался гитарный напев. Потом, будто очнувшись, низко поклонилась гостям, прижав руку к сердцу, как настоящая артистка, и послала всем воздушный поцелуй.
Раздался радостный рев и хлопки, и Людке стали совать в руки большие мятые и желтые рубли – она все приняла их с поклонами, а потом убежала к бабушке.
… После строгой разборки, откуда деньги, целых 7 рублей! бабушка отнесла их деду Паше, а он наотрез отказался их принять и даже обиделся. Бабушка ничего больше внучке не сказала, а вскоре купила ей новые тапочки: «Ведь старые свои ты до дыр протанцевала, балерина ты наша из Погорелого театра!»
* * *
В первый после зимних каникул понедельник сразу после уроков Нина Михайловна стала собирать с детей плату за продленку. Взяла у Людки бабушкину новую трешку и почему-то спросила, за сколько дней ей сказали заплатить. Людка ответила, что только за сегодня, потому что завтра и послезавтра у мамы – выходные.
– Тогда вот, возьми сдачу – и окруженная кучей детей, учительница рассеянно как-то отсчитала и отдала Людке один рубль маленький бумажный, один еще меньше железный, один полтинник и монетку в 20 копеек.
Это было так странно – сразу столько мелочи и маленький рублик – что Людка как ошалевшая, на всякий случай переспросила – «Это все мне?»
– Тебе, тебе, отойди, не мешай – и не потеряй!
В тихий час Людка все для себя уже решила.
Сделала уроки как всегда быстрее всех, сдала на проверку – писала она очень грамотно, но, к сожалению, отвратительным «куриным» почерком.
На эту тему возник даже однажды в классе после диктанта большой спор – Людкина лучшая подружка Оля, санитарка, писала крупно и красиво, а получила за диктант два балла – почти каждая красивая строчка была исчеркана красными чернилами. Взглянув со слезами на лебединую двойку, Оля подошла пожаловаться к Людке, которая получила отличную оценку и с удовольствием рассматривала пятерочку, красиво выведенную в конце ее диктанта. Оля вдруг молча схватила Людкину раскрытую тетрадку и подбежала к учительскому столу.
– Нина Михайловна, а за что Вы ей пятерку поставили – ведь тут у нее все строчки корявые, некрасивые, буквы разного роста и вообще! – обиженно и возмущенно завопила лучшая подруга…
– Оля, за грамотность! Ни единой ошибки! Написано четко, разборчиво, но, правда, не очень красиво. Ну, давай я все-таки припишу небольшой минус за плохой почерк.
И Нина Михайловна прибавила к Людкиной пятерочке минус… Людка как сидела за партой с красавчиком Алешей, так и окаменела и, не вставая, с ужасом получила от радостно вернувшейся Оли свою тетрадь.
Алеша был всегда справедлив и сразу высказал свое мнение:
– А вот и нечестно! А еще подруга называется!
Тут Людка схватила пенал и стукнула Олю прямо по темечку – получилось очень громко, на весь класс, деревянный желтый пенал был почти пустой, с карандашом и перьями. А Оля в ярости разорвала ненавистную Людкину тетрадку пополам…
В коридоре за дверью, куда их вытолкала обеих учительница, драка продолжилась – в полнейшей тишине Оля схватила подругу за обе жидкие белобрысые косички и сильно дернула вниз, так что два шелковых коричневых бантика упали на паркет. Людка молча вцепилась Оле в торчащие как у мальчишки уши и чуть их не оторвала…
Спас положение звонок – все кубарем стали выпрыгивать в коридор, и пришлось девчонкам вернуться в класс за портфелями – урок в тот день был последний, четвертый.
Молча прошли в раздевалку, молча оделись и вышли во двор. У самых школьных ворот на Олю, что шла с независимым видом впереди, вдруг напал здоровый четвероклассник и стал отнимать у первоклашки портфель. Почти уже выхватил, осталось только отцепить от ручки саму Ольгу.
Вдруг в воздухе что-то просвистело и шлепнулось прямо под коленки хулигану. Тот резко присел и брякнулся со всей дури на асфальт, Оля вырвала свой портфель и бросилась бегом за ворота в переулок. Мимо нее на жуткой скорости промчалась к своему подъезду Людка, успев выдернуть по дороге из-под ног рухнувшего верзилы рваный собственный портфель, который она метнула, не задумываясь, для спасения подруги.
Мир и дружба были восстановлены.
И вот теперь, имея на руках столько деньжищ, Людка в первую очередь после ухода пораньше с продленки зашла за Ольгой как бы погулять во дворе и с таинственным видом потащила ее к метро Кировская, где на всех четырех углах стояли зимой и летом ларьки с мороженым.
По плану, разработанному на продленке, было куплено одно эскимо за 11 коп для Оли и одно молочное за 9 коп для растратчицы – итого ушла одна монетка в 20 копеек.
Оля так и не поинтересовалась, с чего вдруг этот разгуляй. Ответ, однако, был у Людки заготовлен – нашла деньги на Чистых Прудах под лавочкой…
Следующим пунктом программы был поход в Детский Мир, куда родители их одних никогда бы не пустили – но ведь не пешком же они потащились, а поехали на метро, целую остановку, до Дзержинской, предварительно доев свое мороженое и ловко пристроившись у турникета каждая к незнакомой тетеньке.
Сначала Людка честно хотела купить на полтинник – а траты шли по возрастающей – в писчебумажном отделе китайские перья, которые отлично бы писали, но так и не купила. Забыла про них просто, когда увидела вымечтанный набор почтовых гашеных марок Бурундии с яркими тиграми, львами и куропатками…
Олька вся сразу обзавидовалась, стала ласковая такая, аж противно – ну и пришлось купить еще один комплект.
Вышли подруги снова на Кировской и пошли прямиком в угловую Филипповскую булочную с огромными китайскими стоячими вазами в каждом углу.
Потратив железный рубль, удалось купить целую кучу любимых сладостей, как то: по 100 граммов кос-халвы белой с арахисом, халвы тахинной ванильной, маслянистого печенья курабье бакинское, шакер-пуреков и трубочек миндальных по 3 штуки, да еще по куличику – детскому кексу с изюмом, каковые куличики были сразу же съедены на ходу.
Оставался рупь бумажкой и две копейки сдачи. Было решено зайти, наконец-то, в большую – дежурную – аптеку и купить по копейке две стеклянных палочки для глазной мази, чтобы кукол кормить как бы из поварешки с длинной ручкой – что и было сделано незамедлительно.
Однако, надо было здорово торопиться, а то бабушка еще, чего доброго, и в школу зайдет!
Но все обошлось – Оля помчалась к себе домой «до уголка», а Людка успела юркнуть в школьные ворота из переулка прямо за бабулькиной спиной.
Прижимая к животу промасленные бумажные кульки со сластями, к которым сразу же потянулся с рук бабушки шустрый братишка, Людка затараторила, что им сегодня на продленке выдали вместо обеда «сухой паек» – она слышала это выражение от девушки Гали – любимой соседки, которая часто летом ездила в пионерлагерь.
Бабуля поворчала, что вот, небось, плита в столовой не работала – электричество ведь штука ненадежная, не то, что газ – теперь будешь дома суп картофельный сейчас есть. А про деньги ни разу не спросила…
Как же тяжко было делать вид, слопав уже мороженое и кекс, что хочется есть – но бабуля сказала четко, что все сладости – только к чаю после супа…
… Вечером, когда пришли с работы мама и отчим, Людке было уже не до любимой кос-халвы. Ныло все – живот, зубы и совесть – а в кармане пальто шуршали предательски целлофановый пакетик с бурундиевыми марками и оставшийся от вранья рубль.
Людка незаметно положила рубль на дно бабушкиной хозяйственной сумки, а ночью плакала и металась, к утру поднялась температура и высыпали чесоточные красные точки – и тогда Людка призналась бабульке, что истратила целых рупь семьдесят – а бабушка так и не поверила, даже испугалась – ведь у девочки жар, вишь, что придумала – вот поправишься, и все будет хорошо!
Все и впрямь было вроде даже хорошо, никто ни о чем так и не догадался…
Потом, через несколько дней, случилась у бабушки «нечаянная радость» – в сумке на самом дне откопался внезапно «цельный рупь» – а то и до получки дотянуть было бы не с чего.
Атас!
В одно из воскресений февраля на катке Чистых Прудов народу было – битком, и расчищенного для катания места на льду не хватало.
Все и не катались, а только ехали, толкались и падали.
А мальчишки постарше возле самого выезда на лед затеяли хоккей.
Они азартно размахивали своими обгрызенными, треснутыми и перемотанными синей изолентой клюшками и бегали, как угорелые, сбивая всех подряд, за круглой плоской коробочкой заледеневшего гуталина.
«Канадцы хреновы!» – произнес чей-то рухнувший в сугроб дедушка и с досады замахнулся детской пластмассовой лопаткой почему-то на безвинного пацана, который как раз пытался его поднять. Малый тут же бросил это неблагодарное занятие и погнал к своим.
А рядом смирно стоял на двухполозных коньках, привязанных к белым валенкам прямо на галоши, внучок в серой шапке с красной звездой и длинной шубке «на вырост», туго перетянутой солдатским ремнем, и терпеливо ждал, когда же дед встанет сам и снова протянет ему лопату, чтобы уцепиться за нее и ехать дальше.
Светка и Людка, подружки-третьеклассницы, соседки по двору, как всегда по выходным, с самого «с ранья», как ворчала Людкина бабка, еще дома надевали коньки.
Грохали в них, каждая сначала по своему коммунальному коридору, потом – по ступенькам «черной» лестницы, и выходили почти одновременно в заснеженный двор.
Брали друг друга под ручку – Светка еле доставала подружке до плеча, поэтому Людка цепляла ее под мышку – и они катились на коньках по утоптанному снегу в свой нечищеный дворниками заледеневший переулок.
Одна – в черных «гагах», другая – в белых, сильно облупленных на мысах «снегурочках», но обе в одинаковых толстых вязаных рейтузах и видавших виды курточках «на ватине» – зеленой и синей, состеганных Светкиной теткой – портнихой вручную из материнских выцветших плащей-болонья.
Подруги сворачивали за угол заснеженного переулка и прямо по круглым булыжникам переходили трамвайные рельсы точно под указателем «Осторожно – дети!», потом ловко хватались за ананасные чугунные шишки ограды и перелезали в сквер.
Там пересекали бульварную дорожку, перешагивали через низенький деревянный частокол над прудом и по сугробам, боком-боком, спускались, наконец, на лед.
В тот день, откатавшись часа два и отморозив носы и щеки, девчонки вылезли той же дорогой на аллею и плюхнулись ненадолго на ближайшую лавку.
Подружки весело пыхтели, никак не могли отдышаться.
Из-под длинноухих шапок – «кибальчишниц» и из скинутых сырых варежек выползал пар и тут же исчезал в зимнем прозрачном воздухе.
Дымились, подтаивая на коленках, даже окаменевшие от снега рейтузы.
Очень хотелось снять шапку с мокрых волос, но этот номер точно грозил затяжным бронхитом – и лишением себя походов на каток.
И на скамейке сидеть долго тоже было нельзя – зубы начинали стучать примерно через десять минут.
Какой-то парень сказал уже, проходя мимо них:
– «Девчонки, движение – жизнь! Что расселись?»
И Людка со Светкой неохотно встали – но тут же взвыли: так наломаны были окоченевшие ступни старыми коньками на оборванных, в узелках, хлипких шнурочках!
Людке коньки давно уже жали «и в длину, и в ширину», а на новые денег у бабушки не было.
Людка жила с бабушкой, а та вечно жаловалась на маленькую «пензию».
У Людкиной матери была своя, отдельная семья. И тоже маленькая зарплата.
И мелкой Светке конёчки-то достались после Людки же, а вернее, от Людкиной соседки, и велики они были Светке размера на полтора.
Она напяливала свои «снегурки» на два толстых носка. Но шнурки тоже были не фонтан, то есть, гниловаты, и под конец катания ботинки безбожно вихлялись.
Дорога домой была мучительна, а потому и смешна до коликов. Спотыкались и падали через каждые пять шагов, и приходилось то и дело останавливаться, чтобы отдохнуть и отсмеяться.
«Надо было нам с собой ботинки взять, а то дорога всего-то минут пятнадцать, а мы сто лет уже на коньках ковыляем, ну точно, две инвалидки из ШД!» – ворчала, с бабкиными интонациями, Людка.
«Ага, Люд, ты что – окосела? Таскать еще с собой эти ботинки дурацкие… куда их класть-то, лучше уж так, налегке! А ты про какое такое ШэДэ?» – поинтересовалась любопытная до жути Светка.
«Не какое, а какую! Ты что, не знаешь, что ли, как дразнят 305-ю школу, которая возле кинотеатра “Встреча”?»
Светка нарочно, как болванка китаёзная в воротнике веером на соседском комоде, замотала головой в разные стороны, и Людка зачастила с выражением:
– «Школа триста пятая – самая проклятая! Мало в ней учеников – это школа дураков!»
– «Ну и чего?» – не врубилась подруга Света.
– «Свет, а ты сама туда не пробовала поступать? Чего-чего! Повторяю по буквам для тупых:
Шэ – школа, Дэ – дураков! Инвалидский интернат! Там дети на всю голову больные. А мы с тобой сейчас – на все ноги! Поняла?»
– «А-а-а! Так бы сразу и сказала! А вот мы и до нашей школы дотащились, теперь можно и полетать немного!»
Светка не чокнулась. Просто «полетать» у девчонок означало «прокатиться на школьных воротах»
Их школа стояла почти точно напротив их дома, в том же переулке, где они жили.
Школьный двор обнесен был мощной оградой из высоких чугунных черных прутьев с вызолоченными «пиками» на каждом копье.
По высокому цоколю некоторые прутки были кое-где раздвинуты, наверное, головами прогульщиков.
Этот двор когда-то давным-давно запирали на замок – остались здоровенные чугунные ворота, с оторванными напрочь верхними петлями.
Обе воротины провисали резко в сторону на нижних петлях и потому болтались без толку, настежь распахиваясь и почти перегораживая узенький тупиковый переулочек.
Местная дворничиха кое-как приматывала их цепями внутри школьного двора к прутьям ограды.
Для тех, кто понимал, ворота школы представляли собой потрясный и, главное, бесплатный аттракцион почище качелей или там каруселей.
Надо было отвязать цепочку на любой из воротин, потом разбежаться немного, оттолкнуться и встать обеими ногами на нижнюю перекладину железной скрепляющей рамы, уцепиться руками за прутья и – поехали!
Через какое-то время эта половинка чугунных ворот стукалась о квадратный столб, к которому она была прицеплена нижней петлей. И автоматом возвращалась обратно во двор. Вот тут уж начинался просто полет!
А если кататься вдвоем, сразу на обеих створках, то надо было одному встать спиной, а другому – лицом к переулку и так рассчитать промежутки между «полетами», чтобы не случилась вдруг незапланированная «состыковка».
И лишь одна мелкая неприятность портила клёвое катание – «немазаные» эти ворота отвратно и жутко громко скрипели и ныли на весь переулок.
Звук этот вызывал у «катальщиков» чувство бешеного восторга. А стук об столб – переворот внутренностей и тихий ужас в организме.
Но жильцам нижних этажей Светкиного с Людкой дома катание такое почему-то очень не нравилось.
Особенно – летом, и даже весной, – когда уже открывали окна.
Сами-то хоть бы разок прокатиться попробовали, эх! А то сразу – вопить, чтобы прекратили немедленно!
Вот в позапрошлом году, в начале мая, произошла с Людкой такая фигня, что и вспоминать неохота.
Как-то днем Людка одна «летала» себе, никого не трогая, на любимых воротах, животом почти наезжая сначала на свой дом, а затем быстро удаляясь спиной в самую глубь школьного двора.
И вдруг заметила, что в нижнем, крайнем справа окне, мельтешит нервная какая-то тетенька.
Тетка эта широко, но как бы беззвучно открывала рот и, видимо, долго уже грозила из открытого окна чем-то типа деревянной скалки!
Людка показала ей язык и тихо-мирно грохоча, продолжала наслаждаться полетом, стукаясь воротами об столб все быстрее и быстрее и едва удерживаясь при этом ногами на тоненькой железной жердочке.
Тетенька в окне появляться перестала, зато внезапно возникла в подъезде – угрожая тем же самым неопознанным предметом – и вперевалку, но довольно быстро, побежала в сторону Людки.
Людка тут же, как обезьяна с ветки, слетела со скрипучих ворот и драпанула, балбеска, в сторону дома, – навстречу врагу.
Тетенька широко расставила руки и ноги, как заправский вратарь.
Людка было уж прошмыгнула мимо, по стеночке, но тетка как-то изловчилась и успела ухватить ее сзади за шиворот старенького демисезонного пальтишка.
Воротник здорово треснул, отлетела и покатилась по асфальту давно разболтанная верхняя пуговица.
Полное торможение привело бы к поимке, поэтому Людка, как кошка, быстро присела, легко выскочила из собственного пальто и понеслась к себе домой раздетая, в одном летнем платье без рукавов.
Тетенька в ужасе застыла с детским пальтецом в одной руке и с деревянной длинной ложкой – в другой.
А Людка в это время уже стучала ногами в дверь своей квартиры и, подпрыгивая, пыталась достать кнопку звонка.
Ей, наконец, открыли удивленные соседи – слава Богу, не бабушка! и спросили, что за дела, куда такая спешка, и почему это взрослая семилетняя девица ведет себя, как хулиганка – надо же, всю дверь, небось, ботинками оббила!
Людка честно прокричала им на ходу: «Потому что пИсать очень хочется!» – и помчалась в туалет, и правда, очень хотелось пить и писать, – от ужаса, наверное, что сейчас к бабуле припрется тетенька с палкой, и мало никому не покажется.
А закончилось все довольно странно.
Время растянулось, как старая чулочная резинка от лифчика, но ничего не происходило.
Людка успела помыть руки, пообедать, и на всякий пожарный вызвалась даже помочь бабушке отнести грязную посуду.
Бабка, как всегда, ответила: «Сиди! Я сама!» – посмотрела на нее подозрительно, но ничего не сказала и ушла на кухню.
Людка места себе не находила, а потом вдруг вспомнила, как бабушка сказала однажды, что ее лучшее успокоительное – это вязание.
Не долго думая, Людка схватила начатый бабкой на четырех спицах носок, а для чего в клубок была воткнута пятая спица, так и не поняла – и через пару минут выпустила все петли и спутала нитки.
Но тут раздался неуверенный какой-то звонок в квартиру.
Людка не выдержала и полезла прятаться под кровать.
Протаранила головой, едва не разорвав, длинную до пола занавеску с кружевной кромкой – бабка называла ее «подзор» – и больно стукнулась лбом о пустой пыльный чемодан, ради прикрытия которого и развешивалась под матрас эта красота.
А к бабушке, которая не обнаружила еще «утрату пальта», пришел пожилой дяденька с объемистым бумажным свертком, перевязанным бечевкой, представился, как жилец с первого этажа и попросил разрешения передать для ее внучки новое пальто…
Бабка удивилась, но он ее успокоил тем, что жена его сегодня, якобы, мыла и красила окно на их первом этаже и случайно опрокинула на проходившую под окном Людку банку с краской.
Ребенок, то есть Людка – испугался, снял испачканное пальто и убежал.
И вот теперь они просят принять взамен старого – новое. Из «Детского Мира». И если что, то чек приложен, можно будет пойти и обменять на другое, извините нас, пожалуйста! До свидания!
Бабка, поворчав для приличия, что вот, мол, как же так же, поаккуратнее надо быть! а за нечаянно – бьют отчаянно, пальто приняла.
Потому что голову ломала уже давно – осенью покупать придется девке новую одёжку, а на какие шиши? А тут все одно к одному так прекрасно получилось! Какие люди-то добрые попались!
А ведь чертовка белобрысая бабке-то ничего и не сказала! Что без пальта-то с гулянки пришла! То-то она помогать вдруг вздумала! Сейчас пойду ей всыплю.
Нет, не надо. Скажу, как есть: что ей пальто новое взамен старого соседи с первого этажа подарили, носи, мол, девочка, на здоровье!
Людка очень обрадовалась такому исходу, но новое пальто невзлюбила.
А через год выросла и из него – и забыла.
И соседи те куда-то вскоре переехали, больше она в этом окне тетеньку не видела. Вот.
Но сейчас-то была зима, в самом разгаре: все окна плотно забиты ватой, и даже форточки нигде не открыты. Никто и не услышит визга ржавых петель!
Вот только ноги в коньках уже почти не держат. Надо же и передохнуть чуток! Или на воротах все-таки проехаться, что ли? Да ну, неохота в этих «гагах»!
Легкая маленькая Светка уже взгромоздилась на ворота, ловко просунув лезвия своих коньков боком между прутьями, крепко уцепилась руками в мокрых варежках и поехала, спиной к переулку, лицом к Людке. Обещала, что она – недолго.
Людка решила на воротах не кататься. Она села, как на диван, в высокий пушистый сугроб на краю школьного двора и блаженствовала, наблюдая за Светкиными «полетами».
Светка раскачивалась все быстрее и быстрее, и висла на руках, задрав голову и глядя прямо в небо, на летящие в рот крупные снежинки.
Вдруг сзади нее, в переулке, неожиданно возник прямо по ходу «полета» невысокий гражданин в огромной лохматой шапке.
Людка сразу выскочила из сугроба, замахала руками и завопила изо всех сил:
– «Светка, АТАС!!!»
Но Светка радостно засмеялась на ужимки подружки, продолжая откатываться назад и ничего не замечая.
И «снесла» мущинку воротами аж на середину переулка.
Ворота загудели, потом задрожали и остановились.
Светка слетела с них ласточкой, оглянулась – и вдруг быстро-быстро покатила прочь по переулку на разъезжающихся «снегурках».
Сбитый мужичок лежал на снегу навзничь, «крестиком», широко разбросав ноги и руки, и громко мычал.
Потом он сел, согнул ноги, а руками стал пытаться помочь себе выбраться из нахлобученной ниже глаз лохматой шапки.
Шапка не поддавалась.
Мужик упорствовал и бубнил из-под нее что-то вроде:
«Ох и мля!! Как-к-к же меня шатануло-то! Хор-рош! Ух, молодец я, что хоть башку пригнул!!!»
Людка, пытаясь догнать красиво въезжающую в их двор Светку, спринтерским бегом на кончиках лезвий обежала мужика по кругу.
При этом ее почему-то так и подмывало крикнуть ему: «Дяденька, а у Вас вся спина – белая!»
Но – все же не решилась. Хоть на этот раз все было бы чистой правдой…
А по родному, заснеженному переулку, в морозном воздухе распространялся вокруг этого, очень живого – и громко матерящегося дядьки – жуткий вонизм от спиртного перегара.
Тухлый и тяжкий, неистребимый запах кислятины.
Такой знакомый и Людке, и нагло смотавшейся после Людкиного «атаса» подружке Светке – по их собственным папашам.
И долго еще звучала в тихом переулке только одна бессвязная фраза мужика:
«Ну ваще – атас!!!»
День рождения
Людмила училась в новой школе, в шестом классе, была круглой отличницей, в прямом и переносном смысле, и была в этом классе и в школе этой тоже в круглом одиночестве.
И тоска душила ее неимоверная, просто хоть вой.
В придачу ко всему начались неожиданные для Людки физические страдания.
Совсем недавно она стала, как это тогда говорилось, Девушкой.
Второго января Людмиле исполнилось тринадцать лет.
У всех взрослых был выходной, у детей – разгар каникул.
Вечером Людка должна была пойти на елку в Колонный зал Дома Союзов. Этот билет был подарком от мамы, а вернее, от маминой работы «за отличную учебу и примерное поведение» ее дочери.
Но никто – ни мать, ни любимая Тёта – жена дядьки, ни тем более бабка, просто дремучая в таких вопросах, – короче, никто не предупредил ее, не рассказал, что делать, если из тебя вдруг зафонтанировала кровь, и не прекращается вот уже несколько часов, а ты сидишь, запершись, в коммунальной ванной, и истекаешь, как зарезанная, а соседи уже долбят в дверь, чтобы ты, наконец-то выходила. Или, проще, вылезала.
«Да заткнитесь же вы все! – мысленно орала Люда. И вдруг ее осенило – надо “заткнуться”» самой. Понапихав между ног два полотенца и каким-то чудом натянув на все это трусы, завернувшись в простыню, Людмила выскочила из ванны и протопала молча мимо возмущенных соседок.
«Три часа сидела, нахалка маленькая!» – сказала не кто-нибудь, а любимейшая соседка тетя Лида.
Вернее, любимейшей была ее дочь, Галка, ровно на десять лет старше Люды.
Галка-болгарка, настоящая; по отцу фамилия ее была Валева. Господи, как красиво звучало – Галя Валева! Галка имела 33 размер ноги, талию 46 см, тоньше на 1 сантиметр, чем у Бриджит Бардо, рост ниже Людки на полголовы и чудесные, длинные до пояса, абсолютно черные, блестящие как сталь и прямые волосы. Короче, красавица, немой укор и полная противоположность всем неуклюжим недотыкомкам, недосягаемой прелести девушка-мечта!
Людка во всем старалась подражать Гале.
Только вот была одна большая и непреодолимая проблема – Людкина толщина и некрасивость, а также яркая белобрысость. Если бы Людка была хоть немного красивой и худой, если бы волосы у нее были бы черного цвета, а глаза не карие, а голубые, то тогда… Но что говорить о том, чего никогда не будет! Вот Галочка была красавица! Однако, Людкина бабка и некоторые другие старухи в коммуналке называли Галку за глаза «перестарком». Идиотки!
Когда Людке было лет десять, Галке отец привез из Болгарии первые туфельки на рюмочках-шпильках, цвета переливающегося мушиного золото-зеленого брюшка.
Людка с восторгом смотрела на это чудо на Галкиных изящных ступнях. А та вдруг сказала: «Мила, померяй и ты, если хочешь!»
Это было что-то! Людка легко влезла в эти золушкины башмачки и долго не могла оторваться от зеркала, любуясь туфельками. А Галка вдруг огорченно сказала как бы в никуда: «Господи, какие же у тебя красивые ножки! Ну почему же мои – такие кривые, да еще и тонкие, как вареные макаронины!»
Люда опешила, быстро сбросила туфельки и сказала: «Галочка, ни у кого в Москве нет таких красивых соседок, как ты! Никто так красиво не одевается, как ты! У тебя самая тонкая талия! Какая разница, какие у человека ноги, если он самый добрый на свете!»
Только Галке Людка позволяла называть себя Милой.
Однажды бабка первый раз, незадолго до школы, взяла Люду на все лето с собой в деревню к своей сестре, бабушке Саше.
В первый же деревенский вечер, на закате, когда пастух пригнал скотину, баба Саша вышла за ворота с куском посоленного черного хлеба и стала зазывать домой свою корову: «Милка, Милка, Мил-ка!!!»
– «Что, она меня зовет?» – спросила у своей бабушки Людмила.
«Нет, это она корову кличет, ее тоже Милка зовут!».
Тут в сбитую из сухих ракитовых палочек загородку в раскрытые ворота степенно вплыла комолая, пестрая и что-то жующая Милка.
Она была очень красива, с большими добрыми и грустными карими глазами, обрамленными длинными густыми ресницами, с огромным животом, слегка облепленным присохшим зеленым навозом.
«Ба, больше не зовите меня никто “Мила”! Я же не корова».
Обе бабушки рассмеялись. Родная, московская, бабка сказала своей сестре: «Веришь, Саня, когда наша лифтерша – татарка Катя – сказала ей однажды “Здравствуй, Люся – я на тебе женюся!” – наша девка, а ей года четыре было, ответила: “Баба Катя, никакая я тебе не сю-сю, а Людмила! А то здороваться не буду, раз ты не со мной здороваешься!”»
Людка, укутанная в простыню, вся дрожа в полутемном, не просто холодном, а ледяном после нагретой ванной коридоре, беспомощно взглянула на недовольное лицо соседки тети Лиды и вдруг увидела за ее спиной Галку.
Тогда Людка инстинктивно, не помня себя, кинулась к Галке на шею и, пытаясь проглотить подступающие уже всхлипы, быстро-быстро зашептала ей:
– «Галочка, помоги мне, я, кажется, умираю!»
Галка молча втащила Люду в свою комнату, захлопнула дверь на замок и сказала:
– «Ну, что с тобой, садись, рассказывай!»
– «Сесть я не могу, из меня сильно течет кровь, и я, наверное, скоро умру, я читала, что от потери крови медленно умирают. Галя, спаси меня!» – тут Людка разрыдалась.
И Галка спасла. Не засмеялась, не назвала дурой, не побрезговала.
Галка достала огромный кусок ваты, марлю и полиэтиленовый пакет из-под хлеба, ценный, стиранный-перемытый после каждого использования дефицит.
Слава Богу, что трусы Людкины еще не промокли, только одно их двух махровых полотенец все было в неправдоподобно алой крови.
«Ну, вот и все, кровь будет идти примерно дня три-четыре, и надо будет менять вату как можно чаще, а потом все пройдет. У меня, например, всегда семь дней, и живот болит, и голова. И так будет теперь каждый месяц, как у всех молодых особ женского пола».
Галка говорила легко и серьезно, и до Люды вдруг дошло, что если у всех, тогда не страшно!
«Полотенца свои оставь у меня, я простирну и повешу в кухне над вашим столом».
«Галочка, ты моя самая-самая!» – и Людка, вне себя от счастья, что смерть отступила, шмыгая носом и тапками, помчалась в свою комнату.
«Людонька, с днем рожденья тебя!» – крикнула вслед Галка, но Людка уже не услышала.
Американская Вонючка
Шла грустная московская зима, и Девочке-семикласснице часто хотелось плакать.
Можно было бы прокатиться на горке в родном дворе, вместе со всеми, «паровозиком», или пойти на каток на Чистых Прудах, но что-то уже не тянуло.
Да и коньки стали безнадежно малы, а новых не купит никто до следующей зимы. Денег нет.
Даже любимые книги больше читать не хотелось.
Хотелось только какой-то ласковой любви, или, например, заиметь бы старшего брата!
У Девочки брат был, только – младший, мелкий хулиган: то за косу дернет, то под локоть подтолкнет, когда сестра уроки делает, упражнения пишет. Приходилось хватать два самых толстых учебника и бегать, как дурочка, за шустриком, чтобы настучать ему по башке, если, конечно, догонишь!
Ну какая тут ласка?
Мать с отчимом все грозятся развестись, бабка ругается, что тесно.
Дома тошно, на улицу одной идти неохота. Что же так тоскливо-то?
Как вдруг: все счастливые вещи случаются «вдруг» – матери на работе предложили переехать в другую коммуналку, «за выездом в малонаселенную», всего-то соседей – три стола на кухне! На маму будут «записаны» целых 2 комнаты! А дом, к тому же, в соседнем переулке – в трех минутах пешком от старого, и вообще рядом со школой.
Вот это была радость!
Переехали быстро, вещей и мебели не было почти.
Бабушка сказала: «Вот мы гольтепа-то: собрались в баню – и переехали!»
У Девочки с бабушкой появилась теперь своя комната. А мать, отчим и брат стали жить в соседней огромной комнатище, где была перегородка, за которой мама сделала себе с отчимом уютную спаленку.
Шестилетний брат спать пожелал, как барин, «в гостиной» на новом бархатном «диван-диваныче», раздвигающемся книжкой, и требовал каждый вечер его себе раскладывать, хотя умещался три раза и на не разложенном.
Бабулька пригрозила сурово: «Ну теперь только попробуй, надуй на этот диван – сразу сковородку горячую к заднице приложу!»
Подействовало резко – и бывавшие прежде на старой кровати «конфузы» прекратились вовсе, брательник слетал с обожаемого дивана в туалет «ласточкой».
Все в семье радовались, и Девочке, конечно, тоже нравилось новое жилье в смысле простора после четырнадцатиметровки на пятерых, после спанья с бабкой на одной кровати.
Но – жалко было оставить свою кладовку, где она читала ночами напролет; жалко было старую квартиру вообще, старый двор; а главное, жалко было расстаться с куском детства.
В старой квартире все было просто, тепло и сердечно. Там никто не кричал друг на друга, и соседи были даже ближе, чем родня.
Но на новом месте – правду говорят, что нет и добра без худа – мать с отчимом стали отчаянно «собачиться»; а бабушку начала просто сживать со свету новая соседка.
Это была одышливая, пузатая, но молодящаяся старуха – Анна Васильевна, пенсионерка из первых советских московских лимитчиц.
Девочкину бабушку просветили другие соседи, что была эта Анна когда-то помощницей домоуправа по очистке московской жилплощади от тунеядцев.
Ходили также слухи, что Аннушка эта, срывая якобы под видом проверки пломбы с «бронированных» комнат и квартир «выселенцев», натащила к себе в гнездо чужих картин и ковров. А под паркетом у нее и вовсе был спрятан настоящий клад из золотых царских десяток.
И поэтому А.В. никогда не соглашалась ни на обмен, ни на переезд в новые, «улучшенные условия».
А перед тем, как выйти в кухню, в туалет или в ванную, она всегда гремела своими ключами и запирала комнату.
Никто и никогда не был у нее в гостях. Старуха жила в полнейшем одиночестве.
Поэтому ей хотелось общения, и она практически не вылезала из кухни, или же часами трепалась по коммунальному телефону. Скрипя старым «венским» стулом перед тумбой с аппаратом, раздавала соседям оглушительные характеристики.
Обойти ее в узком коридоре было почти невозможно.
Получалось, что живет она «хуже, чем с чертями в омуте, как в сказке Пушкина ‘НА ДНЕ’, но надеется их всех, толоконных лбов ентих, все же воспитать по-совецкому».
Иногда кто-нибудь из соседей просил ее говорить чуть потише. Та, не отнимая трубки от уха, отвечала одно и то же:
«Какое вы имеете такое право вмешиваться в чужие разговоры! За телефон уплОчено!»
И народ покорно слушал о себе всякое…
Звонила она, начиная орать в трубку всегда одно и то же:
«Але, это комитет? Пенсионерских активистов? Хто ето тама?
А ето – Свинухова, Нюра! Да я, я!»
(Иногда другая соседка – молчаливая сухая старушка Нина Ивановна, если проходила по коридору и слышала этот «зачин», тихо шелестела, заворачивая за угол на кухню: «Головка от. я!»).
Девочка немедленно стала звать соседку Нюрой Васильевной.
«Да Анна я, Анна» – возмущалась Нюрка.
– «А тогда можно обращаться к Вам кратко – А. Вэ.?» – притворно наивничала Девочка, ведь Нюра явно не смотрела Республику ШКИД и не слышала про «Американскую Вонючку».
«Тилигентных» эта Нюра ненавидела страстно, но и таких, как она сама, из «простых», терпеть не могла. А уж «пацанву ихнюю – спиногрызов» – особенно.
Она считала себя полной хозяйкой в «своей» квартире, а тут взяли, да еще пять человек подбросили, причем, с двумя детьми, итак дышать нечем! – И она зимой распахивала кухонный балкон и «травила как тараканов» всех, кто вынужденно находился на кухне у плиты.
Первой слегла бабушка, с воспалением легких. Потом простудился маленький брат, хвостиком бегавший за бабулей по всей квартире.
Отчим не выдержал и однажды, правда, слегка подвыпив, пошел было «бить твари – Нюре морду», но та быстро пригласила знакомого участкового милиционера. Тот пригрозил 14-ю сутками ареста «в случАе мелкого хулиганства».
И отчим притих.
Мать нервничала, но тоже боялась Нюру.
Другие соседи съезжали один за другим, в квартире шел вечный «обмен», оставались жить только совсем уже горькие пьяницы или недавно отсидевшие в тюрьме, которым «грозил 101-й километр после первого же привода в ментовку».
Народонаселение коммуналки обладало скудными средствами и поэтому тряслось за каждую буквально копейку.
Некоторые даже за квартиру не платили во-время.
И тогда наступал Нюркин «звездный час». Это была песня! Ёе песня!
В конце каждого месяца Нюра рассчитывала квартплату – всегда сама и только она одна; никогда здесь, в ЕЁ квартире, не смел никто больше делать расчет «по очереди».
«Дело ясное, что дело темное» – ворчала бабушка.
Но Нюра, уперев руки в бОки, выступала на кухне, как Салтычиха, давя всех несогласных своим огромным животом. Её боялись и покорно вздыхали, замолкая. Униженно просили подождать…
– «А что Вы хОчете, что б я одна за вас за всех платила? Денег у их нету! Просто жить надо по-одному, живоглотов не плодить, да економить, тогда и денег занимать ни у кого не придется,» – втолковывала А.В. коммунальным беднякам.
И вот однажды Девочка увидела, что Нюра, взгромоздясь в коридоре на венский стул, что-то подкручивает в своем счетчике над дверью.
Потом у всех появились счета на рубли с копейками, трешки и даже пятерки, – у должников – и только у Нюры опять выходило меньше рубля.
Тогда Девочка из интереса решила проверить Нюркину «арифметику», вывешенную для оплаты на тетрадном клочке, наколотом на гвоздик над телефоном.
И вдруг обнаружила, что та, умножая ноль на 5 человек Девочкиной семьи, получает в итоге 50 копеек. Общая же сумма квартирных затрат не увеличивалась.
Поэтому Нюркин «полтинник» на деле оплатила бабушка.
Девочка подумала и постучала к Нюре в комнату.
Минуты три за дверью никто не отзывался, но шуршали бумажки.
Потом раздался некий звук, похожий на звяканье сдвигаемых ногой пустых бутылок, и вопрос через закрытую дверь: «Чево надо?»
Девочка громко сообщила: «Надо вернуть нам пятьдесят копеек!»
Тут соседка вышла, наконец, из комнаты и выпучила глаза: «Чево-чево?!»
Девочка попыталась указать Нюре на ее арифметическую ошибку в расчетах за электричество.
Причем, на пальцах – то есть если мы к нулю прибавим ноль и так пять раз, то и получится ноль, и что А.В. должна теперь вернуть зря уплаченные их семьей целых пол-рубля.
– «Ах, вы, сволочи, проститутки, научили вас грамоте на свою шею! нА вот тебе твои десять копеек и иди отсюда! Житья от их нету!» – и Нюра попыталась сунуть в карман школьного фартука Девочки почему-то гривенник.
Девочка отскочила как ошпаренная и заорала: «Да подавИтесь Вы всей своей мелочью сразу, и это сами Вы – старая сволочь!»
– «Почему это – старая?» – возмутилась Нюра, – «ах ты, хулиганка, и тебя в милицию сдам!!!»
На шум выскочила мать, сказала Девочке строго: «Быстро домой!», втащила дочь за дверь своей комнаты и зашипела: «Ты что, с ума сошла? Нашла с кем связываться! Да она какую хочешь гадость нам может сделать, ее обходить надо за версту, как помойное ведро без крышки!» – «Будет же ей крышка, этой гадине! Дождется, наконец!» – заорала Девочка и выскочила из квартиры, изо всех сил хлобыстнув дверью.
* * *
Дожидаться пришлось недолго.
Как будто нарочно, в тот же вечер Нюра, возвращаясь из магазина, который был прямо в их доме на первом этаже, ухитрилась-таки сильно «пострадать, не отходя от кассы». То есть, от лифта.
На ночь дверь квартиры, находившейся на самом чердаке под крышей, закрывали изнутри на здоровенную толстую цепочку.
Но у Нюры ночь начиналась с девяти часов вечера. И она в наглую вешала цепь на дверь в это время. Так что задержавшиеся где-нибудь допоздна соседи, открывая дверь своими ключами, вынуждены были дергать цепь и звонить в общий звонок, чтобы хоть кто-нибудь из живых проснулся и впустил их в квартиру.
Под этот трезвон в коридор, как на сцену, выплывала А. В., в мелких тряпочках-папильотках на почти лысой голове, в цветастом засаленном халате, из под которого торчал длинный, мятый и очень несвежий подол ночной рубахи, и начинала вопить про «отселение таких сволочей из столицы за аморалку».
И хотя даже в гостиницы посетителей пускали до 23 часов, все Девочкины соседи стремились быть дома вечером до девяти – из-за Нюркиного визга.
«Я вам тут всем устрою 41-й год!» – распиналась на кухне Нюра, помешивая здоровой палкой в тухлом баке с кипящим в щелоке бельем, заняв и залив всю плиту.
«А почему не 37-й?» – спросила однажды старуха-соседка Нина Ивановна.
– «А тебе что, мало тогда было, еще захотела повторить?» – съехидничала Нюра.
Нина Ивановна схватилась рукой за сердце и тихо ушла с так и не разогретым чайником в свою комнату.
А у «Аннушки»-Нюры вдруг возникла, – видать, от воспоминаний о прошлом, – острая потребность кое-что купить (очевидно, бутыль подсолнечного масла…).
Скорее всего, ей резко захотелось выпить, а у нее кончился любимый ею портвейн «Три семерки» (Бабушка сказала как-то: «Шила в мешке с пустыми бутылками не утаишь!»)
В тот чудный летний вечер, как только Нюра вышла часов в восемь из квартиры, кто-то взял и «навесил» без нее цепочку на дверь.
Старенький скрипучий лифт дребезжал всегда на весь дом. Оглушительно громко захлопывалась чугунная дверь. Полз этот допотопный подъемник что вверх, что вниз одинаково долго.
На первом этаже к лифту вели три крутых ступеньки.
Дождавшись пустого лифта для подъема, надо было сначала открыть чугунную дверь шахты.
Причем, «на себя», – и одновременно держась за эту самую дверь так, чтобы она не «снесла» человека на бетонный пол подъезда.
И только затем спокойно открывать мелкие дверцы кабины.
Все жильцы дома наловчились входить в пустой лифт, вплотную притираясь на особо опасной верхней ступеньке животами к двери шахты.
Если же те, кто ждал внизу, видели сквозь сетку, что лифт идет на спуск, но он не пустой, а занят, то даже и не пытались взойти на ступени.
Нюрка, повесив на руку у локтя свою клеенчатую продуктовую сумку с тяжелыми бутылками (мать Девочки величала такие грязные баулы «торбами»), нажала снизу на уже горевшую красным кнопку вызова.
Всегда бормоча себе что-то злобное под нос, когда думала, что одна – понять из ее монолога обычно можно было только два «шипучих» слова: «сволочи» и «проститутки» – она как-то не заметила, что лифт идет вниз не пустым.
Нюра живенько взгромоздилась на верхнюю ступеньку, заранее вжимая в себя толстое пузо.
Лифт приехал, но в нем находился молодой человек, который куда-то, видимо, очень спешил.
Выходя, он «стремительным домкратом» распахнул чугунную дверцу и шарахнул ею по всей Нюре с ее бутылками, чуть не размазав по стенке.
Нюрка молча снопом свалилась со всех трех ступенек.
Молодой человек проскочил было мимо, но Нюра помешала ему под ногами.
Поэтому, пробежав шага два по мягкому, он все-таки притормозил, вернулся и попытался поднять упавшую тушу.
Но тут Нюра, частично придя в себя от того, что ей наступили на живот, постаралась самостоятельно проползти на четвереньках в распахнутую кабину.
Парень застыл сзади нее «на подстраховке».
Нюра обернулась, стоя при этом на локтях и коленках, через плечо, а, вернее, через зад, увидела, что тот еще не убежал, и немедленно начала обкладывать наглого юношу отборным матом.
А зря.
Потому что он вдруг схватил ее сзади за загривок, приподнял и дал ей в сердцах здорового «пенделя», одним махом запихнув ее внутрь лифта.
И захлопнул за ней тяжкую дверь.
Нюра приложилась челюстью к железному мутному зеркалу на задней стенке кабины, увидала вдруг в нем себя-любимую и на время потеряла дар речи.
А сумку свою ни на секунду из рук не выпускала. Из «ридикюля» этого текло, он так и висел у локтя, мешая дотянуться до верхней кнопки.
Через какое-то время упорная Нюра все же ухитрилась нажать занятой рукой на нужную цифру 6.
Из баула при этом вылились остатки портвешка и затекли ей подмышку.
Но лифт пополз вверх, и Нюра, продолжая громко стонать и материться на весь дом, вышла, наконец, на своем этаже.
С трудом достала из-под осколков ключи со дна саквояжа, с трудом провернула железную болванку второго замка, попыталась открыть дверь – и…
Цепь на входе издевательски лязгнула изнутри.
Нюра стала нажимать на кнопки всех соседских звонков. Ответом ей была гробовая тишина внутри квартиры.
Тогда она заколотила в дверь ногами и громко заорала, как в лесу: «Эй, эй, ау-у-!!»
В коридоре появилась Нина Ивановна.
Глядя сквозь щель на Нюру, вежливо, но строго спросила: «Вам кого?»
– Тут Нюра завыла в голос: «Откройте, с-у-у-уки-и-и!!»
Нина Ивановна спокойно ответила: «Сука у нас в квартире только одна, закрывает на цепь всегда ровно в девять, вот пусть она тебе и откроет!», – развернулась и пошла.
– «Нина, Нина, прошу, открой! Мне в уборную надо!»
Нина Ивановна вернулась, откинула цепочку с двери и сказала:
– «Учти, я тебе открыла только потому, чтобы ты здесь под дверью не нагадила.» – Но Нюра уже не слушала, а рванула в туалет.
Наутро Анна Васильевна вышла на кухню с подвязанной платком челюстью, и с каким-то даже восторгом показывала Девочкиной бабушке, заголяя халат на своей заднице, огроменный черный синяк, в виде четкой подошвы размера так 46-го, даже вроде «с подковкой и гвОздиками»!
Дверь на цепочку она стала закрывать ровно в 23.00, «как по закону»!
Про хомяка, или Животная любовь
Вот как вот можно, мущина, с собачками своими в набитой электричке, да без намордника? Что значит, всегда без намордника, я же не про вас лично! Не укусит, говорите? Ну, не знаю. А что теперь спрашивать, вы ведь сели уже…
Животных не люблю. Не обижаю, это нет, но – не люблю. Почему? Да как вам сказать… Вышла со мной, давно уж тому, одна история… Вы, сов. случайно, не из Москвы ли будете? А я вот из ней, из матушки, да из тех самых времен, то есть из «Епохи сокрушительного дефициту». Небось, и не слыхивали об таком? Нет? Молодой ишшо. Тогда вот послушайте бабу Настю, меня, то ись.
Жили мы с соседями, всегда дружно, в самом Центре, возле почти что ГУМа.
Я пенсию свою внучатам всю отдавала, а сама, грешным делом, подрабатывала.
На дефиците. Не подумайте, что спекулировала. Ни в коем разе. Просто вставала я рано, как чума болотная. И шла к открытию ГУМа нашего очередь занимать, за чем ни попадя.
Вот стою в первых рядах передовой советской стародежи за французскими длинными замшевыми сапогами… Очень красивые сапожки, сами коричные, а внутри – мехА натуральные белые.
Дорогущие, заразы – 78 рубликов, отдай – не греши! Грузинец бы за 100 купил, это точно. Они понимали!
Сказываюсь окружающим, что для внуков встала, секундочку, дама, вот должны подойти они!
А сама-то осматриваю, обернувшись, кто очередь свою продвинуть хотит.
Вдруг гляжу – Людочка! Была у меня соседка молодая, Людочка, учительницей в школе работала. Стоит позади меня человек за сто, и стоять ей с того места, где она очередь заняла, уже часа три-четыре осталОся. Я попросилась у задней женьшины отойти – подхожу, однако, к соседке. Говорю, что продам ей очередь, по тарифу, за червонец.
Пока ее 37-й размер не закончился. Ну и сговорилися.
«Спасибо-спасибо! Деньги дома мне отдашь! Вечером! Что сей момент-то мошной тута трясти?»
Ну, ладно, жду ее вечером. А она домой-то все не возвращается. Ну, думаю, загуляла девка наша на радостях, сапожки новые обмывает. Собираюся уж спать ложиться. Как вдруг – ключ в дверях поворачивается, Людочка входит в квартеру.
Ба-а-тюшки – светы, рыдает в голос! Однако, в сапоги новые обута, ладненькая такая, юбчонка чуть гузку прикрывает, ножки как у куколки.
Идет прям на кухню, водички попила из чайника своего остылого, рыдать потише стала. Протягивает мне десятку – «красненькую».
Сама тычет рукой на сапоги, вниз, а я-то, дура старая, и не заметила сразу: как есть вся ступня ее с пальцами скрозь дыру огроменную почти проскакивает на левой ее ножке!
А что было-то?
Говорит, сапожки новенькие как купила, так сразу в ГУМе и наобула, а старенькие свои растрепайки заложила в коробку от новых, да в помойку выбросила.
И потом поехала к тете с дядей в гости, денежек подзанять, мне десяточку выплатить за труды. Чаю у них только попила, стала домой собираться.
Ножку сует в правый сапог, застегивает молнею-то, лепота, как красиво, даже братишка – малец двоюродный похвалил, клёво – сказал!
Сует ножку в левый сапожок, да что за такое? Не лезет нога-то! А внутрях чтой-то мягкое зашугалось-задергалось, живое чтой-то! Людочка – в ужасе, но сапожок сняла и стала ручкой ощупывать его да рассматривать, и что же?
Подлый там хомяк брательников гнездо себе уж свил, шерсти белой натуральной до лысости внутрях сапога понадергал, да по шву по замшевому в мыске, быстро-быстро, прогрыз себе дырку для выхода, коль его ногой подпихивать стали! И убёг на балкон, тама он в акварии пустом жил, хамский подлец!
А ехать-то домой надо – да не ближний свет, район-то спальный самый у дяди с теткой, в Центер-то никто задарма на такси, да с голой ногой ишшо, и не повезет, я чай!
Дядя Людочкин хомячка того – паршивого, прости Господи, засранца обоссатенького, за рупь на Птичке на Таганской купленного, – хотел прям с балкона об земь хряпнуть со злости!
Но тут мелкий брательник заорал-заплакал «Нет-нет!», тетка завопила «Ну что уж теперь уж!», и Людочка тоже в голос заревела, не знам от чего больше – не то от сапога, не то от животного!
Жив остался поганец задрипанный! А сапог так и не починился. Вещь была очень тонкая, деликатная. Французская, однем словом.
Плюнула я в сердцах, да Людке десятку-то ее напрасную и возвернула!
Нагрел меня хомячок на червонец за вставанье в пять утра и за стоянье пустое на больных ногах шесть часов кряду. Вот и люби тут животных ентих, которые где ни попадя лазиют!
Мущина, а вашей собачке-то можно ли колбаски дать? У меня тут, рядом все, смотри, уж она сама разнюхала! Вишь, как хорошо скушала! Умница ты моя, ну на еще! На, кушай, кушай, не стесняйся.
Кирпич
Велосипед скрипел, гудел, жужжал всеми тремя колесами.
Спицы бешено мелькали, лужи расплескивали небо, а мы мчались в Гренландию.
Главный Рулевой изо всех сил крутил педали.
Больно потрескивали болячки на сбитых коленках, но он твердо держал курс.
Он летел и летел вперед за изогнутой птицей руля и нарочно наезжал на лужи – весело было видеть по бокам крылья двух голубых радуг от желтого солнца и зеленой травы.
Главный Механик стоял сзади на больших, похожих на медвежьи следы, плоских запятках, и, крепко вцепившись в плечи друга, пел что-то сквозь зубы, задыхаясь от ветра.
Вот еще немного, совсем чуть-чуть – и эта странная, красивая Гренландия обступит нас.
И – пусть лето – все равно запахнет елкой!
А на дороге лежал и ехидно ухмылялся старый кирпич.
Он ждал, подставляя грязные колючие бока, когда мы налетим на него.
Он ждал этого, может быть, всю жизнь.
И мы налетели.
Главный Рулевой, ничего не понимая, очутился на тротуаре. Главный Механик ткнулся носом в кожаный треугольник пустого седла…
А велосипед, наш старый, испытанный товарищ, вдруг жалобно пискнул и развалился на части.
Мы встали с асфальта, молча подобрали все, что осталось от велосипеда, и побрели домой, не в силах даже реветь.
И вдруг разом, с ненавистью, оглянулись.
Кирпича не было!
Стихотворения разных лет
Мне – 16
Кошка когтями по крыше скребет… что же он тянет — придет – не придет? Дым сигаретный лезет в гортань, дождь предрассветный — холодная дрянь.Другая боль
О, дай мне заглянуть в разорванные дали, Где атомов души замерзли орбитали, Где нет скорбящего убожества тоски, И в вечно-голубом блаженстве льда и света То эхо, что уже не ждет ответа, Как зеркало, разбито на куски. О, дай оледенеть в безмерности полета Надежды, выросшей без цели и расчета, А не в предчувствии постылого конца!.. Но бьет, не умолкая, колокол разлуки, И в жутком хаосе придвинувшейся муки Почти не узнаю любимого лица.Голубые глаза
Наверное, любить я не могу. Мне говорили, любят лишь однажды. От страсти мучась, как больной от жажды, Я каждый раз – люблю, – и, видно, лгу. Но, все равно, иного слова нет, Чтоб обозначить ощущенье в целом. Пусть в пониманьи многих это – бред, А чаще – лишь постель с ее пределом Житейской надобности. Для иных – запой, Или уход от жизни, омерзевшей До судорог, в надежде, что другой Спасет тебя же от тебя – прозревшей… Но я – люблю! Его, себя и Вас. Я не придумаю никак иного слова. Припухлость детскую под бровью. Синий глаз. И все, что есть во мне земного.Perlenkugelspiel, или Игра в Бисер
И началась «Игра стеклянных бус»… Зачем? Все просто – нить, скреплявшая союз Всех бусин ожерелья дорогого, Распалась, треснула, и покатились вниз Застывшие шары хрустальных брызг. Не жемчуг в ожерелье том мерцал, И веселил, и душу согревал, Как ласковое бережное слово, — дешевые осколки неживые. Сжимали шею нити ледяные. Теперь – конец, теперь учись играть, Из бусин лабиринты составлять. Нанижешь боль, и ничего другого. Иль выбрось горсть ненужного стекла, Нить нашей близости истершего дотла.Душное лето в Москве
Прекрасно — Душная Москва! И околесица бульваров. В углу — Диванная тоска От мыслей мерзостных и старых. А в издыхающей душе Вдруг оживет: «…к чему лукавить?..» Оставь! Не для чужих ушей То, что на них ты хочешь сплавить! В живот себе уперши рог, Зришь лужу слов и крови скудость. «Три дня в дому – и за порог!» — давно проверенная глупость. В кругу картежных подлецов, Где каждый – за Себя горою, Как я боюсь в конце концов Остаться с картой козырною — С Тузом! – который все побьет, Единственным в игре жестокой, — и вдруг отдать его: мой ход! — заране жаждущему сбоку! … Остаться в дураках – другим. Кого теперь интересует, Кто кончит там С Тузом – моим! — Игру азартную Чужую?..Ночное небо над Москвой
Мы живем под дырявым щитом Ночи, На’д которым — сиянье неведомых сил. Ты ли, Отче, эти дыры в наказание нам просверлил? Боже, Ты ли устроил так, что, ослепшие днями, мы тычемся в лжи, и на сто миллионов лишь горстка чувствует, что под железкой лежим неба? А свет тот далекий Щиплет глаза В самую чистую ночь… Господи! Помоги мне за край Самой близкой дыры Заглянуть смочь.Москва без него
Как он теперь? Один? В тоске иль в шоколаде, И где, и с кем – истоптан мыслей круг То в пьяной радости, а то – в досаде, кто он: любовник или просто друг? Я знаю, что одной надежды – мало. Но что еще осталось в мире нам? Когда б он рядом был, я б не скучала с другими, шляясь по московским кабакам. И душу бы не жгла я, как сцепленье, идя бездумно на запретный разворот сквозь две сплошные полосы преодоленья скупого счастья для любви наоборот.Зима в Москве
Вот силы часть, что вечно хочет зла, однако, действует во благо — московская зима забытая пришла и сдула с грязных улиц влагу. В европах холодно, в столице – колотун, везде цирюльники с немытыми руками, а я укуталась в свой норковый зипун и посылаю всех к едрене маме. В гнезде моем хрущебном – красота, я стены целовать готова, как только возвращусь, – и чернота с души слетает от звонка живого родных, друзей, что, как и жизнь назад, в московских теплых кухнях проживают, трындят с усмешкой обо всем подряд и никогда не унывают.Зимний московский дождь
Вот. Вернулась я в Москву — и живу. Разрываю сеть тоски на куски в гулком дворике родном — проходном, в переулке у Пруда — как всегда. Зимний дождь над Маросейкой моросит, поливает не из лейки, а из сит. От Покровки, от Ильинки в двух шагах стынут солью моросинки на губах.Деревенское лето
Свежим медом полил мое жаркое тело… В кадке с теплой водою – кусочки вощины. Ты целуешь – мне сладко, и я захотела Так, как будто впервые познала мужчину. В старой баньке, в лесу, у затона речного, Стынет чай из сушеной малины и мяты… Я сегодня люблю лесника молодого. Мы чисты и невинны, хотя – виноваты. На столешнице – россыпью горсть земляники, Запотела от жара молочная кружка… Исхлещи меня веником, мальчик мой дикий, Я до вечера буду твоею подружкой. Слышишь, фыркнула лошадь в орешнике где-то: Нам скакать до деревни по утренней рани. Не грусти, золотой! Будет новое лето, Я – приеду, и снова растопим мы баню.Бабушке
…Застывший перезвон нежный — и запах чистоты снежной в корзине зимней мимо носа проплывает, а эфир незримый наше детство отражает, как передача «Угадай-ка»… А запах счастья – вот: белье просохшее морозное снимает с веревки во дворе и вновь несет в тепло к себе домой Хозяйка.Про наше Общее – метро (Командировка в Питер)
Он – московскому первенцу брат, и по первости братской Был и есть вовсе даже не питерский, а ленинградский В крепкой прочности стен Он – метро – не оно – это все уж потом переврали! Он – метро, Потому что – метро — Политен! … А в Московском метро и в метро Ленинградском не только не тесно, — Там же здорово все, – и сияет и блещет пестро! С замиранием кожи, до внутренней дрожи здесь любому впервые приезжему так интересно от подаренной каждому классики этого чуда – метро. Те, кто ездит устало в метро раз по сто за неделю, не могут Понимать и вникать в красоту междуземных миров, Спящим им – неподвластно Ощутить ежечасно непреложную истину вещи в себе – для других, понемногу Привнося свою музыку в сгустки летающих снов. Как запутано все тут хитро — а над нами плывут корабли… Стану в Питере плакать в метро – о метро, От его негасимой любви. Темный трепет – и ветер всех прерванных, кратких прощаний… Ты в метро человек не случайный — Путешествовать вечно готов: И повсюду разносится громкий, веселый – и тайный — потому что не слышный на улицах – грохот твоих поездов. Вечные странники – вечно скитаемся, мним Бог весть что о себе… Все быстрей Поезд мчится, по рельсам скользя, Лбом прислоняемся К темным окнам твоим, к теплым стеклам дверей, И хоть и нельзя, Но запретную надпись «Не прислоняться!» к груди прижимая в толпе… Там, где каждая станция – Храм красоты И подземный музей, Человек – чародей Человек – муравей Прорывается вглубь, но не видит ходы. Где же выход из замкнутой правильным кругом той тыщи Мелких, но непрерывно саднящих вседневных обид? Вдруг все ясно – написано: «Выход» – выходим. И больше не ищем Ложных выводов в жизни, – единственной нашей! в которой Так же мощно и скоро Время будто бы поезд метро нам навстречу летит и летит. Боже, будь. ТЫ хотя бы останься, метро, нам заменой забытого детского рая, Где порядок – вы слышали, пели и знаете – вечен и свят. Одних не бросая — в себе сохрани, увозя и сверкая! Продолжайся, пожалуйста – вдаль и вперед! нас спасая от себя же самих – сказкой мраморных и малахитовых царских палат! Странно — Приимный, да Благо — словенный Душе– и тело Спасительный храм, Просто до нас нисходящих – спиральных, Книзу улитками зАвитых сфер Башен Летатлина люстро-хрустальных — и – вавилонское столпо — Творение и просветление и помрачение — это творение СССР. (30 июля 2014 СтПб)Русским поэтам
О встрече на мосту Риальто в Венеции – И. Бродскому
ПохожУ-похожУ – почитаю Бродского. Проверю: болит? Болит. Что болит? Душа? Без общенья плотского Утром имеешь бледный вид. Рыжий, ты где теперь? слышишь убогих? Пятен не оставлявший, ходок без кольца? Мы тоже ходим, в страхе – под Богом, но все ждем своего конца. Прах твой в Венеции, дух твой – в Питере. Как раздвоиться вместе с тобой В тех зеркалах голубых? И в вытертых плюшах плюща над морской водой? Крытый старый мост перейдем в реале — только в разные стороны. Вклинясь друг в друга на секунду телами. Народ на Риальто не почувствует никакого испуга. На разминувшей время воде прощальной проплывает траур лодок больших. Гондольеры твои поют так печально… Прости, Прекрасный, я выбрала – их.Поэтесса – Б. Ахмадулиной
Сумасшедшей и нежной Птицы Сирин живой голосок, чуть дрожащий — Не от страха – от жалости к тем, кто решил эту птицу поймать… Так похожа лицом, хрупкой шеей, всей женственной сутью своей настоящей На мою слишком рано упорхнувшую в райские кущи красавицу-мать. Неоправданно редко теперь возникают в пространстве эфира забитом, В тесной рамке квадратной волшебного некогда ящика для простаков колдовские слова ее, внятные страждущим душам, доселе открытым вечным тайнам, упрятанным прочно в звенящие платиной строки стихов.Примечания
1
Примеч. автора: этот текст помогло мне сочинить прочтение материалов автора Прозы. Ру Александра Осипова – десантника-профессионала – и надеюсь, что он не усмотрит в этом плагиата.)
(обратно)









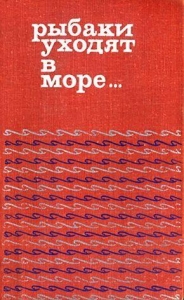

Комментарии к книге «Бабка Поля Московская», Людмила Николаевна Матвеева
Всего 0 комментариев