Генрих Бёлль
РАССКАЗЫ
Пылающие
Когда Генриху Перконингу исполнилось шестнадцать лет, он впервые подумал о том, как прекрасно было бы умереть. Как-то раз, гуляя по своему родному городу пасмурным декабрьским днем, он увидел, что пожилой господин, с которым он был знаком, вошел вслед за молодой и наглой девицей в ее дом. И почувствовал такую бесконечную душевную муку, что ему захотелось умереть. И мука эта, казавшаяся безмерной, увеличивалась с каждым днем. Он видел так много плохого и уродливого и так мало радующего душу, что решил наложить на себя руки, однако ни с кем об этом не говорил. Целый год таил он это в себе, и никто не подозревал о его страданиях. Часто он уже было склонялся к тому, чтобы открыться кому-то, поговорить с кем-нибудь, кому, казалось, можно было довериться, но всякий раз его отпугивала явная неосновательность того человека, и он замыкался в себе.
Однажды — дело было опять в декабре — он шел по берегу большой реки, протекавшей через город, и думал только об одном: надо покончить с жизнью, наложить на себя руки. Дрожа, он начал медленно спускаться по каменной лестнице к воде. На самой нижней ступеньке он остановился. Река плескалась о камни ласково-маняще и словно бы доверчиво. Он продумал все заранее: пальто он накинет на плечи, не застегивая на пуговицы, и скрепит полы булавками изнутри, чтобы руки не мешали телу пойти ко дну. И вновь подумал с содроганием о тех, кому его смерть и самый вид смерти причинит горе. О матери, об отце, о братьях и сестрах и еще о нескольких людях, приятелях и молодых девушках, полагавших, что любят его. Все они медленно и безмолвно проплывали в душе Генриха. Едва заметная волна любви и нежности шевельнулась в нем, однако не смогла лишить его решимости — он уже достаточно часто боролся с этими чувствами. И перед его мысленным взором возникло лицо одного молодого и жалостливого священника, прошептавшего: «Сын человеческий не знал, где сможет преклонить голову, так Он был одинок, так беден и так одинок среди людей, что даже ученики покинули Его, когда пришел решающий час; лишь Святой Дух давал им силы переносить страшные страдания и ужасные муки ради Господа своего; а Сын человеческий все-таки любил всех, Он воистину знал, как уродлива и грешна земная жизнь, но Он был исполнен любви к заблудшим человекам и отдал свою жизнь ради них, ради тебя. И если ты в Него веришь — а ты всегда это утверждал, — то последуй Его примеру и полюби их всех — и злых, и заблудших, и страдальцев, коим несть числа». Генриха охватила страшная дрожь, и он простонал: «Я не могу этого вынести!» Но некий голос возгласил в его душе с такой мощью, какой он еще никогда не встречал: «Милосердие и любовь Господа вездесущи, доверься ему!»
И Генрих повернулся и поднялся по лестнице. Он прошел по широкой аллее под аркой моста. На другой стороне улицы, сквозь кусты и низенькие деревца, он увидел пестро размалеванный деревянный павильон: там было низкопробное питейное заведение. Генрих порылся в кармане, пересчитал наличность и, перейдя на ту сторону улицы, вошел в грязную зальцу.
Не поздоровавшись, он уселся за столик в одной из ниш, окружавших небольшую площадку для танцев, и заказал чашку кофе, которую ему принесла неряшливая старуха. Стены зальцы были размалеваны обнаженными женскими телесами в красных тонах. В нескольких углах сидели пожилые и юные сластолюбцы с девками. Одна из них, миловидная и вызывающе одетая девица лет семнадцати, присела за его столик. В ответ на его вялый жест, означавший отказ, она как-то странно улыбнулась. Тогда Генрих вынул из кармана Евангелие, которое всегда носил с собой, и углубился в чтение. Однако его взволновало загадочное выражение глаз этого юного существа; он старался сосредоточиться на книге, но невольно то и дело отрывал от нее взгляд, чтобы посмотреть в улыбающиеся глаза девушки, неотрывно глядевшие на него. Она оперлась локтями о стол, а подбородком уткнулась в ладони; волосы у нее были густые, мягкие и темные, лицо — миловидное и умное, а по-детски чистые глаза прекрасны. Генрих поначалу поглядывал на девушку недоверчиво, но чем чаще он поднимал на нее взгляд, тем больше удивлялся. Он видел, что ее огромные черные глаза были печальны, а взор по-детски чист. «Но ведь она же проститутка, — подумал он, — она хочет меня совратить, я заблуждаюсь, она плохая» — и, вновь склонившись над книгой, стал читать. И все же он частенько отрывался от чтения и вглядывался в это лицо, так что в конце концов не выдержал смятения чувств и спросил грубо и напористо:
— Объясните мне, как вы сюда попали!
Казалось, девушка ожидала этого вопроса, потому что спокойно сняла с шеи цепочку с крестом и сказала ровным и серебристым голосом, указывая на крест:
— Я здесь ради этого символа.
Генрих восхищенно склонился перед ней и залился краской до корней волос:
— Хоть я и не уловил, какая тут связь, я вам верю.
Девушка слабо улыбнулась и продолжила:
— Все очень просто. Я поступила шлюхой в это… заведение — вы, наверное, знаете, что это значит, — дабы спасать души. А поскольку считаю, что не смогу справиться со старыми сладострастниками, то решила постараться спасти хотя бы молодых. На свете так много юношей, близких к гибели. Вы — не первый, с кем я знакомлюсь под маской греха, но вам первому из многих, с кем я говорила здесь, моя помощь не нужна.
Генрих так удивленно смотрел на нее, словно не мог поверить своим ушам, и под его восхищенным взглядом она вдруг помрачнела, улыбка погасла, и только теперь он увидел, какой бездонной печалью полна ее душа, ибо грусть в ее глазах не возмещалась улыбкой на ее устах.
Он хотел было спросить, часто ли ей удавалось исполнить свою миссию, но не решился требовать у нее отчета и стал ждать, что она скажет сама. А мистическая красавица сидела за столом, слегка наклонившись вперед, и на лице было написано страдание, делавшее ее похожей на ангела Апокалипсиса. Генрих понял, что в ее душе происходило что-то тревожное и неожиданное, и какое-то новое и невыносимое чувство стыда заставило его прижать ладони к лицу: он вдруг понял, что любит эту юную девушку. А она продолжала — теперь ее голос дрожал от волнения:
— Одного мне и в самом деле удалось спасти. Он ввалился сюда в первые дни, как я поступила в заведение, но я сразу поняла, что он шатается не от вина, а от голода. Он был бледнее смерти, ибо был жив, его спутанные черные волосы торчали во все стороны. Он уселся и диким голосом потребовал себе женщину. Я взяла его за плечо и повела в свою комнату, чтобы оградить от насмешек гостей, — мне-то сразу стало ясно, что он почти обезумел от нужды. Я дала ему поесть и попросила рассказать о себе. Потом он уснул. Я долго сидела подле него, чтобы никто его не разбудил. Проснувшись, он потребовал от меня того же, что и все, но сразу умолк под моим взглядом. Потом я поговорила с ним. Он, словно язычник, удивлялся тому, что я рассказывала. Рано утром он ушел. Но часто приходил и просил еще рассказать о Христе. Вот уже четыре месяца я его не видела здесь. Он почему-то стыдится меня. Я это почувствовала, когда он был у меня в последний раз. Хотел что-то сказать, но смутился и не мог вымолвить ни слова. Я знаю, как его зовут, но не знаю, где он живет; мне очень хотелось бы его разыскать.
Закончив рассказ, она так обессилела, что упала головой на стол, закрыла лицо руками и заплакала. Генрих склонился над девушкой, он сразу позабыл о своей мучительной любви к ней, так его встревожило ее состояние.
— Я его найду, поверьте, я… я…
Она выпрямилась и сквозь слезы посмотрела на него горящим взглядом:
— Мне думается, вы… ошибаетесь…
Девушка так странно глядела на него, что он вдруг твердо поверил: она любит его, а вовсе не того, другого, изменника, которого он собирался разыскать, дабы утешить ее, нет, она любит только его. Он наклонился к плачущей девушке и прошептал:
— Не плачь, а порадуйся вместе со мной — я только что вновь вернулся к жизни. Я буду служить тебе, буду любить тебя больше жизни, прошу тебя, перестань плакать, мы удалимся с тобой от этого угара и начнем жить в бедности и во Христе. Мы…
Он не мог продолжать от счастья, ибо язык, этот самый неуклюжий посредник между людьми, был не в состоянии выразить его душу. Поэтому он опустился на колени и поцеловал руки девушке, а, когда он приподнял ее и заключил в свои объятья, она задрожала от блаженства.
В тот же вечер Сусанна бросила свою «службу» в заведении. Вместе с ней Генрих приискал для нее пристанище в городе. Они сняли небольшую опрятную комнатку и до поздней ночи сидели там, глядя друг другу в глаза и почти не разговаривая. Они решили разыскать Бенедикта Таустера — единственного, кого Сусанна смогла спасти за долгое время ее мучений в борделе. Бенедикту Таустеру было восемнадцать лет, когда он начал шокировать общество. Он написал печально известное эссе под названием «Наполеон — тоже эротический гений?!» с подзаголовком «Размышления об известном привлекательном мужчине с Корсики». Одно то, что он поставил в названии своего опуса восклицательный и вопросительный знаки, привело кое-кого в такое бешенство, какое даже не клокотало, а сразу же испарялось. От одного из этих людей и узнал Генрих о Бенедикте Таустере. Он прочел его эссе и нашел, что при почти дьявольской изощренности ума оно было написано как издевательство и насмешка над миром. Хотя он и рассуждал в этой статейке об эротике Наполеона, речь в основном шла о современной жизни, а политические и общественные параллели местами были изложены настолько остроумно, что Генрих хохотал до слез. Более всего его удивил оттенок энтузиазма, явно проступавший сквозь текст. Это безумное, горячечное воодушевление прямо-таки очаровывало, поскольку было скрашено самоиронией. А заканчивалась статья фразой, звучавшей словно досада маленького ребенка по поводу неудавшейся проказы: «Как все-таки жаль, что я, Бенедикт Таустер, такой безнадежный урод». Весть о Б. Т. Генрих получил кружным путем — через очень известного литератора, который считался гением критики. Однажды он изрек: «Величие Достоевского заключается в том, что он был поистине гениальным эпигоном Гете». За это высказывание в голову, жаждущую лаврового венка, были совершены три неудачных выстрела из револьвера. Генрих познакомился с этим господином через одного тюремщика. Когда литератор с педагогическими намерениями посетил в застенке троих покушавшихся на его высокочтимую жизнь, он прошептал на ухо тюремщику: «Если я не слишком ошибаюсь — что абсолютно исключено, — Бенедикта Таустера вы вскоре тоже сможете здесь лицезреть». А этот тюремщик — знакомый Генриха — и рассказал ему о Бенедикте Таустере, так как знал, что Генрих «интересуется литературой».
Генрих нашел Бенедикта в нищенской мансарде на улице, «пользующейся дурной славой». Он был высокого роста, очень тощий, с бледным и измученным лицом. Когда Генрих представился и сообщил, что Сусанна обручилась с ним и что они вместе разыскивали его, Бенедикт поглядел на него, а потом сказал прерывающимся, проникновенным голосом:
— Я буду обращаться к тебе на «ты».
В ответ Генрих лишь кивнул, так что дружба была заключена очень быстро. Потом они долго сидели вдвоем и молча курили. Вдруг Бенедикт вскинул голову и тихо промолвил:
— Ты веришь в Христа.
Генрих ответил «да», хотя в словах Бенедикта не было вопроса.
— Ты, конечно, прочел мою статью о Наполеоне. Знаешь, эти свиньи, эти буквоеды, взяли и выкинули начало. А я там написал: «Да простит мне Господь, если моя статья плоха, но я написал ее в гневе на тех, кто насмехается над Его именем и называет себя христианином». Понимаешь, такую фразу выкинули!
Он посмотрел на Генриха, и тот заметил, что глаза его метали искры. Потом Бенедикт встал и в задумчивости стал мерить шагами комнату; он ходил довольно долго, но в конце концов остановился перед Генрихом и опять заговорил:
— Я хотел тебя спросить… — Тут он запнулся и, по всей видимости, задумался, надо ли продолжать, но все же сказал: — Видишь ли… через шесть месяцев одна юная девушка, которую ты сейчас увидишь, родит мне ребенка. Я познакомился с ней в ломбарде. Отправился туда с утра пораньше. Собирался заложить, как часто это делал, свою единственную ценную вещь, часы, потому что уже несколько дней ничего не ел. Я протянул часы в окошечко, их оценили, все было в порядке, и мне полагалось получить пять марок. Но тут служащий потребовал удостоверение личности. Я смешался и пробормотал, что у меня его нет. После чего он вернул мне часы, и я уже хотел с позором удалиться, как вдруг за моей спиной звонкий девичий голосок произнес: «Я могу поручиться за этого господина, вот мое удостоверение». И когда я испуганно обернулся и взглянул ей в лицо, она протянула в окошко свой документ. Девушка была примерно моего роста, волосы у нее были темные, а лицо бледное, и ее черные глаза серьезно глядели на меня. Однако служащий вернул ей удостоверение со словами: «Во-первых, в этом случае поручительство бесполезно, а во-вторых, вы сами еще не достигли совершеннолетия, так что я и ваши вещи не имею права принять». Тогда я взял ее под руку и проводил домой. Позже я диву давался, как в эти минуты у меня все само собой получалось, ведь я еще ни разу в жизни не ходил под руку с девушкой. Мы рассказывали друг другу всякую всячину и, конечно, сразу стали обращаться друг к другу на «ты». В сущности, я даже не был в нее влюблен, я просто уже любил ее. Пока шли, мы даже веселились и отпускали шуточки по поводу наших голодных желудков; однако большую часть пути она была печальна и грустна и молча шагала рядом со мной. Лишь иногда в ней ненадолго вспыхивала радость, и она с улыбкой произносила несколько слов. Эта ее улыбка была восхитительна, прямо-таки чарующая, полная жизни умная девичья улыбка. На углу каких-то улиц мы попрощались; я назвал ей свой адрес и пригласил навестить меня, она ничего не ответила, но в тот же вечер пришла. Как только она появилась в комнате, я бросился к ней и поцеловал, и она опять улыбнулась. Потом она стала приходить ко мне каждый вечер, мы сидели рядышком и разговаривали. Сначала рассказывали друг другу свою жизнь, потом говорили обо всем — о Боге, об искусстве, о политике, слушать ее умные речи было истинное наслаждение. Молились мы тоже вместе. Особенно горячо чтили доброго разбойника, который висел на кресте рядом с Христом и в тот же день попал в рай.
В эти дни мои финансовые дела шли все хуже и хуже. Единственным постоянным доходом были те двадцать пять марок, которые мне ежемесячно выплачивал назначенный по суду управляющий моим наследством. Дошло до того, что у меня уже не было даже самой необходимой одежды и обуви. В ту пору я начинал бессчетное количество разных дел, но ни одного не довел до конца, кроме этого «Наполеона». Я вручил ей свое творение, и она почти три недели бегала с ним по городу, пока не нашла человека, захотевшего его издать. Ко мне пришел представитель издательства, которое выпускало в основном бульварные романы и необычайно разбогатело на них, и мы быстро поладили. В те же дни ее отец покончил самоубийством. Он был дельцом и погряз в долгах, однако путем ловких коммерческих операций долго держался на плаву. А тут все его махинации были раскрыты, и он застрелился. Она пришла ко мне под вечер. Я ждал ее с нетерпением, ибо на душе у меня было грустно, несмотря на только что заключенный выгодный договор. Был конец лета, жара стояла невыносимая, однако на небе собрались грозовые тучи. Солнце только что зашло, и я смотрел из своего окошка на залитый закатным багрянцем город. Он показался мне в тот день отнюдь не таким унылым, как всегда. Тем не менее на душе была такая тоска, что хотелось умереть, и тут я почувствовал, как нужна мне стала она. И в эту минуту она пришла. Вид у нее был, как у помешанной. Она лежала в моих объятиях и бормотала что-то бессвязное, но я все же понял, что случилось. Я не мог найти слов, просто молча целовал ее. В тот вечер она осталась у меня, а ночью мы оба потеряли невинность.
Он говорил торопливо и все время ходил из угла в угол, но вдруг оборвал себя на полуслове и стал глядеть в окно. Генрих хотел было подойти к нему, сказать что-нибудь утешительное или хотя бы пожать руку, но тут в комнату вошла девушка в черном. По его описанию Генрих сразу узнал ее. Он поздоровался, а Бенедикт назвал его имя. Потом придвинул ей свой стул, а сам уселся на кровать рядом с Генрихом. В скудном свете комнаты юноши смутно различали очертания ее фигуры.
Она тихо и мягко заговорила:
— Я нашла для тебя кое-что. Один господин, владелец частной вечерней школы, ищет человека, который мог бы давать уроки по гимназическим дисциплинам за одну марку в час. То есть тебе придется делать домашние задания с отстающими учениками. Ты будешь зачислен в штат по всем правилам и станешь давать по шесть-семь уроков во второй половине дня. Естественно, сначала тебе предстоит выдержать небольшой экзамен, принимать который будет сам владелец школы. Но я с ним уже говорила и сказала, что у тебя есть свидетельство об окончании гимназии. Впрочем, сам он берет с родителей учеников по три марки за урок.
Бенедикт медленно поднял голову:
— Благодарю тебя, Магдалена. Значит, теперь мы сможем пожениться. То есть если этот господин меня примет.
Они еще долго молча сумерничали в комнате. Лишь один раз Бенедикт нарушил молчание:
— Магдалена, я рассказывал тебе о девушке в борделе, которая открыла мне истину. Она — невеста Генриха…
Магдалена подошла к Генриху, поглядела на него своими огромными черными глазами и серьезно спросила:
— Она… простила его… нас за то, что он больше не пришел к ней? Нам было так стыдно перед ее чистотой.
Магдалена залилась краской до корней волос и уставилась в пол. Когда она вновь подняла глаза, то увидела, что Генрих кивает ей и улыбается. Она придвинула свой стул к кровати и села к ним поближе.
Пока Магдалена сидела у Сусанны, сумевшей развеять ее мрачное настроение своим неиссякаемым оптимизмом, оба молодых человека держали путь к хозяину школы.
На улице все еще шел холодный зимний дождь, смертоубийственный для бедняков. На них не было шляп, а тонкие, выношенные пальто не давали тепла, поэтому они жались к стенам домов, чтобы хоть немного укрыться от холодных потоков. На широкой улице аристократического предместья, где дома с нарочитой скромностью прятались за деревьями аллей и палисадников, они потянули за ручку звонка у двери дома, походившего на дворец. Их провели в приемную и для начала заставили ждать битый час. После того как они вне себя от злости иронически обсудили в деталях историю возникновения всех картин, висевших на стенах, и, впадая в бешенство от отчаяния, начали уже подумывать, не взяться ли им за узоры на обоях, в комнату вошел важный господин. Роста он был среднего, комплекции весьма плотной и улыбался улыбкой Будды. Они представились; господин приветливо поздоровался с ними, и в течение пяти минут Бенедикт был принят на работу без экзамена, но временно, с испытательным сроком в один месяц. Генрих выразил желание тоже поступить на работу с испытательным сроком, и, несмотря на молодость, тоже был принят после беглого взгляда на его свидетельство.
— Можете начать сегодня же, — сказал им важный господин, и они пустились в обратный путь по той же скучной дороге.
— Этот человек либо глуп, либо безумен, — заявил Генрих, — для его знаменитой школы слишком рискованно вот так запросто брать нас с тобой в учителя.
Бенедикт рассмеялся:
— Нет уж, безумным его никак не назовешь, для этого он слишком ленив. Но он вовсе и не глуп. Он говорил с Магдаленой и, вероятно, знает, что мы с тобой католики, причем истинно верующие. А католики безумно боятся греха из-за исповеди, позорящей достоинство человека, поэтому наверняка будут его обманывать меньше, чем те, которым не приходится в положенные дни протискиваться в кабинку и признаваться во всех грехах… К примеру, среди атеистов очень многие нанимают в служанки только католичек, полагая, что исповедь защитит их хозяев от воровства. Впрочем, он ведь в любое время может вышвырнуть нас на улицу, если почувствует опасность для своей репутации.
Они еще застали Магдалену у Сусанны. Какое блаженство — сидеть у теплой печки, прихлебывать горячий кофе, да еще и курить.
Бенедикт и Магдалена вскоре откланялись, им предстояло еще зайти к священнику насчет свадьбы, которая должна была состояться через восемь дней.
Сусанна сидела рядом с Генрихом; он не сводил с ее лица задумчивого взгляда.
— Сусанна, я всегда ненавидел солнце, потому что считал, будто его радостные лучи насмехаются над моими страданиями. У меня долго не было желания жить, и уж тем более радоваться жизни. Но в один прекрасный день я обрел это желание и в тот же день встретил тебя, благословение моей жизни… С того дня солнце ни разу не выглянуло из-за облаков — так оно мстит злопыхателю, — но я верю, что оно вновь засияет на небе, я буду радостно приветствовать его появление, и для нас настанут счастливые дни. Сусанна… Сусанна…
Он улыбнулся. То была первая улыбка, которую довелось увидеть Сусанне на его лице; она походила на простую и ясную церковную музыку старинных, давно ушедших времен — такой робкой, такой дрожащей появилась она на его юном лице. Сусанна просто расцвела от счастья, увидев это безмолвное проявление его радости. Между ними возникло что-то настолько чистое, настолько далекое от греха, насколько время, породившее их, бывало близко к нему, и чувство это напоминало старинную любовь, давно канувшую в Лету, — этакое легкое и нежное дуновение блаженства, исполненного тихой радости. Генрих мягко привлек ее к себе и поцеловал в губы — и им показалось, что почва ушла у них из-под ног.
Свадьба была печальной, как похороны ребенка. Великолепный собор, необычайно просторный и высокий, наверное, редко лицезрел столь нищенское бракосочетание. Громадное помещение, серые в мелких трещинках перекрытия которого, похожие на облачное февральское небо, нависали над кучкой бедно одетых людей, преклонивших колена пред боковым алтарем, превращало их в жалкие ничтожества. Магдалена смиренно прикрыла веки и дрожала от радости в предвкушении Святых таинств брака, а священник, совершая обряд венчания, время от времени оборачивался и поглядывал на бледного и серьезного Бенедикта. За женихом и невестой стояли на коленях мать Магдалены и ее братья. На лице матери было написано какое-то вымученное смирение — такое выражение может быть у изнасилованной девушки, душевная чистота которой помогает ей забыть позор плоти. В глазах братьев проглядывала наглость, пытавшаяся прикрыть опустошенные сердца распутников. Вероятно, они-то вместе с отцом и изнасиловали душу этой женщины. Время от времени братья трусливо поглядывали на Сусанну, стоявшую, склонив голову, на коленях рядом с Магдаленой. Оба свидетеля — Генрих и Пауль фон Зентау — прислуживали при бракосочетании.
После благословения жених и невеста выступили вперед и преклонили колена на старинной простой скамеечке, стоявшей здесь со времен княжеских свадеб. Свидетели стали рядом с ними, и молодой священник приступил к службе. Завершив обряд, он произнес речь. Говорил он едва слышно, словно боялся пробудить эхо в огромном нефе, и на его лице светилась радостная улыбка.
— Обычно священник, завершив обряд соединения жениха и невесты священными брачными узами, обращается с краткой речью к супругу. Простите меня… Простите, но сейчас я не могу говорить. Нынче так редко встречаешь подлинно христианский дух и смирение перед Богом. Понимаете, — он покраснел и опустил глаза, — я слишком растроган. Но я принимаю ваше приглашение на небольшое торжество в честь этого события.
Едва выйдя из собора, братья Магдалены откланялись. Как только исчезли отвратительные рожи этих денежных воротил, маленькая скромная компания почувствовала облегчение и направилась через весь город к новому жилищу молодоженов, расположенному на окраине Старого города. Собор, в сущности, не относился к их приходу, но Бенедикт хотел, чтобы венчание состоялось именно там, так как узнал, что в этом соборе венчались его родители, а его самого там же крестили. Молодой священник, которому он полгода назад открыл свою душу после ночи у Сусанны, познакомившей его с искрой Божией, обнаружил в старых церковных книгах запись о том, что в начале второго года войны некий Даниэль Таустер был обвенчан с некоей Адельгейд фон Зентау. О крещении Бенедикта тоже сохранилась запись. Так что теперь им пришлось пройти довольно далекий путь от центра города до самой окраины. Молодожены шли впереди всех, тихо беседуя. За ними следовала мать Магдалены со священником. Замыкала процессию Сусанна в обществе Генриха и Пауля. Пауль представился Сусанне, которую видел впервые в жизни, и рассказал ей свою историю:
— Я — последний неприкаянный отпрыск старинного франкского аристократического семейства, которое, однако, вот уже целое столетие живет по вполне буржуазным канонам. Бенедикт, мой кузен, — единственный у меня близкий родственник. Я родился в тот самый день, когда мой отец пал смертью храбрых на поле боя в Лангемарке. Матери моей тогда едва минуло восемнадцать. Она зачахла с горя после потери молодого супруга, увенчавшего ее сиротскую юность поистине царской любовью. Мать Бенедикта, сестра моего отца, девятнадцати лет от роду, взяла меня к себе, когда мне исполнилось всего полгода. Хотя сама была в положении и очень страдала и тревожилась за своего мужа, лежавшего в госпитале где-то в Румынии с очень опасным ранением в голову. Он скончался за три месяца до рождения Бенедикта. И, неся в сердце тоску по супругу, по брату и подруге, она тащила на своих плечах неподъемную тяжесть жизни, продираясь своей юной пылающей душой сквозь закоулки повседневности благодаря вере в Иисуса Христа, глашатая истины и друга страждущих.
Ей не довелось вдоволь нарадоваться на мальчишек, которых она растила, — пришлось идти работать, и мы проводили долгие часы у Вайта, инвалида войны, который жил в мансарде рядом с нами. У Вайта была только одна нога, и ему было трудно взбираться на костылях по лестнице. Кроме того, из-за ранения в легкое он часто оставался в постели, так что мы оба пришлись ему весьма кстати, ведь он был еще совсем молодой, всего тридцать два года. Вайт был полон энергии, а когда узнал, что наши отцы погибли на войне, то и полюбил нас всем сердцем.
Мне стукнуло пять, Бенедикту еще не было четырех, когда началась наша дружба с Вайтом. Он не верил ни во что. Когда мы к нему приходили, он всегда спрашивал с ироничной торжественностью: «Что является высшим принципом жизни?» — и наши звонкие детские голоса отвечали: «Все на свете дерьмо!» Так он нас научил. Вайт прошел сквозь такие ужасы и рассказывал нам о таких страшных вещах, что нам, ничего не понимавшим, оставалось только слушать, что мы и делали с большим интересом. Своими рассказами он по капле отравлял наши детские души ядом неверия, который покуда еще не отвратил нас от молитв, кои мы каждый вечер читали на сон грядущий, когда наша мама, усталая и добрая, приходила домой. Он не был плохим человеком, этот Вайт, но он потерял нить, связывавшую его с Богом. Сейчас мне кажется, что Святой Дух втайне бередил его душу, ибо в один из своих последних дней — а мне тогда было семь лет — он спросил: «Ребятки, о чем вы молитесь вечером?» — «Мы молимся, чтобы Иисус Христос оградил наши души от неверия, чтобы он взял наших отцов на небо, чтобы вернул здоровье доброму дяде Вайту и подарил нашей мамочке какую-нибудь радость». Он взглянул на нас с робкой улыбкой и прошептал: «Это хорошо, всегда помните об этом». Эта фраза, так не похожая на все его поучения последних двух лет, была для нас лишь одной мыслью из тысяч других, мы могли им только внимать, но еще не умели различать. Через несколько дней Вайт умер.
Мы долго и сильно горевали о нем. Мать не могла нас утешить. Лишь время было способно залечить эту рану. Тогда-то и начали всходить семена, которые Вайт посеял в наших душах. Мы возражали матери, когда она говорила нам о вещах, в которые Вайт, как мы помнили, не верил, лишь в Боге мы пока не сомневались. Это пришло позднее, когда мы на годы были отданы во власть гнилой мудрости улицы и когда после смерти мамы, из-за нашей бедности, над нами смеялись в гимназии сыновья богатых буржуа и выскочек. И, все больше отдаляясь от сверстников и полагаясь лишь на собственный разум, поначалу медленно, а потом как бы во внезапном озарении, мы отказались от всего наносного и с бледными, ожесточенными лицами гордо понесли свою бедность, как знамя. Мы прониклись скепсисом, и обстоятельства жизни, да и наша близорукость, привели к тому, что мы — отринутые уродами, которые называли себя христианами, — отвернулись от Распятого, не успев понять и малой толики Его учения.
Мать умерла, когда мне было девять, а Бенедикту меньше восьми. Доктора сказали, что она умерла от переутомления. Наверняка потеряла здоровье, надрываясь на работе из любви к нам. Но я думаю, и даже уверен, что мать умерла от горя, что оно долгие годы подтачивало ее силы, а потом наконец взорвалось и одним сокрушительным ударом отправило ее на Небо, к вечной жизни, в которую она всегда верила. Если бы в самые важные для нас годы мать первая изложила нам учение христианства, мы бы наверняка его поняли и соприкосновение с тупостью и несовершенством жизни не оказалось бы для нас такой катастрофой. Так что нам пришлось блуждать ощупью многие годы. Жили мы на доход от маленького домика, который мать Бенедикта купила на деньги, с трудом сэкономленные на еде, чтобы хоть как-то обеспечить наше будущее. Люди много говорят о разных книгах, величественных памятниках любви… Для меня нет ничего более прекрасного, чем этот ветхий, покосившийся домишко в Старом городе, который стоил прекрасной, несчастной и одинокой молодой женщине долгих лет жизни впроголодь.
За год до выпускного экзамена я покинул Бенедикта и свой родной город ради одной женщины. У нее были темные волосы, свежий, восхитительный рот, а глаза — черные, как ночь, и полные неподдельного огня. В ту пору она давала здесь концерт — то был Шопен. Я слушал ее игру и впервые в жизни был оглушен, очарован, покорен этой волшебной, западающей в душу и манящей чувственностью, и моей единственной мечтой стала эта молодая женщина, чья искренняя игра наполнила восторгом мое сердце. Овация еще доносилась за кулисы сквозь плотный занавес, а я уже стоял в ее будуаре. Слуги поспешно удалились под моим взглядом. Портьера отдернулась, и появилась она — неслышно и грациозно. Не испугалась, не рассердилась. Не заметила, как нищенски я одет. Она смотрела мне в глаза и улыбалась. Совсем еще юная, лет семнадцати. Я сразу понял, что она была невинна, как и я. Она долго стояла так, улыбаясь. А я застыл с серьезным лицом, бледным от счастья и горя. Она подошла ко мне и поцеловала. Знаете, я еще никогда не целовал женщину, поэтому испытал небесное блаженство — ведь первый мой поцелуй получила женщина, которую я любил. Голосом, от которого дрожь охватила меня с головы до ног, она тихонько промолвила: «Смейся, если хочешь, но я тебя люблю, ты — мой первый и единственный». В ту ночь мы с ней заключили союз, полный пленительной, сладостной страсти, полный небесного блаженства, но лишенный Божьего благословения.
Целый год я разъезжал с ней по всему свету. Она давала концерты, снискала славу. А я весь этот год носил все тот же старый вытертый школьный костюм — больше никакого платья у меня не было. Но она ничего этого не замечала, душа ее была полна чувств и огня. Я тоже не думал о таких вещах. Мы с ней никогда не бывали в обществе. Только одни, всегда одни с нашей молодостью, с нашей любовью. Ни разу я не смог заставить себя пойти на ее концерт, мне казалось, что я бы обезумел, увидев эти тысячи жадных глаз, устремленных на ее тело, — ведь оно принадлежало только мне. О Христе мы оба не думали, но все же наш ангел-хранитель не покидал нас — мы никогда не впадали в пошлость.
Мое существование рядом с ней не было тайной, пресса прознала обо мне. Я слышал, что газетчики между собой называли меня «жиголо великой пианистки». Мы, конечно, грешили, но каждый следующий день был полон такой молодой радости, такого огня, словно он был первым. Однако мольбы моей матушки, видевшей, что плод ее юной плоти погрязает в грехе, и просьбы моей второй матери у трона Всевышнего не пропали втуне. Я нашел путь назад. В каком-то небольшом городке Южной Германии однажды вечером я пошел прогуляться один, так как у нее был концерт. Сердце мое еще пылало после нашего расставания, вырвавшего ее из моих объятий и бросившего на сцену под взгляды местных богачей. И вдруг у меня в мозгу пронеслось — да ведь я подлец, раз позволяю любимой женщине работать на меня, ведь я давно уже знал, что для нее было мукой играть для этих рож; что лишь когда мы были одни, когда она могла на рояле или на скрипке открыть мне свое пламенное сердце, музыка становилась для нее блаженством. Эта мысль так меня потрясла, что я укрылся в ближайшей церкви, ибо знал, что церковь — единственное помещение, в которое каждый может войти беспрепятственно.
Я уселся на одну из последних скамеек, где царил полумрак. Тихое бормотанье слов молитвы и пение нескольких голосов едва достигало моих ушей. Но внезапно я насторожился — меня поразили громко и четко сказанные слова: «Все грехи, все богохульства начинаются с высокомерия, даже если это всего лишь чувство некоторого превосходства над ближним…» Пожилой священник поднялся на кафедру, чтобы читать проповедь, и я — поначалу привлеченный громким и четким голосом, а потом самой проповедью — был вынужден его слушать.
Мой ум, словно околдованный, следовал за его речью, и меньше чем за четверть часа я услышал удивительно ясное изложение учения Христа. Священник повествовал о смирении, о любви, о добродетелях. А когда он заговорил о божественном порядке, об устройстве мира, о божественной мере вещей, я сразу понял, что нарушил этот порядок. Понимание этого пронзило меня, как молния. Я был настолько потрясен и убит, что ничего больше не слышал и после службы остался в церкви один. Долго я так сидел, взмокший от мук, и думал, что умираю. Потом вдруг услышал в тишине нефа звук шагов, поднял голову и увидел священника, который, преклонив колено перед дарохранительницей, направился к выходу. Отчаянным жестом я попросил его подойти. Когда он встал рядом со мной и посмотрел на меня с вниманием и лаской, язык присох у меня к гортани и я не смог вымолвить ни слова. Я видел, чувствовал Бога — пока еще смутно, но уже почти верил, что он есть, я невыносимо страдал из-за своей греховности и в то же время как никогда ранее сознавал, что Натали — восхитительное создание Господа, что душа ее чиста. И я стал молить Бога, чтобы и ее сердца коснулись Истина и Ясность Его Учения. А потом едва слышным голосом побеседовал со священником и все ему рассказал.
На обратном пути в гостиницу в душе моей вдруг поднялась радость от познания истины, и я уже сгорал от нетерпения поскорее поделиться этим уникальным сокровищем с той, которую любил. Все еще любил. Я не сомневался, что она поймет меня. Ведь я знал, что она была внебрачным ребенком, и вспомнил, как часто она плакала горючими слезами из-за того, что наша любовь оказалась бесплодной. И в ней говорил не только материнский инстинкт — я знал это из ее игры. И в ту ночь мне мерещилось, будто я вновь — в который раз — слышал ее полные боли импровизации, и они вовсе не рушились, не казались жалкими пустышками по сравнению с величием моего христианского видения мира. Я сиял от счастья, что теперь смогу указать ей цель. Конец этой истории вы сейчас узнаете. Вы увидите молодую женщину, почти девушку, с обручальным кольцом на правой руке — символом брачного союза со мной, на ней будет скромное красное платье, и ее единственное украшение — четки, молитвенник смиренных. Великая пианистка вышла замуж за своего жиголо и стала называться Натали фон Зентау.
Пауль радостно взглянул на своих спутников — все это время он смотрел себе под ноги. Сусанна вся горела, так ее взволновал этот странный юноша, вероятно по глазам угадавший, что она сможет понять его. Она бросила искоса взгляд на Генриха и увидела, что он смеется.
Навстречу компании из дверей дома вышла худенькая молодая женщина с темными волосами; на ней было простое темно-красное платье, в вырезе которого поблескивали темные четки и золотой крестик; глаза у нее были черные и необычайно большие, а нос с горбинкой. Сначала она поздоровалась с молодоженами — поцеловала Магдалену и крепко пожала руку Бенедикту. Пауль тотчас подскочил к ней и представил священнику и Сусанне.
— Это она, — смеясь сказал он Сусанне.
Натали все приготовила для завтрака; стол был красиво накрыт, повсюду стояли цветы, а в углу перед изображением Святой Девы горела свеча.
Натали улыбнулась, заметив удивленные взгляды:
— Я нашла этот образ нынче утром в кладовке вашего старого домика, он был похож на клубок пыли. Почем знать, сколько владельцев дома равнодушно запихивали его куда-нибудь подальше, да и я поначалу решила, что это старая пыльная прялка, но, когда подняла его с полу, он оказался очень тяжелым, а в тех местах, где я его коснулась, пыль слетела и засияло золото. Он, должно быть, очень старый.
В комнате пахло хорошим кофе. На столе лежал хлеб с аппетитной поджаристой корочкой — настоящий ржаной хлеб. А в глиняной мисочке желтело масло. Все с удовольствием уселись за стол. И вот уже февраль перестал казаться таким неприятным, по крайней мере, с серого неба исчезли мрачные тучи, а на юго-востоке даже блеснули слабые лучи солнца. На улице, правда, было еще холодно, но здесь, в комнате, все наслаждались приятным теплом. За едой почти не разговаривали. Гости испытывали какое-то благоговение перед новобрачными.
Когда они насытились и кофе вновь был разлит по чашкам, а голубой табачный дымок начал легкими облачками клубиться по комнате, Пауль сказал:
— Нам надо как следует обдумать это дело. — Заметив недоуменные взгляды, он рассмеялся: — Надеюсь, вам ясно, что мы должны основать некий союз или клуб — не знаю, как это назвать.
— Я тоже так считаю, — сказал Генрих под общий хохот. — Когда собираются больше двух человек, в какой-то степени единомышленников, то непременно должно возникнуть что-то вроде клуба 6 членскими билетами и взносами. И у нас, без сомнения, получилось бы нечто оригинальное. Для начала — восемь персон: молодой человек, настолько безумный, что решает жениться при месячном доходе менее двухсот марок, супруга этого идиота, благодаря ему ставшая бедной обывательницей, мать этой помешанной, затем бывшая великая пианистка, отказавшаяся от блестящей карьеры, муж которой, бродяга и перекати-поле, является последним и вконец опустившимся отпрыском старинной аристократической семьи, затем священник, полностью порабощенный римско-католической церковью, Сусанна, с ее более чем сомнительным прошлым, и я.
— Если меня изберут председателем и разрешат сочинить слова и мелодию гимна нашего союза, я согласен в него вступить, — промолвил Бенедикт и с улыбкой выпустил дым из своей трубки.
Беседа на эту тему могла продолжаться до бесконечности. Поэтому молодой священник, с улыбкой слушавший этот разговор, поднял руку, требуя тишины. Говорил он тихо, чуть ли не в трубку, которую только что раскурил.
— Во всем, что действительно смешно, — сказал он, — а смешна, естественно, лишь самая малая толика того, над чем принято смеяться, — во всем этом есть нечто искаженное, нечто исковерканное и фальшивое, и потому в смешном всегда есть еще и серьезная, зачастую сатанинская, сторона.
К примеру, нынешние союзы и разные объединения по большей части смешны, но, в сущности, представляют собой всего лишь один из тысяч вариантов идолопоклонства. Я твердо верю, что многие члены таких союзов, которые постоянно ходят в церковь и считают себя добрыми христианами, в тысячу раз сильнее встревожатся и, может быть, даже стряхнут с себя свой безмятежный покой, когда кто-то посягнет на их устав, а тем более на кассу, а не тогда, когда этот кто-то вычеркнет одну фразу из их символа веры. Это всего лишь пример.
Все эти вещи, как бы они ни назывались — мода, спорт, танцы или кино, а чаще — деньги, в сущности, не что иное, как умело замаскированные, почти буржуазно-добропорядочные происки дьявола, который выжрет у людей еще здоровую, может быть, сердцевину и использует свои происки, чтобы медленно и по-обывательски опрятно (а большинство людей слишком ленивы, слишком утомлены и глупы, чтобы стать отъявленными грешниками) отвлечь от истины, или, вернее, от тех остатков истины, которые эти люди в себе сохранили. И если дело зашло так далеко, что происки дьявола отвоевали себе почетное место и что их даже поддерживают те, кто призван защищать истину, то дальше все катится само собой. Красоту презирают, чувство красоты источено скепсисом, похоть и страсть превозносятся. Жидкую кашицу-размазню легко сварить. Поэтому если уж кому-нибудь потребуется основать новый союз, то это должен быть союз сторонников абсолютной истины, но такой уже существует — в церкви.
Закончив свою речь этим странным выводом, священник улыбнулся. Гости слушали его молча, с серьезными лицами. Молодые люди о чем-то думали и курили, девушки сидели, глядя перед собой. Мать Магдалены удивленно посмотрела на священника. Сусанна встала и зажгла почему-то погасшую свечу перед Мадонной.
Натали, зардевшись, тихонько промолвила:
— Мне хотелось бы что-нибудь сыграть, если вы не…
Она запнулась. Все кивнули. Она встала и попросила Генриха, сидевшего возле книжного шкафа, передать ей ноты.
— Бетховен, — сказала она в ответ на его вопросительный взгляд.
И когда мужчины отложили в сторону трубки и солнце вдруг залило комнату ярким светом, Натали подошла к роялю, стоявшему у белой стены, на которой не висело никаких картинок, а только большое черное распятие.
Перевод Е. МихелевичБеглец
Сердце у него гулко забилось, когда он увидел из своего укрытия, что по дороге несется машина с мощными фарами, и содрогнулся всем телом, словно от внезапного удара в лицо, потому что машина остановилась так резко, что тормоза взвизгнули. Она ловко развернулась, и безжалостные конусы света заскользили по полю, медленно и осторожно ощупывая местность; от неестественно яркого света деревья вспыхнули, словно по мановению волшебной палочки проснулись к какой-то страшной жизни. Кусты высвечивались этими безумно яркими лучами и тут же вновь ускользали во мрак, потом волна света ударилась о каменную ограду, за которой он прятался, и ему почудилось, будто она там и останется, но волна перевалила через неровный край ограды. Он закрыл глаза, ослепленный и пронзенный дикой болью: острый луч вонзился в него сквозь щель в кладке.
Он слышал ровное гудение двигателя и мужские голоса, он весь превратился в слух, но фары вдруг потухли, и темнота вновь навалилась на него всей своей тяжестью. Он встал с холодной сырой дернины и осторожно высунул голову из-за ограды: машина по-прежнему стояла на дороге, и он заметил силуэты двух мужчин, очевидно смотревших в его сторону. Ему показалось, будто они чувствуют его присутствие. И он впивался глазами в матовый мрак, силясь разглядеть их лица, потому что ему обязательно нужно было знать, есть ли среди них Гермат. Гермат! Сердце на миг замерло! Ибо тогда он погиб. Гермат был самой изощренной, коварной и хитрой ищейкой во всей округе, самым подлым кровопийцей с каким-то почти сверхъестественным чутьем. Голоса мужчин звучали монотонно, до него доносилось лишь ровное бормотание…
Но тут он услышал справа и слева от себя какие-то шорохи. Так и есть, по полю кто-то крался. Даже шаркал. И этот характерный чавкающий звук, какой бывает, когда вытаскивают сапог из жидкой грязи. Боже мой! В тот же миг его пронзила догадка, что его голова наверняка видна на фоне матовой синевы неба — черный шарик над каменной оградой! Он пригнулся, задыхаясь от животного страха, и в следующее мгновение, пока он старался хоть как-то разобраться в клубке мыслей и чувств, над краем ограды просвистела пуля, выпущенная со стороны дороги. В знак того, что охота началась. Неужели он со страху не услышал выстрела? И вдруг у него стало так легко на душе! Так удивительно легко! Словно ледяная ненависть в его сердце сковала всю эту неразбериху из страха и отчаяния; он размышлял быстро и четко: ну вот, пелена спала, и ему стали понятны их действия. Его обошли справа и слева, он слышал шум с обеих сторон, а теперь еще и за спиной. Наверное, они расставили посты до самой дороги, а там Гермат с его дьявольским чутьем, он-то и руководил облавой. Все бессмысленно. Стоит ему пошевелиться, и они изрешетят его. Ведь они знают, где он стоит, а он понятия не имеет, где они расположились. Оставалось только одно: броситься вперед, в самый центр погони, и в его голове возник план, до смешного простой и отчаянно смелый. Ненависть придала ему храбрости, бешеная живая ненависть, которая способна на все, как и любовь. Он уже не чувствовал ни холода, ни голода, ни страха. Знал только, что там, впереди, его смертельный враг, на которого он должен напасть с силой буйвола и наглостью гения. Он услышал, как кольцо позади него сомкнулось: двое загонщиков сошлись за оградой сада и тихо что-то сказали друг другу. Он быстро помолился — так быстро вспыхивает и гаснет пламя, — и на душе стало легко, и захотелось улыбнуться. Да, улыбнуться, несмотря на мрак и кольцо преследователей, — он был уверен в успехе. Подняв над оградой руки, он громко крикнул:
— Не стреляйте, Гермат, я сдаюсь!
Он услышал удивленные восклицания загонщиков, быстро перемахнул через ограду и помчался к дороге, крикнув на бегу со смехом:
— Отзовите собак!
До дороги не было и ста пятидесяти шагов, и он мчался изо всех сил, стараясь, пока эта банда не опомнилась, различить в темноте могучую фигуру Гермата в черном мундире — черное пятно на фоне темно-синей ночи. Руки он держал поднятыми над головой, даже когда прыгал через кювет. В свете фар он ясно увидел жесткое, холодное, породистое лицо Гермата и еще увидел, как тот приоткрыл самодовольно улыбающийся рот, видимо собираясь что-то сказать, и бросился на него, собрав в этом броске все тело — единственное свое оружие! — бросился бешено, со всей безумной яростью своей ненависти. Ощутив радость от сильного удара двух тел, он обежал машину и услышал, как водитель с криком выскочил из кабины. Тогда он тихонько и очень осторожно лег на дорогу и медленно, бесшумно заполз под машину. Бензобак был расположен так низко, что в просвет он едва видел Гермата, распростертого в двух шагах от него на твердом и холодном асфальте. Ему стоило величайшего напряжения воли подавить страшные рыдания, поднимавшиеся откуда-то из самой глубины. Тело сотрясала дрожь. На лбу выступил липкий пот, а запах бензина и масла вызвал приступ тошноты.
Чтобы как-то отвлечься и снять ужасное нервное напряжение, он взглянул на Гермата. Тот лежал на дороге, стоная и ругаясь, лицо его было искажено животной яростью, кровь из раны на затылке стекала на серый, холодный асфальт. Водитель неумело суетился вокруг него, пытаясь приподнять, потом достал из машины сиденье и сунул под голову Гермата. Из темноты доносились голоса загонщиков.
Кое-как Гермат поднялся; Штрикман перевязал его и дал несколько таблеток, которые тот запил шнапсом. Теперь он стоял, прислонившись к машине. Его сапоги, эти элегантные мягкие сапожки, которые бедняга Гундерланд должен был чистить каждое утро, находились совсем близко от глаз Йозефа. Какое-то мгновение он испытывал безумный соблазн ухватить Гермата за эти сапоги и дернуть, чтобы тот еще раз треснулся головой об асфальт. Он готов был рискнуть своей жизнью, чтобы только еще раз повалить этого дьявола во плоти. Но тут он услышал, как Гермат холодно оборвал ругань и дурацкие угрозы загонщиков и злобно сказал:
— Надо было не болтовней заниматься, а сразу пускаться в погоню за этим псом. Тогда он уже был бы у нас в руках. Посвети-ка мне, Юпп. — По всей вероятности, он вынул карту. Ноги загонщиков столпились вокруг его великолепных сапог. — Мы находимся вот здесь, на выезде из Брекдорфа. Там — граница. Значит, если он хочет перебраться через границу, то пойдет по дороге, на которой мы находимся, в обратную сторону. Проклятье, моя голова! Когда мы схватим эту грязную свинью, а мы обязаны его схватить… — Он застонал, затопал ногами и продолжил: — Берг и Штрикман, вы патрулируете между этим местом и Айерсхагеном. Смотрите сюда! А Гроскамп и Штрихнински — между Брикхаймом и Горделеном. Я вернусь в лагерь и пришлю подкрепление, а вы объясните ребятам что к чему, и мы оцепим весь квадрат до границы. Итак, все в курсе. Проклятье, да посмотрите как следует на карту! — Видимо, он опять со стоном схватился за голову, изрыгая страшные ругательства. — Ну, вперед, — сказал он, чуть погодя, — я еще немного побуду здесь. Бютлер, можешь разворачивать машину.
Йозефа охватил ужас, когда рокот двигателя вдруг перешел в рев и машина затряслась. Он почувствовал, как от страха пот, смертный пот выступил из всех пор его тела. Сердце замерло, и, собрав последние, самые последние остатки сил, он ухватился почти онемевшими руками за какие-то рычаги под машиной. Потом задрал ноги и сунул их куда-то между трубой и днищем. И все же ему не удалось уцепиться как следует. Когда машина сдала назад и начала разворачиваться, то подъехала так близко к кювету, что задние колеса соскользнули вниз и руки от толчка разжались. Йозеф повис под машиной — голова беспомощно болталась внизу, ноги зажаты где-то вверху, а колеса все крутились и крутились на одном месте. Подавив крик, рвавшийся изнутри, и почти теряя сознание от слабости, волнения и смертной муки, он опять уцепился, уже покрепче, но не мог остановить потока слез. Горячим фонтаном они брызнули из его глаз, лишив возможности что-либо видеть.
Почти теряя сознание, он почувствовал, как вздрогнула машина, когда Гермат вспрыгнул на подножку. А слезы все текли и текли, словно отчаянное предчувствие гибели прорвало заслон его воли и теперь выплескивалось в ночную тишину.
Он не мог вспомнить, когда высвободил руки и ноги. Словно последний признак миновавшей опасности он ощутил движение колес у самой головы и понял, что лежит на твердом и чистом асфальте, без сил, в разодранной одежде, грязный, голодный и мокрый от слез.
Одиночество оказалось настолько невыносимым, что он уже готов был вернуться в общество своих палачей и вновь испытать безумное напряжение погони.
Темнота сгустилась, беззвучно и тяжко лежал покров ночи на земле. Йозеф сошел с дороги, чтобы приглушить звук шагов, и теперь брел по мягкой пашне в сторону Брекдорфа. Ах, как ему хотелось хотя бы часок посидеть среди людей в каком-нибудь доме! Может, поесть немного, помыться, погреться… Боже мой, увидеть людей! Других людей, не таких, с которыми он провел месяцы за колючей проволокой в лапах палачей. Всего один час, и тогда он смог бы — еще до прибытия подкрепления — обойти патрулей и пробраться к границе до восхода солнца. А там… Там, уж наверное, его ждала бы свобода.
Он шел вдоль дороги, пристально вглядываясь в темноту и напрягая слух, пока наконец не добрался до деревни. Время было позднее: света уже ни в одном окне не видно. Черные контуры домов смутно выделялись на фоне неба очертания деревьев… Он миновал двор, погруженный в глубокую тишину, держась так близко к живой изгороди, что его задевали шипы кустов. Внезапно перед ним вырос высокий и мрачный силуэт церкви — от неожиданности он даже перепугался. Около церкви оказалась прелестная тихая площадь, вокруг которой росли высокие деревья, а рядом — дом, где еще горел свет. Он ступал осторожно и медленно: только бы не разбудить собак. Загонщики набросились бы на него, как волки.
Голова у Йозефа раскалывалась от боли, словно безжалостный палец ковырял его измученный мозг. Лицо у него было в царапинах, весь в грязи, да и промок до костей. А устал так, так устал, что еле волочил ноги. Наконец он прислонился к темной двери и стал нащупывать звонок. В прихожей раздался такой громкий звон, что он вздрогнул; за дверью послышались быстрые легкие шаги. Загорелся свет и выбился наружу из-под двери. Боже мой, что, если он, как назло, попал в дом какого-нибудь партийного бонзы! Но страх уже утратил свою власть над его измученным сознанием, внезапная тошнота, казалось, выворачивала желудок наизнанку. Господи Боже, мне бы сейчас только покоя… Покоя и немного хлеба…
Пошатываясь, он вошел в открытую дверь и еще нашел в себе силы шепнуть темному силуэту:
— Быстро… быстро… закройте дверь.
Ослепленный светом, подавленный своим жалким видом, он стоял, несчастный и грязный, всхлипывая, прижимался к стене и из-под полуприкрытых век глядел на перепуганного священника. До его слуха донеслась музыка, какой-то обрывок затихающей грустной мелодии. Словно вся темная тоска человечества по раю воплотилась в этом крошечном обрывке музыки, сладкой и щемящей, затененной печалью. Это вконец сразило его: он упал как подкошенный.
Когда Йозеф вновь открыл глаза, то сначала увидел только книги. Он не мог отвести взгляда от полок с книгами, чьи разноцветные корешки нежно и мягко поблескивали в матовом свете настольной лампы. За спиной чувствовалось тепло печки. Он сидел в просторном уютном кресле, на мягких подушках, справа от него стоял большой гладкий темный стол из мореного дуба. Мягкий мужской голос спросил: «Как вы себя чувствуете?» — и когда он испуганно обернулся, то увидел худое, бледное лицо священника, склонившегося над ним. Первое, что он уловил, был чудесный аромат хорошего табака и хорошего мыла, слегка разбавленный приятным воздухом без всякого запаха, какой присущ исповедальням. Большие умные серые глаза смотрели на него с холодным любопытством, как бы лишенным интереса. Священник опять спросил: «Ну как вы?» Но Йозеф как сквозь сон глядел на обои, эти великолепные, опрятные, теплые обои цвета яичного желтка. На стенах висели прекрасные гравюры, подобранные с большим вкусом. Комната казалась воплощенной мечтой об уюте и тепле, красоте и надежности жилища. Она была так не похожа на те грязные бараки, в которых они ютились в лагере, что у него невольно опять потекли слезы. Бог ты мой, чего стоит одно это кресло, такое мягкое и уютное, специально созданное для того, чтобы в нем приятно было сидеть! Бледное лицо священника нервно дернулось в сторону письменного стола, на котором лежало несколько открытых книг и были разбросаны какие-то бумаги.
— Ну как? — еще раз спросил священник, но тут же словно устыдился своей настойчивости и вновь помягчел лицом.
Йозеф медленно обернулся к нему:
— Может, у вас найдется что-нибудь поесть? Да и помыться тоже бы не помешало. А потом я уйду. — Йозеф вскочил с кресла и беспомощно опустил руки. — За мной гонятся. Через полчаса я должен исчезнуть. Боже, я как во сне… — Он нетерпеливо сжал кулаки и весь затрясся в ожидании ответа.
Священник вскинул руки, как бы защищаясь, и сказал извиняющимся тоном:
— Моя экономка… Она… — но оборвал себя, сделал знак этой жалкой фигуре следовать за ним и вышел в прихожую. Йозеф поплелся за священником. — Вы из лагеря? — спросил священник, направляясь в кухню.
— Да, — хрипло выдавил Йозеф.
Кухня сверкала ослепительной чистотой; можно было подумать, что в ней никогда ничего не готовили и предназначалась она только для того, чтобы ей любовались. Все блестело в свете лампы со стеклянным абажуром. Ни пылинки и никакой посуды. Все шкафы заперты, а печка — сразу видно — холодная. Священник неуверенно подергал дверцу шкафа.
— Господи Боже, — сказал он, покачав головой, — она всегда уносит ключи с собой.
Йозеф взял кочергу из пустого ящика для угля и, холодно улыбнувшись, проронил:
— Позвольте-ка.
Испуганный и возмущенный священник обернулся, но Йозеф оттолкнул его в сторону, засунул кочергу в щель между дверцами шкафа и сильным рывком взломал замок. Горящими от нетерпения глазами он со вздохом оглядел открывшееся ему великолепие.
Сцепив за спиной нервно подрагивающие руки, священник с отвращением и страхом смотрел, как этот человек, почти не жуя, глотал толстые ломти хлеба с маслом и колбасой. Ему внушало ужас это оборванное, заросшее грязью существо в изгвазданной одежде. Нечесаные грязные волосы и ненасытный голод в больших серых, странно горящих глазах. В тишине было слышно только яростное чавканье, иногда прерываемое странным шмыганьем носом простудившегося человека, у которого нет носового платка. Священник не мог оторвать взгляда от своего гостя, но тот, видимо, забыл о нем.
Казалось, время остановилось и в мире не существует ничего, кроме этой кухни, где он сидит, дрожа от страха, рядом с этим бродягой, а тот все ест и ест…
Йозеф держал буханку хлеба в левой руке, нож в правой и почему-то медлил. Потом швырнул нож на стол, отодвинул в сторону буханку и встал.
— Вы могли бы, по крайней мере, предложить мне чего-нибудь выпить. Или вы привыкли есть всухомятку? — сказал он раздраженно.
Подойдя к раковине, Йозеф взял мыло и начал умываться, громко фыркая. За печкой он нашел и полотенца, завешенные чистой тряпочкой, словно знал этот дом как свои пять пальцев.
— Чистое белье сейчас бы в самый раз. И еще ноги помыть… — пробормотал он сквозь полотенце, энергично и чуть ли не с наслаждением вытирая лицо и голову. Повесив полотенце на место, он хотел было попросить расческу, но тут впервые пристально взглянул в лицо священника. — Бог ты мой! — сказал он тихо и с каким-то детским удивлением. — Уж не сердитесь ли вы на меня?
— Отнюдь, — усмехнулся священник, раздраженно сопя. — Вы самый деликатный человек, какого я встречал в жизни.
Он в выжидательной позе стоял у двери. Йозеф, покачивая головой, прошел мимо него в кабинет и уселся в мягкое кресло.
Священник погасил везде свет, запер двери и торопливо вошел в кабинет, словно боялся оставить этого человека одного. На его лице застыло выражение отчужденности, какое мы иногда наблюдаем у людей, занимающихся благотворительностью по долгу службы.
— Я должен попросить вас еще кое о чем, — сказал Йозеф. Теперь он говорил холодно, почти деловым тоном. — Во-первых, мне нужна расческа, вероятно, вам знакомо ощущение, когда чувствуешь свой туалет незаконченным, если помоешься, но не причешешься. Спасибо. — Он взял из рук священника черную расческу и с удовольствием причесался. — А еще — сигару, если у вас имеется. И простите, глоточек вина. Мне думается, тогда я без труда переберусь через границу. Теперь я чувствую себя таким сильным и ничего не боюсь.
Священник молча протянул ему сигару и коробок спичек.
— Наконец-то я понял, почему эти безмозглые ублюдки в лагере испытывают чувство превосходства над нами. Потому, что мы всегда голодные и грязные.
Он курил, глубоко затягиваясь, и разглядывал то сигару, то собственные ногти, а потом сказал еле слышно: «Простите» — и почистил обломком спички ногти на руках.
— Вот теперь почти хорошо. Почти… — Он пристально посмотрел на священника, и на лице его появилось сочувственное выражение. — Я, право, не знаю, из-за чего вы сердитесь.
Священник вдруг рывком встал, словно под ним занялся огонь, и начал беспокойно ходить по комнате. Лицо его выражало странную смесь страха, печали, возмущения и тревоги.
— В сущности, — продолжил Йозеф, не дождавшись ответа, — я бы мог и обидеться на вас, поскольку вы так и не предложили мне вина. Но вы правы, я и в самом деле деликатный человек.
Священник вдруг остановился перед ним и спросил, запинаясь:
— Вы… Вы уголовник?
Йозеф прищурился и испытующе уставился на священника:
— Разумеется. Я совершил преступление против государства и предполагаю, что вы собираетесь последовать моему примеру. — Он бросил короткий взгляд на листки рукописи, разбросанные по столу. — Если только вы в самом деле защищаете те идеи, какие требует от вас ваша сутана.
— А это уж моя забота. — Священник засмеялся, казалось, он старался обернуть все в шутку.
Йозеф еще раз попросил вина, но священник в ответ только неуверенно улыбнулся. Внезапно Йозеф подскочил к нему и схватил его за верхнюю пуговицу сутаны. Священник побелел от страха.
— Хорошо, — пролепетал он еле слышно, — я дам вам вина…
Но Йозеф в бешенстве швырнул сигару на письменный стол и отпустил пуговицу.
— Ах, — устало отмахнулся он, — если бы вы могли понять, какого вина я у вас прошу. Что толку вам от всех этих сокровищ! — Он широким жестом обвел полки. — Вы извлекли из них ровно столько, сколько полсотни лет назад извлекли ваши собратья из слащавых пандектов[1], которые мы ныне презираем, и вот здесь… — Он глухо стукнул кулаком по книгам и запнулся, увидев, как мучительно исказилось лицо священника, но слова вновь полились из него, точно вода из родника: — Вы сидите в своих уютных гнездышках, словно в ванне, наполненной теплой водой, и слишком трусливы, чтобы выскочить из нее и обтереться. Вы не помните, что вода согласно законам природы остынет и станет холодной. Такой же холодной, как вся наша жизнь. — Его голос утратил обвинительный тон и теперь звучал почти умоляюще. Он отвернулся от перепуганного священника и посмотрел на корешки книг. — Вот она, — сказал он грустно и бросил на стол небольшую брошюру. — Я ведь обещал вам назвать свое преступление. Вот она и есть мое преступление. А теперь — до свидания. — Он глубоко вздохнул, последний раз оглядел комнату, опустился на колени и тихо сказал: — Благословите меня, святой отец, мне предстоит опасный путь.
Священник молитвенно сложил руки, а потом перекрестил воздух над его головой. Когда же, робко улыбаясь, он хотел его задержать, Йозеф прошептал:
— Нет. Простите, но теперь я должен уйти. Моя жизнь в опасности… — И прежде чем выйти из дома, перекрестил в воздухе фигуру в черном.
На улице стало совсем темно, словно ночь стала гуще; деревня поникла под гнетом мрака и походила на молчащее стадо в темном хлеву — оттого казалась вымершей. Когда Йозеф осторожно пробирался по темным переулкам, чтобы выйти в открытое поле, снедавшее его одиночество как бы противилось ему. Так что бой церковных часов за спиной показался ему благим утешением и даже последним приветом. Четыре раза звонко и весело пробили часы на колокольне, а потом еще два раза — басовито и сумрачно, словно Господь ударял молотом по вечности.
В беззвучном мраке эти звуки, казалось, призывали к спокойствию.
Вскоре Йозеф уже мог различать дорогу и преграды на пути — живые изгороди, кусты, канавы. Он шел, повинуясь чутью, угадывая направление шоссе, пересекавшегося с дорогой. Он почти ничего не чувствовал; сердце его было исполнено покоя, того бесконечного покоя страдальцев, на который нет отклика под небосводом, никакого отклика, кроме милости Господа, коя простирается надо всей землей и всегда присутствует там, где люди страдают за веру. Он был так далек, так несказанно далек от всякой ненависти и всякой горечи, что молитвы складывались у него в душе, как тихие чистые язычки святого огня, вспыхивающие в садах веры, надежды и любви, безгрешные и прекрасные, словно цветы.
Йозеф пересек какой-то лесок, осторожно, ощупью пробираясь от ствола к стволу, чтобы не удариться в кромешной тьме. А выйдя из леса на открытое пространство, сразу увидел огни. Справа от него, в призрачной дали, высились освещенные желтоватым светом здания и какие-то сооружения из стальных балок. За ними зияли багровым пламенем разверстые пасти доменных печей, словно порождение преисподней. Боже мой, да ведь это наверняка уже заводы в Годелене! А сразу за ними проходит граница! И до нее осталось меньше получаса. Местность круто спускалась под гору, ее пересекал ряд деревьев, очертания которых он различил в отблесках далекого света. Этот ряд тянулся по темной равнине почти до самого завода. Похоже, вдоль него проходило шоссе. А дальше все было покрыто мраком, очевидно, там начинался большой лес, который простирался, может быть, даже до самой границы…
Не было слышно ни звука, кроме странно глухого, похожего на бормотанье, ритмичного шума доменных печей и рудников.
Местность была совершенно открытой — сплошной луг без единого дерева или куста. Йозеф взял немного левее. Но и там не было никакой возможности незаметно пробраться к шоссе. Он застыл в нерешительности. Все яснее он видел четкую линию деревьев, похожую на бесконечный ряд зубов. Страх вновь овладел им, дерзко и нагло сдергивая с него маску небрежной самоуверенности. Ему мерещилось, будто в ночной тьме во весь рот ухмыляется какая-то страшная рожа. Он бросился со всех ног вперед и тут же больно стукнулся о дерево: уходящая вниз луговина словно тянула его за собой — он не сразу понял, до чего она крутая.
И тут небо раскололось пополам — сноп резкого света внезапно прорезал тьму. Перед ним находилась машина с включенными фарами. Словно от сильного удара Йозеф упал, больно ударившись подбородком, и его лицо впечаталось в жесткую, прохладную и сырую почву, а дрожащий луч фары, как огромный желтый кнут, повис над его телом. Зарывшись лицом в землю, он не слышал криков, обращенных к нему, и тогда прямо перед ним с апокалиптическим хлюпаньем в землю впилась целая россыпь пуль.
Йозеф лежал, словно распятый убийственным светом на этом крутом склоне, — муляжная фигура на учебных стрельбах. И прежде чем пули изрешетили его, он закричал. Он так громко кричал о своем одиночестве, что небо должно было рухнуть. Он еще раз приподнял голову и опять возопил в темноту. Но следующий залп из тявкающей пасти оборвал его крики.
Было совсем тихо, когда палачи сошлись над ним и осветили фонариком то, что осталось от его тела. Да почти ничего и не осталось, и казалось, будто сама земля истекала здесь кровью.
— Да, это он, — сказал равнодушный голос.
Перевод Е. МихелевичПленён в Париже
С великолепным хладнокровием солдата Рейнгард старательно опустошил покрытую следами пуль машину казначея. Последние отступавшие солдаты давно исчезли в пучке улиц, расходившихся веером, а противника было не видно и не слышно. Тихо и безлюдно изнывал от жары развороченный снарядами парк, и словно призрачная декорация зияли фасады домов. Из некоторых окон свесились наружу и как-то тоскливо развевались занавески, и казалось, что из подвалов доносится дыхание перепуганных людей, не решающихся поверить в эту жуткую тишину после оглушительного грохота выдыхающегося наступления. Полукруг площади, чья плоская сторона прилегала к парку, эта середина веера, от которого улицы расходились во все стороны, словно тонкие аристократические пальцы, была усеяна стальными касками, противогазами и обломками винтовок. Сияющее, улыбчивое небо многообещающе высилось над несравненным прекрасным городом, чей блеск и обаяние манили из каждого окна. А между остатками армейского имущества на зеленом, мягком и сочном пространстве газона, изборожденного траншеями, валялись трупы, трупы в серых мундирах… Можно было подумать, что ты угодил как раз в момент передышки некой революции, которая перенесла свой центр в другую часть города и переместила туда все живое. В то время как трупы на газоне прижимались к земле, как бы застыв в вечном плаче, под деревьями аллеи ласковый летний воздух дрожал, словно от поцелуев.
Рейнгард бросил свое оружие и снаряжение возле простреленной машины и теперь рылся в куче картонных коробок. Он обнаружил ценности, которые ни разу в глаза не видел за долгие, долгие годы войны. Сказочные сигары и мыло, один только аромат которого мог бы означать мир. Шоколад и сдобные сухари, дорогое белье. Он мгновенно стащил с себя грязную, пропотевшую рубашку и теперь ощутил блаженство от прикосновения к телу новой шелковой ткани. Потом аккуратно, чтобы вместилось побольше, доверху набил карманы. Копание без помех в столь ценных вещах наполнило его пьянящим ощущением счастья и безумной, чудесной мыслью, что война, эта жестокая и казавшаяся бесконечной война, начала наконец выдыхаться. Что она неотвратимо растекалась в стороны и распадалась на части, словно серая пелена густых облаков, рассеивающаяся под хлесткими ударами золотых солнечных лучей. Война явно шла на убыль; Рейнгарду казалось, что он долго просидел под стальной, герметично закрытой крышкой, которая вдруг открылась, он внезапно вынырнул на свет и, ощутив головокружительное и могучее чувство свободы, дышал, дышал и никак не мог надышаться. Улыбаясь, он закурил роскошную сигару, выпустил голубое облачко дыма в великолепный воздух и подумал о своей жене — ах, ведь он скоро увидит ее, скоро начнется новая жизнь — и, рассмеявшись, швырнул несколько пачек сигарет обратно в машину, чтобы освободить место в карманах еще нескольким кускам этого драгоценного королевского мыла для нее, для своей маленькой, милой возлюбленной. Потом нагнулся и поднял ремень, чтобы затянуть потуже свою разбухшую и колыхающуюся фигуру. Но уже в следующий миг он лежал с колотящимся сердцем, прижавшись лицом к горячему, вонючему асфальту.
Из небольшой рощицы за лужайкой с бешеной скоростью широким фронтом вылетела целая туча маленьких вертких машин с солдатами в мундирах цвета хаки, которые стреляли в белый свет, как в копейку. Машины приближались к полукруглой площади. Последний остаток тишины лопнул, когда окно машины над ним с треском разлетелось вдребезги. Мгновенно охвативший его страх вцепился в него когтями и не давал спокойно оглядеться; его внезапно помутившиеся глаза не видели ничего, кроме беспощадно ровной поверхности площади, откуда было невозможно убежать. Маленькие желтые машины подъехали к аллее, сбились в кучу на площади, словно стая маленьких, вертких, тявкающих псов, и разлетелись по разным улицам. Одна из них проехала совсем рядом с головой Рейнгарда, но он успел принять ту одновременно отталкивающую и обнимающую позу, которую так часто видел у мертвецов. Сытое урчанье ухоженных танковых двигателей приближалось со стороны лужайки, и он осторожно глянул в ту сторону, укрывшись за спущенным скатом. А когда различил приближавшиеся колонны пехоты, понял, что пришло время действовать. Махина войны надвигалась на него, точно безжалостная завеса. А где-то далеко, там, где улицы, словно спасительные ущелья, открывались миру, брезжило маленькое любимое личико его жены.
Рейнгард приподнялся, присел на корточки за разбитой машиной и внезапно понесся к ближайшей улице с какой-то невиданной, невероятной скоростью безумца. Он не заметил, что один из танков в сопровождении подразделения пехотинцев уже был там. Из состояния безумного ужаса, в котором он слепо мчался вперед, его вырвал жуткий свист снаряда, пролетевшего, словно гнусная птица, у него над самой головой и с оглушительным грохотом взорвавшегося, ударившись о фасад какого-то дома. Он бросился ничком на землю и пополз, умирая от страха, дальше, а в это время другие снаряды пролетали над ним, как кулаки обезумевшего от злости великана, бьющие мимо цели. Вихри воздуха над его головой вздымались один за другим, и каждый раз за ними следовали разрывы, порождая гулкое эхо, как в помещении. Эти двенадцать метров до начала улицы были похожи на убийственную вечность между жизнью и смертью. Он вскочил и понесся, понесся сломя голову в глубь улицы, словно в распахнутые объятья жизни.
Развевающиеся занавески, открытые окна и изрешеченные фасады домов следовали за ним как во сне. А секунды были похожи на высоченные волны страха, которые ему приходилось преодолевать. Он оглянулся и увидел ствол желтого чудовища, словно молчаливый и грозный хобот, вывернувшийся из-за угла, и как особую жестокость воспринял немые выкрики солдат, занимавших ближайшие подъезды домов и, видимо, на своем гнусавом языке предлагавших ему сдаться; следующий снаряд пролетел мимо его плеча, так что Рейнгард ощутил холодный ветерок, и ударил в огромную витрину, разлетевшуюся на куски с режущим ухо жутким хохотом. И опять он лежал плашмя на земле, а потом полз, петляя и меняя направление, как затравленный зверь. Под мелодичное пение пуль и отвратительный рык танков он, мокрый от пота, грязный и совершенно обессилевший, добрался наконец до тротуара. Страшное желтое чудовище теперь урчало неподалеку от него, а солдаты перебегали от подъезда к подъезду. Крики, вонь, шум, грохот… И только он хотел навалиться всем телом на какую-то дверь, как из подвального окна напротив сверкнул выстрел, пуля задела его плечо, отскочила от стены дома и улетела с грозным жужжаньем куда-то в бесконечность; и вновь он помчался вверх по улице, в полном отчаянии и почти готовый сдаться, а перед глазами все маячило любимое, любимое личико.
И вдруг справа неожиданно возник какой-то узенький переулок. Рейнгард бросился в него, словно в пропасть. Вскрикнув, он опять увидел ее лицо, только оно стало большим и улыбалось, когда он, ослепнув от бессилия, несмотря на светлое, доброе небо, почти ощупью добрался до ближайшей двери, легко приоткрыл ее, надавив плечом, и сразу, без долгих поисков, словно много лет знал этот дом, нашел щеколду, которой запиралась дверь; потом молча стоял, привалившись спиной к двери, и прислушивался, затаив дыхание. Не прошло и минуты с того момента, как он выскочил из-за разбитой машины, чтобы бежать навстречу любимому лицу, не думая об опасности.
Рейнгард побледнел от немыслимого возбуждения и дрожал всем телом, как от озноба; вдруг он услышал, что танк приближается. Раздались крики из подвалов и хриплые, словно непрожеванные, отклики солдат, и ему казалось, что он слышит даже, как бесшумно ступают их резиновые подошвы, но от страха точно прирос к месту, а снаружи улица начала просыпаться, будто это он, он один, его присутствие здесь зажимало ей рот.
Тихий испуганный возглас, какой невольно вырывается у людей в минуту крайней опасности, нарушил его оцепенение; он в страхе обернулся и увидел в полумраке длинной прихожей молодую, стройную, темноволосую женщину. Вскинув вперед ладони, как бы моля о пощаде, она стояла, хрупкая и нереальная, будто сказочная фея в длинном розовом одеянии.
В расплывчатом полумраке прихожей ее руки, лицо и платье казались плоскими, и только темное облако волос выглядело живым и объемным в сером, словно покрытом паутиной воздухе. Женщина шевельнулась, похоже, она перестала бояться, и медленно подошла поближе, на ее лицо, реальное и молодое, но все еще испуганное, упал свет сквозь матовое стекло двери, и Рейнгард подал ей знак молчать — такой настойчивый и такой отчаянный, что она невольно приглушила шаги, а он, боясь пошевелиться, напряженно прислушивался к звукам, доносившимся снаружи, словно пытался угадать в них свою судьбу.
Рейнгард пристально вглядывался в прелестное лицо молодой женщины и, когда понял по доброму выражению ее глаз, что она вовсе не жаждет его гибели, быстро, словно ища подтверждения этому, обвел лицо взглядом — маленький нежный рот, от страха немного опущенные уголки губ, по-детски округлый лоб, тонко очерченный нос и изящный подбородок — все это уместилось на небольшом светлом пространстве, обрамленном иссиня-черной копной волос. Потом он посмотрел на матовое стекло и прошептал глухо, к ее удивлению, на беглом французском:
— Если хотите мне помочь, достаньте одежду.
Женщина сначала вроде бы не поняла, удивленно поглядела на него, а потом шмыгнула обратно в прихожую. Он стиснул руки, пытаясь справиться с безумным волнением: в соседнюю дверь начали молотить кулаками. Трясущимися пальцами он с трудом вытащил из кармана сигарету и страшно испугался звука чиркнувшей спички, а бесшумность, с какой женщина быстро и тихо шла обратно, воспринял как благодеяние. Даже не поблагодарив, он торопливо схватил охапку вещей, скрылся в полумраке прихожей и начал лихорадочно переодеваться. Мягкую белую шелковую рубашку ему пришлось надеть прямо на голое тело, потому что женщина, очевидно, забыла про белье, — и это оказалось велением судьбы: в дверь уже громко и нетерпеливо колотили прикладами, и он содрогнулся от ужаса, потому что знал, как слабо держится щеколда.
Женщина откликнулась, и, услышав этот нежный и милый, но в то же время удивительно высокомерный голос, он понял, что спасен. Она сказала возмущенно: «Минуточку, сударь, мне надо одеться…» — и повторила то же самое на ломаном английском, на что последовал грубый ворчливый ответ, в котором была слышна скабрезность, сопровождаемая ухмылкой во весь рот… Но Рейнгард уже переоделся, а с новым платьем обрел великолепное ощущение легкости и свободы, от которого закружилась голова. Он ощупью добрался до двери в подвал, швырнул грязный узел вниз по лестнице и в одних носках подбежал к входной двери. Женщина с улыбкой смотрела на него, а он спросил ее шепотом: «Вы вообще-то одна дома?» — и когда она кивнула, спокойно отодвинул щеколду.
Солдат чудовищного роста, но необыкновенно пропорционального сложения, какое бывает у животных, с детским неопределенным лицом, смущенно и в то же время угрожающе спросил на ломаном французском:
— Немецкий солдат… не видела?
Поскольку вопрос был обращен к женщине, она спокойно ответила «нет» и покачала головой, а когда он перевел тяжелый, пристальный взгляд на Рейнгарда, будто схватил его здоровенной ручищей за плечо, добавила: «Это мой муж, он…» — но слово «немой» Рейнгард не дал ей произнести, горделиво приподняв волосы надо лбом и показав широкий красноватый шрам, пересекавший наискосок лоб и висок:
— Я ранен, приятель. Там, на Ла-Манше… возле… — и полез в карман пиджака, делая вид, что собирается достать документы. Потом добавил: — Легионер.
Но очевидно, благодаря его безукоризненному французскому великан ему поверил, если вообще сомневался, приложил пальцы к фуражке, улыбаясь, откланиваясь и извиняясь, и в его движениях была видна несравненная звериная грация, когда он повернулся и протиснул свои плечи в дверной проем.
— Он не европеец, — тихонько произнесла женщина.
И они остались одни.
После того как страх и сочувствие — движущие силы этого маленького спектакля — миновали, ими овладело смущение. Рейнгард вытер покрытый испариной лоб и принялся судорожно докуривать еще тлевшую сигарету. Ему по-прежнему казалось, что все происходящее — наполовину сон, ибо на него навалилась вечность, сжавшаяся до минут. Растерянно улыбнувшись, он грустно спросил: «Что же теперь будет?» Ведь не прошло и пяти минут с тех пор, как он, мечтая о конце войны, стоял подле разбитой машины. А теперь, беспомощный и жалкий, он стоял в этой полутемной прохладной прихожей подле незнакомой женщины, пораженный ее изысканной красотой и несчастный, глубоко-глубоко несчастный…
Лицо женщины выражало холодность и неудовольствие, словно она только сейчас поняла, что натворила от волнения. Видимо, она размышляла об этом, в то время как жуткая тишина в доме, казавшаяся еще более жуткой по сравнению с шумом на улице, стояла между ними, непривычная и давящая.
Наконец, смирившись, она вернула на место щеколду и прошла в глубь прихожей, проронив холодно:
— Входите.
Открывая дверь в конце прихожей, она держалась почти деловито, будто приглашала посетителя в приемную врача или адвоката. Он понуро поплелся вслед за ней, словно осужденный.
Запах полутемной комнаты, обставленной со вкусом, но тесноватой, показался ему приятным и даже благосклонным, как будто выражал сущность этой женщины. Рейнгард с ужасом почувствовал, что его все сильнее и сильнее пленяет ее красота, словно муки и беды неумолимо толкают его к краю пропасти. Он тихонько прикрыл за собою дверь. Женщина сидела в кресле, уперевшись ладонями в сиденье, он подошел к серванту и неловко прислонился к нему.
— Садитесь же, — сказала она слегка раздраженно.
Он послушно сел, отметив про себя, как великолепно подошли ему эти брюки. Смешно, подумал он. Женщина подняла голову и повернула к нему матовый овал лица. Ее огромные, словно затуманенные, глаза были печальны, и она проронила тихо, без всякого недовольства, будто самой себе:
— Знаете, о чем я только что подумала, — что, может быть, именно вы убьете моего мужа там, на фронте.
Рейнгард устало покачал головой:
— На этой войне, мадам, я больше никого не убью.
— Вы в этом уверены? — спросила она тихо, почти умоляюще. — Разве вам ведомо, что может сделать с вами судьба? А вдруг случится так, что ваша жизнь будет поставлена на карту и стрелять все же придется? Разве мишенью не может оказаться мой муж? Ведь вы хотите вернуться в Германию?
Рейнгард залился краской:
— Я хочу вернуться к своей жене.
Женщина мельком глянула на его обручальное кольцо:
— Но война еще отнюдь не кончилась и… разве можно верить немцу? — Она испытующе посмотрела на него, словно хотела проникнуть в его душу. — Мне следовало бы выдать вас, — продолжала она тем же тоном, — вероятно, это даже не стоило бы вам жизни. Но если Робер не вернется с войны, я буду до конца дней думать, что я — его убийца. — Она вдруг улыбнулась светло и задушевно. — Я люблю Робера больше жизни.
Рейнгард почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. Желание обладать этой женщиной захлестнуло его с такой ужасающей силой, что противостоять ему казалось невозможным. Почти незаметно, словно тайная грусть, это желание вползло в его душу, и ему померещилось, будто перед ним улыбающееся, красивое лицо его жены, милосердное и любящее… Ах, как он был несчастен, несчастен и растерян! В плену бесконечных препятствий.
— Приказывайте, мадам, что мне делать, — сказал он хрипло. — Можете, если хотите, взять меня в плен и держать в подвале, как зверя. Или велите мне немедленно покинуть ваш дом и смешаться с толпой.
Он встал. Ах, больше всего он хотел бы бежать отсюда. Но в ту же секунду на улице поднялся страшный шум, будто налетел смерч, вонзающийся в небо. Послышались крики. Захлопали двери и окна. Женщина распахнула дверь соседней комнаты, подбежала к окну и, часто дыша, выглянула из-за занавески. Фигуры в мундирах цвета хаки промчались мимо дома, и вдруг, словно невидимая ужасная метла, очередь из немецкого пулемета подмела всю улицу. Дьявольски быстрая череда выстрелов воплощением гибели прокатилась вниз. Казалось, жители вновь покинули свои дома, пустые и объятые страхом зияли окна фасадов.
Дрожа от волнения, Рейнгард покачал головой.
— Да они и впрямь обезумели, — пробормотал он по-немецки, не обращая внимания на женщину, недоверчиво прислушивавшуюся к его словам.
Страх пробрал его до костей, когда из-за угла показалась серая, грязная и пропыленная фигура — ему была знакома эта циничная физиономия ландскнехта. То был Гроте, под мышкой у него торчал изящный черный пулемет, словно маленький опасный зверек. Гроте, этот сорвиголова, который вечно разрывался между желанием дать деру с фронта и шансом нацепить самые почетные ордена. И каким же ничтожным и невыразительным было его лицо! Сердце Рейнгарда забилось гулко и часто, он вмиг забыл обо всем. Он уже не ощущал на своем теле легкой и мягкой ткани штатской одежды с чужого плеча. Вся тяжкая судьба этой армии вновь обрушилась на него. И, не взглянув на женщину, он медленно-медленно поплелся в прихожую. Глухие удары в дверь заставили его отбросить мрачные мысли, он подбежал к входной двери и, распахнув ее, втащил в прихожую бесчувственное тело в желтоватом мундире — за какой-то миг до того, как новая группа серых солдат выбежала из-за угла. И вновь безумная дробь прокатилась по узкой улочке…
Рейнгард склонился над обмякшим телом, но женщина, выбежавшая вслед за ним в прихожую, крепко схватила его за плечо и громко воскликнула:
— Немец его убьет!
Рейнгард взглянул на нее, и в его несчастных глазах было столько же безмерного удивления, сколько и невыносимой тоски. Глядя на ее взволнованное нежное лицо, он тихонько сказал, словно не веря собственным словам:
— Вы меня в самом деле считаете последним подлецом, мадам?
Он, неторопливо расстегнув пуговицы мундира, снял портупею, подхватил тяжелое тело под мышки и втащил его в комнату. Женщина медленно последовала за ним, беспомощно опустив руки.
Чувствуя за спиной ее молчаливое присутствие, приятное и в то же время гнетущее, словно она неумолимо и мягко подталкивала его все ближе и ближе к краю пропасти, он осторожно ощупал незнакомца. Бледное, почти желтоватое детское лицо, искаженное страхом и застывшее от изнеможения, маленькие пухлые руки и трогательный чуб темных густых волос. Никакой раны на теле он не обнаружил, сердце билось слабо, но ровно. Вероятно, мальчик и вправду просто заснул. Рейнгард медленно обернулся. Взгляд его скользнул по юному, раскрасневшемуся и совершенно преобразившемуся лицу хозяйки дома, чье милое смущение тронуло его с необычайной силой, и Рейнгард сказал: «Он не ранен». Но женщина только пробормотала: «Извините», и он, не удержавшись, взглянул на нее еще раз. Вся ее отчужденность и холодность исчезли, теперь она была ему так близка и знакома и так невыразимо прекрасна, что он даже испугался; с веселой решительностью он схватил протянутую ему руку и крепко пожал, чтобы не чувствовать бешеных толчков крови — его собственной, но сейчас такой чужой крови, а потом сказал:
— Мне не за что вас извинять, мадам.
Оба они восприняли этого юного, несчастного, незнакомого солдатика как дар небес. Бог знает, что между ними произошло бы, если бы они остались одни. С улицы в наступившей тишине слышался топот сапог, а стрекот пулемета звучал уже где-то вдали, видимо, у входа в парк, там, где стояла разбитая машина. Женщина принесла тазик с водой, и Рейнгард ополоснул мальчику лицо, уложил его поудобнее и еще раз послушал слабое биение его сердца. Теперь они оба могли смело смотреть друг на друга, не боясь и не краснея. На их лицах было что-то вроде радостного самоотречения — они поняли, что им придется в самой глубине души вести жаркую борьбу друг за друга и против себя самих за свою супружескую верность.
И вновь где-то там, у парка, застрекотал пулемет — звук был такой, словно что-то злобное катилось по тысяче маленьких острых зубцов. Рейнгард резко вскочил, будто вся эта очередь впилась прямо ему в сердце. Какая-то неуловимая нить связывала его с этими беднягами в серых мундирах, там, на улице, и он всем своим существом почувствовал, что ему необходимо быстро и решительно отрезать себя от них, как от призрачной пуповины.
Он выпрямился, отложил в сторону мокрую тряпку и сказал:
— Мне кажется, пора уничтожить мой мундир. Я оставлю вас ненадолго.
Она ответила ему удивленно, даже немного испуганно:
— А если нем… если ваши земляки вас схватят?
Рейнгард повернулся к двери:
— Я сбежал не от американцев и не от немцев, мадам, а от войны. Впрочем, я полагаю, что сегодня вечером американцы возьмут город.
Было неприятно и даже жутко вынимать содержимое из карманов жалких тряпок, на которых болтались полуоторванные ордена, и увязывать их в узел. У него было такое чувство, будто он совершает подлое ограбление трупа, и он торопился поскорее закончить это занятие, хотя и необходимое, но тем не менее противное, как будто хоронил им же убитого человека. Рейнгард спрятал узел с мундиром в ящике для мусора, стоявшем в подвале, и быстро поднялся наверх; ему казалось, что теперь придется долго-долго отмывать руки и они уже никогда-никогда больше не будут чистыми. А война с ее жестокостью сейчас представлялась ему куда страшнее, чем раньше…
Его пронзило нечто похожее на ревность, когда он увидел хозяйку дома, сидевшую в гостиной подле незнакомца в облаке дыма ароматных сигарет, но в ту же секунду ему стало стыдно своей глупости. Она накинула синий жакет поверх легкого розового летнего платья, и у него мелькнула мысль, не придется ли ему связать себе руки, чтобы не заключить ее в объятья. Рейнгард сдержанно поздоровался с очнувшимся юным незнакомцем, который встретил его удивительно детским и одновременно наглым взглядом — вежливым, но с некой победительной снисходительностью военного по отношению к штатскому, прячущемуся в чужом доме.
— Мерси, — неловко поблагодарил он Рейнгарда и с улыбкой протянул ему пачку сигарет, а потом, обернувшись к женщине, пробормотал неразборчивую фразу, в которой можно было расслышать только слова «безумные… немцы… проклятые… звери», и вдруг спросил у Рейнгарда на ломаном французском: — За что они продолжают воевать, эти немцы? — и небрежно кивнул в сторону улицы, где пулемет вновь поднял свой хриплый, угрожающий лай.
Рейнгард растерянно поглядел на них, но женщина успокоила его легким кивком головы, и этот безмолвный, легкий намек на союз между ними так взволновал его, что кровь вновь закипела у него в жилах. Внезапно дом содрогнулся от мощного взрыва. Несколько снарядов один за другим разорвались где-то неподалеку. Женщина вскочила, побелев как полотно, и дрожа прислонилась к стене.
Рейнгард подошел к ней, взял за руку и спокойно сказал:
— Не бойтесь, мадам. Это артиллерия. Поверьте мне, вы можете быть совершенно спокойны.
Он испытующе взглянул в лицо незнакомца, но тот, быстро справившись с первым испугом, сиял победительной улыбкой и восклицал:
— Это ведь наши! Наши!
Опять несколько снарядов с жутким грохотом разорвались между домами, потом послышалось глухое урчание приближающихся танков и резкие хлопки их пушек, похожие на звук лопнувшего шара, за которыми следовали раскаты взрывов. Канонада длилась лишь несколько минут, и, спрятавшись за занавеской, они увидели, как вниз по улице побежали серые фигурки немецких солдат. Глядя на них, было ясно, что им уже на все наплевать.
И вновь танки выползли из-за угла и двинулись вверх по улице, а юный незнакомец с бледным детским лицом улыбаясь положил на стол плитку шоколада, крепко пожал им руки и вышел из дома. И опять, опять тишина дома свалилась на них, вновь оставшихся наедине друг с другом.
Рейнгард пошел к входной двери, которую юноша оставил открытой, и, прежде чем ее закрыть, на миг высунул голову и ощутил в прохладном воздухе смесь терпких запахов вечера и нежных ароматов лета, окутавшую прекрасный, несравненный город. Вероятно, он был бесконечно и непростительно виноват, виноват в том, что не ушел из этого дома, а медленно, с трудом передвигая отяжелевшие ноги, вернулся в сгустившийся сумрак прихожей.
Хозяйка дома стояла у открытого окна, скрестив руки на груди, и смотрела в сторону садов. А на улице вновь звучал разноголосый шум толпы, радостно взволнованной и даже скрипуче-визгливой. Все это напоминало какой-то театр абсурда. Казалось, эта смена настроений будет продолжаться до бесконечности.
Женщина все стояла в нише окна, словно пытаясь спрятаться от самой себя; она не оглянулась, когда Рейнгард вошел в комнату, и продолжала пристально смотреть на вечернее небо, чей ласковый голубой шатер с легкой примесью лилового и розово-красного раскинулся над великолепным угасавшим летним днем, за который так много людей погибло в жестоких объятиях войны. Ее слегка знобило, хотя воздух все еще был теплым и ласковым. Она повела плечами и доверху застегнула синий тонкий шерстяной жакет; ее бледное лицо с маленьким розовым пятном рта казалось помертвелым. Комната погрузилась во мрак, хотя на улице было еще довольно светло. Как приветлив и прекрасен был Париж, этот несравненный город, в котором теперь слышался хриплый лай войны. Рейнгард глядел на женщину как зачарованный. Еще полсекунды, думал он, посмотрю на нее, только посмотрю, и все. А потом уйду, быстро и без единого слова, и буду бежать и бежать, пока близость моей любимой не погасит во мне этот страшный, испепеляющий жар…
Но женщина вдруг резко повернулась, словно очнувшись, и тихо сказала:
— Как только стемнеет, вы должны уйти через эти сады. Когда вы входили в дом, вас видели тысячи глаз, и вас обязательно узнают. Покамест они думают, что вы давно ушли, дом-то ведь обыскали.
Рейнгард нерешительно возразил:
— Но тогда мне придется пробыть здесь несколько часов.
Он почувствовал, как в нем проснулся страх перед самим собой и вместе с ним бредовые желания и благоразумие. Но тут же пришел в восторг от ее радостной улыбки, с которой она обронила:
— Разве так уж страшно побыть до начала темноты моим пленником? — И, горько улыбнувшись, добавила: — Однако погодите…
Она прошла мимо него, и он услышал, как хлопнула входная дверь.
Рейнгард облегченно вздохнул. Ах, неужели он так слаб и глуп, что не смог бы провести два часа у этой прекрасной женщины, не впав в страшный грех супружеской неверности? Разве он не пронес любимый образ в целости и сохранности сквозь все опасности и соблазны, сквозь все бесчисленные страдания этой войны, чтобы теперь невольно предать его? Он был сбит с толку темным и притягательным чувством всеобщей гибели, овладевшим этим городом и затаившимся в полумраке этого дома. Пожалуй, будет и в самом деле глупо, если он поставит на карту необычайную удачу своего бегства ради глупой слабости.
Рейнгард с улыбкой закурил одну из сигарет, оставленных американцем, и включил лампу. Но теплый, яркий поток света не смог прогнать ни сумрака, ни сладкого запаха затерянности. А он, этот сладкий запах, витал в воздухе над мебелью, над полом и даже над красноватым абажуром. Это он подчинил Рейнгарда своей власти. Жуткий и манящий, он пробрался в комнату, и светлый лик прекрасного города как бы растаял в его безумных ласках. Смутный и соблазнительный, словно затуманенный мыслью о гибели…
Гул боя в городе постепенно удалялся. Иногда он умолкал на какое-то время, чтобы вновь зазвучать в отдалении, похожий на глухие вздохи труб. По этим звукам можно было представить себе ход сражения: удары становились все басовитее и раскатистее и сопротивление серых солдат шло на убыль. А на улицах исчезла завеса — там набирал силу шум живой жизни.
Вечер медленно, но неуклонно прикрывал своими сиреневыми тенями последние светлые блики дня. Казалось, он опускается на город так мягко и нежно, так доверчиво и приветливо, словно был всего лишь чуть более темным близнецом радостного дня; он как бы улыбался этому огромному прекрасному городу и с радостью опускал на него свой просторный темно-синий плащ, ибо был не в силах на него сердиться. Все это было похоже на тихое, любовное и невыразимо нежное объятие, которое не таится и не считается с бедными душами тех, кто горюя стоит в стороне, и плачет, и льет слезы в тоске…
Рейнгард опять выключил свет. На какой-то миг ему показалось, что вечер полностью вступил в свои права, но последние отблески света проникли через открытое окно в сгустившийся полумрак комнаты. Окно как бы играло благую роль световой шахты в застенке. Рейнгарду почудилось, будто нежные красноватые лучи сливаются воедино с теми горьковатыми и сладкими вечерними запахами, что пляшут под нежно-зелеными деревьями бульваров. Запахи набросились на молодого человека, тяжело дышавшего за занавеской, и поразили его в самое сердце, как поражают в самое сердце ласки красивой женщины, которая играет в любовь, но не отдается. Он застонал так, будто истекал кровью, и ощутил весь ужас своего положения, свое полное одиночество в этом чужом, враждебном городе, как сплошную зияющую рану, на которую чья-то незримая рука сыплет соль. Он рванулся, словно был прикован к этой пустой игре, прошел сквозь полумрак к двери, распахнул ее и побежал к выходу. Но потом вдруг остановился как вкопанный, ибо почувствовал, что сама судьба идет ему навстречу. Входная дверь открылась, и послышались легкие шаги женщины. Он ничего, совсем ничего не видел в сгустившемся мраке прихожей. Но ни разу, ни разу за многие тысячи секунд этого длинного дня он не видел ее так ясно, как сейчас. Он видел ее целиком. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. И пока легкие шаги приближались к нему, Рейнгард, закрыв глаза, распластался по стене, будто прижатый к ней невидимой силой. Все его тело вздымалось от боли, и он протянул дрожащие руки, словно пытался поймать кружащую вокруг него птицу, и при первом же легком прикосновении почувствовал, что и она уже не может убежать. И когда ее слезы обожгли его щеки, он больше всего на свете хотел, чтобы вся темнота ночи обрушилась на них и погребла их под своими развалинами.
Проснувшись, они были так холодны друг к другу, словно их разделяла ледяная река. Холодны и чужды, и то, что они лежали в одной постели, казалось дурным сном, а молочный свет месяца насмешливо лился в комнату сквозь открытое окно. Женщина испуганно отвернула лицо, и вместе с лицом, укрывшимся за темной завесой ее волос, от него отвернулась ее душа, загадочная и непонятная. Рейнгард встал и нехотя пригладил волосы. Его знобило. Угрожающе и тревожно ворвалась жуткая тишина в благоухающую и как бы до краев заполненную их смятением комнату, будто порожденные отчаянием ласки отравили воздух дыханием греха.
Он медленно надел ботинки, стоявшие подле шкафа, точно ожидая хозяина. Его пробирала дрожь, и дикий, безумный страх мешал ему обернуться; никогда, никогда еще он не чувствовал себя таким жалким, как в этот холодный ночной час, который словно насмехался над нежностью дня и вечера. В час, когда он в чужом, бесконечно чужом городе, грозившем ему тысячью опасностей, крался из спальни красивой женщины, рыдания которой говорили о том же одиночестве, какое — только без слез и надежды — ощущало его несчастное сердце. Нет-нет, больше он ни за что не обернется. Медленно и осторожно, как бы боясь спугнуть тишину, он подошел к окну; но, когда уже собрался перемахнуть через низкий подоконник, тихий шорох шагов босых ног заставил его замереть. Кровь его застыла в жилах, и, дрожа всем телом, словно ему предстояло взглянуть в лицо самой смерти, он быстро повернул голову. Удивительно, что это милое лицо с маленьким розовым бутоном улыбающегося рта показалось ему прекраснее и привлекательнее, чем прежде, и почему-то заставило его улыбнуться в ответ радостно и свободно, словно своему отражению в зеркале. А ведь в нем уже не осталось ничего, абсолютно ничего, что могло бы зажечь эту женщину. Просто ее глаза помогли ему сбросить с себя всю тяжесть содеянного.
Она протянула ему своей маленькой тонкой рукой небольшую пачку документов, которую он, не глядя, сунул в карман, а потом схватил эту руку и решительно пожал ее.
— Может быть, они тебе помогут, — сказала она негромко, — и не терзайся так. Те трое, кто нас любит — Господь, твоя жена и мой муж, — вероятно, простят нас.
Женщина запечатлела на его лбу быстрый и легкий поцелуй, а он выскочил в окно и зашагал навстречу холодной физиономии месяца.
Перевод Е. МихелевичБешеный Пес
Вахмистр распахнул дверь и сказал:
— Взгляните-ка на него. Может быть, он уже того?
Сигарету вахмистр так и не вынул изо рта. Я подошел к неподвижному телу, лежавшему на нарах. Какой-то человек быстро поднялся с табурета и поздоровался со мной:
— Добрый вечер.
Я узнал местного священника и кивнул ему.
Священник подошел к нарам. Я раздраженно обернулся к полицейскому и бросил через плечо, глядя на его сигарету:
— Может, сделаете поярче свет. Я ничего не вижу.
Тот вскочил на табурет и подвязал лампу бечевкой так, чтобы свет падал прямо на застывшее тело. Увидев труп при ярком свете, я невольно отшатнулся. Много я повидал мертвых, очень много, но всякий раз меня охватывает острое сознание того, что передо мной — человек. Человек, который жил, страдал и любил…
Ведь я сразу понял, что он был мертв. И вовсе не по внешним признакам. Я это и чувствовал, и знал наверняка, но меня пригласили сюда, чтобы я официально подтвердил: человек этот мертв. Поэтому я судорожно принялся за работу. Закон обязывал меня произвести те привычные действия, которыми наука прикасается к тайнам смерти.
Вид у лежавшего на нарах был ужасный… Его рыжеватые волосы были покрыты густым слоем крови и грязи, прямо-таки склеены ими. Я сразу отметил несколько тупых и резаных ран. Поперек лица шел ужасный рубец с рваными краями, как от железной терки. Рот перекошен, тонкий бледный нос сплющен. Руки, и после смерти судорожно сжатые в кулаки, вытянуты вдоль тела. Одежда тоже выпачкана в грязи и крови. Я представил себе, с какой дьявольской яростью его избивали, топтали ногами и резали; он был убит прямо-таки со зверским сладострастием. Я решительно взялся за его мундир и расстегнул уцелевшие пуговицы. Странно: кожа у него была белая и нежная, как у ребенка. Кровь и грязь сюда не добрались.
Полицейский неожиданно наклонился ко мне, так что я ощутил его тяжелое дыхание, и, глядя на мертвеца, спросил равнодушно:
— Кранты, верно?
Я на несколько секунд остановил взгляд на его лице и почувствовал, что дрожу от бешенства и испытываю к нему настоящую ненависть.
Полицейский, видимо, понял меня. Неожиданно смутившись, он вынул изо рта сигарету, от которой исходила сладковатая вонь. Потом неслышно выскользнул за дверь, однако на пороге обернулся и сказал:
— Не забудьте сообщить мне ваше заключение, господин доктор.
Я сразу почувствовал себя так, словно мне развязали руки, и приступил к осмотру. Какое безумие прикладывать стетоскоп к этой груди! И щупать пульс! И вообще заниматься всем этим никчемным очковтирательством над несчастным, искромсанным трупом; однако смерть не могла наступить от ран на голове. Как же мне быть — написать то, что видно с первого взгляда, как с легкостью делают нынче все медики: нарушение кровообращения, переутомление, истощение? Не знаю, засмеялся ли я. Но ведь я и впрямь не мог обнаружить ничего, кроме этих ран на голове, которые, вероятно, причинили ему ужасную боль, но не могли привести к смерти, ибо едва задели оболочку головного мозга. Их наверняка нанесли с дикой яростью.
Даже в таком ужасающем виде его необычайно худое и бледное лицо напоминало лезвие ножа. Очевидно, он был наглым и жестоким парнем, подумал я. Медленно застегнув пуговицы мундира, я невольно откинул с его лба слипшиеся пряди волос, вымазанных в грязи и крови. И вдруг мне показалось, будто он улыбнулся — презрительно и насмешливо. Я взглянул на бледного и молчаливого священника, стоявшего рядом со мной, — невозмутимого человека, с которым был давно знаком.
— Это убийство? — тихо спросил я.
Он молча кивнул и ответил почти шепотом:
— Убийство убийцы.
Я вздрогнул и еще раз вгляделся в это острое, как нож, бледное лицо, которое даже после таких страшных истязаний все еще улыбалось холодно и надменно. Ужас перехватил мне горло. Все это было так страшно — этот труп в пятне резкого света равнодушной лампы, в то время как комната была погружена во мрак. Эти голые нары… Несколько старых табуреток… Стены с обвалившейся штукатуркой… И это тело в разодранном сером мундире…
Я посмотрел на священника почти умоляюще. Голова у меня шла кругом от усталости, страха и отвращения. Сигарета полицейского буквально доконала меня. Всю вторую половину дня я мотался на пустой желудок по трущобам, беспомощный и бессильный, словно на посмешище отданный во власть обстоятельствам. И хотя я много чего насмотрелся на своей работе, все же убитый убийца даже в этом городе был редкостью.
— Убийца? — переспросил я рассеянно.
Священник пододвинул мне свой табурет:
— Присядьте, пожалуйста! — И после того, как я выполнил его просьбу, спросил, опершись о нары: — Вы что, не знаете его? В самом деле не знаете?
Он так посмотрел на меня, будто усомнился в моем разуме.
— Нет, — устало ответил я, — я не знаю его.
Священник покачал головой:
— Раз уж вы столько разъезжаете по городу, то я решил, что вы, безусловно, должны были слышать о Бешеном Псе.
Я в ужасе вскочил. Боже мой!
— Бешеный Пес… этот человек… о, это лицо!
Я стоял рядом со священником, и мы пристально глядели на этот искромсанный бледный труп.
— Он успел принять Святое причастие? — спросил я очень тихо. Ответа пришлось ждать долго; священник вроде бы не услышал вопроса, а мне не хотелось его повторять. Молчание угнетало нас обоих, но потом — мне показалось, что прошли долгие минуты, — священник все же ответил:
— Нет, хотя мог бы. Я провел с ним почти час. Он был необычайно возбужден и бодр, прежде чем, — он бросил на меня быстрый взгляд, — угаснуть…
Священник робко протянул к трупу руки, будто желая его приласкать. Его худое, жалкое, детское лицо словно окаменело от волнения — не могу назвать это иначе. Жестом отчаяния он откинул назад свои светлые волосы и взволнованно сказал:
— Можете считать меня сумасшедшим, но, пока его не унесут, мне хочется еще немного побыть с ним. Не хочу оставлять его одного; единственный человек по-настоящему любил его в этой жизни, и тот его предал; смейтесь надо мной, если хотите, но я… Разве вина не лежит на всех нас? И если я еще немного побуду с ним, может быть…
Он смотрел на меня с каким-то испуганным упрямством. Глаза у него были голубые, и темные круги от голода вокруг них казались чуть ли не шрамами.
Боже мой, я вовсе не собирался считать его сумасшедшим, а тем более смеяться над ним!
— Я останусь с вами, — сказал я.
Мы помолчали немного — столько, сколько нужно, чтобы произнести про себя «Отче наш» и «Аве, Мария». Наше молчание нарушил громкий раскатистый хохот из караулки. Женские голоса. Визг. Я медленно подошел к двери, вернул лампу на место, и вся комната погрузилась в ровный серый полумрак. Ужасный мертвец теперь казался почти живым. Нет ничего более безжалостного, чем этот свет, свет голой электрической лампочки, который так подходит к их сигаретам, к их мертвым лицам и к их переутомленной похоти. О, как я ненавижу этот электрический свет!
Хохот в караулке то усиливался, то затихал.
Священник вдруг вздрогнул, словно его пронзил какой-то страх. Словно его ухватило цепкими пальцами какое-то ужасное воспоминание.
— Присядьте, доктор, — сказал он тихо, — я хочу вам кое-что о нем рассказать.
Я послушно сел на табурет, а священник как-то боком прислонился к нарам. Мы повернулись спиной к покойнику.
— Странное совпадение, — начал священник, — он родился в тот же год, что и я, в 1918-м. Ведь он мне все рассказал. Я не очень-то понимал, мне ли он рассказывал или самому себе. Либо кому-то еще, кого здесь не было. Он смотрел в потолок и говорил, говорил, словно в жару, а может, у него и в самом деле был жар. Видите ли, он вообще не знал своих родителей. И обычной школы тоже. Жизнь бросала его как щепку то туда, то сюда. Первым воспоминанием у него был приход полицейских, арестовавших человека, которого он считал своим отцом, грубого и трусливого малого, наполовину бродягу, наполовину вора и чернорабочего. Жили они в какой-то густонаселенной и многоквартирной трущобе здесь, в пригороде, в пору между войной и инфляцией.
Представьте себе грязную комнатушку, где живет бедная, забитая женщина с вечно пьяным, ленивым и трусливым мужланом. Так прошло его детство. Вам знакомы такие обстоятельства, доктор? После того как его мнимый отец на многие годы переселился в тюрьму, жизнь мальчика стала поспокойнее. Его тетка — позднее он узнал, что эта вечно раздраженная, злобная баба приходилась ему теткой, — стала работать на фабрике. Полиция позаботилась о том, чтобы он пошел в школу. А там… там обратили внимание на его необычайные способности. Можете себе представить, доктор, — тут священник взглянул на меня, — как этот острый ум словно резал все пополам в душной классной комнате? Он быстро стал лучшим учеником.
Но что значит лучшим, когда он просто намного превосходил остальных. А честолюбие у него было. Учителя единодушно признали, что его место в гимназии. Священник тоже был в этом заинтересован. Но эта баба, его тетка, противилась переходу в гимназию с каким-то диким бешенством. Похоже было, что она готова его убить. Она делала все, чтобы удержать его в грубой и жестокой обстановке, в которой жила сама. Видите ли, она создавала всяческие трудности, кичилась своими правами воспитательницы. Мучила его, как только он появлялся дома. Не хотела, ни за что не хотела, чтобы он поднялся выше. Однако была не в силах противостоять усилиям учителей и священника. И он получил бесплатное место в одном из интернатов, куда был принят на постоянной основе, и вскоре превзошел все надежды, которые на него возлагали. Трудностей для него не существовало, он осваивал латынь и греческий с такой же легкостью, как математику и немецкий. И еще он был набожным, причем вовсе не принадлежал к тому смиренному типу, что приемлет все подряд и тихо сидит и зубрит.
Он был оригинальным пареньком, остроумным. А его знания по Закону Божьему почти граничили с теологией. Короче, он и в самом деле был звездой своего учебного заведения. И всегда, всегда вспоминал о той среде, из которой вышел, с отвращением и ужасом, а вовсе не с состраданием. Он содрогался при мысли о ней. Даже на каникулы он оставался в интернате, помогал в библиотеке, в администрации. Не было сомнений, что он вступит в орден своих благодетелей. Но он был властолюбив и высокомерен, самомнение его было непробиваемо. «Думаю, подсознательно я всегда их всех презирал», — сказал он мне. Скрипя зубами от злости, он терпел взыскания за свое высокомерие, но наказывали его редко: как-никак он считался светочем. Он был выше всех, и на некоторые его поступки смотрели сквозь пальцы. И только когда он заходил слишком далеко в травле кого-нибудь из одноклассников или чересчур часто пренебрегал обычными правилами послушания, его все же наказывали.
Однако чем старше он становился, тем больше манили его мирская жизнь, богатство, слава. И еще власть, о власти он думал с бьющимся сердцем. И в душе уже в шестнадцать лет отказался от плана остаться в ордене. Но внешне никак этого не выказывал, потому что хотел сдать выпускной экзамен в интернате. В сумятице чувств, порожденной этим решением, испарилось все искреннее, что было в его набожности. Понимаете, мирская жизнь манила его с такой силой. Весь тогдашний призрачный политический расцвет… Все это публичное словоизвержение из пустоты… Эта чудовищная жизнь живых трупов… Все это привлекало его. С одной стороны, он не хотел упускать возможность завершить среднее образование. А с другой — нищета, старая, страшная нищета его детства не забывалась. Нет, он не лицемерил напрямую, но стал расчетлив. И эта расчетливость отравляла его душу почти незаметно в течение многих лет. Он уже почти окончательно утратил человечность; во всяком случае, потерял остатки веры, которые еще были у него.
Когда он получил аттестат зрелости и спокойно сообщил отцам наставникам о своем решении, естественно, возникла весьма неприятная ситуация, из которой он нагло вышел, даже не оглянувшись. Он попросту сжег за собой мосты. Аттестат зрелости был у него в кармане, а его бесплатное обучение ни единым пунктом не требовало, чтобы он впоследствии вступил в орден. Он порвал все связи с интернатом и пошел в мир, имея за душой лишь отличный аттестат и безумное честолюбие. Ни одного приличного костюма у него не было, ни гроша в кармане, ничего…
Но тут один из одноклассников, некий Бекер, неожиданно выручил его. Сын богатых родителей, изучавший теологию, поддержал его деньгами, часть которых выпросил у родителей, а часть сэкономил на карманных расходах. Ну, теперь уж Герольд… впрочем, знаете ли вы, что его звали Теодор Герольд? — Священник вопросительно взглянул на меня.
Откуда мне было это знать? Я молча покачал головой.
Шум, доносившийся из караулки, все еще заглушал наши голоса. Эти крики. Этот пустой галдеж, на который способны люди, добровольно согласившиеся на заточение в рамках военной дисциплины. Священник замолчал, а когда вновь заговорил, казалось, что слова душат его, с таким трудом они ему давались.
— Что толку в том, что я вам все это рассказываю? Давайте лучше помолимся. Это почти единственное, что мы можем сделать. Не правда ли?
Он страдальчески взглянул на меня с таким видом, словно изнемогал под невидимой тяжестью. Потом молитвенно сложил ладони, но я легонько дотронулся до его плеча. Не знаю, только ли любопытство заставило меня сказать:
— Пожалуйста, расскажите, что было дальше. Мне хочется знать все.
Священник обеспокоенно взглянул на меня. Мне и в самом деле начинало казаться, что он не совсем в себе. Он посмотрел так, как если бы совершенно меня не знал и должен как следует покопаться в своей памяти, чтобы вспомнить, кто я такой. Наконец он схватился за голову.
— Ах, вот оно что, — сказал он упавшим голосом, — простите, я… — Он беспомощно махнул рукой и продолжал: — Кажется, Бекер всерьез вознамерился не дать Герольду, как говорится, сбиться с пути. Они учились в одном и том же университете, и, хотя Бекер, живший в пансионе при монастыре, был несколько ограничен в свободе передвижения, он часто посещал друга, беседовал с ним и, по-видимому, старался пробудить в нем утраченную набожность. Однако никогда не ставил свою финансовую поддержку в зависимость от этого. Иногда они спорили, что вполне понятно, — ведь они обсуждали то, что обсуждали в ту пору все молодые люди, которые еще не погибли: религию, народ и так далее.
Но их дружбе это не мешало. И Герольд, хоть никогда этого не высказывал прямо, уважал в Бекере единственного человека, который не вызывал у него презрения. Он любил Бекера. И опять-таки не за финансовую поддержку, а за то, что, давая деньги, Бекер не ставил никаких условий. Ну вот, теперь вы можете составить себе приблизительное представление об их отношениях. Бекер, по всей очевидности, был пылким молодым человеком, еще верившим в милость Божью. На первых семестрах все студенты-теологи еще верят в милость Господа нашего, а потом, часто невольно, верят уже в Главный викариат.
В университете Герольд, конечно, стал таким же феноменом интеллекта и духовности, как и в гимназии. Но здесь он презирал не только легкомысленных и неспособных студентов, но и профессоров, среди которых, как он говорил, «нет ни одного настоящего духовного лидера». Между делом он нащупывал возможности для карьеры в политике. Можете легко себе представить, что эта партия прямо-таки всосала в себя такого головастого парня.
Но потом случилось нечто страшное: его призвали в армию, и не нашлось никакого способа этому помешать. Для него не было на свете ничего ненавистнее армии, ибо, когда он попытался было и здесь сделать карьеру — стать офицером, — произошла катастрофа: офицерская каста, легко примирявшаяся с безмозглым преступником из самых темных общественных и человеческих сфер, предъявляла к молодому пополнению высокие социальные требования. И конечно же в этой иерархии бездуховности он потерпел поражение. Его душа исполнилась ненавистью, и это было первое объявление войны человеческому сообществу. Он видел их насквозь, этих трусливых лакеев от политики. Он доходил до белого каления от злости и обиды, но, естественно, не мог справиться с этой сплоченной кликой. И тупое мракобесие казармы воспринимал болезненнее, чем нищету своего детства.
Война стала для него избавлением, и он добровольно записался в одно из тех формирований, воспитанных в духе отрицания всех подлинных ценностей, где ставили знак равенства между смертоубийством на фронте, называемым ими войной, и убийством в тылу, называемым уничтожением второсортных человеческих особей.
Священник вдруг испуганно умолк и закрыл лицо руками. Он тяжело дышал.
— Представьте себе это острое, как нож, лицо, полыхавшее ненавистью, в их колоннах. В этом обществе, становившемся все бесчувственнее и ослепленнее под ужасающим гнетом войны, в обществе, запряженном в триумфальную колесницу преступного отрицателя всех ценностей, в ту мрачную колесницу, чьи трухлявые колеса вскоре развалились на части и в конце концов исчезли с поверхности земли в облаке бензиновой вони…
Странно все-таки, что Герольд, даже в этом окружении, поначалу отвергшем его, хотя он и явился туда добровольно, все больше и больше увязая в нем с тем мрачным чувством взаимного притяжения, которое сплачивает воедино убийц-маньяков, все-таки и там он поддерживал связь с другом юности. Бекер ему писал, предостерегал и наставлял, а Герольд навещал его во время отпуска и поздравил с посвящением в духовный сан. Даже там Герольд общался с Бекером, которого по-настоящему любил, — этого слова он, правда, из какой-то странной робости никогда не произносил. Да, он посылал Бекеру посылки с такими вещами, которые на родине были в дефиците, — сигары, мыло, масло и прочее. Он писал письма, посылал посылки. Но ни разу ничего не сообщил о своем душевном самочувствии. Между ними больше не возникали дискуссии о религии и мировоззрении.
Герольд чувствовал себя неразрывно связанным с той бандой, в которую попал, — часто исполненный горчайшего раскаяния и ужаса перед потоками крови, перемешанной с грязью, возмущенный зверствами и жестокостями. И все это было пропитано якобы вечными понятиями о расе, чести и безоговорочной дисциплине. Об отечестве и мировом господстве… В этих формированиях он получил офицерское звание, был много раз ранен, отличился в боях, был награжден орденами. Но все это не могло загладить болезненное чувство вины. Он был совсем сбит с толку. И в этой путанице чувств — страха, ненависти и раскаяния — самым тяжелым для него было то, что Бекер прекратил переписку. Больше года Герольд ничего не знал о нем. И хотя он приписывал это тогдашней почтовой неразберихе и полному краху «прославленной и непревзойденной» организованности немцев, хотя он спихивал вину на внешние обстоятельства, но всегда где-то в подсознании таился невыносимый для него, самый невыносимый страх: может быть, Бекер просто не желает больше ничего о нем знать…
И чем ближе становился конец, неизбежно трагический конец войны, тем острее он чувствовал себя окончательно запятнанным, виновным в неописуемых жестокостях, и только мысль о Бекере, который, вероятно, сумеет ему помочь, поддерживала его. С помощью изощреннейших махинаций Герольд избежал русского плена, пробрался с поддельными документами русского солдата через передовую русских войск на территорию, занятую западными державами. А потом — с запасом денег и продуктов — исчез, растворился здесь, в своем родном городе, скрываясь где-то в одном из тысяч притонов, которые никогда и никому не найти. Здесь он тоже избежал плена. И тогда начал исподволь разыскивать Бекера, ставшего для него символом спасения. У него не было конкретного представления, какой помощи он ожидал от Бекера. Он был совершенно сломлен. Ядовитая смесь страха, отвращения и чувства вины переполняла его, и, вероятно, он хотел просто поговорить с человеком, который не стал бы ему угрожать или осуждать, ибо Бекер был для него представителем религии, а она, вопреки мирским обычаям, никого не осуждала и не проклинала. Той религии, которую он сам ребенком и подростком искренне любил и чей отсвет, наверное, все еще лежал на нем, хотя сам он этого и не сознавал.
Притворившись инвалидом войны, он ушел, прихрамывая, из своего пристанища и попытался разыскать Бекера в этом злосчастном хаосе — Герольд знал, что тот был священником в одном небольшом городке. В конце концов ему удалось добраться туда на машине американских оккупационных войск. Городок уцелел, но жители еще пребывали в смятении и испуге. И он нашел Бекера. С бешено бьющимся от счастья сердцем он вошел в дом священника…
Но Бекер встретил его холодно и равнодушно. Сообщил, что в свое время прекратил переписку сознательно. Что старая дружба просто умерла. Бекер держался подчеркнуто отчужденно: поздоровался с ним как с человеком, с которым был знаком много лет назад и вот опять довелось увидеться. Герольда испугала холодная вежливость, с которой его встретил единственный друг, но то, что накопилось у него в душе, эта темная муть из страданий, крови и вины, слишком распирала его грудь, чтобы он мог удержаться. И он выложил Бекеру все, что было у него на сердце. Рассказал все-все, чего никогда не смог бы написать. А когда кончил, больше уже ничего не говорил и не спрашивал и только беспомощно глядел на друга. Он сказал мне, что в тот момент впервые в жизни ощутил себя совершенно беспомощным. А Бекер не понял его. Герольду показалось, что Бекер посочувствовал ему лишь по долгу службы, как духовник и пастырь, как государственный чиновник, но душа его отупела от всего, что он слышал, видел и пережил: ужасы отступления, голод, смятение, страх и бомбежки. У Бекера нашлось для него всего лишь несколько фраз… Знаете, этаких готовых сентенций из грошовой книжонки; в некоторых исповедальнях их раздают после отпущения грехов — суют в руки брошюрку кому ни попадя. Конечно, он посоветовал ему исповедаться, молиться, укрепиться духом. Поймите же!
Священник крепко ухватил меня за плечо и повернул к себе. Глаза его пылали от возбуждения, словно искрящиеся голубые огоньки, бледное худое лицо залилось краской, губы дрожали. Мы стояли друг против друга, словно в разгаре спора. Здесь, возле нар, где лежало тело Бешеного Пса, мы стояли словно два спорщика! Но я был такой усталый, такой усталый… И все-таки глубоко-глубоко во мне горел жгучий интерес к этой человеческой судьбе, конец которой мне необходимо было услышать.
— Поймите же, — простонал священник, — я слишком хорошо представляю себе все это, ибо сам так поступал бессчетное число раз. Могу во всех деталях вообразить, как это было. Бекер уже не испытывал никакой привязанности к нему. И перед лицом этих ужасных страданий он не смог ничего из себя выжать, кроме профессиональных фраз, сказанных с официальной сдержанностью. Вероятно, он и в самом деле очерствел — так, как может очерстветь духовник. Боже мой, годами выслушивать о супружеских изменах и подлости, и ничего больше — годами! Вы — доктор, поэтому, наверное, поймете меня. Ведь и вам мертвое тело не внушает такого ужаса, как тысячам других людей, не видевших столько крови и трупов, несмотря на войну. И у нас, священников, незахороненные мертвецы зачастую тоже не вызывают такого волнения и человеческого участия, как у других людей, никогда не заглядывавших в душу так называемых порядочных господ. О Боже! Понимаете, Бекер, видимо, совершенно равнодушно отнесся к его словам, добавьте к этому только что наступившее некоторое затишье после дьявольского безумия последних военных лет. Бекер был с ним холоден. Может быть, равнодушен, а может, и враждебен. Герольд сказал: «Он буквально вытолкнул меня обратно в пустоту». И тогда очертя голову начал крушить всё и вся…
Вдобавок на него, по всей видимости, донесли люди, наблюдавшие за ним и что-то заподозрившие. Он был объявлен в розыск, ему приходилось часто менять укрытия, в развалинах на него велась настоящая охота. И в конце концов под каким-то разрушенным домом в центре города он нашел уцелевший подвал, в который было несложно попасть, но трудно обнаружить, здесь он и отсиживался несколько дней, трясясь от бешенства и сгорая от ненависти, прежде чем стал Бешеным Псом. Потом собрал вокруг себя несколько сообщников — ибо самым для него невыносимым было одиночество, при этом всегда держался с ними высокомерно и властно. Для начала они оборудовали свой подвал награбленным добром, а потом — у него был разработан целый план, — торгуя на черном рынке крадеными вещами, сколотили порядочный капитал, набили подвал запасами и начали играть в страшную игру. Он был автором всех планов, главарем банды, а кроме того, еще и судьей. Герольд появлялся неожиданно, окутанный тайной и даже некоторой славой, когда его сообщники уже совершили взлом и жертва или жертвы были схвачены. Смертный приговор он выносил по настроению — расстрелять, зарезать или повесить. Нередко банда нападала, просто чтобы попугать и заставить людей жить в постоянном страхе. Таким манером они уничтожили, — священник запнулся на мгновение, — двадцать три человека, двадцать три…
Содрогаясь от ужаса и чувствуя, как кровь стынет в жилах, мы взглянули на неподвижное тело; светло-рыжие волосы между темными пятнами крови и грязи мягко светились в полумраке комнаты. А надменный тонкогубый рот словно все еще улыбался, насмешливо и жестоко, и казалось, мертвец издевается над нашими словами и нашим разговором. Дрожа всем телом, я отвернулся и ждал, боясь и в то же время надеясь, что священник повернется ко мне. Я чувствовал, мне угрожают мрачные силы, а его человечное, простое лицо могло бы меня утешить. Но священник долго сидел, глядя на тело. Долго так сидел… Я не знаю, спугнул он мои мысли или же молитвы, а может, лишь вывел из тупого ощущения страха, когда тихонько дотронулся до моего плеча. Голос священника звучал теперь мягко и почти утешающе:
— И конечно, самым загадочным было то, что его, никогда не имевшего никаких отношений с женщинами, его, жившего почти по законам целибата, погубила женщина. Я думаю, он, наверное, остался бы жив и стал бы более человечным, если б имел возлюбленную. Либо поддался бы одному из грехов, которым поддаются все слабые люди, — алкоголь, табак. Он был как-то зловеще невинен… Его не соблазнил бы и свет рая.
И погибель накликала на него женщина, которую приняли в банду вопреки его возражениям. Несмотря на бешеное сопротивление Герольда, она стала своей в их притоне. И хотя он не раз наставлял ее, идя на убийства, ему не удалось подчинить ее себе. А самое ужасное заключается в том, что эта женщина любила его и что он сам, месяцами издевательски насмехаясь над ней, заставил ее стать его убийцей. Она натравила на него членов банды, и мне сдается, что они терзали его с большей яростью, чем другие свои жертвы, ибо дьявольская, но глубокая и страшная тайна состоит в том, что ад, в сущности, ничто так не ненавидит, как самое себя. Они его почти разорвали на части. И все же он был еще жив, когда его нашли здесь под дверью с запиской в кармане, в которой аккуратно было написано: «Бешеного Пса пусть похоронит полиция». И почерк был женский…
У меня уже не было сил обернуться. В полной растерянности я сидел, уставясь невидящими глазами в грязный пол. Господи, я не помню, испытывал ли я тогда голод или усталость. У меня было так тошно на душе, и, думается, я был не способен понять, что такое абсолютный ужас. Я погрузился в свою полную ничтожность. Я не мог даже молиться. Мне казалось, что после рассказа священника безутешные развалины нашего мира погребли меня и тупой, темный страх перед самим собой вонзился в меня твердыми железными когтями. Потом я выдавил с таким трудом, будто слова распадались у меня во рту:
— Вы полагаете, что он?..
Но священник вновь отвернулся от меня; по-видимому, он молча молился, и я — как это ни странно — тоже обернулся, словно повинуясь какой-то силе, и вновь взглянул на тело, все то же тело в крови и грязи. Может быть, и я молился, не знаю. Я превратился в сплошной клубок из страха, мук и смутных предчувствий.
Ах, кто бы мог описать это состояние, когда ты наполнен до краев собственной глухотой, словно она необходима тебе для защиты, и тем не менее все видишь с той холодной зоркостью, какая бывает только в мыслях…
Дверь распахнулась с таким грохотом, будто дом обрушился над нашими головами, а когда мы, очнувшись, обернулись в испуге, зычный голос крикнул:
— Давай, тащи отсюда эту падаль!
Трое мужчин в полицейских мундирах заметили нас и, стараясь ступать тише, вошли в комнату. Странно, но с их приходом стало как будто светлее. Один из них, темноволосый и худощавый, со спокойным лицом, тихо сказал: «Добрый вечер» — и, обращаясь к своим напарникам, добавил: «Ну так берем его?»
Но священник, испуганно глядевший на них, словно не понимая, что происходит, вдруг очнулся. Он умоляюще выставил вперед руки и воскликнул:
— Нет, нет! Дайте мне самому это сделать!
Священник быстро повернулся и решительно схватил в охапку бесформенный мертвый сверток, не обратив никакого внимания на испуганный возглас: «Что вы делаете, господин пастор!»
У него был такой вид, будто он несет свою только что скончавшуюся возлюбленную, столько было в нем отчаянной нежности…
Я последовал за ним словно во сне — через теплую, ярко освещенную караулку на мокрую, темную улицу, заваленную липким, грязным снегом. У обочины ждал рокочущий и фыркающий грузовик. Медленно и любовно священник положил тело в кузов на мешок с сеном. Пахло бензином и маслом, войной и страхом… Мрак, безжалостный зимний мрак лежал на пустых фасадах домов, словно невыносимо тяжкий груз.
— Нет, этого делать нельзя! — крикнул один из полицейских, когда священник влез в машину. Другой выразительно покрутил пальцем у виска, а темноволосый стоял молча и, как мне показалось, вымученно улыбался…
Священник сделал мне знак подойти поближе, и, хотя мотор в этот момент зарычал громче, я все же расслышал слова, которые он мне шепнул, словно то была некая тайна;
— Он еще плакал, понимаете? Я вытер его слезы перед тем, как вы пришли. Потому что слезы…
Но тут грузовик рванул и понесся вперед, так что я увидел лишь беспомощный взмах руки священника, и фигура в черном исчезла в холодных, мрачных ущельях разрушенного города.
Перевод Е. МихелевичРандеву
Я пошел к причалу пораньше, чтобы встретить ее. Дождь лил ручьями уже несколько дней. Почва на набережной размякла, листья гнили в лужах. Уже сейчас — в середине августа — деревья пахли осенью, террасы кафе опустели, белые столики и стулья сложили штабелями и поспешно накрыли парусиной. Почти все постояльцы уехали, и в эту рань не было видно ни души. Над рекой висела густая пелена, струи дождя едва различались в тумане. Куда ни глянь, никого, кроме меня и служащего пароходства, фуражка которого виднелась за маленьким окном сторожевой будки.
В холлах гостиниц торчали озябшие официанты, поджидая редких постояльцев, которым захочется после обеда выпить чаю или кофе.
Неделю назад я сел рядом с ней в кинотеатре. Я пришел туда рановато, даже очень рано, и когда проходил мимо зевающей билетерши в пустой освещенный зал, то сначала увидел экран, на котором вспыхнул яркий прямоугольник с темной бахромой; высвеченный проектором, этот прямоугольник медленно прополз сверху вниз и канул; а в пустом зале, вблизи экрана, я увидел только ее нежную шею и зеленый дождевик; и, хотя мое место было получше, я направился вперед и сел рядом с ней.
Вот теперь я почувствовал, как меня постепенно пробрала сырость, ну и ладно. Мой взгляд был прикован к изгибу Рейна, откуда с минуты на минуту должен появиться катер. На черной доске, где мелом было написано время прибытия, остались несколько серо-белых смазанных строк, а с языка колокола, который обычно сигналил о прибытии и отплытии, капало все быстрее и быстрее, словно из испорченного крана.
Из-за поворота показалась черная баржа, которая устало, с раздражающей медлительностью тащилась вверх по течению. Я взглянул на свои часы: без нескольких минут пять. Если катер, по расписанию, отплывает отсюда через десять минут, то он должен вот-вот появиться на повороте. Служащий за окном будки закурил сигарету, его красное лицо было окутано дымом. Мое пальто потемнело от сырости.
Баржа все еще не появилась целиком, она тащила корму словно раненая рептилия свой хвост. Служащий открыл дверь будки.
— Скучаете, сударь? — окликнул он меня низким голосом.
Теперь я его узнал. У его жены была на набережной табачная лавка, час назад я покупал там сигареты и долго болтал с ним о достоинствах и недостатках разных сортов табака.
— Только сейчас вас разглядел! — крикнул он и посмотрел на мою шляпу. — Залезайте сюда.
Пропуская меня, он прижался к широкой стенке, обращенной к набережной, и жестом показал, чтобы я занял место напротив. И вот мы стоим, сжавшись, как два часовых в караульной будке.
— Погода сдурела, — сказал он, — истинно сдурела. Весь сезон насмарку.
— Да, — сказал я, продолжая вглядываться в изгиб Рейна, и ахнул: черную баржу легко обгонял быстрый белый катер.
— Вы кого-нибудь ждете? Не супругу ли?
— Да, — ответил я и пожалел, что принял его приглашение. Лучше бы мокнул под дождем, зная, что через четверть часа буду сидеть с ней за столиком и пить горячий чай. Будочник стоял так близко, что его любопытные глаза почти касались моего лба.
Я не отрывал взгляда от белого катера, который уже шел под мостом в середине реки. Берега, окутанные пеленой тумана, виднелись смутно, а горы угрюмо и призрачно высились над дождевыми облаками.
— Да, да, любовь… — сказал старик и надвинул фуражку на лоб.
Следя за катером, я невольно повторял каждое его движение, мне казалось, что я плыву в реке, и я судорожно сжимал руки; я вспомнил, как в темном зале, когда окончился фильм, я потянулся к ней, взял ее руку, руку незнакомой женщины, которую она, вздрогнув, отдернула — один-единственный раз, — но потом уступила, рука была очень маленькая, горячая от стыда. Когда нас освещал матовый экран, мы смотрели друг на друга: я видел тонкое лицо со светлыми серьезными глазами, казалось, они что-то спрашивали меня. И позднее, когда кончился фильм, она попыталась ускользнуть, смешавшись с толпой, но я обнаружил ее зеленый дождевик у трамвайной остановки.
Катер поворачивал с середины реки к берегу. Когда старик вышел из будки и направился к причалу, я понял, что катер уже близко. Ясно слышался шум двигателя, и были видны пассажиры в плащах, стоявшие у выхода на палубу. Зазвонил судовой колокол, его удары в тумане звучали как сигналы на море. Я вышел и только сейчас, в это мгновение, ощутил, что во мне не было ни капельки радости; только страх, тревога и заманчивое предвкушение риска, которое заставляет водителя поднажать на опасных поворотах.
Я бросил окурок в лужу и спустился к причалу. Старик приладил кранец между бортом судна и стенкой причала, с катера кинули швартов, который старик закрепил, обернув вокруг чугунного кнехта. Затем юнга выдвинул трап. Я смотрел на сходящих с палубы пассажиров, но ничего не видел. Я не опомнился, даже заметив ее зеленую накидку.
— Здравствуйте, сударыня! — крикнул старик. Он принимал пустые ящики из-под лимонада и быстро укладывал их штабелем.
Взглянув на нее, я взял ее за руку и повел с пристани.
— Благодарю тебя, — сказал я хрипло.
— Ах, — промолвила она.
Я молча сжимал ее руку. Позади ударил колокол, застучал мотор, и звук его удалялся, пока мы шагали по лужам к отелю.
Холл был почти пустой. Я снял с нее дождевик и только сейчас увидел в ее руке чемоданчик.
— Извини, — тихо сказал я, забрал чемоданчик, повесил ее дождевик, свое мокрое пальто и шляпу. В холле сидела старая вдова антиквара, которая с утра докучала мне своим обществом, пила водку и рассказывала неприличные истории. Оторвавшись от тарелки с торгом, она бегло взглянула на нас и снова занялась едой. Кроме нее в холле сидел пожилой господин, который уже в полдень захватил все газеты и журналы.
— Что будешь пить? — спросил я.
— Чай или что-нибудь горячее, — сказала она, не поворачиваясь ко мне.
Я лишь ощутил нежный аромат ее духов, к которому примешивался тонкий запах испарений после дождя. Сев напротив нее, я подозвал официанта; тот уже давно топтался в углу, посматривая в нашу сторону.
Я сделал заказ.
Мы молча курили, иногда поглядывая друг на друга, но как только встречались глазами, тут же опускали их. Стояла тишина, доносился лишь легкий шорох дождя, чуть позвякивала тарелка на столике вдовы антиквара, налегавшей на торт, и долетала болтовня обоих официантов с буфетчицей, приглушенная толстыми коврами и портьерами.
Я нервничал, на скулах у меня играли желваки; когда пришел официант, стало полегче. Один запах крепкого чая успокаивал. Наши руки встретились над сахарницей, я пожал ее пальцы, но она вырвала их, побледнела и уставилась испуганно на мою руку. Я проследил за ее взглядом и увидел свои толстые бледные пальцы, они показались мне какими-то непривычными, совершенно чужими; я заметил, что забыл снять обручальное кольцо.
— Боже мой, — тихо сказал я, — разве ты не рада?
— Нет, — ответила она и покачала головой.
Я помешал чай.
— А ты рад? — спросила она.
Я промолчал.
Кожа на ее лице опять заблестела, такая белая и свежая, а в темных волосах сверкали капельки влаги.
— Дорога понравилась?
— Да, — спокойно ответила она, — очень, роскошное путешествие. По воде, в настоящем тумане, и дышать так приятно. Ужасно жаль, что здесь пришлось сойти. С превеликим удовольствием поплыла бы дальше, вверх по Рейну, под дождем до… хотя бы до Базеля. Я пойду, — внезапно сказала она.
Я посмотрел на нее: она побледнела, ее губы вздрагивали.
— С ума сошла, — тихо сказал я, — зачем же ты приехала?
— Я пойду.
— Значит, ты приехала, чтобы свести меня с ума. Официант! — крикнул я.
— Я пойду…
Из холла медлительной походкой пришел официант.
— Да? — спросил он.
— Отнесите, пожалуйста, чемодан моей жены ко мне в номер.
— Слушаюсь.
— Я пойду, — сказала она, когда официант с чемоданом и накидкой исчез.
Я огляделся: пожилой господин читал двадцать седьмой журнал, вдова пожирала десятый кусок торта, где-то над крышами шумел дождь, а из нижнего буфета доносился невнятный говор буфетчицы и официанта.
Ее красивое лицо совершенно переменилось: стало суровым, губы дрожали. Она торопливо допила обжигающий чай.
— Идем. — Я взял ее за руку.
— Я только что спросила, рад ли ты?
— Нет! — громко крикнул я.
Пожилой господин оторвался от газеты, а вдова на мгновение перестала жевать.
Рассмеявшись, она пошла за мной.
Наверху было еще тише. Окно комнаты выходило в световую шахту, где рядом с переполненными мусорными баками мокли под дождем зола и отбросы. Надоедливо лил дождь.
Она сидела на кровати и курила, а я с сигаретой ходил взад-вперед по комнате. Порой мы переглядывались, как два человека, которые стоят у подножия склона и слышат грохот низвергающейся лавины.
Я вспомнил, как целовал ее в темном коридоре какого-то дома, на улице у конечной остановки трамвая и при свете фар выехавшей из переулка машины, вспомнил ее лицо, белое и улыбающееся на фоне исцарапанной коричневой стены…
— Боже мой, — сказала она вдруг, — как ты стонешь, садись рядом. — Она наконец-то улыбнулась и отодвинула подушку, освобождая мне место. — Дай мне руку.
Я протянул ей руку. Ее ладони были сухие и прохладные, прикосновение их очень легким. Она потрогала обручальное кольцо, потом положила руку обратно мне на колени, моя рука была тяжелая, почти мертвая.
— Я пойду, — сказала она.
— Иди, — сказал я.
Она бегло поцеловала мне руку.
В ожидании я подошел к окну. Дождем размыло кучку золы рядом с мусорным баком. Грязный ручеек струился от бака к засорившемуся водостоку. В большой луже плавали очистки, обрывки бумаги и окурки; табачные волокна из размокших окурков были похожи на желтых червячков. Я бросил вниз свой окурок и обернулся. Комната была пуста. Я ничего не слышал.
Перевод Н. БунинаРод Исава
Негодяй, подумала женщина, опять набрался. От меня сбежал, от паршивой жизни. Спрятался. Она зло посмотрела на мужчину. Он полулежал на боку, на его лице блуждала ребяческая улыбка, волосы взъерошены, засучены рукава, в правой руке зажат листок бумаги.
Подлец, думала она. Каков подлец. И это он называет работой, и это для него жизнь, никаких правил, никакой меры, жизнь без всякого порядка, негодяй. И еще улыбается…
Женщина попыталась вытащить у него листок, но спавший сердито заворчал, она быстро пересела к столу и занялась электроплиткой. Шнур был поврежден, пластмассовая колодка треснула, контактные скобки каждый раз застревали в гнезде плитки, почти прилипали, и стоило потянуть за шнур, как провод рвался, каждый раз рвался. Тихо чертыхаясь, она починила шнур, вставила колодку в гнездо и воткнула вилку в розетку. Затаив дыхание, она ждала, раскалится ли спираль. Спираль раскалилась, она поставила кастрюлю с водой и принялась с шумом наводить порядок. Мужчина до выпивки мыл в тазу ноги, таз стоял с грязной водой, брился — на краях чашки засохла мыльная пена; старые носки и полотенца валялись на столе, на стуле и на полу.
На письменном столе стояла ваза с цветами, она выбрала из нее увядшие, бросила в таз, туда же вылила воду из бритвенной чашки и выплеснула все в водосточный желоб.
Подлец, бормотала она вслух, ну сколько можно валяться, и это он называет — работать.
Она оглядела его пристальнее. Комната была убрана, вода в кастрюле только что зашумела, спешить некуда. Выражение счастья на его лице чуть ли не сводило ее с ума, она ненавидела эту улыбку. Это счастье не от меня, думала она, оно где-то украдено. Он подкрадывается к остаткам рая и грабит. Но я люблю его…
Она вдруг представила себе, что он уехал далеко-далеко. В Америку или в Австралию, и сердце ее сжалось от страха, что так может случиться. Я не могу жить без него, подумала она, это немыслимо. Даже боль, которую он мне всегда причиняет, подлец, делает меня счастливой.
Она подвинула стул и села рядом с кушеткой. Болели ноги, она долго ходила, пытаясь снова занять где-нибудь денег. И снова неудачно. В доме последний кусок масла, последний батон хлеба и последняя щепотка чая, а этот негодяй опять надрался. Хотелось бы знать, что он написал…
Она попыталась тихонько вытащить у него листок бумаги, но он опять заворчал, а она боялась прервать его сон. Больше всего он ненавидел, когда его «выдергивали» из сна. Это напоминало ему войну, он говорил: «Хуже нет, когда тебя выдергивают. Сон — одно из самых драгоценных благ, которые нам даровал Господь».
У них не осталось ни пфеннига, и занять негде. Надо платить за квартиру, за электричество, за то, за это…
Она взглянула на плитку, бурление воды стихло. Чертыхаясь, она сняла кастрюлю. Спираль была темной. Она выдернула штепсельную вилку, подержала ладонь над плиткой, проверяя успела ли остыть, и начала ковыряться в спирали. Обследовала ее не спеша, виток за витком, в поисках разрыва. Продолжая тихо ругаться, она сдерживала слезы, к горлу подступил комок.
С ума можно сойти. Даже если бы у нее были деньги, то купить новый шнур или хотя бы колодку, не говоря уж о новой плитке, не удалось бы. Цены-то ужасающие. Когда-нибудь чокнешься из-за колодки, из-за этой дерьмовой пластмассовой штучки, которая и двадцати пфеннигов не стоила. Вздыхая, она подняла зубцом вилки проволоку спирали — вот он разрыв! — видно было плохо, проволока потемнела, во многих местах стала хрупкой, почти при каждом кипячении прогорала в новом месте. Взяв проволоку за оба конца, она вытянула ее, потом скрутила в спираль и включила ток. Спираль раскалилась, и женщина поставила кастрюлю на плитку.
Это просто издевательство, думала она. Те, кто делает негодные пластмассовые штучки и спирали, и те, кто продает их, виноваты, что тысячи женщин и мужчин мучаются из-за их барахла. Попался бы мне такой подонок, я бы убила его… Вода наконец забурлила.
Господи, хоть бы он проснулся. Лицо его было безумно счастливым, и это ужасно терзало ее. Ни единой частицы себя она не узрела в его лице. Было очень страшно чувствовать себя такой одинокой, сидеть возле его кушетки и не знать, что он написал, напечатают ли это и будет ли в доме получка. Не знать, почему он так счастливо улыбается, не знать, откуда у него деньги на выпивку — получил или занял. Бутылка лежала на полу. Она подняла ее и понюхала: вино, красное…
Вода, кажется, вскипела. Она сняла крышку, отвернулась от струи пара и налила немного кипятку в чайник для заварки. Потом снова поставила кастрюлю на плитку. Воду для чая надо кипятить дольше. Она должна быть как можно горячее. Пусть себе кипит…
Она еще раз подняла бутылку и осторожно поставила рядом с кушеткой. А ведь я люблю этого негодяя, люблю… Вздохнув, она вернулась к столу и сняла крышку, вода кипела. Она налила полный чайник, вытащила вилку из розетки и поставила чайник на еще теплую плитку.
Перевод Н. БунинаИстория моста в Берково
История этого моста в свое время широко обсуждалась: ее осыпали проклятьями, оплакивали, некоторые смеялись над ней, а в целом равнодушно отнесли к обычным на войне событиям — одному из многих — и не придали ей особого значения, так что в конце концов этот случай и в самом деле забылся, тем более что он и не имел ни стратегического, ни большого исторического значения.
Тем не менее я считаю себя обязанным рассказать, что же там произошло на самом деле в тот решающий день, и решил описать все события последовательно и как можно точнее, ибо почти уверен, что я — единственный оставшийся в живых из тех, кто принимал в них главное участие. О Шнуре и Шнайдере я просто знаю, что они погибли, а третий участник, противодействовавший нам — лейтенант из штаба 3-го инженерного полка, — тоже, как я полагаю, погиб в последовавшие за этими событиями последние месяцы войны, поскольку все мои старания разыскать его оказались тщетными. Вполне может статься, однако, что он попал в плен, пропал без вести или окончательно опустился, ибо, хотя и был разумным, добросовестным и вообще симпатичным офицером, никто не сможет утверждать, что он не поддался всеобщему духу разрушения и не влачит поныне где-то жалкое и беспросветное существование, порвав всякую связь с прошлым.
Поскольку я решил соблюдать строгую последовательность событий, то вынужден начать с того дня, когда получил приказ из Главного строительного штаба «Юго-Восток» взять на себя руководство строительством, или, вернее, восстановлением, моста в Берково. Случилось это через несколько дней после Рождества, а я в ту пору — не по своей воле — слонялся без дела в Резервном строительном штабе. И был просто счастлив, что наконец-то для меня нашлась работа. Я приступил к ней основательно, для начала затребовав все инструкции по предстоящему строительству.
Выяснилось, что этот мост был взорван тыловой командой русских при отступлении в 1941 году, незадолго до того, как немецкие войска подошли к нему и могли бы предотвратить взрыв. Потом о восстановлении моста никто и не помышлял, поскольку населенный пункт Берково потерял какую-либо значимость как в стратегическом отношении, так и в смысле политики на оккупированных территориях. В частности, еще и потому, что мост этот уже не считался объектом, важным в военно-транспортном отношении, поскольку в ходе боев и захвата территории в двух километрах к юго-востоку от него был построен военный мост через Березину, который потом укрепили и расширили, дабы он мог служить транспортной артерией для снабжения войск. В ту пору Главное строительное управление «Юго-Восток» и соответствующие армейские инстанции сочли более целесообразным использовать материал, необходимый для восстановления моста в Берково, для строительства нового военного моста, тем более что, как я уже сказал, само местечко Берково утратило какое бы то ни было значение. В ходе войны там размещалась лишь одна рота караульного батальона, которому надлежало держать в поле зрения и по возможности подавлять деятельность партизан в тылу наших войск.
Вот, пожалуй, и все о предыстории моста в Берково.
Итак, через несколько дней после Рождества 1943 года я получил письменный приказ восстановить этот мост, для чего мне выделялись рабочая сила и строительные материалы в количестве, какое мне еще предстояло определить, и при первом моем посещении будущей стройплощадки я обнаружил следующее: речка Березина там имеет в ширину примерно 80 метров. В ее русле все еще стояли бетонированные опоры, большей частью не поврежденные, в то время как сам настил моста был полностью разрушен взрывом и вот уже два с половиной года находился в воде.
Поселок Берково состоял из десятка построек, пять из которых были еще обитаемы или пригодны для жилья, остальные же обветшали, либо их деревянные части были разобраны солдатами караульной роты и, вероятно, пошли на топку печей и для приготовления пищи. В то время, когда я проводил необходимые замеры и расчеты, в четырех домах жили солдаты караульной роты, которым выпало нести трудную и довольно-таки безуспешную службу в этой местности. В пятом и последнем жила старая русская женщина с дочерью. Они готовили еду, стирали и убирали помещения для солдат, а кроме того, держали пивную, где можно было купить шнапс, вино и кое-что из съестного, поступавшие из неизвестных источников.
Под самый конец я обнаружил там и небольшое кладбище, на котором были похоронены солдаты, умершие или погибшие за время службы. Однако в те дни команда по эксгумации уже приступила к выкапыванию трупов и перезахоронению их на Кладбище Героев.
С помощью моих ближайших сотрудников Шнура и Шнайдера я меньше чем за три дня закончил необходимые замеры и расчеты. При первом же осмотре будущей строительной площадки я решил использовать сохранившиеся бетонированные опоры и перекрыть их настилом из железных и деревянных частей, не рассчитанным на долговременное использование, но способным в течение примерно трех месяцев выдержать передвижение даже крупных войсковых соединений, в том числе и с тяжелым вооружением. Ибо в Главном строительном штабе «Юго-Восток» мне было сказано, что этот мост понадобится, вероятно, во время общего отступления, поскольку на мосту, расположенном в двух километрах к юго-востоку, скорее всего, возникнут неизбежные пробки.
Конечно, никак не назовешь благодарным задание построить мост, о котором заранее знаешь, что он предназначен для того, чтобы быть взорванным, ибо ни в какой другой профессии, как в нашей — профессии строителя, — не существует в такой же степени стремления к долговечности объекта, в то время как в других специальностях как бы задана возможность мимолетности. Поэтому мы занимались нашими замерами и расчетами без особого воодушевления, хотя, с другой стороны, были рады, что удалось избежать отупляющего безделья в Резервном строительном штабе.
Поскольку в полученном мной приказе содержалось требование закончить строительные работы не позднее чем за две недели, мне пришлось запросить 250 рабочих для необходимых по моим расчетам трех тысяч рабочих дней, ибо на объектах такого рода всегда надо предусматривать высокий процент простоев и износа, а также непредсказуемое, то есть «не поддающееся предварительному учету», количество фактов. Кроме того, для питания, обслуживания и охраны рабочих, естественно, необходимо было как минимум 50 человек медицинского, кухонного и охранного персонала. При всем этом требовалось безотказное предоставление любого материала в достаточном количестве. И в довершение всего на первых порах мне понадобились еще и несколько взрывников из саперного подразделения, которые могли бы помочь при удалении остатков старого моста.
Все эти расчеты, замеры и тому подобное мы трое, Шнайдер, Шнур и я, закончили меньше чем за три дня, и за это время нашего первого пребывания в Берково мы имели возможность наблюдать довольно-таки разнузданное, чтобы не сказать — вконец аморальное, поведение солдат караульной роты во главе с пожилым лейтенантом и двумя фельдфебелями. Так как слухи о предстоящем тотальном отступлении, которые тогда уже не удавалось подавить, дошли и до этого глухого угла, боевой дух солдат с каждым днем падал все заметнее. Часто сюда попадали по ошибке отдельные подразделения, намеревавшиеся выйти к мосту по старым картам, нередко приезжали также машины с продовольствием или просто заблудившиеся группы солдат, так что под влиянием неизбежных слухов, шепотом передаваемых из уст в уста, лозунгом тех дней стало цинично-откровенное: «Спасайся, кто может!», а также ужасная, гибельная пословица: «Получи удовольствие от войны, мир будет намного хуже».
Обе эти фразы стали девизом солдат караульной роты, которые к тому же все время ждали, что их отзовут. С дочерью хозяйки пивной, ладно скроенной, светловолосой и грубоватой бабой, они в открытую предавались распутству, кроме нее нашлись и еще какие-то женщины, и я своими глазами видел, как много обмундирования и снаряжения со склада (а также, как я предполагаю, и оружия) сбывалось шнырявшим вокруг русским, которые приносили буквально мешки денег и каким-то таинственным образом сплавляли этот товар на сторону. Каждый вечер устраивались оргии, причем лейтенанта, который иногда пытался оказать слабое сопротивление, заставляли умолкнуть простым способом: ему подсовывали в постель самую привлекательную из женщин и старались побыстрее напоить до беспамятства.
На лицах солдат при всех этих бесчинствах была, однако, написана какая-то странная грусть, что доказывало наличие у них остатков добропорядочности. Вероятно, можно также сказать, что на плечи этих людей и вправду взвалили слишком много. И я не могу не добавить к сказанному, что довольно большая часть солдат не участвовала в этих оргиях. Ведь двое пьяных могут наделать больше шума, чем две сотни трезвых людей. Но все те, кто не принимал непосредственного участия в этом распутстве, были не в состоянии как-то активно ему воспрепятствовать, ибо все они страдали одной и той же страшной болезнью: тупой покорностью судьбе.
Сам я, как только мне удалось вновь связаться с вышестоящей инстанцией, доложил обо всех этих фактах, как положено по уставу, хотя понимал, что мне трудно будет представить доказательства. Ибо в то время было в порядке вещей, когда любое подразделение имело так называемое «черное» имущество, то есть имущество, доставшееся ему при каком-то отступлении, о чем оно никогда не докладывало наверх.
Кроме того, я сразу по возвращении представил начальству свои планы и расчеты, которые оно в свою очередь направило в отделы «Материальное обеспечение» и «Рабочая сила». Благодаря образцовой энергичности и оперативности нашего штаба нужные материалы и люди в течение восьми дней были не только выделены, но и прибыли на место или уже находились в пути. Помимо этого были отправлены четыре сборных барака для размещения рабочих, что, однако, оказалось излишним, поскольку за время моего отсутствия караульная рота была отозвана и ее помещения теперь находились в нашем распоряжении. Но так как было бы бессмысленно отправлять эти бараки обратно, они остались в Берково и очень пригодились для размещения рабочих во время строительства.
От группы армий «Юг» нам придали два танковых подразделения для охраны нашего внезапно ставшего столь важным объекта. Эти подразделения стояли примерно в двухстах метрах к северу и югу и должны были защищать нас как от возможных нападений с тыла, так и от возможных вторжений прорвавшихся русских частей с другого берега реки. И наконец, совсем небольшое подразделение заняло позицию вплотную за нами, так что мы, находясь под защитой своего рода предмостного укрепления, могли начать работы в установленный планом срок.
Должен здесь упомянуть, что среди нашего личного состава возникла довольно большая обеспокоенность, ибо отзыв караульной роты означал практически, что наша местность вновь стала театром военных действий, и на самом деле шум боя, который в последовавшие дни был слышен иногда сравнительно близко, а потом вновь достаточно далеко, доказывал, что мы находились где-то на передовом участке фронта.
Но пока все шло по плану. Включая «не поддающиеся предварительному учету» факты, как-то: уменьшение численности рабочих, исчезновение материалов, непредсказуемые помехи при строительстве, вроде дождя или большого мороза. Даже обветшалость сохранившихся опор оказалась опаснее, чем я предполагал, ибо при нашем первом осмотре я не мог тщательно обследовать все опоры вблизи, поскольку у нас не имелось лодки. Однако все это было предусмотрено расчетами, так что наша работа двигалась по плану. В самом начале я приказал арестовать хозяйку пивной вместе с дочерью и всем их окружением и потребовал прислать новых, проверенных девиц, кои и прибыли точно в срок и были размещены в одном из домов. Даже снабжение шнапсом и сигаретами наладилось, ибо по опыту многих лет мы знали, что эти в общем-то совсем недорогие вещи заметно продвигали вперед любой строительный проект. В конце концов нельзя же было ожидать трудового энтузиазма от согнанных на работы людей разных национальностей, если им не предоставить по крайней мере какие-то, хотя бы кажущиеся, материальные блага.
Итак, четырнадцать дней, отведенных на строительство, проходили согласно плану. Так что я могу рассказать разве что о слухах, которые ежедневно сообщали шоферы машин, доставлявших продовольствие: мол, всеобщее отступление (иногда они решались даже называть его бегством) уже идет полным ходом, большая часть войск ушла с правого берега Березины — наверху, по всей видимости, планируют оставить перед главными силами противника пустое пространство, а моста, расположенного юго-восточнее нашего, вероятно, будет достаточно для отступления. В общем — всякий деморализующий вздор, который я бы начисто пропускал мимо ушей, если бы он не содержал такой бунтарский заряд, что о нем было необходимо сообщить полиции. Я поддерживал непрерывную телефонную связь со своим штабом, сообщал сведения о ходе работ и чувствовал удовлетворение от того, что мне не приходилось возражать или протестовать против восстановления моста, поскольку, как было сказано выше, все шло по плану.
Хотя, раз уж я взял на себя обязательство сообщать только правду, мне придется сделать одну оговорку, меня тоже тревожил шум боя, который после первых восьми дней значительно приблизился, как нам казалось, и с этого дня все время приближался, а иногда даже как бы угрожал захлестнуть правый берег, где располагалась наша строительная площадка.
Случалось, что я разрешал некоторым отступавшим солдатам, если у них были на руках соответствующие документы или же их сопровождал офицер, перейти на тот берег по временным мосткам, проложенным вместо покрытия на мосту, поскольку жалел солдат, валившихся с ног от усталости, и не хотел без особой надобности заставлять их топать еще два километра вверх по течению. Но разрозненные группы солдат без командира или солдат-одиночек, выдававших себя за отставших от своей части, я неумолимо отправлял к мосту вверх по течению, так как знал, что там их всех проверят самым тщательным образом и ни одного беглеца, а тем более перебежчика не пропустят на тот берег. Мрачное молчание офицеров этих групп, из которых я за первые десять дней примерно восемь пропустил на тот берег, усилило во мне некий внутренний пессимизм, который я, естественно, никак не выказывал. Ведь благодаря ежедневной связи с Главным строительным штабом «Юго-Восток» я не нес личной ответственности за ход событий, а штаб неукоснительно требовал завершения восстановительных работ на мосту к указанному сроку.
Так все и шло вплоть до последнего дня, предусмотренного по плану. Еще за два дня до этого срока мы могли начать укладку готового настила из толстых просмоленных дубовых бревен, которые закреплялись особыми костылями. Эти бревна должны были обеспечить движение по мосту самых тяжелых машин и орудий. В тот последний день работа шла как по маслу. Ощущение близости конца работы придавало людям силы, а перспектива вскоре покинуть опасную зону — ибо грохот отдаленных боев теперь слышался круглые сутки — стимулировала их рвение.
Я приказал перенести по мосткам половину бревен на другой берег. Беря на себя этот риск, я предусмотрительно рассчитывал на вероятный успех этой меры, потому что в тот последний день она давала возможность начать укладку настила сразу с обоих концов моста. Таким образом мне удалось, независимо от вышеупомянутых стимулов, создать между двумя бригадами, выполнявшими эту работу, нечто вроде конкуренции, весьма полезной для дела, — своего рода соревнование, которое за мою многолетнюю деятельность убедительно доказало свою безусловную эффективность. Эту работу выполняли сто двадцать из еще остававшихся у меня рабочих, которых я разделил на две бригады по шестьдесят человек во главе со Шнуром и Шнайдером. Остальных восемьдесят — все прочие, как и предполагалось, так или иначе выбыли — я поставил на погрузку оставшихся материалов, инструментов, кухонного оборудования и прочего, ибо считал для себя делом чести доложить своему начальству о завершении строительства моста и о полной готовности к отходу.
К полудню этого последнего дня расстояние между бригадами настолько сократилось, что я мог совершенно спокойно продлить перерыв на полчаса (впрочем, как я выяснил позже, это шло вразрез с желанием рабочих, так как они предпочитали закончить работу без всяких перерывов, дабы избежать час от часу возрастающей опасности). Меня же очевидное рвение работников и их усталый вид настроили сочувственно, а сознание того, что мы приближаемся к завершению образцово рассчитанного и столь же образцово быстро и точно в срок проведенного строительства, наполнило гордостью. Кроме того, чины из Строительного управления, неоднократно инспектировавшие мою работу в сопровождении нескольких офицеров Главного штаба, известили меня о том, что крест за заслуги первой степени мне обеспечен.
После перерыва работа на мосту быстро продвигалась вперед, погрузка материалов тоже спорилась. Несколько машин я уже отправил.
Грохот боя все еще продолжался, только стал ближе и как бы грозно сконцентрировался в одном месте. Иногда до нас доносились не только разрывы снарядов тяжелых орудий, но и сами выстрелы. Все это было очень похоже на крайне нетерпеливый и настойчивый стук в дверь, которую собираются взорвать. Эти звуки, а также огонь стрелкового оружия и рокот танков сопровождали последние часы нашей работы, ничуть не мешая ей. Надо сказать, что и танки, охранявшие нас, — без какого-либо приказа, как я узнал позднее, — приготовились к отступлению, а их командиры — обер-лейтенант и капитан — молча следили за стройкой, вероятно, для того, чтобы иметь некоторую ясность относительно момента их возможного бегства.
Всерьез озадачил меня около трех часов дня только приезд на вездеходе молодого лейтенанта инженерных войск с двумя солдатами. Этот весьма приятный и разумный молодой человек заявил мне, что у него есть приказ в четыре часа взорвать мост. Этот приказ он может положить мне на стол, а его рассказ о событиях на фронте достаточно четко объяснял причины такого приказа. Отступление войск на другом берегу было почти завершено. Лишь одно небольшое подразделение получило приказ отвлечь на себя основные силы противника и создать впечатление мощного отпора, правда — лейтенант сообщил мне об этом доверительным тоном — подразделение было обречено на гибель, вот почему был спущен приказ в четыре часа взорвать оба моста, независимо от того, какая ситуация сложится к этому времени.
Появления двух войсковых колонн противника можно было ожидать у каждого моста не позднее половины пятого, и Командование сухопутными силами не сочло возможным предоставить оба моста для отступления нашим частям, еще ведущим бой, учитывая опасность, что они достанутся противнику и дадут ему возможность беспрепятственно продвигаться вперед. Поэтому и был дан приказ взорвать мост не позже четырех часов, а в случае необходимости и раньше. Однако взрывы следует произвести, только когда войска противника появятся в непосредственной близости от мостов. В нашем случае это уточнение было крайне неблагоприятным, так как на правом берегу Березины лес подступал почти к самой реке.
Для начала я вместе с лейтенантом осмотрел уже почти готовый мост, и он при этом первом осмотре, состоявшемся в три часа сорок пять минут, лично выбрал места, наиболее подходящие для закладывания взрывчатки. Кроме того, он явно был удивлен степенью готовности моста: ему было сказано и, насколько он знает, в штабы сражающихся частей также поступило сообщение, что на восстановление моста у Берково можно рассчитывать только через неделю. Это заявление убедительно объяснило мне тот удивительный факт, что пока еще ни одна войсковая часть не сделала даже попытки в полном составе перейти через мост. Ведь и в том состоянии, в котором мост находился в этот момент, он мог обеспечить переход на ту сторону реки даже моторизованных подразделений, а я, естественно, никому не отказал бы в этом.
Я немедленно вернулся в свой кабинет и в присутствии лейтенанта начал названивать в высшие инстанции. Первым делом — в Главный строительный штаб, там о взрыве ничего не знали. Значит, надо продолжать работы, пока этот приказ не будет отменен. Потом у меня ушло почти полчаса, чтобы по нарушенной линии связи дозвониться до Главного командования «Юго-Восток», где подтвердили приказ, полученный лейтенантом.
Я попал в весьма и весьма странное положение, тем более что все объяснения лейтенанта казались вполне убедительными; я многое отдал бы за то, чтобы закончить свою работу, однако, с другой стороны, мне вовсе не хотелось ставить на карту жизнь даже самого никчемного из моих людей хотя бы на одну-единственную минуту дольше, чем было приказано. Поэтому я опять приказал соединить меня с Главным строительным штабом, который, равно как и Главное командование, находился примерно в двухстах километрах к западу от нас. Начальник штаба довольно нетерпеливым тоном приказал мне продолжать стройку, хотя бы из принципа. Он заявил буквально следующее: «Нехорошо, что мы перед лицом столь гнетущих фактов отказываемся от всех наших принципов». Потом добавил, что с минуты на минуту ожидает связи с Главным командованием, дабы получить подтверждение приказа, полученного лейтенантом. И положил трубку. Было без десяти четыре. В четыре часа мост должен быть готов, а на другом берегу царила тревожная тишина. Настил моста был завершен — за исключением одного просвета размером примерно в три четверти метра. Он был бы закончен полностью минута в минуту. Ни один мой план никогда еще не оказывался ненадежным. Я в последний раз убедился в прочности бревен и костылей. Весь остальной материал за истекшее время был отгружен, и наготове стояли только несколько пустых грузовиков для рабочих. Их моторы уже работали, так как я назначил общий отъезд на пять минут пятого.
Двое рабочих из бригады Шнайдера закрепили последние костыли за несколько минут до четырех, а лейтенант уже начал прилаживать зарядные устройства, соединенные между собой бикфордовым шнуром. Сам лейтенант появился за минуту до четырех на середине моста, где я наблюдал за монтажом последних бревен, и попросил меня не закреплять их, поскольку именно это место оказалось наиболее удобным для закладки взрывчатки. Однако я не уступил, ведь я получил ясный и четкий приказ от своего начальника придерживаться наших принципов. Лейтенант удалился, пожав плечами, а я бросил последний взгляд на мост и направился вместе со Шнуром, Шнайдером и последними рабочими к нашей конторе, чтобы доложить наверх о том, что строительство моста в Берково завершено минута в минуту.
Но тут случилось нечто ужасное. В мертвой тишине на другом берегу из леса выскочили отступавшие солдаты, некоторые тащили на себе раненых, другие неслись сломя голову, несмотря на крайнюю усталость, с такого близкого расстояния видную на их лицах. Из леса выехали и машины. Все это мчалось, обезумев от страха, толпа все росла и росла и быстро приближалась к мосту, который бегущим, наверно, казался истинным воплощением надежды, тем более что я распорядился прикрепить на самом высоком месте шест с нацистским флагом в ознаменование окончания строительства.
А лейтенант со своими людьми в этот момент поспешно спустился с моста, показал мне, пожав плечами, на свои часы — было без пяти секунд четыре, а другой рукой — на несколько русских танков, стрелявших прямо в гущу бегущей толпы и грозно приближавшихся к мосту.
Сам я, когда увидел горящий бикфордов шнур, бросился в свою контору и велел срочно соединить меня с Главным строительным штабом «Юго-Восток». Но прежде, чем меня успели соединить, зазвонил мой телефон, я снял трубку и услышал голос моего начальника: немедленно прекратить строительство. А поскольку он хотел уже повесить трубку, я крикнул «Подождите!» и доложил, как положено: строительство моста закончено в соответствии с приказом минута в минуту. Но он уже ничего не слышал. Да и я чуть не оглох от ужасного грохота, с которым мост взлетел на воздух. Потом я зашагал к своей машине и велел остальным также двигаться в путь. Но никто не сможет от меня узнать, как выглядел мост у Берково после взрыва, потому что я ни разу не обернулся, хотя русские танки стреляли уже по домам поселка. И все же иногда мне чудится, будто я вижу все — и мост, и людей, бежавших из последних сил и сопротивлявшихся до конца, защищая нас, как того требует армейская дисциплина. И хотя я на самом деле их не видел, теперь я их вижу, вижу на их лицах страх перед смертью или пленом, а также ненависть к нам, которые ведь не сделали ничего, кроме того, что предписывал наш долг.
Перевод Е. МихелевичМертвые уже не повинуются
Лейтенант приказал всем лечь на лесной опушке, и мы залегли. Была весна, тишина вокруг, и мы знали, что война скоро кончится. У кого еще остался табак, закурили, у кого не осталось, попытались уснуть; все выдохлись — три дня шли полуголодные, в постоянных стычках. Стояла удивительная тишина, щебетали птицы, воздух был напоен нежностью, ласковой, влажной…
Внезапно лейтенант окликнул кого-то:
— Эй! — И еще раз громче: — Эй, вы! — Потом взбесился и заорал во всю глотку: — Эй, вы там, эй!
Мы разглядели того, к кому он обращался. По другую сторону лесной дороги сидел человек и спал. Прислонившись к дереву, самый обыкновенный серенький солдат дрых; его веснушчатое лицо сладко-сладко улыбалось, и мы подумали, что лейтенант сейчас спятит. Еще мы подумали, что спятил и дрыхнувший, так как лейтенант орал все громче, а солдат по-прежнему улыбался…
Закурившие перестали курить, задремавшие очнулись, а некоторые даже заулыбались. Была весна, нежная и ласковая, и мы знали, что война скоро кончится.
Лейтенант вдруг перестал орать, вскочил, в два прыжка пересек дорогу и ударил спящего по лицу.
И мы увидели, что улыбавшийся солдат был мертв. Не сказав ни слова, он повалился. На его лице больше не было улыбки, на нем появилась страшная гримаса. И побледневшему лейтенанту мы нисколько не сочувствовали. Мы больше не радовались солнцу, не наслаждались ласковым, нежным весенним воздухом, казалось, нам теперь все равно, кончится война или нет. Внезапно пришло ощущение, что мы все мертвы, и лейтенант тоже — он скалил зубы, и мундира на нем больше не было.
Перевод Н. БунинаПотерянный рай
В этом взъерошенном кустарнике с трудом угадывались старые дорожки, кое-где они вообще пропали, изгородь вся в дырах — зайти в парк можно в любом месте; переросшие кусты вытоптаны, завяли или сгнили, а новые подросли и так переплелись между собой, что по дорожкам стало совсем не пройти, а люди уже протоптали новые, без всякого плана, так, как им было удобно, поэтому все дорожки вели к одному месту — к дому. Даже старая главная аллея, полукругом огибавшая парк, почти вся заросла. Трава с газонов выползла на аллею и полностью затянула ее, а в новой редкой дернине бодро произрастали побеги бузины, самшита и сирени; трухлявые садовые скамейки были покрыты палой листвой; фонтан на верхнем повороте аллеи оброс мхом и забит грязью и жестяными банками, при этом, несмотря на сырую весеннюю погоду, в нем не было видно ни следа влаги; стальная труба, по которой раньше сюда поступала вода, погнута чьим-то метким камнем. Я увидел, что здесь недавно играли дети; они раскопали ямку в тине, и на ее дне показалась густая зеленоватая жижа. Увидел я также, что большая, посыпанная гравием площадка была перекопана и засеяна, а камни и гравий свалены в фонтан. Кое-как слепленные оградки защищали несколько жалких кочанов капусты, за зиму успевших подгнить, водопроводные трубы, с которых свисали увядшие остатки вьющихся бобов, и несколько жестяных бочек для воды, жидкость в них была зеленоватой, и от нее несло такой же вонью, как и от той, что скрывалась под фонтаном.
Но вот я обнаружил и человека. В закутке, где, наверное, должен был храниться садовый инвентарь, на ящике сидел старик с трубкой во рту, держа лопату между колен. Но, как ни тянуло меня к людям в этот мягкий и слегка туманный вечер моего возвращения на родину, я все же отшатнулся в испуге, когда в самом деле увидел человека; я сделал несколько шагов назад, так что закуток вновь скрыл нас друг от друга, и только тогда огляделся.
Отсюда было хорошо видно, каким парк был раньше. Прекрасный размашистый полукруг некогда был посыпан белым гравием, а теперь весь перегорожен жалкими заборчиками из узких жестяных полос, погнувшихся от ржавчины и грозивших вот-вот рухнуть, газовыми трубами и сучьями буков; тем не менее это место сохранило нежную и законченную красоту, хотя некогда ровный и ухоженный кустарник, растущий по краям, теперь был взъерошен, обломан, сожжен и затоптан. Археологи говорят, что нет ничего более долговечного, чем яма, то есть нечто выкопанное в земле; так и этот любовно разбитый парк еще полностью сохранил свою форму. Наверху, в самой высокой точке четкого полукруга, осталась небольшая, но идеально круглая чаша фонтана, теперь замусоренного; от ворот к нему шла прямая линия главной дороги. Да и в расхристанном, зеленоватом, лохматом уродстве кустарников отсюда были хорошо видны узкие тропки, незаметные с близкого расстояния; позади зелени кустарника они сохранились в полной неприкосновенности, словно старые рубцы от ран, а справа и слева от главной дороги четко и ясно виднелись две дорожки, сделанные в форме нотных ключей.
Наконец я отважился бросить взгляд на дом. Я хорошо разглядел его сквозь бреши в строчке тополей, листва которых была густой и свежей, молодой и яркой. Я посчитал тополя: из двенадцати осталось семь, а вот две плакучие ивы на концах ряда оказались в целости и сохранности. Фасад дома почти не изменился, такой же серый и немного неряшливый, как и было задумано. Лишь кое-где отвалились большие куски штукатурки и появились большие, беловато-серые водяные разводы, какие бывают на переплете старой книги, пролежавшей какое-то время в воде; целых окон осталось немного, большинство затянуто толем или забито досками, некоторые частично заложены кирпичом, так что в середине оставалось маленькое окошко, слишком маленькое по сравнению с огромной рамой.
В эти минуты я только наблюдал. Воспоминаний было чересчур много, чувств тоже с избытком, так что я не мог позволить себе предаться им сейчас. И хотя меня связывало с этим парком все, что можно назвать прошлым, воспоминанием, молодостью, жизнью, я не мог пока стоять тут иначе, как путником, который где-нибудь в районе загородных вилл, поддавшись любопытству, проходит через полуразрушенную ограду и мимо безнадежно проржавевшего портала в сад, чтобы поглядеть на следы запустения.
Очень больно смотреть на эти изменения изнутри, если они происходят на пороге твоей жизни. С невыразимой печалью покидаешь игрушки и площадки для игр твоего детства, чтобы броситься со страхом, грустью и радостью в эту сутолоку, которую взрослые всегда называли жизнью; еще печальнее покидать дом своей юности, место, где ты предавался мечтам, смутно понимая, что наши воспоминания — всего лишь воспоминания о мечтах, в этом месте ощущаешь вкус несказанной боли того, кем ты станешь, когда превратишься из мужчины в старика, и того единственного неотвратимого мгновения, когда ты перешагнешь порог смерти, дабы переселиться в другой мир.
На крыше дома кое-где сохранилась старая темно-серая черепица; потолки, очевидно, начали протекать, и теперь дыры были забиты толем, жестью, пестрыми рекламными щитами, и даже из крошечного чердачного окошка торчал шест, на котором вяло покачивались под слабым ветерком серые и грустные пеленки. С левого угла крыши свисал кусок желоба, точно так же, как он свисал семь лет назад, когда я стоял на этом самом месте и прощался. Тогда я подумал: они должны это починить; у меня не было мысли, что я сейчас уйду и не знаю, вернусь ли. Нет, я думал только о том, что они должны это починить. Но они не починили, желоб все еще висел, оторвалась только одна из скоб, удерживавшая его на краю крыши, и он висел теперь криво, так что казалось, будто он может свалиться в любой момент, и на серой стене дома ясно виднелись следы воды, которая после каждого дождя стекала наискосок по поверхности стены и просачивалась внутрь; белый подтек с темно-серыми краями тянулся мимо окон вниз, слева и справа от него образовались большие круглые пятна, тоже белые в середине и серые по краям.
Семь лет провисел этот кусок желоба, семь лет — ох как далеко отсюда я был эти годы! Я часто видел, чуял, чувствовал смерть, я жил припеваючи и голодал, голодал так, что дошел до черты, за которой начинают мечтать об ароматном белом хлебе и рисуют себе картину, как будут ломать его, ломать и раздавать направо и налево всему голодающему миру, я голодал до той черты, когда уже не чувствуешь голода, а тихо засыпаешь, убаюканный сладкими грезами, которые делают процесс еды — если он вновь начнется — чем-то невыразимо отвратительным. Они стреляли в меня, тысячи раз стреляли из винтовок, минометов, пушек, из корабельных орудий и с самолетов, они бросали в меня бомбы и ручные гранаты, они попадали в меня, и я чувствовал на губах свою кровь, стекавшую с головы, сладкую и жирную, клейкую и быстро свертывающуюся, я протопал по пыльным дорогам через всю Европу, не чувствуя под собой ног от усталости, в темных предместьях бегал за белыми женскими шейками, но ни разу, ни разу не овладел ни одной из женщин, ох уж эти белые шейки в сумеречных переулках…
Многое, очень многое случилось со мной за это время, и было страшно даже подумать о том, что этот поломанный желоб все так же висел здесь и семь лет кряду направлял дождевую воду наискосок и внутрь стены. Этот кусок оцинкованной жести семь лет провисел на остатках своего крепления, черепица с крыши осыпалась, деревья вырублены, штукатурка отвалилась, и везде — в открытые прелестные окрестности города, в заросшие кустарниками предместья — падали бомбы, но в этот крошечный кусок жести ни разу ничего не попало, и взрывная волна не выпрямила его и не сбросила наконец-то на землю. Много дождей выпало за эти семь лет, но дождь по-прежнему хлестал по фасаду дома, впитывался пористым песчаником, из которого был сложен дом, и вновь вылезал наружу беловато-серыми узорами.
Там, где были пробелы в строчке тополей, я увидел дом со всеми подробностями — с висевшим на шатких стойках бельем, застиранными мужскими рубашками, потрепанными женскими комбинациями, зелеными и красными пуловерами и платьями, а кое-где виднелось и мокрое тяжелое одеяло, которое тянуло всю конструкцию книзу, словно свинцовое бремя. Ничего знакомого не осталось, и я даже обрадовался, потому что всегда ненавидел этот дом и любил только его обитателей, и, хотя прежние очертания угадывались повсюду — и в парке, и в доме, — словно водяной знак вечности, больше всего меня задел за живое этот болтающийся кусок жести у конька крыши, криво висевший над дырявым фризом.
Чуть раньше я уже заметил боковым зрением некую тень — старика, который раньше сидел на скамье. Потом он, наверное, встал, завернул за угол закутка, и я только теперь, когда осознал его присутствие, вспомнил, что он уже некоторое время — не могу сказать, минуты, секунды или часы, — оставался в поле моего зрения, как некая смутная тень или как маленький кусочек серой нитки, который попал в глаз и его не спешат удалить, чтобы не отрываться от зрелища. Я еще раз обернулся, еще раз оглядел парк, в особенности кустарник, и подавил вспыхнувшее в глубине души болезненное воспоминание о двух каменных скамьях, скрытых в закруглении дорожек, похожих на нотные ключи, потом обернулся к этой что-то напоминавшей и смиренно ожидавшей тени и направился к ней.
До этой минуты я просто шагал поперек жалких огородиков, пролезая сквозь дыры в заборах, тем более что новых посадок нигде не было видно. Теперь я сошел с крошечного участка, покрытого кукурузной стерней, ступил на узенькую тропинку и сделал несколько шагов к закутку.
Этими тремя шагами я как бы пересек некую звуковую границу. Как только я оказался рядом с этим человеком, который дружелюбно кивнул мне и ответил на мое пожелание доброго вечера таким же приветствием, я вдруг услышал и голоса играющих детей, и крики женщин, зовущих кого-то домой, и мужской свист, и все те не поддающиеся описанию вечерние звуки, которые можно услышать весенним вечером подле густонаселенного дома. Радиоприемники беззаботно мурлыкали в пустоту, а под порталом главного входа, теперь открытого моему взгляду, я увидел двух девочек-подростков, игравших красными мячиками о толстые пилоны из песчаника, которые обрамляли вход. Только сейчас я разглядел, что в левую часть дома, очевидно, попал тяжелый снаряд и что это место заделано отвратительными темно-серыми кирпичами. Между тополями маленькие дети возились в куче песка, другие ходили по кругу, ударяли друг друга палкой и визгливо смеялись, а какой-то мужчина перевернул велосипед вверх колесами и копался в нем, засучив рукава рубашки.
Старик, стоявший подле меня, опустился на доску, кое-как прибитую к двум толстым обрубкам, и я сел рядом. Роста он был небольшого, худощавый, и, хотя на голове у него была потертая шкиперская фуражка, по вискам, лишенным волос, и голым частям черепа я понял, что он совсем лысый. Его худое лицо было покрыто легким красивым загаром, а маленькие и казавшиеся бесцветными глазки смотрели на меня добродушно и испытующе. Не успел я посидеть рядом с ним и полсекунды, как он заметил, что я потянул носом, принюхиваясь к запаху его табака, и начал, ни слова не говоря, шарить по карманам, а я уже нащупывал свою трубку.
— Вот только бумажки у меня нет, — сказал он и протянул мне никелированную коробочку с табаком.
— Спасибо, — сказал я, взял коробочку и набил свою трубку.
— Огня нужно? — спросил он.
Я кивнул.
— Спасибо, — опять сказал я и вернул ему коробочку.
— Вы приехали из…
— Франции, — подсказал я.
— Я как раз это и хотел сказать, сразу видно, у всех, кто вернулся с войны, свои приметы. Что, плохи дела?
Я кивнул.
— Вот оно как…
Было так приятно выкурить трубку в компании с кем-то, одинаково складывать губы, производя звук, немного похожий на чавканье, и тихо, едва слышно, одинаково выдыхать голубые колечки дыма.
Теперь мне уже почти ничего не было видно. Я вдруг понял, что старик будет у меня спрашивать то, что они все спрашивают, и знал, что мне придется отвечать «нет», «нет». Я испугался, когда он открыл рот, но он сказал только:
— Вы тут кого-то ищете?
— Да, — тихо ответил я.
— Кого?
— Семью… Фройляйн Марию.
— О! — воскликнул старик. Он сидел совсем близко, и я почувствовал, что никогда не забуду запах его одежды. Старик отодвинулся от меня подальше. — Нашу фройляйн!
Старик наверняка ощутил, что мое сердце вдруг забилось сильно и неровно, может быть, он заметил и капли пота, выступившие у меня на лбу, и наверняка его удивило, что я вдруг вынул трубку изо рта и со вздохом сжал ее в кулаке. Ибо он опять придвинулся ко мне и сказал тихо, но уже не так тепло, как раньше:
— Не бойтесь, она здесь…
— Спасибо, — сказал я и сунул трубку в рот, зная, что у меня теперь будет время, целая уйма времени; неожиданно для самого себя я вздохнул, да так глубоко, что испугался.
Я почувствовал, что старик внимательно разглядывает мой изрядно потрепанный мундир и что он еще ближе придвинулся ко мне. Я закрыл глаза, потому что знал: теперь он начнет меня расспрашивать.
— Может быть, вы его встречали…
Я промолчал.
— Он был унтер-офицером. Его фамилия Гриттнер. Губерт Гриттнер. Это мой сын. Он тоже воевал на Западе. Может, вы его встречали?
— Где? — спросил я хрипло.
— В Фалесе, — выдавил он и замер, ожидая ответа.
— Я тоже там был, — сказал я и посмотрел на него.
Он вынул трубку изо рта, обхватил ее горячую головку пальцами правой руки, и по его плотно сжатым губам и сузившимся глазам ясно читалось: он уверен, что и от меня ему ничего не узнать.
— Нет, — сказал я со вздохом и покачал головой. Потом опять сунул трубку в рот и посмотрел на дом.
— Странно все-таки, — сказал он, — столько народу пришло оттуда, и никто его не встречал… — Я хотел что-то ответить, но он поднял трубку вверх. — О, я понимаю. Имя ничего не говорит. В Вердене тоже было так, а мы часто не знали того, кто лежал в полуметре от нас, я знаю это и вообще всё…
Он не договорил и поднял голову, потому что из дома молодой и звучный голос позвал:
— Отец!
— Иду, — откликнулся он негромко, приложил трубку к краю фуражки в знак приветствия и ушел.
Я крикнул ему вслед:
— Где она живет?
Он тотчас понял меня и указал трубкой на окно комнаты рядом с криво висящим желобом.
— Спасибо, — сказал я и посмотрел ему вслед.
Старик шел медленно и спокойно, слегка сгорбившись; дойдя до каменного льва, стоявшего посреди тополей, он выбил о него свою трубку, обернулся и еще раз кивнул мне на прощанье. За те несколько секунд, которые ему понадобились, чтобы войти в темный подъезд и исчезнуть из виду, за эти несколько секунд я понял: мы сами во всем виноваты. Мы ко всему безразличны и отвечаем «нет», когда нас спрашивают о ком-то. Мы вынуждены всегда говорить «нет» и говорим это слово, и сердце у нас не разрывается на части, а на самом деле это слово означает: «Разве я сторож брату моему?..»
Я почувствовал, что сейчас ее здесь нет, и все-таки встал и вошел вслед за стариком в дом. Я не глядел по сторонам, но необыкновенно ясно ощущал, что дом выглядел так, как должен выглядеть после того, как в нем три недели жила рота солдат. Перила почти уцелели, лишь кое-где не хватало балясин; на верхнем этаже было темно, я сразу увидел, что боковые окна забиты досками, так что свет проникал внутрь серебристо-серыми вертикальными полосами, и в коридоре казалось, будто на улице дождливый и холодный зимний день, вечером небо станет свинцовым, а ночь беззвездной и печальной.
И хотя я знал, что ее здесь нет, я быстро направился в конец коридора, постучал в дверь, подождал, еще раз постучал и подергал ручку. Внутри было тихо, да и я ничего не ощутил и все время, что стоял под дверью, — с пол минуты, наверное, — удивлялся, почему это я ничего не чувствую. То, что она осталась именно в этой комнате, говорило о многом, в сущности, обо всем. Но я ничего не чувствовал. Наконец я обнаружил записку, прицепленную к двери, сорвал ее и прочел в полосе света, падавшего в коридор сквозь щели между старыми заплесневелыми досками.
Это был ее почерк. «Вернусь в восемь, ключ у соседей. М.». Я сунул записку в карман, подошел к соседней двери и постучал. За дверью не было слышно ни звука, но теперь эта тишина показалась мне такой гнетущей, что у меня сжалось сердце, словно кто-то накачал в меня воздух и вот этот воздух давит и давит на него. Я постучал еще раз и услышал за дверью шепот; потом кто-то встал с кровати, в замке повернулся ключ, и я увидел в сумеречном свете прелестную женскую головку с взлохмаченными светлыми волосами; и, хотя мне видна была лишь узенькая полоска ее шеи, я догадался, что женщина голая. Даже по запаху это было понятно.
— Я к фройляйн Н., — сказал я. — Пожалуйста, дайте мне ее ключ.
— Ох! — воскликнула она — Вы тот, кто висит у нее над кроватью…
— Да, — пробормотал я, — возможно…
Она быстро прикрыла дверь. Я опять услышал шепот, и обнаженная, круглая, прелестная ручка протянула мне ключ.
Я направился назад и, пока шел по этому затхлому коридору, где, наверное, вечно стояла зима, решил, что бессмысленно гнать от себя воспоминания, раз я сейчас войду в ее комнату. Я сунул ключ в замочную скважину, но почему-то не повернул, а вместо этого скомкал в кармане ее записку, так что она превратилась в маленький, твердый, неприметный комочек между пальцами.
Тогда я думал, что вижу только ее пробор. Он был подо мной, прямой и аккуратный, белый и крутой, как узкая и прекрасная светлая тропинка меж округлыми, медленно вздымающимися и вновь опадающими волнами ее темно-русых волос. Мои глаза всегда смотрели на этот пробор и больше уже ничего не видели. Эта узкая тропинка была бесконечной, и я почувствовал такую печаль… О, этот пробор!
Правой половиной груди я ощущал биение ее сердца, тихое и ритмичное, и знал, что у нее было доброе сердце, полное такой огромной любви ко мне, что большей и искать не стоило. В ту пору я знал о ней все и понимал, что был ей очень близок, ближе уже и быть невозможно. Окно было полуоткрыто, и запах парка наполнял комнату, густой и прекрасный, полный восхитительных ароматов тления. Зеленоватая гардина пропускала свет и окрашивала в зеленоватый цвет всю ее одежду, раскиданную на полу. Ковер и комод, да и стул, на котором лежала моя портупея, — все было зеленоватым и смутным, нежным и прекрасным, и даже оловянная пряжка на ремне приобрела зеленоватый оттенок; я четко различал на ней возвышенные слова «С нами Бог», обвивающиеся вокруг государственного герба в лавровом венке. При виде ее белья, коричневой юбки и красного пуловера я исполнился бесконечной нежности, которая помогла мне понять, почему мужчины обещают женщинам достать звезду с неба. Мундир лежал так, что видна была только подкладка и кусочек погон с белым кантом, и я заметил, что подворотничок грязный, но мой блуждающий взгляд, от счастья не находивший себе места, то и дело возвращался к неизменно ясной и четкой тропинке ее пробора, лежавшей подо мной, и я знал, что эта тропинка не имеет конца, и еще знал, что никогда не смогу быть к кому-либо ближе, чем к ней, а она тем не менее оставалась такой же бесконечно далекой от меня, как бесконечен был ее пробор.
Подбородком я ощущал теплый кончик ее носа, ее дыхание касалось моей шеи, и я чувствовал, что она никогда, никогда не пошевелится, если не пошевелюсь я…
Я все еще держал в руке колечко ключа, бородка которого уже торчала в замке, а другой рукой сжимал в кармане крошечный комочек бумаги — ее записку. Покусывая нижнюю губу, я услышал, как в соседней комнате женский голос, тот, что сказал: «Ох, вы тот, кто висит над ее кроватью», начал напевать, и по пению женщины чувствовалось, когда она делала паузу, чтобы набрать в легкие побольше воздуха; теперь оттуда доносился еще и мужской голос.
Я тогда тоже ощутил желание никогда больше не двигаться и все время погружаться взглядом в глубины этой тропинки, иногда смотреть на валявшуюся на полу зеленоватую одежду, похожую на шкуры диковинных зверей, слушать, как бьется ее сердце справа у моей груди, бьется очень тихо и ровно, доброе сердце, счастливое сердце, лучше которого никогда мне не найти, чувствовать подбородком теплый кончик ее носа и ощущать ее нежное дыхание, касавшееся моей шеи, словно дыхание ребенка.
Иногда я, отдыхая, опускал голову на ее лоб, и тогда мне становилась видна на темной стене большая, тяжелая, прекрасная картина — считалось, что кисти Рубенса, — светящееся светло-розовое тело женщины смотрелось на темно-зеленой стене слишком живым, но у этой женщины были серебристо-седые волосы, тоже казавшиеся зелеными, и ее легкая любезная улыбка предназначалась не нам, а кому-то другому, очень далекому. А когда в эти минуты отдохновения я поднимал глаза еще выше, то видел вершины тополей, серебристо-серые и очень близкие, и мне казалось, будто я даже чувствую их прохладный терпкий аромат, а в просветы между тополями я вижу далеко-далеко окраину города, красные черепичные крыши, пестрые кроны деревьев, светлые колокольни новых и темные старых церквей, и мне вспомнилось, что на дворе была осень, а в стране война…
Я видел все и ничего. Рисунок на ковре, все время повторяющиеся меандры всех цветов. То перекрещивающиеся, то наползающие друг на друга, вновь наползающие и вновь перекрещивающиеся, а в точках пересечения — большие яркие цветы; я видел и крошечные царапинки на светло-коричневом туалетном столике, и маленькую трогательную дырочку на ее чулке, валявшемся посреди комнаты, — маленькую зеленую дырочку… И все же я не видел ничего, кроме этого ужасно далекого, недостижимого конца ее пробора.
Было так тихо, что просто не верилось, будто идет война. Эти коридоры за кремовой дверью были полны той благожелательной, чудесной приветливости, какая была написана на лице той женщины на картине, что видела нас обоих лежащими на кровати и все же смотрела мимо нас; снаружи, за полуоткрытым окном в парк, набухали прекрасные щедрые запахи; парящая в воздухе великолепная, полнейшая тишина обволакивала эту комнату, в которую никогда больше никто не войдет и из которой никто не выйдет, если мы этого не захотим…
Но я-то знал не только про осень, но и про войну. С первой минуты, когда мой протрезвевший взгляд упал на эту чудесную светлую узкую тропинку ее пробора, я знал, что мне придется встать, уйти и вернуться, и еще я знал, что больше всего страшусь именно возвращения. Я знал, что этот грязный подворотничок скоро опять коснется моей шеи и что я буду с непроницаемым лицом терпеть, когда на меня станут орать, и на какой-то миг мне померещилось, будто я вижу вдали окраину города, наголо обритую, без церковных колоколен, и плоскую, как жалкий силуэт деревни без церкви.
Внезапно я почувствовал на своей щеке нежное прикосновение ее ресниц, понял, что она открыла глаза, и вспомнил, что я наг. Потом увидел совсем близко ее волосы, ее пробор и в его конце белизну подушки… Я словно бы очнулся от обморока, все приблизилось, как сквозь бинокль, которым можно подтянуть предметы к себе поближе, я полной грудью вдыхал запахи парка, лившиеся в комнату густыми волнами, вдыхал аромат ее кожи и слышал тихий рокот голосов внизу, на террасе, слышал звон бокалов и сочный жизнерадостный смех какой-то женщины, и мне пришло в голову, что те, кто сидит сейчас на этой террасе, знают о нас обоих и никто не скажет ни слова.
Все, что я сделал несколько минут спустя, я видел совершенно точно. Видел, как я оделся, поцеловал ее в лоб, тихонько вышел из задней двери дома и исчез, чтобы больше не возвращаться.
Но в ту секунду, когда я вспомнил, что на мне не было одежды, я увидел, как она встает на следующее утро и появляется внизу, но никто ни о чем ее не спрашивает, пока наконец однажды кто-нибудь не упомянет с улыбкой о куче писем, которые приходится таскать почтальонше, а позже я видел ее мысленно тысячи и миллионы раз — как она с письмами в руках взлетает вверх по лестнице, рывком открывает дверь, приваливается к ней спиной и дрожащими пальцами вскрывает конверт.
И, выходя из задней двери дома, из этой ржавой, скрипучей, маленькой железной дверцы, я уже знал, что никогда не буду испытывать страха перед смертью, зато всегда — перед жизнью…
Я выпустил из пальцев скомканную записку, почувствовав, что руки стали влажными от пота, потом судорожно повернул ключ в замке и распахнул дверь.
Я быстро прошел по ковру, торопливо миновал кровать, по-прежнему стоявшую справа от окна, и выглянул через открытое окно в парк: свет падал в комнату сквозь узкие щели в закрытых ставнях, и казалось, что вся комната разрезана узкими полосками теней на отдельные ломти. Все, что я видел, было реальностью. И та картина все еще висела на стене, все так же слишком светлая и живая для этих темно-зеленых обоев. Полосатым было и лицо женщины на картине, и комодик, и кровать, краем глаза я заметил и большую стеклянную горку, набитую всяким старьем, а между кроватью и дверью еще и письменный стол. Под подоконником было темно, туда падало только слабое отражение полос света и тени, и я догадался по легкому запаху горелого, что там, наверное, стояла плитка. Но все это я заметил как бы вскользь. Мне хотелось сначала осмотреть комнату, распахнуть окно, а потом спокойно освоиться здесь, но почти сразу я почувствовал что-то странное, нематериальное и неуловимое, напомнившее мне о том, что эта комната не моя. И что я вряд ли смогу вступить во владение ею, как и ее комнатой. Что-то чуждое, незнакомое, исполнившее меня чувством, похожим на ревность, которой я раньше не знал. И я понял, что дело не в том, сумею ли я вновь вступить во владение ею, а в том, что буду вынужден за нее бороться.
Шагнув за порог, я остановился на миг и подумал, не стоит ли включить свет и поискать в комнате то, что, возможно, смогло бы объяснить, откуда взялось это чуждое и ужасное ощущение, но тут же понял, что не смогу найти здесь никаких доказательств, а кроме того, не имею права искать их, даже если бы они здесь и были…
Я медленно вышел из комнаты и запер за собой дверь.
Из соседней комнаты женский и мужской голоса теперь доносились громче и яснее, некоторые слова я даже расслышал, но они отскакивали от меня, как пули, утратившие свою убойную силу.
Где-то в глубине дома открылась и закрылась дверь, и на какой-то миг часть скудно освещенного коридора наполнилась серым светом, потом открылись и другие двери, тут же вновь закрылись, кто-то спустился по деревянным ступенькам, и до меня донесся отчетливый запах рыбы и лука.
Я прислонился к дверному косяку и только теперь понял, что все это значит: двадцать пять лет билось ее сердце, но я только полминуты чувствовал это биение, двадцать пять лет в ее голове рождались миллионы и миллиарды мыслей, а мне была известна лишь малая толика их. Я-то верил, что она всем сердцем принадлежит мне, навсегда и навеки, слишком твердо верил, настолько слишком, что даже боялся этого, боялся вернуться к ней, но теперь понял, что вера эта была бессмысленной и глупой. Я не знал о ней ничего, что можно было бы считать принадлежавшим мне, с таким же успехом можно зачерпнуть ведро морской воды и заявить, что море принадлежит тебе. Я даже не знал, что она любит из еды, не знал, как она жила и на что. Я попытался себе представить, как она едет в трамвае и смотрит из окна на людей, лавки, животных, дома, развалины, цветы и деревья, и каждая мысль, которая у нее появляется при этом, а их у нее появлялось, наверное, с десяток в минуту, — каждая такая мысль была особым миром, и в ее голове жили миллионы таких миров, воспоминания, мечты, а мне была известна настолько ничтожно малая толика всего этого, что я почувствовал себя жалким и несчастным, когда стоял, прислонившись к двери в темном коридоре, все сильнее заполнявшемся запахом рыбы и лука, к которому теперь добавился и запах крепкого уксуса.
Ревность бушевала во мне, как дикий зверь, пробравшийся исподтишка и теперь пожиравший изнутри…
О, как бы мне хотелось, чтобы она безраздельно принадлежала мне, как принадлежала тогда, хоть я и знал, что светлая тропинка ее пробора уходит в бесконечность и я не смогу пройти ее до конца. Я ненавидел ремешок ее туфли, который попытался себе представить, коричневый, немного обтрепанный ремешок с комочком засохшей грязи. Ей всегда была свойственна некоторая трогательная неряшливость.
Когда я сделал первый шаг в ее комнату, эта отвратительная и неуловимая чуждость всех предметов и всех мыслей о ней встала стеной передо мной, и я отпрянул назад, хотя эта черная стена была тонкой, но прочной и непреодолимой для меня и вздымалась высоко в небо, уходя в бесконечность…
Я глубоко вздохнул и ощутил ту же противную вонь, к которой теперь добавился еще и запах дыма, — так глубоко вздохнул, что почувствовал приступ дурноты, и вдруг вспомнил, что голоден и смертельно устал…
Еще я почувствовал, что мое лицо как-то сразу осунулось, глаза заболели, а в глазницах засела точащая, сосущая, сверлящая боль, которая часто донимала меня под конец бессонной ночи. Я осторожно опять сунул ключ в замочную скважину, прошел в комнату, закрыл за собой дверь и медленно снял вещевой мешок, висевший за спиной на длинном ремне. Потом нагнулся, нащупал ковер слева у двери и медленно лег на спину. Оказалось, что лежать на полу, вытянув ноги и подложив вещмешок под голову, как я делал множество раз, очень приятно.
Похоже, время шло к восьми. И хотя я знал, что ее сердце билось для меня спокойно и любовно, так любовно, как не будет биться никакое другое сердце, все же где-то в глубине души чувствовал, что теперь она не будет мне принадлежать и ее придется уступить чему-то, чего я никогда не ожидал, чему-то, что нельзя было назвать и охватывало ее всю — от потрепанного ремешка туфли до облаков, на которые она иногда глядела, и в голове ее рождались мысли, ни одной из которых я не знал. Я потеряю ее, отдам ее миру, тому миру, в котором так легко думать о смерти и так трудно о жизни…
На двери и части стены еще раз появилось увеличенное изображение окна с его темными и светлыми полосами — смутное, расплывчатое изображение с нечеткими линиями, светлые полосы были мерцающими, а темные — размытыми, и я заметил, что большое распятие, которое раньше висело внизу, в вестибюле, теперь висит здесь.
Внезапно меня вновь начала давить чуждость этой комнаты, не принадлежавшей мне, и удивительно приятный запах туалетного мыла и платьев с крошечной примесью сигаретного дыма. Я опять вскочил, схватил вещмешок и открыл дверь. Поворачивая ключ в замке, я думал о том, кому могла предназначаться записка на двери. Но мысль эта не разбудила во мне ревности. Нет, я не мог ревниво относиться к людям. Все люди были одинаковы, и все они были одиноки, а я бешено ревновал их к жизни и к мыслям, которые их наполняли…
Одна из дверей, выходивших в коридор, была теперь открыта, и я сразу почуял, что именно за этой дверью рыба, лук и уксус превращались в еду. Запахи переполнили небольшую комнату и теплыми отвратительными облаками поплыли по коридору; я услышал, как сырую картошку высыпали на сковороду с горячим жиром и как шипенье жира мало-помалу сменилось тихим урчаньем. Потом из двери выплыли тучи темно-серого дыма, узкими и полупрозрачными полосами вытянувшиеся в сторону лестничной клетки. Дом теперь был полон шума, то и дело где-то хлопали двери.
Я медленно подошел к открытой двери и постоял у стены, наблюдая за толстой низенькой пожилой женщиной; левую руку она сунула в вырез платья, а правой медленно переворачивала картошку на сковороде. На неопрятном столе высилась огромная фарфоровая миска, в которой голубоватые куски рыбы плавали в уксусе среди пожелтевших кружочков лука. У женщины, стоявшей у плиты, лицо было темное, почти багровое, и меня даже затошнило при мысли, что рука ее лежала на голой груди. Окошко в этой комнате было небольшое — осколок стекла в узенькой деревянной раме, которая, судя по всему, никогда не открывалась. На кухонном шкафу облезлого красноватого цвета, где стояли хлебный ящик и кухонные весы, я заметил будильник и увидел, что было без двадцати семь. Я медленно направился к лестничной клетке и стал спускаться. Белая лепнина на потолке и стенах выглядела теперь как большие грязные пятна, поцарапанные и исписанные разными словами.
Медленно шагая со ступеньки на ступеньку, я размышлял, что мне делать.
Может быть, думал я, лучше мне уйти сейчас, прежде чем я увижу, что надо уходить, и тогда я избавлю грозного ангела с мечом от выполнения столь мучительной для него задачи — изгонять меня, да еще и сопровождать мой уход с факелом и мечом. О, может быть, мне будет позволено припасть к стопам ангела на пороге дома, посидеть минутки две и застыть в этой позе под грузом последних тридцати лет моей жизни.
На одной из ступенек я остановился и заглянул сквозь дыру в стене в заднюю часть парка. Та ржавая дверца, из которой я тогда вышел, покидая дом, еще сохранилась. Она вела к соседнему участку, где парк был ухожен, а дом с новой крышей, заново оштукатуренный, так и светился благополучием, уверенностью и покоем. Большие продолговатые ставни были выкрашены блестящей краской приятного цвета и предназначались, очевидно, для того, чтобы загораживать такие же продолговатые, очаровательные, высокие окна во время ночного покоя или ночных праздников. Газоны были перекопаны и засеяны заново; я увидел прелестные хрупкие ростки самой первой зелени — нежное оперение весны, увидел грядки, на которых аккуратными рядами были посажены анютины глазки, и заметил молодую стройную женщину, медленно идущую бок о бок с таким же молодым и стройным мужем, они горделиво улыбались, любуясь своим садом. На женщине была длинная темно-коричневая юбка, чуть темнее ее густых волос с рыжеватым отливом, желтый пуловер оставлял открытой лишь узенькую полоску ослепительно белой шеи — полоска эта казалась драгоценным в своей простоте ожерельем.
Они производили впечатление кукол, мастерски изображавших веселье, безукоризненными были их улыбки — в меру утонченные, в меру эмоциональные. Их жесты и походка были так безупречны, что не каждый заметил бы: да ведь они же статисты в фильме, обреченном на счастливый конец!
Я медленно продолжал спускаться, дошел до первого этажа и увидел, что дети все еще играли в мяч у входа. Было очень приятно смотреть, как их упругие мячики летали туда и обратно в серой раме яркого света, падавшего сквозь дверной проем, как они мягко стукались о пилоны из песчаника, и слушать звонкие и энергичные голоса обеих девочек, неустанно считавших очки.
Только теперь, выйдя из дома, я заметил, что и в подвалах кто-то жил. Из отверстий в окошках торчали ржавые, коричневатые трубы, из которых валил дым, а вместе с ним и всевозможные кухонные запахи. За окнами, наполовину выходившими на поверхность земли, я увидел кое-где слабый желтоватый свет, услышал по радио звуки и голоса и неожиданно почувствовал, что руки, вроде бы спокойно лежавшие в карманах, взмокли от пота: я не выносил эту музыку, по всему миру лившуюся из льстивых отвратительных устройств — репродукторов, не выносил эту вкрадчивую болтовню, своей спокойной и мягкой самоуверенностью внушавшую страх. Нигде не было спасения от этой пустой болтовни, нигде не было спасения от этой псевдомузыки, которая из миллионов репродукторов, словно нескончаемая слизь, капала на мозги человечеству. Казалось, по всему миру разносился и этот запах лука, рыбы, уксуса и жареной картошки. Мне так нестерпимо захотелось зарыться глубоко в землю, заткнуть уши и лишь временами высовывать голову, чтобы вдохнуть воздуха, молча слушать пение тишины, этого ласкового, утраченного остатка рая.
Я вытер руки о подкладку карманов и медленно подошел к скамье, где несколько минут назад сидел со стариком. После того как я долгие годы ждал, когда смогу увидеться с ней, необходимость ждать еще больше часа наполнила меня яростным нетерпением, от которого я совсем растерялся. Я не знал, куда мне пойти, перед моими глазами явственно стояла белая стена ее комнаты, на которую свет и тени от ставней отбрасывали серые и серебристые тени, а над дверью висело большое черное распятие с белым телом Христа. Больше всего на свете мне хотелось лежать там на ковре, подложив под голову вещмешок, смотреть на распятие и ждать; может быть, и соснуть, но я уже знал, что тотчас сбегу от чужой атмосферы этой комнаты, от той невидимой, тонкой и тем не менее невообразимо прочной черной стены, которая не позволила мне войти в комнату, распахнуть окно и вступить во владение всем — кроватью, видом из окна, и не позволила мне бросить еще раз взгляд на далекий город, который показался мне таким голым за те две минуты, что я на него смотрел. О, я всегда предвидел, что это невозвратимо, но убедиться в этом было ужасно. Никогда, никогда больше… Я знал, что она меня никогда не забудет. След моего взгляда навсегда остался на всех вещах в этой комнате, явственнее, чем наглый и властный контур, нанесенный самой толстой кистью, след моего взгляда остался на ее лбу и на картине над кроватью, на ковре, на далеком горизонте и на каждом крошечном кусочке ее тела.
Неподалеку я заметил человека, орудовавшего лопатой и тяпкой, подошел к нему, поглядел на его усталое, хмурое лицо, попросил огня для трубки, наполовину полной табака, и вновь уселся на скамью, упершись взглядом в землю.
Земля была бурая, местами темно-коричневая от влаги и даже немного сырая, и в ней попадались камешки того белого гравия, которым раньше был покрыт весь полукруг площадки. Белые камешки стали бурыми и ушли в землю. Кое-где валялись черные, гнилые листья кукурузы, ржавые гвозди и обгоревшие спички с черными головками, я разглядел даже половинку черной брючной пуговицы.
Воспоминание о беломраморных скамьях на дорожках в форме нотных знаков, которые наверняка заросли кустами, теперь показалось мне смешным. Я подумал было, что, может, стоит еще раз взглянуть на ту скамью в левом краю рощицы — пробраться сквозь заросли и прикоснуться к ее прохладной и влажной поверхности, — но мне припомнился страх, который я испытал, когда мы с Марией вышли из этой рощицы и подошли к террасам, где смеющиеся люди пили вино и мило болтали в ласковой сырости теплого осеннего вечера.
Я тогда остановился у фонтана, поднял глаза на окно ее комнаты рядом со свисающим с крыши желобом и ощутил в сердце боль расставания. Дом, окутанный сумерками, был тих и спокоен, между рядами тополей виднелись светлые платья дам и тлеющие огоньки сигар, и я услышал пение молодой женщины. В те годы в доме жило совсем мало народу, всегда было тихо и пустовато.
Так, стоя у фонтана, я тогда мысленно попрощался с ней. Подумал, глядя на свисающий желоб, что им придется его починить, и вместе с Марией прошел мимо людей в ее комнату. У двери она обогнала меня, и из полумрака коридора я видел, как развевается подол ее длинного серого платья, видел ее белую шею и, когда она обернулась, ее нежный профиль.
Позже, в Румынии, в одном белокаменном городе, я пошел как-то в лавку, чтобы продать два носовых платка и пару носков, дело было вечером, и в переулках кипела какая-то темная суетливая жизнь, в которой участвовали серые мундиры, мужчины в длинных белых сюртуках и женщины. Все было тихо, мрачно и наполнено сладострастием гибели. Ибо фронт был близко и взрывы снарядов слышались не так, как они слышатся издалека — глухие удары по мягкому вязкому тесту, а совсем рядом, резко и оглушительно, словно земля была тонкой легкой фанеркой, по которой били молотками. Иногда доносился даже треск пулеметных очередей, быстрых и безнадежных, как скрип изношенных тормозов.
Я очутился в одном из переулков, казавшихся безлюдными, где все же роилась какая-то подозрительная толпа, распахнул дверь, за которой было темно, и очутился в лавке старьевщика, где затхлая одежда висела на плечиках, словно мертвецы с поникшими головами и отрезанными ногами. Позади стоек с одеждой на голубоватых полках валялся всякий хлам: домашняя утварь, безделушки, навеки остановившиеся часы; я облокотился о грязный прилавок и закурил сигарету. Вдруг из-за прилавка молча вынырнуло лицо маленького еврейского мальчика, бледное, наглое и в то же время испуганное и полное невыразимой печали его народа. Я положил на прилавок два новых носовых платка и пару носков. Мальчик вздрогнул, его оттеснила в сторону женщина в мятом желтоватом костюме, ее профиль напомнил мне профиль Марии в тот момент, когда мы поднялись из парка в ее комнату и она обогнала меня. Женщина молча кивком поздоровалась со мной, наклонилась над моими вещами, и ее густые волосы показались мне темно-зелеными. Она пощупала платки и носки, и я увидел, что руки у нее были маленькие и удивительно нежные, словно у ребенка; вещи мои быстро и незаметно исчезли под прилавком, а на грязной его поверхности появилась бледно-голубая банкнота. Внезапно женщина прикрыла банкноту рукой, подняла голову, и на ее лице — красивом и мертвенно-бледном, с фиолетовыми губами — была написана вялая и безучастная готовность.
Я быстро выдернул из-под ее руки банкноту, сильно хлопнул за собой дверью и живо представил себе, как платяные мертвецы тихо качнулись на своих плечиках, а безделушки и мелкие вещицы звякнули. Я устремился на главную улицу городка, забитую беженцами, возами и подбитыми танками, и, хотя надрывные голоса пытались отдавать команды, я все равно пошел в пивную и пропил там все деньги. В пивной было много солдат, и они сказали, что пока еще есть время, дела еще не так плохи, у русских, мол, нет сил продвигаться дальше, и еще я узнал, что фронт проходит в двух километрах от городка, если это вообще можно назвать фронтом. И я залил вином и шнапсом весь свой страх перед этой лавкой старьевщика с повешенными платьями-мертвецами, мальчиком и профилем женщины, улыбнувшейся мне с вялой готовностью, а поскольку я был легко ранен в ногу какой-то шальной пулей, некоторое время спустя один фельдфебель санитарной службы разрешил мне вскочить в поезд с ранеными, как раз отъезжавший от вокзала, который методично и упорно, с интервалом в несколько минут, обстреливали русские орудия.
Я пристально смотрел на носки своих черных ботинок, которые резко выделялись на фоне бурой, усеянной осколками гравия земли, и мне вспомнилось, как в темном поезде, ехавшем сквозь ночь, кто-то дал мне кусок колбасы, сильно пахнувшей чесноком, и ломоть хлеба, черствого и затхлого на вкус, и как потом меня мучила страшная жажда — до тех пор, пока позже, много позже, после того как мы долго тряслись во мраке, нам не выдали немного кофе, всего по одной маленькой жестяной банке на брата, на какой-то станции, где на темных перронах ночевала безмолвная толпа людей.
У меня всегда так получалось: стоило мне только что-то вспомнить, например шею Марии или ее профиль, как сразу же из памяти выплывало множество всяких вещей, словно первая мимолетная мысль была лишь одним из звеньев длинной, бесконечно длинной цепи, которую приходилось пропускать через себя, хотел я того или нет. Но усилием воли я отогнал эти мысли, вновь принялся глядеть на черные носки своих английских армейских ботинок и попытался себе представить, что теперь будет.
Раньше я тоже иногда пытался себе представить, что наверняка найду какое-нибудь занятие, которое даст мне возможность зарабатывать деньги — достаточно, чтобы лежать на кровати в ее комнате, — и теперь я постарался нарисовать себе такую картину: я лежу на кровати, глядя на распятие, которое теперь всегда будет висеть у нее перед глазами, Мария же хлопочет у плиты, грациозная и не слишком умелая, а я прошу ее не готовить рыбу с луком и уксусом; окно, наверное, будет открыто, на улице будет идти дождь, и струи его будут стекать по кривому желобу, а тополя не дадут эху бесчисленных радиоприемников отзываться в нашей комнате.
Внезапно я заметил, что в поле моего зрения появилась другая пара ботинок. То были опрятные, блестящие, добротные и красивые коричневые мужские полуботинки, которые выглядели, будто с витрины; они стояли на самом краю узкой дорожки, так что каблуки нависали над канавкой, идущей вдоль нее. Я всегда считал замечательными свои ботинки, эти черные английские армейские ботинки, которые мне выдали в лагере, но теперь я увидел, что они грубые и уродливые по сравнению с этими красивыми, блестящими и добротными, выглядевшими как с витрины. Но в витринах над ботинками не бывает брюк — светло-коричневых прекрасных брюк из мягкой шерсти, на которых складка держалась так, будто изнутри ее подпирал длинный острый нож. Я выбил трубку и подумал, что мне никак не могло понадобиться больше трех минут, чтобы докурить трубку, и еще мне пришло в голову, что три минуты — это очень долгий срок, дольше, чем многие-многие годы. Я поднял голову, посмотрел на этого человека и сразу понял, что никогда мне не лежать на той кровати, глядя на черное распятие на зеленой стене, и что Мария никогда не будет стоять у плиты, а я никогда не буду слушать, как струи дождя стекают по полуоторванному желобу. Я понял это, хотя и знал, что любой человек может предотвратить все, кроме смерти…
Лицо у этого человека было спокойное и широкое, губы чуть тонковатые, глаза слишком близко поставленные, однако лоб высокий, красивой формы, вот только волосы были вьющиеся и лежали слишком уж правильными волнами, а я всегда недолюбливал мужчин с волнистыми волосами.
Человек держал в руке коричневую папку и прижимал к ней большим пальцем светло-серую мягкую шляпу с безупречно чистой лентой внутри.
Он сказал:
— Я вижу, вы тот, кто висит над ее кроватью.
И я ответил то же, что только что сказал хорошенькой соседке:
— Да, возможно. — Потом вынул руку из кармана, все еще сжимавшую записку, осторожно разгладил ее, поднял повыше, чтобы было видно, и сказал: — Это наверняка для вас…
— Да-да, — сказал он, — это для меня, значит, в восемь. — И, взглянув на часы, добавил: — Еще больше часа.
Мы смотрели друг другу в глаза, он — покусывая нижнюю губу, а я — сидя на скамейке. Теперь я уже знал, что она принадлежала только мне, мне одному, и никто и ничто на свете не сможет ее у меня отнять, и еще я знал, что никогда больше не буду лежать на той кровати…
Мы отвели глаза, я опять уставился в землю и увидел, что ботинки того человека начали беспокойно вышагивать взад-вперед. Я приподнял носки своих английских ботинок, опустил, опять приподнял и между носками ботинок, находившихся друг от друга на расстоянии, требуемом уставом, увидел втоптанную в землю половинку черной брючной пуговицы.
— Может быть, — сказал голос над моей головой, — нам стоит поговорить?
Я встал и последовал за ним, и, когда я поднимался, за эту десятую долю секунды, за этот ничтожно малый промежуток времени, я понял, что она для меня потеряна, окончательно и бесповоротно; он шел впереди меня, покуда маленькие дорожки парка были слишком узки, чтобы идти рядом, подождал секунду, когда мы подошли к дорожкам пошире, посторонился, чтобы я мог идти рядом с ним, и мы молча зашагали по длинной прямой дороге, которая вела через рощицу к тем проржавевшим воротам, которые теперь уже никто не открывал. Потом мы свернули немного влево, чтобы попасть к пролому в каменной ограде, и тут я увидел, что за оградой под густыми зелеными кронами деревьев стояла машина — черная, добротная, безусловно, плод труда умелых мастеров, надежная, опрятная и прочная.
Замедляя шаги, мы приближались к самому широкому пролому в ограде. Возле него мы остановились и обменялись взглядами; я увидел, что он дрожал, губы дергались, а его широкое, ладно скроенное лицо совершенно расклеилось; он сказал:
— Со вчерашнего дня она моя жена, но этого никто не знает.
Я только кивнул в ответ, глянул себе под ноги и еще раз посмотрел на него.
В его глазах я прочел чудовищную истину, которую он никак не мог осознать. Его боль, его жалкий вид, его нервная дрожь и все его невольно сдерживаемое страдание говорили о том, что, оказывается, есть вещи, которые нельзя ни купить, ни приобрести каким-либо другим путем, их можно получить только даром, и одна из них — любовь…
Я еще раз кивнул и зашагал прочь. Осторожно перелез через ограду, пересек аллею и пошел по отвратительной дороге без единого дерева назад, в город, чтобы уехать с тамошнего вокзала. Теперь солнце низко стояло за моей спиной, и моя тень была такой нечеткой, что я едва мог различить большую черную точку своей головы. И лишь когда на моем пути попадалось какое-нибудь препятствие — забор, сарай или полуобвалившаяся каменная ограда, — тень моей головы замирала на миг, потом росла и росла, наконец переваливалась через край препятствия и вновь перемещалась куда-то далеко-далеко, пока не исчезала с глаз, и я больше не видел ее и понимал, что никогда, никогда ее не настигну…
Перевод Е. МихелевичАмерика
Когда я вошел в студию, Губерт лежал на кровати, придвинутой к железной печке. Он разжег в ней несколько старых рамок; огонь получился скудный, громадное помещение, разумеется, не нагрелось. Вокруг печки образовался как бы крохотный островок сносной температуры, в остальном же пространстве со всеми картинами, мольбертами, шкафами царили холод и запустение. Положив на колени начатый набросок, Губерт не рисовал, а мечтательно созерцал какое-то пятно на коричневом одеяле. Он улыбнулся мне, отложил рисунок, и в его грустных больших серых глазах я лишь прочитал: голод и немного надежды. Однако я не стал его томить и вытащил свежий, душистый белый батон… Глаза Губерта заблестели.
— Или ты спятил, — сказал он, — или я… или ты украл, или мне мерещится, или… — Он отмахнулся от меня и протер глаза. — Это просто неправда.
— Изволь. — Я подержал хлеб у него под носом и сунул батон ему в руку, хрустнув корочкой. — Ну как, почуял? Глазами, носом, руками. Можешь думать, что ты спятил. Во всяком случае, я его не спёр. Ладно, дели!
Губерт наконец пришел в чувство, решительно схватил батон и, убедившись в его реальности, с глубоко трогательным вздохом достал из комода нож.
Я тем временем стал резать перочинным ножиком свернутые табачные листья, которые тоже принес. Мелко крошил их и раскладывал на теплой плите (кажется, это называют просушкой). Губерт бросил на меня сияющий взгляд, жадно принюхался и сказал:
— Из тебя вышел настоящий жулик.
Мы лежали рядом на кровати и с наслаждением, отщипывая по кусочку, ели белый хлеб — каждый свою половину, — душистый, свежий, еще теплый. Хлеб — лучшее, что есть на свете. Горе тем, кто больше не ест хлеба потому, что пресытился… Горе! К счастью, Губерт, видимо, забыл спросить, где я раздобыл хлеб. Не дай Бог, начнет допытываться. Ведь он жутко добросовестный, каким бывает только художник! Но счастливец жевал молча; да, счастлив человек, у которого еще есть кусок хлеба…
— Знаешь, о чем я думал, когда ты пришел?
Я ответил отрицательно. Господи, не психолог же я.
— Я размышлял о возможных экспериментах в американских университетах. Интересно, сколько калорий, по их расчетам, должен ежедневно потреблять гений… ну, такой, как Рембрандт? В конце концов современная наука знает все. Как ты думаешь?
— Возможно, они решили бы, что гений все-таки живет не по норме. Что он либо страшно много жрет, либо голодает и что его творческий успех не зависит от ежедневного приема пищи.
— Но у гения тоже есть предел голодовки. Можно, допустим, восемь дней голодать и мерзнуть в каком-нибудь подвале и написать об этом дивный сонет… Но если провести в холодном подвале всю жизнь, то всякая писанина прекратится; у человека просто не будет сил нацарапать сонет огрызком карандаша на грязном клочке бумаги.
— А я утверждаю, что в его мозгу может родиться много прекрасных сонетов, не написанных, о которых мир никогда не узнает, но они есть; сонетов, быть может, бессмертных, будь они опубликованы.
С хлебом мы разделались. Я собрал с плиты подсушенный табак, набил наши трубки, Губерт оторвал от рисунка полоску бумаги, я зажег ее в топке, и мы наконец закурили. Тем временем спустились сумерки, огромную студию будто заволокло туманом.
— Я напишу в Америку, — сказал Губерт, — пусть все-таки попытаются выяснить, сколько калорий в день получал Рембрандт. — Он тревожно посмотрел на меня. — Понимаешь, у меня возникло чувство неполноценности, потому что я не могу работать так много, как раньше. Вот недавно прочитал в газете: американцы проверили экспериментально, что калорийность нашего питания не способствует умственной работе… во всяком случае, два года не потянешь. Этот результат так ошарашил меня, что я больше не могу рисовать.
Губерт вдруг вскочил с кровати, подбежал к мольберту, приколол лист бумаги и как безумный начал работать. Быстро набросал эскиз, взял ящик с акварелью и пошло… энергичными мазками, иногда отступая на шаг, чтобы обозреть содеянное, он завершил небольшую картину, которую я не мог разглядеть из-за сгустившихся сумерек. Неожиданно Губерт повернулся ко мне и решительно спросил:
— Ты где достал хлеб, гусь лапчатый?
Я был вынужден признаться:
— Обменял свою авторучку у одного американского солдата, и… — я вынул из кармана две белые палочки, — каждому еще по сигарете.
Мы отложили наши вонючие трубки и с глубоким наслаждением затянулись чудесным табаком — американскими сигаретами! Губерт включил свет и продолжал творить.
— Лучше всего в Америке, самое лучшее — все-таки сигареты, — сказал он смеясь.
Перевод Н. БунинаАнекдот о немецком чуде
— Папа, — спросил одиннадцатилетний сын, — что это такое: немецкое чудо? О нем столько говорят.
Отец отложил газету, выключил радио и задумчиво посмотрел на сына. Ему приходилось отвечать сыну на тысячи вопросов, и, отвечая, он сознавал, что вопросы эти вынуждали его определять вещи, о которых он никогда не размышлял. Отец долго молчал.
— Не знаешь? — спросил сын.
— Минутку, — сказал отец. — Тебе известно, что такое счет в банке?
— Да.
— А что такое чек?
— Это такая бумага, как деньги, — ответил сын.
— Хорошо, — сказал отец. — Теперь слушай внимательно. Я знаю, что такое немецкое чудо. Ты заводишь два или три банковских счета, следовательно, у тебя будут две или три чековые книжки. Это обойдется тебе примерно в сотню марок.
— Но ведь чеки должны быть покрыты, — сказал сын.
— Минутку, мы еще не дошли до выписки чеков. Сначала ты должен взять кредит. Итак, в одном из банков ты берешь кредит на сумму в три тысячи марок.
— А его дадут?
— Да, если у тебя будет гарантия и поручительство. Допустим, ты получил кредит. Тогда выписываешь чек на две тысячи восемьсот пятьдесят марок и переводишь его на банковский счет номер два. Через несколько дней берешь чековую книжку номер два, выписываешь чек на две тысячи триста сорок семь с половиной марок и переводишь их на банковский счет номер три. Там деньги пусть полежат недельку. Затем, каждый раз немного уменьшая сумму, ты, неделя за неделей, переводишь деньги со счета на счет. При этом следи, чтобы в конце суммы всегда стояло несколько пфеннигов. Так выглядит убедительнее. Далее ты берешь в банке, где лежит сумма, четыреста марок и едешь на две недели в отпуск. Вернувшись из отпуска, идешь в банк номер два и говоришь: «Хочу взять у вас в кредит шесть тысяч марок». Там проверят твой счет и увидят, что в нем было большое движение — в обороте прошло двадцать тысяч марок. Кредит ты получишь. Из шести тысяч марок четыре переведешь на счет номер один, а две на счет номер три, дальнейшее зависит от твоей фантазии. Шесть тысяч, естественно, обернутся лучше трех. Вскоре тебе понадобятся еще три чековые книжки, цена им две марки пятнадцать пфеннигов. При умении сможешь получить в трех банках кредит по десять тысяч в каждом. Думай, как пускать их в оборот…
— Значит, все дело в обороте? — спросил сын.
— Пусть деньги работают, и потомки превознесут тебя до небес. Благословен будет твой род… Для начала тебе понадобится авторучка, три чековые книжки и марок пять на почтовые расходы. Когда сделаешь достаточно оборотов, бери большой кредит и начинай что-нибудь такое, на чем схватишь большой куш. Ну и — фантазия, фантазия… Главное, не пиши на чеках круглые цифры, в конце обязательно указывай пфенниги. Делай оборот, сынок, — сказал отец с пафосом, — и благодать будет сопутствовать тебе в жизни.
— И это действительно немецкое чудо? — спросил мальчик.
— Да, — сказал отец, — думаю, что это оно и есть.
Отец взял газету, но мысли его были слишком далеко, чтобы читать, и, отложив ее в сторону, он закурил сигарету. И если от этих мыслей он не впал в уныние, то сейчас он богатый человек.
Перевод Н. БунинаВ. Бёлль, К. Х. Буссе Послесловие
Все рассказы, вошедшие в эту книгу, взяты из творческого наследия Генриха Бёлля, которое хранится в городском архиве города Кельна и у наследников писателя.
Тексты представляли собой машинописные рукописи автора, они были заново перепечатаны и подготовлены к изданию. При работе устранены многочисленные опечатки, пропуски отдельных слов и прочие мелкие погрешности. Однако серьезных исправлений несоответствий в содержании или реалиях не делалось, так как они по большей части объясняются предварительным характером некоторых текстов или же перерывами в работе автора над рукописью…
Во всех текстах исправлены очевидные описки и орфографические ошибки, а также использована единая система пунктуации. С одной стороны, эта мера сделала тексты удобочитаемыми, что, безусловно, необходимо в популярном издании, а с другой стороны, она оправданна, вопреки возражениям некоторых издателей, неопровержимым и многократно доказанным убеждением Г. Бёлля, который не только допускал правку своих текстов, но в отдельных случаях даже ее ожидал или требовал. Кроме того, по нашему мнению, бытующая у нас издательская практика изменять задним числом авторскую пунктуацию от случая к случаю, иногда просто по своему вкусу, а кое-где сознательно оставлять ее нетронутой, никак не способствует сохранности текста. Не унифицировано только использование двоеточия, согласно явно выраженному автором предпочтению, которое противоречит правилам немецкой орфографии.
Рассказы расположены в хронологическом порядке. В тех случаях, когда в авторской рукописи не указана дата написания, для ее установления были использованы рабочие тетради и записные книжки Бёлля, а также соответствующие места в его переписке. В оставшихся сомнительными случаях пришлось прибегнуть к сравнительному анализу бумаги, на которой писал автор.
Ниже приводятся даты написания.
1. ПЫЛАЮЩИЕ. Рассказ. На приложенной к рукописи записке стоят даты: 18 декабря 1936, 3 и 7 марта 1937.
2. БЕГЛЕЦ. Рассказ. Чистовик датирован 2–3 ноября 1946 года и передан 12 мая 1947 года журналу «Франкфуртен хефген» для публикации.
3. ПЛЕНЁН В ПАРИЖЕ. Рассказ. Датирован 25 декабря 1946 года. Чистовик текста (позже утерянный) Г. Бёлль передал 31 мая 1947 года журналу «Карусель» в Касселе и 27 июня 1947 года журналу «Ди Фэре» в Мюнхене.
4. БЕШЕНЫЙ ПЕС. Рассказ. Машинописная рукопись датирована 10–11 февраля 1947 года. Г. Бёлль отослал ее для публикации 31 мая 1947 года в журнал «Дас Голдене Тор» в Баден-Бадене.
5. РАНДЕВУ. Рассказ. Первый вариант текста датирован 11 августа 1948 года. Второй, переработанный вариант, публикуемый здесь, не датирован. Точную хронологию в настоящее время установить не удается. Г. Бёлль предложил этот рассказ сначала 13 августа 1948 года на «Радио Штутгарт», а для публикации предлагал различным газетам и журналам вплоть до 1952 года.
6. РОД ИСАВА. Прозаический набросок. Машинописный авторский текст не датирован. Набросок другого содержания, но с таким же заголовком датирован 22 ноября 1948 года. Сорт использованной бумаги также указывает на написание этого текста в 1948–1949 гг.
7. ИСТОРИЯ МОСТА В БЕРКОВО. Рассказ. Не датирован. Написан предположительно в конце 1948 года. В 1949 году Г. Бёлль предложил включить его в сборник «Странник, когда ты придешь в Спа…», но в окончательный состав он не вошел. В конце концов Г. Бёлль переработал его и в 1951 году включил в качестве 8-й главы в роман «Где ты был, Адам?» Эта же редакция стала основой для радиопьесы 1952 года.
8. МЕРТВЫЕ УЖЕ НЕ ПОВИНУЮТСЯ. Рассказ. Авторская машинописная рукопись без заглавия датирована 5 января 1949 года. В одном из набросков рассказ имеет заголовок «Мертвые уже не повинуются», который и воспроизведен здесь, тем более что этот заголовок еще раз встречается в списке названий, составленном автором 8.1.1949 г. Текст рассказа является переработкой отрывка из неоконченной драмы Г. Бёлля «Как велел закон», написанной также в январе 1949 года (самая ранняя дата — 4.1.).
9. ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ. Фрагмент романа. В настоящее время известно лишь, что работа над ним была прервана на второй главе. Безусловно точна лишь датировка публикуемой здесь первой главы. В записной книжке 1949 года Г. Бёлль сделал следующую запись: «1, 2 и 4 мая — „Потерянный рай“. 25 мая — 2-я глава „Потерянного рая“».
Некоторые тексты из этого романа в переработанном виде были включены автором в роман «Ангел промолчал» (опубликован в 1992 году из архива), работу над которым Г. Бёлль начал в сентябре 1949 года. После того как публикация его в издательстве «Фридрих Миддельхов» не состоялась, автор переработал некоторые отрывки из него в рассказы. Из «Потерянного рая» получились два рассказа под общим названием «Ночь любви» и рассказ «Желоб на крыше», которые давно опубликованы.
10. АМЕРИКА. Рассказ. Не датирован. Предположительная дата написания 1950 год основана на оценке сорта использованной бумаги.
11. АНЕКДОТ О НЕМЕЦКОМ ЧУДЕ. Рассказ. Авторская рукопись не датирована. Предположительная дата написания 1950–1951 гг. основана на оценке сорта использованной бумаги.
Виктор Бёлль, Карл Хайнер Буссе Перевод Е. МихелевичПримечания
1
Сочинения древнеримских юристов по вопросам частного права, включающие выдержки из законов и других нормативных актов. (Примеч. переводчика).
(обратно)


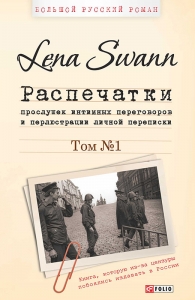



![Любовница депутата [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/642919/primary-medium.jpg)
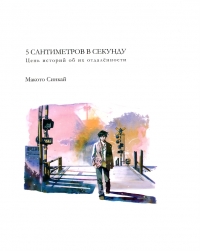




Комментарии к книге «Бешеный Пес», Генрих Бёлль
Всего 0 комментариев