Глава 1
Маме моей, Татьяне Алексеевне,
с благодарностью и нежностью
посвящаю.
Автор…В тот день все складывалось как-то необычно. Уже потом, войдя, как говорится, в память, Лена об этом вспомнит.
Она подошла к открытой настежь форточке, и, приподнявшись на цыпочки, встала под струю терпкого, особо сладостного после постоянной вони и духоты больничного отделения, под вольную струю осеннего воздуха. Какая-то юркая птаха, усевшись на край скрипучей, визгливой под порывами ветра форточки, так весело, звонко вдруг засвистала, что девчонка засмеялась.
А за ее спиной своей мутной, тяжкой, невнятной жизнью жила больница, ибо многие десятки странных существ в линялых рваных халатах, с немытыми лицами, зловонными ртами, обвисшими грудями и слюнявыми губами в шуме, плаче, ссорах и матах, в удушливых облаках табачного дыма решали вслух и про себя свои жизненные проблемы.
Странно: в этом тесном мирке, где тело касалось тела, где человек постоянно натыкался на чужие взгляды, руки, ноги, слова, каждый был более одинок, чем в камере-одиночке, чем на необитаемом острове. Можно было колотиться головой о стенку, кричать и молить о помощи — все напрасно, никто никого не слышал. Для Лены, пожалуй, это было самое страшное…
Сразу после обеда начался обход. К Лене белохалатная врачебная процессия даже не приблизилась. Брезгливо сощурившись, Ликуня объявила на весь коридор — так, что ее услышали не только коллеги, но и стоявшие неподалеку больные: «А-а, это наша „поэтесса“… Ну, с ней нам говорить не о чем. Тут все ясно»…
Лена долго потом пыталась понять, откуда, из каких глубин ее тщедушного существа поднялась вдруг такая ослепляющая, неостановимая волна жгучей обиды, бессильной злости на всех и вся, волна протеста и бунта, — и не могла понять.
Подскочив с побелевшим от ненависти лицом к заведующей отделением, она, размахнувшись изо всех силенок, влепила ей пощечину. В этом смешном и жалком на сторонний взгляд протесте выразилось все — и ненависть к людям, «поставившим на ней крест», и отчаяние от своей вечной невезучести, и поруганное достоинство — все, все вдруг всколыхнулось в ней!
Вот почему для нее в наступившей, неожиданной, как обвал, грозной тишине коридора, среди сивых бревенчатых стен, облупившихся подоконников, в этом приюте душевной и физической нищеты, человеческой разрухи и поруганности, так звонко, так страшно, так победно прозвучала эта пощечина!
Ликуева побагровела. Двое врачей Антоша и Гоша — братья-близнецы, первый год после института работавшие и отделении ординаторами, схватили Лену за руки.
А минуту спустя подбежавшие санитарки потащили ее в переполненную полураздетыми, вопящими, плачущими, дико хохочущими особую палату — «надзорку». Сюда помещали тех, кого считали опасными даже в стенах сумасшедшего дома. За больными здесь так «присматривали», что даже в туалет не выпускали, просто приносили в палату грязное ведро и — извольте, сударыня, справлять свои делишки на виду у всех.
Пыхтя и матерясь, санитарки скинули с нечистой кровати больную с перекошенным ртом и вытаращенными глазами. Лену раздели и, завернув ее в холодные мокрые простыни, притянули к голой кроватной сетке грубыми толстыми веревками.
Она отчаянно сопротивлялась, и, вспоминая самые невероятные ругательства, слышанные когда-то от поддатой соседской шантрапы, и здесь, в отделении, от многоопытных бывших зэчек, материла на чем свет стоит своих экзекуторов. А те в отместку хлестали ее по щекам, дергали за волосы, плевали в лицо, и, еще туже прикручивая к койке, злорадно приговаривали: «Ишь, ты, поетеса дурдомовская, еще тявкает!.. Ничо, ничо, полежишь на голой коечке, в собственном дерьме искупаешься — поумнеешь, прикусишь свой язычок поганый!»…
Лена и без того знала, что история с Ликуней ей даром не пройдет. Подергавшись на веревках и поняв — дело безнадежное, она затихла. А через некоторое время, чувствуя каждой клеточкой своего тела обреченность и беззащитность, она тихо, но отчаянно заплакала…
От слез снова намокла подсохшая было на груди простыня, и безмолвный плач готов был перейти в безудержную истерику, когда в надзорку вдруг вошел Ворон.
Поправив на своем длинном, кривоватом носу то и дело сползающие очки, он подошел, глянул Лене в глаза и скомандовал насторожившимся, как собаки-ищейки, санитаркам, столпившимся позади:
— Развязать!
В порыве чрезмерного усердия, толкая друг друга раздвоенными, как у лошадей, спинами и задами, сразу три санитарки бросились освобождать Лену от крепких пут.
Когда, сбросив мокрые, дурно пахнущие простыни, она трясущимися от холода руками, передергиваясь от унижения и брезгливости, стала натягивать на себя рубаху и халат, Ворон с холодным — как тогда показалось Лене — профессиональным любопытством следил, как она одевается.
И когда она, наконец, натянула на себя больничные лохмотья, он крепко взял её за руку, будто клешнями прихватил, и властно скомандовал:
— Пошли!
— Куда?! — дернулась было Лена из его цепких рук.
— В процедурный кабинет.
— Зачем?!
— На беседу…
Каким-то подсознательным чувством она понимала, что «беседой» здесь и не пахнет — очень уж серьезен, сосредоточен и молчалив был Ворон. И потом, какие «беседы» могут быть после инцидента с Ликуевой? Но выбора не было — пошла.
С Леной на буксире Ворон вошел в процедурную. И она сразу все поняла. На середину небольшой комнаты была выдвинута кушетка, около неё, в изголовье, стоял стул с маленьким, вроде телевизионного стабилизатора ящичком — каким-то прибором. И зловеще извивались проводки, будто длинные черные змейки, по белому полотну простыни…
Возле кушетки, заложив руки за спину, стояли неразличимо похожие Гоша и Антоша. И еще какие-то люди в белых халатах заполнили небольшой кабинетик.
«ЭсТэ!» — мелькнуло в ее голове. — «Электросудорожная терапия», «сеанс тока»… Этой процедурой пугали тех, кто в отделении вел себя агрессивно или вызывающе грубо, кого не могли успокоить лошадиные дозы нейролептиков и снотворных. Но применяли все же это средство крайне редко. Обычно после сеанса электрошока больных в бессознательном состоянии вытаскивали из процедурной и клали, бесчувственных и неподвижных, как мешки с картошкой, на кровать…
Ей было до ужаса страшно. Но гордость, больная девчоночья гордость — единственное, чем она сейчас владела и чего никому из окружающих не дано было у нее отнять, — эта гордость мешала ей заплакать, попросить прощения, пойти на попятный.
— Ложись! — скомандовал Ворон. И Лена, насмешливо дернув губами, а на самом деле леденея от страха, кивнула:
— Сейчас…
Легла. Антоша и Гоша встали по бокам кушетки. Один из подошедших вплотную интернов вдруг резво и ловко схватил ее за щиколотки, и, согнув ноги в коленях, прижал их к ее груди.
Последнее, что она запомнила, — ощущение холода от мокрых кусочков ваты на висках и противный вкус резины во рту, — все вдруг вспыхнуло в голове, рванулось куда-то вверх и погасло в ослепляющей темноте…
Сознание просыпалось медленно. Было ощущение, что идет какой-то странный, непонятный фильм о ней самой, где она — и зритель, и одновременно — главная героиня. Все, что с ней происходило, она воспринимала как-то отстранённо, как бы издалека…
Первое время — очень долго, чуть ли не месяц — она была чем-то вроде неодушевленного предмета: сидела, когда сажали на стул; умывалась, если приводили в ванную и ставили возле крана с водой; ела, если кто-то кормил ее, как маленького ребенка, с ложечки. Ей ничего не хотелось, она ни о чем не думала. Голова ее была пуста, как дом, из которого все выехали, и остались только голые стены да пыльные половицы…
Вокруг сновали дегенератские плачущие, гневные и дурашливые физиономии старых и новых больных, проплывали белые халаты врачей, сестер и санитарок, — никакого отзвука в ее душе, никаких мыслей, ассоциаций они у нее не вызывали. Пусто было в ее глазах…
Однажды к ней подошла, сияя золотистой копной волос, Фея.
— Как ты себя чувствуешь? — спросила она.
— Не знаю… — пожала плечами Лена, безучастно встречая ее взгляд.
— Что у тебя болит?
— Не знаю…
— Как тебя зовут?
— Не знаю…
И Фея, вдруг горько сморщившись, явственно прошептала: «Да, „вылечили“, называется! Из кулька в рогожку»… И, быстро-быстро постукивая острыми каблучками, ушла, почти убежала в ординаторскую.
И вот именно от ее горького «вылечили» в голове Лены вдруг словно вспыхнули целые гирлянды ярких фонарей, и тени воспоминаний замелькали перед ее мысленным взглядом. Тяжесть и глубина вмиг ожившей душевной боли буквально перевернули ее сознание. Вновь зазвучали в ней строки последнего стихотворения, родившегося перед сеансом ЭсТэ:
…Стук каблуков четкий. Солнечный блик. И идет девчонка за рубли! Смятые, сальные локоны, васильки во ржи… И плывет лодкой, и качается лодкой, утлой и неловкой, жизнь…Она взволнованно вышла в коридор. За окном на сухих ветках тополя рыжели последние, совсем уже мертвые листья. Но небо и сейчас, как месяц назад, обожгло глаза невыносимой синевой. И в бедной ее голове закрутились, замелькали стихи, будто чешуйки пепла от бесследно сгинувшей жизни, и захотелось безудержно смеяться и плакать…
Уткнувшись лбом в металлический переплет оконной решетки, она долго стояла так, замерев, потеряв ощущение времени и места, и лишь одна мысль вспыхивала в ней разноцветьем праздничного фейерверка: «Я — знаю!.. Я — помню!.. Я — есть!»…
— Ты чего? Ты кушать хотишь? — возле Лены стояла, ласково светясь влажными, выпученными, как у лягушонка, глазами малюсенькая, скрюченная старушонка. — Ты плачешь? Ты не плачь! На вот, докушай! — и, путаясь в рукавах и карманах нескольких напяленных на голое тело халатов, старушка стала вытаскивать свои потаенные запасы: обкусанные и давно засохшие куски хлеба, пряники, слипшиеся конфеты, затасканный кусок колбасы…
Глаза бабуси-лягуси, как мысленно тут же окрестила ее Лена, светились такой дозой беззаветной любви к человечеству, что уже по этой дозе можно было заключить, что здесь явно «не все дома».
— Нет, ба, ничего не надо! — отодвинула Лена ее щедрые дары. — Ешь сама, спасибо!
— Сама? Да куда ж мне? — засуетилась старушка. — Моя пайка уж давно меня на том свете ждет! А тебе надо кушать, ты молоденькая, тебе жить да жить, расти…
Но Лена уже не слушала ее причитаний. Она радовалась все большей наполненности своих чувств, привычного напряжения разума. Вот уже снова забродили в голове неясные пока стихотворные строки, и все больше воспоминаний, ярких и объемных, заполняли ее. И только запоздалый страх жег оживающую душу: а вдруг она никогда бы ничего больше не вспомнила? И вдруг бы навсегда, на всю жизнь, осталась бездумным существом, без памяти и ума?!..
* * *
На другой день к Лене с утра пораньше пришел Ворон. Привычно поинтересовавшись сном, настроением, аппетитом, пощупав пульс, он уткнулся своим острым, любопытным носом чуть ли не в ее лицо и потребовал:
— Ну, давай, рассказывай!
— Что рассказывать-то?
— Как ожила…
— А я и не помирала!
— А это как сказать… — задумчиво протянул Ворон. — Это уж как сказать, голубушка ты моя… Что ты помнишь?
— Помню, как в процедурку пришла, как на кушетку легла… и еще — резина воняла здорово. А потом, вот уже сейчас помню, как Фея, то есть, Татьяна Алексеевна, сказала, что, мол, вылечили…
— О чём ты думала все это время? Я к тебе подходил, но ты молчала. Почему ты не разговаривала? Ты меня видела?
— Ничего не думала, — пожала Лена плечами. — Я и не помню, чтобы вы подходили. Я вообще ничего не помню. Я не могла вспомнить, ни как зовут, ни где я. Страшно даже! А вдруг бы я навсегда такой осталась?
— А может, это было бы лучше? — вопросом на вопрос ответил ей Ворон и склонил голову набок, как большая любопытная птица. — А? Как ты думаешь?
— Вы… что это?! Шутите так, что ли?! Или — издеваетесь?
— Да нет, девочка моя. Не шучу. Ты не думала над тем, что ум человеку дан в наказание? Чем умней человек, тем несчастней. Это же аксиома! Посмотри на Шурку — вон сидит, ишь, сопли по губам размазывает, она ж всех на свете счастливей! Да, Шурка? — обратился Ворон к больной, которой было никак не меньше шестидесяти лет, но которую все звали просто Шуркой. Та весело замотала стриженой наголо головой и, радостно подпрыгивая, загулькала, как младенец.
— Ну, вот, видишь? Ей наплевать, как она выглядит, что мы о ней думаем, она счастлива, да и все. А ты тут мировыми проблемами душу себе и окружающим мотаешь, все какого-то смысла в жизни доискиваешься. Зачем? Шуркино счастье — розовая мечта человечества, неосознанная, но желанная, единственно доступная…
— И вы хотели бы быть на месте Шурки? — принужденно улыбаясь, поинтересовалась Лена. — Ну, почему бы и вам не попускать слюни, не погулять без штанов? Не пожрать, как Шурка? Вы знаете, что она ест из помойного ведра? И что няньки ей туда специально выливают обед? А потом потешаются всей толпой — соберутся и ржут?
— Знаешь, если бы решение этого вопроса зависело лично от меня, возможно, я бы и согласился, — серьезно и спокойно ответил Ворон. — Честное слово!
…И тут внутри у нее будто лопнул наболевший нарыв. Уткнувшись в рукав его белого халата, она так неудержимо расплакалась, что даже всегда невозмутимый Ворон несколько опешил.
— Ну что ты, девочка? Ну, успокойся же! — слегка подрагивающей рукой гладил он ее, как маленькую, по голове. — Ну, успокойся! А то получается, что это я тебя так расстроил… а? Пойдем, выпьешь таблеточку, ляжешь, отдохнешь…
— Нет, нет, нет! — кричала Лена, давясь слезами. — Нет, мне не надо таблеток!.. Вы верите, что я — человек? Вы верите, что я… я…
Потом ей было стыдно все это вспоминать. Вообще-то она не из таких уж слабонервных, но тут ее просто доконало понимание, возникшее внезапно, как озарение, что ведь и она могла навсегда остаться такой, как Шурка, — без слов, без памяти, без речи, человекоподобным растением…
В тот раз ее беседа с Вороном закончилась бурной истерикой, и он был вынужден с помощью санитарок затащить ее в процедурку и вколоть ей хорошую дозу аминазина. Через десять минут она крепко заснула и спала, не просыпаясь, до следующего утра…
* * *
В свои восемнадцать лет она была так пронзительно, так необычайно отзывчива на проявление любого человеческого чувства — на внимание и нежность, на искренность и фальшь, — что общаться с ней даже весьма доброжелательно настроенному человеку было довольно трудно. Трудно потому, что реакция ее на обыкновенные, казалось бы, слова и поступки окружающих была порою самой неожиданной, и всегда сопровождалась шквалом добрых или недобрых эмоций. Ей часто бывало очень неловко от сознания этой своей реактивности, поэтому она все чаще глухо уходила в себя, отгораживаясь от окружающих непроницаемой стеной молчания и отчужденности.
Иногда ей было боязно самой себя. Потому что в самые неожиданные моменты, внутренне сжавшись и ощущая, как вдруг белеет ее лицо, она чувствовала внутри себя стремительно раскручивающуюся пружину гнева и негодования, и тогда уже сама не знала, чем это кончится.
Было ли это болезнью? Вряд ли. Это был результат долгой, насильственной привычки скрывать в себе истинные чувства и мысли. Чем больше она сдерживала себя, чем больше старалась не позволять себе сорваться, тем сильнее был потом срыв. Впрочем срывом это можно было назвать с большой натяжкой. Роскошь давать волю своим истинным чувствам, похоже, в этой стране вообще считалось «патологией». Ненормальным было сказать вору, что он вор, подлецу — что он подлец, негодяю — что негодяй… Причины подобных «отклонений» Лене только предстояло понять…
В больницу поступила новая пациентка. Как ни странно, в психиатрической больнице, в «психушке», тайн от больных не было. Хотя бы потому, что младший медицинский персонал считал своей непременной обязанностью порыться в истории болезни каждой вновь поступившей больной.
Добываемые таким образом сведения потом обсуждались в санитарском «третейском суде» — всем несчастным, попадавшим сюда, приклеивались ярлыки, происшедшим трагедиям давались соответствующая оценка и трактовка. А вездесущие больные, которые, естественно, «судом» в расчет не принимались, потом все эти сведения разносили по всему отделению…
Так вот, однажды в больницу работниками милиции на психиатрическую экспертизу была доставлена врач-гинеколог. Она обвинялась в убийстве собственного сына. Эта женщина (да полно, женщина ли она?!) выбросила пятилетнего малыша из окна своей квартиры, с пятого этажа. За что? А за то, что мальчик пообещал рассказать отцу, когда тот вернется из командировки, что она каждый день была пьяная и у них все время ночевали чужие дядьки…
И вот эта женщина — в отделении. Странно, но буквально с первого дня она держалась так, будто приехала к друзьям на дачу. Ничто не омрачало ее беззаботного состояния, никаких «угрызений совести», душевных переживаний не было заметно на гладком, тщательно ухоженном, без единой морщинки лице.
Каждое утро она начинала с того, что брала у дежурной сестры свои косметические коробочки — а их у нее была пропасть — и, хотя этого никому другому в отделении не разрешали, сидела перед зеркалом по два-три часа.
На общих обходах Ликуева была неизменно внимательна и доброжелательна к этой женщине. Они подолгу о чем-то беседовали, уединившись в ординаторской, и было заметно день ото дня, как Галина Аркадьевна — так звали эту, с позволения сказать, пациентку, становилась все уверенней в себе, все наглей и спокойней.
А потом в один прекрасный день стало известно, что по заключению врачебной психиатрической экспертизы она признана психически больной, невменяемой, и вместо тюремного заключения суд назначил ей принудительное лечение.
После этого Галина Аркадьевна, как говорится, расцвела.
Она оказалась неутомимой рассказчицей огромного количества скабрезных анекдотов, пикантных историй из своей врачебной практики и в очень скором времени для санитарок и медсестер отделения стала чуть ли не самым уважаемым и авторитетным человеком.
Когда на дежурство приходила вечерняя смена «стражей порядка» — здоровенные красномордые санитарки, и после отбоя, где-то уже заполночь, у них начинался разговор на самые животрепещущие темы — об абортах, родах и прочих женских делах и секретах. Галина Аркадьевна, небрежно развалившись на кушетке, которую специально для этого случая вытаскивали из процедурной в коридор санитарки, давала профессиональные консультации: как избежать нежелательной беременности, как вытравить плод, не обращаясь к врачу, и как стать для мужчины самой желанной и незаменимой партнершей…
Ее бесстыдство, какая-то изощренная похабность не знали границ. Похоже, ей доставляло удовольствие говорить вещи, от которых даже видавшие виды бабы, санитарки и медсестры, растерянно хихикали, покрываясь багровым румянцем, и прятали друг от друга глаза…
Дальше — больше. Уже через месяц Галина Аркадьевна по вечерам, не таясь, стала вести прием в одном из кабинетов приемного покоя, где было гинекологическое кресло и соответствующий инструментарий. Пациентки ее — те же красномордые, их дочки, чьи-то племянницы и знакомые… Надо признать, аборты она делала мастерски, без всяких осложнений.
После каждой операции она возвращалась в отделение с кульками съестного, с новыми парфюмерными наборами, а иной раз — и с бутылкой водки, которую поздно вечером делила с санитарками.
Лена все это время недоверчиво, издалека, гадливо, а потом — откровенно презрительно и ненавидяще присматривалась и прислушивалась к ней. Убийц она не считала людьми, в ее понимании это были выродки, оборотни. В отделении было много больных из тюрем, колоний — бывшие уголовницы сходили с ума в местах лишения свободы, и их водворяли в психушку доживать свой век. Как правило, эти женщины были безропотно работящи, веселы и добры, но все-таки Лена держалась от них подальше.
Нет, она не боялась их, просто чувство элементарной человеческой брезгливости стояло неодолимой преградой между ней и этими несчастными. Тем более, что почти все они были лесбиянками. Когда Лена впервые увидела, что это такое, ее переполнило омерзение. И если она видела, что к очередной девочке-подростку, только что попавшей в отделение и не знающей, как себя вести, подбирается «кобел», выбора не было — она пускала в ход кулаки…
И вот эта Галина Аркадьевна… Когда она поняла, что опасность попасть в зону для нее благополучно миновала — коллеги проявили профессиональную солидарность, не затолкали ее, врача, на нары — эта дама почувствовала себя чуть ли не героиней.
Собрав возле себя кучку больных из тех, что поумнее, Галина Аркадьевна стала однажды живописать, как случилось «это»…
Нет, она по-прежнему ничуть не раскаивалась в содеянном!
— По пьянке, конечно, все это получилось, — неторопливо вещала она, ковыряя в зубах спичкой и обводя собравшихся вокруг нее женщин взглядом сытой ленивой кошки. — Знаете, девки, не советую вам рожать от нелюбимых! А мужа я не любила. Почему с ним жила? Ну, чудачки вы! Он же полковник, понимаете? Был выбор, конечно, но почему это я должна была выходить замуж за нищего учителишку или инженеришку? Слава богу, мне подвернулся этот звездный мальчик. Он в то время капитаном был, только-только новые звездочки получил… Ну, я прикинула — хорошо парень идет, чего копаться? И зарплата, и все… В общем, замуж-то я вышла. А вот рожать от него мне не надо было. Сын родился — вылитый Мишка, муж мой… И Славка весь в него удался — такой же белобрысый, и зубы передние — лопатами, и глаза синющие… да… А тут мне как раз мужичок подвернулся. Умирать буду — в последний момент его вспомню! Ох, огонь мужик, никого и ничего после него не нужно… Мишка тут кстати в командировку уехал, и Эдик — каждый вечер ко мне. А Славка не спит никак, все за нами наблюдает, и тут вдруг давай мне мораль читать, засранец: мол, папка приедет, я ему все про тебя расскажу, ты нехорошая… Ну, и обозлилась же я! А тут еще мы с Эдиком капитально закеросинили — у меня две сухих было, да Эдька два коньяка привез, почти все выпили, да… Ну, я и схватила пацана, и — в окно его. Держу его за руки: «Что, — говорю, — теперь скажешь своему папе?» «Скажу, — кричит, — все равно скажу!»
Если б он хоть испугался, заплакал или что, а то вытаращился на меня своими синющими глазищами, уже за окном висит, а все кричит: «Ты плохая! Я тебя не люблю! Я все папе скажу!»…
Ну, думаю, ах ты говно… Ну и разжала я руки…
Женщины прятали друг от друга глаза. И даже бывшие зэчки, отсидевшие по лагерям по двадцать-тридцать лет, которых, казалось бы, уже ничем не удивишь, ничем не испугаешь, потерянно молчали.
И тут Лена, слышавшая этот рассказ с самого начала, с похолодевшим и побелевшим от накатившего вдруг бешенства лицом, не помня себя, подскочила к этой сытой, довольной, уверенной в себе женщине и вцепилась ей в глотку…
Когда прибежавшие на помощь Галине Аркадьевне красномордые, будучи не в силах совладать с осатаневшей девчонкой, накинули ей на голову простыню, стали ее закручивать — один из способов усмирения «буйных», Лена потеряла сознание…
В этот день дежурил Ворон. Услышав крики и возню в коридоре, он выскочил из ординаторской. Перед лежавшей на полу без сознания Леной растерянно металась дежурная медсестра. Увидев растрепанную, насмерть перепуганную Галину Аркадьевну, в ужасе косившуюся на Лену, он сразу все понял.
— В процедурку! — резко скомандовал он, и санитарки, подхватив бесчувственное тело, потащили девчонку в кабинет, за спасительно скрытую от посторонних глаз дверь.
…Часа через полтора напичканная сердечными и успокаивающими снадобьями Лена, прислонясь к стенке, безучастно сидела на кушетке.
— Ну, что, можно забрать в надзорку? — сунулись было в процедурную две бойкие санитарки, и вдруг Ворон, всегда сдержанный, спокойный, едва владея собой, яростно прошипел им в лицо:
— Выйдите отсюда вон, слышите?!
— Дак мы че, доктор, больная же возбудилась, ну, дак мы думали, прификсировать ее надо или че…
— Вон!!! — взвился Ворон, и санитарки, обмирая, исчезли за дверью.
«Прификсировать»… Лена усмехнулась. Видимо, простое и понятное слово «привязать» резало интеллигентный медицинский слух, поэтому было изобретено это мало что говорящее непосвященным слово. Конечно, куда благозвучнее будет: «больная прификсирована!», нежели «больная привязана»… Лингвисты те еще!
Ворон наклонился к Лене и заговорщическим тоном предложил:
— Знаешь что, голубушка? Пойдем-ка мы с тобой в ординаторскую, пить чай, а?
И она, подчиняясь неожиданному теплу его ладони на своем плече, покорно двинулась к двери.
В ординаторской, в уютном столпотворении письменных столов, тихо мурлыкал исходящий паром электрический самовар. Ворон, усадив Лену в удобное мягкое кресло, взялся колдовать над заварным чайником.
— Ты как любишь — с сахаром, с конфетами? — спросил ее Ворон, разливая в высокие фарфоровые кружки восхитительно крепкий, пахнущий забытым уже домом чай.
— Хоть какой, — ответила Лена. И он положил около её кружки горсть карамелек и несколько кусков сахару.
Обжигаясь, по-детски швыркая, она пила чай вприкуску, как когда-то в деревне у дедушки и бабушки, и Ворон, улыбаясь, исподтишка наблюдал за ней, тоже пофыркивая над своей горячей кружкой.
А за дверью ординаторской плачем и смехом бушевал больничный коридор — на восемьдесят имевшихся в отделении коек было двести сорок больных… Но больничные звуки, долетая до уютного, домашнего света настольной лампы, как-то блекли, теряли свой нестерпимо жуткий смысл: безнадежность. Здесь, в этом маленьком кабинетике, было спокойно, уютно и тихо.
— Может быть, ты мне расскажешь, за что ты накинулась на Галину Аркадьевну? — чуть слышно спросил Ворон.
Она растерялась, не умея подобрать слова, чтобы объяснить свое состояние.
— Я… — наконец выдавила она из себя, тут же вся сжавшись в колючий комок, — я, знаете, ненавижу убийц.
— Почему?
— Ну, потому, что она убила! Сына убила, маленького мальчика, и не стыдится этого, не мучается, а даже героем себя чувствует, хвастается…
— А почему она должна стыдиться и мучиться?
Лена недоумевающе уставилась на Ворона: он что, издевается над ней, ему и в самом деле непонятно ее отношение к Галине Аркадьевне?
— Ну, как же, — торопливо, едва подбирая слова, начала она объяснять ему очевидное, — ну, ведь убийство!.. Знаете, я тоже как-то раз хотела убить… отца… мне было тринадцать лет…
* * *
— Дома у нас скверно было. Мать с отцом постоянно ссорились, он ее все время бил, ни за что, просто так… Меня-то отец не трогал, ни разу в жизни не ударил, а только я все равно его боялась и ненавидела… Понимаете? Вот он начнет маму бить, а я со страху в своей комнате спрячусь, встану, как столб, руки-ноги занемеют — пошевелиться не могу, крикнуть не могу, и так мне маму жалко, так я его ненавижу — ух!.. Ну, вот. А когда мне исполнилось тринадцать, я однажды решила, что лучше всего будет, если я его убью. Я ведь как думала? Убью его, меня в тюрьму отправят. Просижу десять, пусть даже пятнадцать лет. Выйду, а дома его не будет, некому над мамой будет издеваться, она спокойно будет жить… И вот однажды, после очередного батиного «концерта», встала я ночью, взяла топор. На кухне горел свет. Отец спал в комнате на диване — пьяный, страшный, храпит… перегаром от него несет, как из помойки… И, знаете, из кухни свет падал — прямо ему на голову. И вот я стою, держу в руке топор и все уговариваю себя, что ничего страшного не будет, нужно только решиться… Зато маму никто больше не будет бить, и она, как и я, никого больше не будет бояться… И я уже готова была ударить, совсем готова, понимаете? Я подняла топор… и вдруг увидела, что на виске у отца бьется жилка, такая голубенькая жилка, как у маленького ребенка… Вы не поймете, что я тогда испытала! Такой меня ужас взял, это не передать… Я вдруг поняла, что еще миг какой-то, и — все, я бы убила своего отца… И такой я себе гадиной показалась!..
Лену колотило от этой исповеди. И когда, насмелившись, она подняла на Ворона измученный взгляд, не насмешку, не отвращение к себе она в нем увидела, а обыкновенное человеческое участие и понимание, то, чего ей в жизни всегда так не хватало.
Впервые за свои семнадцать лет она позволила себе безоглядно рассказывать человеку, совсем постороннему, правду о себе, о своей жизни, и ничуть при этом не боялась, что он ее не поймет. Но всего, конечно, за ночь не расскажешь…
Вообще-то были у Лены беседы с врачами и раньше, но какие-то странные это были беседы. Если она пыталась рассказать о своих «стихопадах», когда она не спит по нескольку суток подряд и только успевает записывать невесть откуда нарождающиеся в ней стихи, врачи многозначительно переглядывались и качали головами, тихо переговариваясь: «Типичная шизоидность»…
Когда она, бывало, пыталась объяснить, почему у нее в школе не было друзей и почему после восьмого класса жить ей стало просто невмоготу, ее тем более не понимали.
А самое главное, любое сказанное ею слово подвергалось сомнению, а откровенничать с людьми, которые тебе не верят, для которых ты только «типичный шизоид», — для этого на самом деле нужно быть психом.
И она предпочла молчать. В итоге, после двух лет ее обитания в больнице врачи на общих обходах перестали к ней подходить. Лена знала, что это могло означать только одно: она переведена в разряд «неперспективных больных», «хроников», и ее обрекают на пожизненное пребывание в психушке…
Смириться с этим она не могла и, протестуя, начинала скандалить со всеми подряд, за что на несколько дней или недель ее помешали в надзорную палату. Или, доказывая окружающим, что ей, все нипочем", пыталась быть веселой и беззаботной — пела, смеялась. Но на это обычно настроения и сил у нее хватало ненадолго…
Ей назначали огромные дозы аминазина, тизерцина или какого-либо другого нейролептика, и тогда наступало состояние полускотского существования: постоянно хотелось спать, сохло во рту, огромного труда стоило хотя бы просто встать с места и сделать несколько шагов. А самое главное, голова делалась пустой, как дом, из которого выгнали жильцов — вроде бы все на своих местах, все, как всегда, и только нет жизни…
А ведь всего-то и было надо, чтобы ей кто-то поверил, увидел, что она в себе запуталась, не знает, как жить на свете, что делать… Ей хотелось, чтобы пришел однажды Некто, могущественный и великодушный, и сказал: "Не плачь, моя девочка!", и взял ее за руку, вывел за эту проклятую больничную ограду. А уж она бы постаралась, все силы бы положила, чтобы доказать всем-всем, что рано на ней крест ставить, что она — не совсем еще потерянный человек. Просто она заблудилась в этой жизни, где никто никому не нужен, где никто никому не друг, не брат и не товарищ…
Вообще, ситуация складывалась странная. Такое происходило не с одной Леной, а почти со всеми девчонками, которые сюда попадали. В сущности, страшно тяготясь своим пребыванием в психушке, среди людей с действительно разрушенной психикой, многие подростки боялись все же не столько безрадостных будней больницы, сколько возможной "свободы". Это был бы трудно объяснимый парадокс, если не знать, что именно привело сюда почти всех этих девочек. Ведь всем им дома, как правило, было одинаково лихо: либо наплевательское отношение родителей, либо невыносимый гнет со стороны самых близких людей, либо мать, проститутка и пьяница, начинала "приторговывать" дочерью, когда той едва исполнялось одиннадцать-двенадцать лет.
"Как дальше жить, что делать?" — этот вопрос неотступно висел над всеми малолетними "поганками", именуемыми так в психушке добропорядочными санитарками. Психушка становилась для многих и многих девчонок единственным кровом и приютом в этом страшном взрослом мире. По крайней мере, есть где спать, чаю, супа и каши дают досыта. Но, главное, больница, даже такая скверная, все-таки не тюрьма, не притон, где могут по пьянке прирезать, изувечить или заразой какой-нибудь наградить… Вот и стараются девчонки, кто во что горазд, лишь бы подольше здесь продержаться, лишь бы не на "свободу", не "домой".
Знал ли Ворон об этом? Именно такими вот словами Лена никогда не смогла бы ему ничего объяснить. И не потому, что скуден был ее лексикон, а потому, что даже от самой себя на самое донышко своего сознания прятала она понимание этой постыдной, в общем-то, ситуации. Ибо, до конца осознав и произнеся все это вслух, приходилось признать, что она, пусть поневоле, но все-таки — симулянтка, прячущаяся от трудностей жизни в этом страшном, гадком и, увы, жизненно необходимом прибежище. А как быть иначе? Уйти из больницы? А куда? Кто и где ее ждет? Да, конечно, дома ее ждут. Только она сама домой не хочет. И что она там, "на воле", будет делать?…Лучше быть жертвой, нежели виновником — вот что подсознательно она понимала.
…Было уже два часа ночи. Ворон безмолвно сидел, не прерывая ее нескончаемого монолога. И, только случайно бросив взгляд на табло электронных часов на соседнем столике, Лена удивилась: сколько же времени пролетело. Смутившись, споткнулась на полуслове и вскочила с места.
— Извините, — пробормотала она, — я даже не заметила, как время прошло…
— А чего ты засуетилась? — усмехнулся Ворон. — Ничего страшного, все нормально. Мы хорошо с тобой поговорили.
И неожиданно попросил: — Лена, почитай мне свои стихи, пожалуйста.
— Вы, правда… хотите, чтобы я почитала?
— Конечно!
Она долго собиралась с мыслями, перебирая в памяти стихотворные строки, наконец, решилась:
Я не знаю, как это стало, чтобы чувства и мысли — штыком. Просто — боль в душе вырастала, превращаясь в колючий ком. Просто — много на сердце было мною выстраданных ночей. Просто — я еще не забыла чьих-то жалостливых речей. Просто… Только не знаю: просто ли? Неизвестно самой: хорошо ль? — Людям душу выстлала простынью, кто-то выспался, и ушёл…Ворон внимательно, словно вообще впервые в жизни ее увидел, всматривался в лицо Лены. А она, осмелев, принялась читать и другое:
Ресторан… Хрустальные люстры… Певец… Эстрадный оркестр… Красноречивые взгляды… Чувственность… Табличка у входа: "Нет мест"… Запах духов. Дымок сигаретный. Кокетливые улыбки — россыпью… Продается любовь, и это пользуется огромнейшим спросом. Что сказать о чести и святости, о девическом целомудрии? Это — товар: в бумажник спрятали, нарумянили и напудрили. Девчонки — товар! Трепещут ресницы. Страстность и нега в нелепом танце. И нет ее. Божьей десницы, что покарала бы святотатцев.В темном ночном окне отражался зеленоватый свет настольной лампы. На душе было покойно, грустно и светло. И Лена читала, читала, читала…
Снова дождик город полощет, Гнется саженец — красный прут. Превратилась центральная площадь То ли в озеро, то ли в пруд. Всюду лужи, ручьи, потоки, клумбы — дождиком иссекло! По изгибу радуги тонкой я вышагиваю босиком. Ах, как мир в этот час мне нравится! Стук дождин — как топот коней. И пьянящее чувство равенства с синим миром идет ко мне!Ворон слушал так, что его присутствие вообще не чувствовалось. И Лена все больше и больше раскрепощалась, будто была наедине с собой, когда не страшно, что кто-то подслушает, высмеет твое сокровенное…
В ординаторскую, деликатно постучавшись, вошла дежурная сестра. Уже был шестой час утра. Могозначительно подняв брови и покосивших на сидящих друг против друга Ворона и Лену, она поджала губы, будто ее чем-то сильно обидели, и с укоризной проинформировала:
— А у Ветровой припадок, уже третий за ночь. Пожалуйста, посмотрите ее… Между прочим, больной-то, Иван Александрович, давно спать пора. Утро уже!
— А? Да, да! — смущенно встрепенулся Ворон. И — Лене:
— Ох, заговорились же мы с тобой сегодня! Попадет мне… Ну, да не в этом суть… Иди-ка, моя хорошая, отдохни. Спасибо тебе за общение, за стихи — особенно. Мы с тобой еще обо всем поговорим.
Лена, сразу сникшая от неожиданного вторжения медсестры, встала, кивнула головой и, испытывая раздражающее смущение от того, что кто-то непрошенный ворвался в ее приоткрывшийся было хрупкий мир душевной гармонии, неожиданно грубо бросила:
— Может, и поговорим… если у меня желание появится!
Снова она была Ежиком, как когда-то в детстве звали ее дедушка и бабушка, — колючая, упрямая, хотя бы и во вред себе…
Дергая ручку захлопнутой на замок двери, она вдруг увидела себя как бы со стороны: лохматая, взъерошенная, в старом рваном халате, перед запертой дверью, которая открывается только специальным ключом… Здесь, в психушке, все двери такие, на защелках-захлопках, чтобы больные ненароком не разбежались. И все санитарки, сестры и врачи ходят с огромными железными ключами, изогнутыми буквой Г, издали похожими на какие-нибудь наганы, точно карательный отряд в белых маскхалатах…
Медсестра открыла дверь и выпустила ее в отделение, прямо под перекрестный огонь вопросительных, с подлинкой, взглядов любопытных санитарок. Они, казалось, всю ночь просидели, глаз не смыкая, очень им интересно было, зачем Иван Александрович Ершову увел, что они там, наедине, всю ночь в ординаторской делали.
— Ленк, он тебе хоть титьки-то помял? — глумливо осклабившись, спросила одна, предчувствуя хорошую потеху.
— Не, че он ей будет титьки мять, он, че, пацан, че ли? — тут же откликнулась другая. — Он ее просто всю ночь трахал без передыха! Ха-ха-ха!
Лена стояла, растерянно покусывая губы и еле удерживаясь от слез. И только сознание, что слезы ее доставят несказанную радость обидчицам, помешало ей разрыдаться.
Круто повернувшись, она ушла прочь от санитарского поста, забилась в угол между кроватями в самой дальней палате и все сидела, вспоминая, как хорошо поговорили они с Иваном Александровичем, и какой он добрый, понимающий, чуткий оказался человек.
* * *
После утренней пятиминутки к Лене неожиданно подошла Ликуева: как она, Лена, относится к своему лечащему врачу, Ивану Александровичу? И знает ли она, что у него две взрослых дочери, ее, Лены, ровесницы? И жена у него очень хорошая, тоже врач… А вообще, не было ли с его стороны каких-то неприличных слов или действий? Может, он ей что-то предлагал?
И Лена, с ненавистью глядя в это дышащее грязным любопытством холеное лицо, вдруг выпалила неожиданно для самой себя:
— Да, все-таки правильно говорят: свекровка — б…, снохе не верит!
Ликуева оторопело замолчала. Потом, взяв себя в руки, сухо сообщила:
— С сегодняшнего дня твоим лечащим врачом будет Татьяна Алексеевна. А Иван Александрович, скорее всего, перейдет работать в мужское отделение. Так будет для всех спокойнее…
И, видя, как у Лены задрожали губы и глаза мгновенно наполнились слезами, злорадно закончила:
— Пусть по ночам с мужиками "беседует"!
И, гордо подняв голову, поплыла к ординаторской…
В этот день Лена не ходила ни на обед, ни на ужин. Впрочем, и прежде она старалась появляться в закутке, громко именуемом столовой для двухсот с лишним человек, как можно реже. Одновременно за два деревянных стола могло сесть не более двадцати больных. Приходилось ждать и ждать своей очереди, чтобы получить гнутую алюминиевую миску с супом, которая предназначалась и для второго.
Она чаще всего довольствовалась куском хлеба и кружкой чая или компота. Ну, и мамины передачи, конечно, помогали ей как-то держаться, не завися ни от взбалмошной больничной буфетчицы, ни от настроения санитарок, которые могли пустить в "столовую" в первую очередь, а могли — и в самую последнюю, в компании с теми больными, кто полностью деградировал, существ без пола и возраста, которых можно было кормить чем угодно, где и когда угодно… Еще унизительней было стоять в плотной толпе потных, рвущихся к раздатке больных, которых красномордые отгоняли, как нетерпеливый скот: "Успеете, черти, нажретесь!"… "Куда прете, собаки ненасытные, все бы вам жрать!.. Осади назад!"…
По отделению разносился запах кислых щей, брякали миски, стучали ложки, что-то бессвязно выкрикивали в очереди к заветной раздатке оголодавшие женщины. Лена, распластавшись на чьей-то постели — за два года в отделении ей так и не нашлось кровати, ее место вечно было под койкой, как и у многих других пациентов этого отделения, — лежала, глядя в потолок, испещренный черными трещинами, и думала о том, что жизнь ее ведь, в сущности, была каким-то глупым случаем. Её родители вполне могли никогда в жизни не встретиться. Но они, к сожалению, встретились, и она почему-то должна мучиться, зависеть от пустых, недалеких, случайных людей…
В бесконечном круглосуточном бедламе Лену спасало, пожалуй, лишь то, что она силой своего воображения умела напрочь отгораживаться от мира, жить мечтами, книгами, стихами. С другими на ее глазах происходило самое страшное, то, что называлось у психиатров термином "внутрибольничная деградация". За полгода они катастрофически тупели, теряли способность анализировать происходящее, переставали думать о будущем, то есть приживались в отделении, и становилось ясно, что они здесь и в самом деле навсегда.
Книгами она спасалась. Лена всех врачей одолевала одной просьбой — принести книгу, любую, почитать. Ей всегда обещали, но обещания выполняли слишком редко. И лишь один человек выручал неизменно — как ни странно, тетя Шура, санитарка, самая большая любительница чтения. Та никогда ничего не обещала, но почти на каждое дежурство приносила новую книгу, и Лена буквально проглатывала ее за ночь, хотя бы в ней было 500–600 страниц.
А вскоре, одолев очередной фолиант, мучилась неудержимыми приступами "стихопадов" — еле успевала на случайных клочках бумаги записывать возникавшие откуда-то, словно звучавшие в ее голове, стихотворные строки.
В такие моменты она никого не видела и не слышала. Рождение стихов было мучительно, но радостно. Радовала эта похожая на чудо способность лепить из ничего поэтические образы, облекать их в слова, выстраивать в строки…
— Ну, ты, поетеса дурдомовская! — грубо пихала ее в бок какая-нибудь санитарка, приглашая столь незамысловатым образом на обед или в процедурку. Лена только отмахивалась…
Иногда случались мучительные периоды, длившиеся неделями, а то и месяцами, когда не появлялось ни одной новой строки. Тогда она чувствовала себя ничтожной, маленькой и жалкой, ей все время хотелось плакать. Раздражала любая мелочь, и тогда больные, интуитивно, словно животные, чувствовавшие ее настроение, старались тихонько обходить ее стороной поскольку ее способность вспыхивать, как порох, из-за какой-нибудь чепухи была достаточно хорошо известна.
Глава 2
Так уж случилось, что взросление ее наступило катастрофически неожиданно и рано. Как-то одиннадцатилетней, поздно вечером выйдя во двор своего маленького домика, окруженного огородом и чахлыми кустами сирени и смородины, она испытала глубочайшее потрясение.
Над уснувшей землей привольно раскинулось усыпанное небывало крупными яркими звездами небо. Глубокая, как небо, тишина окутала землю. И она, маленькая, почувствовала невыносимую, неведомую доселе печаль, жгучую тоску, смешанную с радостью и грустью понимания, что все это — не вечно, и что все мы на этой земле — только мимолетные гости…
Дома недавно закончился очередной скандал. Родители, успокоившись, легли наконец спать. И вот, в зябкой тишине позднего августовского вечера, сидя на завалинке у окна, она смотрела в темное, мудрое и вечное небо, и неведомые досели мысли бродили в ее голове…
С того первого, неожиданного, как озарение, ощущения, что все мы — всего лишь плоды случайного каприза Природы, что любого из нас вполне могло бы и не быть на этой земле, началась ее вторая жизнь, отмеченная мучительной трагедией взросления.
Она ходила в школу, "принимала активное участие", как любили говорить учителя, в общественной жизни, но никакого искреннего интереса ко всему этому не испытывала. Жила по инерции, по сложившемуся стереотипу, — "как все"…
Когда учителя говорили с ребятами чересчур ласковыми, сладкими голосами, ее от этого, как правило, воротило с души. Потому что она, как и все ее одноклассники, давно знала, что как раз эти учителя не любят своих учеников, что "у них работа такая" — быть "внимательными", "добрыми", "понимающими"…
Но о какой же доброте могла идти речь, когда она сама не раз слышала, как учителя в коридоре, направляясь в учительскую и ничуть не смущаясь тем, что вокруг — дети, жаловались друг другу: "Господи, как надоели эти дебилы!"…
Лене казалось, что учителя, которые орут на ребят на своих уроках, называя тех, кто плохо соображает или не слишком спокойно сидит за партой, "козлами", "дураками", "дебилами", "тварями", "жеребцами", "кобылами", "неумытыми чушками" (а фантазия некоторых учителей в этом плане была просто безгранична), так вот, такие учителя все-таки казались ей порядочнее притворно-ласковых лицемеров. Насчет человека, который называет тебя "свиньей", вряд ли можно обмануться, а вот на притворную-то ласку сколько ребят покупалось, какими потом разочарованиями все это оборачивалось!
Была в параллельном классе девчонка Лиля. Дружила с мальчишкой, одноклассником. Даже циничные парни-старшеклассники смущенно смолкали, когда Лиля со своим приятелем шла из школы домой. Она — высокая, тонкая как свечечка, с умным изящным личиком, и такой же стройный, гибкий мальчишка с двумя портфелями в руках — своим и Лилиным… Этой дружбой любовались все, никаких кличек никто во всей школе даже не пытался дать этим ребятам, потому что самому тупому хулиганистому парню было ясно: здесь — свято…
И вот однажды классная руководительница вызвала девчонку на откровенный разговор. Лиля, доверившись, рассказала, что очень любит Олега и мечтает, когда вырастет, выйти за него замуж.
И на ближайшем же родительском собрании классная не преминула принародно предупредить Лилину маму, ехидно улыбаясь, чтобы она за своей дочкой поглядывала в оба, а то у нее все мыслишки уже сейчас о замужестве, так что, того гляди, и в подоле принесет…
Мать, женщина суровая, весьма строгих правил, вернувшись домой с родительского собрания, избила Лилю и на другой же день повела ее на осмотр в женскую консультацию, проверить, сохранила ли дочь свою "девичью честь"…
После визита к врачу, который удостоверил, что тут полный порядок, Лиля пришла домой и выпила бутылку уксуса. Спасти ее не удалось.
А классная, как ни в чем не бывало, продолжала вести свои уроки литературы, рассуждала о высокой, чистой и честной любви, дружбе, проводила классные часы на темы морали, и ее фальшивый голос причинял Лене физическую боль.
Фальшь она видела всюду — в делах, словах, мероприятиях. Главным требованием школьной жизни — Лена поняла это очень рано — было показать не то, что думаешь и чувствуешь на самом деле, а то, что принято думать, принято чувствовать. Мучительно страдая от внутреннего разлада с собой, она дежурной улыбкой и с дежурным энтузиазмом приветствовала приходивших на пионерские сборы ветеранов (на встречу со школьниками они порой приходили с похмелья, а то и в порядочном подпитии). Она исправно приходила на субботники, где ребята всем классом за два часа очищали десять квадратных метров территории школьного двора. И все это называлось громкими словами "трудовой десант", "военно-патриотическая работа"…
Ее так и подмывало выскочить однажды на классном часе или на каком-нибудь уроке к доске и во весь голос прокричать чистую, голую, пусть и несуразную правду…
Но за днями проходили дни, за месяцами — месяцы, и Лена не то чтобы мирилась со всей этой ложью, а просто осознавала, что бороться, протестовать — бессмысленно.
Однако внутренний разлад для нее был все же слишком мучителен, болезнен. Думать — одно, говорить — другое, делать — третье казалось ей позорным и недостойным. А жить как-то иначе она пока не умела, учиться же было не у кого. Все жили по раз и навсегда заведенному порядку, примера другой жизни перед глазами не было…
Вечерами, вернувшись домой после очередного рабочего дня, отец, отчаянно матерясь, рассказывал о неурядицах и глупостях, царящих у него на работе. Но он же и говорил: "А что сделаешь? Стену лбом не прошибешь, выше головы не прыгнешь"…
Мать, в свою очередь, рассказывая о своей работе, тоже вздыхала, махала рукой и говорила: "Видно, так уж испокон веку было и будет — против начальства идти, все равно что против ветра плевать".
Отец был шофером. Он приходил домой пропахший солидолом, бензином, чем-то железным и горячим, и долго и возбужденно рассказывал, как сегодня опять почти под колеса его машины выскочила с тротуара бабка — едва успел вывернуть руль, чуть не врезался в фонарный столб; как опять пришлось лаяться с механиком, но все-таки этому Семенычу придется пару "пузырей" поставить, иначе не видать ему новых покрышек, как своих ушей…
Мать работала заведующей магазином. Лену больно задевало, что про "торгашей" всегда говорили, как о заведомых ворах и жуликах, разве что пока не пойманных. Никогда в их доме не было никаких "лишних" денег, и, даже подвыпив, отец грозил матери, мотая лохматой башкой: "Смотри, Феня, никогда ничьих денег брать не вздумай, нам с тобой чужих слез не на-а-до, слы-шишь?!"
Мама согласно кивала головой и обиженно разводила руками: "Ну, что ты, Николай! Когда же это мы на чужое-то льстились?!"
Мама всегда работала ровно, без недостач и нервотрепок, терзавших продавцов соседних магазинов. Волей-неволей Лена часто слышала разговоры попавших в беду, а вернее сказать, проворовавшихся маминых коллег, которые прибегали к ним домой "посоветоваться": там — недостача, здесь — продавцы разодрались, чего-то не поделив, в другом магазине коллектив деморализован бесконечными внутренними сварами, сплетнями и кляузами…
А у мамы в магазине всегда было все спокойно и тихо. Правда, уживались в этом коллективе далеко не все. Да мать и сама на работу кого попало не брала, долго разговаривала с новым человеком, присматривалась к нему, и, надо сказать, ошибалась очень редко.
Лена как-то раз спросила:
— А почему у вас в магазине все такие старые?
И мать спокойно ответила: "Потому, что людям в таком возрасте уже жаль своего доброго имени. Мы, дочка, войну пережили, детьми работать пошли. Почем кусок хлеба — с малых лет знаем. Нам чужого не надо. Умереть хочется честным человеком…"
Кем она была, Ленина мама, — идеалисткой? Нет, просто честным рабочим человеком, которому хотелось бы иметь право уважать самое себя.
Мама всегда была какой-то удивительно светлой и ясной, как девочка. А в житейских делах порой была трогательно-беспомощна. За своих работников, за свой магазин она к кому угодно могла пойти, требовать, добиваться, при особой нужде и кулаком по столу стукнуть, а вот за себя, за свое достоинство человеческое постоять совершенно не умела. Это Лену коробило, даже злило. Как может жить женщина с человеком, который ее бьет? Как можно спать с ним в одной постели, принимать его пьяные ухаживания и прощать — пьяные же! — побои и издевательства?
* * *
Однажды, когда ей было лет четырнадцать, она, не выдержав, выложила все это матери. И — ревела! Ух, как она ревела, умоляя ее бросить отца, наплевать на все на свете, уйти, убежать, уехать куда глаза глядят, как можно дальше, зажить наконец человеческой жизнью, без этих ужасных скандалов, без этого вечного отупляющего страха!..
Мать сидела рядом с ней и плакала… А потом, как-то вдруг успокоившись, она совершенно ровно — и было видно, каких трудов ей это стоило! — стала рассказывать…
— Ты ведь, дочка, об отце-то своем пока по-детски рассуждаешь, ты его, настоящего-то, и не знаешь… Нет, ты права, конечно, по-своему — права! — поправилась мать, видя, как у Лены темнеет лицо. — Да ведь и я, дочка, права, только правота у нас с тобой немножко разная. Ну, вот представь себе… Мне тринадцатый год шел, когда война началась. Я ведь с двадцать девятого года. А на работу с четырнадцати лет принимали. Ну, я себе девятку в свидетельстве о рождении на восьмерку переправила — так и пошла работать на завод.
Он на окраине Москвы был, танкоремонтный, танки прямо с передовой гнали в наши цеха — на ремонт. От нас эти танки и в бой шли… Бывало, отстоишь у станка смену-то, а потом и ног под собой не чуешь, едва-едва домой доплетешься. Уставали так, что замертво у станков падали и спали, как убитые. Да… И вот однажды, заспавшись, на работу я опоздала. А время было строгое. Было мне первое строгое предупреждение, первое наказание. А потом, как нарочно, я еще два раза подряд на работу опоздала. Питание-то аховое было, а ведь у нас тогда самый рост был, вот и уставали мы ужасно, слабость постоянно чувствовали… Ну и взяли меня под стражу, как миленькую, и упекли, куда положено…
— Как это — "упекли?" Куда?
— Ну, как? — вздохнула мать. — В тюрьму упекли. Указ такой был, за опоздания… Нас, дурочек малолетних, тогда много таких пересажали. Днем-то нас на работу водили, а вечером — по камерам. А конвоировал нас старый-престарый дед, инвалид, одно название, что конвоир. И вот однажды Дуська — была такая среди нас девка-оторва — нам и говорит: "Девки, чтой-то мы всё под конвоем ходим? Мы, что убийцы какие, или что? Давайте, смоемся от этого старого черта! И что такое мы наделали? Фашистам помогали, что ли, за что в тюряге-то нам гнить? Мы свои грехи отработали, и еще отработаем, а среди жулья я сидеть не желаю!".
Нам бы подумать маленько, ведь и срок-то отсидки у многих к концу подходил, по первости-то нам по полгода давали, — нет, поддались на Дуськины призывы, договорились.
Сказано — сделано. Шли с работы, навалились на деда, связали — он и не пикнул. Только все просил: "Деточки, только винтовку-то не берите, меня ведь за это под трибунал отдадут" Ну, зачем нам была нужна его винтовка? Положили мы ее рядом с дедом, а его самого на охапке сена под копной устроили, чтоб не простудился, и — наутек… А ума-то у нас больно много было: пошли по домам. Через несколько дней нас всех, голубушек, и свели опять в той же камере. И судили нас уже как банду рецидивистов, и влепили каждой по закону военного времени по десять лет строго режима. И поехала я, дочка, на Колыму…
Ну, всех страхов да ужасов, что увидеть там довелось, я тебе рассказывать не буду. Да и ни к чему тебе все это. Было, как говорится, да быльем поросло… Много чего пережить пришлось… Иной раз проснешься ночью, а рядышком, на нарах — труп, уже застывший. Придушил кто-то бабенку… А кто, за что, когда — ни за что не узнаешь, да и опасно это было, узнавать… Иной раз такая тоска брала, что, кажется, будь возможность, так бы в прорубь головой, да и все дела! А потом одумаюсь: ну, не вечно же у меня все это будет, доживу же когда-нибудь до воли!
Так и жила, отбывала свой срок, сама себя поддерживала да уговаривала. Держала себя строго. Девушки да женщины там всякие были, что уж скрывать. Конвойные торговали женщинами направо и налево. Подойдет к пропускнику какой-нибудь "вольняшка" или расконвоированный, высмотрит себе женщину или девчонку посмазливее, сунет конвойному бутылку спирта — тот и выпускает ее на пару часиков, и все это прекрасно знали, от самого высокого начальства до самого последнего работяги, а только никто в такие дела не вмешивался. И жаловаться было бесполезно…
— А… а если девчонка не захочет с кем попало идти?
— Если не захочет? — невесело усмехнулась мать. — Если не захочет, добра ей тогда не видать, замучают конвойные придирками, замордуют. С волками, дочка, жить — по-волчьи выть.
— А… ты, мам? — боязливо, с замиранием сердца, спросила Лена. — Тебя — покупали?
— Меня? Слава богу, дочка, бог миловал. Может быть, потому я уцелела, что старухи в бараке меня любили, как-то оберегали по-матерински… А вот была у меня подруга, Тамара. Красивая дивчина, чудо черноглазое, украинка. Такая певунья, такая нежная, добрая, но и гордая же была! Бабки в бараке, на нее глядючи, все, бывало, говорили: "Ох, недолго ей жить на свете, горда, больно горда"… Так и случилось. Присмотрел Тамару начальник лагеря. Стал донимать ее ухаживаниями. Обещал помилование выхлопотать, поселить в отдельном помещении, спецрацион, прислугу… Тамара только смеялась над ним.
Однажды вечером конвойный вызвал ее "в концелярию для разговора". Мы сразу поняли, какой такой "разговор" ей предстоит. Тамара оглянулась на пороге, улыбнулась всем и весело так сказала на прощание: "Я скоро вернусь, бабоньки. У начальства со мной разговора не получится, язык у него отсохнет!" Ушла и — не вернулась. А утром на поверке объявляют: "Заключенная Панченко расстреляна при попытке к побегу". А куда ж она в зоне могла пытаться убежать? Через два дня увидели мы нашего начальника лагеря, рожу его исцарапанную, все поняли… Знаешь, дочка, я и сейчас, через столько лет во сне ее вижу. Как живую. Веселую, молодую, красивую, гордую…
Лена слушала мать, сотрясаемая нервной дрожью. Все в ее рассказе было так страшно, так неожиданно: мама — в лагере, на Колыме! Маму любой подонок мог купить за бутылку спирта. И все это было на нашей земле, в нашей стране, среди наших людей!..
— Ты что, дочка? — испуганно потянулась к ней мать. — Ох, дура же я старая, зачем я все это тебе, только расстроила…
— Мама, рассказывай, рассказывай, пожалуйста! — прошептала Лена, прижимаясь к ней. — Мне это нужно. Мне нужно понять, мама, разобраться…
— Ну, хорошо… И всякого другого довелось нахлебаться мне досыта… На работу нас гоняли в шахту. Разная там была работенка — и уголь добывали, и мыли в ручьях золотишко. Все бывало… Особенно тяжело мыть золото. Вода ледяная, руки-ноги от холода как неживые, даже боли, бывало, не чувствуешь, до того обмерзнешь.
Однажды конвоир вел на работу группу заключенных — женщин. Слово за слово — поцапался с бабами. Среди этих, с оружием, придурков всяких тоже хватало… Вот он орет: "Лечь! Встать! Лечь! Встать!" А дорога — вся в ледяной каше, плюхаются бабы в это месиво и на чем свет стоит его кастерят. Наконец, одна старуха не выдержала, кричит: "Что ж ты, мерзавец, делаешь?! Тебя Советская власть этому учила — с бабами воевать, да?!"… Ну, тут солдат вообще взбесился, как взялся из автомата поливать — человек тридцать насмерть положил, пока его взяли. В живых из группы всего несколько человек осталось, да и то тяжелораненые, которые первыми упали, а потом уж подруги, падая, собою их прикрывали… И вольные пострадали — шел мимо инженер с беременной женой, увидел, что этот мерзавец женщин расстреливает, подбежал, кричит: "Что же ты делаешь, фашист?!" — тот и его с женой заодно прикончил… Никак не могли автомат его взять — у него с собой несколько автоматных дисков было.
Прибежал наряд, так пока по ногам ему очередь не дали, не могли подойти, отобрать у него оружие. Он потом лежал в больничке для заключенных, так около него специальный пост поставили, иначе бы его в этой больничке заключенные удавили.
— И что ему за все это было?
— Что? — усмехнувшись, переспросила мама. — Да ничего особенного. Его долго лечили, потом долго разбирались с ним, был суд. В конце концов, его оправдали, даже чуть ли не награду в итоге получил. Потому что после всех разбирательств как-то так получилось, что он чуть ли не вооруженное восстание подавил…
* * *
А с отцом твоим, Леночка, мы там, на Колыме, и познакомились. Я уже расконвоированная была, на работу самостоятельно, без сопровождающих ходила. Ну, вот твой батька однажды меня и углядел. Понравилась я ему. Он и поспорил со своим товарищем: мол, вот эту девку в ближайшее время возьму…
Ну, и взял… А когда я узнала, что он меня "на спор" взял, я света белого не взвидела. Сказала ему, как отрезала: "Уходи, говорю, подонок, видеть тебя не хочу!"
Он-то сначала вроде посмеялся: "Баба с возу — кобыле легче!" А потом, видать, понял что-то, хоть и был он в то время шпана шпаной. Полгода за мной по пятам ходил — по-настоящему влюбился. А когда узнал, что я беременна, что уж и рожать мне скоро — тут он вообще задурил: "Не позволю, — говорит, — чтобы мой ребенок безотцовщиной рос!" Ну, вот, так мы с ним и сошлись… Когда ты родилась, батя твой через громаднейший забор в зону, в тюремную больничку перебрался, а ведь его часовой вполне мог застрелить. Притащил мне здоровенный узел — там и пеленки, и распашонки, и сто пирожных в кучу свалено. За сто с лишним километров куда-то мотался, все это добро добывал.
— Как это "сто пирожных?"
— Да вот так! — смеется мама, и лицо ее удивительно молодеет и хорошеет. — Увидел у продавщицы пирожные, говорит: "Давай все!" Ну, она и дала "все" — сто штук. И батя привез их мне… А как он тебе радовался, дочка! Сначала, еще до твоего рождения, все говорил: "Мне сын нужен! У меня сын должен родиться!" А узнал, что дочка родилась — прямо одурел от радости. Он же, Леночка, ничего хорошего в жизни не видел. Отец у него рано умер, ему всего десять лет было. Бабушка, мать его, сразу снова замуж вышла. А отчим суровый, неласковый человек попался. Сразу потребовал, чтобы дети — отец и его старшая сестра, Лида, — его отчество и фамилию взяли.
А отец твой уже тогда упрямый и гордый был, говорит отчиму: "У меня один отец был, а вы мне никто". Ну и стали его дома за малейшую провинность бить, наказывать, а он, чуть чего, в бега кидался. Так мать подкараулит его где-нибудь на улице, поймает, притащит домой да и затолкает в подпол, посадит на цепь, как собаку — в наказание. И сидел он так по двое-трое суток на воде да на черном хлебе. И обозлился парень вконец, возненавидел свое семейство. А тут — война. И попался отец на краже — булку хлеба украл. Было ему четырнадцать лет, но по военному времени ему тоже на всю катушку, и отправили на Колыму… Когда мы с ним встретились, он уже вольным был.
Дружки его в теплые края манили, а отец ждал, когда я освобожусь… Разве это, дочка, забудешь? Столько всего пережито вместе, столько души истрачено — куда идти или ехать, чего искать?; в каких-то других местах? Да и будет ли еще где-то лучше… Отец очень любит тебя. И меня он любит. И не злой он вовсе. Просто сломала его Колыма, понимаешь? Не может он понять, за что ему все это — срок такой за мальчишеский проступок. Да и не баловство ведь даже это было, просто нечего было есть, буквально вопрос жизни и смерти был. Сейчас вон что вокруг творится, все всё тащат кругом, разворовывают государство всем миром, и — ничего. Никто никого не судит, вроде бы как это сейчас даже доблесть какая особая — что-то "унести" с работы, с соседней стройки.
Несправедливость труднее всего пережить. Я как-то сумела отрешиться от обиды, постаралась забыть, не вспоминать того, что было. А отец твой слишком горд, он до сих пор свои мальчишеские обиды вспоминает, все понять не может, за что с ним так все было. Да ни за что! Такое было время. "За что" — не спрашивали. Влепили срок — ну и радуйся, что десять лет, а не двадцать пять. И что вообще жив остался. А всякие там "зачем?" да "почему?", да "за что?" — это все без пользы, только душу себе мотать понапрасну.
А отец только со мной хоть как-то к нормальной жизни вернулся, пусть и изломанный весь. Ведь он уже конченным уркаганом был! Пристрастился к картам. А карты — хуже любой болезни, любой отравы; не дай тебе бог, дочка, увидеть, что эти проклятые карты с людьми делают! Однажды, помню, прибегает в барак Тонька, подружка моя, кричит не своим голосом: "Беги, Феня, беги, там твоего Кольку под ножи поставили, проигрался!" Я подхватилась и бежать!
Был там один притон картежный, все его знали, ну, я туда забегаю. Смотрю, стоит Николай, бледнее смерти, но — с улыбочкой: не дай бог перед корешами слабину показать. А урки вокруг — с ножами. А я не знаю, откуда что во мне взялось, растолкала всех, заслонила собой. "Не трогайте его! — кричу. — Не смейте его трогать! Сколько он вам должен? Я вам все заплачу, только не трогайте его!"
А один, главный у них, сплюнул презрительно и с такой издевочкой говорит: "Слушай, девочка, вали отсюдова, пока цела. Мы с бабами не играем… А твоему хахалю — каюк, если он через полчаса полторы тысячи не выложит!"
А я ему кричу: "Не трогай его, сволочь! Муж он мне, у нас ребенок скоро будет! Его долг — мой долг, у нас все пополам! А его зарежете — и меня режьте, какая вам разница!"
И кинулась я в барак за деньгами… Не помню, кто, что — насовали мне бабы денег, набрала полторы тысячи и вот бегу, из последних сил бегу, думаю, только бы успеть!
Забегаю — урки стоят, Николая под ножами держат. Я им ка-ак швырну эти деньги, его — за руку, и — к выходу. Тут их главный мне дорогу загородил, подошел к отцу, да как хряснет его по лицу! У Николая кровь — фонтаном. А этот, вождь-то бандитский, спокойненько так говорит: "Ты, дура-баба, деньги-то свои собери, мы еще, слава богу, пока собственными рублевками перебиваемся. А дураку своему скажи, и пусть он это крепко запомнит: не его это дело собачье — в картишки перекидываться. И — Николаю: — Ты понял, дурак? Ты свое отыграл. А на бабу свою — богу молись. Не жить бы тебе уже сегодня…"
И вытолкал он нас из избы. Идем мы по дороге, а уж холодно было, скользко, я спотыкаюсь да падаю, вывозилась вся в грязи, реву белугой на весь белый свет: "Ой, да зачем ты на мою голову навязался?! Ведь убили бы тебя сейчас, дурака! Что бы я без тебя делать-то стала, я ведь тебя люблю!"
А Николай встал посреди дороги, белый-белый, как замороженный, схватил меня за плечи и трясет, трясет: "Молчи, Феня! Слышишь, молчи! Успокойся! Слово тебе даю: в руки больше карт не возьму, вот увидишь, нашим ребенком тебе клянусь!" И с тех пор, Лена, уж сколько лет прошло, а ни разу больше отец не играл…"
…Вот с того дня стала Лена присматриваться к жизни родителей, пристальней вглядываться в их лица, внимательнее вслушиваться в их слова. Все наблюдаемое теперь приобретало другой, более глубокий смысл.
Она теперь пыталась понять отца. Он был так слепо, так безумно, так безоговорочно смел, что Лена и гордилась им, и смертельно боялась его. И за него — тоже боялась…
Однажды, когда они всем семейством возвращались поздно вечером из гостей, в темном переулке их окружила группа молодых парней. Самый рослый из них, подойдя вразвалочку, скомандовал отцу: "Эй, мужик, давай, тряси карманы. Сам тряси, да поживее. А то мы и тебя, и баб твоих так потрясем, что"…
Больше парень ничего не успел добавить — отброшенный жутким ударом отцовского кулака, он, врезавшись в забор, молча и покорно сполз по шершавым доскам на землю.
А отец будто с ума сошел от ярости. Вот, столкнувшись лбами, с костяным треском, тихо осели на землю сразу два парня. Вот, получив невообразимый по силе пинок, улетел в темноту еще один…
Мелькая разъяренным зверем между опешивших, перетрусивших до онемения незадачливых хулиганов-налетчиков, отец рычал: "Мразь! Дерьмо!.. Меня — "потрясти"!.. Я вам покажу — "баб трясти", подсвинки дешевые!.."
Мать, порядком перепуганная за отца — ведь поубивает гаденышей, это же верная тюрьма! — повисла у него на плече: "Коленька, перестань, пожалуйста, перестань, успокойся! Ну это ведь мальчишки, дураки, хватит с них! Убьешь их — в тюрьму сядешь, у тебя свой ребенок, зачем тебе это? Успокойся!"
Отец, откидывая мать в сторону, как пушинку, кричал и матерился еще долго, пока, наконец, общими усилиями кое-как удалось его утихомирить. Лена все это время стояла, прижавшись спиной к старому занозистому забору и со странным смешанным чувством страха, гордости и тревоги за отца наблюдала за происходящим. Налетчиков ей было не жалко. В их районе часто совершались ограбления, убийства, изнасилования, и подонков, готовых убивать, унижать и калечить людей, она давно научилась ненавидеть…
После этого случая вся окрестная шпана зауважала отца. И если какой-то совсем зеленый пацан, пытаясь набить себе цену, начинал грубо заигрывать с Леной, а то и сквернословить, расчитывая привлечь к себе ее внимание, обязательно находился некто, татуированный и косматый, который подходил и внушительно говорил зарвавшемуся "ухажеру":
— Ты, фраер, девочку эту не трогай, понял? Это — дочь Бешеного…
"Бешеным" отца прозвала местная шпана после того неудавшегося ограбления, и кличка эта была более чем уважительна. Тень этого шпанского уважения ложилась и на нее, дочь Бешеного…
* * *
Странно: именно с этого возраста у Лены совсем пропало желание иметь друзей. Еще совсем недавно с приятелями-мальчишками она гоняла футбольный мяч, играла в лапту, зоску, пятнашки, бегала по утрам на рыбалку, за грибами, и вдруг — словно что-то оборвалось в ее душе. Ей скучно стало со сверстниками, совсем другие мысли и чувства ее одолевали, и каким-то смутным, подспудным чутьем она понимала, что делиться с кем бы то ни было своими переживаниями — напрасный труд, ее просто не поймут, а может быть, и высмеют. Насмешки же она переносила очень болезненно — этим она и удалась в отца.
…Да, а та история, которую она не досказала Ворону — у постели отца с топором, закончилась трагически. Трагически для Лены. Потому что больная совестливость, которую, видно, от роду с избытком была она одарена своими родителями, все же доконала ее. Она перестала спать ночами, мучилась страшной, тяжкой мыслью: как могла?!.. И чем же тогда она сама лучше самого черного, самого грязного злодея?!..
Ей стыдно и страшно было смотреть родителям в глаза. Стало казаться, что, стоит только присмотреться к ней повнимательней, они поймут, кто она такая, кого они вырастили. От этого страха и родилось, сперва робкое, а затем все более крепнущее и притягательное желание — уйти. Умереть. Исчезнуть из жизни. И тогда все искупится само собой.
Сначала думать о смерти было страшно. Потом эта мысль становилась все будничнее, привычнее, а после — уже и желаннее всех остальных намерений.
Она перебрала в уме все известные ей способы самоубийства — повеситься?.. броситься под машину?.. отравиться?…
* * *
Почему именно она остановилась на мысли о самосожжении? Незадолго перед этим в каком-то журнале ей попалась на глаза мастерски снятая фотография — самосожжение буддийского монаха. Ее поразило тогда, что горящий живым костром человек сидел, спокойно поджав под себя ноги, а вокруг стояла любопытствующая толпа нарядных праздных людей. Ни горя, ни страха, ни ужаса, ни элементарного человеческого сочувствия не было видно на гладких, розовых лицах, одно только голое и глупое любопытство…
И Лене пришло вдруг в голову, что такая смерть для нее — самая подходящая. Только не на показ кому-то, а в отместку самой себе — за то, что чуть было убийцей собственного отца не стала, за то, что позволила себе судить, казнить и миловать взрослого человека, хотя сама-то — далеко не идеал.
Мысль запала в ее сознание… Она уже не могла спокойно, как прежде, отсиживать в школе положенные часы. Что-то бесконечно тревожило ее, тяжело ворочалось в ее душе. Хотелось к кому-нибудь обратиться за помощью, советом, но — к кому?
И потом, даже если найдется такой человек, что ему сказать, как к нему обратиться — помогите, мне плохо? А он спросит: "Что у тебя случилось?" Она ответит: "Я хочу умереть и боюсь этого"… Дальше ее воображение не шло. Она прекрасно знала, что человека, которому можно было сказать такие слова, в природе не существует.
Наконец, она устала. Смертельно устала от этой бесконечной душевной муки, от необходимости разыгрывать постоянно перед учителями, перед родителями и одноклассниками благополучную девочку…
Правда, однажды она-таки попыталась подойти к классному руководителю, Полине Ивановне Дремовой, чтобы поведать ей о том, как страшно ей жить… Скорее всего, это была неосознанная попытка спастись — вот расскажет она Полине Ивановне о своих бедах, а та, чем черт не шутит, каким-то образом возьмет на себя, решит за нее что-то очень важное, и ей самой не придется уже так мучиться сомнениями, болеть душой…
— Полина Ивановна, — остановила как-то раз после уроков она классную, Дрёмушку, как ласково называли ее ребята. Она, в общем-то, была доброй, невредной теткой, немного заполошной, но, в общем-то, вполне своей. — Полина Ивановна, — внезапно осевшим голосом повторила она, — я хотела с вами посоветоваться!
— Ну, давай, — улыбнулась Дремушка. — Советуйся.
— Я… мне…
— Влюбилась, что ли? — расцвела вдруг понимающей улыбкой классная. — Ну, конечно, влюбилась! Ну, ничего, ничего, это в твоем возрасте — дело обычное. То-то, гляжу, последние дни ты вроде как не в себе. И учиться что-то похуже стала, на уроке сидишь, как курица вареная. А я думаю, что с тобой?
И Дрёмушка стала убеждать Лену, что в ее возрасте любви не бывает, что это просто детская влюбленность, что через самое короткое время все это пройдет у нее без следа…
Дрёмушка так была уверена, что правильно угадала причину внутреннего разлада своей ученицы, что даже не удосужилась поинтересоваться у Лены, права ли она в своем предположении. И та стояла, опустив голову, и обреченно мелькало где-то в дальних уголках ее сознания: "Всё! Теперь — всё!"
Да, глядя в доброе, круглое лицо своей классной, она поняла, что теперь, действительно, все. Больше она и пытаться не будет кому-то что-то рассказывать, все бесполезно. И вообще, видно, правду папка говорит, когда повторяет после каждой рюмки: "Запомни, дочка: человек человеку — волк! Волк, и всё. Никто никому не нужен. Только свой своему, как говорится, поневоле брат"…
Вообще-то Лена не согласна была с отцом. Если считать, что кругом — одни враги, то на земле ни одного человека в живых не осталось бы. Жизнь потеряла бы всякий смысл. Нет, она была не согласна. Она считала, что просто вокруг слишком много безразличных людей, все горе на земле — только от этого.
Но глядя в ставшее вдруг неприятным лицо классной, она твердила мысленно: "Волки, все — волки! Волчары паршивые!"…
На следующий день, впервые за время учебы, в школу она не пошла. Родителям сказала, что у нее болит голова, и они в один голос посоветовали ей побыть сегодня дома, отлежаться. А что? Проблем с ее школьными делами они никогда не ведали. Честно говоря, не знали, где в школе дверь открывается. Ее учеба шла стабильно хорошо, ровно, в конце каждой четверти Лена приносила родителям благодарственные письма за ее "отличное воспитание", и потому отец с матерью в ее школьные дела не вмешивались.
Когда родители ушли на работу, она спокойно, не торопясь, прибралась в доме, переоделась во все чистое ("как матросы на гибнущем корабле"), почему-то пришло ей в голову.
Взяв банку, она пошла в гараж, где стоял отцовский мотоцикл. Нацедила из бочонка, темневшего в углу на березовом чурбаке, бензин. Банка подрагивала в ее руках — ей вдруг стало так страшно, что в пору бы бросить все, забыть все свои проблемы и — бежать, бежать, бежать куда-нибудь без оглядки…
Но выбор был уже сделан. К тому же со взрослой обреченностью она понимала, что можно убежать из дома, из города, даже, может быть, из страны, но от себя-то бежать некуда.
Она вдруг ясно вспомнила добродушную, розовую физиономию Полины Ивановны, поняла, что в школу пойти больше просто не сможет. И отца видеть — тоже. Он сегодня так беспокоился мнимым ее нездоровьем, так запереживал, раз пять переспросил, не вызвать ли врача…
С банкой в руках Лена, как заведенная, ходила вокруг дома, по ограде, по огороду почти до вечера. Спохватившись, глянула на часы — уже четыре, в шесть-в начале седьмого родители возвращаются с работы. Если она не решится на этот последний шаг сейчас, то, возможно, не решится уже никогда. И будет еще один мучительный вечер, родители будут озабоченно интересоваться ее самочувствием, и будут сотни и тысячи таких же вечеров, такой будет вся жизнь — без надежды, без просвета, в разладе с самою собой и окружающим миром. Жизнь, сотканная из вранья, из чувства собственной ущербности, из фальши, из ненависти к себе и к людям…
Нет, не хочет она такой жизни! Мысленно она уже тысячу раз проделала необходимое — перевернула на себя банку с бензином, чиркнула спичкой… Что будет дальше, она старалась не думать, потому что дальше получалось что-то нестерпимо жуткое. Представляла, проигрывала все в голове, но на окончательный шаг все-таки не могла решиться. И когда, наконец, над землей забрезжили ранние весенние сумерки и до прихода родителей осталось совсем немного времени, она решилась.
Автоматически, как она проделала это множество раз мысленно, вылила на себя банку с бензином, стоя посреди двора. Чиркнула спичкой…
Жуткая, нестерпимая боль объяла вдруг ее тело, дикий, нечеловеческий крик вырвался из мгновенно пересохшего рта. Обрывая на себе горящую одежду, она вылетела из ворот и помчалась неизвестно куда, продолжая страшно кричать…
Напротив их дома жила бабушка — отцова мать, баба Липа, Олимпиада Викентьевна. Из ворот бабушкиного дома показался двоюродный братишка, Юлий, Юлька-Фитюлька, как ласково звали его домашние. Потом он и сам тоже не мог вспомнить и понять, как это он, двенадцатилетний пацан с вечно мокрым носом, сообразил догнать горящую Лену, повалить ее на землю и прикрыть сброшенной на ходу телогрейкой, чтобы сбить пламя…
Угасли последние языки страшного черного огня. Лену колотил запоздалый страх, дичайшая боль терзала ее тело, от чего она не могла ни стонать, ни плакать, все кружилось и плыло у нее перед глазами.
Лежа на холодной мартовской земле в хрусткой корочке подмерзших лужиц, она смотрела в небо, где беззаботно проплывали белопенные облака…
Юлька, плача от пережитого нервного потрясения, размазывая черными кулаками по лицу черные слезы, стоял на дороге, отчаявшись дождаться от кого-нибудь помощи, и, наконец, остановил грузовик.
Водитель, здоровенный дядька с чугунными от мазута руками, испуганно охнув, занес ее в кабину. Смутно помнит она, как он вез ее в больницу, уговаривая по дороге: "Терпи, девочка, терпи, моя хорошая!.. Вот сейчас приедем в больницу, и все будет хорошо! Терпи…"
Лена потеряла сознание… Очнулась она уже в каталке — бегом везли ее куда-то по коридору, завернули в большую комнату с нетерпимо ярким светом и массой никелированных блестящих инструментов. Торопясь, молодые врачи срезали с нее ошметки сгоревшей одежды, и вдруг Лену в темном омуте нестерпимой боли, куда она то и дело проваливалась, пронзила совсем детская мысль: все ее вещи пришли в негодность, их сейчас выбросят и дома ей за это попадет… Она заплакала.
Много дней и ночей пролежала она под капельницей. Самым страшным испытанием в больничной жизни стали для нее каждодневные перевязки. Сущая пытка! Терпения у нее хватало на многое, но приходил ее черед идти в перевязочную, и она теряла самообладание, так кричала, так рвалась из рук врачей, что все каждый раз изумлялись: вроде бы, такая терпеливая, выдержанная девчонка, а на перевязке — просто сумасшедшая!..
Но хорошо об этих вещах говорить тому, кто сам ничего подобного не испытал. А у Лены при одном слове "перевязочная" темнело в глазах.
Площадь ожогов была большая — тридцать процентов. Обгорели руки, спина, живот, ягодицы, бока. Через несколько дней ожоговые пузыри, срезанные врачами, превратились в сплошную кровавую рану. Ожоги были, в основном, третьей и третьей "Б" степени. Лена то и дело теряла от боли сознание. Тогда врачи старались успеть, пока она не очнулась, отодрать и все остальные присохшие бинты…
После перевязки, как правило, несколько часов подряд Лена ощущала только одно: БОЛЬ. Боль, затмевающую сознание, не оставляющую в нем места ни для чего иного, боль, боль, боль…
Никакие мысли не задерживались в ее воспаленной голове. Температура под сорок и за сорок — днем и ночью, много суток подряд…
Когда Лена первый раз, будто вынырнув из черной ямы, осмысленно глянула вокруг себя, врач, сидевший около её постели, встрепенулся.
— Где же это, голубушка, так тебя угораздило? — наклонившись над ней, тихо спросил он, и она, непонятно почему, вдруг неожиданно для самой себя соврала:
— Печку топила, хотела бензином растопить, дрова сырые… плеснула из банки в печку, а огонь — на меня.
— Ах, глупая, глупая ты девчонка! — покачал головой врач.
Больше всего на свете она боялась встречи с родителями. И когда через несколько дней отца впустили в палату, она буквально обмерла. А он, увидев дочку под капельницей, всю в бинтах, сильный, взрослый мужик, вдруг расплакался, как мальчишка. Разрыдалась и Лена, испугавшись отцовских слез.
— Больно, доча? — уже сидя на стуле около ее койки, спросил отец, вытирая заскорузлыми пальцами покрасневшие глаза.
— Больно… Па-а-пка, у меня пальто сгорело, платье сгорело, ничего не осталось… ты только не ругайся! — снова заплакала Лена.
— Господи, да черт с ними, с тряпками! Пусть все синим пламенем горит, ты только поправляйся!
Жар, жар, жар… В голове — будто беспрерывно работающая плавильная печь, от которой растекаются кровавыми потоками свет и тьма, забытье и бодрствование, зло и добро…
Пересадку кожи решили делать, когда разрастающиеся вглубь раны стали приобретать зловещий черноватый оттенок.
Операция прошла так тяжело, что долго потом, едва завидев своего врача, Лена буквально каменела от страха, и ей хотелось только либо немедленно выздороветь и навсегда исчезнуть из этих стен, либо умереть, но только как можно скорее, без этих ужасных мучений…
И все-таки после операции потихоньку, едва-едва заметно, но дела ее пошли на поправку. Стала падать температура — уже не сорок градусов, а тридцать восемь, тридцать семь с "довеском", как шутил Иван Васильевич, палатный врач. И вот, наконец, она стала вставать с койки, потихоньку ходить, обмирая от слабости…
Она настолько похудела за время болезни, что когда первый раз увидела себя в зеркале, никак не могла поверить, что эта бледная, похожая на тень девочка с острыми скулами — она сама. Волосы ее обгорели, и больничная санитарка грубо, лесенкой, обстригла ее в приемном покое. Из старой толстой рамы зеркала в больничном умывальнике глядело на Лену худенькое мальчишеское лицо с огромными взрослыми глазами…
Больничная эпопея длилась почти полгода. Разительные перемены произошли не только в ее внешности. Именно здесь, в больнице, научилась она по-настоящему видеть и чувствовать чужую боль, как свою. И вообще задумываться о вещах, которые ей раньше и в голову не приходили.
Родители же были буквально раздавлены бедой, свалившейся на дочку. А она, внутренне сжимаясь от сострадания к ним, от чувства вины перед ними, облегченно вздыхала, когда они после очередного свидания уходили домой… Позже мама рассказывала ей:
— Отцу позвонили на работу, чтобы он приехал в больницу, мол, заболела дочь. Ну, он сразу почувствовал, что случилось что-то страшное. Примчался ко мне на работу, на весь магазин кричит: "Ленка в больнице, поехали!" А я растерялась, никак не могу пальто найти, из угла в угол кидаюсь, ничего понять не могу. Тогда отец схватил меня за руку, сдернул с вешалки чью-то телогрейку, накинул на меня, сели мы в машину и понеслись… Я уж сижу, помалкиваю, а сама думаю: "Разобьемся"…
Входим в приемный покой, отец — к врачам. Они вышли, говорят ожог большой, тяжелый, возможен и летальный исход, смерть, значит… Отец умоляет: "Пустите, я только гляну на дочку, тут же выйду!" Но оба мы в таком состоянии были, что ни ему, ни мне в тот день не разрешили пройти в палату. Ох, Леночка, как он всё это время переживал, ни за что не мог взяться, все у него из рук валилось! Говорит, бывало: "Если она умрет, мне тогда жить незачем"…
* * *
Лена еще в больнице решила, что никому и никогда не расскажет, что же с ней на самом деле произошло, из-за чего она на такой шаг решилась. Происшедшее даже ей самой казалось каким-то бредом.
…От ровесников, от школы, от всего, что еще несколько месяцев назад казалось смыслом жизни, душа ее отшатнулась навсегда.
Вроде бы в школе к ней относились хорошо. Но вот случилась эта страшная беда, и в больницу к ней никто не пришел. Только через месяц в палате появилась Дрёмушка. Усевшись на стуле около ее койки, вытащила из сумки гостинцы, спросила, как она себя чувствует, рассказала о школьных новостях. Говорить больше было не о чем. Тем более, что для Лены это был самый тягостный больничный период — время бесконечных болей, температуры, потери сознания… Знала ли об этом ее учительница? Может быть, и не знала, но могла бы догадаться, глядя на высохшее лицо на больничной подушке. Не догадалась… Зато, сморщив нос, пожаловалась, что у нее заболела голова от больничной духоты, и что в палате… очень тяжелый запах.
И Лена сорвалась.
— Идите отсюда! Идите, и больше никогда не приходите! — кричала она, с ненавистью глядя в румяное, щекастое лицо. — И в классе всем скажите, что я видеть никого не хочу!
И Дрёмушка ушла. Больше к Лене никто не пришел…
Да, в палате стоял тяжелый запах гниения. Иногда на перевязке, глянув на пропитанные гноем бинты, Лена бессильно откидывала голову на перевязочный стол и представляла себе, что должны чувствовать врачи, вообще посторонние люди при виде этого гнилья, если ей самой-то до тошноты противно. И все же… Эх, а ведь она когда-то считала Дремушку понимающим человеком!
…Из больницы она вернулась домой тоненькой до прозрачности, с долго не заживающими рубцами и коростами на спине и боках, на правой руке. Коросты лопались, пачкая рубашки и платья, и целыми днями Лена возилась с постирушками.
Стоял конец августа, пора было собираться в седьмой класс. Но вот в школу-то Лене как раз хотелось меньше всего. И вовсе не потому, что она разленилась от больничного безделья — с книгами она не расставалась и на больничной койке, чуть полегчало — начала искать спасения в увесистых томах классиков, почему-то именно классику больше всего полюбила она в больнице. Но в школу ее не тянуло.
Она представляла себе свой класс, всех этих мальчиков и девочек, у которых не нашлось для нее хотя бы жалости в самую трудную минуту жизни, и бесстрастно пыталась понять, почему нужно быть рядом с теми, кто тебе просто неинтересен, кого ты не любишь и не уважаешь.
Тем не менее, все, что положено, Лена подготовила к школьным занятиям. Ей купили новую школьную форму, учебники.
Прослышав, что она уже дома, к ней примчались несколько одноклассниц. Они так откровенно вглядывались в ее лицо, косились на руки, что Лена поняла: пришли посмотреть, сильно ли она изуродована. Ушли они, явно разочарованные: как ни странно, лицо у Лены не пострадало, более того, черты ее утончились, облагородились, и тем, кто не видел ее несколько месяцев, это было слишком заметно. Правда, на руках еще оставались синие мокнущие следы ожогов…
Потом, в самые неподходящие минуты, всплывали в ее памяти страшные видения больничной жизни: как умирал от ожога маленький трехлетний Антошка — пьяная мать опрокинула на него бак с кипятком. Малыш уже не мог плакать. Губенки были покрыты кровавой корочкой. Весь он был сплошной марлевый кокон и стонал так жалобно, что у нее мороз шел по коже: "Почему — он? Пусть уж лучше бы я." И Антошка вдруг затих. Лена подошла к его кроватке и поняла, что он затих навсегда. И тогда свет погас в ее глазах, и пол ушел куда-то из-под ног. Оказывается, можно потерять сознание не только от физической боли…
А еще через два дня в палате умирала семидесятилетняя старушка. Ту изрезал ножом пьяный сын, требуя на опохмелку трояк. В час ночной бессонницы бабушка, вздыхая и крестясь, сама рассказала Лене обо всем этом. Но врачам она ничего не сказала, как и следователю, который приезжал несколько раз и пытался выспросить, что же случилось. "Какие-то чужие люди заходили, — неизменно отвечала бабушка. — А что дальше было, не помню. И людей этих не помню!" Она несколько дней лежала дома, терпела, боясь обратиться к врачу, только чтобы ее Васеньке не попало… Ах, эта великая и преступная в своей святой слепоте материнская любовь!
Бабушка знала, что умирает. Чувствовала. И старалась не обеспокоить лишний раз окружающих какой-нибудь просьбой. Всю жизнь безмолвно терпевшая побои от мужа, безропотно выполнявшая беспросветную черную работу, переносившая на ногах бесконечные женские болезни, похоже, смерти она ждала, как избавления, — спокойно и устало. И когда уже начала терять сознание, поздно вечером в палату прокрался, как вор, небритый, хмельной ее Васенька. Подошел к кровати, встал как столб, неловко стащив с лысеющей уже головы засаленную, в порыжелых пятнах кепку. Старушка, ненадолго придя в себя, увидела сына, и вся потянулась к нему:
"Сынок, Васенька!.. Свиделись, а я уж думала не попрощаюсь с тобой"…
И тут здоровенный мужик, проспиртованный и прокуренный, из тех, кого, как говорится, ничем не прошибешь, грохнулся, тяжело бухнув кирзовыми сапогами, перед матерью на колени и завопил: "Прости! Прости, мама!.."
Жизнь была совсем не такой, как думалось еще совсем недавно. Школьные диспуты о дружбе и любви, о патриотизме, чувстве долга перед Родиной, классные часы о благородстве, душевной красоте и подвиге, которому всегда есть в жизни место, — все это казалось Лене сейчас ненужной, пошлой и преступной игрой.
Жизнь была слишком тревожной и страшной, и разобраться в ее противоречиях, найти себя в этой жуткой круговерти добра и зла было невероятно трудно. В школе этому не учили..
Глава 3
…В палате всю ночь беспощадно сияет лампочка. Лена ненавидит ее, как можно ненавидеть живое существо. Ослепительная лампочка бесцеремонна и жестока, как самая грубая из санитарок…
Эти здоровенные бабы преследуют ее даже в туалете: "Чем ты тут занимаешься?". Как будто в туалете можно вышивать крестиком или строчить жалобы генеральному прокурору. От бессилия хочется орать во весь голос или стучать кулаком в стенку, пока она не рассыплется или пока не расплющится кулак. По Лена молчит. Молчит спокойно, пока не сорвется. А уж там — несет ее, бедную, без руля и ветрил. Сама потом удивляется, с чего это она так разошлась?
Лампочка в ночной палате — та же тупая надзирательница, которой нет дела до чужих тайн, чьей-то застенчивости или стеснительности. Постоянно думая об этом, Лена часто не может заснуть. На утренней пятиминутке дежурные сестры неизменно докладывают, что у Ершовой — бессонница. Поэтому дозу аминазина на ночь ей все повышают. Таблетки по возможности она старается не глотать, прячет под язык, и если удается обмануть бдительность аминазиновой сестры, тут же бежит выплевывать ядовитое снадобье.
От чего ей лечиться? "Голосов" у нее нет. Страхов, галлюцинаций — тоже. И с разумом, и с памятью вроде бы все в полном порядке. Правда, эта она сама так считает. Врачи, в первую очередь заведующая отделением Ликуева, полагают, что Лена больна. Чем? Врачебный секрет. Впрочем, этот "секрет" известен всей больнице. "Шибко умная!" — не раз констатировала Ликуева после очередной стычки с Ершовой и, раздраженно цокая остренькими каблучками, спешила прочь, в ординаторскую…
Лишь долгими больничными ночами, когда в отделении хотя бы на два-три часа наступает относительная тишина, Лена отдыхает. Вот только этот яркий, ослепительный свет с потолка, от которого можно по-настоящему тронуться…
В палате — почти пятьдесят человек. Пятнадцать на койках, все остальные — вповалку на полу, под койками, в узких проходах, между кроватными рядами. Вглядываясь в лица стонущих во сне, наголо стриженых женщин в грязных рубашках, разметавшихся на полусгнивших матрасах, она размышляет о том, сколь странна все же и непредсказуема жизнь. Ей кажется, что все это какой-то затянувшийся сон, надоедливый кошмар, нужно только как следует встряхнуться, взять себя в руки, и все кончится… Но дни проходят за днями, месяцы — за месяцами, а пробуждение все не наступает. Неужто вся жизнь ее пройдет в этих паршивых стенах? Да, кажется, здесь вся и закончится.
Единственной отдушиной было стихотворчество. Но писать часто было не на чем: той бумаги, что давали врачи, постоянно не хватало, да и исписанные с двух сторон листы частенько отбирали и уничтожали санитарки. Похоже было, что это доставляет им какое-то садистское удовольствие.
— Вот так тебе, поетеса дурдомовская! — приговаривала очередная блюстительница порядка, на мельчайшие кусочки разрывая ее листы. — Сидела бы себе дома, там бы и писала! А то, ишь, в дурдоме — стихи сочинять! Дура — ну и будь дурой, че в умные-то лезть!..
За что так над ней издевались, постоянно унижали? И нужна ли она хоть кому-то в этой страшной жизни? Горькие вопросы, сомнения жгли ее, мучили бессонницей и тоской, не давали покоя…
Умный человек для тех, кто томится в стенах "желтых домов", придумал название "душевнобольные". О, как остро, глубоко, сильно болело у Лены то, что называется — душа. Наверняка люди, не имеющие души, как правило, не попадают в психиатрические больницы, им не грозят нервные срывы, истерики и галлюцинации… Но и взлеты творческого вдохновения, нежная влюбленность в окружающий мир, тонкость чувств, свежесть мироощущения им тоже не грозят!
…Ворона перевели в мужское отделение — Ликуня сдержала свое обещание.
Фея, Татьяна Алексеевна, была милейшим человеком, нежным и добрым — именно благодаря ее участию Лена наконец-то почувствовала какую-то защищенность, пусть эфемерную. И все-таки общение с Вороном ей было просто необходимо, именно ему хотелось ей прочитать свое новое стихотворение, именно с ним поделиться своими секретами.
И Ворону Лена, видимо, тоже была интересна — он ежедневно, невзирая на косые взгляды Ликуевой, на скандальное внимание санитарок к его визитам, приходил в отделение навестить свою бывшую пациентку. Они шутили, смеялись, яростно спорили, и все это в кольце санитарок и больных, которые во время их беседы, не стесняясь, подходили вплотную и слушали, тщетно пытаясь что-то понять…
Уже потом, много лет спустя, Лене стало ясно, что он старался по возможности не дать ей упасть духом, в меру своих сил разбудить в ней честолюбие, желание жить среди людей, быть кем-то и хоть что-то значить в этой жизни…
О визитах Ворона в женское отделение стали многозначительно поговаривать на самых разных уровнях. Однажды Лену вызвали в кабинет главного врача. Старая, сморщенная, как сухая груша, докторша, выглядевшая куда менее здоровой, нежели многие пациентки из ее больницы, внимательно вгляделась в ее лицо и спросила:
— Э-э-э… скажи мне, Леночка, у тебя нет влечения… э-э-э… к своему бывшему доктору? К Ивану Александровичу? К тому, что приходит к тебе из мужского отделения?
Лена с изумлением и гадливостью смотрела на глубокомысленное лицо главврача, поражаясь про себя, как такие люди могут решать чьи-то судьбы.
— Есть! Есть, конечно же, есть! — повторила она, радостно замечая, что уши у главной, как у северной лайки, встали топориком. — Есть… Влечение! — победно повторила Лена, любуясь, как испуганной серой дурью затягиваются мутные глазки главврачихи.
— Мне с ним интересно. У вас ведь не только больные — дураки, но и персонал тоже, извините, сплошь. А с Иваном Александровичем я себя человеком чувствую, понимаете? Мы с ним можем обо всем на свете говорить. Он мне книги приносит, я не могу без книг… А я ему свои новые стихи показываю…
Словно споткнувшись о льдистые, холодные глаза присутствующих при разговоре врачей, Лена запоздало пожалела, что так откровенно их дразнит. Все равно ведь для них любое слово ее, любой поступок — "болезнь" и только… А может, и Ивану Александровичу попадет. За что? Уж они придумают!
И Лена замолчала. Напрасно врачи пытались вызвать ее на дальнейшие откровения — Лена односложно отвечала: "да", "нет", "не знаю"…
Вернувшись в отделение после этого странного разговора, она подумала, что Ивана Александровича она может никогда больше не увидеть, слишком прозрачен был интерес врачей к тому, что их связывает — врача и пациентку… Не зря же их "подробности" интересовали!
Но Иван Александрович пришел. И неизменно появлялся у нее каждый день, отбыв свою трудовую повинность в мужском отделении, которое находилось в другом бараке. Врачей из мужского женщинам можно было увидеть лишь в часы их ночных дежурств, на вечерних обходах. Так что и Ивана Александровича Лена могла бы видеть не чаще, чем других врачей из мужского, если бы он не приходил к ней, как на работу.
Его поведение было уже открытым вызовом внутрибольничной морали, вызовом руководству, чем стали возмущаться даже санитарки. Правда врачи не опускались до вульгарного перемывания косточек своего коллеги в больничных коридорах, но зато младший и средний медперсонал с лихвой восполнял их полупрезрительное молчание.
Какие только грехи на него не вешали, в чем только не обвиняли! А он появлялся в отделении со своей неизменной лукавой и всепонимающей улыбкой и вел с Леной долгие, обстоятельные разговоры.
Иван Александрович был выше всей этой бабской обструкции. Но Лене она была в тягость… Выдержки ей всегда не хватало… Но зато какое же нечаянное удовольствие получила она однажды, случайно услышав, как одна из санитарок, горя усердием выслужиться, пыталась передать Ликуевой, о чем все-таки Иван Александрович "с этой больной разговаривает".
— Ну, эт-та-а… Значит, Ершова ему говорит: мол, смысл жизни… эт-та-а… ну, в общем, как сказать?
Ликуева, горя нетерпением услышать что-либо крамольное, нетерпеливо подталкивала санитарку: "В любви что ли, смысл жизни?"
— Да не-ет, — досадливо морщилась санитарка. — Тьфу, черт, не выговоришь, не запомнишь, чего они там болтают!
Усердие бедняжка проявила явно не по разуму!
Глава 4
Каждый день приходил Иван Александрович.
Визг больных, ругань санитарок, вонь туалета и бряканье мисок в так называемой столовой — все это теперь как-то издалека доходило до ее сознания. Она думала о том, как ей решиться… Как решиться выйти из псишки, как начать новую жизнь, с чего…
Мама, отец… Они, пожалуй, были самой большой болью в ее жизни. Отец так ни разу и не приехал к ней в больницу. Он не верил, что его дочь, радость его, любовь и надежда, могла каким-то образом "сойти с ума". Ему казалась оскорбительной одна мысль об этом. И он был не так уж далек от истины, утверждая, что в больнице ей делать нечего, что она там просто "ваньку валяет"…
Мама приезжала довольно часто, привозила еду целыми сумками, и Лена ужасно стеснялась этого. Едва мать уходила, она, вернувшись в отделение, тут же направо и налево раздавала привезенные ею припасы. Хотя порой очень хотелось схватить кусок колбасы с большим куском хлеба и все это проглотить… Она постоянно была голодна, но с течением времени отвращение к общей столовой, давкам за миской каши у нее только усиливалось. Она предпочитала откровенно голодать, нежели давиться в очереди к раздатке.
Лена с детства не могла терпеть общих столовых, бань, туалетов — ей всегда доставляла почти физические мучения необходимость в банный день раздеваться под взглядами десятков людей или заходить в "места общего пользования", где вечная толпа выхватывает друг у друга чинарики и выменивает сигареты на махорку…
Странности? Может быть… Но она глубоко убеждена, что есть в человеческой жизни такое, куда никто из посторонних не имеет права вторгаться. К сожалению, больничные служители так не считали…
Мамины гостинцы, конечно, могли бы прийтись весьма кстати в ее больничной жизни, но тут тоже были свои тонкости. Дело в том, что пронести в отделение пищу мимо постоянно голодных "шакалов", как называли их санитарки, — мимо вечно попрошайничающих хроников, было невозможно. Они налетали на мешочек с передачей, как чайки на рыбный косяк. В итоге все гостинцы растаскивались и проглатывались в течение минуты. Конечно, Лена могла бы поесть и на свидании с матерью, но там, как правило, всегда было много посторонних, и давиться кусками на виду у публики было выше ее возможностей.
Мама сидела, грустно разглядывая исхудавшее, повзрослевшее лицо дочери. Говорить им, в общем-то, было не о чем. Ну что тут скажешь? Если верить врачам и считать дочь безнадежной дурой, — стало быть все уже решено и определено заранее, остается только подчиниться судьбе. А если верить себе, своей материнской и просто человеческой интуиции, то получается, что происходит преступление против родного человека — нормальную девчонку держат в психбольнице. Но никому ничего невозможно доказать. Именно ее, материнское, слово здесь абсолютно ничего не значит. И "правду" искать негде и не у кого, просто бесполезно это делать. Ведь все врачи, с которыми говорила мать, в одни голос желают Лене "добра", они за нее "очень беспокоятся", а выписать сейчас невозможно по причине того, что Лена неконтактна, депрессивна, иной раз — агрессивна и по-прежнему некритична к себе: считает, что в больнице она находится "зря", "ни за что"… Концов в этой затянувшейся истории найти было невозможно. Кто и в чем виноват, кто за что отвечает, не ей, бедняжке, было понять…
После свиданий с матерью Лена еще горше тосковала. Она чувствовала свою пока еще по-настояшему не осознанную вину перед ней, понимала, что матери приходится сейчас труднее, чем кому-либо из их семейства, а тут еще "общественное мнение", гнусные шепотки соседок в спину: "Единственная дочь и та — в дурдоме"… И все домашние заботы — на ней, и отец, пьяный, конечно же, по-прежнему "выступает", а может, еще хуже даже, чем прежде, и все это — на нее, одну.
…И вот наступил день, когда Лена поняла, что дальше быть в больнице больше просто не может. Не может и все! При одном взгляде на опротивевшее до судорог отделение, на темные фигуры больных в коридоре, она чувствовала: лучше смерть, лучше настоящая болезнь, увечье, все что угодно, только не психушка!
После недолгих внутренних колебаний она решилась обратиться к Ликуевой — все-таки заведующая отделением, без нее этого вопроса все равно не решить.
— Лариса Осиповна, — вся дрожа от внутреннего возбуждения, от страха, что ее не выслушают до конца, обратилась к ней Лена, — я хочу домой! Выпишите меня, пожалуйста. Не могу я здесь больше быть!
— Что? — удивленно подняла брови домиком Ликуня. — Не можешь здесь больше быть? Но почему? Кто-то тебя обидел? Ты скажи…
— Ну, причем здесь обидел или не обидел? Я хочу жить, как люди… хочу работать, дома жить… — сбивчиво, все больше волнуясь, объясняла Лена. — Ну, что мне здесь делать-то, в больнице? Я же здесь чужое место занимаю. Неужели вы мне будете доказывать, что я больна?
— Зачем же? — усмехнулась Ликуева. — Это уж ты мне доказывай, что ты здорова. А то получается, мы тебя здесь, в больнице, целых два года понапрасну продержали — так, что ли?
— Ну, может не зря, — пугаясь, что Ликуева больше не захочет продолжать этот разговор, заторопилась Лена, — может быть, мне и нужно было здесь побыть… Но сейчас я хочу домой, я не могу здесь больше быть!
— Деточка, — переменила тон Ликуева, проницательно заглядывая ей в глаза, — ты что-то возбуждена. Иди-ка успокойся, я сейчас скажу, чтобы тебе сделали укольчик, ты полежи немного, а потом мы с тобой поговорим. Хорошо? Но я считаю, что выписываться тебе все же рановато…
— Милая, хорошая, очень прошу я вас, умоляю! — отчаянно вскричала Лена. — Ну, хотите, на колени встану, а? Только выпишите вы меня отсюда, пожалуйста! Не могу я здесь находиться, по горло сыта! Тяжело мне здесь… Не могу я издевательства от санитарок переносить, не могу в таком вот скотском виде ходить, не хочу, чтобы меня унижали!
Только сейчас до Ликуевой дошло, что Лену, кажется, уговорами не остановить, и дело, похоже, с ней обстоит несколько серьезней, чем она решила было вначале. Она улыбнулась, покровительственно потрепала Лену по плечу и пообещала: "Успокойся, пожалуйста. После обеда вызовем тебя на беседу. Может быть, соберем консилиум"… И ушла…
Время до обеда тянулось издевательски медленно. Лена уже извелась от опасений, что Ликуева забыла свое обещание, а может, просто решила не принимать ее "выступление" всерьез, как вдруг раздалось:
— Ершова, в ординаторскую!
В ординаторской сидело не меньше пятнадцати врачей. Удивительно, как они умудрились разместиться в столь маленькой комнате.
Был здесь и профессор — тот самый, который беседовал с ней, когда она попала сюда после отравления, — умный, ироничный, грустный человек со всепонимающим взглядом черных, как ночь, глаз — Иосиф Израилевич Шварцштейн.
Молодой, лет тридцати пяти, он был человек удивительного обаяния. Двумя-тремя ненавязчивыми фразами он мог расположить к себе, вызвать на откровенность даже самого мрачного, подозрительного пациента.
Он долго, пристально смотрел ей в глаза и, наконец, тихо спросил:
— Сколько же тебе сейчас лет?
— Девятнадцатый.
— Сколько ты, в общей сложности, пробыла в больнице?
— Три года… — задумчиво повторил он. — И, как я понимаю, эти больничные годы мало тяготили тебя, а? Почему же ты так неожиданно и так настойчиво запросилась домой?
— Не "вдруг"… Я всегда хотела домой… Только мне… ну, страшно было. Я боялась, не знала, как у меня все будет складываться там, на воле… Иосиф Израилевич, я вас очень прошу, ваше слово здесь решающее, скажите, чтобы меня выписали, отпустили домой! Я не могу больше, понимаете? Я просто умру здесь, вот и все!
— А ты нас не подведешь, Лена? У тебя ведь уже три суицидальных попытки были. Вдруг тебе жизнь опять чем-то не угодит, и ты опять таблеток наглотаешься. В прошлый раз мы спасли тебя чудом. А если в следующий раз не спасем?
— Да ничего я больше не наглотаюсь, поверьте мне! Все будет хорошо, честное слово. Ну, поверьте…
Врачи — это чувствовалось по их напряженным лицам — внимательно следили за диалогом. Лена, умоляюще сложив руки, с бьющимся где-то в горле сердцем, вся внутренне трепетала, дожидаясь решения своей судьбы…
— Ну, хорошо, — задумчиво проговорил наконец Иосиф Израилевич, иди пока в отделение, мы тут с докторами посоветуемся… Потом Татьяна Алексеевна сообщит тебе о нашем решении…
Фея ласково кивнула, и ей сразу захотелось поверить, что все будет хорошо, все решится само собой.
…А через час Фея, хмурясь и явно чувствуя себя не очень хорошо в роли глашатая врачебного приговора, сообщила, что консилиум решил пока ее не выписывать, оставить в стационаре, понаблюдать…
Белый свет будто померк в ее глазах. Лена, схватившись за спинку ближайшей кровати, стояла, улыбаясь изо всех сил, чтобы никому, даже Фее, не показать, как потрясло ее это решение. В голове было только одно: "Не упасть… не упасть!"
Впервые почувствовала она, что такое сердечная боль… Но еще поняла, что со своими бедами ей нужно справляться самой. Бесполезно дожидаться помощи со стороны, это пустое, для детей. В этом мире даже самые лучшие из людей — всего лишь случайные прохожие в твоей жизни. Даже Фея. Даже Ворон. Даже мама…
К вечеру Лена, как сказал потом Ворон, "сорвалась со всех катушек".
Просидев в своем углу около окна весь день до вечера, измучившись неразрешимостью своих проблем, решила бежать из больницы. Думала она об этом и раньше, но это было как-то не всерьез и надолго ее мыслей не занимало. А тут она просто физически почувствовала: если она прямо сейчас, сегодня не уйдет из этого вонючего бревенчатого коридора, она просто погибнет.
Но как открыть дверь? Она вспомнила, что специальные замки-хлопушки, которыми снабжены все двери психушки, открываются здоровенными ключами, представляющими из себя четырехугольные железные стержни. И диаметр этих стержней вполне сходится с шириной пластмассовой ручки зубной щетки… или, скажем, черенка столовой ложки…
Столовую ложку достать не так уж сложно — подойти к буфетчице Нине Степановне, попросить, мол, компот обеденный доесть, та спокойно эту ложку выдаст…
Вечером, когда две санитарки с больными пошли на кухню за ужином для отделения, на посту около надзорки осталось всего две "блюстительницы порядка", Лена подошла к двери, выходившей прямо наружу. Ее почти никогда не открывали, поскольку выходила она на больничный хоздвор, где больным и персоналу нечего, в общем-то, было делать. Черенком ложки она очень легко открыла замок и выскочила на улицу. Захлопнув за собой дверь, она услышала, как больные, запоздало охая, загомонили разноголосо: "Нянечки, нянечки, Ершова убежала! Убежала, нянечки!"…
На дворе стояла поздняя осень. Сгущались сумерки, подмораживало. Лена, в своем длинном драном халате и тапочках на босу ногу, никакого холода в охватившей ее горячк, удавшегося, как ей казалось, побега не ощущала.
Выскочив на улицу, она помчалась к забору. Но разговорам санитарок она знала, что больничная ограда — условность чистейшей воды. Вся она в дырах, через которые стекаются по утрам на работу врачи, медсестры и прочие служители этого заведения. Значит, только дурак не найдет возможность выбраться через такой забор на улицу.
И правда: Лена сразу же наткнулась на огромную дыру в ветхом заборе. Вылетев за территорию больницы, на крутом спуске, она немного приостановилась, чтобы перевести дух. Открывающаяся перед ней панорама города — больница стояла на холме — показалась столь заманчивой, такой волюшкой-волей пахнуло на нее с этих раскрывшихся вдруг просторов, что она оробела.
Позади послышались крики — за ней началась погоня, как в скверном детективе. Лена оглянулась — мимо кухни, тяжело колыхая необъятными телесами вымученным галопом шлепала главная ее врагиня — санитарка Аннушка Козлова.
Рискуя свернуть себе шею, Лена ринулась вниз. К женским голосам позади прибавились мужские, к погоне присоединились санитары из мужского отделения, и она с омерзением подумала на бегу, что лучше прямо сейчас в реке утопиться, чем даться им в руки. И помчалась изо всех сил дальше…
К ее счастью, густые осенние сумерки стремительно сменялись ночной теменью. И погоня быстро потеряла ее из виду. Она же долго бежала, задыхаясь и то и дело оглядываясь на бегу, наконец, выбившись из сил, перешла на крупный шаг. Она изо всех сил стремилась домой. Сейчас ей казалось, что ее дом, ее отец и мать — тот самый обетованный мир, без которого ей не жить, что ничегошеньки она, дура, раньше не понимала, но сейчас-то у них все иначе пойдет, по-другому. Главное — воля, свобода.
* * *
…До городской окраины, где Ершовы жили в собственном домике, от больницы было километров десять. Лена одолела этот путь за час с небольшим. Когда, наконец, она добралась до знакомой калитки и, отворив ее, зашла в ограду, она настолько замерзла и обессилела, что ее мечты дальше горячего чая и чистой постели не простирались. Открыв дверь, и, как потусторонняя тень, возникнув в кухне, она не смогла даже сообразить сразу, что вокруг нее происходит.
За кухонным столом сидел отец. И был, конечно, как всегда пьяный. Мама, усталая, с каким-то больным лицом, с тяжело набухшими на руках венами сидела рядом с ним. На лицах ошеломленных родителей попеременно промелькнули радость, испуг, сомнение, снова радость…
— Лена, доченька, лапушка моя! Давай сюда, к печке поближе, давай грейся… Нет, иди-ка сразу к столу, вот горячий чай, вот супчик… — металась мать по кухне, хватаясь то за одно, то за другое.
Лена подошла к отцу… Она не видела его уже два года. Обняла, прижала к себе тяжелую, порядком поседевшую его голову и замерла… И тут отец, ее мужественный, суровый отец, заплакал, не стыдясь своих слез.
— Я убежала, — тихо произнесла наконец Лена, допивая второй стакан чая. На столе стояли белый хлеб, масло, колбаса, и она всегда безразличная к радостям застольным, сейчас готова была признаться себе, что хорошая еда — совсем недурное дело. — Я убежала, потому, что… потому, что я не знаю, как я там пробыла столько времени. Там нельзя человеку находиться. Только тому, кто уже не человек. Или скоро перестанет быть человеком…
Отец с матерью безмолвно переглянулись. Похоже, что неожиданное потрясение протрезвило отца. Он сидел, откровенно счастливый и спокойный, и по его лицу было видно, что другого поступка от своей дочери он и не ждал.
И вот тут, в этот недолгий и благостный миг семейного единодушия и единомыслия, у ворот надрывно взвыла машина. Залаял, брякая цепью, Мухтар. У Лены выпал изо рта кусок хлеба — она так и застыла с нелепо раскрытым ртом. Поняла: это — за ней.
Отец спокойно поднялся и вышел из дома. Лена, томясь неизвестностью, мотнулась вслед за ним. Она решила, что спрячется за поленницей, ни за что не даст увезти себя снова в это идиотское заведение.
— Мы к вам по делу, — раздался спокойный и уверенный мужской голос. — Дочь дома?
— Дома! — также спокойно и уверенно ответил отец. — Дома! И никуда она больше не поедет, понятно?
— Это вы так думаете, — издевательски-вежливо промолвил некто. — А мы думаем, что поедет. И еще как! Она — человек психически больной, кто будет отвечать, если она что-то натворит? Так что, дядя, не дури, собирай-ка девку в больницу!
— Девки на базаре семечками торгуют! — отрезал отец. — А моя дочь в ваш дурдом не поедет, ясно вам? "Психи" — это вы, не она.
И тут за воротами, будто стая кобелей откуда-то сорвалась, послышались глухая возня, стоны, ругань.
Взбесившийся Мухтар рвался с цепи. Не выдержав, Лена выскочила из-за поленницы к воротам и увидела жуткую картину: отец, как разъяренный медведь, раскидывал поочередно налетающих на него двух милиционеров и трех санитаров в белых халатах; словно собаки травили загнанного зверя.
Прячась в тени и задыхаясь от ударов суматошно бьющегося сердца, Лена не могла решиться на что-либо. Бежать через соседский забор на другую улицу? Кинуться на помощь отцу? Сидеть дома, дожидаясь неминуемой развязки?… Но когда она увидела, что отца повалили-таки на землю, крутят ему руки и спутывают ноги веревкой, успевая пинками поддавать под ребра, все ее сомнения и колебания мигом исчезли. Не вполне осознавая, что она делает, Лена выхватила из поленницы здоровенное сучковатое полено и кинулась с этим "оружием" к мужикам, уже колотившим отца лицом о мерзлую землю. Размахнувшись изо всех сил, она треснула поленом самого прыткого милиционера, и он, взвыв, откатился в сторону. А она, понимая, что все уже кончено, яростно размахивала поленом, как палицей, и радовалась каждому удару, достигающему цели…
Ее, как и отца, скрутили по рукам и ногам, кинули обоих в "воронок", и машина рванулась с места, как застоявшийся конь. Напрасно выбежавшая из дома мать пыталась остановить их, что-то кричала вслед и плакала. Грубо отпихнув ее локтем в грудь, милиционер с двумя лычками на погонах рыкнул: "Вали, вали отсюда, мамаша! Не хрен теперь сопли разводить, раньше надо было!" Отец только скрипнул зубами: "Попался бы ты мне без подручных, один на один!"…
— Ну и куда вы нас повезли, сволочье? — спросил отец, подпрыгивая на ухабах на полу "воронка".
— Куда надо! — рявкнул в ответ милиционер, которому досталось от Лены больше всего. Он растирал ушибленную задницу ладонью: "Ну, точно дебильная девка, честное слово, дебильная! Такую только в дурдоме и держать… пожизненно!"
— Не боись! — хохотнул один из санитаров, прижимая ногами отца лицом к полу. — Не боись, она себе уже это счастье заработала! Вечная койка ей обеспечена, будь спок! А этого старого козла тоже маленько полечим… а, Миха? — обратился он ко второму санитару, и они дружно захохотали.
— Че ржете, дураки? — мрачно глянул третий, разглядывая полуоторванный рукав белого халата. — Еще вопрос, куда этого алкаша девать…
— А куда его девать? — усмехнулся милиционер. — Ваши его не примут, мы его в вытрезвитель увезем. И все, что ему полагается, он получит сполна. Можете не сомневаться!
Этот разговор был для Лены мучительней пытки. Она готова была сколько угодно терпеть боль в связанных руках и ногах, как и то, что ее запихали чуть ли не под скамейку, но только не трогали бы, оставили бы в покое отца! Его-то за что?
Дежурный врач, а дежурила в этот день, как нарочно, Ликуева, бессмысленно ахала и охала, металась по приемному покою. Наконец распорядилась, чтобы Лену увели в первое отделение, в надзорную палату, и "прификсировали".
— Ах, Леночка, Леночка, — она всплескивала руками, — и ты еще просила, чтобы тебя выписали. Да ты совсем еще больная, тебе лечиться, лечиться… Посмотри, сколько ты сегодня нам неприятностей доставила, сколько беспокойства причинила!
— Отпустите папку! — глядя исподлобья, буркнула Лена. — Отпустите его, пожалуйста! Ему здесь делать нечего! Они первые на него налетели, он только защищался…
— Лариса Осиповна, — замахал руками один из санитаров, — мы вам ответственно заявляем: этот мужик — психический! Мы только подъехали к их дому, а он вылетает на нас — с ножом! Аж пена изо рта! Мы его едва-едва скрутили, куда ж его отпускать? Самый настоящий псих.
— Ох, развязали бы меня, друг, я бы тебя "полечил", — тяжело произнес отец, бессильно дергая скрученными руками…
— Ну, вот видите, доктор, — подхватил санитар, — видите, какой он агрессивный?
— Да, да, — испуганно подхватила Ликуева, — похоже алкогольный психоз… а может, что и похуже…
И распорядилась ввести ему четыре кубика аминазина. И тут началось!..
Лена знала, что ее мужественный, сильный, выносливый отец панически боится уколов. Так уж с Севера пошло — отец вообще не мог переносить присутствия человека за своей спиной, если не видел, кто и что собирается с ним делать. И когда дежурный фельдшер притащил шприц с лекарством и скомандовал отцу "повернуться", произошло непостижимое: фельдшер вместе со своим шприцем воткнулся в кушетку, Ликуева, получив увесистый пинок пониже спины, пролетела через приемный покой, застряла в дверях, столкнувшись с санитаром, и истерически завизжала. Другой санитар столь же мощным пинком был отброшен к стенке…
Но пока отец соображал, куда и в какие двери ему выбраться, на него снова налетели опомнившиеся санитары и фельдшер, кое-как свалили его на пол и прямо сквозь брюки воткнули ему укол. А брыкающуюся, царапающуюся Лену утащили в женское отделение…
Пока происходили эти события, наступила глухая ночь. В отделении, однако, многие больные не спали — побег Лены возбудил их, шли оживленные пересуды: куда Ершова могла побежать, что будет, если ее поймают и т. д. И когда больные увидели Лену, которую со скрученными за спиной руками небрежно, словно куль с картошкой, волокли по коридору к надзорке санитары, многие испытали нечто вроде разочарования.
— Эх ты, лошадь бельгийская! — сквозь зубы процедила здоровенная деваха, доставленная на психиатрическую экспертизу из тюрьмы. — Не умеешь чего-то делать в воде, не пугай рыбу! — И презрительно сплюнула.
— Поймали! Ершову поймали! — неслось со всех сторон…
— Ну, сейчас она получит, что заработала…
В мгновение ока ее раздели догола — она уже и не очень-то сопротивлялась, понимая, что сила не на ее стороне, и вновь в надзорной палате, скинув на пол матрац, завернули в мокрые ледяные простыни и накрепко привязали к голой кроватной сетке.
От толстых, туго затянутых веревок кисти рук немели и синели. От ледяных простыней захватывало дыхание, а железная кроватная сетка отпечатывалась на спине кровавыми полосами…
Утром Лену не развязали.
— Ну, что же вы делаете?! — взмолилась она. — Ну, в туалет-то хоть отпустите!
— Делай под себя! — расхохотались санитарки.
И сдавая дежурство утренней смене, предупредили пришедших на дежурство:
— Вы ее не развязывайте, пусть полежит на вязках субботу и воскресенье, глядишь поумнеет…
Когда врачей в отделении не было, полновластными распорядителями оставались санитарки. Властители жизней и судеб — как же! Умолять, просить о милосердии бесполезно, она понимала это прекрасно… И она решила молчать. Молчать, чего бы ей это ни стоило…
Человеческие страдания и унижения — есть ли им предел? Можно ли передать словами чувство, которое овладевает человеком, не потерявшим окончательно своего внутреннего достоинства, когда на глазах толпы, пусть даже умственно неполноценных, он вылезает из мокрых, изгаженных за трое суток простыней и идет под издевательский смех в ванную, чтобы обмыться…
Было утро понедельника. С ворохом грязных, мокрых простыней под мышкой Лена шла нагишом по отделению, испытывая жгучее чувство ненависти ко всему окружающему миру, растоптавшему, оплевавшему в ней все человеческое, женское!..
На обход пришла Фея.
— Что же ты, глупенькая, наделала? — присев на ее кровать, грустно спросила она и погладила неожиданно ее по голове. Но, странное дело, эта столь желанная прежде ласка, оставила Лену сейчас почти равнодушной.
Глава 5
— Лен, ну чего ты молчишь? — тронула ее за рукав Татьяна Алексеевна. — Скажи мне хоть что-нибудь!
Лена упрямо уставилась в пол… А еще через полчаса пришла дежурная медсестра:
— Ершова, в процедурную!
— Зачем?
— Давай, шагай, не разговаривай! — подтолкнула ее в спину медсестра, и она безропотно подчинилась. Черт с ними, пусть делают, что хотят!
В процедурной ей велели снять не только халат, но и рубашку.
— Зачем? — хотела было поинтересоваться она опять, но только махнула рукой, разделась.
Медсестра сделала ей под лопатку какой-то укол.
— Ну, миленькая, — злорадно усмехнулась она, выдергивая иголку, — теперь ты попляшешь. Давненько никому не делали скипидара. Хорошая штука, ума кому хочешь добавляет…
И Лена поняла, что скипидар, которым ей угрожали в тех случаях, когда она вела себя "неправильно", "плохо", не досужий вымысел работников психушки, а реальность. "Ну и пусть, — равнодушно подумала она. — Пусть, теперь уж все равно"…
И она зашагала обратно, в надзорку…
Не хотелось ни есть, ни пить, ни думать, ни разговаривать. Она мечтала только об одном: упасть в постель, укрыться с головой одеялом и лежать до тех пор, пока не остановится сердце, или не исчезнет куда-нибудь этот жестокий, жестокий, жестокий мир…
Через несколько часов спину стало жечь и ломить, тяжело было лежать, сидеть, стоять, ходить. В теле воцарилась боль, от нее некуда было деться, нечем спастись. К вечеру поднялась температура: когда дежурная медсестра вынула у нее из-под мышки градусник и глянула на ртутный столбик, лицо у нее непроизвольно вытянулось — ртуть подползла к отметке "41".
Но для самой Лены все уже было безразлично: все смешалось в бедной ее голове, страшно хотелось пить, мучил озноб, от которого она не могла спастись даже под тремя одеялами, боль в спине разрасталась, место укола стало подобно огромному раскаленному колючему шару.
Прибежал основательно испуганный врач — дежурил Анатолий Алексеевич, громадный дядька из мужского отделения. Обычно неторопливый, насмешливый, по-домашнему спокойный, уютный, сейчас он был явно встревожен. Реактивность ее организма испугала даже видавших виды психиатров… Он побежал звонить Ликуевой домой. А потом все вдруг завертелось, закрутилось вокруг в непонятном хороводе. Переговорив с Ликуевой, Анатолий Алексеевич примчался обратно.
— Так, переведите ее из надзорки в другую палату, — отрывисто раздавал он распоряжения санитаркам и сестре. — Запишите назначения…
Это было что-то новенькое: обычно, делая ночью обход, дежурный врач говорил сестре, кому сделать аминазин, кому дать снотворный порошок или успокаивающую микстуру, но никакие назначения никуда не записывались. А тут…
Через несколько минут Лена лежала в соседней палате у окна, укрытая чистыми одеялами, на чистых простынях. Но удивляться и ехидничать по поводу этих косметических изменений условий содержания у нее просто не было ни сил, ни желания.
Она не спала всю ночь. Ей делали какие-то уколы, то и дело измеряли давление. Анатолий Алексеевич прибегал через каждые полчаса слушать сердце. На раскаленный лоб ей клали холодный компресс, но тряпка, только что смоченная холодной водой, почти мгновенно высыхала, а температура не падала. Боль со спины расползалась по всему телу, и дышать становилось все труднее.
Больничный день начался задолго до рассвета — первые курильщицы потянулись в туалет, выпрашивая у тех, кто побогаче, чинарики. Стали просыпаться старухи, потом — хроники…
К Лене подходили больные, с любопытством и боязнью вглядывались в ее неузнаваемое, изменившееся за ночь лицо, трогали ее немытыми руками, спрашивали: "Хочешь есть?", "Принести попить?", но она даже не открывала глаз, только глухо просила: "Уйдите… все уйдите, не трогайте меня!"
После пятиминутки пришли врачи. В полном составе, во главе с Ликуевой они выстроились около ее кровати, и Ликуня с лицемерно-сладкой улыбочкой поинтересовалась:
— Лена, деточка, как ты себя чувствуешь?
— Хорошо, — после затянувшегося молчания прошептала она.
— А что все-таки беспокоит.
— Ничего не беспокоит.
— Значит, все хорошо?
— Значит, хорошо. Очень хорошо. Лучше не бывает.
— Так… Пожалуйста, коллеги, попрошу вас отсюда выйти! — раздался дрожащий от напряжения, подчеркнуто любезный — аж оторопь от такой любезности брала! — голос Ивана Александровича. И Лена почувствовала на своем пылающем лбу его прохладную руку.
— Товарищ Воронин, вы слишком много на себя берете! — начала было Ликуева. Голос ее зазвенел металлом. — И потом, вы не у себя в отделении, не забывайтесь…
— Уйдите отсюда! Все! — гаркнул Ворон. — Слышите? А обо всем остальном мы с вами еще поговорим. В другом месте, разумеется.
Ликуева, раздувая ноздри от еле сдерживаемого бешенства, круто повернулась и удалилась в сопровождении своего белохалатного эскорта. Около Лены остались Иван Александрович и Татьяна Алексеевна. Тихо переговариваясь между собой, они долго по очереди слушали ее сердце, измеряли давление, велели дежурной медсестре принести градусник — температура почти не падала, ртутный столбик стоял на отметке "40".
Губы у Лены высохли, стали шершавыми и лопались от малейшего напряжения. А на спине, на месте вчерашнего укола, начал вспухать огромный нарост, что-то вроде верблюжьего горба. Стоило чуть повернуться или вздохнуть, и этот горб, словно крутым кипятком, ошпаривал все тело нестерпимой болью.
Обменявшись какими-то непонятными Лене словами, Татьяна Алексеевна чуть ли не бегом кинулась в ординаторскую, а Иван Александрович остался сидеть с ней.
Она молчала, закрыв глаза и прерывисто дыша. Молчал и он, понимая, что сейчас уже не разговорами — весьма решительными действиями нужно спасать эту готовую угаснуть жизнь.
Много времени спустя Лена узнала, что у нее ко всему прочему обнаружилось двухстороннее крупозное воспаление легких — трое суток в мокрых простынях на привязи дали-таки о себе знать! А на фоне общей интоксикации возникла нарастающая сердечная слабость. Положение ее, без преувеличения, было угрожающим.
И Иван Александрович бесился от собственного бессилия что-то кардинально изменить, наказать виновных. Что мог он, рядовой ординатор рядовой заштатной больницы?
Вот и в этой истории с Ершовой… Скипидар-то ей назначила Ликуева, даже не поставив в известность лечащего врача. Прекрасно знала, что Татьяна Алексеевна на эту экзекуцию согласия не даст.
Правда, побег Лены был неожиданностью даже для ее друзей. Не предполагали Иван Александрович и Татьяна Алексеевна, что дело дойдет до такой крайности! Хотя можно как раз было удивляться другому — почему она еще раньше не попыталась убежать?
Но какова Ликуева! При одной мысли о ней у Ивана Александровича непроизвольно сжимались кулаки. Женщина, имеющая дочку, ровесницу Ершовой!.. Врач, психиатр!.. Тьфу, дьявол бы ее побрал!
Через полчаса "Скорая помощь" доставила в больницу терапевта. Психушка была столь бедна (а может, просто в облздраве считали, что для ТАКОГО контингента терапевт — слишком большая, да и ненужная роскошь?), что врачей приходилось приглашать со стороны.
Приехавшая на "Скорой" доктор, пожилая женщина, прошла в сопровождении Татьяны Алексеевны в отделение, боязливо оглядываясь по сторонам. Что и говорить, даже медицинскому взору, ко всему привычному, было от чего здесь оробеть.
Но когда терапевт подошла к Лене, взялась за тщательный осмотр, посторонние эмоции тут же погасли. Обернувшись к Ивану Александровичу и Татьяне Алексеевне, забыв, что их слышат десятки больных, она громко сказала: "Еще сутки, и я не поручусь за жизнь вашей больной! Да тут и суток — много. Вы, что, сами не видите: ей необходимо специальное лечение, настоящий стационар, а не ваш… ваше… — она обвела взглядом отделение, подыскивая нужное слово, да так и не нашла. — В городскую больницу. В палату интенсивной терапии. Немедленно", — отрезала она.
Возбужденно жестикулируя, врачи удалились в ординаторскую.
А у Лены наступило какое-то состояние полуобморочности-полусна: вроде бы, слыша и видя все, что происходило вокруг, она в то же время не могла пошевелить рукой или ногой, что-то сказать.
В раскаленном от температуры мозгу ее почему-то крутилось, как заезженная пластинка, слово: "Плохо… плохо… плохо… плохо." Это слово было огромным и круглым, оно ни за что не цеплялось в гаснущем сознании, а все катилось и катилось куда-то в исчезающую даль. Словно тележное колесо на твердой проселочной дороге постукивало…
Кажется, именно в этот тяжкий момент впервые в жизни Лена по-настоящему почувствовала, что она действительно может умереть. Навсегда. Насовсем. И от нее на самом деле ничего не останется.
Да, она несколько раз пыталась покончить с собой, да, она знала, что умрет и ее похоронят. Но, видимо, как у всех детей и подростков, у нее в то же самое время где-то глубоко в подсознании оставалась уверенность, что умереть-то она умрет, но не целиком. Дух ее, сознание умереть не могут. Не случайно же все дети, представляя себя мертвыми, обязательно при этом воображают, как и что будет происходить после того. И всем обязательно верится, что, когда они будут лежать в гробу, все обидчики их, все враги будут стоять вокруг и горько плакать, сожалеть о покойном. А он будет лежать и упиваться зрелищем всеобщей скорби… Это — своеобразная детская религия, наивная, пожалуй, и мудрая вера, что умираем мы не насовсем и не навсегда.
* * *
…После консультации терапевта в отделении началась лихорадочная суета. О чем-то яростно спорили санитарки, переругивались медсестры. Прибежала сестра-хозяйка, принесла Лене новую рубашку, халат и даже новые чулки. Ее подняли, кое-как переодели — сидеть самостоятельно она не могла — и через несколько минут на носилках понесли в машину "Скорой помощи", дожидавшуюся у приемного покоя. С ней поехала — индивидуальный пост! — одна из санитарок.
В горбольнице дежурный врач поначалу категорически отказался принимать Лену. Даже не взглянув на нее, в полубессознательном состоянии лежавшую на носилках, категорически заявил:
— Это не наша больная! Психических нам еще не хватало, не знаем, что с нормальными-то делать!
Санитарка побежала звонить Ликуевой; терапевт со "Скорой" затеяла спор о профессиональном долге и человечности с дежурным врачом, а он до последнего стоял на страже покоя больных из "нормального" отделения.
Наконец санитарка дозвонилась до больницы — к телефону позвали дежурного. Он долго, упорно, яростно, словно нашествие врагов отражал, переругивался со своими коллегами из психбольницы, наконец, обозлившись, выпалил:
— Вы там своих больных доводите до безнадежного состояния, потом стараетесь нам спихнуть. Случись чего — процент летальности не у вас, у нас повысится.
Все это Лена слышала… Не выдержав постыдного торга, она из последних сил, шатаясь, поднялась с носилок, сделала шаг в сторону и с оглушительным, заполнившим весь мир звоном в голове, рухнула как подкошенная, на пол… Пришла в себя она лишь через несколько суток, в палате интенсивной терапии: поняла это из разговора двух врачей, которые возились у ее койки с капельницей. Первую, кого она увидела около своей кровати, была Аннушка Козлова. Загородив своим необъятным туловищем весь оконный проем, она, чинно расположившись около прикроватной тумбочки, поглощала вареные яйца с толстыми кусками хлеба и салом.
Лене даже интересно стало: сколько же Аннушка зараз заглотить может? Пять яиц… семь… девять… одиннадцать! И девять толстых кусков сала, и столько же хлеба!
Аннушка, уловив наконец ее взгляд, сыто икнула и, утопив в многослойном подбородке добродушнейшую из своих улыбок, спросила: "Ну, проснулась? Пора, пора… А я тут маленько червячка заморила". У Лены мелькнула смешливая мысль, что, наверное, Аннушкин "червячок" должен быть размером с хорошую анаконду…
В палату вошёл врач.
— Ну, как настроение? — наклонился над ней пожилой человек с сивыми усами и с добрым, располагающим взглядом.
— Да, девушка, задала ты нам работки! Ладно, все самое страшное позади. Лежи, набирайся сил… Ты что?
Лена всматривалась в него так пристально и отстранённо, как смотрят вернувшиеся с того света, заживо похороненные и нечаянно сумевшие снова прийти к людям… Поправлялась Лена медленно и вяло. Наверное потому, что ее угнетала неотступная, как комариный зуд, мысль о возвращении после больницы в психушку. В терапевтическом отделении ей была выделена небольшая отдельная палата, при ней неотлучно находился "индивидуальный пост" — сменяющие друг друга санитарки из психбольницы. Положение Лены было унизительным: по терапии, естественно, сразу, как только она поступила, пронесся слух, что привезли больную "с псишки", что она совсем "того" и ее караулит специальная санитарка.
В течение дня в палату будто ненароком, заглядывали десятки посторонних, мужчины и женщины, старики, молодые. Всем было интересно, как выглядит пациентка с "псишки". Да и здешние медики отнюдь не скрывали любопытства: в палату заходили медсестры даже из других отделений, во все глаза разглядывали Лену, и совершенно не стесняясь, полагая, что она "с большим приветом", начинали разговор с очередной санитаркой:
— Эта, что ль, с псишки-то?
— Эта, эта!
— М-да-а… Поди, тяжело там работать-то, страшно, а?
И начинается бесконечный треп о "трудностях" и "опасностях" работы в лсихбольнице.
Лена во время этих идиотских разговоров старалась делать вид, будто подобные глупости ее не касаются и тем более — не интересуют, что ей просто плевать на всю эту пустопорожнюю болтовню. Но однажды не выдержала-таки…
— Александра Павловна, вы так свои подвиги расписали, прямо хоть к медали за героизм вас представляй. А что же про другое молчите — как больных к голой сетке на несколько суток привязываете, как избиваете беспомощных людей, издеваетесь над ними… Ну, расскажите, не стесняйтесь! Расскажите, как за пару папирос больные за вас самую грязную работу выполняют, убирают туалет, моют полы, пеленки стирают. Гуманисты вы чертовы! И вы тоже, — горько проговорила Лена, обращаясь к непрошенным гостям, — пришли тут, как в цирк! Ну что вы меня разглядываете? Я не человек, по-вашему? Что вы по десять раз на дню сюда повадились всякое вранье выслушивать?
Смущенные, удивленные гости тихо, одно за другим, исчезали за дверью. Александра Павловна налилась свекольным гневом. Ей как-то в голову не приходило, что упорно молчавшая все время "дурдомовская поэтесса" посмеет и здесь обнаружить свой острый язык, и выдавать ее посторонним за дурочку — небезопасно.
В мёртвом молчании прошёл день. Александра Павловна куда-то ненадолго удалилась, вернувшись, плотно уселась на стул у койки с видом поруганной добродетели — мол, несмотря ни на что, я завсегда на дежурстве, завсегда на посту…
Поздно вечером в палате появилась вдруг Ликуева.
— Ну, здравствуй, Леночка! — сладко пропела она. — Как ты себя чувствуешь?
— Нормально, — безразлично ответила Лена…
— Нор-маль-но… — протянула Ликуева и побарабанила пухлыми пальцами, унизанными золотыми кольцами, по спинке кровати. — А почему ты, Леночка, так плохо себя ведешь? Александра Павловна жалуется на тебя.
— Еще и жалуется? — изумилась Лена. — А она не рассказала вам, как водит сюда толпы зрителей, устраивает цирк, всякие небылицы про больницу рассказывает?!
— Успокойся, Леночка, успокойся, — уговаривала Ликуня разгневанную пациентку, потихоньку продвигаясь к выходу. — Ну, что ты так разволновалась?
Через минуту в палате наступила зловещая тишина — Ликуева ловко, как лиса, выскользнула прочь. Александра Павловна демонстративно вытащила из сумки здоровенные психбольничные веревки, сшитые из вафельных полотенец, и положила их на видное место. Лена поняла, что таким образом ей давали возможность сделать выводы о мерах, которые в случае чего могут быть к ней применены.
"А, наплевать на все!" — подумала она, закрыла глаза и попыталась уснуть. Но как ни зажмуривалась, как ни пыталась отвлечься от невеселых мыслей, визит Ликуни совершенно выбил ее из колеи. Как-то позабылось за время болезни, что она — существо подневольное и не ей самой распоряжаться своей дальнейшей судьбой. Сознание этого угнетало больше всего. Почему, кем она лишена самого насущного человеческого права — решать, как ей жить, какой быть, чем заниматься? Почему она, словно и в самом деле безумная, отдана под чью-то опеку? Но ответов на эти вопросы не было, и она все ворочалась, не в силах уйти в спасительный сон.
Где-то уже за полночь по больничному коридору загрохотали шаги.
— Что-то случилось, наверное, — подумала Лена, — кому-то плохо…
Дверь палаты распахнулась, ввалились трое здоровенных парней спортивного вида, в белых халатах.
— Ну, кого тут в психушку нужно доставить? — спросил старший по виду, самый матерый.
— Ее! — кивнула Александра Павловна.
Парни иронически переглянулись.
— Ее? Вы бы еще милицейский дивизион вызвали!
Лена встала, накинула халат, телогрейку, которую подали "милосердные братья" из специальной психбригады "Скорой помощи", и пошла к выходу. Бравые ребята тут же крепко и надежно схватили ее под руки — черт ее знает, психическую, а вдруг в бега пустится?
Машина мчалась по ночному городу. В ее голове засуетились быстротечные и суматошные мысли: "Как там папка, выписался или нет?… И куда меня поместят, в какое отделение, в какую палату?"…
Вот приемный покой. Выходит сонная, сердитая дежурная сестра, потом, наконец, является дежурный врач. У старшего из психбригады берет какие-то бумаги, расписывается на клочке бумажки. "Словно квитанцию из химчистки заполняет!" — мелькает в голове Лены.
Лена сидит на сиротски-сером, расшатанном стуле и косится на затянутое решеткой окно. Она знает этого врача — совсем молодой, может от силы год самостоятельно работает, настоящий дурак.
— Ну-с, и какие мысли, мадам, посещают теперь вашу умную голову? — тоном юродивого вопрошает он. — Что, снова в бега кинетесь?
— Ага, — спокойно кивает в ответ Лена и безмятежно глядит ему в глаза.
— Тэ-эк-с, стремление к побегу, стало быть, остается, — констатирует он себе под нос и что-то поспешно отмечает в истории болезни. — Ну, а жить вам по-прежнему не хочется?
— Нет, почему же? — хочется. Особенно как вас увижу, так петь и плясать сразу охота.
— Да? — молодецки ухмыляется врач. — Значит, все-таки интерес к жизни не потерян?
— Нет. Не потерян. Если живут такие умники, как вы, то почему же я должна уходить из жизни?
— А? — растерянно переспрашивает врач, оглядываясь по сторонам. — Вы что-то много на себя берете!..
Скажите, пожалуйста, он еще и обижаться умеет!..
Врач ходит по приемному покою, задрав полы халата и заложив руки в карманы брюк. Тапочки, сползая с его ног, открывают постороннему взору печальную картину полного обветшания и расползания прямо на ногах давно не стиранных носков. Он весь пропитан какой-то физической и душевной нечистоплотностью. Лене трудно даже дышать рядом с этим рассадником грязи, но она, к счастью, быстро спохватывается: откровенный бунт ей ничего не даст, и потому она молчит, просто молчит. К тому же от передряг и неожиданностей нынешней ночи она вконец утомилась, она еще слишком слаба после болезни, единственное ее желание на сегодня — просто лечь, укрыться с головой одеялом и чтобы никто не лез, не задевал ее…
А врачу нужно непременно самоутвердиться. Ведь и дежурная медсестра приемного покоя, и санитар слышали, как дерзко разговаривала с ним эта паршивая девчонка, эта шизофреничка, претендующая на ум и оригинальность — нужно ее поставить на свое место, показать, что здесь значит он, врач! И в таком случае хороши все средства.
— Так, больная, — наконец, подчеркнуто официально обратился он к ней. — Время, правда, уже позднее, да ведь вы, как я понимаю, спать не желаете, так уж давайте поговорим по душам…
У Лены кружится голова, ей все труднее сидеть, от напряжения у нее гудят руки и ноги, она устала, чертовски устала, но ведь этому тупице говорить что-либо бесполезно. К тому же гордость не позволяет ей признаться в своей слабости. Да и куда спешить, в дурдомовское отделение? И она согласно кивает: давайте беседовать…
— Ну, так вот… давно интересуюсь вами, тут и профессиональный, и чисто человеческий интерес. Расскажите о себе, о своей жизни. Ну, вот такой щепетильный вопрос — когда вы начали жить половой жизнью? Понимаете, очень важно…
Рядом с врачом, застыв в выжидательной позе в предвкушении развлечения, потехи, стояли медсестра и санитар. И бабская физиономия врача начала расплываться в издевательской ухмылке: мол, ну, давай, острая на язык девушка, что-то ты сейчас скажешь!..
— Значит, это — очень важно? — переспросила Лена, стараясь не "заводиться".
— Ну, конечно! Интимная жизнь — это если угодно, начало начал всего, что в человеке. Тут и удачи жизненные, и неудачливость, и чувство собственной неполноценности, и, наоборот, чувство защищенности… Я понятно излагаю свои мысли?
— Весьма! И, если это так важно, начнем, пожалуй, с начала — с гинекологического кресла, а? — подхватила Лена, кусая губы, чтобы только не сорваться, и принимаясь стаскивать телогрейку. — Начнем с азов! Вы же, как я понимаю, специалист широкого профиля, не правда ли? Вы и психиатр, вы и психолог, и сексолог, вас все проблемы интересуют, и постельные, и духовные. Я не против, помогу, чем могу.
Они стояли друг против друга — пухлощекий молодой человек в белом халате с откровенно неприязненным выражением лица и измученная болезнями, жизненной неустроенностью, душевным одиночеством восемнадцатилетняя девушка. И врач сдался… Глядя куда-то вбок, он распорядился: "Ведите больную в отделение!" И прибавил: "Да не в первое, а во второе, это распоряжение Ликуевой".
О втором отделении Лена знала понаслышке. Там никогда для нее не находилось места. Во-первых, в этом отделении больных было раз в пять меньше, чем в первом. Во-вторых, там у каждой больной была своя койка — предел мечтаний, можно сказать, и, в-третьих, что не менее важно, в этом отделении, как правило, находилась публика из "блатных", а Лена со своим "длинным языком" никак в этот разряд не могла быть зачислена.
— Но ведь во втором отделении нет мест! — удивленно воскликнула сестра.
— Найдите! Пусть поставят раскладушку! — жестко скомандовал врач. И Лена с удивлением поняла, что оказывается не так он прост, этот столь понятный, казалось, с первого взгляда молодой врач.
И вот, в третьем часу ночи, в неведомом для нее втором отделении она укладывается на установленную для нее в коридоре раскладушку и, вконец измотанная прошедшими сутками, ложится под одеяло и крепко, без всяких снотворных, засыпает.
Глава 6
…Утро следующего дня начинается с обхода. Оказывается, сначала врачи идут на обход во второе отделение, поскольку здесь "более перспективные больные", требующие особого внимания, контроля, лечения, общения с врачом. В первом же отделении, как правило, либо "хроники", либо "социально запущенные", на которых жалко тратить драгоценное врачебное время. Всю эту информацию Лене между делом выдает сестра — практикантка, которая принесла ей утром лекарство.
Так… Значит, целых три года она числилась в "неперспективных", была среди тех, на ком "поставлен крест". А сейчас, значит, в "перспективные" попала? Это за какие же заслуги? Интересно…
От любого вопроса любого больного в первом отделении врачи чаще всего лишь досадливо отмахивались, либо отделывались отговорками. Некогда! Тем более, как уже знала Лена, все врачи работали на полторы-две ставки.
А здесь, во втором отделении, те же самые врачи и внимательны, и доброжелательны, и терпеливы, и заботливы… Правда, и больные здесь — явно другого сорта люди: много женщин в нарядных домашних халатах, кофтах, в руках у некоторых — вязание, книги, газеты… Телевизор есть…
И дикого крика, матюгов, воя, драк не видно и не слышно. Здесь нечего бояться, что возбудившаяся вдруг больная с двадцатилетним стажем дурдомовской жизни вопьется тебе зубами в руку или откусит нос — такие случаи были не редкими.
И все же Лене в "блатном" втором что-то определенно не нравилось. Что-то мешало ей радоваться спокойствию и устроенности здешнего быта. Что именно, она поняла гораздо позже, пока же смущало только смутное чувство недовольства и недоумения.
Ей уже выделили койку в палате — в обед должна выписаться больная, место освобождалось. Лежа в чистой постели, Лена внимательно поглядывала вокруг, отмечая непривычное для себя… Вот врач говорит с больной о ее служебных проблемах. Эта женщина — музыкальный работник, дома у нее двое детей и прекрасный муж, он о ней очень беспокоится, каждый день прибегает. Но она тревожится, как теперь у нее на работе будет все складываться. Ведь репутация у человека после ПБ довольно шаткая…
— Ну, что вы! — успокаивает ее врач. — О какой репутации речь? Народ у вас там культурный, понимающий. И, потом, кто вам помешает в случае чего просто сменить место работы.
— Нет-нет! — пугается женщина. — Как же это так — работу менять? Я ведь всю жизнь детской музыкальной школе отдала, думала, что уж до пенсии буду своим делом заниматься, а вы говорите, работу сменить. Нельзя мне уйти из школы, понимаете? Там вся моя жизнь.
…А вот и Татьяна Алексеевна! С девчонкой, ровесницей Лены, Фея обсуждает тоже что-то очень важное. Девчонка хмурится, упрямо мотает головой, а Фея ее долго и терпеливо в чем-то убеждает, и постепенно больная, видимо, соглашается, сдается. А у самой Татьяны Алексеевны вид такой строгий и серьезный, что Лена даже подойти к ней не решается.
…Наконец она подходит к Лене, присаживается на край ее кровати, долго, внимательно всматривается в ее мир, печально улыбается и явно не спешит начинать разговор.
Ну, что она может сказать этой непростой, вредной девчонке, чуть чего выпускающей колючие иголки — что ей сказать, что спросить? Как она себя чувствует — и без слов ясно. Обнадежить ее… Но чем?.. Ведь после злополучного побега ей теперь мало хорошего светит, а о выписке в обозримом будущем и говорить не приходится. И так уж Ликуева за все, что произошло, отчитывала Татьяну Алексеевну, как провинившуюся школьницу:
— Понимаю вашу жалость к этой больной, коллега, но лучше свои эмоции держать на привязи!.. Вы отлично понимаете, что прогноз у больной крайне неблагоприятный. И не нужно давать ей чувствовать, что вы, видите ли, добрее и сердечнее других. Ничего, кроме вреда, и вам, и Ершовой это не принесет! И вообще больных нужно держать на расстоянии, нельзя их приручать, это — себе дороже!..
"Неблагоприятный прогноз"… Ну, а что делать, если она, Татьяна Алексеевна, тоже врач-психиатр, как и Ликуева, в корне не согласна с диагнозом, поставленным Лене Ершовой в самом начале? Что ей, врачу, делать, если она просто уверена, что никакой шизофрении у этой девчонки не было и нет, а есть только социальная ущемленность, семейная неустроенность, ну, может быть, в определенной мере, педагогическая запущенность, но не более того? Что ей, врачу, делать, если она считает эту девочку натурой незаурядной, одаренной и лишь по трагическому стечению обстоятельств попавшей в эти стены? И не таблетки, не уколы нужны такому человеку, а доброжелательное окружение, умные, терпеливые люди вокруг, элементарная человеческая душевность.
К сожалению, Татьяна Алексеевна для своих более опытных коллег всего лишь "молодой специалист", ее мнение для старших товарищей, а для Ликуевой тем более, значения не имеет. Но ведь и столь опытный Иван Александрович Воронин, четверть века в больнице отработавший, тоже считает, что Ершова — незаурядная личность, к ней совсем другое должно быть отношение…
* * *
— Татьяна Алексеевна, а мой отец… где?
— Здесь. В больнице. В мужском отделении, в первом…
— А… можно мне его увидеть?
Татьяна Алексеевна знает, что Ликуева ни за что на свете не разрешит Лене свидания с отцом. И подходящее объяснение, конечно, на этот случай у нее отыщется — мол, больная так слаба, а тут вероятно потрясение и оно больной на пользу не пойдет… Песня известная! А вот не разрешить дочери увидеться с отцом — это, безусловно, гуманный акт…
Между тем, коллеги из мужского отделения на летучках у главного докладывают, что Ершов-старший очень тяготится своим пребыванием в больнице, каждый день настойчиво просит выписать его и все время спрашивает, где его дочь, почему ему не разрешают с ней увидеться. Несколько раз на беседе с лечащим врачом плакал, говорил, что очень виноват перед дочерью и женой, что хочет начать совсем другую жизнь… Нет, неприменно нужно помочь ей увидеться с отцом! А там Ликуева пусть делает, что хочет…
— Ты сможешь выйти в коридор?
— Да, конечно! — Лена слезает с кровати и морщится — все еще болит скипидарный укол. Два дня назад ей сняли последнюю наклейку.
— Я могу пойти, куда угодно! Я все сделаю, что вы скажете, только разрешите мне отца увидеть! Ведь он сюда из-за меня попал…
— Одевайся. Пошли!
Татьяна Алексеевна ведет Лену в "предбанник", в деревянный тамбур перед вторым отделением, где больным обычно дают свидания с родственниками.
— Подожди здесь, — говорит Татьяна Алексеевна.
Лена усаживается в кресло и сидит, не шевелясь. Она думает о том, что все-таки не зря назвала своего врача Феей — ну кто здесь еще может вот так почувствовать чужую боль?…
Вернулась Татьяна Алексеевна. С отцом. Он был непривычно жалкий и больной, ее отец, которым она гордилась когда-то, которого и ненавидела и боялась: высокий, исхудалый, в пижамной куртке, с далеко вылезающими из нее мосластыми руками, в коротких пижамных штанах, совсем-совсем седой…
Щемящая жалость прихватила вдруг ее сердце, и она шагнула навстречу отцу, чувствуя, как виновата перед ним:
— Папка!
— Дочка, доченька!.. — прижимая ее к груди, шептал отец и не мог скрыть слез. — Соскучился я по тебе, родная моя… Ну, как ты? Что так похудела? Ты хорошо кушаешь? Может, тебе чего нужно?
Татьяна Алексеевна, отвернувшись в сторону, с огромным трудом пыталась сохранять невозмутимый, спокойный вид.
— Папка, миленький мой! — смеялась и тоже плакала Лена. — А я-то по тебе соскучилась как! А обо мне ты не беспокойся, я немного простыла, но теперь все в порядке… Пап, ну, пожалуйста, не плачь!
— Доченька, я ведь такой дурак, такой дурак! Прости ты меня, пожалуйста… Я ведь, знаешь, раньше думал, что ты здесь прикидываешься больной, что ли… И не ходил к тебе — потому… Сейчас посмотрел, что тут творится — это ведь какой-то концлагерь, тут по-настоящему с ума сойти можно… Прости уж меня, дочка! Дурак я…
Непривычной и потому мучительно-сладкой была отцовская ласка, особенно бережными, даже мягкими казались его руки.
Они сидели и не замечали быстро летящего времени, бестолково перебивая друг друга, все говорили.
— Я ведь здесь, дочка, многое понял, — спешил выговориться отец. — За сколько лет — второй месяц как трезвый. Вроде мозги на место начали вставать… Дом-то наш я ведь в кабак превратил, я же понимаю! И почему тебе дома и не жилось, тоже понял. Прости ты меня, дочка! Вот увидишь, мы еще заживем всем врагам назло, как говорится. Пить брошу. В отпуск куда-нибудь все вместе двинем, а? Мы ж за всю жизнь так никуда и не съездили вместе…
Татьяна Алексеевна никак не решалась им сказать:
— Все, свидание окончено!
Она понимала, что эти минуты — самые, может быть, важные в жизни Лены и ее отца, слишком многое решается сейчас для этих двух людей, для всей семьи.
И, разумеется, именно в этот момент откуда-то выплыла Ликуева.
— Эт-та что такое?! — изумленно выдохнула она, переводя взгляд с Лены на отца, с него — на Татьяну Алексеевну и обратно. — Что здесь происходит, вы можете мне объяснить?! Татьяна Алексеевна, я требую объяснения!
— А что объяснять, Лариса Осиповна. Это свидание. Я разрешила дочери увидеться с отцом. Мне кажется, ничего противозаконного в этом нет. Или я ошибаюсь? — спокойно ответила Татьяна Алексеевна, но Лена видела, что это внешнее спокойствие стоило ей неимоверного усилия над собой.
— Думаю, вы ошибаетесь, — зловеще проговорила Ликуева. — Впрочем, сейчас не место и не время обсуждать служебные проблемы… Я вас прошу немедленно прекратить это ваше свидание…
У отца опустились руки. Он как-то сразу сник, засуетился. И на Лену будто ушат холодной воды вылили: погасла, напряглась.
— До свидания, дочка!
— Прощай, отец…
Разошлись… Щелкнул, будто волк зубами клацнул, замок, разделяющий их на определенно долгие времена…
…А после обеда стало известно, что Фею лишили возможности "няньчиться" с Леной. Ликуева написала какую-то докладную записку главному врачу, и теперь у Ершовой новый лечащий врач — Галина Гасановна, черноволосая, суровая и очень не ласковая на вид женщина с холодными глазами и вечно недовольным лицом.
Несколько раз в течение недели Галина Гасановна пыталась разговорить Лену, установить с ней какие-то отношения, но все было бесполезно — Ершова упрямо молчала, не отвечала на вопросы. Она слишком остро чувствовала фальшь, а то, что ее вновь столкнули с человеком глубоко фальшивым, поняла сразу. И подходила она к Лене лишь потому, что так было "положено" по штатному расписанию. На самом же деле судьба новой пациентки вряд ли всерьез ее волновала. Скорее всего, не волновала вообще. И вскоре Гэ-Гэ, как окрестили Галину Гасановну больные и санитарки, вовсе перестала подходить к Лене.
* * *
…Лене вспоминается… С какого времени на нее положил глаз доцент мединститута, занимающийся в больнице на кафедре психиатрии со студентами. Она показалась ему "интересной больной", и ее пригласили на беседу. Лена почувствовала смутную тревогу. Вели ее в так называемый административный корпус. А зачем? Что ей там делать, с кем и о чем "беседовать"?
Она оказалась лицом к лицу с группой студентов, почти ее ровесников. Будущие врачи с большим интересом, ничуть не смущаясь, разглядывали Лену, как диковинную зверюшку. Что ж, для них она была лишь "сложной больной", доставленной сюда из буйного отделения…
Это чувство трудно объяснить словами. Точнее всего, глубокое унижение испытала вдруг Лена, оказавшись перед тридцатью молодыми людьми в стареньком, заношенном больничном халате, нечесаная — даже расческу нельзя было иметь в отделении, все, у кого были волосы, чесались одним гребешком, который можно было получить на минутку у банщицы! — и эти разваливающиеся тапочки на ногах, и эта возникшая уже в больнице сутулость от появившейся привычки ходить, глядя в пол, пряча от всех глаза…
Доцент, Леонид Васильевич Жарков, высокий, лысоватый мужчина лет сорока пяти, безукоризненно аккуратный, педантично точный, спокойно-рассудительный, имел странную для непосвященных кличку — "Старый Дев", об этом знали все, даже больные буйного отделения. Дело в том, что Леонид Васильевич почему-то сторонился женщин. Он никогда не был женат, жил холостяком, сам вел домашнее хозяйство. И даже самые злопыхательски настроенные его доброжелатели не могли, к великому их сожалению, приписать Леониду Васильевичу "аморального образа жизни" — он был девственно чист.
Усадив Лену перед студентами, Старый Дев начал рассказывать:
— Обратите, товарищи, внимание на неопрятный, неряшливый вид больной. Для хроников очень характерна эта внешняя запущенность. Больная воображает себя поэтессой, пытается писать стихи…
Лена обомлела. Вот так, запросто, прямо при ней, будто она не человек, а вещь, какой-то неодушевленный предмет, говорят о ней же, считая ее конченной, потерянной для жизни дурой! Дескать, поэтессой "она себя воображает". Вид "неряшливый", "неопрятный"! А какой бы все они, чистюли, имели вид в этом поганом заведении?! И как иначе можно выглядеть здесь, в этих бараках дореволюционной постройки, которые когда-то возводились, как конюшни для казацких лошадей?!.. А этот Старый Дев — просто сволочь лысая… Лена очнулась от своих суматошных мыслей, услышав:
— Больную зовут Еленой, фамилия ее — Ершова. Поговорите, товарищи, с больной…
Молодые люди в белых халатах уставились на нее. Несколько человек кинулись лихорадочно листать свои толстые общие тетради, что-то выискивая. И она вдруг поняла, что эти столь важные на вид студенты — самые обыкновенные школяры, а в своих тетрадках они ищут подсказки, как начать разговор. Это становилось забавным.
Минут пять стояла мертвая тишина. Никто из будущих докторов не мог найти нужных слов. Наконец один рыжий и прыщеватый очкастый парень решился:
— Э-э-э… больная, скажите, пожалуйста, как вас зовут?
— Так и зовут — Елена Ершова.
Пауза — долгая, глупая, томительная. Наконец в атаку идет еще один мальчик в белом халате:
— А почему вы, Елена, считаете себя поэтессой?
Лена очнулась от своих мыслей, услышав:
— Я никогда не считала себя поэтессой — для меня это слишком высокое звание, выше генеральского. А вот стихи я действительно пишу, и давно, с девяти лет.
— Почитайте что-нибудь, пожалуйста.
— Хорошо…
Ненавистная сердцу сытость, ожиренье сердец и душ — не-хо-чу!!! Злой слезой рассыплюсь, подавлюсь глупым словом: "муж". Ожирение! Ожирение!!! Толстый зад у земной души. Мысль задушена ожиреньем Из пластов жировых — дыши, не дыши ли, — напрасны страсти, и напрасна твоя тоска… Как и все, доживу до старости, стану жирной, сделаюсь благостной, буду правильной, как доска гробовая… Тоска! Тоска!Все молчали. Лена выдержала паузу…
Мне хочется пожалеть человека, которого я незаслуженно обидела. Мне хочется пожалеть человека, незаслуженно обиженного мной, но я стою и молчу. Потом вытаскиваю из кармана ненавистные мне сигареты, закуриваю и плачу, и говорю: "Это от дыма!" А человек, обиженный мной, стоит и смотрит на меня и, наверное, думает: "Какая скверная девчонка!"… А мне хочется пожалеть его… Только я еще не умею этого.В зальчике стояла напряженная тишина. Молодые люди в белых халатах, растерянно переглядывались, всматривались в ее лицо. Лена совершенно расслабилась, успокоилась, даже как-то неуловимо похорошела, более мягкими и плавными стали движения. Она видела, что ее корявые, как казалось ей самой, стихотворные строки не оставили равнодушными этих парней и девчат, они сидели, полные нескрываемого удивления, интереса. И Лена прочитала еще:
Приходит ночь. Приносит бурю. Девчонка корчится в агонии. А мне твердят:,Мы все там будем!" Мне говорят, что это — будни, все эти слезы, боль и горе… Я не хочу такие будни! Но слышу вновь слова-тычки: "Мы всем там будем! Все там будем"… Что, горе у тебя? Молчи! Душа болит твоя? Молчи! Невмоготу тебе? Молчи. Жилет слезами не мочи… И скажут о тебе: "Почил, почил, мол, в срок и в страхе божьем"… О, люди, как же мы так можем по-скотски жить?!И тут раздался голос Старого Дева:
— Лена, где ты читала эти стихи? Чьи они?
Вопрос прозвучал так нелепо, так грубо и неуместно, что три десятка парней и девчат в белых халатах недоумевающе переглянулись. Они не сомневались, что стихи эти — ее, Елены Ершовой, и ничьи более. А Старый Дев продолжал скрипеть:
— Присвоение результатов чужого интеллектуального труда — весьма характерно для больных шизофренией. Больные могут утверждать, что именно они создали таблицу Менделеева или Седьмую симфонию Шостаковича, "Войну и мир" Толстого, кинофильм "Чапаев"… Не обольщайтесь, товарищи, я вижу вы подпали под первое впечатление. Кстати, и это — тоже одна из особенностей больных шизофренией — умение увлечь слушателей, зрителей, способность впадать в экстаз, в патетику…
Больше Лена не слушала. Она сникла и снова из ее фигурки выперли острые углы. И напрасно доцент пытался вызвать ее на разговор — она упорно молчала. Хотя много чего хотелось ей сказать этим будущим докторам и этому железобетонному существу — Старому Деву…
* * *
Ее увели. А на другой день к Лене, прямо в отделение, пришел гость — один из тех ребят, что были вчера со Старым Девом на беседе. Он с любопытством огляделся по сторонам, и санитарка, открывшая ему дверь в отделение своим ключом-пистолетом, расхохоталась:
— Ничего себе зверинец, а? Да вы не бойтесь, мы вас в обиду не дадим!
Юноша смешался, покраснел:
— Я и не боюсь! Я просто смотрю, где тут моя больная.
— Какая это — "ваша" больная?
— Ершова, Елена.
— Да вон она, у окна, все о чем-то мечтает!..
Лена сразу заметила вошедшего в отделение парня. И почему-то просто уверена была, что он — к ней. И не ошиблась…
И вот они сидят в уголке, на любимом ее месте у окна. И разговаривают с Владимиром — так зовут студента — о вчерашнем. Он оживленно, с хорошим юмором рассказывает, какой вчера шум подняла группа после того, как Лена ушла. Ребята орали: "Ее это стихи, ее!.. И никакая она не шизофреничка, чушь все это!" В общем, бунт на корабле. Правда, своего доцента они ни в чем не убедили, но и он их — тоже.
Лена была счастлива. Ей все же поверили! А Володя попросил: "Я ведь к тебе по поручению наших ребят. Вот, принес тебе тетрадь, два карандаша, — пожалуйста, напиши нам побольше своих стихов, хорошо? Напиши все, какие помнишь! Не хватит бумаги — я еще принесу, сколько угодно… Слушай, а что тебе еще принести. Чего ты хочешь?
Лена растерялась. Еще никто и никогда из ее сверстников не относился к ней с такой душевностью, с таким участием…
— Мне… если можно, мне бы книг побольше. Я быстро читаю. И все будет в сохранности, вы не думайте…
— Хорошо! — радостно согласился Володя. — О чем разговор, принесу… Слушай, а какие ты книги любишь, о чем?
— Да всякие… Я бы Достоевского перечитала… Да любую классику можно. И исторические романы очень люблю…
— Ну, а что ты уже читала?
Она принялась подробно рассказывать.
— Ну, ты гигант! — восхищенно промолвил Владимир, вытирая со лба выступивший пот после горячего спора об особенностях японской литературы. Похоже было, что Лена поразила его: и читала больше, чем он, и прочитанное умела оценить, как вынужден был признать гость, гораздо тоньше и глубже…
— Ну, ты гигант! — повторил он. И у него как-то непроизвольно вырвалось: — Слушай, а что ты здесь делаешь? Разве тебе здесь место… а?
— Не место… — растерянно и почему-то испуганно повторила Лена. — Не место…
Володя ушел, пообещав, что придет через пару дней.
А она, забившись в свой угол у окна, призадумалась: почему она так испугалась, когда он сказал, что ей здесь не место?…
Врать можно кому угодно, однако себе не соврешь. Лена впервые осмелилась признаться самой себе, что ведь она, при всей своей ненависти к этому заведению, в сущности и не старается отсюда выбраться. Да, да, не старается! Ее страшит жизнь, протекающая за больничными стенами. Самое страшное, что она потеряла уверенность в себе, в своих силах — вот в чем дело! Всей яростной беспощадностью молодого ума Лена понимала, что здесь, в стенах психиатрической больницы, она просто трусливо прячется. Прячется от жизни, от людей, от самой себя, от своих возможных горестей и сложностей житейских. Попросту говоря, она — дезертир, беглец от жизни. Но сил преодолеть себя у нее не было…
Много позже она поймет, что главная беда всех пациентов психушек, вольных и невольных, в том, что в больничных стенах человек слишком быстро привыкает ни за что не отвечать, не решать никаких проблем. Он довольствуется рваненьким казенным тряпьем, готов всю оставшуюся жизнь глотать осточертевшую больничную кашу вместо домашних разносолов, лишь бы только снова не окунуться в это "счастье" — в мир издерганных, замотанных соседей, сослуживцев и просто случайных прохожих, лишь бы только не участвовать в этой страшной каждодневной гонке, в битве с ближним за кусок насущного хлеба, за место под солнцем, за новое платье, нового мужа, квартиру, мебель, деньги…
Как вырваться из этого порочного круга? И чего она, собственно, хочет — от себя, от мира, от окружающих? Что ей вообще нужно?..
* * *
Лена целыми днями и бессонными ночами неотступно думала о том, что происходит вокруг. Пока Володя не прибегал с мороза — высокий, ясноглазый, в белом халате, с чистым запахом снежных улиц. Он рассказывал Лене о своей группе, об институтских делах, о том, что стихи ее "ходят по рукам", студенты их друг у друга переписывают.
— Да не кисни ты! — горячился Володя, наклоняясь к ней над кроватью. — Пиши стихи, читай, думай о будущем. Знаешь, все наши ребята в тебя верят… Мы даже со Старым Девом поспорили, доказываем, что он — ошибается. А он говорит, что мы — сопляки! Давай докажем ему, что сопляк — он!
— А я читаю. И стихи пишу. И о жизни думаю… А насчет "веры" — это ты врешь, Вовка. Меня ведь привели к вам, чтобы показать "шизофреничку", которая себя "поэтом воображает". А для вас преподаватель — это бог. Что это вы все разом безбожниками заделались? Так не бывает…. Давай, я тебе лучше стихи почитаю.
И Лена читала новые стихи. Потом оба они сидели, не шевелясь, думая о чем-то важном для каждого… Лена неожиданно спросила:
— Кстати, Володя, а ведь над тобой, наверное, уже смеяться начинают, а? Что ко мне ходишь. Только — честно!
— Ну, почему же? — пробормотал смущенно Владимир. — Кто смеяться-то будет?
Но тон выдавал его с головой: смеялись. Нашел себе, дескать, пассию не где-нибудь, а в психбольнице. Хотя, конечно, признавали, что девчонка необычная и стихи интересные, можно увидеться даже, но не до такой же степени!..
— Не умеешь ты, Вовка, врать! — с горечью констатировала Лена….
…А несколько дней спустя в палату вошли вдруг несколько незнакомых людей в белых халатах, судя по всему птицы высокого полета: не случайно среди них так подобострастно вертелись Ликуева с главврачом.
— Вот эта больная! — остановившись около Лены, пропела Ликуня, заглядывая в глаза высокому, плечистому мужчине с властными манерами привыкшего распоряжаться.
— Эта?.. Оставьте нас ненадолго вдвоем, я хочу с ней поговорить! — скомандовал он, и вся свита тут же отошла на почтительное расстояние.
— Ну, голубушка, — обратился неизвестный гость к Лене, пытаясь разговаривать, насколько возможно, добродушно и мягко. — Расскажи-ка ты мне, давно ли вы с Володькой знакомы?
— С Владимиром? А кому какое дело до этого? — сразу ощетинилась она.
— Мне — дело. Большое дело! — уточнил незнакомец. — Значит так. Запоминай, чтобы мне к этому разговору больше не пришлось возвращаться, а то я только сначала — добрый, потом хуже буду… О твоих "выдающихся умственных способностях" я наслышан более, чем достаточно, надеюсь, их тебе хватит, чтобы кое-что понять. Владимир — мой сын. С тех пор, как ты умудрилась отвлечь его от учебы и черт знает чем задурить ему голову, он стал не самым лучшим студентом и сыном. А был весьма старательный парень… И от дома стал отбиваться… Это ты ему идею подала, чтобы он тебя из больницы под расписку взял, а? Ну, так я тебе объясню: это совершенно нереально. Понятно тебе? Со-вер-шен-но! Дальше. Вы с Владимиром не пара, и я хочу, чтобы ты сейчас, сию же минуту это поняла. Если ты на самом деле… тонко чувствующий человек… то должна знать, что твоя болезнь, ну, плохо… лечится. И строить планы на будущее, да еще с другим человеком их связывать — просто преступно. Ты все поняла?
Лена давно уже все поняла… Так вот почему Володя не любил рассказывать о своих родителях, всячески избегал разговоров на эту тему. Лена знала только, что отец его — партийный работник очень высокого ранга. (После этого странного визита она узнала, что отец — ни много, ни мало — второй секретарь обкома партии, а мать — профессор медицинского института…)
— Поняла. Все поняла! Володя сюда ходить не будет, успокойтесь…
Не хотелось жить… Толпа в белых халатах, топоча, исчезла за дверью ординаторской.
…Не хотелось жить. Это ощущение, как заклинание, как молитва, все реже покидало ее. "Не хочу жить… Зачем? В этом мире, где никто никому не нужен, где каждый — сам по себе, где на виду у множества себе подобных ты погибаешь медленной и страшной смертью от тоски и одиночества, — зачем в таком мире жить?!" Безысходность.
Володя все-таки пришел — на другой же день после визита отца. Лицо его было бледно и как-то необыкновенно решительно, хотя в нем уже чувствовались смятение и внутренний разлад.
— Зачем ты пришел?
— К тебе пришел… А разве ты не хочешь меня видеть?
— Нет, не хочу.
— Но почему?
— Потому, что твой отец ужасно обеспокоен твоей судьбой. Он полагает, что я тебя уже успела совратить. И учебу ты запустил. И виновата в этом, получается, я. Так, что уходи, пожалуйста, и не приходи больше никогда. Спасибо тебе за все. Но — не приходи!
— Но погоди, Лена, погоди, я тебе все сейчас объясню! — забормотал Владимир, мучительно краснея. — Ты только послушай меня!
— Я — псих, шизофреничка, понятно тебе это! Ведь это действительно смешно: медик бегает к девке из психушки! Очень оригинально, ничего не скажешь! Пожалуйста, уходи.
— Но я люблю тебя, Лена!
Словно разверзлась земля… Словно все машины в мире вдруг остановились, все люди притихли, и наступила благословенная и мудрая тишина, врачующая и светлая… О нет, этого не может быть! Нет, нет, нет. Он славный парень, но такой груз не вытянет! Любит? Тем более!..
— Пожалуйста, уходи, — решительно и твердо повторила она. А сама с замиранием сердца ждала: ну пусть он напоследок еще один только раз скажет это слово…
— Я люблю тебя. Все равно — люблю! — повторил он. И пошел прочь, не оглядываясь…
Время растянулось, как в замедленной съемке. Казалось, что она не выдержит, сорвется с кровати и кинется следом.
Дверь захлопнулась… И все машины в мире разом взревели и ринулись с места, и все люди в мире разом загомонили, от шума и посторонних глаз стало невозможно дышать, думать, жить.
Глава 7
…Она вспоминала себя пятнадцатилетней, когда впервые попала в психушку… Только что сдала экзамены за восьмой класс. Сдавала, на удивление, безразлично и вяло. Хотелось, чтобы скорее все кончилось, и она, наконец, могла разобраться в том, что с нею происходит…
А ничего особенного не происходило. Дома — ежевечерние пьянки и отцовская ругань, бедная мама, которой она ничем не могла помочь, ощущение собственной обреченности: раз мы — дети своих родителей, раз "яблоко от яблони"… значит и ей так же жить всю оставшуюся жизнь, до конца своих дней подтирать пьяные плевки, сметать окурки, стирать залитые дешевым вином рубашки и майки, терпеть побои и ругань…
Следовало, конечно, попытаться вырваться из этого заколдованного круга. Но она понимала: уже по своему рождению она принадлежит к касте отверженных и ни у кого не найдет ни защиты, ни помощи. Кто она такая — дочь "шоферюги" и "торгашки"? Будь она хоть семи пядей во лбу, кому она нужна?..
Сдав последний экзамен, Лена пришла домой. Отец в этот день не работал. Он сидел за кухонным столом, осыпанным пеплом сигарет, кислой капустой и хлебными крошками, и поводил вокруг налитыми кровью глазами.
Как все постыло! Лена прошла в свою комнату, разделась, легла на кровать и пролежала весь оставшийся день. Поздно вечером, когда вернулась с работы мама, отец уже спал. Мать заглянула в ее комнатушку:
— Спишь, дочка?
— Нет.
— Как экзамен, сдала?
— По математике — сдала, четверка. По русскому — пять, по литературе — четыре.
— Ну, хорошо, слава богу. Отдыхай, дочка…
Через некоторое время уснула и мама… Лена встала, взяла давно припрятанный (года полтора назад) флакон со снотворным. Помнится, бабушка сказала, что ей выписали очень сильное снотворное, от одной таблетки она чуть не сутки проспала, а уж от трех, пожалуй, можно и вообще не проснуться. Лена тогда же этот флакон утащила и запрятала на всякий случай в самый дальний угол тумбочки, где хранились ее учебники и тетради.
И вот "всякий случай" настал… Спокойно, рассудочно она налила большую кружку сладкого чая — таблетки были ужасно горькими, она одну попробовала, разобрала постель, и начала глотать отраву, запивая большими глотками. Последние таблетки уже не лезли в горло, кое-как их-таки доглотала.
Легла в постель, предварительно утопив в туалете главную улику — пустой флакон. Чтобы не догадались. И поплыла…
Как потом выяснилось, на исходе вторых суток вызвали врача. Та долго возилась с ней, кое-как привела ее в сознание.
— Что с тобой, девочка? — Она увидела сквозь пелену в глазах склонившееся над ней женское лицо.
— Я не хочу жить, — прошептала она и тихо заплакала… Врач сказала родителям, что не может оставить девочку в таком состоянии и велела собрать ее в больницу. Так Лена первый раз оказалась на псишке… Она еще не знала тогда, что нежелание жить есть преступление перед обществом, и за это полагается принудительная изоляция в сумасшедшем доме… В нашей стране равных возможностей хотеть жить должны все. Кто не хочет — с тем разговор короткий: этот человек вне законов страны и общества, он болен, ненормален и к нему необходимо применить особые меры.
И после истории с Володиным отцом Лена поняла, что ничего в этой жизни для нее не изменилось. Она еще раз убедилась, что судьба ее предопределена. Всем наплевать, кто она такая на самом деле, главное для них, что она — "хроник", "псих". И у нее появился обдуманный, выстраданный план на самое недалекое будущее…
* * *
После того, как она рассталась с Володей, Лена сделалась на удивление тихой, послушной и дисциплинированной. Исправно вставала в очередь за аминазином — а эта очередь вытягивалась по всему отделению (двести с лишним человек), покорно совала в рот таблетки и тихо, как мышь, выходила из аминазинового кабинета… Она спешила в туалет, выплевывала таблетки и складывала их в припасенную коробочку, которую заворачивала в носовой платок и узелок прятала в кармане халата.
Так продолжалось два месяца. Она успела накопить около трехсот сильнодействующих таблеток и, главное, убедить всех врачей, даже Ворона и Фею, что она "все поняла", "все осознала" и "больше так делать не будет"…
Ее выписали после двух лет пребывания в психбольнице, весной. Пока мама прощалась с врачами и выслушивала их советы, Лена, переодевшись в домашнюю одежду, которую принесла мать, выскочила за больничные ворота и понеслась вниз, вниз, на свободу.
Дома она не хотела появляться даже на несколько часов, даже на минуту. Слишком свежи были в ее памяти воспоминания от первого возвращения с псишки, когда для всех она стала чужой, отверженной. И выписки из больницы она в этот раз добивалась только за тем чтобы закончить, наконец, эту дурацкую комедию под названием "жизнь". Таблеток было достаточно, она была просто уверена в этом. Нужно только решиться, а решилась она давно.
Несколько часов она гуляла по городу. Когда весенние сумерки накрыли город прозрачной синеватой дымкой с яркими пятнами только что вспыхнувших фонарей, на железнодорожном вокзале, в женском туалете, давясь, она проглотила все свои запасы из аминазинового кабинета…
Железнодорожный вокзал был, можно сказать, в центре города. Когда она перешла привокзальную площадь, и, пошатываясь, побрела к центральной улице имени Ленина, в глазах у нее все поплыло.
У нее еще хватило сил в сквере на ближайшем углу забиться в самую гущу лохматого и непроходимого даже в эту пору года кустарника и блаженно растянуться на промерзлой земле. Последнее, что она очень ярко увидела над собой сквозь густую сеть тонких веточек, были яркие, как нарисованные, звезды на темнеющем небе. Блаженная истома охватила все ее существо, лишь лениво проплыла, будто рыба, холодная и спокойная мысль: "Все… теперь все!"
Она не знала, сколько прошло времени, не знала, где она и что с ней. Она словно всплыла из глубокого черного омута на поверхность, но длинные, крепкие водоросли упрямо цеплялись за ее ноги и не давали ей возможности вырваться к солнцу. Откуда-то издалека, словно сквозь вату, она слышала знакомый голос, который настойчиво повторял одну и ту же фразу:
— Лена, открой глаза, Лена, ты меня слышишь? Открой глаза…
И хлестали, хлестали, хлестали ее по лицу…
Наконец с великим трудом она открыла глаза. И долго всматривалась в лица обступивших её врачей. Фея, Ликуева, Шварцштейн, Воронин, Гэ-Гэ, Антоша, Гоша и много других, полузнакомых… А увидев решетки на окне, она окончательно поняла, что с ней, где она находится, и застонала в бессильной тоске.
— Лена, ты меня слышишь? — наклонилась над ней опять Ликуева. — Как ты себя чувствуешь?
— Хо-ро-шо, — едва прошептала она.
— Хорошо? Хм… Мы с тобой уже шестой день возимся… Ну, долго жить будешь, моя хорошая! Ты что глотала-то, скажи хоть!
— Аминазин, тизерцин…
— Сколько?
— Почти триста таблеток.
— Да ты что? Этим двух взрослых мужиков можно умертвить!
— Невероятно!
Врачи разошлись, прописав Лене строгий надзор. Еще неделю она лежала под капельницей, неподвижная и потемневшая, как мумия.
Жизнь не имела ровно никакого смысла, и как ей быть дальше, она не знала. Даже умереть не смогла. Опять не смогла…
Так прошло больше года. И вот теперь, находясь во втором, прежде неведомом ей отделении с непривычным для нее больничным укладом, Лена внимательно всматривалась в происходящее вокруг.
Здесь, в привилегированном обществе, среди избранной публики, она чувствовала себя кем-то вроде непрошеного гостя на чужом пиру. Да, болезнь не щадила никого, но, даже чокнувшись и попав в дурдом, эти "избранные" умудрялись сохранять чувство колоссального самоуважения и собственной значимости. И на Лену они смотрели как аристократы на низкорожденного: кто такая? почему здесь, среди порядочных людей? кто разрешил?
А чего стоили их великосветские воспоминания!
— Помнится, мы с мужем были в Японии… — рассказывала одна.
— И тогда ко мне на прием снова является этот тип… — вторила ей другая…
Лена не бывала в Японии, и на прием к ней никто не приходил. Поэтому целые дни она предпочитала проводить в уединении — читала, писала в заветной тетради стихи, тоже вспоминала свое…
Ей уже скоро девятнадцать.
— Почему так нелепо складывается все в этой жизни? — мучительно думала она. — Вот мой отец, он воспитывался в доме, где его не любили, постоянно обижали, и он тоже стал злым и несчастным. Он, правда, любил меня, но обижал маму, и я тоже стала его ненавидеть… Цепная реакция зла! Зло, как круги по воде — чем дальше, тем шире… Но ведь это же самоуничтожение! Значит, нужно, чтобы кто-то из этой цепи замкнул зло на себе, не пустил его дальше… И легче всего замкнуть его на себе именно ей…
Почти каждый день отец приходил под окно ее палаты. Седой, тихий и растерянный, он неизменно спрашивал ее:
— Ну как ты, дочка? — и жадно вглядывался в ее лицо. А она неизменно отвечала ему:
— Не беспокойся, па, все хорошо!..
Мать приезжала почти ежедневно — сначала бежала к отцу, потом к Лене. Как-то так получилось, по негласному уговору, что Лена даже не спрашивала мать, с каким диагнозом столько времени держат отца на псишке. Слишком хорошо знала на своем невеселом опыте, что диагноз здесь могут поставить какой угодно, и до истины докапываться бесполезно.
Человек, когда-либо помещенный в психбольницу даже по ошибке, по навету, даже по чьему-то очевидному злому умыслу, может обращаться в великое множество самых высоких инстанций и все, чего он может добиться, — очередная транспортировка из присутственного места спецбригадой "Скорой" в помещение ПБ…
О, наш современный, родной, советский желтый дом! — сколько мрачных тайн, сколько сломанных судеб, сколько чужих болей, слез, несправедливостей и обид хранишь ты в своих стенах! И нет надежды на то, что когда-то люди узнают все это и ужаснутся!
…Но однажды Лена, не выдержав, все-таки спросила у матери, что врачи говорят об отце.
— Знаешь, — смущенно и нерешительно проговорила мать, — сказали, что алкогольный психоз. Но ты все же сама видела. Какой там психоз!.. А самое страшное, Леночка, что ведь он теперь не сможет быть шофером. Такое здесь положение. А его если что еще и удерживало в каких-то рамках, так только работа. Ты сама знаешь, как он любит машину, днями и ночами готов возиться с мотором. А уберут его сейчас с этой работы — что хорошего ждать? Я уже говорила с лечащим врачом, да все впустую…
Между тем, отец изменился так, что это стало беспокоить и Лену, и мать. Внезапное, страшное постарение, слишком очевидная худоба, не свойственная никогда раньше ему робость — все это были сигналы какого-то серьезного внутреннего неблагополучия. Тяжелые, тревожные думы все чаще настигали Лену.
* * *
Однажды утром она несколько раз прошла мимо старушки, сидевшей на краешке стула в самом углу палаты. Ее иконописное лицо в глубоких темных морщинах было полно такой неизбывной печали, откровенного горя, что, не выдержав, Лена подошла к ней, спросила:
— Что с вами, бабушка?
— Ничего, деточка, ничего — как-то уж чересчур поспешно отозвалась старушка. — Все нормально, ты не беспокойся… Просто, деточка, негодяйка я, преступница. А больше — ничего…
— Ну, что это вы на себя наговариваете! Что случилось-то?
Бабушка рассказала о своем горе… Жила вдвоем с мужем, парализованным уже несколько лет. Дети выросли, поразъехались, и они со стариком доживали свой век вдвоем. Нет, на детей — никакой обиды, дети у них хорошие, всегда к празднику то деньжат пришлют, то посылочку, а летом, глядишь, и в гости приедут. И к себе звали. Только они со стариком решили, что уж лучше им одним век свой коротать. Ни от детей не будут зависеть, ни их стеснять… Так вот и жили.
Как-то раз пошла она в магазин за молоком, деда на замок заперла. Пока в магазинной очереди прохлаждалась, дома, видимо, короткое замыкание произошло — вспыхнул их старый домишко свечкой. Соседи в дом-то заскочить не успели, не вытащили деда. А она вернулась — дом уже догорал.
И вот теперь проклинает она себя, не дает ей покоя самый дорогой человек, погибший страшной смертью, днем и ночью все думы — о нем, о том, как он, бедный, в свой последний, смертный час звал ее, дуру старую, безмозглую, какую он, старый, муку принял…
Лену уязвил рассказ старушки, поразило ее чувство вины перед покойником. Ну, что ей можно было сказать, чем утешить? Да и чем тут помогут слова? Она лишь тихонько гладила старушку по голове, как ребенка, а та, прислонившись к ее плечу, тихо и убежденно повторяла:
— Ну как мне теперь жить? Зачем? Мы ведь с ним почти сорок пять лет вместе, все было поровну, и радость, и горе… Не могу я жить без него, деточка, не могу! Сердце болит, ох болит…
На следующий день рано утром санитарки в шкафу, где хранились телогрейки, обнаружили уже застывший труп. Старушка повесилась на связанных чулках. Услышав пронзительный визг санитарок, Лена почему-то сразу подумала: "Бабушка…" А когда увидела на полу ее маленькое, скрюченное, детское тельце, вдруг как бы издалека, со стороны, услышала свой вопль: "Ба-буш-ка!"
Придя в себя, Лена увидела наклонившиеся над ней встревоженные лица Татьяны Алексеевны, Ворона, Ликуевой, Гэ-Гэ, кого-то еще.
— Ну, слава богу, очнулась! — облегченно вздохнул Иван Александрович. — Ты, что же, голубушка, моду такую взяла — в обморок шлепаться?
— Бабушка… где? — тихо спросила Лена.
— Ну, как — где? — растерянно переглянулись врачи. — Увезли ее… в морг… Тяжело все это, очень тяжело. Но что же теперь поделаешь? У нее, Леночка, было тяжелое психическое заболевание. А мы — не углядели, что поделаешь…
Опять "психическое заболевание"! Совесть, душа, тоска — эти понятия здесь даже в голову не приходили. На все случаи жизни одно объяснение — "психическое заболевание". Психиатрия — очень удобная наука, все объясняет очень просто…
После смерти старушки Лена впала в беспросветную меланхолию. Она все пыталась понять, почему люди наиболее совестливые и душевные, просто честные погибают, а те, кто не испытывает ни стыда, ни горя, ни чувства собственной вины, продолжают жить. Так где ж она, справедливость?
Отца, наконец, выписали. Перед его уходом им дали свидание. Бдительная санитарка не спускала с них глаз, и оба чувствовали себя неуютно. Поэтому свидание вышло коротким и скомканным — тихо поцеловались и вскоре разошлись…
* * *
Стихи к Лене приходили по ночам. Она называла эти всегда неожиданные озарения "стихопадами". Вдруг среди ночи открывала глаза, и в голове ее начинали звучать, отливаться словно на невидимом линотипе строки. Это было упоительно. Она исписывала торопливым округлым детским почерком по две-три тетрадки. Случалось, за одну ночь выплескивалось на бумагу до сорока новых стихотворений.
Откуда они брались, почему к ней приходили, было непонятно. Лена знала одно: это — ее стихи. Написанные торопливо, впопыхах, они вовсе не отличались изяществом слога, отточенностью мысли, емкостью образов, но то, что все ее стихи были искренни, чисты, что в каждом из них звучал голос взрослеющей, причем очень трудно, души, — это было очевидно. И, может быть, именно поэтому люди, никогда не интересовавшиеся поэзией, внимательно слушали все, что она читала.
Иван Александрович, забегая к Лене "на минутку", первым делом спрашивал:
— Новые стихи есть?
— Есть! — отвечала она и, достав измятую тетрадку, начинала читать написанное минувшей ночью.
Ворон светлел лицом, мягко улыбался, а потом тихо, после долгого молчания, спрашивал: "Тетрадки у тебя есть? А ручка? Что-нибудь еще нужно?"
К следующему разу Лена уже готовила для него рукопись — новые стихи. Он их собирал. Для каких целей — Лена не интересовалась. Просто хотелось думать, что ему эти стихи нравятся.
Иногда в ее голову забредали шальные, потаенные мысли о любви. Тем более смелые и яркие, что сердце Лены по-настоящему пока еще никому не принадлежало. Грезились истории о романтической, необычайной страсти и, конечно, в этих историях именно ее любви добивались свободные, сильные, смелые юноши с волевыми лицами. И тут она делала свой единственный и безукоризненно правильный выбор в жизни…
…А хорошо, что ты на свете есть! Пусть муж чужой ты, и любовь чужая, лелею мысль, а может, просто месть самой себе, себя не уважая: Как хорошо, что ты на свете есть! Закат пылает, яростно багров. Друзья мне хором вслед: "С ума ведь сходит!"… Из-за холодных пиков и бугров моя любовь, как солнышко, восходит! Теперь ей нет порогов и преград, она — всесильна! Так она могуча, что ты стоишь и говоришь: "Я рад! Иди ко мне, пожалуйста, не мучай!" Все это — явь. Да, это все — не сон. Два сердца бьются радостно, Крылато. В выси сердцам трепещет в унисон холодный месяц в серебристых латах… Но вот проходит радость торжества. Любовь попала в черную немилость. Прохладен взгляд. Ладонь, как снег, жестка. И сердце, словно ветка, надломилось! Зачем я так? Ведь ты же муж чужой, И ты — любовь совсем-совсем чужая. Я в чью-то жизнь ненужною межой вторгаюсь и себя — не уважаю! Есть у всего законный свой исход. Как я могла хоть в мыслях — покуситься?! …Растет трава. Огнем цветет восход. И — бронзовое поле колосится…. …И хорошо, что ты на свете есть!Откуда они приходили, эти тревожные, жаркие строки? Что помогало им явиться на свет, что поднимало из небытия?
При всем том, что никакого "его" в жизни Лены не было. Видимо, любить, быть любимой становилось и в самом деле насущным, как потребность дышать…
* * *
Разговор о выписке вести было не с кем — Татьяну Алексеевну Ликуева решительно и властно отодвинула в сторону от всего, что касалось судьбы Ершовой, а Воронин, будучи всего лишь рядовым ординатором, да к тому же еще мужского отделения, вообще никак не мог повлиять на ход событий. А с Гэ-Гэ никаких контактов у Лены так и не было.
После перенесенного воспаления легких она немного окрепла физически, чуть-чуть посвежела, но больничные проблемы для нее никогда не теряли своей остроты, наоборот, с течением времени становились все невыносимее.
И вдруг, совершенно неожиданно, Лену вызывают на консилиум. Снова, как несколько месяцев назад, собрались врачи во главе с Иосифом Израилевичем, и вновь Лена чувствовала себя перед ними экспонатом с некоей выставки: так пристально разглядывали ее люди в белых халатах, так громко перешептывались между собой, отмечая ее бледность и угрюмость…
— Ну-с, как наши дела? — приветливо улыбнулся Лене Шварцштейн и побарабанил пальцами по столу. Ее, что называется, "понесло".
— Ну откуда я могу знать "ваши дела"? А мои дела, знаете, неважнецкие.
— А что такое? — взметнулись черные профессорские брови и застыли над глазами одной толстой, мохнатой гусеницей. — В чем проблема?
— Во всем. Я уважаю и люблю Татьяну Алексеевну и Ивана Александровича, им я верю. Так вот, их обоих от меня отстранили. Видно, решили, что своей добротой они мне ничего, кроме вреда, принести не могут. Мне назначили нового врача — вон сидит Галина Гасановна. Но она не только меня, она себя-то не любит. А я так не могу!
— Ну, знаете, это уж слишком! — вскочила, дернув стулом так, что он завизжал, как попавшая под машину собака, Галина Гасановна. — Я этого слушать не хочу!
— Сядьте, коллега, сядьте! — вдруг властно, как никогда прежде, скомандовал профессор. — Возьмите себя в руки и послушайте! Иногда это бывает полезно… Ну, Елена Николаевна, продолжайте!
Лена от столь неожиданного обращения даже поперхнулась, но тем не менее продолжила:
— Ну, вот… вот. Я знаю, видела в журнале, который дежурные сестры заполняют, что там про меня пишут: неконтактна, замкнута и все такое… Это неправда! А вы, Иосиф Израилевич, дружите с теми, кто вам неприятен? Скорее всего, нет. И никто вас из-за этого в "больные" не зачисляет. А меня почему-то зачисляют! Я домой хочу, домой, вы понимаете? Зачем из меня делают идиотку? Примчались за мной с милицией, схватили, скрутили… Теперь, по вашей милости, и отец мой — в дураках! Эх вы, гуманисты! Ну да, я часто думаю о смерти. Но это вовсе не "навязчивая идея"! Просто мне трудно жить, трудно быть самой собой, а притворяться я не умею. Пока — не умею, — глаза Лены сияли лихорадочным блеском, и она торопилась, торопилась высказать все, что наболело у нее на душе, не давало покоя. — Меня санитарки на сутки к голой кровати привязывали, нагишом. Издевались, как хотели. Да и не только надо мной. Они ведь прекрасно знают, что жаловаться здесь некому. Я вот пробовала Ларисе Осиповне рассказать, что здесь творится, когда врачи по домам разбегаются, так она ведь меня и слушать не захотела. Зачем же, сказала, Леночка, на людей такое наговаривать! Правильно, верить санитаркам, медсестрам — можно, а мне — нельзя, я ведь для вас — только псих, шизофреничка…
Врачи обеспокоенно переглядывались. Но Лену уже невозможно было остановить.
— Ваша работа направлена на то, чтобы в людях все человеческое уничтожить. Вы специально ставите больных в такие условия, когда необходимость вести себя по-человечески отпадает сама собой. Так работали фашистские концлагеря, между прочим! Унижение, унижение, унижение… Я хочу домой, понимаете? Хочу на волю! Один воздух здесь — уже отрава. Я просто погибну, вот и все. Я ведь все-таки человек!
Иосиф Израилевич не сводил с Лены удивленно-озабоченного взгляда. Ликуева пыталась улыбаться. Гэ-Гэ сидела мрачнее тучи, и только тонкие ее губы складывались в иронично-горькую усмешку: нашли, дескать, кого слушать!
— Ай, ай, ай, Леночка, что же ты такое говоришь? — раздраженно пропела, силясь изобразить улыбку, Ликуня. — Иосиф Израилевич и вправду подумает, что мы здесь…
— Ма-ал-чать! — вдруг, багровея, рявкнул всегда столь выдержанный Шварцштейн и, поперхнувшись, закашлялся. Воцарилась тишина. Испугались все, даже Лена, — слишком непривычной была реакция профессора, этого потомственного интеллигента, у которого самым ругательным было слово "непорядок"…
После затянувшегося молчания он сухо кивнул в сторону Ликуевой:
— Прошу прощения, коллеги. Я бы хотел минут пятнадцать-двадцать поговорить с больной наедине. Займитесь пока своими делами, товарищи.
Врачи, подталкивая друг друга, торопливо покинули ординаторскую.
Иосиф Израилевич, попросил Лену, несколько смущаясь:
— Пожалуйста, почитай мне свои стихи. Какие хочешь…
И устало прикрыл глаза, откинувшись на спинку стула. Лена даже растерялась вначале от столь неожиданной просьбы. Но собравшись с мыслями, начала:
Шагать по свету. Улыбаться солнцу. Воспринимать, как дар, и жар, и лед. Смотреть, как в небе солнечном несется и серебрится кроха-самолет. Дышать туманом, листопадом, грустью, сидеть и слушать в темноте прибой да птичьи клики: словно в небе гусли запели чисто, солнечно и грустно… Все это — жизнь, любовь моя и боль.Читая стихи, Лена преображалась — светились глаза, движения становились плавными и мягкими, какая-то внутренняя свобода брала верх в этом колючем человеческом детеныше, запутавшемся в собственной жизни…
Солнце, бури, ярый ливень — все испытано! Словно конь нетерпеливо бьет копытами. Сердце яростно стучит, к небу просится. Так и хочется в лучи, в солнце броситься! Ты расти, трава, расти, Землю радуя! Ты прости меня, прости, в небе радуга! Не огонь мне дан навек, а лишь тление. Я ведь только человек, к сожалению. Потому я так горю: "К черту тление!"… Потому и говорю: "К сожалению"…Когда Лена замолчала, выжидательно поглядывая на Иосифа Израилевича, тот задумчиво спросил:
— Кем же ты хочешь быть? Только — честно.
— Журналистом… И стихи хочу писать…
— Значит, ты хочешь, ко всему прочему, быть еще и поэтессой?
— Да!
— Ну, что ж… хвалю за дерзость.
И опять — долгое-долгое молчание, отблески сомнения на лице, тень смутного опасения. Наконец:
— Ну, хорошо, выпишем мы тебя… У тебя ведь уже три с лишним года прошло по больницам. Ты отдаешь себе отчет, насколько трудно будет тебе адаптироваться? Придется начать с нуля. И потом, давай смотреть реальности в глаза… Репутация человека, побывавшего здесь на излечении, весьма однозначна в нашем диковатом обществе. Помощи тебе ждать неоткуда, а вот сложностей, неприятных неожиданностей может быть с избытком. Ты знаешь, какие тебе потребуются силы?
— Догадываюсь.
— Но на выписке все-таки настаиваешь?
— Настаиваю.
— Ну, а ты хоть понимаешь, как ты меня подведешь, если я сейчас порекомендую докторам тебя выписать, а ты через какое-то весьма непродолжительное время снова окажешься здесь?
Лена, вскочив со стула, умоляюще прижав к сердцу руки, торопливо, словно боясь, что ее прервут, не дослушают, заговорила:
— Я вам честное слово даю, чем угодно клянусь, что никогда сюда больше не попаду! Я работать пойду, пусть на самую черную работу, как угодно, я на все согласна. Только не здесь… Ну, прошу вас, умоляю, помогите мне!
Иосиф Израилевич, видно, решившись на что-то, улыбнулся:
— Вот что… Ты сейчас пойдешь в отделение, посидишь, успокоишься, подождешь еще недельки две-три, пока уладятся твои бумажные дела. А потом пойдешь домой. Только постарайся это время быть на высоте, не привлекай к себе ненужного внимания. Ты понимаешь, о чем я говорю?
А через две недели случилось непредвиденное… За Леной в больницу пришла мать, ей позвонили по телефону на работу. Лена вышла к ней за одеждой. И мама между прочим сказала, что сейчас должны вынести ее документы — ей, оказывается, оформили пенсию по инвалидности второй группы, как инвалиду с детства.
— Вот это да! — задохнулась от возмущения Лена. — Я теперь, значит, официально признанная дура? С детства? Инвалид умственного труда?
— Ох, дочка, — вздохнула мама, — разве я эти дурацкие законы придумываю? Меня ведь никто не спрашивал, мне только что об этом сказали, в известность поставили, вот и все.
Вышла старшая сестра больницы, вынесла матери документы. Лена тут же перехватила их:
— Та-ак, вот значит, что они тут придумали! Бумага на опекунство — мама, оказывается, теперь еще и опекун ее, поскольку она, ее дочь, "страдает хроническим психическим заболеванием в форме шизофрении". Ага, а вот и документ об установлении ей пенсии в размере шестнадцати рублей как инвалиду с детства второй группы.
Не помня себя от жгучей обиды, Лена разодрала все бумажки в клочья и бросила их старшей сестре: "Вот вам ваша пенсия".
Ну, а дальше — все понятно: несколько санитарок в мгновение ока оказались в "предбаннике", скрутили ей руки, и, не успев по-настоящему понять, что же произошло, она оказалась снова в первом отделении, в надзорке…
Господи, да что же это за доля ей такая выпала? Как только она стала подрастать, как припев к какому-то гимну, она только и слышала: "Надо уметь жить! Надо уметь жить!"
Она не умеет жить и не хочет этому учиться. Она понимает, что и с психушкой-то никак не может расстаться потому, что уж слишком она белая ворона, слишком у нее все не так, как "у людей". Иногда, в особо смутные и тяжкие часы жизни ей хочется, закрыв глаза, наплевав на всех и вся, стать как большинство, воинствующее и процветающее. Попытаться приучить себя к виду чужой боли, беды, к чужому унижению и несчастью, и глядишь, все сразу образуется, станет на свои места. Но она с возрастом все отчетливее понимала: не получится! Теперь уже — не получится! Она проклинала свою натуру, не умеющую "быть гибкой", не желающую "ладить с людьми", но поделать с собой ничего не могла.
Ну, кой черт ее дернул разорвать эти проклятые втэковские бумажки. Плюнула бы, сделала вид, что ничего особенного не происходит, а дома — хоть в туалет бы их использовала, кому какое дело! Эх, эта взрывная, во многом повторяющая отца, натура!
Глава 8
…И все-таки Лену выписали. Благодаря заступничеству Шварцштейна, Татьяны Алексеевны и Ворона. Восстановив порванные документы, через два месяца, в разгар лета, ее отпустили домой.
Несколько дней она как шалая бродила по огороду, по двору, не высовывая носа за ворота. Ее истосковавшиеся по работе руки хватались за уборку, стирку, приготовление обеда, за прополку грядок, и от домашней загруженности она чувствовала только радость.
Отец после выписки из больницы почти не пил, а если и случался грех, немедленно укладывался спать, хотя долго не засыпал, тяжело вздыхал, всматриваясь в темноту воспаленными глазами. О чем он думал, что вспоминал, о чем сожалел? Этого уже никто никогда не узнает…
Лена собиралась устраиваться на работу. Дело было не только в самоутверждении, но и в чем-то гораздо более важном: необходимо было понять, увидеть, как ее встретят на любом, каком угодно, предприятии, что скажут, как отнесутся.
И вот ранним утром, торопясь, волнуясь, заранее подготавливая себя к очень возможной неудаче, она тщательно оделась, причесалась, привела себя в порядок. Отец, сидя на корточках у раскрытой двери, внимательно следил за ее сборами.
— Доча, — тихо позвал он. Лена вздрогнула. — Доча, сядь-ка сюда, рядышком, давай-ка, моя хорошая, поговорим…
Лена присела на табуретку около отца.
— Дочка, не уважаешь ты себя. Совсем не уважаешь!
— Как это?
— Тихо, доча, тихо! — поморщился отец. — Послушай меня… Понимаешь, люди чувствуют друг друга, как собаки. Вот ты собираешься сейчас и в свои силы сама не веришь. Даже я это вижу! А так нельзя, это же чувствуется… Помни, что ты ничуть не хуже других. Помни, слышишь? Уважай себя! Свою фамилию уважай. Я себя потерял вот, потому и конец мне скоро. Не теряй себя, дочка…
— Отец! — вскинулась Лена. — Что ты говоришь?
— Тихо, доча, тихо! — грустно улыбнулся отец, и совсем седая его голова вздрогнула. — Давай без истерик, моя хорошая. Я ведь пустую жизнь прожил. Давно думаю об этом, уж голову сломал, думаючи… Я ведь отлично знаю, что ни у тебя, ни у матери ничего хорошего в жизни из-за меня не было. Молчи, молчи! — предостерегающе поднял руку отец. — Что уж там, сам все знаю… Мне все равно не жить. Только ты ничего не бойся, не расстраивайся, если что случится. Я вам с мамкой должен руки развязать, вот что…
— Перестань, — крикнула Лена, вскочив с табуретки. — Ты что, отец, говоришь-то! Мы, знаешь, как еще заживем, нам завидовать будут! Только не говори, не говори, пожалуйста, так…
Отец вздохнул и вышел на улицу…
Какой странный, какой неожиданный разговор! И именно в такой день, когда нервы у Лены натянуты до предела, когда, можно сказать, вся ее дальнейшая судьба решается. С ума отец сошел, что ли?… Хотя, как сказать… Он уже несколько месяцев не работает. Просто не ходит на работу и все. Ведь по тем документам, что он получил в больнице, следует, что работать шофером он не может, это — общее положение для всех, кто когда-либо лечился на психушке.
Почти полтора месяца отец ничего не ест, если, конечно, не считать едой то стакан пустого чая, то глоток водки. Говорит, что внутри у него все горит огнем. Раз попробовал сходить к врачу, да и зарекся: сказали, что, мол, поменьше пьянствовать надо, тогда и болеть ничего не будет. Отец повернулся и вышел. С тех пор не терпит даже упоминания о врачах. Но вообще-то странные вещи он говорит! Надо с мамой посоветоваться…
Размышляя об этом на ходу, Лена собрала свои нехитрые документы — паспорт, пенсионное удостоверение — и пошла. Соседка посоветовала ей обратиться в районный Дом культуры, там ее дочь киномехаником работает, так вот она говорила, набирают сейчас учеников киномеханика.
Лену, конечно, совершенно не интересовала эта профессия, но как твердила ей в последнее время мама, "нужно хоть за что-то в жизни зацепиться".
В кабинете директора Дома культуры стояла тишина запустения. Сам директор — худющий, длинный человек с маленькими острыми глазками, с недоверчивым, въедливым выражением лица листал пачку каких-то бумаг, вчитывался в написанное и беспрерывно раздраженно хмыкал. У этого директорского "Х-хы!" было столь характерное звучание, что Лене хотелось немедленно, сей же момент, покинуть кабинет, но ее документы уже лежали на столе. Секретарша, девушка чуть старше Лены, почтительно наклонившись над директорским плечом, угодливо хихикала, то и дело взглядывая в директорское лицо…
Лена уже минут десять наблюдала за этим интересным дуэтом, стесняясь напомнить о себе, и только переминалась с ноги на ногу у входа. Наконец, когда она уже готова была взбунтоваться против столь наплевательского к себе отношения, директор поднял голову от бумаг.
— Та-ак… Так вы по какому ко мне делу?… — спросил он, перекидывая с места на место ее документы.
— Я… видите ли, мне сказали… Мне сказали, что у вас набирают учеников киномеханика, — кое-как выговорила Лена, совершенно теряясь под острым директорским взглядом и чувствуя, как мгновенно влажнеют ее ладони, а голос предательски дрожит. Увы, опыта общения с начальниками даже столь микроскопического масштаба у нее совершенно не было.
— Учеников киномеханика мы действительно набираем, — важно проговорил, откидываясь на спинку кресла, директор. — А почему вы именно к нам решили прийти? И какое у вас образование? И, кстати, где вы раньше работали?
Лена потерянно молчала. Тем более что эта девица, директорская секретарша, так и буравила ее хитрыми юркими глазенками.
— Я… — наконец с трудом начала она, — я, понимаете, в больнице долго была… Очень долго…
— В какой больнице? И как это — "долго"?
— Четыре года… в психоневрологической…
— Что-о?! — приподнялся в своем кресле директор. — Четыре года в психоневрологической больнице?! И — к нам?! Работать?!
— Я, мне… у меня… В общем, да, я была в психбольнице, — с мужеством отчаяния повторила Лена. — Мне дали вторую группу инвалидности. Но я не больна. Понимаете, все так сложилось….
Глядя на вытягивающиеся лица директора и секретарши, она поняла, что дальнейший разговор бесполезен. Им уже "все ясно". Одно только слово "психбольница" решило сейчас все. Бесполезно что-либо объяснять, обязательно сработает стереотип: "В дурдом зазря не отправляют!"…
Шагая к троллейбусной остановке, она с запоздалым сожалением подумала, что все-таки отец ее сегодня утром был прав, когда просил ее уважать себя, свою фамилию, не унижаться перед всяким чучелом. Чего она, в самом деле, так испугалась? И зачем ей было рассказывать про психбольницу?… Хотя, с другой стороны, как же объяснить, куда из ее жизни делись четыре года после окончания восьмого класса, где она была, что делала?…
Подходя к дому, Лена уже почти весело думала, что человек, утверждающий, что плохой опыт — тоже опыт, пожалуй, прав.
Распахнув калитку, мурлыча под нос какую-то мелодию, она подошла к крыльцу. Странно: входная дверь была прикрыта на замок, но он болтался на дужке с висящими в нем ключами, и было непонятно, что это значит. Где же отец?
Лена вышла в огород — отца там не было. Во флигеле тоже пусто. Что за чертовщина! Непонятное чувство тревоги все усиливалось. Лена беспокойно заметалась по двору. И тут ее взгляд упал на летнюю кухню… Дверь была прикрыта изнутри, и там что-то такое виднелось… что-то такое, от чего ей стало трудно дышать и захотелось во весь голос закричать "ма-ма-а!"…
Осторожно, ступая почему-то на цыпочках, она приблизилась к дощатой двери, рывком распахнула ее и замерла…
Отец был высок. А потолок летней кухни низок. И отец, надвинув себе на шею петлю, встал на колени. Да так и застыл в этой позе, уже посинев. На его лице застыла странная гримаса, таким он выглядел, когда был пьян и зол. На кухонном столе стояла непочатая бутылка водки, рядом лежало аккуратно снятое с руки обручальное кольцо, и лежал клочок белой бумаги, на котором прыгающими, изломанными буквами было выведено:
"Милые мои, родные Лена и Фенечка! Простите, что все так кончается. Я устал, больше не могу, В моей смерти прошу никого не винить. Дочка, прости своего отца. Береги мать. Жизнь моя прошла зря, это очень больно.
Ваш муж и отец."
На улице на солнечном припеке жужжали мухи, и некоторые из них уже ползали по вздувшемуся, синему отцовскому лицу, с высунутым прикушенным кончиком языка. Мухтар, выглядывая из своей будки, дрожал, поджав хвост, и поскуливал.
Мир совершенно опустел, обезлюдел, потерял краски. На всю огромную землю осталось одно отцовское лицо, совсем не страшное, родное…
Соседка после рассказывала, что, услышав невыносимый собачий вой из их ограды, открыла калитку и прошла во двор. А заглянув в летнюю кухню, увидела, как Лена все пытается поставить отца на ноги, приподнять, приговаривая: "Папа, папочка, встань, пожалуйста, пойдем домой! Встань, папка…"
Лена пришла в себя от дикого визга перепуганной насмерть соседки. Схватив Лену за руку, она потащила ее прочь:
— Нельзя его трогать, деточка, нельзя… Милицию нужно вызывать, а то потом затаскают вас.
Оставив ее под присмотром своей дочери, соседка куда-то бегала звонить, вызывала с работы мать. А Лена, оцепенев, сидела, куда ее усадили.
…Значит, отца больше нет… А кто же тогда стоял на коленях в летней кухне, стылый, как мраморная плита, такой тяжелый и неподвижный? Отца, значит, нет… А кого же тогда Лена так боялась и ненавидела в еще совсем недавней своей жизни? И кого же она сейчас жалеет так, что болит сердце?…
Куда же уходит человек, чем становится? Во что превращаются его невыплаканные слезы, нерожденные дети, неспетые песни, желания, мечты?
Болела голова… И такая вдруг невыносимая усталость навалилась на нее, что едва соображая, где она, Лена кое-как добрела до дивана и провалилась в беспамятство…
Проспала почти сутки. Потом соседки долго рассуждали о ее "бесчувственности", а Лена понимала: не будь этого спасительного провала в сон, она на самом деле сошла бы с ума, натворила бы каких-нибудь жутких вещей…
Отца увезли на судебно-медицинскую экспертизу, и целую неделю тело не разрешали взять домой. Погода установилась жаркая, и не трудно себе представить, что произошло, когда его, наконец, привезли домой.
Лена долго ходила вокруг дома, не решаясь войти. Вышла мать, оглядываясь по сторонам, зашептала:
— Леночка, ну чего ты боишься? Не надо бояться… Отец любил тебя, дочка… А то уж перед людьми стыдно! Зайди, покажись хоть.
Опять это — "стыдно перед людьми"! Все дни вокруг внимательные, изучающие, подкарауливающие взгляды, все дни — жизнь как в стеклянной клетке, напоказ. Венки ли заказанные привезли, гроб ли в ограду втащили, отцовские фотографии ли для памятника перебирают, — везде эти взгляды со всех сторон, на самом ли деле горюешь? и как сильно? плачешь ли? а если нет, то почему? а может, просто не любила отца, не жалеешь его?…
Иной раз начинало казаться, что затянувшиеся похоронные дни завершатся каким-то страшным взрывом, и тогда Лена изо всех сил старалась быть "как все", "как люди", выглядеть "нормальной". И вот теперь нужно идти к отцовскому гробу…
Наконец, насмелившись, она вошла в дом.
Внимательно, долго, не отрываясь, вглядывалась в отцовское лицо… Бедный, бедный отец, что же пришлось тебе перенести в своей душе, прежде чем эта всепоглощающая боль придавила тебя к твоему последнему земному пристанищу, прижала к груди крест на крест сложенные руки, налила синевой исстрадавшееся лицо?…
Они вышли с матерью во двор. Спокойствием, всепониманием и мудростью дышало бескрайнее звездное небо, для которого их с матерью горе было немыслимо малой, микроскопической величиной…
— Когда же все это кончится? — простонала Лена, падая на землю и стараясь подавить рвущиеся рыдания.
— Ну-ка, дочка, успокойся! — сдержанно и властно проговорила мать. Как-то даже деревянно-сухо… Все эти дни она незаметно следила за дочерью, не спускала с нее глаз, боясь, как бы не пришлось потерять и ее.
— Слышишь, Лена? Успокойся. Давай-ка поговорим. Я ведь тоже, дочка, не испытываю радости, что чужие люди в нашем доме хозяйничают. А ничего не сделаешь. Такой обычай: покойник в доме — двери настежь… Доченька, родненькая, а мне-то каково? Ты меня-то хоть пожалей! Ты посмотри на этих баб, они ведь так и ждут, какой ты тут фортель выкинешь… Возьми себя в руки, вида никому не показывай, что у тебя уже сил нет. Что бы ни было, сцепи зубы и молчи! Я прошу тебя, доченька, очень прошу…
Лена поняла, что нет у нее права на срыв, на малодушие и истерику. И она молчала и терпела, молчала и терпела, кто бы ни приходил, что бы ни говорил, что бы ни делал.
Отцовский гроб был завален цветами, но сидеть около него было уже невозможно, даже видавшие виды старухи, не выдерживая, зажимали носы и выскакивали на улицу. А Лена — сидела. Назло всем. Все вспоминала, вспоминала…
Как она, совсем еще кроха, ходила с отцом на первомайскую демонстрацию, и какое это было счастье — проплыть на отцовских плечах мимо кумачовых трибун…
Как глубокой осенью ездили с отцом за грибами в лес, и сильный, молодой, красивый отец кричал: "Ленка, тебя грибы окружают, спасайся!" И она хохотала на весь лес, мчалась к отцу, собирая по дороге грузди и рыжики.
А как весело всем небольшим семейством работали весной в огороде, сажали картошку! Лопата в отцовских руках ходила играючи, Лена с матерью только успевали картофелины в лунки забрасывать, а отец покрикивал: "А ну-ка, копуши, веселей, веселей!"
А как отец любил кошек, собак, вообще всякое зверье! У других ребят вечная беда была дома — не разрешали родители брать щенков и котят, и упрашивать было бесполезно, а отец сколько раз сам привозил домой подобранных где-то зверенышей…
Заныл у ворот похоронный оркестр, и процессия двинулась по улице. И тут случилось нечто странное. Сознание Лены как бы раздвоилось: было горько, больно, страшно, было, безусловно, очень жалко отца, так жалко, что готова она была лечь за него в могилу, и в то же время за каждым своим шагом, за каждым движением, словом, жестом она как бы наблюдала со стороны, как бы оценивающе прикидывала, что скажут по этому поводу люди, что они подумают… Это было страшнее любых похорон!
На кладбище все закончилось быстро и чрезвычайно буднично. Еще раз рявкнули трубы изрядно хмельных музыкантов, нечто косноязычное произнес товарищ по работе — все ж таки, руки на себя человек наложил, хвастаться тут нечем…
Мать только тихо сказала: "Прости ты меня, родной! Спи спокойно". А Лена ткнулась отцу куда-то в ноги, захлебнулась слезами и все тихо, молча, без звука…
Застучали молотки, сухо прошуршали комья земли, брошенные в могилу. Замелькали лопаты…
Вот и осталось от отца всего-то — серый могильный холмик, да сиротски-скромный памятничек из мраморной крошки… Нет отца. Ушел. Навсегда.
* * *
После смерти отца, казалось, остановилось время. Мама ходила на работу, возвращалась домой… Лена исправно домовничала, готовила к приходу матери что-нибудь вкусненькое, возилась в огороде, стирала, но в душе все равно оставалась какая-то черная яма, ничем незаполнимая пустота. Никого не хотелось видеть, никуда не хотелось выходить — ничего не хотелось.
Незаметно подошла осень. И настал день, когда, выйдя утром на улицу, Лена почувствовала, что в мире что-то неуловимо изменилось. Будто после тяжкого болезненного кризиса пошло дело на поправку. А ночью впервые за последние несколько месяцев к ней пришли стихи.
Лена и мама стали заметно добрее друг к другу, внимательнее, бережнее: ведь у них в жизни никого больше не осталось. Отца вспоминали почти поминутно. Не могли простить себе, что только после смерти узнали, насколько он был обречен.
При вскрытии выяснилось, что у отца был запушенный рак желудка с метастазами во многих органах. Как сказал патологоанатом, вряд ли бы он еще протянул полторы-две недели, умер бы просто от истощения. Этот хирург из морга был поражен, что у человека в таком состоянии не было пенсии по инвалидности, и он даже нигде не лечился. Судя по всему, его мучили страшные боли, и непонятно было, как он их терпел. Так вот и терпел — запивая водкой… Эх, ничегошеньки нельзя в жизни вернуть назад!
…Уже в конце сентября, дописывая мелким убористым почерком в еще одну общую тетрадь несколько десятков новых стихов, Лена как-то неожиданно и буднично сказала себе: "Пойду-ка я завтра в редакцию"…
Видимо, это решение созрело давно. Несколько лет назад, когда она еще училась в школе, стихи ее печатались в областных газетах, она начинала юнкорить на радио, телевидении. Потом стало не до прессы.
Утром Лена встала вполне спокойной и, как ни странно, уверенной в успехе своего предприятия. Впервые за много дней подошла к зеркалу, тщательно причесалась, внимательно вглядываясь в свое отражение… Ну, что же, далеко не красавица, конечно, но у нее светлое тонкое лицо, ясные серые глаза и, кажется, вполне внушающий доверие облик. Как встретят ее в редакции областной молодежной газеты? Понравятся ли там ее стихи? Думать об этом не хотелось: пусть будет, что будет!
На шестой этаж солидного серого здания в центре города, где помещалась редакция молодежки, она поднималась пешком. Лифт для этого не годился: слишком коротким, легкомысленным, что ли оказывался путь.
С замирающим сердцем шла она по коридору, вглядываясь в таблички на дверях кабинетов. Так, вот это, кажется, именно то, что нужно, — "отдел литературы и искусства".
Куда-то несшийся на всех парах по коридору парень с пачкой исписанных листов в руке, приостановившись, спросил:
— Вы к кому?
— Да я не знаю, — смутилась Лена. — Я тут вот стихи принесла…
— Стихи? Тогда ко мне! Прошу! — и, галантно открыв перед Леной дверь, застыл в сторонке.
— Садитесь! — плюхнувшись в потертое кресло, радушно предложил парень. И представился:
— Меня зовут Сергеем, фамилия моя — Кошкин. Но вы не бойтесь: я, хоть и Кошкин, молодых поэтов, как мышей, не ем…
Лена улыбнулась. Ей сразу по душе пришелся этот веселый, общительный парень. Невысокого роста, веснушчатый, с улыбкой от уха до уха, белозубый, он невольно вызывал на откровенность.
Лена решилась…
— Знаете, я бы хотела, чтобы прежде, чем мы с вами начнем разговор, вы почитали эти стихи. Ну хотя бы некоторые, — и протянула Сергею толстую тетрадь.
Кошкин углубился в чтение… Время от времени он хмыкал, поднимая на Лену удивленный взгляд.
Наконец был перевернут в тетради последний листок.
Лена сидела, боясь поднять глаза. Ну, что он ей скажет, этот рыжий парень в клетчатой рубахе с распахнутым воротом? К чему приговорит?
А Сергей молча размышлял, барабаня пальцами по столу. Молчание затягивалось.
— Здесь — все стихи ваши? — неожиданно спросил он.
Лена обиженно вздернулась:
— А чьи же еще? Мои, конечно! Неужели я вам чужие стихи потащила бы?
— Таскают и чужие… Да не кипятись ты, не кипятись! — неожиданно перешел на "ты". — Я ж не о тебе… Просто, знаешь, стихи у тебя хорошие. И есть даже очень хорошие! Честное слово! — добавил он и засмеялся, увидев, как недоверчиво вытянулось у Лены лицо. — Точно говорю! Можно, конечно, в твоих виршах блох наловить, знаешь, сколько? — Да ведь не в блохах дело! Я ведь все наши поэтические дарования вроде бы как наперечет знаю, уж такая у меня работа, а вот о тебе — никогда не слышал. Ну, рассказывай, в каких ты подпольях от литературной славы скрывалась?
Лена еще раз замешкалась на миг: что рассказывать? Правду? Мол, так и так, я тут несколько лет на псишке отбыла, а теперь вот решила несколько изменить жизненную ориентацию, в литераторы податься?… Ну а врать — какой смысл?
И она начала рассказывать о себе, о жизни своей нескладной… Слушал Кошкин, буквально не шелохнувшись. Сидел и смотрел прямо в ее глаза. Лене боязно было только одно: а вдруг все-таки не поверит?
Поверил… Встал, походил по кабинету, засунув руки в карманы штанов. Постоял у окна, глядя, как в типографии разгружают машину с тяжелыми рулонами бумаги. Снова пошел кругами по комнате… Наконец, остановившись перед нею, в упор спросил:
— Ну, а что ты сейчас делать собираешься? Вот в самом ближайшем будущем? Как свою жизнь дальше-то планируешь?
Она, вся вспыхнув, пожала плечами:
— Я и сама не знаю… Боюсь уже планы строить…
— Хо-ро-шо… — протянул Кошкин. И опять о чем-то призадумался.
— Слушай, а ты не хотела бы поработать в нашей редакции? Для начала — пока курьером, это совсем не трудно. А дальше будет видно.
Лена, потеряв от неожиданности дар речи, только хлопала глазами. Наконец проговорила:
— Я — к вам? В редакцию… работать? Меня к вам возьмут?
Кошкин расхохотался:
— Ну, это уж моя забота! Возьмут, возьмут… Значит, так давай договоримся: ты сейчас иди домой, редактора сегодня уже не будет, его на бюро обкома комсомола вызвали. Я с ним завтра с утра поговорю. А ты с документами приходи часикам к одиннадцати, хорошо? Только не опаздывай! Да, и еще хочу у тебя попросить: может, ты мне оставишь на денек свою тетрадочку? Хочется еще раз почитать, повнимательнее.
— Да берите! — взмахнула рукой Лена. — Берите, читайте сколько нужно.
И, как на крыльях, помчалась домой… Что-то прямо сказочное, неожиданное какое-то везение! Так не бывает…
В ответ на радостное сообщение дочери мать предпочла отмолчаться. Видно, не очень-то ей верилось, что среди пишущих нашлись люди, которые поверили в способности дочери, оценили их.
После смерти мужа быт их стал налаживаться. Началась жизнь, о которой они не могли даже мечтать еще несколько месяцев назад. В принципе, она ничего бы не имела против того, чтобы дочь оставалась дома — пусть занимается домашним хозяйством, пишет стихи, читает… Ей были чужды литературные увлечения дочери, но она относилась к ним с уважением и понимала, что Лена — другая, не такая, как ее мать с отцом.
И, конечно, она никак не была согласна с врачами, что ее увлечение поэзией — "болезнь". Увлечение, слабость — пусть так, но какая же болезнь?… Но то, что ее в редакции хорошо приняли, может статься, только к новому горю. Сколько вокруг злых и недоброжелательных людей! Один — пожалел, другой — обидит… Нет, сидела бы лучше дочка дома! Она будет зарабатывать на их жизнь, дочка пусть будет при ней. Слава богу, ни в какие компании, ни на какие гулянки ее не тянет. А устроится на работу, еще неизвестно, какие отношения с незнакомыми людьми сложатся. Лена ведь — копия отец, чуть что — и уж вспыхнула, не остановить. С ней очень сложно, ни малейшей фальши, никакой условности не терпит, все ей в чистом виде подавай — чтоб правда так правда была, любовь так любовь. Никаких компромиссов не признает. Советы почаще молчать, не конфликтовать с окружающими, стараться понять людей воспринимает как оскорбление. Потому и неприспособленная она к жизни…
Так думала мать, любуясь радостным, возбужденным лицом дочери, но ничего ей не говорила. Пусть решает сама, двадцатый год человеку…
* * *
В назначенный час она пришла в редакцию. Кошкин уже ждал ее, и, едва поздоровавшись, тут же потащил в редакторский кабинет.
— Аркадий Иванович, — представился Лене редактор. Она, неожиданно для самой себя, столь же официально бросила:
— Елена Николаевна Ершова, — и пожала протянутую редактором руку.
— Сергей сказал мне о вашем желании поработать у нас курьером. Я правильно его понял?
Лена согласно кивнула головой.
— Отлично. Давайте вашу трудовую книжку.
— А… у меня ее нет… — растерялась она.
— Нет?… Ах, да! Ну, значит, заведем мы вам эту книжку. Пишите заявление о приеме на работу.
— Ну, что ж, — сказал на прощание Аркадий Иванович, — выходите завтра на работу! С вашими обязанностями вас познакомит Сергей.
Обязанности были нехитрыми: утром получить на почте редакционную корреспонденцию, подшить полученные газеты, экземпляры "Комсомольца" разослать в несколько адресов. Ну, и зарегистрировать в специальном журнале все полученные письма, завести на них учетные карточки, сделать в конце месяца гонорарную разметку. И еще подсчитать строки опубликованных материалов — кто из сотрудников сколько выработал. Вот и все. Впрочем, Лену в благоговейный трепет повергали одни только словосочетания: "гонорарная разметка", "регистрация почты’’, "работа с письмами".
Домой она летела как на крыльях. Едва дождалась маминого возвращения с работы.
— Ма, — бросаясь ей на шею, — меня приняли на работу! Курьером. Завтра выходить!
Мать поцеловала Лену в макушку, неожиданно расплакалась.
— Ты чего это? — обескураженно спрашивала Лена, заглядывая ей в глаза. — Ну, ты что? Ты не рада?
— Рада, дочка, рада. Не сорвись только. Держись, моя хорошая…
И началась ее рабочая жизнь…
В редакции к Лене с самого начала отношение сложилось дружеское, чуть ли не родственное. Она все не могла никак понять, рассказал Сергей ребятам о ее жизни или нет, только к ней никто не приставал с расспросами, обращались к ней, как к младшей сестренке.
Недели через две, после того как Лена, дрожа от радости, принесла домой свои первые заработанные деньги — сорок пять рублей с копейками, Сергей, как бы между прочим, сказал ей:
— Лена, подготовь к завтрашнему дню подборку своих стихов. Я занимаюсь тут очередным выпуском литературного клуба, так что давай…
Конечно же, на следующее утро на Сережином столе лежала рукопись. В ближайшее воскресенье вышел "Комсомолец" с "Литературным клубом" на целый разворот. Замирая от счастья, Лена читала и перечитывала: пять ее стихотворений отобрал Сережа для публикации. А над стихами — крупным шрифтом ее имя — "ЕЛЕНА ЕРШОВА".
Она притащила домой чуть ли не двадцать экземпляров газеты со своей первой публикацией… В ней проснулась лихорадочная потребность самоутвердиться, самооправдаться, доказать, что она чего-то стоит, на что-то способна.
Вторая группа "инвалидности с детства", с которой она ушла из психушки, напоминала о ее "неполноценности" каждый месяц, когда приходило время получать эти жалкие шестнадцать рублей. Она пробовала не ходить за этой унизительной подачкой на почту, получилось еще хуже — на следующий месяц почтальонша явилась домой, предварительно оповестив соседей, что вот, мол, бедная, такая молоденькая, и вторая группа инвалидности!.. Пришлось ходить каждый месяц в отделение связи.
Через несколько дней после первой публикации, замирая от неуверенности, Лена положила на стол перед Сергеем свою первую послебольничную заметку для газеты — зарисовку с натуры о всеобщем равнодушии людей, общественной трусости, бескультурье и наплевательстве по отношению друг к другу. За основу взяла недавний случай, больно поразивший ее. В автобусе несколько оболтусов издевались над стариком-инвалидом, а пассажиры сидели, уткнувшись кто в газетку, кто в окно, делая вид, что никто ничего не видит и не слышит. Она, не выдержав, подошла к нагло ржущим молодчикам и спросила, дрожа от ненависти:
— Вы со всеми такие храбрые? Или только со стариками беспомощными?
Хулиганы в полном недоумении уставились на нее. Уверенные в полной безнаказанности, они были явно озадачены.
— Сэмба, — лениво спросил здоровенный парень у своего, видимо, предводителя, — врезать этой дуре по рогам?
— А пошла-ка она… — лениво ответил Сэмба, и грязная ругань потонула во взрывах наглого хохота. Тогда, не помня себя, Лена изо всех сил дала этому Сэмбе пощечину.
Автобус затих — будто обмер, ожидая теперь уже самых трагических событий. И неизвестно, чем бы закончилась для Лены эта поездка в общественном транспорте, если бы не поднялись со своих мест трое мужчин в рабочей одежде и, ни слова не говоря, спровадили "добрых молодцев" в распахнутые двери автобуса. Все произошло так неожиданно, хулиганы не успели в себя прийти. Автобус тронулся дальше.
Но почему все-таки основная масса пассажиров предпочла не вмешиваться? Почему люди решили, что это "их не касается"? Вот о чем Лена и порассуждала в своей заметке.
— Слушай, старушка, — задумчиво произнес Кошкин, — а ведь тебе всерьез нужно заняться журналистикой!
— Да ну, куда мне! — отмахнулась Лена. — Это я от обиды за людей написала.
— Ну а настоящая-то журналистика, по-твоему из чего произрастает? Вот как раз из тех случаев, когда ты не можешь отмолчаться. Я тебе дам задание. Как настоящему газетному репортеру.
— Ой, Сережа, я не справлюсь!
— Ладно тебе, хватит пищать. У нас трое сотрудников в отпуске, поэтому всем приходится работать за себя и еще немножко "за того парня". Давай, помогай и ты родному коллективу.
Когда прошли в газете несколько ее репортажей, заметок, она почувствовала вкус газетного слова, журналистской работы. Сережа, не уставая, хвалил ее:
— Ну, старушка, ты прирожденный журналист!
Слышать это было приятно. Ее материалы уже несколько раз отмечали на редакционных летучках. И не однажды она с некоторым удивлением вспоминала, как, разговаривая с профессором Шварцштейном о планах на будущее, она, как нечто само собой разумеющееся, говорила ему, что хочет заниматься поэзией и журналистикой. Вряд ли она сама верила в ту пору, что это для нее — вполне доступное, посильное дело.
Неудивительно, что Лена все больше и больше привязывалась к редакции, к каждому из своих сотрудников.
Фотокорр Игорешка, вечно торопящийся, но всегда успевающий лишь в самый последний момент. Лариса Лисовик, заведующая отделом учащейся молодежи, молодая женщина с лицом десятиклассницы, тем не менее человек очень чуткий и понимающий. Ответственный секретарь газеты Эмиль Газарян — веселый, заводной парень с неистощимым запасом анекдотов "армянского радио", преданный газете, как семейному клану. Корреспонденты Миша Сергеев, Ольга Рыбко — ребята, для которых "надо" — важнейшее из слов, и не было, казалось, силы, способной выбить их из колеи, когда они готовили срочный материал в номер. А "несрочных" материалов, насколько Лена могла понять, у газетчиков не было…
А бесконечные журналистские байки! Иногда Лена искренне жалела, что не успевает записать все, о чем рассказывают ребята. Каких только историй не случалось в их репортерской жизни. Да и сама она стала наблюдательней.
Как-то раз, принеся Газаряну очередной номер газеты с гонорарной разметкой, Лена оказалась свидетельницей удивительного разговора. У Газаряна сидел посетитель — высокий мужчина в черном костюме, средних лет, с серьезным, даже благообразным выражением лица.
— Вы должны мне помочь! — настойчиво говорил мужчина. — Кроме вас, я уж не знаю к кому идти…
— Ну, расскажите поподробнее, что у вас произошло. Лена, посиди минутку, тут надо с товарищем разобраться…
Лена присела на свободный стул, поневоле прислушиваясь к разговору.
— У меня беда! — продолжал посетитель, картинно заламывая руки. У меня сегодня умер брат. Мы с ним держали поросят. Шесть штук. Один поросенок сегодня же утром подох, второй подыхает. Помогите, пожалуйста, получить справку от ветврача. Пропадет ведь мясо! Поросята здоровые, это жена просто обкормила их…
— Простите, а… ваш брат? — недоумевающе вмешалась Лена, не выдержав.
— А? — обернулся к ней посетитель. — Брат? А что брат? Похороним. А вот мясо — пропадет…
Лена выскочила из кабинета, как ошпаренная.
Кошкин, которому она рассказала об этом эпизоде, усомнившись, человек ли это, только невесело усмехнулся: "Не сомневайся, человек! Нормальный советский обыватель".
Однажды в редакцию пришел мрачный пенсионер богатырского вида. Он требовал защиты. На вопрос: что случилось, рассказал:
— У меня на даче выросла черемуха. Я дурак ее, когда-то возле забора посадил. Вымахало дерево и половина ветвей на соседский участок свесилась. Если бы соседи порядочными людьми были, они бы чужую ягоду не трогали. Но их пацаны все время эту черемуху дерут. Однажды я обозлился — смотрю, они опять на черемухе! Я взял молоток, да одного-то, самого усердного, стукнул. Для науки. Чтоб на чужое не зарился. Так его родители теперь вот в суд подали. Вишь, какое-то там сотрясение мозгов у этого придурка! У него и мозгов-то, однако, отродясь не бывало. Наверное, подкупили врачей, запаслись справками. А я — ветеран, участник войны, разве можно вот так со мной… Вы уж пропишите в своей газетке, как к старикам относятся, как их обворовывают, а потом на их же жалуются!
Кошкин "прописал" в газете, только совсем не о том, на чем настаивал посетитель. Получился очень серьезный материал на темы морали, о забытых многими духовных ценностях. Разъяренный "ветеран" явился в редакцию и чуть было не в рукопашную на Кошкина, обвиняя его, что он продался, дескать, родителям "того придурка"…
Ах, эта внешне столь эффектная, столь заманчивая газетная работа! Сколько неведомых постороннему взгляду неприятностей, опасных ситуаций она таит!
* * *
Незаметно промелькнуло несколько месяцев. В феврале Лене исполнялось двадцать лет. Она никому не говорила об этом событии — подумаешь, юбилей, есть о чем толковать!
И как же она была удивлена, растрогана, когда в конце рабочего дня вся редакция, собравшись в кабинете ответственного секретаря, поздравила ее с днем рождения. Нещадно драли за уши, целовали, тормошили: "Расти большой, не будь лапшой!" Ей подарили красивый письменный прибор, набор авторучек и несколько изящных блокнотов. И устроили грандиозное чаепитие, где пили, как водится, не только чай — предусмотрительный Кошкин запасся еще со вчерашнего дня шампанским. А Игорешка только успевал щелкать затвором фотокамеры.
Проходила незаметно зима. Жизнь стремительно менялась, становилась ДРУГОЙ. Не лучше, не хуже, просто — другой. В движениях Лены появилась свобода, раскованность, она уже не ждала от каждого встречного непредсказуемого подвоха, каверзы, ей искренне казалось, что самое трудное уже позади. И порой, когда по какому-то поводу в памяти всплывала псишка, она только удивленно пожимала плечами: да было ли это? И мчалась по своим делам дальше.
Но вот однажды, когда в редакции шла хлопотливая подготовка к выпуску первомайского номера, Лену пригласил в кабинет редактор. Аркадий Иванович долго мялся, словно не зная, как приступить к нелегкому разговору.
— Елена, — поминутно откашливаясь и не глядя ей в глаза, забубнил он, — тут такая вот нелепая ситуация складывается… Я не хотел вам говорить, но дело уже далеко зашло… Понимаете, последнее время нас одолели анонимными посланиями. Вот, полюбуйтесь, — он протянул ей довольно солидную пачку писем. — Почитайте, почитайте! — кивнул он, видя ее нерешительность.
Лена принялась за чтение… Каждое слово, каждая строка в этих письмах, казалось, источали яд. Содержание всех посланий было почти одинаковым:
"Уважаемая редакция! Вы часто печатаете стихи и статьи Е. Ершовой. А известно ли вам, что она просто-напросто сумасшедшая? Странную позицию вы заняли, товарищи журналисты: нормальных советских людей со страниц областной газеты поучает психически больной человек, хроник. Вы сами-то в вашей редакции как, вполне здоровы? А то может, все, как Ершова, нуждаетесь в лечении и присмотре психиатров?"
Ну и все письма в таком духе.
Последним в кипе было письмо заведующего облздравотделом Рождественского:
"Уважаемый товарищ редактор! В вашей газете часто печатаются стихи и статьи Е. Ершовой. В связи с этим в областной отдел здравоохранения поступают многочисленные письма от граждан, которые утверждают, что знают Ершову как психически больного человека. Мы вынуждены были сделать запрос в областной психоневрологический диспансер. Информация о заболевании Е. Ершовой подтвердилась. Известно ли вам, что у вашей сотрудницы хроническое психическое заболевание в форме шизофрении, и что она — инвалид второй группы с детства?…"
Это был крах…
Господи, куда улетучились сразу ее вера в свою звезду, талант и удачу! Лена бессильно ткнулась лбом в крышку письменного стола.
Аркадий Иванович, вскочив с места, подбежал к ней, не зная, что делать, выскочил в коридор, позвал Кошкина. Сергей влетел в кабинет.
— Что случилось, старушка? Ты чего? — стал тормошить ее, пытаясь заглянуть ей в лицо. — Ну, чего ты слякоть-то разводишь? Да что случилось, Аркадий? — его взгляд упал на кипу лежащих перед Леной писем. — Ах, вот в чем дело! — мгновенно вспыхнул Сергей. — Значит, ты ей эту дрянь все-таки показал? Зачем?
— Послушай, Сергей, и ты, Лена… — устало облокотившись на стол, тихо проговорил редактор. — Из этой гнусности есть только один выход. Пусть Лена сейчас же идет в психоневрологический диспансер, я уже говорил с ними по телефону. Ей устроят консилиум, дадут справку, что работать у нас она может, и все — на эти "сигналы" мы можем больше не реагировать… Вы поймите, ребята, мне-то каково? Где меня только не стирали уже с этими сволочными анонимками! И с заведующим облздравотделом я трижды лично разговаривал, и в обком уже несколько раз на ковер вызывали, — я все думал, ну, как-то утрясется все, уляжется. Нет, кому-то Лена не дает покоя! Выход один — справка.
Лена тихо вышла из кабинета. Первым побуждением было махнуть на все рукой, уйти домой и больше никогда здесь не появляться. Но окинув прощальным взглядом длинный широкий коридор, распахнутые настежь двери кабинетов, услышав знакомые голоса ребят, она заколебалась.
Ну, уйдет она, хлопнет дверью. Газета проживет без нее прекрасно, а вот она без газеты — едва ли. Что же делать? Придется согласиться на это унижение — пойти на консилиум, получить справочку, что "гражданка такая-то имеет право и достаточное количество интеллекта, чтобы работать в редакции областной молодежной газеты"? Или — что они там в таких случаях пишут?
И она пошла в диспансер.
Лена старалась не думать заранее, о чем она будет говорить с врачами, как ей себя держать — на месте будет видно.
* * *
Главного врача диспансера звали Виктором Петровичем. Он был основателен и массивен, как старинный письменный стол, за которым восседал. Его седые лохмы свисали беспорядочными сивыми прядями вдоль обрюзгших щек, взгляд глубоко посаженных бесцветных глаз отнюдь не располагал к откровенности и душевным излияниям.
— Вы ко мне? По какому вопросу? — вместо "здравствуйте" в ответ на свое приветствие услышала она.
— Я… из редакции… из "Комсомольца"… вам должны были позвонить! Мне редактор сказал, что к Вам… на консилиум… чтобы справку… чтобы в газете работать… — мгновенно смутившись и потому совершенно запутавшись, пролепетала она.
— А-а, так это вы! — откинувшись на спинку стула, главврач с интересом принялся ее разглядывать. — Ну что ж, я в курсе… Посидите немного в приемной, сейчас придут доктора.
Вскоре Лена предстала перед полутора десятками врачей. Они разглядывали ее с нескрываемым любопытством, и это было не только профессиональное любопытство. Диагноз был поставлен Лене их коллегами: шизофрения, хроническое психическое заболевание, инвалидность второй группы с детства. Лена уже понимала, прочитав за зиму несколько учебников психиатрии старых и новых авторов, что этот приговор не вписывается в стиль ее жизни. Слишком она "сохранна", слишком интеллектуальна для такого диагноза. Но не будут же доктора ни с того ни с сего разоблачать "липовую работу" своих коллег из психушки! Что же в таком случае им остается делать?
— Как вы себя чувствуете? — спросил Виктор Петрович.
— Как себя чувствую? Нормально.
— Ну, а сон, аппетит, настроение?
— А какое это имеет отношение к уровню моего интеллектуального развития, к моей способности или неспособности работать в газете? Вы еще спросите, что я больше люблю — манную кашу или жареную картошку!
— Дойдем и до этого… — невозмутимо заметил Виктор Петрович. — А пока объясните, пожалуйста, значение пословицы "Сколь веревочка ни вьется, а конец найдется". Как вы эту пословицу понимаете?
Лена беспомощно огляделась по сторонам. Лица собравшихся в кабинете выражали только профессиональный интерес и — не более. Да, здесь не было ни Феи, ни Ворона, ни Иосифа Израилевича — никого, кто бы мог бы защитить, отстоять ее. Она должна была сражаться за себя, за свое будущее сама!
— Как понимаю? Лучше не путать клубки с пряжей. А то потом много лишней возни бывает.
Врачи переглянулись.
— Ну, а как понимаете пословицу "Шила в мешке не утаишь?"
— Скажу, что шило лучше всего таить в подштанниках.
— Ага… Вам часто снятся сны?
— Каждый день.
— Цветные?
— Ага. Многосерийные. С продолжением.
— У вас бывают страхи? Вы чего-нибудь боитесь?
— Боюсь. Вас, врачей. Больше, чем бешеных собак боюсь.
— А что это вы так агрессивно себя держите?
— Да вот сожалею, что нет тут ничего тяжеленького — по башке вам стукнуть! Вы же так упорно пытаетесь доказать даже мне самой, что я неисправимая, безнадежная дура. Неужели вы всерьез думаете, что ваши дурацкие загадки способны дать настоящую оценку человеческому разуму? Что вы вообще обо мне знаете?
— Кстати, о чьем это разуме вы так печетесь? — спокойно перебил ее Виктор Петрович. — Если о своем собственном, поделитесь, пожалуйста, своими соображениями по этому поводу, очень интересно…
Лена переводила взгляд с одного лица на другое и ничего, кроме отчаяния, не испытывала. Холодные, ледяные, чужие лица…
Разве они способны понять, какого труда стоило ей все переиначить в своей жизни, начать ее заново? Разве они оценят ее попытку войти в русло нормальной жизни, стать нужным, полезным человеком?
— Разум… Считаю, что у меня не меньший разум, чем у любого из вас. Для вас нет человека, а есть только диагноз, только бумажка, которая все на свете за этого человека решает… У меня есть разум — могу писать стихи, видеть красивое, любить книги, цветы, музыку… Только для вас ведь это все — пустой звук!..
Лена споткнулась на полуслове… В кабинет вернулась, выскочившая несколько минут назад в коридор врач, с нею вошли и встали у входной двери два здоровенных мужика в белых халатах.
Лена узнала их, это были санитары специализированной бригады "Скорой помощи", так называемой "психовозки". Так, ну что же, все понятно! Вот это "консилиум", ничего не скажешь, ловко они с ней обошлись!
— А вот эти здесь — зачем? — спокойно, насколько это было возможно, спросила она, кивая на санитаров.
— А это — медицинский персонал. Санитары. С ними ты поедешь в больницу, ненадолго, только проконсультироваться…
— Насчет чего — "проконсультироваться"? С кем? По какому поводу?
— Ну, это тебе знать необязательно. — И, уже совершенно не церемонясь с Леной, Виктор Петрович скомандовал санитарам: "Заберите больную"!
Дюжие мужики тотчас же крепко схватили ее под руки и потащили к выходу, к поджидавшей на улице машине.
Врачи молча смотрели ей вслед…
Глава 9
Путь до больницы был недолог. Но эти несколько минут в сознании Лены растянулись в долгие часы. Время начало стремительный обратный ход. Как будто ничего не произошло за минувшие месяцы — ни страшной смерти отца, ни ее невероятных усилий стать "как все", "как люди", — как будто все это ей только приснилось. Как будто, просмотрев киноленту с историей чьей-то жизни, кто-то перемотал ее в обратную сторону, и — ничего и не было, можно начинать сначала…
Дежурила в этот день, как нарочно, Ликуева. Едва увидев ее физиономию в приемном покое, Лена обреченно подумала: все, ждать нечего.
— Ну, Леночка, вот мы и встретились снова! — приторно-ласково пропела Ликуева, оценивающим взглядом окидывая ее плащ, новое платье, лакированные туфли, купленные на свои собственные, самостоятельно заработанные деньги. Лена так гордилась этой своей первой серьезной покупкой…
— Рассказывай, что случилось.
— А что рассказывать-то? Мне потребовалась справка, что я могу работать в областной газете, что могу печататься. А ваши коллеги ничего умнее, как отправить меня сюда, не придумали.
— А ты считаешь, что они не правы?
— А вы считаете, что они правы?
— Хм… Леночка, а ты сама не замечаешь за собой некоторой агрессивности, скверного настроения? Ну, вот попробуй сама проанализировать свои слова, поступки, свою реакцию на замечания окружающих… Разве ты всегда адекватно относишься к тому, что происходит с тобой и вокруг тебя?
Лена смотрела в окно, стараясь не вслушиваться. Она слишком хорошо знала, что Ликуевой невозможно объяснить, как и чем она, Лена, живет, что она любит, а от чего ей плохо. Ликуева полагает, что ничего, кроме "негативного настроя" ко всем и ко всему, в ней нет. Но каким же он должен быть, этот настрой, если в ней не желают видеть личность, человека.
А Ликуева уже и вовсе не обращала на Лену внимания. Бросила фельдшеру и санитарке: "Переоденьте больную", чуть помедлив, добавила: "В первое отделение!". И взялась за изучение переданной санитаром со "Скорой" сопроводительной бумажки из диспансера.
— Пошли! — тронула Лену за плечо санитарка. — Ну, что теперь поделаешь, не горюй. Побудешь здесь немного, а там опять домой пойдешь…
Лена не протестовала. Слишком оглушительной была разразившаяся сейчас трагедия. Это было крушение всех надежд, полный крах всего, что ей удалось достичь за последнее время. Душа ее была пуста, как продуваемая всеми ветрами холодная безлюдная зимняя площадь. И только одна заблудившаяся мысль стучала в висках горячей волной: "Зачем жить? Зачем жить? Не хочу!"
В отделение Лена вошла в ветхом больничном халатике и в столь же ветхой рубашонке. И сразу перед ее глазами дикой каруселью поплыло все, от чего она избавлялась с таким неимоверным душевным трудом: вопящие рты, гнусная брань, смех, плач, стриженые головы, гноящиеся глаза, больные на кроватях и под кроватями…
Она опустилась на знакомые ступеньки около входной двери в отделение… И больные — почти все те же самые. Вот они окружают ее галдящей толпой: "Ленка! Ленка Ершова приехала!" — и тянут к ней руки…
А дальше произошло то, чего она подспудно боялась: не владея уже собой, она вскочила на ноги, и… зазвенели, рассыпаясь на мелкие осколки, оконные стекла. Брызнула из порезанной руки кровь. Кинулись врассыпную больные…
И снова, как несколько лет назад, на звон разбитого стекла слетелись, как воронья стая, санитарки, накинули ей на голову простыню, скрутили руки и потащили в надзорку, пиная и тыча кулаками в бока по дороге…
И вот уже снова раздетая догола и укутанная в мокрую ледяную простыню, прикрученная к кровати все теми же вонючими веревками, она лежит, уставясь в потолок, и медленно проваливается в небытие: аминазин — безотказное средство для усмирения.
* * *
Итак, все начиналось заново.
Поздним утром следующего дня она еле пришла в себя после одуряющего сна, ощущая разбитость и боль во всем теле, какую-то эмоциональную и умственную тупость. Нет, все-таки прекрасное это средство — аминазин — для всех недовольных чем-либо. Лена долго таращилась на обшарпанный потолок, на потрескавшиеся стены, несвежие лица больных… пока не осознала своего положения. Наконец, ощущения ее стали оттаивать, оживать… Она почувствовала, что руки ее занемели до окаменения. Потом всей спиной ощутила жесткость голой кроватной сетки.
— Отвяжите меня! — тихо попросила Лена, едва ворочая пересохшим языком.
Но ее никто не услышал.
— Нянечки, отвяжите меня! — чуть громче произнесла она, но те, явно услышав на этот раз ее голос, заговорили еще громче, обсуждая больничные и домашние новости.
Лена заплакала злыми беззвучными слезами… И вдруг почувствовала, что кто-то из-под кровати дергает веревку. Лена склонила голову, насколько позволяла привязь, и увидела стриженную наголо девчонку, лет четырнадцати, пытающуюся освободить ее руки.
Минут через двадцать веревки были благополучно распутаны, и Лена поднялась с кровати. Санитарки, увлеченные своими разговорами, только в этот момент заметили, что она встает.
— Это кто же тебя развязал, поэтесса дурдомовская? — подскочила к ней Софья Васильевна, или, как звали ее санитарки и больные, Софочка.
— Дайте мне одеться, — попросила Лена. — Я в туалет хочу.
— Нет, дорогуша, теперь ты из надзорки — ни шагу. У тебя строгий надзорный режим. Нинка! — скомандовала Софочка больной, — неси-ка дурдомовской поэтессе ведро! А то, ишь, ей приспичило…
Раздетая догола, с синими рубцами от веревок на руках и ногах, Лена беспомощно смотрела на своих мучительниц. А вокруг грохотал, словно горный обвал, уничтожающий хохот. Смеялись все — санитарки, дежурная медсестра, больные…
Трудно сказать, чем бы все это для нее кончилось. Но тут на счастье Лены появилась в палате Фея…
Все те же золотистые волосы, те же лучистые синие глаза.
Увидев ее, Лена закрыла лицо ладонями, так стыдно и больно было ей за свое унижение.
— Здравствуй, Лена! — раздался знакомый голос. — Что здесь происходит?
Оглушительная тишина воцарилась в надзорной палате…
— Я спрашиваю, что здесь происходит?! — снова повторила Татьяна Алексеевна, и в голосе ее послышались металлические нотки.
— Это, значит… Ершова… у нее, значит, строгий надзорный режим, и… эт-та… она, значит, требует чтобы в туалет… — начала было объяснять Софочка, по наткнувшись на гневный взгляд Феи, замолчала, словно подавилась.
— Кто вам позволил издеваться над больной? Почему она раздета? И что за рубцы у нее на руках и ногах? Кто и когда запрещал надзорным больным ходить в туалет? — гневно вопрошала Татьяна Алексеевна. — Сейчас же приведите больную в порядок, и упаси бог, чтобы я когда-нибудь нечто подобное увидела, пеняйте тогда на себя!
— Леночка, — тронула ее за руку Фея, — успокойся, все будет хорошо. Из надзорки я тебя выведу, я назначена твоим лечащим врачом… Я подойду через полчасика, и мы с тобой обо всем поговорим. Ну, успокойся же!
Лена только кивнула, не поднимая головы… Через полчаса, умытая, накормленная, одетая, она сидела с Татьяной Алексеевной в процедурке и рассказывала ей обо всем, что случилось за минувший год. Фея слушала, покачивая головой.
— Ты знаешь, Лена, я с таким удовольствием следила за твоими публикациями, я так надеялась, что мы с тобой в этих стенах никогда больше не встретимся… Тебе нужно как можно скорее отсюда уйти! Ну что же ты не выдержала, сорвалась в диспансере? Все особенности нашего ведомства знаешь, ну, смолчала бы, не до гордости нам. Ну, да ладно, запоздалыми сожалениями ничего мы с тобой сейчас не изменим. Конечно, если бы все только от меня зависело, ты бы здесь и часу не была… Но ты ведь знаешь, не я здесь все решаю. Об одном тебя прошу: пожалуйста, держи себя в руках! Не до самолюбия сейчас. Как бы тебя ни провоцировали на срыв, пожалуйста, держись. Другого выхода нет… Вообще-то я не должна бы тебе всего этого говорить, но все-таки скажу, потому что верю в тебя… Понимаешь, поначалу у тебя стоял диагноз "психопатия", сейчас тебе уже ставят "шизофрению", с этим диагнозом тебя отсюда и выписали. Да еще эта вторая группа инвалидности… Я была категорически против. Да мы тут с Иваном Александровичем сами в "белых воронах" ходим… Если тебя и сейчас с этим диагнозом выпишут… ну, понимаешь, тебе будет очень трудно. Об одном тебя прошу: не спорь с врачами, на общем обходе постарайся быть предельно вежливой. И в лишние откровения не пускайся, ничего хорошего из этого не получится. Обещаешь?
— Обещаю! — снизу вверх глянула Лена на Фею. — Обещаю. Постараюсь!
Только, как известно, человек предполагает, а бог располагает. Короче говоря, Лена уже не однажды убеждалась, что, как говорила ее покойная бабушка, "загад не бывает богат"… Сразу после ее разговора с Татьяной Алексеевной начался внеплановый профессорский обход. И когда длинная белохалатная процессия подошла наконец к ней, Лена услышала обстоятельный доклад Ликуевой:
— Больная Ершова… Была ремиссия в течение года, но в последнее время снова началась депрессия, приступы агрессивного состояния. Малоконтактна, одержима идеей собственного величия, искренне убеждена в своих выдающихся литературных способностях, неадекватно реагирует на происходящее…
Вглядываясь в безмятежное лицо Ликуевой, Лена готова была поклясться, что говорит она все это при ней нарочно, чтобы выбить ее из колеи, заставить сорваться. И, отлично это понимая, она все же не удержалась:
— Вот интересно мне, где же это и когда я о своих "выдающихся литературных способностях" распространялась? Зачем вы все время врете?
— Ну, вот видите? — кивнула на Лену Ликуева, склонившись к профессорскому уху. — Постоянная агрессивность, постоянная готовность к эксцессам, конфликтам…
— Знаете, — теперь уже окончательно понесло Лену, — я вот все время думаю: за что же вам платят? За работу вообще или за количество больных? Вот зачем я вам здесь нужна, ну для чего? Вам что, настоящих дураков мало? Что вы все время ко мне цепляетесь? Вам как будто плохо становится от того, что у меня где-то что-то начинает получаться. Неужели вы на самом деле не в состоянии отличить здорового человека от больного? А вот если бы вас сюда запихали, как бы вы на это реагировали — радовались бы, да? Бурный восторг выражали? Благодарили бы окружающих за такое счастье? Если бы на вас напялили такую вонючую хламиду, вам понравилось бы?.. Что же вы у меня жизнь-то крадете, милые мои доктора? Что я вам сделала?..
— Видите, видите?! — шептала профессору Ликуева. — Ведь это ужас, что она говорит!..
Иосиф Израилевич стоял, щуря свои огненно-черные грустные глаза, грустная улыбка чуть трогала его бледные губы, видно было, что ему ужасно неприятна Ликуева с ее невыносимой назойливостью. Но, видимо, хорошее воспитание мешало профессору сказать об этом коллеге.
Он внимательно слушал Лену.
— Я не могу понять, что это за заведение, какие оно выполняет функции… Здесь — и уголовники, и психохроники, и алкаши, и девчонки с улицы, кого тут только нет! Какое же это лечение? От чего? Двести человек крутятся, как вши на гребешке, по этому коридору, негде присесть, не говоря уж о том, чтобы лечь на койку, целый день приходится быть на ногах. И вы хотите, чтобы больные были "спокойны", "довольны", "коммуникабельны"? Да ведь здесь многие больные окончательно деградируют, перестают соображать, что — хорошо, а что — не очень. Ни чувства гордости, ни самоуважения — ничего! Вы это специально делаете?
Только сейчас Лена заметила, что ее и врачей обступила плотная толпа стриженых женщин в линялых халатах, здесь же были санитарки, дежурные медсестры…
— Расходитесь, больные, расходитесь по местам! — замахала Ликуева на больных руками. — Что вы здесь столпились? Не мешайте обходу!
* * *
И тут из толпы больных к ней приблизилась та самая стриженая девочка, Лариса, что отвязывала Лену в надзорке, и плюнула заведующей в лицо: "Тьфу, сволочь! А еще в белом халате! Лучше скажи, сколько ты с моей мамаши получила’’…
Несколько санитарок, как натренированные овчарки, кинулись на девчонку, потащили ее в надзорку.
— Разойдитесь! Разойдитесь! — заорали на больных медсестры.
Серая толпа, недовольно ропща, стала растекаться по углам бесприютно-огромного барака.
Через полчаса после обхода Лену снова загнали в надзорку, и Софочка ликующе сообщила ей, что она — "на особом режиме", что без сопровождения санитарки ей никуда не разрешается выходить. И свидания сейчас ей запрещены…
— Пусть… — вяло подумала она и присела на край кровати, на которой теперь лежала накрепко связанная Лариса. Тонкое нервное лицо девочки, ее смышленые тоскующие глаза наводили на мысль, что она — такая же "больная", как и Лена.
Осторожно, чтобы не слышали санитарки они разговорились. И вот, что услышала Лена…
Своего отца Лариса не помнила, он бросил их с матерью, когда она была совсем маленькая. Тем более, что мать разорвала все его фотографии. Зато с самых малых лет Лариса помнила одно — как мать пила, бесконечно пила все с новыми и новыми кавалерами, а потом очередной "папа" оставался ночевать.
В их однокомнатной квартире ничего невозможно было скрыть, да мать и не пыталась что-то скрывать от дочери, она ее просто не принимала в расчет. Годы шли, мать старела, и уже кавалеры, заходя к ней в гости, все чаще обращали свои похотливые взоры на дочь. И однажды один любитель "клубнички", договорившись с матерью за весьма солидную сумму, встретил Ларису в квартире, когда она вернулась из школы. Девочка ничего не успела понять, когда на нее навалился, дрожа от возбуждения, здоровенный, потный, вонючий мужик…
После случившегося Лариса убежала из дома. Спала на чердаках, в подвалах. Познакомилась с такими же никому не нужными, заброшенными пацанами и поняла, что ее спасение — среди них. По крайней мере, не будет видеть вечно пьяной мамаши, и та никогда не сможет ее больше продать.
Видимо, мать опасалась, что Лариса, попав рано или поздно в милицию, может рассказать о случившемся. И тогда она, что называется, сделала ход конем: безутешно рыдая, отправилась в райотдел милиции, заявила о пропаже дочери и о том, что последнее время та как-то странно себя ведет, ей все кажется, что кто-то покушается на ее невинность. Видимо, девочка психически нездорова. А она, мать, к сожалению, чересчур поздно это поняла…
Ларису задержали месяца через два. Обносившаяся, обовшивевшая, она, конечно, ни у кого не вызвала сострадания и особой жалости.
Когда в милицию пригласили мать, Лариса, с ненавистью глядя ей в глаза, рассказала при всех, почему она вынуждена бежать из дома. Мать, промокая платочком сухие глаза, горестно вздохнула: "Ну вот, видите, я же говорила".
На несколько минут милиционеры, выйдя из кабинета, оставили их вдвоем, и мать, бешено скривившись, бросила дочери:
— У меня есть знакомый психиатр, вот погоди, поганка, я тебя упеку в дурдом! Пожизненно!
Уже несколько месяцев ее держат здесь. Врачи вызывали мать на беседу, та пришла и сказала, что от дочери отказывается. Чего же ей теперь ждать от жизни?
Лена гладила девочку по стриженой голове и думала, сколько же преступлений, несправедливости, зла, скрывает это заведение, никому не подотчетное, не подсудное никаким судам! Добиваться здесь правды и справедливости — бесполезно. Для тех, кто оказался здесь, все эти понятия становятся эфемерными…
…Ночью надзорная палата была разбужена криками, бестолковой беготней санитарок и дежурной медсестры. Суета кипела вокруг кровати, на которой спала Лариса.
Оказывается, ночью Софочка заметила, что девчонка, укрывшись одеялом с головой, застыла в какой-то неестественной позе. Санитарке лень было встать, посмотреть, почему это больная "так странно спит", а когда она все-таки встала, подошла и откинула одеяло, Лариса уже застыла…
Где-то раздобыв пояс от халата, она затянула его у себя на шее. Можно только было поражаться немыслимой, нечеловеческой тоске, побудившей четырнадцатилетнюю девочку таким страшным способом разрешить свои жизненные проблемы.
— Ну и дура! — кричала Софочка, взмахивая руками. — Дура набитая! Ну, закопают ее, что от нее останется? Какая память? Людям только неприятность…
Дежурным санитаркам, действительно, была "неприятность" — им объявили по выговору. Вот и вся цена девчоночьей жизни…
Глава 10
Потянулись больничные дни. На очередном общем обходе Ликуева с нескрываемым удивлением объявила, что коллеги Лены буквально телефон оборвали, уже дважды приходил на беседу сотрудник газеты Сергей Кошкин.
Лена молчала. Молчала она, когда пришедшая на свидание мать, узнав, что она лишена свиданий, кое-как отыскав окно надзорной палаты, что-то кричала ей с улицы, плакала. О чем можно было говорить на виду у этих красномордых, жадно слушающих каждое слово? Лена только попросила, чтобы матери передали записку, где она умоляла ее пока не приходить в больницу, не стоит, мол, унижаться…
Стояло жаркое лето. Уже с конца мая установилась неимоверная жара, дышать было нечем. К счастью, больных с наступлением тепла на весь день выпускали в крохотный дворик, примыкавший к отделению, и бедные женщины радовались прогулкам, как несказанному счастью. Несмотря на то, что многим негде было даже сесть, многие вповалку валялись на голой земле, но все-таки это было не осточертевшее отделение, а хоть какое-то подобие "воли".
В отделении было тихо и пусто, и Лена душой отдыхала от принудительного многолюдья. Она смотрела вниз, на город, видневшийся сквозь решетки и пыльные стекла, и все пыталась решить, что же ей теперь делать. Прибегали ребята из редакции. Особенно часто, чуть не каждый день — Сергей. Его рыжая шевелюра, вечно торчавшая дыбом, выражала крайнюю степень возмущения, когда он рассказывал Лене, как редакция пытается вытащить ее "из этого бедлама", у кого они были, куда какие бумаги отправляли. Но Лена-то знала, что все их хлопоты бесполезны. Кроме того, ее невыразимо смущал больничный наряд и все, чего она хотела, пока Кошкин сидел рядом с нею, чтобы он как можно скорее ушел. А когда он уходил, она начинала тосковать, вспоминать его слова, улыбки, смех, шутки…
Уже несколько раз, пока Лена была в первом отделении, в надзорной палате, ребята давали ее большие поэтические подборки в газете, причем с самыми лестными отзывами.
— И кто все это безобразие разрешает?! — возмущались доморощенные критики-санитарки, вертя в руках очередной номер газеты с ее стихами. — Дура психическая, а туда же — стихи пишет, видите ли! Да еще узнать бы надо, чьи это стихи-то, а то интересно получается: из псишки не вылезает, а туда же — ли-те-ра-ту-рой занимается.
Но сама Лена была весьма далека от страстей, обуревавших младший медицинский персонал. Она пыталась разобраться в своих чувствах к Сергею…
* * *
Какая ирония судьбы! Уже однажды сюда, в этот черный страшный барак приходил один хороший парень — Володя, будущий врач. Только ему отец не разрешил "пачкаться" с такой девицей, как Лена. Теперь появился Сергей. И так боязно ей стало за свое нарождающееся чувство: еще одного предательства она просто не выдержит…
Уже давно она стала замечать, чуть ли не с первой встречи, что рыжий Кошкин относится к ней небезразлично. Но старалась гнать прочь воспоминание о том, что случилось с нею несколько лет назад. Но не в меру услужливая память все возвращала и возвращала ее в ту проклятую весну.
Это случилось в тринадцать лет, незадолго до ее попытки самосожжения, а может быть и стимулировало эту попытку. В тот день в их доме собралась вся их небольшая родня: тетка с двумя сыновьями, ее муж дядя Павел, тогда еще живая бабушка, мать отца.
Было, как всегда, застолье с обильной выпивкой, закуской, с пьяными песнями и гиканьем. Ребятишкам тоже поднесли по рюмочке красненького "для аппетита", и вскоре младший братишка, Юлька, благополучно спал, завалившись на кровать Лены.
В доме звучали разухабистые песни, топот — это отец с теткой выплясывали русского. Она вышла на улицу. На землю уже опустилась ночь, полная запахов тающего снега, оживающей земли, прелых прошлогодних листьев. Лена посидела на завалинке, потом подошла к Мухтару, погладила его, и благодарный пес кинулся лизать ей руки.
Но Лена смертельно устала, ей пора было спать, завтра с утра — в школу. И тут она вспомнила, что во флигеле стоит кровать, там есть и матрас, и теплое одеяло и там должно быть не очень холодно, потому что мама топила утром, готовила угощенье для застолья. И она направилась в эту бревенчатую избушку.
Скинув курточку и сапоги, она нырнула под толстое ватное одеяло и блаженно зажмурилась. Наконец-то можно будет отдохнуть!
И тут скрипнула входная дверь, в проеме возникла высокая плотная фигура. Кто-то стоял, всматриваясь в темноту и сдерживая шумное дыхание.
— Кто тут? — спросила Лена. Она не боялась, знала, что Мухтар никого из посторонних к флигелю не пропустит. А тут он даже не тявкнул — значит, кто-то из своих.
— Это я… Виталий, — проговорил старший двоюродный брат, восемнадцатилетний парень, вымахавший уже с дюжего, видавшего виды мужика. Он шагнул к кровати. Предчувствуя неладное, Лена попыталась было вскочить, но он, наваливаясь на нее всей тяжестью своего плотного тела, зажимая ей ладонью рот, исступленно шептал: "Молчи, молчи, молчи… Я давно тебя люблю, только молчи".
Что и как происходило дальше, она вспоминала потом с трудом. Помнила, как отпинывалась и кусалась, с ненавистью царапала потное толстое лицо, но справиться с насильником не могла.
Он овладел ею в пыльной, серой темноте нежилого помещения, на постели, пропахшей мышами и плесенью.
Она не произнесла ни звука. Страшнее, чем само насилие, ей казалось то, что об этом узнают все, кто был в этот день в их доме. Сама мысль о том, что кто-то сможет хотя бы предположить, что произошло, повергла ее в ужас. Лена никому ни о чем не сказала.
Да, Лена могла утром, даже ночью, сразу после случившегося, пойти и обо всем рассказать отцу. Но она просто уверена была, знала, что он не только Виталия бы убил, но и всех его ближайших родственничков — в гневе он терял разум. А разве она хотела этого? Да ведь ничего и не вернешь теперь, ничего не изменишь.
Именно с тех пор в ее сознании слово "любовь" стало ассоциироваться со словами "грязь", "насилие", "предательство"… Она понимала умозрительно, что, наверное, это все же не совсем так. Ведь как-то живут рядом миллионы и миллионы мужчин и женщин, но возможности убедиться в обратном не было. Вернее, она старательно избегала таких возможностей. И вот теперь — Сергей…
К этому умному, доброму, веселому парню у нее возникло и крепло с течением времени самое нежное, самое светлое чувство. Но как только в памяти всплывало похотливое лицо, трясущиеся потные руки двоюродного братца, когда он утром стоял перед ней на коленях и просил, умолял "никому ничего не говорить", она сразу ощущала себя безвозвратно потерянным, падшим существом.
* * *
На одном из обходов к Лене подошла Ликуева. Нечистое любопытство отсвечивало в ее масляно блестевших глазах:
— Леночка, кто такой Сергей Кошкин?
— Заведующий отделом в молодежке.
— Кто он тебе? Какие у вас с ним отношения?
Лена растерялась.
— Какие еще "отношения"?
— Ты жила с ним половой жизнью?
Господи, да она совсем дура! Лена даже с некоторым интересом, не находя слов, всматривалась в лицо Ликуевой.
— А почему вас это интересует?
— Видишь ли, Леночка, он приходил сегодня снова ко мне на беседу, настаивал на твоей выписке, говорил, что любит тебя…
— И — что?
— Ну, Леночка, ты же умница… Я объяснила ему, что ты — человек все-таки больной, что детей тебе иметь не рекомендуется. И что вообще замужество может вызвать обострение болезни…
— Какой болезни? О какой болезни вы мне все толкуете?! Объясните мне, пожалуйста, чем я больна.
— Неужели, Лена, ты думаешь, что мы тебя совершенно напрасно держим в стационаре?
— Думаю! Уверена!
— А знаешь, это — один из признаков твоего заболевания. Вот когда поймешь, что зря здесь никого никто не держит, тогда поговорим о твоей дальнейшей жизни.
И снова вокруг — пустота… И никакой надежды. Как праздника Лена каждый день ждала появления Феи.
Когда в конце коридора возникала знакомая фигура с копной золотистых волос, Лена буквально преображалась. Вот сейчас Татьяна Алексеевна подойдет к ней, весело улыбнется, скажет что-нибудь хорошее… Может быть, принесет новую книгу, журнал…
И Фея приходила и хотя бы ненадолго вселяла в ее душу уверенность: все кончится хорошо, по-другому и быть не может.
Ворон тоже постоянно забегал. Почти каждый день. И хотя с Вороном было значительно труднее, чем с Феей, эти свидания были ей необходимы как воздух. Ворон заставлял думать, вызывал на спор, Лена то хохотала, то возмущалась, то изумлялась, но никогда не скучала с этим человеком. Видимо, он старался, чтобы Лена к своему положению "психа" не привыкла.
В основном же дни проходили в окружении больных или обреченных на болезнь людей. Это наверное странно звучит — "обреченные на болезнь", но таких и в самом деле немало. Кроме девчонок — нарушительниц родительского и общественного покоя, в отделении хватало людей, которых назвать больными язык не поворачивался. Лена научилась вполне безошибочно определять тех, кто попал сюда, так сказать, "не по адресу", но кому отсюда, увы, так просто будет не выбраться.
Еще в школе она не однажды слышала странное слово "сутяга". Ей представлялось, что сутяга — это склочный, желчный, зловредный человек, отщепенец, доставляющий людям массу неприятностей. И вот здесь, в больнице, она вдруг с удивлением обнаружила, что сюда с "синдромом сутяжничества" попадают люди, которые этому определению ну никак не соответствуют.
Женщины, как правило, умные, неравнодушные, эти самые "сутяги" доставлялись в больницу в основном прямо с работы. А потом на общем обходе, не скрывая насмешки, Ликуева представляла: "Ну вот — еще один "борец за справедливость"…
Да, они, как могли, боролись за правду и справедливость: писали письма в редакции газет и журналов, обращались с докладными записками в вышестоящие инстанции, сигнализируя о тревожном положении у себя на работе или в городе; и наступал, наконец, день и час, когда те, кто присвоил право решать чужие судьбы, решали их. Приглашали, вызывали якобы "для беседы" с вышестоящими товарищами, а на этой беседе присутствовали негласно, конечно, товарищи психиатры… Короче говоря, человека увозила с работы "Скорая", а выходил он из больницы очень не скоро, и, как правило, со второй группой инвалидности "по психическому заболеванию". После этого соваться с разоблачениями куда бы то ни было становилось просто опасно: чуть что — и человек снова ехал в ПБ, и опять надолго. И так до тех пор, пока пациент, наконец, вполне не уяснял, что плевать против ветра, то бишь начальства, бесполезно…
* * *
Однажды внимание Лены привлекла женщина лет сорока из только что поступивших. Несмотря на уродующее больничное одеяние, была она как-то непривычно аккуратна, подтянута, и лишь смертельная бледность лица выдавала трагедию, произошедшую с ней, как догадывалась Лена. В день поступления Анны Васильевны, так звали новую пациентку, она стала невольной свидетельницей ее разговора с Ликуевой.
— Лариса Осиповна, — говорила новенькая, судорожно сжимая руки, — я вас умоляю как коллегу, не берите вы греха на душу! Ну, подлость это, чистейшей воды подлость!
И Ликуева, которую, казалось, никто и ничто не в состоянии было выбить из колеи, нервно оглядываясь, уговаривала новенькую:
— Анна Васильевна, успокойтесь! Ну, вы же разумный человек, вы должны смириться, ничего не поделаешь…
— Лариса Осиповна, да люди мы или нет?! Медицина становится орудием произвола — одумайтесь! Еще раз говорю, не берите греха на душу!
Ликуева проскользнула в ординаторскую, захлопнув дверь перед носом Анны Васильевны…
Об ее трагедии Лена узнала много времени спустя. Анна Васильевна была главным врачом областного кожно-венерологического диспансера. Однажды ей позвонили из обкома партии, и весьма ответственный товарищ конфидециальным тоном попросил:
— Сегодня к вам на прием придет женщина, жена нашего товарища. — Он назвал фамилию. — Так вот, обследуйте эту женщину, и оставьте ее у себя на лечение. Понятно?
— Понятно! — ответила Анна Васильевна. Чего ж тут было не понять? Если у человека заболевание, тем более венерическое, она обязана действовать по закону.
Женщина, о которой звонили, пришла на прием. Анна Васильевна сама тщательнейшим образом осмотрела ее и установила, что та была абсолютна здорова. О чем она с чистым сердцем и выдала справку.
В тот же день, к вечеру, снова раздался звонок того ответственного товарища.
— Кажется, вам было сказано, что нужно делать с пациенткой?!
— Но, простите, женщина абсолютно здорова…
— Ну, тогда, значит, ты больна, дура! — и на том конце провода бросили трубку…
Анна Васильевна осталась в полном недоумении: что же все это значит, как это понимать?…
Назавтра, утром, когда в ее кабинете проходила врачебная пятиминутка, дверь открылась и в кабинет ввалились три здоровенных санитара.
— Кто главный врач? — спросил старший.
— Я, — удивленно ответила Анна Васильевна. — А в чем, простите, дело?
Но ее уже волокли вниз по лестнице, заламывая за спину руки. Ошеломленные врачи, оцепенев, так и остались сидеть, будучи не в силах сообразить, что происходит. И только один из них, в тот же день назначенный главным врачом вместо Анны Васильевны, глядя из окна, как санитары запихивают ее, прямо в белом халате, в "Скорую", назидательно проговорил, ни к кому не обращаясь: "Тише едешь — дальше будешь!’’ И осклабился…
Кстати, нужную справку он в тот же день оформил. И пациентку с милицией доставили в кожно-венерологический, объяснив, что прежде здесь, дескать, перепутали анализы, а у нее, пациентки, гонорея… И, хотя бедная женщина горько плакала и пыталась убедить врачей, что этого просто не может быть, ей провели положенный курс терапии. А ее высокопоставленный муж получил требуемую справочку для суда, чтобы без проволочек оформить "законный" развод.
Так Анна Васильевна оказалась в психушке. Лена дивилась ее выдержке: за полгода содержания в ПБ, она ни разу не пропустила утренней зарядки, ни единого раза не позволила себе сорваться на крик, скандал или истерику… Только поседела и постарела за эти полгода. Приехавший на каникулы сын — курсант военного училища, увидев ее на свидании, громко спросил:
— Мама, что с тобой сделали? Ты мне только скажи, кто все это сделал, я разберусь…
— Не надо ни с кем разбираться, сынок, — очень спокойно ответила мать. — Не надо… Это бесполезно. Я уж сама. Потом, когда выйду отсюда…
После выписки из ПБ, Анна Васильевна ездила в Москву в Центр психического здоровья. Там было установлено, что она никогда никакими психическими заболеваниями не страдала и для второй группы инвалидности, которую ей назначили "по психическому заболеванию", не было никаких оснований. Однако все, на что хватило у нее сил по возвращении в родной город, — пройти ВТЭК, отменивший ей инвалидность, и устроиться на работу рядовым врачом…
Глава 11
Однажды Лене довелось увидеть обескураженную Ликуеву. Похоже, что ситуация, с которой она столкнулась, ни в какие рамки ее представлений не умещалась.
— На семинар поедешь, Леночка. Завтра.
— На какой семинар? Вы о чем? — обалдело переспросила Лена.
— На областной семинар молодых литераторов. Приглашение тебе пришло из писательской организации. Мы обсудили этот вопрос на уровне главврача, решили дать тебе такую возможность. Поедешь с Владимиром Сергеевичем и Мариной Павловной. (Это были совсем молоденький врач и старшая медицинская сестра больницы).
— А в чем же я поеду? — растерянно проговорила она.
— Я сейчас распоряжусь, чтобы принесли со склада твою одежду. К завтрашнему дню приведешь ее в порядок.
…Больничный "газик" подъехал к зданию писательской организации. Лена вошла со своими конвоирами в просторный вестибюль, их встретил дежурный в черном костюме с пачкой отпечатанных бумаг в руках.
— Участники семинара? — бодро вопрошает он.
— Да… — нерешительно бормочет Лена.
— Нет! — одновременно откликаются врач и медсестра.
— Так "да" или "нет"? — переспрашивает молодой человек.
— Видите ли, эта девушка — участница семинара, а мы… ее как бы сопровождаем, — поясняет густо покрасневший врач.
— Ну, дела! — разводит руками молодой человек. — Это я что-то первый раз такое встречаю — участница семинара и сопровождающие ее лица… Ну, да ладно, потом разберемся. А пока — вот вам анкета, заполняйте, и он, протянув Лене листок, отошел в сторону.
Лена принялась мучительно размышлять над пунктами анкеты. Ну, фамилия, имя, отчество, год и место рождения — тут никаких проблем. Образование? Хоть и стыдно, ну, да ладно, чего уж там — восемь классов образование. А вот — профессия. Место работы. Что тут писать-то?
В этот момент кто-то подошел к Лене сзади и тихо окликнул.
Она, вздрогнув, обернулась: Сережа! Кошкин!
— Здравствуй! — кинулась она ему навстречу. — Ой, как хорошо, что ты здесь, а то все незнакомые тут!
"Сопровождающие лица’’ молча, неотступно стояли за ее спиной. Сережа удивленно поднял брови:
— Извини, а это — кто?
— Да-а… сопровождающие. Из больницы. Врач и медсестра.
— Оттуда? — недоверчиво переспросил Сергей.
— Ага!
Кошкин обалдело развел руками:
— Слушайте, а вы не могли бы хотя бы не дышать нам в затылок. Все-таки здесь не психушка.
Владимир Сергеевич и Марина Павловна, переглянувшись, несколько отодвинулись в сторону.
— Сережа, а как ты все-таки здесь оказался? По работе, что ли?
— Ты лучше поинтересуйся, кто устроил тебе эту развлекательную программу — поездку на семинар! — смеется Сергей.
— Интересуюсь и догадываюсь. Кто же, кроме тебя!
— Ну да, пришел в писательскую организацию, рассказал о тебе, принес почитать твои стихи. И писатели организовали тебе вызов из больницы… хотя, ты можешь себе представить, чего это им стоило… Погоди-ка, вот и Алексей Иванович.
К ним приближался солидный мужчина с проницательным взглядом глубоко посаженных глаз, но с какой-то совсем простецкой, мужицкой физиономией.
— Секретарь правления писательской организации, Кудрин! — успел шепнуть Лене на ухо Сергей.
— Здравствуйте! — поздоровался с ребятами за руку Алексей Иванович. — Так вот это и есть твоя протеже, знаменитая Ершова? — улыбаясь, спросил он у Сергея.
— Да, это Лена Ершова.
— Ну, давайте познакомимся поближе. До начала заседания у нас еще есть полчасика. Пойдем, поговорим.
Лена, Сергей, а за ними — Владимир Сергеевич и Марина Павловна двинулись за Алексеем Ивановичем в сторону его кабинета.
И вот они, все пятеро, расположились в мягких кожаных креслах.
— Простите, а вы — кто? Я же пригласил с собой вот этих двух молодых людей? — недоумевающе обратился Алексей Иванович к сопровождающим.
— Э-э… разве не в курсе, — пожал плечами Владимир Сергеевич. — Мы приехали сюда с больной, с Еленой Ершовой. Из психиатрической больницы — надеюсь, это вам известно?…Мы — сопровождающие ее медицинская сестра и врач. Ершова — больная… психическая больная, да… хотя, конечно, с некоторым интеллектом, мы не отрицаем. Но поведение этих больных непредсказуемо, поэтому мы здесь, как профессионалы…
— Вон! — хлопнул по столу Алексей Иванович и приподнялся. — Я это вам говорю, молодой человек! — рявкнул он на испуганно мигающего Владимира Сергеевича. — И забирайте отсюда вашу коллегу!
— Но мы не можем ее здесь оставить! — враз воскликнули врач и медсестра. — Мы же за нее отвечаем!
— Ну, а теперь я за нее буду отвечать! — отрезал Алексей Иванович. — Персонально! И будьте добры, освободите кабинет!
Владимир Сергеевич и Марина Павловна на цыпочках скрылись за хлопнувшей дверью… И тут Сергей, Лена и Кудрин, переглянувшись, весело расхохотались, будто вся эта история с дурацким конвоем из психушки всем только приснилась.
Наконец успокоившись, Кудрин доброжелательно и располагающе посмотрел Лене в глаза:
— Если можете, расскажите мне, пожалуйста, о себе… поподробнее, — тихо попросил он. — Хотя бы то, что сочтете возможным.
Нет, ей не трудно и совсем не страшно было рассказывать о самом больном и сокровенном этим двум людям. Сергей ей больше, чем просто друг, Алексея Ивановича она как-то сразу восприняла как человека близкого по духу и верного…
— Алексей Иванович, вы куда же запропастились! — ворвался в кабинет дежурный, встречавший участников семинара у входа. — Пора торжественную часть открывать!
— Вот что, Борис, — спокойно и размеренно произнес Кудрин, — скажи, что я приду позже. У меня тут важное дело. Очень важное!
…Долгий получился у них разговор. После торжественной части был объявлен перерыв. За дверями кабинета шумели люди. Потом все снова ушли в актовый зал, а Кудрин и Кошкин слушали Лену…
Наконец, она умолкла. Алексей Иванович тяжело поднялся с кресла, прошелся несколько раз по кабинету. Лена с некоторым испугом следила за ним: поверил ли?… А если и поверил, так что же он может реально изменить в ее жизни?…
— Ну, вот что, девочка, — наконец остановился он перед ней. — Ты уж позволь мне называть тебя на "ты", я тебе не только в отцы, в дедушки гожусь! Посиди-ка с Сергеем здесь, хорошо? А я пока пойду, буду дозваниваться в облздрав. Это же черт знает, что такое!
Лена сидела, не поднимая глаз. Она уже начала раскаиваться в своей, как ей теперь казалось, излишней откровенности. Кошкин тоже молчал, о чем-то задумавшись, и это его молчание начинало угнетать. Но вот дверь распахнулась, и в кабинет вошел возбужденный Алексей Иванович.
— Ну, друзья, поговорил я с Рождественским, хорошо поговорил! — выразительно потряс он кулаком. — Значит, девочка, так. После семинара, вечером, он соберет консилиум, на котором и сам будет присутствовать, и они с тобой разберутся. Заметив испуганный взгляд Лены, Кудрин весомо добавил: "А чтобы разобрались как следует, и мы с Сергеем там будем. Ну, согласна?"
— Конечно! — радостно выдохнула она.
— А теперь пойдем на семинар. Ты у нас на поэтическом, это на первом этаже. Пойдем вместе, я же там в руководителях числюсь.
На семинаре вовсю уже шли жаркие дебаты.
— Я признаю поэзию индустриальную! — восклицал молодой парень в потертых джинсах, в картинно порванном свитере и с массивной золотой цепочкой на жилистой шее. — Я признаю поэзию асфальтовых площадей, дымящих труб, гудящих машин, ревущих самолетов! А все эти ваши цветочки-лепесточки в наш атомный век смешны и бесполезны!
— Слава, да ты чушь городишь! — возразил, вскочив с места, не менее молодой поэт. — Как могут устареть Пушкин, Есенин, Фет, Некрасов? А ведь они, между прочим, лирики и только лирики! Без всяких "индустриальных пейзажей"!
— Товарищи, товарищи! — пытаясь перекричать зашумевших семинаристов, стукнул по столу один из руководителей семинара, член СП Самохвалов. — Ну, что вы галдите, как на базаре! Давайте по порядку! Вот вы, девушка, представьтесь, пожалуйста. А то у нас тут все перезнакомились, одна вы вроде бы инкогнито.
Молодые поэты тут же притихли и с любопытством воззрились на новенькую.
Она встала. Посмотрела по сторонам, вглядываясь в каждое лицо… Пауза несколько затягивалась.
— Можно, я начну со стихов? — тихо спросила Лена. — А уже потом — все остальное.
— Почему бы и нет, — улыбнулся ведущий. И Лена почувствовала, что именно здесь, сейчас, сию минуту решается вся ее дальнейшая судьба, а вовсе не в кабинете заведующего облздравом, куда звонил Кудрин. Надо только взять себя в руки, не сбиться…
Пусть жизнь моя порой совсем увечна, пусть все идет порою вкривь и вкось, я буду вечно! — слышишь? — буду вечно, пока еще скрипит земная ось! Я — человек, я чувствую движенье великих мыслей, сказочных времен, и я живу в высоком окруженье покрытых кровью яростной знамен. Знамена знаний, солнца, духа, бунта, они — оплот мой, верный мой причал. Живу… А ты спокоен, так, как будто ты этого во мне не замечал…Молодые поэты и руководители семинара сидели, вслушиваясь в эти, может быть, не слишком умелые, но искренние, от души идущие строки и лишь изредка недоуменно или радостно переглядывались. А Лена читала, читала, читала…
Быть женщиной, быть просто бабой — крест мой!.. Пою. Давлюсь слезами. Хохочу. О, как хочу пожить спокойно, пресно, как серой быть, обычной быть хочу! "Быть женщиной"… Какие прегрешенья стоят за мной? За что себя гублю?Мельком Лена увидела задумчивое лицо Кошкина — несколько отстранившись, чтобы лучше видеть и слышать ее, он смотрел на нее, будто видел впервые.
Внимательно слушали и остальные.
Мир и не вздрогнул… А тебя — не стало! Мир благодушно цвел и пах едой, а ты лежал — спокойный и усталый, вдруг — постаревший, вдруг — совсем седой… Мир и не вздрогнул… Он не вздрогнет так же, когда и я закончу путь земной… Над черным городским многоэтажьем, дыша мертвяще холодно, протяжно, гуляет ветер… Пахнет мир зимой… Вот-вот отец мой явится за мной!Около часа читала Лена свои стихи. И никто за это время не выразил своего неудовольствия по поводу затянувшегося представления новенькой.
Когда же она замолчала, Самохвалов, вскочив со стула, несколько ошарашенно подытожил:
— Вот это сюрприз семинарский!.. Так расскажите же, девушка, о себе!
— А я — из психбольницы. Сумасшедшая, так получается. Зовут меня Елена, фамилия моя — Ершова. Вот это — мои сопровождающие, врач и медсестра. Чтобы я вас тут не перекусала, наверное.
Полное спокойствие и раскованность вдруг овладели ею.
Аудитория на какой-то миг замерла, потом началась невообразимая суматоха:
— Что она сказала?
— Во дает!
— О-ри-ги-нально! — неслось со всех сторон.
Пришедший в себя Самохвалов объявил: "Перерыв! Перерыв!", но никто не слышал…
Лена поднялась и вышла в вестибюль. Следом, как оловянные солдатики, тут же выскочили Владимир Сергеевич и Марина Павловна. И, пожалуй, вот эта их готовность и торопливость убедили присутствующих больше, чем признание самой Ершовой.
Вышел вслед за ней из аудитории и Кошкин, плотно прикрыв за собой дверь.
— Ну, глупенькая, ты, что так переволновалась? Все хорошо! — уговаривал он ее.
Остальные участники семинара оставались в кабинете еще минут пятнадцать. Видимо, Алексей Иванович что-то рассказывал им о Лене, потому что когда распахнулась дверь, все вышли прямо к ней. Просили подарить что-нибудь из своих стихов, спрашивали, где ее можно найти, совали свои адреса, телефоны, рукописи, какие-то книжки…
Лена старалась всем ответить и напоминала сороку на колу: кивала одному, обращалась к другому, смеялась, отвечала, благодарила, удивлялась…
Алексей Иванович, выйдя из кабинета, пригласил:
— А сейчас — на обед, ребята! Нам забронирован зал в ресторане "Восток".
Лена чувствовала себя по-настоящему счастливой. Обед в ресторане (хотя и под бдительным оком сопровождающих), разговоры с пишущей братией, шутки, экспромты. Все было так празднично!
После обеда работа семинара продолжалась. Разбирали стихи Елены Ершовой… Хвалили, ругали, возмущались, восхищались. Но говорили без насмешек, без злобы, так что даже на самые резкие замечания невозможно было обидеться.
А при подведении итогов, совершенно неожиданно для себя, Лена услышала свою фамилию в числе трех лауреатов.
Она сидела, не смея поверить своим ушам, а вокруг радостно галдели новые друзья: "Ершова — молоток", "Ленка, хвост пистолетом держи", "Даешь, псишка, новых поэтов!".
Алексея Ивановича при подведении итогов не было. Как потом узнала Лена, он в это время яростно ругался с Рождественским по телефону, доказывая, что записывать таких, как Ершова, в "психические" просто преступление.
На его гневные выпады заведующий облздравотделом невозмутимо отвечал, что истории известно немало примеров, когда психически больные люди были еще и великими музыкантами, писателями, художниками и даже учеными, но психически больными людьми при этом они все-таки оставались, ничего не попишешь…
— И потом, — ласково жужжал он в телефонную трубку, — что вы так печетесь об этой Ершовой? Кто она такая — родственница ваша? Подруга? Знакомая?
— Господи, да вы что, сами там с ума посходили, что ли! — бушевал Алексей Иванович. — Ну, понимаете вы или нет, здорова она, совершенно здорова! Тут и специалистом не надо быть, чтобы какие-то выводы сделать!
— Но все-таки в медицине, тем более в психиатрии, специального образования пока не отменяли, — невозмутимо парировал Рождественский. — Поймите, "просто так" в нашей системе ничего не бывает!
— Но и вы поймите, что более глупого зрелища, чем врач-психиатр и сестра из психбольницы на литературном семинаре я еще в жизни своей не видывал. Ведь люди смеются! Ваши сотрудники поставили себя в наиглупейшее положение! Да и нас тоже…
— А вот за эту затею — разрешение больной участвовать в семинаре — я строжайшим образом спрошу с главного врача больницы, — заверил, и весьма серьезно, Рождественский.
— Да почему же вы никак не понимаете того, что я вам говорю! — окончательно вышел из себя Кудрин. Не больна, не больна эта девочка психически! Не больна!
— Понимаю… Ну, ладно, дабы успокоить все страсти, в девятнадцать тридцать у меня в кабинете соберутся все заинтересованные лица, проведем, по вашему настоянию, консилиум. Но это, Алексей Иванович, исключительно из уважения к вашему имени, а не ради вашей протеже… Да… а пока у нас с вами разговор впустую идет. Ни вы меня, ни в чем не убедите, ни я вас. Пусть решают специалисты.
Кудрин с размаху бросил телефонную трубку на рычаг, сел за свой стол, опустил тяжелую голову на сжатые кулаки… Эта девочка с огромными серыми глазами, бледная, как картофельный росток, была немного младше его сына. Неужто он не сможет ей помочь? А кто, если не он?
Между тем в актовом зале были объявлены имена лауреатов. Шустрые телевизионщики, окружив названных счастливчиков, договаривались, в какое время они смогут подойти завтра на запись телепередачи.
Лена смущенно развела руками:
— Извините, но я не могу вам сказать, смогу ли я быть в студии.
— Да почему же, почему? — наседал на нее бойкий парень в кожанке — редактор будущей передачи. — Ну, как же так! Мы ведь не на танцы вас приглашаем, на съемку!
— И все равно, простите, я не знаю, смогу ли я завтра прийти, — мягко отстранила его Лена.
Оттеснив тележурналиста, к Лене прицепились два корреспондента — один с радио, другой из областной партийной газеты. Перебивая друг друга, они стали задавать вопросы о ее творчестве, планах, пристрастиях.
В это время, отозвав Алексея Ивановича в кабинет, инструктор отдела пропаганды обкома партии завел с ним очень крутой "инструктаж".
— Что это у вас здесь происходит, товарищ Кудрин? Неужели это правда, что лауреатом поэтического семинара стала некая Ершова, психически больной человек? Это что-то неслыханное! А почему бы вам на ближайшие семинары не пригласить зеков из тюрьмы, из исправительно-трудовых колоний?… Неужели наша литература докатилась до того, что кроме психических больных мы уже не можем найти лауреатов?
— Нет, уважаемый Семен Владимирович, — так же жестко и холодно отвечал ему Кудрин, — это не литература у нас докатилась, а докатилось наше общество, коли стало возможным объявлять сумасшедшими совершенно нормальных людей!
— Да вы отдаете себе отчет в том, что вы говорите?! Впрочем, дискуссию эту вы продолжите, я думаю, в кабинете секретаря обкома партии! Вот ему и попробуйте высказать свои соображения о нашем обществе.
— Выскажу! И не только эти соображения…
Чувствуя, что еще немного, и он окончательно потеряет над собой контроль, Кудрин развернулся и зашагал прочь. Уже на ходу вытащил он из нагрудного кармана стеклянную трубочку с нитроглицерином, положил крохотную таблетку под язык, несколько минут постоял, привалившись к подоконнику…
В начале восьмого, буквально вырвав Лену из рук любопытных репортеров, в сопровождении Кошкина и глухо роптавших Владимира Сергеевича и Марины Павловны, Алексей Иванович повел ее в облздравотдел, давая последние наставления:
— Что бы там, девочка, ни было, держись. Помни, что там не самая доброжелательная публика соберется, провокационные вопросы — дело вполне возможное. Ну а станет тебе уж совсем невмоготу, ты смотри на меня, только на меня, хорошо? Сейчас все должно окончательно решиться. Что от меня зависит, я все сделаю, но основное сегодня зависит от тебя.
Ее усадили на стул с гнутой жесткой спинкой. Напротив, за столом, расположилось не менее двух десятков человек. Пришел заведующий кафедрой нервных болезней медицинского института, явился главный невропатолог облздравотдела, здесь же был главный врач областного психоневрологического диспансера, главный врач психиатрической больницы, профессор Шварцштейн, Ликуева…
Лена чувствовала на себе множество изучающих и не меньше — враждебных взглядов, но понимала, что этот кабинет — ее последнее Ватерлоо. Тут для нее или окончательная победа или — полный беспощадный разгром. Третьего не дано.
— Ну-с, начнем? — обратился к присутствующим мужчина с тройным подбородком, и она догадалась, что это сам Рождественский. — Расскажите, как вы, в первый раз попали в психиатрическую больницу, — обратился он к ней.
— У меня была попытка самоубийства. Очень сожалею сейчас об этом.
— Та-ак… Ну, а насколько адекватна была причина такой попытки? Из-за чего вы решились на такой шаг?
— У меня были не очень хорошие отношения с родителями… вернее, с отцом. Но я сейчас думаю, что многого просто не понимала, слишком бурно реагировала на обыденные вещи.
— Но в таком случае, получается, болезненное состояние все-таки вы у себя признаете?
— Нет, это не было болезненным состоянием… Как бы вам это объяснить? Я, наверное, просто была не лучшим образом воспитана. Не научили меня контролировать свои поступки. Ну, и слишком была молода, чтобы правильно понимать многие вещи.
— Вот здесь, в вашей истории болезни, — Рождественский потряс толстой бумажной папкой, на которой ядовитыми зелеными чернилами была выведена ее фамилия "ЕРШОВА", — отмечены все ваши колебания настроения, беспричинные приступы депрессии… Или, по-вашему, врачи неправы?
— Неправы. Как можно назвать "безпричинной" депрессию, когда тебя содержат в сумасшедшем доме месяцами и годами и нет никакой надежды оттуда выйти? И потом издевательства, которые приходится переносить от санитарок и медсестер, вряд ли способствуют благодушному настроению.
Лена вполне овладела собой, мельком глянула на Алексея Ивановича и увидела, что он ободряюще улыбается. Сидевшая рядом с Рождественским Ликуева, буквально позеленев от злости, сверлила ее ненавидящим взглядом. О, если бы она знала, во что выльется этот семинар, если б только могла предположить!..
— Хо-ро-шо… Ну, а теперь скажите нам, пожалуйста, как вы понимаете пословицу "Тише едешь — дальше будешь?" — вступил в разговор Старый Дев — и он, оказывается, был здесь!
Лена почувствовала приступ легкой дурноты и головокружения: опять пословицы… Но, вспомнив, что для нее сейчас решается, превозмогла себя:
— Эту пословицу можно растолковать так: не всегда поспешные действия приводят к желаемым результатам. Для дела полезнее пусть неспешные, но обдуманные действия.
— Правильно, смотри-ка ты! Ну, а как вы понимаете пословицу "Без труда не вынешь рыбку из пруда"?
— Любое дело требует приложения сил. Чем более важного результата хочешь достигнуть, тем больше труда нужно приложить.
— В общем-то верно… Ну, хорошо, а что вы думаете о самой себе? Как вы к себе относитесь? Считаете ли вы себя незаурядным человеком. Или человеком обыкновенным? — перешел на "вы" Рождественский.
И на этот идиотский вопрос Лена умудрилась ответить так, что ее инквизиторы остались довольны.
Долго длился изматывающий душу допрос. Наконец, главный невропатолог поставил Лену посреди кабинета и начал командовать: "Закройте глаза… вытяните вперед руки… Так, не открывая глаз, достаньте левой рукой кончик носа…, а теперь — то же самое правой… А теперь сядьте, пожалуйста"…
Он постукал ее молоточком по коленкам, по локтевым суставам, глубокомысленно похмыкал, тронув ее влажные ладони и оглядывая ее обкусанные ногти… Наконец вынес свое заключение:
— Неврастения — безусловная.
— Ну, это уж, извините, ерунда! — вмешался, не выдержав, Алексей Иванович. — После того, что девчонка перенесла, неврастения это еще очень хорошо.
— Извините, любезнейший, — вмешался Старый Дев, — но заключение здесь будем делать мы. А пока, Ершова, выйдите, пожалуйста, из кабинета.
Лена вышла. Следом за ней выдворили и Кудрина — мол, здесь будет идти сугубо медицинский, специфический разговор специалистов, посторонним здесь делать нечего. Но и Лена, и Кудрин, и Сергей, ожидавший под дверями, отлично понимали, что вся эта белохалатная камарилья лихорадочно ищет сейчас выхода из нелепейшего положения, в которое они попали благодаря вмешательству Алексея Ивановича.
Было уже девять часов вечера. Лена настолько устала за прошедший день, что, если бы ей сейчас объявили, что она все-таки должна вернуться в больницу, вряд ли у нее нашлись бы силы возмутиться. И, если честно, она не очень верила, что даже ответственный секретарь писательской организации может в ее положении что-то изменить к лучшему…
Наконец их пригласили в кабинет. Издерганный ожиданием Кошкин решительно вошел вместе с Леной и Куприным.
— Молодой человек, а вы куда?! — попробовал остановить его Рождественский.
— А я — сюда. Поскольку здесь решается судьба моей будущей супруги!
Присутствующие обалдело переглянулись.
— Еще не легче! — вырвалось у Ликуевой. — Мы же с вами говорили на эту тему, молодой человек!
— Вот именно, говорили, — парировал Сергей. — Мое мнение на этот счет вы знаете. Могу повторить его для всех остальных.
— Ладно, ладно! — примирительно поднял руку Алексей Иванович. — Наша дискуссия и без того основательно затянулась. Итак, к какому выводу пришел высокий суд?
— "Высокий суд", как вы изволили выразиться, — отвесил шутовской поклон в сторону Кудрина Рождественский, — пришел к выводу, что больная Ершова в данное время находится в состоянии, близком к ремиссии. Близком к ремиссии! — поднял указательный палец Рождественский. — Но это вовсе не значит, что она совершенно здорова. Однако, принимая во внимание столь бурную заинтересованность общественности, консилиум находит возможным выписать Ершову из стационара, предоставить ей, как это сейчас практикуется, пробный отпуск из больницы под наблюдение участкового психиатра. Вы удовлетворены? — обратился Рождественский с деланной улыбкой к Лене, Сергею и Алексею Ивановичу.
Лена не могла поверить своему счастью:
— Я могу уйти домой? Прямо сейчас? — она даже не обратила внимания на двусмысленные формулировки объявленного Рождественским решения.
— Можете идти… Только не забудьте завтра заехать в стационар за справкой об инвалидности…
— Как… опять об инвалидности?
— Ведь вы же пробыли в стационаре больше четырех месяцев. ВТЭК восстановил вам вторую группу. Да почему это вас так волнует? — улыбнулся заведующий облздравом. — Вам что, деньги лишние?
— Зачем же мне инвалидность? Я работать хочу!
— Ну, там будет видно. А сейчас — пора расходиться, товарищи. Беспрецедентный случай — уже половина десятого!
Кошкин провожал ее до самого дома. Но зайти отказался — понимал, что у Лены с матерью могут быть сейчас какие-то свои, очень личные разговоры и переживания.
— До завтра! — попрощалась Лена, стоя уже в открытой калитке, и неожиданно для самой себя ткнулась губами Сергею в лоб.
— До завтра! — счастливо завопил он и так крепко поцеловал ее в губы, что она задохнулась.
Очень захотелось ей верить в это самое ЗАВТРА.
* * *
Сразу после больницы, едва, как говорится, придя в себя, она решила зайти на радио. Радиожурналистика, как и журналистика вообще, интересовала ее давно. Случалось, слушая передачи, она злилась оттого, что так вяло, косноязычно идет в них разговор с героем очерка или зарисовки. Ей почему-то казалось, что у нее бы это получилось лучше.
Заикаясь и краснея от волнения, она стала что-то сбивчиво объяснять молодой редакторше — своей ровеснице. И та доброжелательно и спокойно ее выслушала, честно пытаясь понять, чего же все-таки хочет эта необычная посетительница.
— Что вы кончали? — спросила она у Елены.
— Я?.. что кончала?.. — Она вдруг решила, что откровенный разговор — самый правильный. Поймет ее эта благополучная редакторша — замечательно, не поймет — и бог с ней!
— Ничего я не закончила. Только восемь классов. Не пришлось учиться.
— "Не пришлось учиться"? Это в наше-то время? — брови Марины Григорьевны удивленно поднялись. — Но ведь вы совсем молоды! Что же помешало вам учиться?
И тут Елена, что называется, "выдала" о себе все. Вернее, самое основное. И — села, замолчав, спрятав от Марины Григорьевны глаза. Страшно было увидеть недоверие в ответ на свое больное, сокровенное.
К счастью, умной и чуткой оказалась эта красивая лицом редакторша: женским ли, просто ли человеческим чутьем, но поняла она, что правду рассказывает неожиданная посетительница. Хотя, конечно, все это звучало просто невероятно..
— Так, — после несколько затянувшегося молчания произнесла, наконец, Марина Григорьевна, — давайте договоримся с вами вот каким образом: попробуйте свои силы в конкретном деле, сделайте репортаж из ПТУ. О проблеме свободного времени среди учащихся. Сможете? Вот вам магнитофон. Это — "Репортер-6". Смотрите, как он работает…
Выйдя из радиокомитета, Елена, слегка сгибаясь под тяжестью портативного, но весьма увесистого магнитофона, решила, что в лепешку разобьется, а хорошую радиопередачу сделает.
Через день она пришла в молодежную редакцию с готовым материалом, намаявшись и с пэтэушниками, и с магнитофоном: пэтэушники оказались людьми крайне неразговорчивыми, а магнитофон — весьма капризным агрегатом.
Пока Марина Григорьевна читала исписанные крупным школьным почерком листы, Лена не находила себе места от сомнений: ей казалось, что редакторша так долго читает ее материал потому, что стесняется откровенно сказать, что принесла она никуда не годную писанину. Да и в самом-то деле, с чего это она решила, что радиожурналистика — доступное ей дело? Кто это сказал?..
— Кто вам помогал готовить этот материал? — неожиданно спросила она Елену.
— Никто… Я сама… А что, плохо?
— Хорошо. И даже очень. Во всяком случае, нетрадиционно, — добавила она. — Возьмите-ка вы еще одно задание…
* * *
Школьный репортаж она делала уже с большей уверенностью, что у нее непременно должно получиться.
И снова Марина Григорьевна, прочитав уже готовый материал, похвалила его.
Так начиналось ее сотрудничество с молодежной редакцией. Кто-нибудь назвал бы это невероятным, но уж так складывалось, что каждый выход в эфир был у Елены заметным.
Очень быстро, уверенно начала она нарабатывать себе журналистский авторитет. Находила с людьми нужный тон, и люди ей верили, открывались, и тогда на душе у нее был настоящий праздник: говорили с ней перед микрофоном искренне, душевно, открыто…
А несколько месяцев спустя Марина Григорьевна как-то буднично спросила ее:
— Лена, а вы не хотели бы поработать у нас в штате?
Она вспыхнула, растерялась как школьница:
— А как же я без образования? Меня ведь не примут!
— Примут. Раз я говорю — примут!
Так Елена стала штатным сотрудником молодежной редакции радио…
Весь опыт предыдущей жизни приучил ее к мысли, что в жизни всего нужно добиваться с боем, преодолевая всевозможные трудности. А тут — будто на блюдечке с голубой каемочкой — принесли и положили: на, мол, свою долю-долюшку по закону!..
Принять это как должное, привыкнуть к этому было очень сложно. Мешал след, оставленный в душе Елены психушкой. Еще много-много лет спустя ей приходилось постоянно кому-то доказывать, что и она чего-то стоит, что и она на свете живет не зря. Самое, пожалуй, ужасное для человека, побывавшего в состоянии униженности и задавленности — это сохраняющееся на долгие годы чувство собственной неполноценности, вечная неуверенность в себе, в своих силах.
Даже если Елена слышала от коллег добрые слова о себе, она мгновенно внутренне ощетинивалась, потому что ей казалось немыслимым, что кто-то может ее всерьез, от души похвалить. А если это не от души, значит, издевка! — так думалось ей частенько.
И, волей-неволей, за нею закреплялась репутация "способного, но странного человека", хотя она все время пыталась доказать окружающим обратное.
…Зато с Сережей Кошкиным после того памятного вечера, когда на областном литературном семинаре решилась ее судьба, ее отношения приобрели характер вполне определенный.
На другой день после консилиума он пришел к Ершовым. Долго сидели втроем — Елена, мать, Сергей, пили чай, сумерничали, хохотали так, что стекла в окнах дрожали, после всего пережитого все они немножко впали в полуистерическое состояние, все их реакции были немножко нервозны.
Так за столом и не заметили, как глухая ночь наступила. И уж как-то так получилось, что когда далеко заполночь он тихонько прокрался к ней из кухни, где мать на полу устроила ему постель, она его не прогнала.
Не прогнала, хотя еще совсем недавно не могла бы даже вообразить себе такого. Она даже не стыдилась этого, не чувствовала никаких угрызений совести, как будто все, что происходило между ними, назревало давно и было даже желанным.
Кошкин был настолько нежен и бережен с нею, что яростное отношение к мужчинам, которое Елена испытывала много лет подряд после пережитого в отрочестве насилия, вдруг оставило ее. Она впервые вроде бы почувствовала себя женщиной, и оказалось, что это — приятно.
Так стали они жить вместе: Сергей, Елена и мать. Несколько месяцев спустя они зарегистрировали брак, но фамилию Елена оставила свою. Сергей не настаивал, чтобы она стала Кошкиной, хотя, чувствовалось, его самолюбие задето.
Елена любила его, но какой-то уж чересчур спокойной, рассудочной любовью. Иногда ей даже казалось, что никакая это не любовь, а самое простое чувство человеческой благодарности к Сергею за поддержку, участие в самое трудное для неё время жизни. Такие мысли она старалась гнать, они ей самой казались кощунственными. А Сергей тонко улавливал ее сомнения. Часто она ловила на себе его недоумевающий, грустный, изучающий взгляд и тогда испуганно вздрагивала. Сергей явно чем-то мучился, что-то серьезно обдумывал…
Однажды Елена почувствовала, что в их семействе, кажется, скоро будет пополнение. Это и испугало, и обрадовало ее. В тот вечер она как раз хотела поговорить с Сергеем на эту тему. Но вечер и начался, и закончился совсем не так, как она рассчитывала…
— Скажи мне честно, — без всяких предисловий начал он разговор. — Ты ведь не любишь меня?
Елена глянула на него исподлобья и поняла, что просто не имеет права врать.
— Ты знаешь, — спокойно и твердо начала она, — я тебя, Сергей, очень и очень уважаю. А большего ты от меня, пожалуйста, не требуй. Я не знаю, что такое любовь. Может быть, я вообще никого и никогда не полюблю…
Они долго-долго сидели рядом, но между ними уже, казалось, пролегла неоглядная, непреодолимая пустыня.
Наконец Сергей молча поднялся, достал из-под кровати свой старенький чемодан и очень аккуратно, спокойно стал складывать туда свое барахлишко.
Она сидела, оцепенев… Наверное, ей следовало кричать и плакать, просить у Сергея прощения и проклинать его, но она лишь каменно, упорно молчала. Может быть, потому, что интуитивно понимала: его уход — самое правильное в их жизни…
Он стоял уже у порога с чемоданом, когда дверь отворилась и вошла мать. Бессильно упав на табуретку у входа, простонала:
— О-ой, ребята, да что же вы делаете-то, что ж вы задумали-то, мои хорошие! Сереженька, Ленушка, что вы делаете-то?…
— Ма, успокойся! — деревянно улыбаясь, попросила ее Лена. — Я прошу тебя, молчи! Свои дела мы будем решать сами…
Она подошла к Сергею:
— Прости меня, ладно? Если я виновата в чем-то…
— Глупенькая ты! — вымученно улыбнулся он и нежно погладил ее по щеке. — Глупенькая ты моя… Ничего, все нормально. Главное, чтобы тебе было хорошо. Прощай! — и он шагнул в сгустившуюся тьму…
Глухая вьюжная ночь стонала под окном, а она, уставясь в заоконную темень, мысленно спрашивала себя: "А дальше — что?… Что — дальше?"…
Ответа на этот вопрос найти было невозможно.
* * *
…Работа на радио давала ей самое главное, без чего нормальная человеческая жизнь вообще невозможна: успокоение, чувство собственной значимости, уверенности в своих силах. Отношения с новыми товарищами по работе у нее складывались доброжелательные и спокойные. Никто не лез ей в душу, не вызывал на ненужные откровенности, не интересовался подробностями ее жизни. Той несколько истерической обстановки, что свойственна по преимуществу женским коллективам, а также недоброжелательности и нездорового любопытства здесь не было, и Елена очень радовалась этому.
Как рыба в воде, чувствовала она себя в разговорах с подростками, стариками, людьми простого труда — колхозниками, рабочими. После таких встреч у нее шли в эфир добротные материалы.
Но если ей поручали подготовить передачу о жизни какого-нибудь профсоюзного комитета, о проблемах и достижениях какого-нибудь парткома, исполкома или месткома, она чувствовала настоящий ужас.
Ее интересовали люди. И не только по работе.
Чем больше приходилось ей бывать в разных районах, тем сильнее тревожил ее вопрос: что происходит в деревне? Всё больше напрочь спившегося народу, даже женщины пьют по-черному, рожая полудебильных, а то и вовсе дебильных детей. Нередко она встречала в одной избе с грудничками на руках тридцатилетнюю мать и ее четырнадцатилетнюю дочь. И пили за одним столом, с одними и теми же кавалерами — все они же… Нищета духа, нищета тела, нищета стола — всё соединилось в диких картинах, которые для самой деревни непонятно как и когда стали нормой…
Помнится, в одной из сельских школ она попросила, чтобы ей дали возможность поговорить с кем-нибудь из толковых старших школьников — чтобы микрофонов не боялся, нормально разговаривать мог.
Завуч по воспитательной работе посоветовала побеседовать с девятиклассницей, секретарем школьной комсомольской организации: мол, она у нас — из лучших!..
И вот в пионерской комнате Елена включив магнитофон: "Расскажите, Альбина, как вы здесь живете, чем занимаетесь в свободное время, куда ходите? Меня интересует школьный комсомол".
— Ну, че? Свободное время мы ниче проводим. В клуб ходим, на дискотеку. В кино ходим… Ишо, эт-та в птеку ходим, книжки берем…
— Куда, куда ходите? — переспросила Елена не поняв, о чем толкует эта внешне перезрелая девица. — В… куда?
— В птеку.
— Это что же, что-то среднее между, аптекой" и "библиотекой"?
— Ну, в библиотеку, кака разница?
— А вы сами любите читать?
— Ну, люблю.
— А что вы в последний раз брали в библиотеке?
— Ну, книгу.
— Какую?
— Ну, че — "какую"? Интересную!
— Да о чем книга-то, какого автора?
— Ну, а поче я помнить-то буду? Я уж забыла…
Фантастический диалог? Увы, такие разговоры происходили в сельских школах очень часто…
Однажды Елена разговаривала с третьеклассницей.
— Как тебя зовут?
— Жанна.
— Чем ты, Жанна, увлекаешься в свободное время?
— Читением.
— А что читаешь-то?
— А вота…
И чумазая девочка показывает бережно обернутую в старую газетку "Книгу для чтения" по школьной программе.
А когда попадались светлые, умные головки в деревенской глуши, то сколь же вопиюще одинокими выглядели они на фоне всеобщего духовного убожества!
Как-то раз, тоже в сельской школе, она познакомилась с мальчуганом, четвероклассником. Пытливый взгляд открытых ясных глаз, внешняя аккуратность, чистоплотность, подчеркнутая вежливость в разговоре со старшими — все выдавало в нем мальчика незаурядного в своей среде.
Елена разговарилась с ним. Алеша, так звали мальчика, учился на одни пятерки, мечтал стать врачом, а пока был в доме старшим из четырех братьев, первым помощником родителей. Он мог и корову подоить, и в стайке почистить, и дров наколоть, и воды натаскать, и порядок в доме навести, и поесть сготовить. Ну, и за младшими братьями присмотреть, конечно.
— А когда же ты уроки делаешь?
— Спать меньше надо! — улыбнулся Алеша. — Кто рано встает, тому Бог дает — знаете? Я встаю утром вместе с отцом, это часов в шесть. Перед школой на свежую голову все уроки успеваю как надо выучить, младших в садик отвести, так что времени хватает.
— Ну, ты молодец… А кто же твои родители?
— Папа у меня — лучший механизатор колхоза, у него грамот — куча, и даже две медали за труд есть. А мама — лучшая доярка колхозная. Она на этой своей ферме чуть ли не ночует, поэтому и коровы у нее такие. Так что мне уж дома приходится хозяйничать.
И тогда Елена, движимая чувством восхищения перед таким семейством, спросила, как нечто само собой разумеющееся:
— Ну, наверное, у тебя, Алеша, папа с мамой — коммунисты?
— Вы что! — махнул рукой Алеша. — Папка сказал: "партейные" ищут, где лучше, где выгоднее.
Хотя были, и немало, коммунисты, которые выполняли самую рядовую, грязную работу, ни в какие "начальники" не лезли. Но, когда колхозный парторг, ничуть не стесняясь односельчан, направлял на свой двор три-четыре тракторных тележки отборного сена, а старухи-колхозницы в это время докармливали своим буренкам последнюю соломку вперемежку с собственными слезами, такое мнение народа о "партейных" было оправданным.
Произвол начальства в деревнях страшнее и нестерпимее, чем в городе. Потому что в селе кроме как в колхозе и работать-то негде. А поссоришься с председателем, парторгом — доброй жизни потом уже тебе не видать. А не каждый, далеко не каждый сельчанин может выдержать переезд на новое место. Не так-то просто для деревенских жителей покинуть родные места, престарелых родителей, многочисленную родню. В конце концов, даже в материальном плане многие просто неподъемны. Вот и живут, скрипя зубами, терпят выходки доморощенных мафиози, теряя последнюю веру в какие-то добрые перемены, предаваясь пьянству.
* * *
В деревенской жизни очень часто трудно оказывалось найти виновника конкретного безобразия и запустения. И, пожалуй, именно это казалось Лене самым безысходным в трагедии нынешней деревни.
Как-то раз, пыля на "газике" районной газеты по бесконечным проселочным дорогам с фотокорреспондентом той же редакции Василием Жуковым, Елена обратила внимание на то, как лихо несется перед ними черная "Волга". Ясно было, что это — начальство не районного уровня, как минимум, визитеры из обкома партии. Журналисты решили к ним пристроиться.
А машина благородного "партийного" окраса держала путь в ближайший колхоз, на ферму. Вот "Волга" затормозила, и из нее вывалился человек в дорогой светлой дубленке. Не мешкая, он направился не к центральному входу, а куда-то на задворки. Елена с фотокорром пошли следом.
Позади фермы, занесенные стылой поземкой, лежали целой горой замороженные новорожденные телята — как потом выяснилось, их было более шестидесяти. От этого зрелища замутилось в голове.
Человек в дубленке глухо выматерился.
— Кто такие? — отрывисто спросил он у Елены и Василия. Те представились.
— А что здесь происходит? — в свою очередь поинтересовалась Елена, и заведующий сельхозотделом обкома партии Владимир Иванович Петровских, им оказался человек в дубленке, поведал, что в обком поступил анонимный сигнал о безобразиях на этой ферме. Решил проверить лично, не ставя в известность местное руководство, сел на "Волгу" и пустился в путь. И вот, на тебе, какие сюрпризы!..
Вместе тронулись на центральную усадьбу, к правлению колхоза. Кое-как разыскали председателя — явно с большого похмелья, еще дурной, не проспавшийся, он сидел в своем кабинете, бессмысленно хлопая глазами, а Владимир Иванович, мотаясь из угла в угол, безжалостно разносил его:
— Что ж ты, Павлович, такая свинья, а? Давно ли мы твое персональное дело разбирали, с каким трудом тогда отстояли тебя! А тебе неймется. Что у тебя на третьей ферме творится, а? Откуда там столько дохлых телят?
— Дак, Владимир Иванович, — кое-как начав соображать, чем же он вызвал гнев высокого начальства, стал оправдываться "Павлович". — Дак ведь на той ферме-то телочки содержатся, вот что! Сами знаете, не время им было телиться…
— А-а! — в свою очередь облегченно улыбнулся, даже засмеялся Владимир Иванович. — Говенный ты, конечно, хозяин, Павлович, да только всеж-таки это картину меняет…
Как уяснила себе из их разговора Елена, на злополучной ферме содержались телочки, отел которых запланирован не был. Но какой-то коварный бык — из чьего-то единоличного хозяйства, надо полагать, частник рогатый, провалился бы он! — телочек огулял. И вот среди зимы ни к селу ни к городу пошли отелы. Но ведь их же никто не ждал! Никакого телятника и близко там не было, телята бы так и так подохли. И тогда скотники стали вытаскивать новорожденных телят на сорокоградусный мороз…
Правда, Елена не могла понять: даже сейчас в современной деревне новорожденных ягнят и телят от собственных коров и овец сельчане содержали в домашнем тепле, берегли их, лелеяли, как детей. Почему же колхозный приплод оказался никому не нужным? Ну, ладно, прибавления на ферме "не ждали". Почему же новорожденных телят нельзя было раздать тем же колхозникам за какую-нибудь чисто символическую плату — ведь вырастили бы, выпоили для себя-то! Оказывается, и этого нельзя, видишь ли, непонятно, по какой статье нужно было бы полученную от колхозников плату вносить в колхозную кассу.
— Ну, бесплатно бы отдали! — в отчаянии чуть не крикнула она Павловичу с небритой опухшей мордой племенного быка.
— Э-э, голубушка, ты че! — засмеялся он. — Бесплатно, знаешь, и чирей не соскочит. Как это — "просто отдать"? Такого никогда еще нигде не было!
— Но ведь и телят морозить — такого не было! Я еще о таком не слыхивала!
— А все ж так это получается более справедливо. Да… Ну, на хрен начали они телиться? По какой статье прибавление в хозяйстве пошло бы?
— Значит, прибавление в хозяйстве — нельзя, нет такой "статьи", а урон — можно, статьи всегда соответствующие найдутся?
— А че, конечно! — заржал довольный Павлович, понимая, что грозу, кажется, проносит стороной.
— Ты, вот что, Павлович, — озабоченно начал давать распоряжения Владимир Иванович, — ты сегодня же пошли мужиков к ферме, да падаль эту пусть соберут да отвезут куда подальше… понимаешь? А то, раз уж начали пописывать, опять куда-нибудь напишут, приедет какая-нибудь проверка, и, сам знаешь, дело можно по-разному повернуть. Так что давай, разворачивайся!
— Понял, понял, понял! — расплылся в угождающей улыбке Павлович. — Я сейчас же распоряжусь…
И, другим, уже более интимным, что ли, тоном, предложил:
— Пока что, пойдемте ко мне, отобедаете, а там уж — куда вам надо… а?
— Ну, что, — как к сообщнице, ничуть не сомневаясь, что Елена "все поймет правильно", повернулся к ней заметно подобревший Владимир Иванович, — пойдем-ка на обед к хозяину!
И, самое печальное, Елена не нашла в себе сил протестовать, воевать, что-то доказывать — ее буквально уничтожило то, что начальник такого уровня, такого масштаба практически помогает пьянице-председателю заметать следы совершенной гнусности. Значит, это — норма? Значит, так — везде? Концы в воду, и — все в порядке, как говорится, Вася — не чешись?…
Обед у председателя затянулся на два часа. Когда они появились в просторной, основательной председательской избе, на кухне у него уже был приготовлен столь щедрый, хлебосольный стол, что впору и поважнее кого-то принимать: лежали на тарелках соленые грузди, толстые ломти розоватого домашнего сала, соленые помидоры, квашеная капуста, копченая рыба домашнего же изготовления, стояла, шкворча, огромная сковорода с нажаренной свининой, исходила паром отварная картошка… И кувшин с молоком был тут же, и банка с домашней сметаной, которую чуть ли не ножом надо было резать, и отварная курица, и огненные пельмени… И, будто последний мазок в многокрасочной картине, довершала все это великолепие батарея бутылок с разноцветными наклейками. Были здесь и водка, и портвейн, и сухое вино, и даже диковинная бутылка с импортным коньяком… Видно, большими неприятностями пах этот неожиданный визит завотделом обкома партии, если Павлович счел нужным так раскошелиться…
И зазвенели рюмки, загудели тосты, зазвякали вилки, тарелки, ножи…
Тостов было много. Так много, что, когда, наконец, вылезли из-за стола, Елена с ужасом увидела, что и шофер, и фотокорр сейчас не способны ни на что, кроме как завалиться на боковую и отсыпаться, как минимум, до утра…
Так пришлось остаться с ночевкой в колхозе. Поместили их в колхозном доме приезжих, где никаких приезжих кроме них на тот момент не было. Так что каждому досталось по отдельной комнате.
А после, уже прощаясь с весьма гостеприимным "Павловичем" и Владимиром Ивановичем, Елена услышала доброжелательно-наставительное: ""Ну, Елена Николаевна, надеемся, что визит в эти места у вас не последний, не так ли? И с добрыми людьми лучше не ссориться!" Последнее уже было даже не наставлением, а весьма прозрачным предупреждением…
Однажды, уже в другом районе, приехав на колхозную молочно-товарную ферму, она увидела картину из еще не поставленного фильма ужасов о современной российской деревне: в жуткий мороз в загоне, на пронизывающем до костей ветру, жалко жались друг к другу костистые, буквально кожа да кости, коровы. Что у них был за вид! Лысые бока, лысые хвосты, голые спины…
— Что же это такое?! — спросила она у старика-сторожа. И тот, сплевывая, флегматично заметил:
— Ты, че, лысых коров, девка, не видывала, че ли? Новая порода, х-хы… "Колхозная" называется. Жрать-то все живое хотит, а когда кусать нечего, так и волосья друг у друга выщипывают… да… Вот тебя не покорми, дак и ты начнешь у друзей-приятелей волосья жевать…
— Да почему же их не кормят?! Кормов нет, что ли?!
— Дак, почему нет кормов, есть корма, куды они делися… Просто скотники кой день уже гулеванят, некому кормить-то.
— Ну, а доярки?
— А доярки, девка, с ними же поливают… Тоже уж сколь коровы-то недоены. Молока уж от них теперь не будет. Запустили коров. А на мясо их — дак кто у нас эти мослы-то возьмет? Вот и думай, чево с ними делать, с этими одрами…
Дед сидел, подымливая самокруткой, а коровы с глазами святых великомучеников, помыкивая-постанывая, тянули к ним из-за загородки тоскливые морды.
И Елена, круто развернувшись, ушла. А что она могла сделать? Найти загулявших скотников, доярок, прочитать им мораль о том, что нехорошо, мол, скотину голодом морить, что все живое хочет жить? Так они и без нее очень хорошо это знали. Потому что даже самая пьяная, загульная баба никогда не оставляет свою личную корову недоеной-непоеной, и кормушка у ее личной коровы всегда полна. А колхозное — это невесть чье добро, ради чего дояркам там надрываться?…
Начни с ними разговор, их не перекричишь — будут орать, не слушая друг друга, о своей тяжелой жизни, будут совать ей под нос свои уже в двадцать лет совершенно изработанные руки, и нечего будет ответить на их больные, неразрешимые "где?", "когда?" и "как".
— Где купить ребенку хотя бы каку-никаку книжку, игрушку, шапчонку, штаны?!
— Когда в наших магазинчиках хоть бы кака вшивая колбаса появится?!
— Почему к врачу нужно ехать в райцентр аж за восемьдесят километров?
— Неуж за девяносто рублей мы будем надрываться на той ферме?!..
Что им сказать, этим безвременно постаревшим бабам, живущим от получки до получки одной радостью: будут деньги — хоть маленько гульнуть, отвести душу?… Корить их неисполненным гражданским долгом, пугать их суровыми лозунгами, давить на их "сознательность"? Не получится. Все они уже видывали, все они уже слыхивали, больше не получится.
Елена, разъезжая по отдаленным районам, все чаще и чаще задавалась мыслью: так кто же ненормален все-таки, она или так называемая "власть", установившая порядки, от которых люди волей-неволей начинают заниматься откровенным вредительством, спиваются, бездельничают на рабочем месте?
Возвращаясь из командировок, все свои сомнения Елена несла Марине Григорьевне. Та выслушивала ее запальчивый рассказ, а после, мудро и спокойно улыбнувшись, говорила:
— Ах, Елена, Елена, ты — как восторженная десятиклассница! Ты что, вполне серьезно полагаешь, что вот этого никто не знает, не ведает, и ты вот явилась и открыла нечто ужасное, да? Успокойся! Всем это все давно известно. Удивляться тут сильно нечему. Все идет так, как должно идти. И мужики в селе — такие, какими их сделала наша система. А что ты можешь против системы? — Ничего, как и любой отдельно взятый гражданин. Так что не сходи с ума, спокойненько делай свое дело…
Что значит "свое дело" и "не свое дело"? Кто их разграничил, эти дела, на те, что нам посильны, и на те, что непосильны? И что есть "здравый смысл" в общепринятых понятиях, можно ли его, этот "здравый смысл", каким-то образом вывести — как математическую формулу, например? Ее "дееспособность" много лет подряд пытались определить, задавая ей совершенно дурацкие вопросы, пословицы и загадки — по сей день кошмарами возвращается к ней по ночам эта больничная действительность. Почему же никто даже не пытается определить "дееспособность" тысяч и тысяч председателей колхозов, парторгов, председателей райисполкомов, секретарей сельсоветов и горсоветов, отдающих бессмысленные, а нередко вредительские приказы? Почему никто не усомнится в их дееспособности и здравомыслии?…
От наваливающихся вопросов болела голова, но ответа на них она не находила. Впрочем, довольно быстро она поняла, что весь строй нашей жизни таков, что доискиваться ответа на эти больные вопросы просто бессмысленно, нужно все принимать как данность и не пытаться воевать с ветряными мельницами.
Не понимая все это, нельзя было отделаться от мысли, что по всеобщему негласному уговору совершается какое-то невиданное общенародное, общенациональное преступление! Можно ли молчать об этом!
Впрочем, хотя бы один верный вывод для себя она успела сделать: если с кем и делилась своими сомнениями, так только с Мариной Григорьевной. Для всех остальных она была просто Леной — добрым и умным, хотя и несколько странноватым человеком. Впрочем, в среде творческих работников быть "странным" не возбранялось, в этом даже видели какой-то особый шик. Похоже было, что учетом у психиатра — а на учете были и другие ее коллеги — даже гордились. Все дело было, видимо, в том, что "учетные" просто играли. Никто из них не знал, и слава Богу, что такое на самом деле псишка. И поэтому, когда в журналистской компании начинался очередной треп по части того, кто и как "поехал", Елена тут же старалась незаметно исчезнуть. Для нее этот смех был хуже святотатства.
Глава 12
Когда мама поняла, что скоро станет бабушкой, она и растерялась и обрадовалась. Но ничего дочери не говорила, только однажды, как будто случайно, у нее вырвалось: "А как же ребенок без отца-то будет?"
Но Елена сделала вид, что ничего не слышала, и больше они к этому разговору не возвращались. А мать поняла, что лучше ей в эти дела не вмешиваться…
Когда Марина заметила, что Елена беременна, последовал вопрос:
— Как у тебя дела с твоим Сергеем? Вы окончательно разошлись?
— Да.
— Ну, а с алиментами как? Через суд или у вас джентльменский договор?
Елена пожала плечами:
— Никаких уговоров… Не надо мне алиментов!
— Да ты с ума сошла! Ты что? Это же к самой себе неуважение! Ты что, нагуляла себе ребеночка, что ли? Нет, надо будет подать на алименты!
— Нет, — тихо, но очень убежденно повторила Елена. — Никаких алиментов.
И Марина Григорьевна поняла, что говорить с ней на эту тему бесполезно…
Нужно было вставать на учет в женскую консультацию.
Но у Елены еще с подростковых времен образовался стойкий болезненный комплекс негативного отношения к гинекологии. Не однажды, настроившись должным образом, отправлялась она к зданию женской консультации, но, потоптавшись нерешительно у входа, круто разворачивалась и шла обратно.
А беременности уже было пять месяцев. И на работе Елену частенько останавливали сотрудницы и спрашивали, доброжелательно улыбаясь:
— Ну, когда собираетесь в декрет?
Она, обливаясь холодным потом, буркала в ответ нечто невразумительное и спешила удалиться…
Ситуация складывалась просто невозможная: при всем наконец-то достигнутом ею благополучии, внешней благоустроенности жизни она, в сущности, оставалась страшно одинокой, даже посоветоваться ей было не с кем.
Тревожить такими разговорами мать ей не хотелось. Обращаться к Марине Григорьевне — тем паче. А о разговоре с кем-либо из окружающих и вообще не могло быть и речи.
И когда беременность уже пошла на восьмой месяц, Елена после долгих мучительных раздумий и колебаний отправилась в отдел кадров, положила на стол перед начальником Александрой Фоминичной, пожилой сухощавой женщиной с холодным лицом и острыми, ничего не упускающими из виду глазами, заявление с просьбой перевести ее на работу по договору.
Прочитав заявление, Александра Фоминична с удивлением глянула на Елену:
— Как это понимать? Ведь тебе, я вижу, не сегодня-завтра в декрет? Зачем тебе работа на договоре?
— Я… видите ли, мне сейчас трудно работать целый день. А на договоре я сама себе хозяйка, буду приходить, когда мне нужно, и уходить так же… — сбивчиво начала пояснять она.
— Ох, Ершова, что-то не то ты говоришь! — вздохнула Александра Фоминична. — Ты же знаешь, попасть на работу в наш комитет не так-то просто. Тебе повезло, взяли, потому что у тебя ходатай Марина. Она тут нам покоя не давала, все ходила, втолковывала, какой ты журналист прирожденный, хотя и без образования… Что же ты ее-то подводишь?
— Чем это я ее подвожу? — вскинулась Елена. — Я, наоборот, не хочу, чтобы из-за моих личных трудностей ей потом кто-то выговаривал, что у нее человек числится, а не работает. Я-то как раз хочу все по-честному!
— Но ведь на договоре, Ершова, оклада у тебя не будет, подумай! Ты будешь получать только гонорар, только то, что заработаешь. А это значит, что месяц — густо, месяц — пусто, а другой месяц — как придется… Нет, подумай-ка ты еще, да как следует! В твоем положении принимать такое решение просто безумие.
— Может быть… Но я так хочу!
Александра Фоминична пожала плечами, побарабанила пальцами по картонной папке, куда она подшивала какие-то документы.
— Ну, что ж, своя рука — владыка… Я доложу твою просьбу председателю.
Через несколько дней в трудовой книжке Елены была сделана соответствующая запись, и она стала "вольным казаком". Правда, когда Марина Григорьевна узнала о ее самовольном решении, обычная невозмутимость покинула ее:
— Господи, Елена, что же ты такие глупости вытворяешь? Пошла, не посоветовалась, подала заявление… Ты уж не о себе, о ребенке бы подумала!
Лена в ответ только рукой махнула. Разве объяснишь всем, даже столь доброжелательно настроенной Марине, что ее мучает, какие соображения и сомнения? Нет, это ни к чему. Пусть ее проблемы останутся только ее проблемами…
* * *
И все же ей непременно нужен был человек, с которым можно было поговорить обо всем на свете, не боясь, что тебя поймут как-то не так, превратно истолкуют твои слова и действия. Такими людьми для нее последние годы были Иван Александрович, Ворон, и Татьяна Алексеевна, Фея. Но ведь не поедешь же в психбольницу только для того, чтобы вызвать кого-то из этих врачей и сказать: "Здравствуйте, я приехала поговорить с вами, а то меня никто не понимает, и говорить я с людьми просто боюсь!"…
Как-то раз, прогуливаясь по центру города, она неожиданно оказалась у здания, где помещался областной психоневрологический диспансер. Не вполне даже осознавая, зачем она это делает, Елена зашла в это печально знакомое ей заведение — участковый врач уже дважды присылал к ней домой патронажную сестру и несколько раз — письменные вызовы с приглашением прийти на прием. Она отговаривалась от этих приглашений нехваткой времени. А тут вдруг зашла…
Елена долго стояла у какого-то кабинета, сама, собственно, не зная, что ей здесь нужно. Уже собралась было уходить прочь, как вдруг на ее плечо опустилась ласковая теплая ладонь:
— Лена?! Здравствуй, моя хорошая! Что ты, детка, здесь делаешь?
Елена обернулась и радостно вздохнула: это была старая знакомая, врач-психиатр, Нина Алексеевна Соснина. В свое время она работала в психбольнице, одно время даже была у нее лечащим врачом, но потом ушла работать на кафедру психиатрии, которая как раз находилась здесь, в диспансере.
Удивительным человеком была эта Нина Алексеевна: добротой и всепониманием лучились ее глаза, казалось, вся она настроена на отзывчивость и ласку, все больные для нее были "детками", и протестовать против такого обращения почему-то не хотелось. Ей не нужно было долго и нудно объяснять очевидное, она все понимала с полуслова и очень эмоционально откликалась на любое движение души даже случайного собеседника, понимала и чувствовала чужую боль, как свою.
Когда Нина Алексеевна ушла из стационара, Лена долго переживала эту потерю как личную драму.
Тем более приятной была эта неожиданная встреча. Будто камень с души свалился. Елена, не раздумывая, потянулась к врачу.
— Можно мне с вами поговорить?
— Ну, почему же нельзя, деточка! — тепло улыбнулась Нина Алексеевна, — и это ее "деточка" было желанно и необходимо сейчас…
Они прошли на кафедру, в ее тихий, пустой кабинет.
— Ну, что с тобой происходит детка? — спросила Нина Алексеевна, когда они с Еленой устроились в уютных креслах, и ладонь врача как-то по-домашнему, по-родственному прошлась по ее взъерошенным вихрам уже взрослой, в общем-то, женщины. Это оказалось так восхитительно приятно, что Елена замерла, затаив дыхание и опустив голову…
Та не торопила ее, ждала, когда Елена заговорит сама, поскольку понимала, что без особой нужды она сюда просто не пришла бы. А раз пришла, значит, наболело, значит, помощь человеку нужна…
Кое-как взяв себя в руки, собравшись с мыслями, Елена заговорила, сбиваясь и путаясь:
— Вы знаете, Нина Алексеевна, не могу я никак в себе разобраться. Вот сейчас вроде бы у меня внешне все благополучно: дома — тишина и покой, на работе — полное благолепие. Может быть, вы слышали, у меня часто передачи идут на радио? Так что я вроде всем довольна…
— Передачи твои с удовольствием слушаю. И очень радуюсь за тебя, молодец ты!
— Да нет, нет, какое там "молодец" поморщилась Елена. — Запуталась я, понимаете? Не по себе мне стало… Я, когда в больнице мечтала о жизни "на воле", "на свободе", все представляла себе, как я буду трудности преодолевать, как я буду с великим трудом чего-то добиваться…
— Ну? Что же ты замолчала?
— Но… что-то слишком легко мне все стало удаваться. Вы понимаете, у меня ведь только восемь классов образования, хотя, конечно, книг всяких перечитала немало… Но почему мне так запросто удалось работать вровень с профессиональными журналистами? Я не настолько дура, чтобы верить в какой-то особый свой "талант". Какой там к черту талант! Но тогда — что же? Тогда — наша журналистика, выходит, на столь низком уровне развития? На таком уровне, что даже я, необразованный, в общем-то, человек, получаюсь вполне ценным работником? Или — это вообще уровень развития нашего общества?… Понять я хочу, что происходит. Понять! Я, когда в психушке была, думала, что там, "на воле", умные, нормальные люди, а здесь, в больнице — умственно неполноценные. Там — белое, здесь — черное. Но вот я пришла работать на радио, стала ездить по командировкам. И я уже не могу сказать столь уверенно, что там, в больнице — дураки, а здесь, на воле — умные. Вы знаете, что по селам делается? Губят скот, как будто специально, и это — нормальные люди!.. А детей приучают к пьянству с пеленок, а девчонки с матерями от одних и тех же мужиков рожают — это, что, норма, реалии нормальной жизни, да?… Я много понять не могу, во многом не в состоянии разобраться. Но помогите же мне! Я все думаю, чем же я от "нормальных" людей отличаюсь. Я, может быть, меньше знаю? Да нет, не меньше, чаще гораздо больше. Я, может быть, меньше могу, умею? И это не так, многое я могу, многое умею… Но почему тогда такое чувство собственной неполноценности? Откуда? Я вот часто сижу, письма, что в редакцию приходят, читаю. И, знаете, меня частенько ужасает: какая поголовная безграмотность, какое неумение владеть родным словом, родным языком! Ведь не только и не столько школьники пишут, приходят письма от преподавателей, от студентов, взрослых людей. Почему такая "образованная" безграмотность, такое неуважение к языку? Да и не только к языку.
Хочется работать, хочется что-то из себя представлять, но вот сравниваю себя все время с окружающими, и начинаю свою неполноценность ощущать все больше. Ведь большинство всегда право, правильно? И если большинство людей устраивает такое положение вещей, значит, тогда со мной что-то не в порядке? Я устала обо всем этом думать. Иногда мне кажется, что сумасшедший дом — как раз вот здесь, "на воле", столько вокруг глупостей и несуразностей. А потом присмотрюсь — вижу, что все вроде бы довольны, всех вроде бы всё устраивает. Вот и думаю, думаю: может, все-таки дура-то — я? И правильно меня выписывать из больницы не хотели, правильно говорили, что в психушке — моя пожизненная койка?…
Нина Алексеевна слушала ее сбивчивый, жаркий монолог с некоторой тревогой, но в то же время и с пониманием. О, как ей была понятна эта запальчивость, эта категоричность суждений! Но все же, что ей сказать, как и чем ее успокоить?… — Ты знаешь, моя хорошая, — наконец, произнесла тихо Нина Алексеевна, — ты зря себя мучаешь сомнениями: человек ты более чем нормальный и более чем здравый. Знаешь, в чем твоя печаль? Ты — незаурядна, а в нашей жизни это вполне можно расценить как болезнь. Я надеюсь, что мания величия тебе не грозит, правда? Я думаю, если бы ты немного поменьше задумывалась над происходящим, немного поменьше читала, знала, понимала, у тебя все просто прекрасно складывалось бы. Но у тебя все — чрезмерно, через край, а это есть твоя главная беда или болезнь, это уж как тебе угодно…
Что я тебе могу посоветовать? — Ты все-таки помни всегда о том, что талант — это не столько радость, сколько тяжкое бремя, почти наказание, детка. И еще помни всегда — это умные люди говорили! — что самое приятное — это сделать то, чего от тебя не ожидают. Понимаешь? Вполне возможно, что кто-то где-то ставил на тебе крест. Ну, так ты порази их тем, что они поторопились. Кроме того, учти, пожалуйста, что люди все слишком разные. Не спеши никого осуждать. Ты — другая, совсем не такая, как очень и очень многие. Но никто не знает, кто живет правильнее — ты или эти несчастные "многие". Не суди, не суди никого, детка! И тебе, и окружающим от этого только легче, проще будет жить… Ты ведь сама должна понимать сейчас, что в больницу, в сумасшедший дом тебя завела гордыня. Гордыня же тебя оттуда и вывела. Но если ты ее в себе не будешь обуздывать, множество тревожных и страшных даже вещей придется тебе из-за этого пережить. Я ведь очень много спорила в свое время из-за тебя с коллегами. Дело прошлое уж, и неприятности из-за тебя имела немаленькие. У других, конечно, на тебя и твои проблемы своя точка зрения была, у меня — своя. Я уже повторяюсь: ты — больна, если незаурядность считать болезнью. А ты незаурядна. Но я бы очень хотела, чтобы ты в этой жизни все-таки чувствовала себя поувереннее, поспокойнее. Ты еще со всякой мерзостью столкнешься… Вот многие знают о твоем больничном прошлом. Приятного мало, конечно, но ничего уже не сделаешь, бог с ними, пусть знают. Только не ходи по этому поводу, как виноватая, не мучай себя пустыми сомнениями! Тебе нужно в себя, в свои силы поверить. Ты же — сильная, детка, ты все выдержишь, все сможешь, ты только сама должна в это по-настоящему верить. Понимаешь?
— А как бы вы… вы бы как себя чувствовали, если бы вам столько лет подряд все твердили бы, что вы — человек "пропащий", что из вас "никогда ничего не будет, кроме дерьма", и что "добрые люди помирают, а такие идиоты — по земле ползают"? Еще много чего санитарки на псишке говорили… Я вот все думаю и думаю: почему такие мерзкие люди себя хозяевами жизни чувствуют? Почему они — всегда на коне, а такие, как я — всегда на обочине? Может, надо учиться работать кулаками, локтями, зубами? Может, чем меньше человеческого в нас останется, тем удачливее и счастливее мы станем?
— Деточка, но ведь ты же должна понимать, что и среди нашего брата, медиков, вполне хватает людей недалеких и просто недобрых!
— Ну, а я-то чем виновата, что мне все время попадаются недобрые ремесленники?! — чуть ли не закричала, вскочив со стула, Елена. — Мне-то как жить, мне-то что делать?!
— Успокойся, Лена. Сядь! — властно приказала Нина Алексеевна. — Вот так… Эти твои вопросы вполне можно назвать риторическими. Ты можешь задавать их сколько угодно, ответа на них не требуется… И вот еще что, детка. У тебя в речи слишком много местоимений: "я", "мне", "у меня", "мое", "моя", "обо мне"… Ты помни, пожалуйста, что ты ведь не одна на свете, и люди, умеющие чувствовать тонко и глубоко, существуют вокруг в немалом количестве. Только они так не "якают"… Ты можешь сейчас на меня обидеться, но все-таки прислушайся к тому, что я тебе говорю. Иначе ты никогда не сможешь выйти из своего хронического пике, понимаешь?… А сейчас давай-ка поговорим о более насущном. Ты ведь беременна?
— Да.
— Срок?
— Девятый месяц, кажется…
— Ты что же, не знаешь точного срока?
— Не знаю.
— А что говорит врач?
— Ничего не говорит…
— То есть, что это значит — "ничего не говорит"?
— …
— Да ты была ли на приеме у гинеколога?
— Нет…
— Да ты что? Ты с ума сошла! Это черт знает, что такое! Ты бы хоть о будущем ребенке подумала!
— Думаю… А к гинекологу — не могу идти. Понимаете, не могу! Я бы скорее согласилась черт знает на какую экзекуцию, чем добровольно — на прием… к этому… знатоку женских дел.
— Ой, ой, ой, Леночка, ну, что ты такое говоришь! — Нина Алексеевна покачала головой. — А рожать-то ты как собираешься?
— Ну, как? — как все… Там уж некуда будет деваться.
— И все-таки, я бы тебе посоветовала сходить в женскую консультацию. Хочешь, я договорюсь с хорошим доктором, он тебя посмотрит?
— Нет!
— Ты все-таки подумай, Лена. Ненужный этот стыд необходимо переломить. Ты же не девочка уже, ты — женщина. Как же ты собираешься матерью-то стать? Я бы еще могла понять твои фокусы, если бы тебе лет пятнадцать-шестнадцать было. А ты ведь — взрослая уже, и давно! Что же тут кочевряжиться?
— Ну, Нина Алексеевна, почему даже вы этого не понимаете? Я не могу объяснять постороннему человеку, где, когда, во сколько лет я начала жить половой жизнью, когда у меня последний раз были месячные и были ли у меня аборты. Ну, не могу! Я понимаю, все это производит даже на вас очень странное впечатление, ведь основная-то масса женщин относится к этому весьма спокойно. А я — не могу! Был бы какой-то опросник, что-то вроде медицинской анкеты, на которую можно было бы отвечать письменно — "да", "нет", "может быть", я бы на нее ответила. Ну, почему принято считать, что если врач, так уж бесполое существо? Вот вы мне скажите: вы, врач, с большим удовольствием ходите к гинекологу? Только честно!
— Да как тебе сказать… Честно говоря, иду только потому, что бывает такая необходимость. Тоже особой радости по поводу этих визитов не испытываю. Но у тебя сейчас как раз именно такая необходимость!
— Нет…
И Нина Алексеевна поняла, что спорить здесь бесполезно..
— Ну, тогда давай договоримся. Если у тебя возникнут какие-то сложности, затруднения в отношениях с врачами, ты постарайся сообщить мне. Хорошо?… И еще хочу тебя попросить… просто попросить: постарайся все же как-то привыкать ко всем несуразностям этой нашей "нормальной жизни". Не придумывай ты себе, милая, трагедий, их и настоящих хватает с избытком. Ты согласна?
Елена только молча кивнула…
Глава 13
Шагая по узенькой пыльной улочке городской окраины, на которой прошли ее детство и юность, к своему дому, она все пыталась отделаться от смешанного чувства благодарной признательности и непонятного недовольства по отношению к Нине Алексеевне. С одной стороны, было очень приятно, что она так по-доброму к ней отнеслась, что все она, кажется, правильно поняла. А с другой стороны, было не очень-то комфортно на душе от того, что она так запросто раскусила ее, все разложив по полочкам. Своя боль всегда самая большая. Человек, доказывающий нам, что, в конце концов, происходящее с нами — отнюдь не трагедия вселенского масштаба, рискует нажить в нас откровенного врага.
Да, все, что говорила ей сегодня Нина Алексеевна, правильно и справедливо. Только какие-то обидные это были справедливость и правильность, почему-то никак не хотелось их принимать к сведению.
Конечно, справедливость нужна. Но еще больше человеку нужно, чтобы его хоть кто-нибудь любил. Обязательно! В детстве, юности это — непременное условие для нормального развития психики, интеллектуальных и духовных способностей. В конце концов, любовь, как та самая живая вода, столь необходимая для выживания смертельно раненого человека.
А кто ее любил? Да, конечно, отец. Само собою, мама. Но это была совсем не та любовь, которая требуется человеку в пору отрочества, родительская любовь как бы обязательна, кто же из подростков в ней сомневается!
А отцовская любовь, к тому же, была столь своеобразна, что зачастую казалась ей хуже ненависти, хуже проклятия. Потому что во всех своих чувствах отец был безудержно непредсказуем. Он был из тех людей, которые могут задушить в объятиях.
Мама? Да, конечно, она любила Елену, как последнюю свою надежную зацепку в жизни, как робкую надежду на что-то лучшее. Но материнская любовь — столь же обязательное дело, как необходимость быть благодарным за то, что ты появился на свет. А быть благодарным за это хотелось не всегда, нет, не всегда.
Господи, неужели ее сыну тоже не за что будет ее благодарить?
Странно, она даже представить себе не могла, да и не хотела, что у нее может родиться дочь. Она просто знала, что будет мальчик, сын, и перебирала для него имена: Иван, Михаил, Александр, Антон…
…И вот он наступил, этот день, ожидаемый с тайным страхом и радостью. Мать была на работе. Елена почувствовала, как тупая, едва ощутимая боль внизу живота медленно растет, становится все острее, непереносимей.
Закусив губу, Елена, стараясь не паниковать, вышла из дома и пошла к соседям. К счастью, тете Маше ничего объяснять было не нужно. Бойкая сороколетняя бабенка, едва увидев ее на пороге, понимающе кивнула и, бросив на ходу:
"Я сейчас, мигом, только "Скорую" вызову!" — кинулась бегом по улице к ближайшему телефону-автомату.
"Скорая" приехала минут через пятнадцать. Старая, видавшаяя виды врачиха в сбитом набекрень колпаке, бегло осмотрев Елену, скомандовала: "Ну-ка, собирайся, да побыстрее! Мне еще не хватало в машине принимать роды!" А Елена, оставив на кухонном столе записку для матери, корчась от нарастающих болевых приступов, думала только об одном: "Лишь бы не позориться! Не орать, не орать, не орать!"…
Неприятности начались в приемном покое родильного дома.
— Вы где на учете состоите, женщина? На каком участке? — спрашивала бледную от уже нестерпимой боли Елену холеная, медлительная акушерка, позевывая над медицинской картой, которую еще нужно было заполнить. — И где ваша обменная карта?
— Я?.. где?.. никакой карты у меня нет.
— То есть?! — удивленно и недоверчиво воскликнула акушерка, и всю ее сонливость сдуло, как ветром. — Ничего себе! Я сейчас позову врача. Откуда я знаю, кто вы и откуда. Может, извините, вас с вокзала привезли! А у нас тут чистые женщины, у нас тут дети маленькие!..
Акушерка, постукивая остренькими каблучками, куда-то скрылась, и уже через минуту вернулась назад, в сопровождении огромной врачихи в клеенчатом фартуке и с марлевой повязкой, висевшей на вязочках на ее необъятной груди.
— Ну, что тут случилось? — прогудела басом эта толстуха, плюхнувшись перед Еленой на стул. — Опять вокзальная девочка? Как они все надоели!
— Не вокзальная… — стараясь не терять самообладания и в то же время не завопить от все нарастающей боли, произнесла Елена, покусывая уже опухшие губы. — Не вокзальная! Просто некогда мне было по консультациям ходить! Я — журналист, корреспондент молодежной редакции радио. Не беспокойтесь, не с улицы я.
— О-о! — весьма выразительно прогудела врачиха и многозначительно переглянулась с акушеркой. — Вы знаете, к нам не только "корреспонденты" вот так-то нежданно приезжают. И "генеральские дочки" бывает заглядывают, и "актрисы" нас вниманием балуют… Не удивите вы нас, не удивите!.. Все-таки, почему вы не стоите на учете в женской консультации? Только серьезно, пожалуйста.
— Так получилось!
— Вот это да, "получилось"! Да вы что, из тайги глухой или из джунглей? И если вы действительно журналист, то странная какая-то. Ну, как же так, не знать, не понимать элементарных вещей! А если я вас не приму? Ведь ничего не известно — ни группа вашей крови, ни анализ на эрвэ…
— Господи, да пропади все пропадом! — уставшая терпеть эту муку, прекрасно понимая, что делает глупость, но уже не в силах сдерживаться, проговорила Елена и пошла к двери. — Пропадите вы пропадом со своим роддомом! Как будто я за милостыней пришла, черт возьми! Ну, что вы мне мораль читаете? Лучше под забором родить, чем у вас!
— Женщина, женщина, вы куда?! — заполошно подхватилась врачиха и, выскочив из-за стола, схватила ее за рукав. — Ишь, самолюбие-то какое!.. И ни к чему это совсем!.. На кой вам этот гонор, он вам врача все равно не заменит!.. А обижаться нечего, почем я знаю, кто вы и откуда! Я вас вообще могу не принимать!..
— Ох, боже ты мой! — простонала Елена, сгибаясь от невыносимой боли. И, уже теряя сознание, вдруг безо всякого удивления заметила, что потолок почему-то раскрылатился над ней, как огромная птица, а шершавые доски пола, оказывается, такие теплые и домашние…
* * *
… Открыв глаза, Елена непонимающим взглядом обвела ночную палату с едва теплящимся ночником над ее изголовьем и двумя пустыми койками поодаль. "Это где же я", — подумала она и попыталась приподняться.
Острая боль внизу живота швырнула ее обратно, на подушку, и, чуть отдышавшись, сглатывая выступившие от неожиданного ощущения слезы, она тихонько, боязливо осторожно провела рукой по телу.
На животе была наклейка. И под ней нестерпимо пекло, как будто кто-то вонзил ей в живот толстые раскаленные гвозди. "Операция у меня была, что ли?" — удивилась она, сразу вспомнилась ей врачиха в приемном покое, и навалившийся на нее сверху потолок…
"А ребенок?! — поняв, наконец, что произошло, потрясенно ахнула Елена. — Где мой ребенок?!"
Она беспомощно огляделась по сторонам. В пропахшей острыми медицинскими запахами палате было чисто и сиротливо-пустынно. В чуть приоткрытую дверь, ведущую в больничный коридор, доносились шаги дежурных сестер, где-то далеко-далеко плакали новорожденные детишки — будто маленькие слепые котята мяукали, а в палату никто не заходил…
Ей казалось, что она сто раз успеет умереть, а здесь так никто и не появится. За свою жизнь она ничуть не беспокоилась, ей даже казалось, что умри она сейчас — и наступит столь желанный покой, и ничего больше ей будет не нужно. Но ей очень хотелось знать, что случилось, какую это ей сделали операцию, и, главное, где же все-таки ее ребенок, жив ли он…
Эта ночь была длиннее самой вечности. За окном стоял июль. В открытую форточку доносился запах цветущей полыни и каких-то резко пахнущих цветов. Елена вспомнила, что вокруг роддома (это она успела заметить, когда шла к приемному покою) все усажено цветами, самыми разными… Но даже за окно она не могла выглянуть. Ночной ветерок колыхал тяжелую занавеску, а она, недвижная, была брошена всеми. Это одиночество среди людей наедине с болью и страхом заставляло ее сердце сжиматься в предсмертной тоске, и слезы, не переставая, катились по ее лицу…
Очень хотелось пить. Во рту пересохло, кажется, за глоток воды можно было бы заплатить половиной своей жизни. Да что же это такое, навсегда, что ли ее сюда забросили, в это одиночество и в эту безвестность?! Но кричать, звать кого-то она все же не осмеливалась. Хотя вот-вот готова была разразиться воплем: "Да есть здесь кто-нибудь, хоть кто-то живой?!.."
Наконец, когда густой мрак за окном стал пожиже, в палату в сопровождении молоденькой и, чувствовалось, чем-то сильно раздраженной медсестры вошел пожилой, измученный тяжелой бессонной ночью врач.
— Ну, как у нас дела? — по заведенному шаблону спросил доктор, и тяжело, тоже слишком шаблонно, опустился на край ее кровати. — Ну-ка, голубушка, давай посмотрим живот…
Он откинул одеяло, поднял рубашку, привычным движением, словно мог слышать и видеть руками, ощупал живот. — Хорошо… пока — хорошо… — удовлетворенно пропел он себе под нос.
— А где мой ребенок? И что это… со мной… было? — спросила Елена.
— Кесарево сечение вынуждены мы были вам сделать, вот что случилось! — вздохнул доктор. — А ребенок ваш жив-здоров, три восемьсот, такой бравый парень… Как назвать-то думаешь? — неожиданно перейдя на "ты", спросил доктор.
— Все-таки сын… — облегченно выдохнула Елена. — Все-таки сын. Я так и знала!.. А назову его Антоном… А когда мне его, ребенка, принесут?
— Ну, голубушка, ты уж подожди, сразу после такой операции — "когда принесут"!
— Ну, я вас прошу, вы, пожалуйста, только покажите мне его. Ну, пожалуйста! Ну что, трудно вам, что ли?
— Ох, эти сумасшедшие мамаши со своими капризами! — раздраженно пробормотала медсестра. — Успеете, наглядитесь, еще надоест!.. Прямо вот возьми и тащи сей момент ее ребенка! Успеешь, подождешь…
— О-хо-хо-о… — вздохнул доктор, неприязненно покосившись на сестру. — И все-таки, Марина, будьте так любезны, принесите, покажите женщине ее ребенка. Хоть знать будет, за что страдает.
…Из белого конверта на руках у сестры торчал курносый нос и заспанные глазки. Крошечное существо блаженно посапывало. Елена даже несколько обиделась — да, вот такие чувства неожиданные испытала она в первое свое свидание с сыном! — обиделась, что спит малыш, как сурок, даже не чувствует, что его мама — рядом…
— Ну, нагляделась на свое сокровище? — добродушно усмехнулся доктор. — Несите ребенка обратно! — крикнул он сестре.
И все трое — врач и сестра с ребенком на руках покинули палату.
Елена в полнейшем изнеможении откинулась на подушку. Всё… Глаза сомкнулись, боль вдруг куда-то отступила, и, придавленная мгновенно навалившейся усталостью, она ушла в сон — будто нырнула на самое дно моря или потеряла сознание…
* * *
Проснувшись, она обнаружила, что в послеоперационной палате, кроме нее, по-прежнему никого из рожениц больше нет. Ни одной санитарки за минувшие почти двое суток Елена так и не увидела. Медсестры, по нескольку раз в день забегая в палату сделать обезболивающий укол или сунуть таблетку, около ее постели не задерживались. Положение становилось просто безнадежным: вставать нельзя, а в туалет… можно? Надо решаться, не просить же кого-то!
Сжав зубы, превозмогая рвущую боль в животе, она потихоньку, помаленьку сползла с кровати. Когда ей, наконец, удалось сесть на краю постели, она поняла, что никого ни о чем просить не будет. Ни за что!
Держась за стену, медленно-медленно, едва не теряя сознание от смертельной слабости, она побрела по коридору в сторону туалета в одной рубашке. Босая, придерживая обеими руками живот, бледная, как смерть, она продвигалась по коридору, возбуждая у женщин, тоже не блистающих красотой и цветущим видом в этих стенах, самые противоречивые чувства.
— Ой, миленькая, ты куда же в таком виде-то?! — охнула одна из них.
— Что это за фокусы?! — недовольно цыкнула дежурная сестра. — Ну-ка, немедленно на место!
— Нет. Я пошла в туалет!
— Ты смотри, барыня какая! Как будто подождать нельзя, когда сестры освободятся и придут. Я вот сейчас твоему врачу палатному пожалуюсь, что ты своевольничаешь, режим нарушаешь! Случись какое осложнение, так сестры будут виноваты..
— Жалуйтесь…
Когда Елена после своего многотрудного путешествия по больничному коридору возвращалась в палату, навстречу ей попался доктор.
— Ого! — его брови удивленно взметнулись вверх. — Уже путешествуем? А кто вставать вам разрешил?
— Никто. Я сама.
— Ага, "сама". Ну-ну… Вы что же, выздоравливать не хотите? Ведь разойдутся швы после операции, придется шить по живому… Да и домой так не скоро попадете…
— Я скорее окочурюсь, если в мокрой постели буду лежать!
— Так позовите сестру, она подаст судно!
— Что же мне, кричать на все отделение, ставить всех в известность, чего я хочу?
— О, голубушка, гордыня-то у вас какая несуразная! Пропадете вы с ней, милая, пропадете…
— Пропаду. Если буду вас слушать.
И, придерживая живот, она вернулась в палату, упала на свою кровать…
А через несколько минут в палату вошла заведующая отделением — рыхлая, тусклая блондинка с навсегда приклеенным к лицу выражением недовольства.
— Ну, что же вы хулиганите? — даже не поздоровавшись, брюзгливо завелась она с порога. — Навезут тут артисток, потом соображай, кто чего учудит.
Елена молча смотрела в раскисшее лицо под белым колпаком, удивляясь про себя, почему это здесь еще никто не подошел к ней просто по-человечески, хотя бы с видимостью доброжелательности? Все куда-то бегут, все чем-то недовольны, поступающие роженицы для всего персонала — будто личные враги… Почему так?
А заведующая продолжала брюзжать:
— Родят, видишь ли, и воображают, будто подвиг какой-то совершили. Что ж теперь, народные гуляния устраивать по поводу ваших родов?.. А потом, что за претензии к персоналу, что за неуважение к врачам? Вас тут таких за сутки, сколько проходит? — то-то…
Елена, стараясь не грубить, спросила:
— Не пойму я никак, в чем вы меня обвиняете. Я что-то не так сделала? Кому-то что-то не то сказала? Я прошла в туалет, потому что не хочу орать на все отделение, чего мне, собственно, надо. Никаких претензий ни к кому у меня нет, но то, что у вас никого не дозовешься — это факт. И, пожалуйста, не отчитывайте меня, как школьницу.
Заведующая, отвесив губы, уставилась своими блеклыми глазками на столь "нахальную" пациентку, затем, не найдя что сказать, быстро повернулась и вышла вон.
…Минуту спустя в палату вошла дежурная сестра и, пододвинув стул к ее кровати, села, сложив руки на коленях.
— Что-то случилось? — холодея от предчувствия чего-то непоправимого, шёпотом спросила Елена.
— Индивидуальный пост. По распоряжению заведующей отделением, — почти не разжимая губ ответила медсестра. — А вы лежите, лежите! И не волнуйтесь понапрасну. Вставать вам нельзя. Что нужно — говорите, подам. Сейчас доктор приедет, вызвали на консультацию…
Елена все поняла…
С тоскливо сжавшимся сердцем, откинувшись на плоскую больничную подушку, она лежала, думая об одном: "Если снова псишка, лучше сразу — смерть!"
Через час по коридору зацокали каблуки. Елена тут же внутренне подобралась, напряглась. Сразу почему-то резко заныли швы на животе.
Дверь палаты распахнулась, и Елена выхватила из группы вошедших двоих — заведующую и… Ликуеву.
— Здравствуй, Леночка! — сладко пропела Ликуева, подходя почти вплотную к ее кровати. — Вот уж не ожидала, что мы с тобой встретимся именно здесь! Что же ты нам ничего не сообщила, не показалась перед родами?
И, повернувшись к заведующей: "Да, да, это наша пациентка!"
На Елену будто потолок обрушился. Она поняла, что изменить что-то в разворачивающихся событиях она не в состоянии. Никто не пожалеет ее, никто не попытается ее понять, слишком убедительно звучит для всех этих людей приговор "психически больная"…
А Ликуева уже распоряжалась:
— Принесите, пожалуйста, ребенка Ершовой! Посмотрим на наследничка нашей Елены…
В палату принесли малыша. Елена, кое-как привстав, взяла его на руки. Подняла глаза и тут натолкнулась на откровенно любопытствующие, холодные глаза собравшейся белохалатной толпы.
Елена положила малыша на кровать около себя: "Уйдите отсюда, пожалуйста! — тихо попросила она. — Все уйдите"…
— А в чем дело, Леночка? — удивилась Ликуева. — Мы что, мешаем тебе?
— Да, мешаете.
— А ты… ничего не сделаешь с ребенком?
— Конечно, сделаю! Съем я его! Разве не понятно?
Господи, неужели ей всю жизнь придется вот так постоянно сталкиваться с людьми, элементарно не желающими видеть в ней человека, хоть как-то чувствовать ее боль?! За что, за что все это?!..
— Возьмите у нее ребенка, сестра! — визгливо скомандовала Ликуева. И детская сестра, которая принесла Елене сына, нерешительно подошла к ней: "Дайте, пожалуйста, ребенка!"
— Не дам! — прижала она малыша к груди. И он слабо заворочался, заплакал. Елена внимательней всмотрелась в его личико и ужаснулась: оно все сплошь было усыпано гнойничками, и тельце маленького горело даже сквозь пеленки. — Что это с ним?! — вскрикнула Елена. — Что это такое?!
Она трясущимися руками принялась разворачивать пеленочку, и запах детского тельца, сгорающего в огне высокой температуры, сжал ее сердце ощущением подступившей беды.
— У него ведь температура, очень высокая… — растерянно проговорила Елена. — Что с ним?!
Сквозь плотную толпу протиснулась пожилая женщина в белом халате.
— Я детский врач, — спокойно и просто сказала она. — Дайте сюда ребенка, сейчас посмотрим…
И Елена тут же почему-то поверила ей, покорно протянула своего Антошку, и в животе опять вспыхнула резкая горячая боль, но она лишь досадливо поморщилась — не до того! А врач, положив малыша на соседнюю пустую кровать, принялась внимательно его осматривать.
Молчание в палате затягивалось, становилось непереносимым..
— Так… — изменившимся голосом резко скомандовала врач, оторвавшись, наконец, от мальчика. — Ребенка — в процедурную! Немедленно операционную сестру.
В палате поднялась какая-то нервозная суета. Детская сестра, подхватив маленького на руки, быстро вышла.
— А что… что с ним? Куда его понесли? — спросила Елена у заведующей отделением.
— Видимо, пневмония. Не переживайте, все будет хорошо…
— А чтобы ты зря не волновалась, мы тебе сейчас назначим лечение! — вмешалась в разговор Ликуева.
— Какое еще лечение?! — отчаянно завопила Елена. — Лариса Осиповна, ну, какое еще лечение?! Здесь ведь роддом, не психушка! И зачем вы вообще сюда приехали? Кто вас просил?..
— Ну вот, видишь, как ты возбуждена! — покачала головой Ликуева. — Тебе обязательно нужно провести курс седативной терапии… Давай, Леночка, не будем с тобой ругаться. Ну, зачем нам с тобой это?… Значит, так. Сюда на дежурство придет наша санитарка. Тебе будут делать уколы, чтобы ты хорошо спала и побыстрее поправлялась. У тебя ведь впереди столько хлопот с малышом!
— А санитарка-то ваша зачем? — безнадежно, угасшим голосом спросила Елена.
— Ну, ты ведь знаешь, что в роддоме очень мало персонала, санитарок вообще нет, дежурить около тебя некому. А наши санитарки всегда с нашими больными дежурят…
— Но почему я ваша больная, почему?!
— Да потому, Леночка, что есть определенные правила. Ты ведь состоишь у нас на учете, так? И мы просто обязаны принимать участие в твоей судьбе!
— Когда меня отсюда выпишут? — спросила Елена.
— Скоро. Скоро, наберись только терпения…
Ликуева ушла. С трудом повернувшись, Елена легла на правый бок, к стене, и замерла, закрыв глаза. Перед глазами неотступно стояло маленькое, худенькое, горячее тельце сына…
И еще почему-то вдруг стал вспоминаться отец. Только после операции она вспомнила, что сын ее появился на свет в годовщину смерти отца, и это ее ошеломило.
Только теперь, столько времени спустя, она стала по-настоящему понимать всю горькую отцовскую жизнь и мельком услышанные слова старухи-соседки за спиной, у отцовского гроба: "Жалеть-то живых надо, мертвым уж ничего не нужно…" Эти слова будут жечь ее душу виной и тоской всю жизнь…
* * *
…Проснулась она не сразу. Сначала откуда-то издалека до ее сознания стал доходить знакомый до отвращения, до ненависти, голос. Он пробивался сквозь смутный тяжелый сон и заставлял к себе прислушиваться против воли, против желания. Это был голос Софочки, санитарки из психушки. Она кому-то рассказывала:
— Дак их, дураков-то, за решеткой держать — одно спасение! Работа у нас — не приведи господь… Иной раз какая-нибудь взбесится, так впятером еле-еле с ней управимся. Привяжешь ее, сволочь, вязки-то вроде крепкие, ан, смотришь, она уже каким-то манером выкрутилась, вылезла из узлов, как змея… ну, по новой начинаем крутить!
— Ох, вот страсти-то, вот страсти! — кто-то соболезнующе щелкает языком. — Я бы нипочем не стала там работать, страшно-то как! И чего это с такими дураками столько возятся? Лечат их, кормят, столько государство денег зазря переводит, а что толку-то?
— Да и мы так думаем. А все это гуманность наша интеллигентная! Какая гуманность к дураку? Все равно дурак, как его ни лечи, умным не станет. Вот как ни говори, а Гитлер все ж таки прав был, он всех таких ликвидировал. Что хлеб-то зря переводить?…
Не выдержав, Елена повернулась на другой бок. Говорившие замолчали.
Около ее кровати сидела и в самом деле Софочка с роддомовской буфетчицей — как быстро такие люди друг друга находят! Обе они внимательнейшим образом уставились на бледную, лохматую Елену.
— Ну, как дела? — изображая доброжелательную улыбку, спросила Софочка. — Как сынок?
— Да ведь вы, наверное, лучше меня знаете, как мои дела.
— Нет, ну все-таки…
— Что — "все-таки"? Что вы хотите от меня услышать?
— Ну, что?.. как настроение? Может, ты кушать хочешь? Тебе разрешили есть?
— Да. Но я не хочу. Я попросила бы вас, чтобы вы всякими глупостями людей не пугали. Стыдно слушать, что вы тут несете!
И Елена легла, уставившись в потолок.
Буфетчица, вздохнув, тихо вышла из палаты. Софочка осталась без собеседницы. Видимо, сидеть в тишине, без разговоров, ей было просто невтерпеж. Она встала, походила по палате, поглядела на Елену, повздыхала… наконец решилась:
— Я пойду чайку попью, а? Ты уж тут как-нибудь пока без меня обойдешься?
— Нет, не обойдусь… Начну окна бить и "шумел камыш" распевать… И нос кому-нибудь откушу!
Даже недалекая Софочка поняла, что Елена нервничает.
— Ага, ладно, — шумно вздохнула она еще раз. — Ну, значит, я пойду.
И вышла из палаты, все-таки не прикрыв плотно дверь.
Слава богу, в палате никого. Елена, превозмогая боль, потихоньку поднялась, накинула на себя одеяло и, придерживая обеими руками живот, вышла в коридор. Там было многолюдно — женщины, уже оправившиеся после родов в ужасающих халатах и рубахах сновали по коридору с баночками и пеленками в руках, и, глянув на них, Елена с горечью подумала, что покажи сейчас мужьям их жен в таком виде, многие бы прослезились, остальные — разбежались от семейного очага. Из разговоров в коридоре она поняла, что рубашка на каждую поступившую в роддом женщину на все время ее пребывания в стационаре полагается только одна, и халат — один, и пеленки тоже нужно беречь, их хронически не хватает, стирку не могут наладить. А из дома ничего брать нельзя, и как соблюдать элементарные правила гигиены — совершенно непонятно.
Ей пришла в голову мысль, что, может быть, все эти более чем странные порядки — своеобразная тотальная политика: чтобы люди забывали, да поскорее, о таких ненужных вещах, как чувство собственного достоинства, самолюбие, самоуважение… Ну, в самом-то деле, разве можно всерьез воспринимать человека в рваном тряпье неизвестно с чьего плеча, в распадающихся прямо на ногах тапочках, человека, лишенного элементарных удобств? Он и сам-то себя всерьез не примет и ни с какими претензиями ни к кому не полезет — на что можно претендовать в таком виде? Радуйся тому, что дают, а то и этого может не быть…
А больничная кухня? Иной раз Елене начинало казаться, что и здесь — какой-то гнусный заговор: разве можно всерьез поверить в то, что женщины, имеющие специальное образование, умеют готовить только "по-больничному", то есть попросту переводить продукты? Да если бы они так потчевали родных мужей, все до единой были бы вдовами или просто разведенными. Но ведь почти все — замужем, и живут, судя по всему, не так уж плохо. Тогда в чем же дело? Одна кулинария — для общественного котла, другая — для домашнего?
По затихшему вдруг коридору Елена двигалась в сторону туалета. И за спиной услышала то, чего больше всего боялась: — Психическая! С ней санитарка из дурдома дежурит.
За ее спиной послышался гул встревоженных женских голосов. Она обернулась. Женщины замерли от страха. Впрочем, Елена на них не обиделась. Тихо-тихо было в больничном коридоре…
— Значит, я — психическая? Вам так сказали, да? Ну, а своим умом, женщины, вы умеете жить? Чем же я отличаюсь от вас? Я, что, ору дурным голосом, на четвереньках разгуливаю, на стенку лезу? Эх, вы!..
Она махнула рукой и пошла прочь.
А когда возвращалась в свою палату, ее обступили, к ней подошли две молоденькие женщины, ее ровесницы.
— Хотите чаю? — просто сказала одна и как-то по-родственному, улыбнулась. — Мы только что кипятили чай, целая банка осталась, будете? А то вы все одна да одна.
— Буду, — просто ответила Елена и сама себе удивилась: как немного, оказывается, человеку нужно для нормального самочувствия — чей-то добрый взгляд со стороны, несколько доброжелательных слов… И собравшиеся вдруг увидели, что она — совсем еще девочка, хрупкая, измотанная навалившимися бедами и нуждающаяся в ласке и сочувствии…
Что-то вдруг прорвалось в недоуменно молчавших женщинах, все разом оживились, заспешили, и вот уже на стуле перед ее кроватью — крепкий горячий чай в щербатой больничной кружке, какие-то булочки, конфеты, и гости наперебой потчуют ее, шутят, о чем-то спрашивают…
И странное дело: обычно всегда стеснявшаяся общих столовых, она, ничуть не смущаясь, прихлебывала горячий чай, жевала булку, хотя, как сказала утром дежурная сестра, ей пока ничего этого было нельзя, только пустой бульончик.
Подкрепившись, Елена глянула на собравшихся и предложила:
— Хотите, я вам почитаю стихи?
— Стихи? Давай! А чьи стихи-то?
— Мои, — просто ответила Елена. И палата мгновенно притихла.
Прости меня, малодушную, любимый мой, преданный мной!.. Жадно, словно к отдушине, тянусь к синеве земной. Туманы, дожди, пороши — как душу, в себя вмещаешь… Прости меня, мой хороший, как ненастье прощаешь.…Елена обвела взглядом внимающих ей женщин, и, волнуясь, продолжила:
Какая мощь пустых словес, немая слизь зрачков незрячих! Ты рассыпаешься, как бес, древесной пылью меж ходячих. Куда ж ты свой девал запал, где — неизвестный! — ты остался?… Не приподнявшись даже, — пал и распластался…Грустны и светлы глаза слушающих женщин. В душном тесном помещении будто свежим ветром повеяло.
Дети мои, не рожденные из страха, из мести, зла! — как враги побежденные, лежите в земле… Дети мои, прости те! Шумные, тихие — разные! — красивые, безобразные, — в сердце моем растите…Им не до стихов в обыденной жизни, привыкшим вечно спешить и вечно опаздывать, не успевающим, собственно, ощутить своего женского естества…
Импровизированный поэтический вечер длился, пока в палату не вернулась Софочка. С треском распахнулась дверь — а женщины сидели в темноте, не зажигая света, и обстановка эта как нельзя более располагала к искренности и откровенности, санитарка щелкнула выключателем, и палату залил свет ослепительно мощной лампочки.
— Чего это вы сюда насобирались? — подозрительно спросила она, оглядывая собравшихся. — Да еще в темноте…
Молчала Елена, поперхнувшись на полуслове. Молчали женщины, бесцеремонно выдворенные из хрупкого и тонкого мира доверия и душевной искренности.
И только Софочка, входя в раж, покрикивала:
— И вообще, нечего здесь делать посторонним!.. Здесь индивидуальный пост!.. Давайте, женщины, давайте живенько, расходитесь по палатам!
Женщины, переглядываясь и тихо переговариваясь, начали выходить. Но каждая, уходя, демонстративно громко говорила Елене: "Спасибо за стихи! Спокойной ночи!"…
Глава 14
Она хорошо помнит, как появилась дежурная медсестра. Шприц в лотке, который она внесла в палату в вытянутой руке, зловеще брякал, и зеленоватый раствор в стеклянном его теле отливал чем-то ядовитым…
— Снотворное. Укольчик на ночь. Поворачивайся как-нибудь, хотя бы на бок… — буркнула сестра.
Елена обреченно повернулась на бок и тут же вскрикнула: она, умевшая переносить боль достаточно спокойно и сдержанно, не вынесла, когда в мышцу вонзилась тупая игла чуть потоньше гвоздя, и едкий раствор влился под кожу…
— Да вы что же это делаете?! — возмутилась она, когда медсестра, раздраженно чертыхаясь, стала выдергивать застрявшую иголку.
— Подумаешь, какая нежная! — буркнула она в ответ, и тут раздался характерный щелчок, и в руках у струхнувшей уже сестры осталась игла, обломанная почти наполовину. Она потрогала место укола и, обнаружив, что иголка обломилась на уровне поверхности кожи, окончательно растерялась.
— Так… Ты, вот что, лежи, не двигайся, я пойду, найду сейчас врача, а то… — и, не договорив, медсестра кинулась куда-то по коридору.
Лежать на боку было больно и неудобно — совсем еще свежие после операции швы сильно болели, но делать было нечего, она покорно лежала, как было велено.
Прошло десять минут, двадцать, полчаса — никого не было. Тут даже Софочка заволновалась. Она несколько раз выходила в коридор, хмыкала, но не только врача — ни одной медсестры в отделении не было видно.
Чуть ли не час спустя в палату, наконец, ворвалась запыхавшаяся, раскрасневшаяся медсестра с заспанным, недовольным доктором позади.
Как потом выяснилось, пока она искала дежурного врача, стало плохо какой-то роженице, пришлось ей оказывать неотложную помощь. Дежурный доктор, оказывается, пристроился отдохнуть не в ординаторской, где обычно спят ночью врачи, а во врачебной раздевалке, — "чтобы попусту не беспокоили!" — вот время-то и прошло…
— Ну, что тут опять случилось? — недовольно проворчал врач, подходя к Елене.
— Вот… иголка… обломилась! — запалённо выдохнула сестра.
— Да где?!
— Вот, здесь… в ягодице осталась…
Врач никак ничего не мог найти.
— Да где она, эта иголка?!
Медсестра сама пыталась найти место отлома, и не нашла. Иголка скрылась под кожей. Врач с медсестрой переглянулись. С заспанного доктора мигом слетела сонливость и недовольный вид.
— Что же делать-то будем? — нарочито спокойным голосом спросил он.
— Не зна-а-ю… — испуганно пролепетала сестра.
— Так, та-ак… Ну, вот что, ты лежи в таком же положении, не шевелись, мы скоро придем! — обратился он к Елене, и как-то уж слишком фамильярно хлопнул ее по ноге. Ее покоробило, однако это был не тот момент, когда можно было позволить себе взбелениться.
— Мне тяжело так лежать, — сказала она. — Может, как-нибудь по — другому можно лечь?
— Ни-ни-ни! — испуганно замахал врач руками. — Не вздумай даже! Потерпи, а то, знаешь…
И они с медсестрой выскочили из палаты.
Была уже глухая ночь, роддом спал, когда, разложив Елену на операционном столе, приехавший на "Скорой" хирург, неприязненно покосившись на своего роддомовского коллегу, сказал: "До чего же вы народ безмятежный, дивуюсь!.. Вы что же, сразу-то не могли с нами связаться? Ведь три часа прошло! Кто теперь за последствия отвечать будет? Пушкин?
… Роддомовский врач виновато помалкивал…
Елене хотелось одного — чтобы ее поскорее оставили в покое. Чтобы все это как можно скорее кончилось, и ее перестали, наконец, мучить.
Хирург долго ощупывал место укола, что-то полуворча, полунапевая себе под нос, наконец сказал: "Дай-ка, девушка, посмотрим твои венки"..
Вены у Елены были плохие, это она еще по псишке знала. Это же, уныло осмотрев ее руки, констатировал и хирург. Через некоторое время он нашел хорошую вену на стопе. Елена почувствовала укол, и буквально через мгновение в голове ее все перевернулось вверх дном, и послышался громкий голос хирурга: "Будем пилить!"
Елена испугалась, удивилась: кого пилить? Её, что ли? пилой? — Она дернулась изо всех сил, что-то хотела сказать, и — провалилась в стремительно надвинувшуюся тьму…
Она открыла глаза уже в палате. Первое, что она увидела, кое-как подняв голову — испуганная Софочка. Вот, нарастая, навалилась боль, заныла, казалось, вся спина… Елена застонала.
— Что? Что? Что такое? Нужно что-нибудь? — подскочила к ней Софочка.
— Что… было — что?
— Операция была… операцию тебе делали… иголку вытащили.
Вошла дежурная сестра, молча сделала ей в руку укол — обезболивающее. Через несколько минут стало полегче, боль начала таять, утихомириваться…
Елена лежала на животе, на клеенке. И под ней, насколько она могла почувствовать, была целая лужа какой-то горячей жидкости. Она, приподнявшись на локте, откинула одеяло. Это была кровь.
Оказывается кровоточил послеоперационный разрез.
Прибежавший доктор, еще более заспанный, чем в первый раз, не выдержав, загнул: "Эх, мать твою!.. Не женщина, а тридцать три несчастья!.. Что это все у нее не слава богу?!" — и на рысях кинулся обратно по коридору…
Через пятнадцать-двадцать минут над ней склонилось усталое лицо оперировавшего ее хирурга:
— Ну, что, голубушка, нашла коса на камень? Пришла беда — отворяй ворота?… Ну, потерпи, потерпи, сейчас разберемся, что тут такое…
Вот ее снова кладут на каталку, бегом везут по коридору — опять в операционную… А в ушах нарастает какой-то шум, и куда-то пропадают голоса окружающих ее людей, и в глазах — тьма, тьма, тьма…
… Она очнулась от того, что кто-то хлестал ее по щекам, приговаривая:
— Лена, открой глаза! Открой глаза!.. Ты слышишь, Лена, открой глаза!..
С трудом разлепив тяжеленные веки, Елена с удивлением огляделась по сторонам. Была она почему-то совсем раздета, только легкая простынка покрывала ее тело, лежала она на кровати в каком-то незнакомом помещении, а над ней возвышалась железная стойка капельницы с красной жидкостью. "Кровь капают!" — догадалась она. Перед ней стоял все тот же хирург с покрасневшими от бессонницы глазами и внимательно смотрел на нее.
— Где это я? — прошептала она, оглядываясь.
— В реанимации. Мы вынуждены были переправить тебя в городскую больницу, в более подходящие для тебя сейчас условия.
— А… мой сын?
— Что — сын?
— Он где?
— Там же, в роддоме. Его лечат, он немного простужен… — врач отвел в сторону глаза, и она почувствовала: плохи дела ее Антона!
— Вы мне честно скажите, только честно: что с ним? Он опасно болен?
— Ну, не сказать, что опасно… — хирург еще раз внимательно посмотрел ей в глаза. — Не опасно… но — серьезно. У него воспаление легких…
Елена застонала, закрыв глаза.
— Ну, а вот плакать ни к чему! Ты, что, маленькая? Тебе нужно как можно скорее выздоравливать, это сейчас для тебя задача номер один. Ты нужна сыну больше всяких лекарств, но нужна здоровая, слышишь? Кстати, ты его кормила грудью?
— Нет… мне сказали, что после операции пока нельзя… А потом он заболел…
— Угу… — хирург, откинув легкую простыню (странно, почему-то ей совсем не было стыдно), осмотрел ее швы после кесарева сечения, погмыкал, покачал головой:
— Швы болят?
— Да.
— А грудь?
— Ага.
Он озабоченно потрогал нагрубшие, начавшие краснеть груди.
— Не было печали, черт возьми!.. Ну, ладно, будем надеяться, что как-нибудь пронесет… Лежи, не дергайся. Если что нужно будет, скажи сестре, и не вздумай самовольно подниматься, мы тебе поставили подключичный катетер, вены у тебя совсем никудышные, а нужно капать и капать…
Только сейчас Елена заметила, что капельница подключена к какой-то трубочке под ключицей.
— А иголку-то вы достали?
— Достал, достал… Я бы эту иголку воткнул кой-кому, куда следует.
— Как вас зовут?
— Вот, наконец-то, догадалась спросить, — усмехнулся врач, и лицо его осветила какая-то совсем домашняя улыбка. — Федором Михайловичем меня зовут. Почти что Достоевский… Только я не Достоевский все-таки, а Беленький.
— Беленький? — удивленно переспросила Елена.
— Беленький! — весело подтвердил Федор Михайлович. — Хотя сам я, как ты видишь, весьма черненький…
Из-под белой шапочки у Федора Михайловича и в самом деле торчали смоляные вихры.
— Ну, ладно, голубушка, спи пока, отдыхай. Пойду и я маленько отдохну, — сказал врач, заметив, что глаза у нее закрываются сами собой.
— Вы придете? — борясь с наваливающейся дремотой, прошептала она. Ей почему-то было спокойно и хорошо рядом с этим добрым человеком, которому она безоговорочно вдруг поверила.
— Приду, приду! И другие врачи будут заходить. А ты — спи, спи!
…Прошло несколько дней. Швы после кесарева сечения сняли. Образовался очень некрасивый, красно-синий рубец на животе, еще довольно ощутимо дающий о себе знать. Но вот изрезанная ягодица ныла не переставая. И грудь болела все больше и больше. Начинался гнойный процесс. Ни компрессы, ни физиолечение, ни почти круглосуточные капельницы не помогали. Воспалительный процесс никак не удавалось остановить.
Лежать было очень больно и неудобно: на спине — болела изрезанная ягодица, боль разливалась огнем по всей спине; на животе — тоже больно… Очень хотелось встать, но этого ей пока не разрешали.
Здесь, в реанимации, Елена впервые столкнулась с медиками, которые выполняют свои обязанности, не укоряя за это больного, не высмеивая его, не ставя ему в вину его несчастье. В любое время суток рядом постоянно кто-то был. Стоило только попросить, и любая просьба выполнялась спокойно, бесшумно, доброжелательно и со знанием дела.
Каждый день Елена интересовалась у Федора Михайловича, что с ее сыном. Каждый день он по нескольку раз звонил в роддом и узнавал, что малыш в тяжелом состоянии, этого Елене он, конечно, не говорил, и без того ей, бедной, приходилось нелегко, а тут еще бесконечная тревога за ребенка. Он обычно сообщал ей, что мальчик медленно, но поправляется.
На тумбочке около ее кровати скопилась уже солидная горка записок — от мамы, которая, наконец-то, кое-как ее нашла, от редакторши Марины, от женщин, с которыми она была в роддоме. Они уже почти все выписались, но, видимо, Елена произвела на них впечатление, раз им захотелось сделать для нее хоть что-то хорошее. И они разыскали ее, посылая к ней с передачами своих мужей, матерей, сестер — дома у них были малыши…
Но в реанимации почти никаких передач не принимали, разве что брусничный морс, и у ее кровати скопилась уже целая батарея бутылок с этим напитком.
Странно: больше всего почему-то последние дни ей вспоминался ее неудавшийся муж, Сережа. Вот бы он порадовался сейчас рождению сына! Но ведь после того, как он ушел из дома, Кошкин сразу же уволился из "Комсомольца" и уехал куда-то на Север. Елене он на прощание передал, что ему развод не нужен, а если понадобится развод ей, пусть она ему сообщит об этом через редактора — они с ним были чуть ли не закадычными друзьями, и он всегда знал, где в данный момент Сергей мог находиться.
Почему она не написала ему о предстоящем событии? Боялась, что он сочтет ее расчетливой женщиной — ну, конечно же, как только Кошкин узнал бы о рождении ребенка, он бы с себя последнее продал, а ей бы все время посылал деньги. А зачем ей это было нужно? Нет, деньги-то, конечно, всем нужны, но… Но ведь, если бы Сергей помогал ей растить сына, значит, он имел бы на него такие же права, как она, мать! Елена с большим трудом, но все же призналась себе, что ей, оказывается, не хочется делить сына с его родным отцом. Более того, еще до родов у нее появилась мысль, которая потом с течением времени только крепла: ребенок должен принадлежать ей, только ей, и больше никому!
Почему же она так испугалась, что отец захочет воспитывать своего сына наравне с ней? Тем более, что она ведь понимала — как у родителя, у Кошкина куда более шансов стать для ребенка единственным и незаменимым. Она со своим буйным, неровным характером вряд ли могла стать образцовой матерью.
Да, она будет любить своего ребенка больше жизни, да, она отдаст ему все, чем будет владеть, она будет учить его добру, справедливости, человеколюбию. Но постоянно быть по-женски нежной, терпеливой, понимающей?.. Тут она застревала психологически где-то в своем неудавшемся отрочестве. Шли годы, происходили добрые и худые события в ее жизни, а она по-прежнему частью своего существа оставалась там, в несчастных подростковых годах. И ничего не меняли ни прибавляющиеся знания о людях, ни накапливающийся жизненный опыт.
* * *
С самого утра в этот день Елене, переведенной уже из реанимации в двухместную палату, становилось все хуже и хуже. Поднявшаяся с ночи температура не падала, наоборот, с тридцати восьми к обеду поднялась до тридцати девяти с половиной.
К боли она как-то притерпелась уже давно, да и стыдно было бы все время стонать, старалась терпеть. И на перевязках помалкивала, хотя иной раз боль была такой, что темнело в глазах. Но сегодня было что-то особенное — казалось, в груди торчит раскаленный нож, и кто-то медленно и безостановочно его поворачивает.
Слезы беспрерывно текли по ее щекам, ей было стыдно своей слабости, но остановиться она уже не могла. Сдерживалась изо всех сил, чтобы не зареветь в голос.
И тут вошел, наконец, в палату вызванный с утра в облздравотдел Федор Михайлович.
— Ого-го! — протянул он, глядя на ее распухшее от слез лицо. — Ну-ка, расскажи мне, свет-девица, что происходит-то у нас с тобой?
— Болит!
— Где болит? Что?
— Грудь…
Федор Михайлович откинул простыню, которой она была прикрыта, присвистнул и нахмурился.
— Тэ-эк… Я — сейчас! — и быстрым шагом, по-мальчишески размахивая руками, понесся куда-то из палаты.
Вскоре возле Елены собралось несколько хирургов. Осмотрев ее, обменявшись непонятными ей междометиями, они единодушно решили: "Мастит… гнойный… вскрывать надо немедленно"…
Елене было уже все равно. Хоть на операционный стол, хоть куда, лишь бы все это поскорее кончилось.
И вот — снова узкий, неудобный операционный стол и операционная лампа, похожая на многоглазое сказочное чудовище, и опять что-то вводят в катетер под ключицей, от чего голова, как ей кажется в последний момент, срывается с плеч и куда-то катится, позвякивая, катится, катится, катится… И в гаснущем сознании — голос Беленького: "Не спеши, не спеши, больная еще не спит!" "Кому это он говорит?" — последнее, что мелькает у нее в голове, и снова — всепоглощающая тьма, тьма, тьма…
…Сначала она услышала свой крик. Странно раздвоенным сознанием она очень спокойно и даже несколько равнодушно отметила, что ведь это она, Елена, кричит ужасно противным, визгливым голосом: "Ты кто? Ты мой врач, да? А я тебе не верю! А ну-ка, покажи руки!.. Ага, говоришь, что врач, а сам — лягушка, лапы-то у тебя лягуша-ачьи!"…
Вот выплыло откуда-то сбоку лицо Федора Михайловича. Вот — лица изумленных медсестер, сбежавшихся на ее крики. И вот она сама, нагая, с толстой ватной наклейкой на груди, орет в лицо Беленькому, мотая головой, как пьяная: "Ты — кто? Ты — колдун? Или ты все-таки врач, а?.. а если ты врач, зачем людей режешь? ножиком-то?"…
— Лена, Лена, что ты, успокойся! — пытается погладить ее по голове Федор Михайлович, но она увертывается от его руки и неожиданно вцепляется в его халат.
— Отпусти, пожалуйста! — беспомощно просит Беленький, а она с неизвестно откуда взявшейся силой, рвет белую ткань, и Федор Михайлович огорченно крякает, разглядывая здоровенную дыру на рукаве.
А Елена, уже вскочив с постели, раздвоившимся сознанием поражаясь и ужасаясь своим действиям, бежит к окну. Остолбеневшие от изумления сестры с Федором Михайловичем молча смотрят на неожиданный "концерт", а она махом взлетает на подоконник и кричит: "Я сейчас улечу! Я сейчас улечу!"…
Федор Михайлович успел схватить ее в охапку, можно сказать, в самый последний момент, когда она — еще какое-то мгновение! — и в самом деле вылетела бы из окна. Пятый этаж — это слишком серьезно. Вот уж улетела бы, так улетела!..
Беленький пытается дотащить ее до кровати, но Елена отбивается, кричит, не переставая при этом удивляться каким-то уголочком своего сознания, что же это такое она выделывает…
Громко топая, по коридору промчался врач-анестезиолог, захлопотал около нее. Около часу, взмокнув от напряжения, просидели над ней Беленький и анестезиолог Юрий Иванович. Оба они раскраснелись, взмокли, лица их побагровели — очень непросто оказалось удерживать эту послеоперационную больную в постели! — когда вдруг Елена совершенно спокойным, нормальным голосом попросила: "Отпустите меня, пожалуйста! Больно…"
Врачи облегченно вздохнули, растирая занемевшие руки.
— Ну, Елена, ты даешь, артистка же ты! — усмехнулся Беленький. — Загуляла ты у нас после наркоза, и сто граммов не нужно!.. И откуда все-таки такая силища в человеке берется, а? То встать сама не может, ветром качает, а тут… впору милицию было вызывать!.. Как ты себя чувствуешь?
— Пить хочу… И грудь сильно болит.
— Ха, болит! Гною-то больше литра вышло, дорогая, чего же ты хочешь! Как ты еще только терпела… А пить тебе пока нельзя. Немножко губы смочи и потерпи.
Врачи ушли. Сестра смочила ее пересохшие губы ваткой, и села рядышком, поглаживая ее, как маленькую, по голове. И такую вдруг усталость почувствовала она, что, не успев закрыть глаза, ушла в спасительный сон…
Ее выздоровление затягивалось. Странная слабость начала одолевать ее всегда столь деятельное, прежде почти не знавшее усталости тело. Было ощущение какой-то отравленности, невероятной немощи. Иногда она говорила сама себе: "Может, я тут, в больнице, просто обленилась? Может, нужно как-то заставить взять себя в руки? Ну-ка, попробую встать"…
Но, едва она приподнимала голову над подушкой, перед глазами все плыло, и она опять падала на постель…
Из отдельной палаты ее никак не переводили в общую, и уже по одному этому она понимала, что дела ее обстоят не самым лучшим образом. Странное дело, умереть она совсем не боялась. Ей было только безмерно жаль Антошку, который будет расти без отца, без матери, и при мысли об этом глаза ее мгновенно влажнели…
Она так устала от бесконечных болей, перевязок, от угрюмого, озабоченного вида Федора Михайловича, который неизвестно когда и спал — его можно было видеть в палате в любой час дня и ночи, что смерть ей начинала представляться в виде бессрочных и желанных каникул, когда все земные боли и заботы сами собой навсегда останутся позади…
Однажды к ней в палату пустили мать. Она вошла, пугливо озираясь, и, едва глянув на исхудавшее, побледневшее лицо дочери, залилась слезами: "Доченька, да что же это с тобой такое?! Что это к тебе привязалось, моя хорошая?!"
Лена понимала, что видок у нее сейчас, конечно, не ахти. Но мама могла бы сейчас хоть немного постараться сдерживаться, хотя бы сделать вид, что не так уж сильно удивлена и напугана…
— Ма, — тихо позвала Елена, — ма, ты, пожалуйста, успокойся! Ты была в роддоме? Видела Антона?
— Была… — мгновенно притихла мать. — Видела, несколько раз… Кое-как выпросила у главврача, чтобы мне его показали. Такой хорошенький мальчик, Лена! Только совсем худенький, сейчас, правда, вес стал набирать. Сильно он болел, сейчас, славу Богу, все позади.
В палату вошла сестра. Увидев, что мать заплакана, мягко напомнила:
— Знаете, на сегодня хватит. Дочку вы увидели, можете теперь не беспокоиться. Она у нас молодец, не нытик какой-нибудь, все терпит, как партизан. А вы собирайтесь домой. И не ходите слишком часто, вам тоже ни к чему расстраиваться. Да и Лене нужен покой…
Внизу, под окнами, где ходили люди, слышались негромкие разговоры, смех, пение — это перед сном вышли на улицу больные… "Когда же я буду вставать?" — подумала Елена, и опять ощущение своего одиночества и собственной ненужности на этом свете затопило ее, как шальная волна.
…Шли дни. Лето давно уже миновало свой пик, и по утрам в больничном садике было бело от холодной росы. Дикие яблочки в больничном сквере начали розоветь; давно поспела черемуха. Окрестные пацаны, как стаи прожорливых грачей, по вечерам заполняли больничный сад, объедая переспевшую ягоду, а потом улыбались прохожим черными ртами.
Елена начинала потихоньку вставать, но заметного улучшения в ее состоянии не наступало. Неожиданно стали гноиться рубцы после кесарева сечения, казалось бы, уже хорошо зажившие. Гноилась резанная ягодица, и уже несколько раз приходилось делать чистку, а это была весьма мучительная процедура. Несколько раз принимались резать груди — мастит не отступал.
Тягостное, унизительное состояние телесной нечистоты, запущенности ужасно угнетало Елену.
Сыну недавно исполнилось два месяца. Мама постоянно проведывала его в роддоме — ей разрешили это. У Елены же изныла вся душа: ну, когда, когда же она, наконец, возьмет на руки своего мальчика, поцелует его в теплый лобик, выйдет с ним погулять на улицу? Радовало только то, что воспаление легких у него было давно уже позади, он хорошо начал набирать вес.
А так — беспросветность…
Федор Михайлович ушел в отпуск. Правда, он появлялся в отделении чуть ли не каждый день, все время придирчиво проверял назначения, которые делал Елене молоденький доктор, заменивший на это время Беленького — Сергей Алексеевич. Елена звала его ласково "Лексеич", и он краснел от этого, как девчонка.
Одна беда — он пока такой же врач, как она — балерина. Увидит, что у нее снова наливается малиново-синеватым зловещим цветом послеоперационный рубец — забегает, запаникует, чуть ли не расплачется, ждет не дождется, когда же Беленький придет, все решит, все сделает, как нужно…
Были в отделении и другие врачи, и опытные, и знающие, да только почему-то по всеобщему молчаливому соглашению последнее слово всегда оставалось за Федором Михайловичем. У всех была уверенность, что, если он что-то решил, значит, это — наилучший вариант из всех возможных…
Глава 15
Миновал август. Первое сентября, выглянув утром на улицу из окна своей палаты, Елена с грустью увидела весело вышагивающих в новой школьной форме, с новыми портфелями, ранцами мальчишек и девчонок. Сопровождавшие их родители казались куда более взволнованными, чем их сыновья и дочери. И опять ее уколола тоска: "Как там Антошка?"…
Операционные швы, раны никак не хотели заживать. Все чаще на общих обходах среди непонятной врачебной скороговорки выделялось шипящее как змея зловещее слово "сепсис".
В институтах, как и в школах, тоже началась учебная пора. Теперь почти каждый день перевязку ей делали перед группой студентов, сжав зубы, она изо всех сил старалась не замечать порою брезгливых, порой — испуганных, а чаще — просто равнодушных лиц. Хотя она и сама понимала, что, если бы каждый медик рыдал над каждым своим пациентом, наверное, уже не осталось бы в живых ни одного врача или медицинской сестры. И все-таки, все-таки, все-таки…
Не нужно ей, чтобы кто-то над ней рыдал! Но понимать, что тебе стараются причинить как можно меньше боли, что тобой хотя бы не брезгуют — это очень, очень важно для любого больного…
А тут вдруг стало выясняться, что лечить ее уже нечем: практически на все антибиотики появилась аллергия.
Врачи не знали, что с ней делать… Никто не мог понять, что с ней происходит. Ничего подобного в практике работающих в отделении хирургов прежде не было. Думали, спорили, мучили всяческими анализами, — картина никак не прояснялась.
И тут кто-то вспомнил — бог весть, кто именно, но только подлый, должно быть, это был человечишка! — что "ведь эта больная страдает психическим заболеванием"… А отсюда, как само собой разумеющееся, следовало, что психически больным бывают свойственны противоестественные желания — расковырять заживший шов, внести в рану грязь. Подобные случаи описывались в учебниках как психиатрии, так и хирургии…
Обо всем этом Елена узнала, к сожалению, много времени спустя. "К сожалению", потому что она постаралась бы предпринять все возможное, вплоть до выписки домой под расписку, чтобы избежать того, что случилось впоследствии…
Однажды она с изумлением и неясной еще тревогой увидела около своей койки весьма многолюдный врачебный консилиум… Вроде бы общий обход был несколько дней назад — чего это они? И тут она увидела перед собой… Ликуеву.
— Ну, здравствуй, Леночка! — улыбаясь, поздоровалась, будто они только вчера расстались, Ликуня. — Что-то ты здесь залежалась, а? Давно пора бы выздороветь.
Елена пожала плечами: как это — "пора выздороветь"? Она что же, по своему желанию болеет, что ли?
— Вот и я думаю, Леночка: ну что здесь хорошего? Тебе давно пора переменить обстановку. Иначе ты не поправишься.
Елена все еще ничего не могла понять…
Врачи, обступившие ее постель, с каким-то странным выражением лиц прятали от нее глаза. Она могла бы поклясться, что им… стыдно перед ней!
Особенно это было заметно у Федора Михайловича: он стоял, стиснув зубы и уставившись в пол, и скулы его выпирали, как каменные ядрышки. И глаза у него были… ох, какие глаза были у Беленького, когда он изредка поднимал опущенную голову и исподлобья смотрел по сторонам!
— Вы меня выписываете? — спросила Елена у Федора Михайловича. — Очень хорошо. Только сообщите, пожалуйста, маме и вызовите такси… Да, а как мне быть с перевязками?
И Беленький вдруг, словно чем-то поперхнувшись, издал нечленораздельный звук, резко повернулся и, протолкавшись сквозь плотную толпу своих коллег, выскочил из палаты.
— Что это он? — недоумевающе обвела собравшихся взглядом Елена. — Куда он?..
И тут, смутно уже догадываясь и не желая верить в происходящее, она, пошатываясь от слабости, встала с кровати и подошла к врачам вплотную:
— Вы… что?
Но врачи не выдерживали ее взгляда, косились куда-то в сторону…
Опустил глаза, густо покраснев, Лексеич. За ним — заведующий отделением. И вся его команда.
Так… Ну, кажется, все встает на свои места. Только уточнить.
— Так вы что, выписывать-то меня собираетесь в психушку? — звенящим от напряжения голосом спросила Елена у Ликуевой. — Значит, в психушку? За что же на этот раз?
И тут непробиваемая Ликуева несколько растерялась.
— Ну, что значит "за что?", Леночка? — забормотала она. — Ни за что. Просто мы тут посоветовались с докторами и решили, что тебе нужно будет еще пройти курс лечения в нашей больнице. А здешние врачи будут приезжать к нам, делать тебе перевязки, контролировать твое лечение.
— Но какой же в этом смысл? — стараясь быть предельно спокойной, недоумевала Елена. — Какой смысл лечить мое хирургическое заболевание на псишке?
Она обводила собравшихся взглядом, но все упорно прятали глаза. Врачам было тягостно и неловко от этой вопиющей сцены, хирурги отлично понимали, что такое решение и нелепо, и бесчеловечно, да просто преступно.
Но, к сожалению, право окончательного решения было не за ними, а за заведующим кафедрой.
А ему, как потом выяснилось, очень по нраву пришлась идея о "психическом" происхождении бесконечного заражения у Ершовой. Ну, не в собственном же бессилии расписываться ему, доктору наук!
Кроме того, она ведь портит всю картину в отделении: койко-дни остаются единственно приемлемыми показателями работы отделения, а из-за этой Ершовой скоро все показатели полетят к черту… Ничего страшного не произойдет, если версия о "психическом" происхождении гнойников проверится у коллег-психиатров. В крайнем случае, можно будет снова взять больную в отделение, тогда она уже будет вновь поступившей. А здесь, в хирургическом отделении, установить за ней должный контроль невозможно. Вот в психбольнице — там специально подготовленный персонал, там смогут установить за ней необходимое наблюдение. Правда, неприятная вышла сегодня сцена с Федором Михайловичем… Вот до чего невыдержанный человек! Раскричался, кулаком по столу застучал: "Это — подлость, это не по-человечески!"… Человеколюбие, доходящее до абсурда. Нельзя же так со старшими по званию, по должности. Это уже переходит все границы…
Между тем для лечения Ершовой перепробованы все возможное средства, а нагноение продолжается, более того, усиливается. Случись что — сколько потом может быть всяческих неприятностей! Зачем ему это?..
Елена поняла, что рассчитывать на элементарнейшую порядочность людей в белых халатах не приходится. Но обиды на них у нее не было, она понимала, что все они в общем-то люди подневольные. Кроме хорошего, ничего она от них здесь не видела.
— Что ж, несите одежду, — безнадежным, угасшим голосом произнесла она. Ей во что бы то ни стало хотелось уйти отсюда по-человечески, чтобы хоть здесь ее не таскали, как пьяницу или уголовницу, дюжие санитары под руки.
И врачи, один за другим, как нашкодившие школьники, начали выскальзывать из палаты.
…И снова "газик" с красным крестом на боку мчится по осеннему городу. Она приникает к окну: столько времени — на больничной койке!..
Город был в разгаре осени. В густых кронах городских тополей, акаций, редких березок светились золотые, багряные пряди листвы.
Сколько их уже миновало, весен, осеней и зим, куда они канули? Все бесконечно возвращается на круги своя. Как будто это не жизнь, а кинолента, где склеены конец и начало.
Может, это какой-то безмерно затянувшийся сон? Когда наступит пробуждение?
Но вот уже "газик" вскарабкался на сопку. И вот они снова, эти мрачные, догнивающие бараки психушки… Едва увидев их, Елена ощутила просто физическую раздавленность… Решетки на окнах, во дворе — больные с характерными выражениями на лицах… Псишка, психушка! — впору взвыть во весь голос, да ведь кто здесь услышит, кто поможет?..
…В приемном покое все завершилось очень быстро. Дежурил один из близнецов — Антоша.
С ленивым любопытством поглядывая на Елену, он только спросил:
— Давненько не виделись… как настроение-то?
Елена молчала.
— Не хочешь разговаривать? Ну, твое дело… Раздевайся давай.
Елена все так же молча, почти равнодушно разделась.
— Лифчик — долой! Трусы — долой! Ты же знаешь здешние порядки.
Елена сняла все, что на ней оставалось.
Увидев пропитанные гноем наклейки у нее на животе, на грудях, на ягодице, Антоша даже присвистнул от удивления:
— Вот это да!.. Это кто же, голубушка, будет тут с твоими перевязками возиться?.. Слушай, а почему тебя сюда перевели из городской? Ты чего там опять учудила?
— Антон Григорьевич! — укоризненно произнесла вошедшая с улицы в приемный покой Ликуева, что-то долго выяснявшая с шофером. — Что за разговоры с больной? Оформляйте историю, а дальше уже будут с ней другие товарищи работать.
— Все понял! Все понял! — подскочил со стула Антоша. И — Елене, уже совершенно официальным тоном:
— Год и место рождения?.. Образование?.. Домашний адрес?..
Заскрипела, закрутилась психбольничная машина… Толстый, седой, как лунь, старый санитар дядя Федор принес ей явно бывший в употреблении халат и совершенно непотребного вида рубаху. Кивнул:
— Одевайся!
Можно было, конечно, поспорить, да что толку-то?
Превозмогая отвращение, она оделась.
— Веди! — скомандовал Антоша. И, помедлив, добавил: — Лариса Осиповна в первое отделение велела, в надзорку…
Казалось Елене, когда она, едва волоча подкашивающиеся от слабости ноги, плелась за Федором через бесконечные двери с хищно клацающими замками, что все у нее внутри замерло, оледенело, остановилось — и душа, и сердце, даже способность мыслить, говорить — все, казалось, безвозвратно пропало…
— Не реветь! Не реветь! Не реветь! — мысленно приказывала она себе в такт шагам, и за ее спиной все лязгали, лязгали, лязгали железными челюстями бесконечные двери…
* * *
Все вернулось на круги своя, как в какой-то пьесе абсурда. Как будто не было двух лет нормальной, человеческой жизни, будто не было ее работы на радио, рождения Антошки, замужества… ничего! Как будто кем-то могущественным и недобрым все это запрограммировано до скончания ее дней, и никак не вырваться из этой предопределенности!
А тут еще захороводились вокруг нее старые знакомые больные, помнившие ее по прошлым годам:,Ершова приехала! Ершова приехала!"
Теперь все — сама жизнь, безусловно, кончилась. Еще раз выдержать этот психбольничный марафон, еще раз выйти отсюда, еще раз все начать сначала — да какие же силы нужны на все это?! Она же всего-то человек. Только человек.
— Ну, пошли, чего встала! — толкнула ее в спину одна из красномордых, и Елена послушно, словно окончательно лишившись воли, последовала за ней в надзорку.
Все та же переполненная палата для "буйных", для тех, кому прописан "особый надзор".
Грязное постельное белье, на койках — несколько человек, прикрученных к железным сеткам грязными веревками.
Наголо стриженные головы и искривленные, слюнявые рты, вопящие нечто бессмысленное и дикое…
Конец, конец! Всему конец… больше она отсюда не выйдет…
Елена не могла понять, как это случилось, только сутки вдруг промелькнули, словно единый миг. Что это было — потеря памяти, сознания? А может, естественная реакция психики — самоспасение, самозащита от перегрузки.
Утром следующего дня пришел Ворон. Конечно, он знал уже, что она — в первом отделении, причем снова — в надзорке. Хотя для чего было нужно помещать туда ее со всеми незажившими болячками, столь слабую еще после всего перенесенного, трудно было понять.
— Ну, здравствуй! — сказал ей Ворон. Он сел рядом, на краешек постели, и смешно склонил голову набок, как любопытный грач.
— Что тебя сейчас беспокоит?
— Повязки, — тихо сказала она. — Все намокло, до того противно…
— Так. — Ворон поднялся, нахмурился. — Подожди меня пять минуток… я сейчас!
И правда, через несколько минут Ворон, явно возбужденный, взбудораженный, принес откуда-то бикс со стерильными салфетками и позвал ее: "Пойдем, перевяжемся!"
Елена удивилась: "А вы, умеете?"
— Маленько! — усмехнулся он. — Маленько умею. Я же все-таки во врачах числюсь…
В процедурной Елена легла на кушетку и показала Ворону свои болячки. Когда он снял наклейки с ягодицы, с живота и груди, он присвистнул. Все было пропитано густым зеленым гноем. Ворон покачал головой и почесал в затылке.
— Вот что, моя хорошая, — сказал он ей озабоченно. — Знаешь, я ведь не видел, что у тебя там. Кажется, свои возможности я переоценил… Да и перевязочного материала просто не хватит! Полежи немного, я сейчас вернусь…
И опять очень скоро, через несколько минут в коридоре послышался возбужденный голос Ворона, сдержанный гул голосов следовавших за ним врачей. В процедурную вошли человек восемь, Ворон — впереди.
Она съежилась под любопытствующими, холодными взглядами психиатров. Ворон тут же уловил ее состояние:
— Спокойно, Елена… спокойнее… повернись-ка… — он содрал уже снова прилипшую салфетку с ягодицы, — она, пропитанная гноем, плюхнулась, как тяжелая гадкая жаба, в подставленный лоток, и у обступивших кушетку врачей вырвался невольный возглас удивления и ужаса: на ягодице зияла обширная гнойная рана, последствие того "укольчика", с которого все в роддоме и началось.
— Ну, товарищи, что делать-то будем? — звенящим, готовым сорваться на гневный крик голосом, спросил Ворон своих молчавших коллег. — Чем лечить будем — аминазином? Седуксеном? Инсулиновыми шоками? А может, сульфозином?
Тяжкое молчание воцарилось в процедурке. Даже Ликуева, обычно столь самоуверенная, стояла озадаченная и притихшая.
— Так, Лена, — снова скомандовал Ворон. — А теперь постарайся, по возможности, снова лечь на спину.
Елена кое-как легла… И опять, когда обнажились гнойные раны на груди и гноящиеся швы после кесарева сечения, расползшиеся, багровые, врачи дружно охнули…
— Ну, коллеги, что же вы молчите-то! — начал закипать Ворон. — Чем будем ее лечить? И что за необходимость была переводить ее сюда?!
— Тише, тише, товарищ Воронин! — замахала на него руками, будто гусей гнала, Ликуева. — Вы что кричите, дорогой, больную перепугаете!.. Да, что-то не то у нас получилось…
Врачи, переговариваясь, вышли из процедурной. Вскоре по коридору опять забегали, затопали каблуки, кто-то куда-то звонил, кто-то с кем-то о чем-то договаривался. В отделении была тихая паника. Елена понимала, что весь этот шум, вся эта необъявленная врачебная война — из-за нее. Но ей было как-то все равно…
Слабость, усталость, физическая немощь владели ею, и на какое-то время она незаметно задремала.
Очнулась она от того, что в процедурке громко хлопнула дверь и в кабинетик ввалился возбужденный Ворон. Следом за ним с биксом в руках вошел Беленький, а чуть погодя в дверь протиснулся Лексеич.
— Здравствуйте! — поздоровался с ней Федор Михайлович. Поздоровался и потупился, будто виноватый. — Ты не сердишься на меня? Честное слово, не моя это идея — тебя сюда переправить… но разговор на эту тему еще будет! А сейчас, давай-ка, перевяжемся.
Осмотрев ее раны, Беленький нахмурился, потемнел.
— Худо дело, старушка! — произнес он, исподлобья поглядывая на Елену. — По идее, надо бы тебе опять хорошую чистку делать, да ведь не выдержишь ты… Так, ладно, давай пока займемся перевязкой, обо всем остальном — потом.
После перевязки Елена даже немного повеселела, казалось, ей стало несколько легче.
Ворон, проводив ее из перевязочной до дежурной сестры, велел найти возможность дать ей кровать не в надзорке. — В надзорке ей нечего делать! Вы поняли?
"Поняла, поняла!" — торопливо закивала медсестра и недружелюбно покосилась на Елену — опять начинаются неприятности из-за этой Ершовой! Один говорит — так, другой — эдак, третий — как-нибудь вообще по-другому…
И немного погодя в коридоре, на самом людном месте, ей освободили кровать. Больную, которая до этого здесь лежала, просто-напросто согнали — никогда бы раньше Елена не согласилась занять таким образом чужое место, но сейчас ей было ни до чего и ни до кого. Не раздеваясь, она нырнула под одеяло и закрыла глаза…
Мимо то и дело сновали больные, задевая ее по лицу грязными подолами. В дальнем конце отделения кто-то истошно вопил на одной ноте: "Ой-е-е-ей! Ой-е-е-ей!"…
И сквозь полудрему доносились хриплые женские голоса, заунывно распевавшие похабные частушки…
Дурдом, психушка, бедный Ноев ковчег, наполненный изгоями человеческого общества, ты воистину непотопляем! Даже если бы люди никогда не сходили с ума, все равно ты был бы, наверное, придуман теми, кто вполне счастлив, обеспечен и пристроен в этой жизни. Может быть, потому, что счастье, устроенность и обеспеченность только и чувствуются на фоне чужой беды, чужой раздавленности, никчемности.
Презрение к падшим, серым и безумным — откуда оно в тебе, моя бедная Россия? Разве не были всегда россияне в числе самых милосердных и благотворящих, и разве не ты, Россия, славилась приютами для немощных, старых и брошенных? Что же случилось с тобой за минувшие десятилетия, откуда в тебе появилась такая жестокость к тем, кто и без того обижен жизнью, обделен судьбой?…
Елена спала. Время от времени кто-то к ней подходил, ее пытались кормить насильно, с ложечки, но она отмахивалась и снова уходила в сон… Видимо, это была жизненно необходимая физическая и нервная разрядка, тут сказалось и немыслимое душевное напряжение последних дней, и просто физическая слабость от бушующей в организме заразы.
На следующее утро Ворон пришел в отделение чуть свет. Елена, шагая за ним в процедурку, мечтала только об одном — чтобы он скорее сделал ей перевязку, и она снова могла бы слать, спать, спать…
В это утро Ворон перевязывал ее один, не дожидаясь Беленького. Он расставил в процедурной какие-то баночки с резко пахнущими мазями и накладывал эти мази на стерильные салфетки, потом салфетками закрывал гнойные раны и все это заклеивал.
Елена недоумевала.
— А что это за мазь? — наконец, спросила она.
— Самодельная. Сам готовил, — отрывисто бросил Ворон, продолжая сосредоточенно орудовать над склянками. — Я ведь когда-то увлекался народной медициной. Бабка у меня в знахарках ходила… Так что чем черт не шутит! А хуже тебе не будет от этих снадобий, за это ручаюсь.
Он закончил перевязку, достал из кармана крохотный пузырек, накапал несколько капель в мензурку и, разбавив водой, дал ей выпить.
— Что это? — опять спросила она.
— Пей, пей! Тоже трава. Очень редкая и просто волшебных свойств. Должно тебе помочь.
Елена выпила, кое-как доплелась до своей койки и снова провалилась в сон…
Так и пошло: каждое утро Ворон приходил, делал ей перевязки со своими снадобьями, давал Елене несколько капель своих травяных отваров, снова поил ее каплями в конце рабочего дня, а она спала и спала, хотя никто никаких снотворных ей не давал…
Через две недели как-то неожиданно она вдруг почувствовала заметное улучшение своего самочувствия. Прибавилось сил, и впервые за долгое время ей вдруг страшно захотелось есть. И почти не болели раны — вот что было удивительно!
Улучшение заметил и Ворон.
— Ты смотри-ка, — напевая что-то веселое себе под нос, говорил он на перевязке. — Ранки-то затягиваются, очищаются! Я и сам такого не ожидал…
Беленький с Лексеичем не появлялись. Как потом стало известно Елене, в первый же свой приезд на псишку Федор Михайлович вдрызг разругался с Ликуевой. Он напрасно старался ей доказать, что лечение хирургических заболеваний в таких условиях и невозможно, и просто преступно — Ликуева стояла на своем: раз уж Ершову перевели в психбольницу, она будет лечиться только здесь!..
В конце концов, Беленький заявил, что он отказывается приезжать на хирургические консультации в этот вертеп, Ликуева, похоже, только обрадовалась такому обороту. Чем меньше посторонних глаз в ее царстве, тем спокойнее ее жизнь, — эту истину она исповедовала с тех самых пор, как приняла пост заведующей женским отделением.
И все-таки, не выдержав, на исходе третьей недели неожиданно для всех на псишке появился Беленький.
— Ничего не понимаю! — осмотрев Елену, возбужденно прогудел Федор Михайлович, обращаясь к находившемуся здесь же Ворону.
— Это просто чудо какое-то!
Ворон стоял, скрестив на груди руки, и добродушно посмеивался:
— Ну, какое же это чудо? Обыкновенная травка!
— Нет, нет, коллега, не говорите, я то знаю, как обстояли дела у нашей красавицы! — Возбужденно смеялся Федор Михайлович. — Это истинное чудо!
А через день, на общем обходе, до Елены, наконец-то, дошло, кому и почему пришла в голову столь "светлая" идея — отправить ее с запущенным гнойным процессом в психбольницу…
— Ну-с, — сладко пропела Ликуня, подходя к ней в сопровождении своего белохалатного эскорта, — говорят, дела у нас пошли на поправку?
— Да, — кивнула Елена. — Спасибо Ивану Александровичу!
— Да нет, спасибо психиатрической больнице с ее строгим надзором! — четко проговорила Ликуева, и глаза ее металлически взблестнули. — Ну, вот видишь, Леночка, прав оказался профессор в горбольнице, когда посоветовал перевести тебя под строгий надзор. Здесь у тебя исчезла возможность расковыривать свои раны, и, видишь, как отлично все стало заживать!
— Вы… вы… что же такое вы говорите? — не находя слов, заикаясь от возмущения, едва выговорила Елена, медленно приподнимаясь с кровати. — Что же вы такое говорите, Лариса Осиповна? Ведь меня же Иван Александрович лечил, он же ведь знает!
— Ну, ну, прекрати истерику! — недовольно поморщилась Ликуева. — Ну, чем он тебя лечил? Не смеши! Просто была отвлекающая терапия.
Побледневший, как полотно, Воронин встал между Еленой и Ликуевой.
— Вы, вообще-то, отдаете себе отчет в том, что вы говорите больной?! — прошипел он прямо в лицо Ликуевой.
— Возьмите себя в руки, коллега! И вообще, видимо, опять придется поговорить о ваших симпатиях более обстоятельно. И не меньше, как на уровне главврача! Очень странные у вас привязанности, уважаемый Иван Александрович! Стыдитесь, коллега. — И Ликуева безмятежно двинулась по больничному коридору…
Казалось, над Еленой раскололось небо… Это действительно сумасшедший дом! — мелькнуло в ее голове. Вот, значит, в чем дело! Почтенный профессор заподозрил ее, "шизофреничку", в намеренном членовредительстве! Ну, да, конечно, для хирургов это был самый легкий способ отделаться от нее со всеми ее не поддающимися лечению болячками. Они не могли справиться с тяжелейшим гнойным процессом, а тут кто-то вовремя возьми и подскажи, что она — "психическая"… Схватившись за голову, Елена в безнадежной тоске застыла на кровати…
* * *
Елене исполнилось двадцать пять лет. Еще три года она провела в первом отделении психбольницы. Впрочем, ей казалось иногда, что она и родилась, и выросла в этих вонючих стенах, а все остальное ей просто приснилось. Первое время довольно часто к ней приезжала редакторша Марина, кое-кто из сотрудников комитета по телевидению и радио, но постепенно, один за другим, эти добрые люди отошли от ее забот и проблем, да оно и понятно: когда на все их вопросы столь компетентный в их глазах человек, как заведующая женским отделением Ликуева, отвечала, соболезнующе поджав губы, что "Ершова, к сожалению, оч-чень и оч-чень больна, и все оч-чень и оч-чень не просто", даже сама доброжелательность усомнится в себе: ну, с какой стати психиатр будет говорить столь серьезные вещи "просто так"?
Елена осталась одна… Мать была не в счет: она, всей душой болея за дочь, стала с ней как бы единым разумом, единым организмом, и страдали они обе от всей этой страшной несуразности одинаково.
Очень часто Елена искренне сожалела о том, что не может по-настоящему сойти с ума, потерять память, соображение. На больных, живущих в бредовом мире грез, она теперь смотрела с завистью.
Три года в этих бревенчатых стенах, чуть-чуть замазанных осыпающейся известкой — нет, меру этого испытания, этой страшной ноши никто из так называемых "нормальных" граждан не смог бы постичь даже умозрительно, даже обладая самым ярким воображением. Такое познается только на собственной шкуре…
И если бы не мама, которую к ней на свидание пускали не чаще раза в неделю, наверное, Елена давно бы уверилась в том, что никакого другого мира, кроме этого, безумного и грязного, на свете просто не существует.
Ее любимым местом в отделении был укромный уголок в самом дальнем конце барака, у окна. Хоть и забрано это окно решеткой, но все-таки сквозь него виднелся разбросанный внизу город. И в этом углу была хоть какая-то возможность отгородиться немного от всего, что происходило вокруг. Но как уединишься от живого?
…Вот — Дина, внешне бесполое существо с физиономией конченного дегенерата. Она ходит, стриженная наголо, в немыслимом отрепье, на ее лице навсегда застыла, как маска, улыбка довольства и счастья. Любая попытка хоть как-то облагообразить ее внешний вид завершается неудачей: Дина мгновенно скидывает с себя новые халаты и рубашки, если даже санитаркам и удается ее насильно переодеть, мгновенно возбуждается и начинает издавать какие-то павианьи крики…
Говорят, она отлично училась в школе, шла на золотую медаль. Заболела после того, как ее изнасиловал допившийся до невменяемости отец.
Иногда, непонятно почему, Дина вдруг начинала петь. И взбудораженное вечным шумом отделение, внутренне напряженное, готовое каждую минуту сорваться на крик или на какой-нибудь спонтанный скандал, изумленно стихало: каким-то поразительно чистым, хрустальным, нежным голосом Дина пела никому неведомые песни о любви, нежности, красоте…
А потом с ней случалось нечто вроде эпилептического припадка — она начинала дико визжать и колотиться об пол, и даже многоопытные красномордые никак не могли ее успокоить. В основном же Дина со своей невыразимой улыбкой молча моталась по коридору, ни на кого не глядя, ничего не видя и не слыша, словно утонув в самой себе…
Вот тезки, Светка-маленькая, как ее зовут в отделении, и Светка-большая. Светка большая похожа на кирпичную силосную башню — слоновой толщины руки и ноги, кирпичного цвета румянец на щеках, пустой взгляд круглых, как пуговицы, глаз.
Светке-маленькой пятнадцать лет. В отделение она поступила год назад. С тех пор выражение ужаса и недоумения не покидает ее личико.
Дело в том, что в больницу ее привезла мать. Елена видела эту "мать’’: высокая, красивая, как киноартистка, надменная, с холодным и несколько брезгливым выражением лица, как ни странно, педагог по образованию…
Так вот, эта женщина привезла дочь в больницу сама, по собственной воле, по своей, так сказать, инициативе. Врачам она объяснила, что "у девочки болезненные наклонности к каким-то нездоровым фантазиям". Мол, девочка ей сказала, что ее муж — стало быть, Светланкин отчим, с которым они поженились совсем недавно — очень солидный, надо сказать человек, подполковник, — якобы, покушался на невинность падчерицы…
Так вот, она, как мать и жена, вынуждена признать, что, к сожалению, у ее дочери явный бред.
И Светку-маленькую поместили в первое отделение…
Елена очень много разговаривала с девочкой и убедилась, что все, что она говорит, правда.
Кстати, "доблестный" подполковник не только "пытался" изнасиловать падчерицу — он вполне добросовестно это насилие совершил. И, видимо, мамаша отлично это знала. Не случайно же у Ликуевой после щекотливого разговора со Светланкиной мамашей появилось новое массивное золотое кольцо со светлым переливчатым камушком…
За год девочка так и не смогла привыкнуть к обстановке сумасшедшего дома. К Елене она тянулась, как к спасательному кругу. Но ведь и Елена — такой же подневольный человек, как эта несчастная малышка. Ну, чем она могла ей помочь — разве что погладить по головке, сунуть какой-нибудь пряник, да почитать ей на ушко стихи…
Светка-маленькая часто спрашивала у нее: "Мы хоть когда-нибудь отсюда выйдем?" И Елена сатанела от этого вопроса. Ну, что она могла пообещать этой маленькой девочке с навеки испуганным лицом, чем она могла ее обрадовать, обнадежить или утешить? Этой худенькой, хрупкой девочке с коротко стриженными волосами, с тонким прозрачным личиком, которая каждого человека в белом халате встречает загнанно-выжидательным взглядом и все ждет, что, может быть, именно сегодня кто-то ей крикнет: "Домой!" И она, сорвавшись с места, понесется к выходу, прочь отсюда, от этих страшных людей, и все, все окажется тогда позади!.. Но никто ее не зовет, никто не кричит ей "домой!", и, похоже, девчонке быть здесь до скончания дней…
* * *
Чем жила Елена три этих долгих года? Все тем же — книгами и стихами. Да еще Феей и Вороном, хотя она сама себе не признавалась, как много значат для нее два этих человека.
Когда один из них уходил в отпуск, она буквально заболевала, чувствовала себя так, будто ее в очередной раз предали, хотя она вполне отдавала себе отчет в том, что ведь врачи имеют, конечно же, полное право на отдых от столь тяжелой и неблагодарной работы…
А еще иногда она ловила себя на том, что ревнует Ивана Александровича и Татьяну Алексеевну к их домашней жизни, к их близким. Она смертельно завидовала их детям, тому, что эти люди принадлежат, прежде всего, им…
Фея всегда приходила, ничего не выспрашивая, не вызывая на откровенность, просто молча садилась рядом, отдавала ей свежие газеты и журналы, иногда совала ей в карман яблоко или пару конфет. Лишь порою она спрашивала: "Есть новые стихи?" "Есть!" — радостно выдыхала Елена. "Ну, тогда, пожалуйста, почитай"…
…Эти короткие мгновенья истинного человеческого счастья — "и она что-то может, и она кому-то интересна!" — заставляли ее держаться на плаву, следить за собой, во что-то еще верить. Очень часто Фея говорила ей, замечая, как слабнут ее душевные силы, как апатия и неверие в какие-то добрые перемены буквально пригибают ее к земле: "Держи себя в руках! Это очень трудно, но, пожалуйста, держи! Вот увидишь, твой час придет."… И Елена изо всех сил пыталась "быть в форме", хотя в стенах ПБ все это было чистой условностью…
И все же…
А Ворон! Вот кто заставлял ее одним своим присутствием ощущать себя Личностью, Человеком, даже поэтом! Он ее никогда не жалел, по крайней мере, внешне ничем своей жалости не проявлял. Но он вылечил ее от заразы, перед которой были бессильны хирурги. И он всегда ей говорил: "С тебя спрос — особый".
Он не прощал ей никаких слабостей, никаких истерик, и ей поневоле приходилось все жестче контролировать свое поведение, слова, поступки.
Это было для нее, пожалуй, наиболее трудным из всех житейских премудростей: в детстве она страдала от невозможности открыто высказать то, что чувствовала, что ее мучило, а в подростковом возрасте, когда она "сорвалась", стало очень трудно сдерживать взрывы яростных эмоций, хотя, конечно, Елена прекрасно понимала, как часто, даже будучи абсолютно во всем правой, она все-таки непривлекательно выглядит со стороны со своими выходками.
Чтобы научиться управлять собой, как выяснилось, одного ее желания оказалось мало, нужна была привычка и умение руководить собой, а такой привычки у нее не было. Самовоспитанием пришлось заняться с нуля. К тому же в стенах психиатрической больницы, которая отнюдь не располагает к самопознанию и самовоспитанию. Но все-таки…
Ворон постоянно приносил ей, как и Фея, новые книги, тетради, авторучки, хотя больничными правилами все это было строго запрещено. Книги санитарки у нее не отбирали, поскольку знали, кто их Елене приносит, зато тетради со стихами изымались и уничтожались у нее в два счета, — если, конечно, Елена не успевала передать их на хранение Фее или Ворону.
Сколько же стихов было безжалостно утоплено красно-мордыми в больничном туалете!
…Антошке исполнилось три года. Елена старалась, насколько возможно, не думать, не вспоминать об этом малыше, потому что у нее от этого по-настоящему болело сердце, она начинала терять над собой контроль и была способна в такие моменты на любую глупость. Но мысли ее не очень-то слушались: "С кем он сейчас? Здоров ли? Что у него есть из игрушек? Какие конфеты любит?.."
Мама разрывалась между нею и внуком. А еще на ней были дом, работа…
И вот однажды мама принесла фотографии Антона. Он был снят со своей группой в Доме ребенка — маленький, грустный, пухлый, пузырь с недетским взглядом исподлобья.
Елена обомлела…
Она положила фотографии в карман, не расставалась с ними ни на минуту, и уже забытое, напрочь потерянное желание — домой, к сыну, на работу! вспыхнуло в ней с небывалой доселе силой. Она потеряла покой… Мысленно она читала сыну стишки, пела ему песни, купала его, водила гулять… Иногда, забываясь, она настолько уходила в свои переживания, что начинала говорить вслух, и, нечаянно поймав чей-нибудь недоуменный взгляд, вздрагивала и, спохватясь, замолкала…
И с новой настойчивостью на каждом утреннем обходе она начала подходить к Ликуевой: "Я вас очень прошу, пожалуйста, выпишите меня отсюда!.. Мама у меня болеет, сыну уже три года, я его еще ни разу не видела… Я работать хочу!".
— Ну, а как насчет гнойников, — сыто, как перекормленная кошка, щурилась на нее Ликуева. — Сознайся хоть теперь — расковыривала?
— Расковыривала! — Елена готова была согласиться даже с тем, что виновницей всех природных катаклизмов на планете за последнее столетие была тоже именно она и никто более. Только бы выбраться ей с этой человеческой помойки!..
— Ну, что ж, подумаем, — цедила сквозь зубы Ликуева. — Мы подумаем…
Но время шло, а разговора о выписке никто не заводил.
И вот однажды наступил день, когда Елену позвали: "Ершова, на свидание!"
Она пошла сквозь строй железно лязгающих дверей, поглядывая на санитарку, которая как-то странно кривила в улыбке лицо и все время почему-то вздыхала.
Наконец она вышла в коридорчик, где обычно проходили свидания больных с посетителями. И — остолбенела…
На скамеечке сидела мама, а около нее стоял маленький мальчик со светлыми волосиками, крутым лбом, внимательными серыми глазами, с нежным белокожим личиком. Стоял и смотрел на нее…
— Сынок? Антошка? — узнав сразу своего мальчика, но и не веря себе, дрожащими непослушными губами переспросила Елена. И потянулась к малышу…
Мать разрыдалась… Даже санитарка, ко всему на свете привыкшая на своей отнюдь не располагавшей к нежностям службе, тоже зашмыгала носом и каким-то ненатуральным басом произнесла: "Ох, вы уж тут сидите, сколь надо, я уж вас оставлю", и вышла.
Сын тоже видел свою мать первый раз в жизни. Но, видимо, и вправду существует некий голос крови, иначе трудно понять, почему он этот трехлетний клопик, едва глянув на нее, вдруг сам подошел к ней и доверчиво ткнулся ей в колени.
Елена подхватила его на руки, прижала к себе, и он, уткнувшись ей в плечо, засопел довольно, как маленький медвежонок…
Она забыла обо всем на свете. Расхаживая по коридорчику с малышом на руках, она ощущала только всепоглощающую радость, и в голове ее билось одно: "Мой сын!..Мой сын!.. Мой сын!"…
И тут из отделения вышла Ликуева. Вышла, удивленно глянула на мать, на Елену с Антошкой, фальшиво заулыбалась. "Ой, какой холесенький мальчик к нам плисол!" — противно засюсюкала она и зачем-то защелкала перед Антоном своими пухлыми пальцами, унизанными золотыми кольцами.
Антошка спрятал голову на груди у матери.
— Лариса Осиповна, я вас прошу, — голос Елены срывался, но она изо всех сил старалась держать себя в руках. — Вот, мама взяла опекунство, забрала сына домой… мне нужно быть дома, с ним! Я без них… ну, не могу!
— Но ведь три года могла, Леночка? Что за спешка? — приторно улыбнулась Ликуева.
И Елена опять удивилась своей выдержке.
— Но ведь не по своей воле я здесь нахожусь, уж это-то вы знаете, доктор! Я хочу домой.
— Доктор, — вступилась тут и мать, — уж мы с вами сколько говорили, выпишите, пожалуйста, дочку домой. Ну, под расписку я ее возьму, если нужно. Не место ей здесь. Да и с сынишкой ее кому-то же нужно быть дома? Я ведь работаю, а место в садике только через несколько месяцев обещают.
— Погодите, погодите! — мгновенно потемнела лицом Ликуня. — Вы что же, считаете, что мы вашу дочь здесь понапрасну держим?
— Нет, нет, что вы! — испуганно замахала руками мать, понимая, что ни на чем сейчас нельзя настаивать, и уж тем более нельзя спорить с врачом. Понимала это и Елена, она лишь опустила голову да покрепче прижала к себе Антона, которому женщина в белом халате явно не понравилась, и он смотрел на нее недоверчиво, нахмурив свои светлые бровки. И Елена с удивлением и умилением заметила, как сильно сын напоминает сейчас Кошкина…
— Что вы, доктор! — испуганно продолжала мать. — Всё правильно, всё правильно! Но вы ее вылечили, я же вижу, вылечили! И ей нужно домой.
— Хорошо, хорошо, — милостиво улыбнулась Ликуева, — раз вы сами считаете, что ее вылечили, мы тут подумаем, посоветуемся…
…Антон не разговаривал. Вообще ничего не говорил. Он только поглядывал своими серьезными глазами на окружающих и прислушивался к их разговорам. Елена была испугана, удивлена: почему же он не разговаривает? Здоров ли он?
Но мать ее успокоила:
— Я говорила с логопедом, та считает, что нормальный, здоровый ребенок, просто с ними в Доме ребенка кто там сильно-то разговаривает? Она сказала, поживет дома, и как еще заговорит-то!
Три часа пролетели незаметно. Елена не спускала Антона с рук, а он и сам явно не желал от нее уходить. Он всматривался в ее лицо, ерошил ей волосы, молчаливо улыбался, когда она рассказывала ему какие-то полузабавные детские стишки и дразнилки, и снова прижимался к ней…
В эти минуты Елена, не задумываясь, с великим счастьем отдала бы свою нескладную жизнь за эту кроху, за этого светловолосого серьезного мальчугана, только бы он был счастлив, только бы ему было хорошо…
А когда все-таки настало время прощаться, Антон, вцепившись в ее халат, никак не хотел уходить с бабушкой, разревелся, и его долго-долго все успокаивали — и мать, и Елена, и пришедшая за ней санитарка, и сбежавшиеся "посмотреть на Ершонка" сестры…
Все были взволнованы: "Смотри-ка, что значит, своя кровь! Никогда мамку не видел, а ведь узнал и расставаться неохота"…
Наконец, мать с Антошкой ушли. Елена вернулась в отделение. И тут напала на нее такая смертная тоска, какой она даже в самые тяжкие моменты своей жизни не испытывала.
Глава 16
Ей казалось, что у нее буквальным образом останавливается сердце. Душа ее рвалась домой, к сыну. Забытая жизнь "на воле" вдруг вспыхнула перед ее мысленным взором всеми своими красками и ощущениями.
Ночь прошла в мечтах, сомнениях и тревоге: да выйдет ли она отсюда хоть когда-нибудь? Поймут ли ее врачи, та же Ликуева?..
Утром, чуть свет, она уселась в коридоре около ординаторской и с нетерпением стала ожидать прихода врачей.
Первой впорхнула в отделение Фея. Забыв поздороваться, Елена, сбиваясь, путаясь от волнения, заговорила с ней: "Я вас очень прошу… пожалуйста!.. пусть меня выпишут… Лучше бы сегодня. Я не могу здесь больше находиться, не могу, у меня уже нет сил на это!"
Фея с тревогой всмотрелась в ее лицо:
— Да что случилось с тобой, Леночка?
— Ничего не случилось. Мама вчера приходила. С сыном. С моим сыном, с Антоном.
— Так… Тогда — понятно… Ты потерпи немного, посиди, успокойся, хорошо? Я сделаю, что смогу…
Но "успокоиться" Елена уже не могла.
Точно так же она встретила Ворона — он, как и Фея, сразу все понял.
— Невмоготу? — спросил он, и она жарко выдохнула: "Ага!"
— Будем воевать, — сказал Иван Александрович и невесело усмехнулся. — Хотя сильно-то не обольщайся, милая моя… Все может быть…
Весь этот день до обеда Елена провела как на иголках. Она не могла ни сидеть, ни читать, ни писать, она забыла про еду и все остальное. Толкаясь среди больных около ординаторской, надеясь, что ее вызовут для разговора, она произносила пылкие мысленные монологи, которые, как ей казалось, непременно должны были убедить врачей в необходимости отпустить ее домой. Но время шло, а ее никто не вызывал.
Время, казалось, превратилось в некую вязкую, как густой сахарный сироп, массу, из которой невозможно было выбраться. Уже было непонятно, сколько прошло в ожидании — минут?.. часов?.. дней?.. лет?..
И вот после обеда, когда Елене уже начало казаться, что о ней просто-напросто все забыли, и все ее хлопоты — впустую, вдруг распахнулась дверь ординаторской и необычайно серьезный, какой-то весь вздернутый Ворон позвал: "Ершова, зайди!"
Бледная от волнения, Елена вошла в ординаторскую.
— Ну, — тихо улыбнулась Ликуева, — расскажи, Леночка, как ты планируешь свое будущее?
— Как?… К сыну хочу, к маме. Работать хочу.
— А что ты собираешься делать?
— Ну, как — "что?" Дома ведь много работы. А теперь еще ребенок — с ним сколько забот да хлопот. Мама же не обязана с ним возиться! Она работает, к тому же она просто устала за эти годы, сама стала сильно болеть… Я должна все взять на себя… И вообще, я бы хотела вернуться на радио…
Врачи переглянулись — кто понимающе, кто — откровенно насмешливо, недоумевающе: мол, после трех лет психушки — и на радио?! Только Ворон и Фея, чувствовалось, понимали ее правильно, им-то не нужно было доказывать, что она вполне пригодна и для такой работы. Хотя… еще вопрос теперь, как на все это посмотрит Марина Григорьевна? Да и все остальные в комитете…
— А ты уверена, Леночка, — прервала ее суматошные мысли Ликуева, — что сможешь заниматься воспитанием своего ребенка? У тебя ведь нет никакого опыта в этом деле, да и вообще…
— Что — "вообще"? Я его люблю, Лариса Осиповна, люблю больше жизни. Понимаете? А раз люблю, и опыт появится.
— А что ты так волнуешься, горячишься?
— Ну, а вы бы не волновались на моем месте? Я хочу домой, Лариса Осиповна! Я эту больницу уже не выношу, аллергия у меня на нее. Я хочу нормальной жизни…
— Хм… А что ты подразумеваешь под нормальной жизнью?
— Жизнь вне больницы, больше ничего.
— Ну, а как со стихами — ты будешь писать стихи?
— Извините, но стихи-то здесь при чем? Писала, конечно, и буду писать, разве мои стихи могут помешать мне жить нормально?
— Ну вот, ты опять горячишься… Спокойнее, спокойнее нужно…
Елена сидела, изо всех сил стараясь унять какую-то непонятную дрожь во всем теле. Чтобы унять трясущиеся руки, она крепко-накрепко переплела пальцы, так, что они даже побелели. Господи, да люди они, эти врачи, или нет?! Ну хоть что-нибудь они понимают, чувствуют, или — все напрасно, все ее переживания — впустую?! И тут вступил Ворон…
— Я считаю, что наша пациентка давно готова к выписке. Нужно просто обсудить некоторые бумажные вопросы, только и всего.
— Я тоже считаю, что Ершова вполне и давно готова к выписке, — вмешалась Фея. — В общем-то, ей здесь нечего делать!
— Коллеги, коллеги! — раздраженно застучала по графину карандашом Ликуева. — Я думаю, некоторые вещи мы и без больной вполне можем обсудить!
Как выделила она интонацией слово "Больная"! "Больная" — как приговор, как клеймо, как позор несмываемый…
Елена вышла из ординаторской и больше часа стояла под дверью, ожидая решения своей участи. Из-за двери доносились резкие, возбужденные голоса врачей — видимо, разговор об ее дальнейшей участи все больше и больше принимал характер острой полемики. Ну, что, что же они решат?! Скорее бы уж!
Наконец выглянул улыбающийся, взмокший Ворон, подмигнул ей:
— Зайди!
С величайшим трудом сохраняя внешнее спокойствие, она зашла в ординаторскую.
Кисло улыбаясь, Ликуева объявила:
— Мы обсудили твои дела, Леночка. И решили выписать тебя. В пробный отпуск. Посмотреть, как ты будешь чувствовать себя дома, какие отношения будут складываться у тебя с ребенком, с матерью… Но имей в виду, выписываем мы тебя в последний раз! Случится что-то, не обессудь, больше отсюда не выйдешь. Поняла?
Ох, как хотелось Елене спросить: что же такого случилось с ней три года назад, в чем была ее вина, когда из роддома ее чуть было не увезли в ПБ? Да все равно увезли — из хирургического отделения горбольницы… В чем она была виновата?…
Но нет, сейчас был не тот момент, когда можно было ей задавать вопросы. И, сдержавшись, Елена только согласно кивнула: поняла, конечно, все поняла, пусть доктор не беспокоится!..
— А когда я пойду домой?
— Ну, вот придет твоя мама, пойдешь.
— А можно, я позвоню маме на работу? Чтобы она сейчас же приехала за мной?
— Ну, куда такая спешка, зачем? — поморщилась Ликуева. — Успеешь, не торопись.
— Да уж давайте, Лариса Осиповна, разрешим Ершовой позвонить матери, — вмешался Ворон. — Тут каждая минута — вечность, понятное дело!
— Ну, ладно… — снизошла Ликуева…
И вот, торопясь, сбиваясь, Елена набирает телефонный номер маминого магазина. Наконец, родной материнский голос устало произносит: "Я слушаю!"
У Елены перехватило горло…
— Я слушаю! — повторила мама на том конце провода. — Кто это?
— Это я, ма, Лена. Меня выписали, ма. Приезжай за мной поскорее, сегодня приезжай, пожалуйста. Только я тебя очень прошу: поскорее!
— Хорошо… — радостно и растерянно проговорила мама где-то там, далеко. — Я сейчас приеду, дочка! Мы с Антошкой приедем. Он здесь, со мной, на работе.
Было слышно, как на том конце провода мама растерянно всхлипула.
— Ой, доча, я ведь сообразить не могу, чего тебе из одежды-то привезти… Ну, ладно, чего-нибудь придумаю…
— Приезжай, приезжай скорее! — уже почти кричала Елена. — Я тебя жду!
Врачи, даже Ворон и Фея, с некоторой тревогой прислушивались к этому разговору.
— Спокойнее, Елена, спокойнее! — несколько раз просил ее Иван Александрович. Она же, горя лихорадочным румянцем, в предчувствии уже близкой свободы, едва могла владеть своими чувствами.
Мама приехала через два часа. Ничего не соображая от такого нежданного счастья, все еще не веря сама себе, что ЭТО — свершилось, что она на самом деле уходит из этого страшного заведения, Елена, глупо улыбаясь окружающим и никого, в сущности, вокруг не видя, кое-как облачилась в домашнюю одежду. Мама принесла свое платье, свое белье — за три года пребывания в психушке Елене пришлось принять несколько курсов инсулинового лечения. От этого быстро набирают вес. Елена, мельком глянув на себя в зеркало, сокрушенно отметила свои округлившиеся щеки, плечи, располневшую талию, — но делать было нечего. Лишь бы скорее отсюда, в любом виде, домой!
И вот, распрощавшись с Вороном и Феей, раздарив больным свое нехитрое имущество, подхватив на руки Антона, который опять к ней привык, как и в первую встречу, они с матерью чуть ли не бегом покинули больничный городок.
Что-то ждало ее впереди?
Счастье? Свобода? Жизнь?
* * *
А жизнь приходилось снова, уже в который раз, начинать с нуля.
Мама работала, у Елены снова была вторая группа инвалидности "с детства". Ей платили все те же шестнадцать рублей пенсии. Случайно в маминых бумагах она обнаружила документ, из которого узнала, что она, Елена Ершова, является "недееспособной", поскольку "страдает хроническим психическим заболеванием в форме шизофрении", и поэтому ее сын, Антон Ершов, отдается на воспитание бабушке, которая признана его опекуном…
— Не я это придумала, дочка, — виновато говорила мать. — А иначе мне бы Антошу не отдали, такие у них порядки…
Ко всему этому нужно было привыкать. Если только человек может привыкнуть к тому, что его незаслуженно считают убогим.
Антону, наконец, дали место в детском саду. За месяц, что провела с ним Елена дома, он неожиданно и как-то очень бойко, пользуясь взрослым лексиконом, заговорил. Причем сразу целыми фразами. В общем, оказался сын веселым, сообразительным, лукавым вихрастым умничкой.
Именно рядом с ним Елена чувствовала, что, если в этой жизни и есть какой-то смысл, так это — Антошка, все остальное — от лукавого.
Но как только Антон пошел в садик, свободного времени сразу стало несообразно много. Спала Елена по больничной привычке недолго, вставала отдохнувшая, со свежей головою. С утра пораньше, чтобы не разбудить маму и Антона, шла тихонько на кухню, читала, писала. Часов в шесть начинала топить печку, готовить завтрак. Когда приходила пора подниматься бабушке и внуку, в доме уже было тепло, ласковым жаром дышала печь, на которой сытым котом мурлыкал вскипевший чайник, на столе исходил паром завтрак — Елена либо картошку утром жарила, либо кашу варила — в их семье никто в еде особо не привередничал.
К восьми утра она увозила Антона в садик — две остановки на автобусе. В половине девятого она уже была дома, в это время уходила на работу мать. Елена убиралась, ехала с тележкой по воду, готовила ужин. Часов с двенадцати дня ей практически заниматься в домашнем хозяйстве уже было нечем. Она опять читала, опять писала, выходила на улицу, сидела около Альки — собачонки, которую взяли вместо недавно издохшего от старости Мухтара. Наконец, в пять вечера Елена ехала за Антоном. Вместе они разогревали приготовленные еще днем щи, кипятили чай и ждали с работы маму…
Вечером она читала Антону книжки, до которых он очень быстро стал большим охотником.
И все-таки чем-то надо было ей заняться, снова искать работу. Зайти в писательскую организацию, снова напомнить о себе? Там, пожалуй, о ней давно забыли… Ну, не убьют же ее в конце концов! И нужно насмелиться, все-таки показаться на радио, тем более, что у нее есть зацепка — трудовая книжка до сих пор лежит в комитете: мол, зашла взять, если что… Но как рассказать даже своим доброжелателям, что произошло с ней за минувшие три года? Ведь не похожа на правду вся эта вакханалия какого-то бесконечного абсурда, в которой нет ни капли здравого смысла. Поверят ли? Поймут ли, что все-таки опять зря держали ее все эти годы в больнице?
Несколько дней Елена была занята разбором своих больничных тетрадей. За три года набралось множество новых стихов, она выбирала лучшие, за которые, как ей казалось, можно было бы не краснеть перед профессионалами, и переписывала их набело в новую тетрадь. Ей хотелось появиться в писательской организации не "бедной родственницей", а человеком, заслуживающим хоть какого-то внимания.
И вот через несколько дней на ее столе появилась толстая общая тетрадь, исписанная убористым округлым детским почерком. Оставалось только решиться отнести ее в заветное святилище, к Кудрину. Наконец, решилась…
Уже стояли ноябрьские морозы, когда часов в десять утра, волнуясь и злясь на себя за это девчоночье волнение, Елена вошла в знакомое здание. Толкнула знакомую, словно только вчера она была здесь последний раз, дверь.
Алексей Иванович сидел за своим рабочим столом, что-то писал.
— Здравствуйте! — сказала Елена, стоя у двери. Он, вздрогнув, поднял голову.
— Лена? Ты? Откуда, какими судьбами? — приподнялся он с места. — Ох, милая ты моя, — растроганно бормотал Кудрин, блестя повлажневшими глазами, — ну, рассказывай, рассказывай же, где ты была, как живешь, чем занимаешься?
Часа полтора рассказывала Елена о событиях трех последних лет своей жизни. Алексей Иванович курил, вставал, бродил по комнате, заложив руки за спину, а едва она умолкала, торопил ее: "Ну, ну, дальше, дальше, пожалуйста!"…
Долго сидели молча, по разные стороны стола. О чем он думал, этот старый писатель, всякое повидавший, ко всему, казалось, привычный?..
Потом он внимательнейшим образом перечитал ее тетрадь. Вот последняя страница. Елена, смущаясь, смотрит на него: что же он скажет?
— Плохо, Алексей Иванович?
— Я полагаю, пора бы тебе первый сборничек издавать. И вот обдумываю, как нам к этому делу приступить… Ты, конечно, сейчас не работаешь?
— Нет… пока.
— Начнем с маленького. Тебе нужно устроиться на работу. Все равно на какую. А то для издательства это будет довольно странная рекомендация: "Нигде не работающая молодая поэтесса". Давай, думай насчет работы, чем скорее устроишься, тем лучше. А мне оставь, пожалуйста, эту свою тетрадку. Доверяешь? А теперь нужно подумать, как тебе выйти в люди, так сказать… Подключайся-ка к нашим писательским бригадам, поезди с выступлениями по коллективам, по районам — пусть публика узнает твое имя, пусть у тебя начинает появляться свой читатель. Как ты насчет творческих поездок?
— Я?… — окончательно растерявшись и ничего не соображая, залепетала Елена. — Я, это… конечно, я бы с удовольствием…
И вот Елена, совершенно не чуя под собой от радости ног, растерянная, обрадованная, идет к автобусной остановке. И — надо же, какое везение! — сталкивается с Мариной Григорьевной.
— Вот так встреча! — восклицает та. — Елена, здравствуй! Когда ты выписалась?
— Два месяца назад.
— А почему не появляешься?
— Я?.. к вам?.. — растерялась Елена. — Я не думала… то есть, я думала, что… что вы не будете со мной разговаривать…
— Почему это?
— Ну, так я же… три же года — где я была?
— Ну, а к нашим отношениям это какое имеет касательство?
— Так ведь… ведь все…
— Ну, Елена, что там "все", меня не интересует. Приходи скорее в редакцию, бери задание, начинай все заново!
Договорившись встретиться завтра с утра на радио, они расстались. Елена летела домой, словно за спиной у нее были крылья. Неужели повезло? И как повезло! Нет, не может так ей везти, не может… А вдруг?
Глава 17
Назавтра с утра Елена уже была на радио. Марина слушала и выспрашивала ее обстоятельно. Она поверила Елене, разумеется, сразу и безоговорочно.
Сжав виски, Марина долго сидела за своим рабочим столом не шевелясь. Потом произнесла: "Боже, да что же это у нас делают с людьми?! За что?!"
Несколько успокоившись, она принялась вслух прикидывать, что и как Елена должна теперь делать дальше…
— Так, возобновить договор с комитетом. Ну, это я беру на себя… Сейчас тебе снова нужно начинать зарабатывать имя. Тебя три года как бы не существовало, публика уже успела тебя забыть — это реальность, никуда от этого не уйдешь. Значит, снова начинаешь звучать. Забудь все свои беды, свои обиды — пусть останется только дело!
— Я поняла, — кивнула Елена.
— Значит, так… Пока будет идти бумажная канитель, бери себе на ближайшие дни задание.
И началась работа. О, с какой благодарной жадностью накинулась она на нее! Моталась по всему городу, со станкостроительного завода спешила на обувной комбинат, из школы — в общежитие ПТУ, оттуда — в комсомольско-молодежную бригаду слесарей на машиностроительный завод..
Ее передачи вновь стали отмечать на летучках, и, наконец, председатель комитета Виктор Михайлович Удальцов, человек весьма немолодой, осторожный и дальновидный, разрешил возобновить с ней творческий договор…
Впоследствии Елена узнает о телефонных звонках от "доброжелателей", которые раздавались в то время в кабинете Виктора Михайловича — сверхбдительные советские граждане, как правило, желающие оставаться неизвестными, с завидной настойчивостью информировали председателя о том, что "эта Ершова, которая то и дело на радио звучит — психическая", и "почему психически больным людям так безоглядно эфир предоставляют"… И большой вопрос, смогла бы Елена удержаться на этой работе, если бы не постоянная помощь и поддержка Марины…
Ближе к весне Елена стала вновь выезжать в командировки по области. Она не знала ни праздников, ни выходных — все забирали работа, сын и дом. Да ей и не нужно было ничего другого, она жадно наверстывала упущенное и боялась лишь одного — какой-нибудь очередной непредсказуемой случайности, нелепости на своем пути. Ничто другое ее не страшило.
Даже Марина, уже, казалось бы, вполне привыкшая к ее работоспособности, время от времени удивленно спрашивала: "Слушай, ты когда успеваешь все это писать?" Елена только радостно смеялась в ответ…
Она, наконец, стала прилично зарабатывать, и, каждый раз не веря себе, расписываясь в гонорарной ведомости, несколько раз перечитывала строчку напротив своей фамилии — 220 рублей, 302 рубля, 405 рублей…
Да, эти деньги давались ей нелегко. Зато какой было радостью — прийти домой, и этак небрежно выложить на стол перед матерью пачечку красненьких купюр, обронив как бы между прочим: "Это, вот, гонорар у нас сегодня был"…
Мать недоверчиво пересчитывала деньги и нерешительно переспрашивала: "Ой, неужели это ты за месяц заработала?" Елена небрежно пожимала плечами.
И мать шептала сквозь радостные слезы: "Ах, Лена, вот отец-то бы увидел, как мы сейчас живем!"
В их дом пришел достаток, спокойное, обеспеченное существование. Елена с матерью могли уже, не оглядываясь и не ужимаясь, купить добротное пальто, юбку, сапоги, кое-что из новой мебели… Жизнь налаживалась. И не только в материальном отношении.
Очень часто в выходные дни по приглашению Алексея Ивановича с группой писателей она выезжала на литературные вечера — в заводские общежития, в Дома культуры, воинские части, в пригородные села.
Люди, видимо, чувствуя ее искренность, на таких вечерах встречали ее заинтересованно, задавали много вопросов, просили еще и еще читать стихи. Это окрыляло.
Единственное, что омрачало эти встречи — невозможность искренне все объяснить, рассказать людям о своем жизненном пути. Когда из зала приходила очередная записка с вопросом: "Что вы кончали?" — Елена внутренне холодела. Как правило, она скороговоркой отвечала, что у нее, как у Горького, свои жизненные университеты, либо — что она закончила факультет журналистики. А что еще можно было ответить в таком случае? Что она чуть ли не десять лет с небольшими "антрактами" провела в сумасшедшем доме, а теперь вот решила поэзией заняться?
Однажды ее позвали к телефону: Алексей Иванович Кудрин просил ее срочно зайти в писательскую организацию.
— Вот ознакомься, — сказал он, — договор на издание поэтического сборника в нашем издательстве на будущий год. Распишись, где надо, экземпляр возьмешь себе. А это — приглашение из Москвы, поедешь на Всесоюзное совещание молодых литераторов. Пока еще молодая…
Елена сидела перед ним, хлопая глазами, не в состоянии понять, всерьез это ей сказано или в шутку. У нее выйдет книжка? На будущий год? И в Москву она поедет, через две недели? Да не может этого быть! Потому что не может быть никогда!
Кудрин, довольный, посмеиваясь, любовался ее растерянностью.
— А… как же в издательстве мои стихи-то оказались?
— Да просто. Я их дал распечатать нашей машинистке, отнес в издательство. Тебе специально ничего не говорил, чтобы зазря не обнадеживать, но вот этот вопрос, наконец, решился, я тебе передаю договор… А в Москву я тоже посылал стихи из той твоей тетрадки, и посылал не только твои, но и еще нескольких ребят стихи, но вызов пришел только тебе. Ну, довольна?
— Да я… да мне… — вскочила Елена со своего места, и, не находя слов, только развела руками и неожиданно для самой себя вдруг заплакала.
Кудрин поднялся ей навстречу:
— Ну и ну! Ты чего сырость-то разводишь? Радоваться надо, радоваться! Вот и твоя литературная жизнь настоящая начинается, чего же плакать? Растешь!..
* * *
Журналистика становилась не только средством для добывания денег — образом жизни, мышления. И эта беспощадная профессия далеко не всегда гармонировала с ее поэтической натурой. Так же, как наблюдаемые ею в поездках красоты природы — с грязью и дикостью провинциальных будней.
Однажды, приехав в один из сельских районов, кое-как устроившись в жалкой, но единственной гостиничке, она пошла в райком партии. И странную картину запустения и паники застала она в этом всегда спокойном и уверенном в себе учреждении: райкомовцы ходили, как в воду опущенные, разговаривали шепотом. Кое-как удалось ей узнать, что же все-таки случилось… А случилось нечто ужасное.
Две недели, не просыхая, пьянствовало одно из дальних сел района, провожая своих призывников в армию. Пили вместе с родителями, вместе со старшими братьями и сестрами и ребятишки-школьники, даже малыши. И вот в разгар всеобщего алкогольного одурения, средь бела дня, вышли из отчего дома двое пацанов, пятиклассник и шестиклассник, братья. Увидев на улице трехлетнюю девочку, соседку, они утащили ее в овраг за домом и, заткнув ей рот снятыми колготками, спокойно и зверски-изощрённо стали убивать… Изрезали ее всю перочинным ножом, потом душили, издали забрасывали камнями — добивали…
Эта трагедия всколыхнула весь район. И только родители братьев-разбойников спокойно, как ни в чем не бывало, продолжали пьянствовать и дальше. Ну, как же, в этой семье было тринадцать детей, половина — дебилы, которые не могли обучаться даже во вспомогательной школе, однако мама их гордо носила на отвороте засаленного, в прошлой пятилетке стираного платья, звезду матери-героини…
Елена видела эту женщину: опухшее, бессмысленное лицо хронической алкоголички, красный, какой-то карикатурный нос, маленькие мутные глазки, почти нечленораздельная речь, в которой отчетливо звучали лишь выражения типа: "Я — мать-героиня, мне должны!", "Я буду жаловаться!..", "Школа, школа должна детей воспитывать, вот что!"
Ее супруг-"герой", хлипкий, тоже совершенно спившийся, в засаленной, провонявшей хлевом одежде, сидел с нею рядом, помаргивая, и согласно кивал головой: "Но, ага, правильно баба говорит"…
Эти выродки тоже назывались людьми… И, как ни странно, они-то считались "нормальными"… Так что же это такое — "норма" в нашей жизни? Первый секретарь райкома партии слег от этого происшествия — инфаркт, а родители юных выродков, когда приехала милиция, подняли недовольный крик: они, видите ли, на свадьбу собрались, а их тут… "отвлекают"! Да, да, так и сказала мамаша-"героиня":
— Че отвлекаете-то, ну, надо пацанов забрать — берите, а мы-то с мужем здесь при чем?!..
Этих горе-родителей жутко "наказали", ничего не скажешь: на сельском сходе их лишили родительских прав. Подъехавшая из области машина забрала всех ребятишек из этой семьи и увезла за 300 километров в областной центр…
А в опустевшем доме, как ни в чем не бывало, продолжались буйные попойки. Пили-гуляли вместе с матерью зверски замученной девчушки — двадцатилетней деградированной алкоголичкой! "Бог дал, бог взял. И еще даст!" — спокойно философствовали "безутешные" родители.
Нет, никакого разумного объяснения происходящему в этой жизни иной раз просто не могла она найти…
То мальчишка-девятиклассник в одном селе, изнасиловав свою одноклассницу, забил ее насмерть велосипедной цепью… То восьмиклассники надругались над своей молоденькой учительницей, все, сколько их там было — более двадцати человек, прямо в классной комнате…
А то — муж-чабан, вернувшийся из пьяного загула на свою стоянку, застал свою жену, такую же пьяницу горькую, в компании своего помощника. Не долго думая, ревнивец бежит в сарайчик, наливает в банку из канистры бензина и, плеснув жене на низ живота, поджигает… "Не будет больше гулять!" — спокойно философствует он, глядя, как корчится с дикими криками на вспыхнувшей постели его половина.
…Обовшивевшие девчонки продаются взрослым дяденькам только потому, что те "угощали их шоколадом и пирожным". А когда "дяденек" арестовывали, девчонки в голос рыдали и говорили, что не хотят домой, дома плохо, а с дяденьками — хорошо…
В газетах печатались жуткие репортажи об издевательствах, которым подвергаются американские дети со стороны своих родителей, а в это же самое время на соседней улице погибал избитый пьяной матерью малыш, и эту маму никто не привлекал к ответу, потому как "злого умысла" не было, всего лишь "не рассчитала" пьяная бабенка…
Было от чего приходить в смятение, сомневаться в здравом рассудке такого общества!
Чем больше таких фактов собиралось в копилке ее измученной души, тем тяжелее и несноснее казался ей окружающий мир. Все спасение было только дома, около сына, возле мамы, на работе, рядом с Мариной, в кабинете у Алексея Ивановича.
Но спрятаться от жизни, причиняющей каждодневную душевную боль, было просто невозможно. Так уж она была создана: все, что происходило вокруг, любая, даже самая малая, несправедливость, несуразица остро царапали ее сердце. Оборванный старик-побирушка, изуродованная старуха с палочкой, мужичонка в грязненькой одежонке, собирающий на помойке пустые бутылки… При взгляде на них ей мерещилось, что это она стояла с протянутой рукой, рылась в помойке, ковыляла по тротуару под насмешливыми взглядами окружающих…
"Привыкнуть", "адаптироваться" ко всему этому ей было не дано.
* * *
Да и собственная судьба ее не облегчала такой адаптации. Новый удар она испытала, когда Антон учился во втором классе. Как-то раз пришел после уроков растерянный, испуганный. До самого вечера он тихо сидел на диване, бесцельно перелистывая книжки, и на все бабушкины вопросы — не заболел ли он, не получил ли двойку, неизменно мотал головой и ничего объяснять не хотел.
А когда Елена вернулась вечером с работы, он кинулся к ней прямо с порога и, не успев поздороваться, с лихорадочным блеском в глазах заговорил: "Мама, я сегодня с Петькой разодрался! Он ко мне подошел в классе да и говорит при всех: "Антоха, сознайся, что мать тебя в детдом сдавала! Потом ее припугнули, она тебя и взяла". А я ему говорю: "Что ты все врешь, я всегда с мамой жил!" А пацаны все равно мне теперь кричат: "детдомовский, детдомовский!". Я Петьке говорю: "Откуда ты это знаешь?" А он говорит, что ему бабушка сказала, у него бабушка, он говорит, все про всех знает"…
Елена здесь же, у входа, бессильно опустилась на табуретку. Господи, вот и до Антона добрались! Она так старательно оберегала его от всего этого, загадала, что расскажет обо всем, когда ему исполнится хотя бы лет пятнадцать-шестнадцать, а тут — нате вам, подарочек… Теперь другого выхода не было. И Елена, с огромным трудом сдерживая себя, рассказала-таки Антону то, что хотела открыть ему лет через семь-восемь… Мальчик был потрясен.
— Ты столько лет была… в сумасшедшем доме, мам?
— Да.
— А меня, значит, от тебя увезли? Или тебя — от меня?… А если бы мы друг друга никогда не нашли?…
С этого случая все и началось.
Как-то раз Елена пришла, как всегда, в школу узнать, как у Антона дела. Шли уроки, до звонка оставалось минут двадцать, и она тихо бродила по школьному коридору. Вдруг, как ей показалось, она услышала голос Антона. Прислушалась — да, разговаривал Антон, и голос его доносился из учительской. Елена подошла поближе, и в щель прикрытой двери увидела своего сына, недоуменно и испуганно стоящего перед какой-то солидной дамой в черном костюме — та сидела за столом и что-то писала, задавая Антону вопросы.
— Ну, Антошенька, а как тебя мама кормит?
— Ну, как? — хорошо. Суп ем, кашу, картошку…
— А конфеты, яблоки, апельсины?
— Конфеты не ем, я их не люблю. А яблоки ем, когда бывают, и апельсины…
Женщина в черном, не слушая его, диктовала сама себе вслух: "Так, питание недостаточное, однообразное… А скажи, Антон, что у тебя дома есть из игрушек?"
— Да я их не люблю, я все ребятишкам соседским раздарил, я же уже большой.
— А мама тебя, Антон, бьет?
— Ну, как это — бьет? — недоуменно развел руками Антон. — Иногда, если заслужу, шлепнет. Или поругает. Раньше, когда я маленький был, иногда в угол ставила, но редко. А сейчас я большой, что же она меня, в угол ставить будет?
И опять женщина в черном диктует сама себе: "Ребенок подвергается физическим наказаниям".
— А скажи, Антошенька, к маме дяденьки приходят?
— Приходят, много приходят! — бойко отвечает Антон. — Дядя Слава, дядя Юра, дядя Валера — это тоже писатели, поэты. Сидят, чай пьют, стихи читают…
— А может, Антон, они водку пьют?
— Да нет, что вы, чай! Мама не любит водку, пьяных ненавидит, уж я знаю!
— Хм… А скажи, Антон, кто-нибудь из этих дяденек остается у вас ночевать?
— Нет, у нас ведь негде спать. У нас одна кровать — на ней бабушка спит, а еще у нас диван, на нем мы с мамой спим.
— А все-таки, может, кто-нибудь остается, Антон?
— Да нет же, я же сказал!..
Тут, не выдержав, Елена открыла дверь и зашла в учительскую.
— Сынок, ну-ка, иди отсюда в класс! — скомандовала она Антону, и тот, облегченно вздохнув, быстренько выскользнул из кабинета. — Это что же за разговоры вы с ребенком ведете? — обратилась она к женщине в черном, едва сдерживая негодование. — Вы неужели не понимаете, о чем можно, а о чем нельзя с мальчиком разговаривать? Вообще, кто вы? Что вам нужно?
— Потише, гражданочка, потише! — послышалось в ответ. — Сядьте-ка, да помолчите… Я — инспектор района, у меня задание — обследовать неполные семьи. Я должна выяснить, как живут дети в таких семьях, как их воспитывают, как кормят, в чем у детей нужда. И вы свои эмоции, будьте так добры, оставьте! И вообще, — тут она потрясла пухлой папкой, лежащей перед ней на столе, — у меня тут материальчик на вас! Ведь вы к сыну не имеете никакого отношения, он — опекаемый, если уж на то пошло, и его опекун — бабушка, ваша мать! Так что я и разговаривать-то с вами не обязана!
— Господи… господи, да вы хоть понимаете, что говорите?! — побледнев, как смерть, едва выговорила Елена.
— Я-то понимаю, — победно отчеканила дама, — а вот если вы не поймете, так ведь мы и меры можем принять!
Елена не могла потом вспомнить, как она вышла из кабинета, как пошла по улице, заливаясь жгучими слезами нестерпимой обиды, задыхаясь от невыносимой сердечной тоски…
В молодежную редакцию радио не однажды звонили высокопоставленные партийные и комсомольские деятели, которые очень настырно интересовались, кто же она такая, эта Ершова, почему в ее материалах постоянно так много критики, чего она вообще добивается…
— Ну, что значит — "критиканство"? — терпеливо объясняла телефонной трубке в очередный раз Марина, косясь на сидящую здесь же Ершову. — Просто Ершова очень неравнодушный человек, все ее искренне волнует, потому она так пишет… Ну, что, вы, чем же она "больна"?… что, психически? Кто это вам сказал? Облздрав? А я вам говорю, как главный редактор молодежной редакции, что Ершова — одна из лучших наших журналистов! Ну, и что же, что она без специального образования?…Да не больна она, ничем не больна!..
После таких телефонных бесед Елена с Мариной шли в курилку и долго дымили там, молча поглядывая друг на друга. Ничего они друг другу никогда не объясняли, да и что тут можно было объяснить? — Марина отбивала атаки, Елена — работала…
Глава 18
По ходатайству писательской организации городские власти сочли возможным выделить Елене с сыном двухкомнатную благоустроенную квартиру. Естественно, в новое свое жилье они переехали втроем — Елена, Антон и мама, старый дом стал у них чем-то вроде дачи в городской черте. Сколько сразу бытовых забот ушло прочь из их жизни! Теперь уже Елена, отправляясь в командировку, не мучилась в поездке, как там без нее управляются ставшая пенсионеркой мама и подрастающий Антон. Проблемы с водой, дровами наконец-то исчезли.
В их доме было все, что, как правило, свидетельствует о достатке хозяев — хороший цветной телевизор, пара холодильников, забитых снедью, хорошая домашняя библиотечка… У Антона было два приличных фотоаппарата, поскольку он всерьез увлекся фотографией, были хорошие книги, и именно по тем разделам, которые мальчика больше всего интересовали, — история живописи, искусствоведческие издания, книги по биологии и зоологии… Интересы у Антона были самые разнообразные — он и рыбок разводил, и растения всяческие на окнах в горшочках выращивал, и рисовал прекрасно, и на скрипке играл. Словом, все у них было как у людей. Как говорят, живи — не хочу!
…И все-таки тайное, ей самой не очень понятное недовольство собой, своей жизнью сжигало ей душу. Казалось бы, начинались новые времена. Повеяло невиданными и неслыханными переменами, носились в воздухе дразнящие слова — "гласность", "плюрализм", "демократизация". Но в жизни к добру ничего не менялось. Да, люди стали говорить много и откровенно часто зло и необдуманно. Да, вроде бы, переставали оглядываться на каждый шорох.
Но появилось в людях еще больше озлобленности и недоброжелательности, захлестывающей любые доводы разума.
По месту нового жительства участились визиты патронажной сестры, стали более настырными. Если ее не заставали дома, то медицинская сестра из диспансера очень интересовалась ее поведением, самочувствием у соседей.
После очередной бессонной ночи, просидев до рассвета над большой радиопередачей, Елена почувствовала утром, что голова у нее буквально разламывается. Пришла в поликлинику к участковому врачу.
Молодая женщина-врач, выслушав ее жалобу и измерив ее давление — а у нее оказалось 190 на 120, стала листать ее амбулаторную карту. И тут, судя по всему, она наткнулась, на весьма заинтересовавшую ее в карточке запись и искоса взглянула на Елену.
— Простите, а вы давно были у своего врача?
— У какого это —,у своего"? — поинтересовалась Елена.
— Вы ведь на учете состоите в психоневрологическом диспансере. И вам, конечно, нужно показаться своему врачу. А если он даст вам направление ко мне, что, мол, вы нуждаетесь в лечении и обследовании у терапевта, я тогда с дорогой душой вас приму.
— Слушайте, доктор, — с ехидством отчаяния спросила Елена, — а если я приду к вам с цветущим сифилисом или с открытым переломом, вы, что же, меня тоже пошлете сначала к психиатру?
— Понадобится, и пошлем. К кому нужно и куда нужно, — сказала, как припечатала, докторша.
Елена вышла из ее кабинета, как оплеванная…
* * *
Единственной отдушиной у Елены все эти годы была Нина Алексеевна Соснина. Очень часто, иной раз по нескольку раз в неделю, если позволяло время, она мчалась к этой удивительной, яркой женщине на кафедру, в диспансер. Как-то уж так незаметно произошло, что постепенно Елена отошла от всех своих друзей и недругов, очень редко виделась с Вороном и Феей, но чаще переговаривалась с ними по телефону, а вот уж с Ниной Алексеевной отношения у них сложились особые.
Самым главным в их отношениях было то, что Нина Алексеевна никогда за все время их знакомства не пыталась разговаривать с Еленой как с больной. А Елена никогда не рассчитывала на Нину Алексеевну как на врача.
Вот и в этот день Елена влетела на кафедру, как в родной дом, ища успокоения и понимания.
— Значит, интересуются тобой товарищи? — переспросила Нина Алексеевна, когда Елена умолкла.
— Да уж, интересуются, чуть ли не шпионят! — невольно поежилась она. — Аж до сбора сведений у соседей дело доходит!
— Ну, а что же ты паникуешь-то так, девочка? Ты что, первый раз узнала, что о тебе кто-то сведения собирает?
— Первый…
— Ну, так ты знай на всякий случай, чтобы больше в панику не впадать, и наше заведение различные инстанции забрасывают запросами на твой счет. Как давно ты болеешь, какой у тебя диагноз, ну и все такое…
Елена сидела, изумленно приоткрыв рот.
— Что, прямо вот так и запрашивают?
— Так и запрашивают. Уже по одним этим запросам можно предположить, где и кого ты опять задела — значит, либо интересная радиопередача прошла, либо — статья газетная, либо где-то перед публикой ты выступила не так, "как надо"… Ну, а ты — не смей раскисать, держи себя в руках! Кое-кому страшно хотелось бы выставить тебя идиоткой — ну, не доставляй же им такой радости!
— Нина Алексеевна, не могу я понять, что со мной происходит… Ну, я уж скоро бабушкой, наверное, буду, уж Антошка женихом становится, а жить мне все труднее и труднее. Я понять не могу, чего же мне не хватает. Вот ведь наверняка даже ваша Ликуева сейчас полагает, что я — "адаптировалась" в жизни, что у меня — "ремиссия". А я — выть хочу! Я только сейчас поняла, что если меня от чего и "вылечили" в психушке, так это — от индивидуальности, от личностных каких-то качеств. Если бы я не попала в психушку, у меня был бы шанс стать действительно Человеком. А что я сейчас, после всех этих инсулиновых шоков и электрошоков, после скипидаров, сульфозонов, аминазинов и веревок? Нынешняя я — это только жалкие развалины того, что было, что могло быть… Поймите меня, мне душно жить, я себя презираю! Ловлю себя на том, что пишу — и прикидываю, не завернет ли цензор или редактор, говорю — и мысленно одергиваю себя: как бы чего лишнего не ляпнуть… Ненавижу, всю эту систему ненавижу, себя ненавижу! Так хочется быть внутренне свободной, как в юности, как в детстве, а уже не могу, крылышки-то уже мне подрезали, душу адским огнем опалили. Вот я и думаю все чаще: зачем живу, зачем воздух копчу? Да, у меня Антон, я это понимаю. Но он уже большой. Еще несколько лет, и он уйдет от меня, у него начнется своя жизнь, свои дела… И что же я тогда? Чем жить — воспоминаниями о несостоявшейся жизни? И знаете, что я сейчас думаю? Разум людям, способность чувствовать дается в какое-то страшное наказание. Порой смотрю вокруг — как же много дураков! И все они вполне счастливы! А чуть, смотришь, поумнее человек — и вся-то жизнь у него наперекосяк, все он, чудак, об стенку головой хлещется…
— Ах, Лена, Лена! — покачала головой Нина Алексеевна, терпеливо выслушав ее сумбурный, бередящий душу монолог. — Но ведь нет у нас выбора, понимаешь, нет! Ты все понимаешь и чувствуешь правильно, и не одна ты, моя хорошая, так думаешь. Да ведь от наших размышлений абсолютно ничего не меняется! Надо жить. Умные люди в этой жизни спасаются тем, что каждый, в меру своего разума и терпения, придумывает себе жизненную цель, кому что по плечу. Ну и ты себе что-нибудь придумай. Впрочем, у тебя ведь есть мама, Антон, ты же за них отвечаешь, Лена! Вот тебе и цель… А мучить себя всеми этими "зачем" да "почему" — занятие безнадежное. Ничего не придумаешь утешительного…
…Для нее важнее всего было понять, разобраться, наконец зачем же она вернулась в этот мир из кошмарных объятий психушки, зачем вообще все это было в ее жизни, и даже сама ее жизнь на этой земле — зачем? Сколько труда, сил, нервов потратила она на то, чтобы выкарабкаться из своего ничтожества, из больничной грязи — туда, вверх, к солнцу. И что же она увидела наверху? Все ту же грязь, все ту же духовную нищету, а самое главное, и здесь ее охватывало все то же чувство потерянности и униженности… Что ж, получается, ее реабилитация перед этим жестоким, насмешливым миром тоже была впустую?
Ей всегда трудно и одиноко было среди людей, несмотря на ее внешнюю раскованность и общительность, приобретенную в последние годы. И с возрастом это одиночество росло и усугублялось. Наверное, это было обусловлено и отношением публики к пишущей женщине.
Странно: девочка пятнадцати-семнадцати лет, сочиняющая какие-то вирши, принималась окружающими вполне благосклонно, но женщина в годах становилась центром недоброжелательно-насмешливого внимания. На поэтическом вечере люди рукоплескали ей, заваливали ее записками, дарили цветы, а в обыденной жизни для тех же самых людей она была каким-то изгоем.
Елена с грустной улыбкой вспомнила, как Антошка, учившийся еще в первом классе, однажды с ревом прибежал домой: мальчишки сказали ему, что он — "поэтессин сын", и еще сказали, что "стишки только "повернутые" сочиняют, а мамы стихов не пишут"…
Она, конечно, как могла, утешила сына, объяснила ему, что люди всегда смеются над тем, что недоступно их пониманию, и что вовсе не нужно стыдиться того, что он — сын поэтессы. Позорно быть сыном бездельницы, алкоголички, тунеядки…
Однажды она лежала в стационаре с воспалением легких. Бесконечные женские разговоры о пьянствующих мужьях, беременностях и абортах, о бестолковых детях и дурах-свекровках повергли ее в уныние. Она с изумлением и даже со страхом следила за этими так называемыми "нормальными" женщинами и не могла понять, чем же они отличаются от тех, что были в психушке. В дурдоме, по крайней мере, было немало людей с больной совестью, со страдающей душой, здесь же матери семейства, жены рассказывали друг другу о мерзостях, которые они вытворяют в своей повседневной жизни, и как будто даже хвастались этим…
Она стала на весь день сбегать куда-нибудь от своих соседок сразу после обхода палатного врача. Обычно она укрывалась в самом дальнем конце коридора — где-нибудь за кадкой с пышно разросшимся лимоном, и сидела там весь день, возвращаясь в палату лишь к ужину. Сидела, думала, читала, писала стихи…
Однажды, когда она ходила на уколы в процедурный кабинет, находившиеся в палате женщины перерыли ее тетради, в которые она записывала только что родившиеся стихотворные строки.
Когда она вернулась в палату, семь пар глаз безцеремонно уставились на нее.
— Слушай, девка, — безаппеляционно начала Марь Паловна, как все ее звали, буфетчица городского ресторана, которая могла уязвить любого своим не знавшим пощады языком, — это че за стихи у тебя в тетрадках-то?
— Это… мои стихи.
— Как это — "твои"? Сама, че ли, сочиняешь?
— Да.
— Ни хрена себе!
Марь Паловна, подбоченясь, обошла вокруг Елены, как вокруг новогодней елки, с любопытством поглядывая на нее.
— У тя мужик-то есть?
— Нет.
— Ну, понятно… это кто же выдержит рядом бабу со стишками!
— А что, стихи — это так плохо?
— Че — "плохо", не плохо — глупо… Об жизни надо думать, жисть надо устраивать. А стишки-то че сочинять, тебе, че, шашнадцать лет, че ли? Я и то думаю, каво же девка-то все куда-то бегает из палаты, людей сторонится, а ты, значит, вон че… ну-ну, сочинительница, давай, валяй дальше! Пи-и-са-тель-ни-ца-а!
Ну, как можно объяснить этой шестидесятилетней бой-бабе с зычным голосом базарной торговки, что стихи для нее — вся жизнь?
Или такой случай. Помнится, она копалась в огороде, на грядках, а за забором разговаривали две соседки.
— Слышь, тетя Соня, — говорила одна, — ты слыхала, Ленка-то Ершова каку-то книжку написала? Я сама слышала, давеча по радиво передавали!
— Ты каво, девка, болтаешь-то! — всплеснула руками тетя Соня довольно старая уже бабка. — Да каку книжку эта Ленка напишет, когда она, эва, то в огороде возится, то воду таскает? Сама знаешь, мать у ей всю жизнь в торговле работает, небось, наняли кого-нибудь, вот и написали книгу! А то — "Ленка Ершова написала!" Тьфу!
Выслушав этот диалог на улице между соседками, Елена чуть не носом в грядку ткнулась, такой разобрал ее смех. Потом, уже вечером, призадумавшись, она вдруг ужаснулась: это какая же дикость царит в представлениях людей о литературе, о творчестве, да о ней самой, в конце-то концов?!
То, что она имела, так сказать, на текущий момент, было всего лишь жалкими осколками изломанной жизни, несостоявшейся творческой судьбы. И она с беспощадной ясностью понимала, что ни лекарства, лишившие ее нормальных человеческих реакций, интересов, привязанностей на долгие уже послебольничные годы, ни сеансы электрошока пользы ей не принесли, что несусветная мощь родимой отечественной медицины сделала все возможное и невозможное, чтобы обеднить, разрушить, уничтожить многие черты ее личности.
Больше того, она понимала, что судьба ее, жизнь ее НЕ СОСТОЯЛАСЬ. И уже не состоится НИКОГДА. Поздно! И все острее и беспощаднее звучал для нее вопрос: "Зачем же я все-таки живу? Зачем я?"…
Ответ был однозначен: "Никакого нет смысла… И я — незачем"…
И постепенно, сначала — изредка, а потом — все настойчивее, все чаще стала вдруг вспыхивать в ней эта черная мысль, от которой не было избавления: "Умереть — честнее"…
* * *
Позвонила заведующая отделом культуры обкома партии Марина Платоновна Сысоева — Елена как раз была в молодежной редакции радио. Ее попросили срочно, по возможности прямо сейчас, зайти в обком. И Елена, тут же подхватившись — все-таки, не так уж часто вызывали ее в обком! — помчалась в знакомое монолитное здание на центральной городской площади.
— Вы знаете, Елена, — начала разговор Марина Платоновна, — вы уж разрешите мне называть вас просто Еленой, хорошо? На днях в нашем издательстве мы с главным редактором просматривали план выхода книг… В этом году должен выйти ваш поэтический сборник. Я читала вашу рукопись, мне она понравилась. Вы знаете, что есть такое мнение… вас, в общем, рекомендуют в члены Союза писателей. Но есть мнения и другие… Вы только не обижайтесь, я сейчас прежде всего о вас, о вашем будущем пекусь… В общем, в обком партии постоянно приходят письма… от разных людей… что Ершова, мол, человек психически больной, что это безобразие — пропагандировать ваше творчество… Я отношусь к вам и вашей поэзии с большим уважением, Елена. Но система требует… Короче говоря, чтобы обезопасить вас, и нам самим обезопаситься, вам нужно пройти врачебную комиссию из специалистов-психиатров. Давайте, не откладывая дела в долгий ящик, прямо сегодня, сейчас все это сделаем. Признаться, до вашего прихода я созвонилась с психоневрологическим диспансером, там как раз сейчас собралась врачебно-экспертная комиссия. Для вас это — только проформа, а для нас — документ, всем сомневающимся мы уже сможем его предъявлять… понимаете? И вы тоже, Елена, будете надежно защищены…
Елена, вскочив, стояла, улыбаясь бледной, вымученной, кривой улыбкой, и бормотала: "Да, спасибо… конечно… я все понимаю!" Все это настолько унизило, окончательно растоптало, ошеломило ее, что она не смогла даже возмутиться. Лишь безропотно повернулась и зашагала вниз по лестнице, позабыв про лифт.
И все-таки, сразу из обкома она направилась в психоневрологический диспансер. И ее там действительно ждали — как много лет назад, когда она направлялась на такой же консилиум из редакции областной молодежной газеты. Сразу, без проволочек, ее пригласили в кабинет главного врача, где она не была уже много лет и куда ей вовсе не хотелось бы хоть когда-нибудь попасть.
Врачи в основном были незнакомые, и где-то краешком сознания пронеслась у Елены тоскливая мысль: "Хоть бы Нина Алексеевна здесь была!" Но Сосниной, увы, в этом кабинете не было…
— Здравствуйте! — деревянным голосом поздоровалась Елена с членами врачебной комиссии.
— Здравствуйте! — тихо ответил ей главный врач, и, всмотревшись в его лицо, Елена с почти мистическим ужасом поняла, что ведь это — тот самый студент-медик Володя, что ходил когда-то к ней на свидание в психушку, и партийный папа которого так запросто и навсегда разрушил их дружбу.
По лицу главного врача она поняла, что и он ее узнал, но ничего в его будущих решениях специалиста и руководителя это, разумеется, не изменит.
Елена совсем было растерялась. Но, представив, что вся эта белохалатная компания только и ждет от нее какой-нибудь выходки, срыва, она, стиснув зубы, мысленно приказала себе; "Держись! Ради всего святого, держись!"
— Итак, вы знаете, зачем вас сюда пригласили? — бархатным, спокойным голосом спросил главврач.
— Да, конечно.
— Ну, что ж, очень хорошо. Как вы себя чувствуете?
— Нормально.
— Ну, "нормально" — понятие растяжимое. Как вы спите? Есть ли колебания настроения? Не возникает ли у вас, как когда-то, навязчивое желание покончить счеты с жизнью?
— Сплю нормально. Колебания настроения? — Ну, бывают, конечно, когда не все гладко получается в работе или моих личных делах. О смерти давно не думаю. Мне некогда об этом думать. Я, видите ли, ломаю голову над тем, как бы мне побольше времени уделять на самоусовершенствование, на повышение своих профессиональных качеств. В то время, как весь наш советский народ дружно работает над великими свершениями, предначертанными нашей великой коммунистической партией, ведомый к новым вершинам идеями нашего вождя и учителя Владимира Ильича Ленина, долг каждого рядового гражданина нашей страны неизмеримо возрастает: все мы должны вносить свою посильную лепту в славное дело строительства коммунизма! Все мы должны принимать посильное участие в развитии гласности, демократизации нашего общества и плюрализма мнений!
В кабинете стояла зловещая, звенящая тишина. Но ни один мускул не дрогнул на лице главврача…
— Ну, что ж, вы просто замечательно понимаете свой долг перед обществом, я рад за вас!.. Ну, а как вы сами считаете, сейчас вы здоровы психически?
— А вы считаете, что я хоть когда-то была психически больна?
— Хм… вопрос несколько бесцеремонный, может быть, но… ведь вы же хотите, чтобы ваша книга вышла в свет?
— Разумеется.
— Тогда к чему эта конфронтация с нами? Мы же искренно хотим вам помочь. Значит, вы считаете, что по нашей части вы здоровы?
— Я здорова по всем частям.
— Хо-ро-шо… тогда ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос, вернее, я хочу задать вам несколько вопросов… Как вы понимаете пословицу "Как потопаешь, так и полопаешь"?
Едва-едва не сорвавшись, но вовремя вспомнив, что права на это у нее просто нет, Елена, старательно улыбаясь, ответила:
— Ну, наверное, это, прежде всего, ко мне относится… Насколько я смогу быть сегодня вежливой и любезной с вами, настолько благоприятными будет ваше заключение на мой счет. И — наоборот.
И опять ничего не дрогнуло в безмятежном лице главного врача.
— Та-ак… Ну, а чем отличается дерево от столба?
— Одно — еще растет. Другой — уже не растет.
— Угу… ну, а "пьяному море по колено" — это как понять?
— Это? — Это, видимо, объявление на пункте проката водных лыж. Намек, что на всех лыж не хватает, так пьяные и без них, мол, обойтись могут.
Тишина в кабинете главного врача. Только труба парового отопления под окном вдруг взвыла низким, полузадушенным басом, и у всех присутствующих невольно искривились лица, как от зубной боли.
— Интересный вы человек, товарищ Ершова! — наконец нарушил нестерпимое молчание главврач. — Ну, ладно… С кем же вы сейчас живете?
— С матерью и сыном.
— Вот как… Сколько же сыну лет?
— Пятнадцать.
— Какие у вас с ним отношения?
— Самые наилучшие. Мы уважаем и любим друг друга.
— Угу. Вы довольны своей личной жизнью, своей работой?
И она, прямо глядя ему в глаза, твердо ответила:
— Вы даже представить себе не можете, как я довольна!
— Ну, а почему вы так агрессивно настроены к нам? Мы ведь не желаем вам зла, мы только хотели бы вам помочь.
— Помочь — вы? Мне? Да неужели же вы сами не чувствуете всей нелепости этой ситуации! Ну, вот поговорили мы с вами. И что, вы пошлете в обком партии справку: "ВТЭК областного психоневрологического диспансера сим удостоверяет, что гр. Ершова может быть автором поэтического сборника" — так, что ли?
Врачи переглянулись.
— Ну, зачем же так утрировать? — пожал плечами главврач. — Свое заключение мы, конечно, дадим, не в форме дело.
— А в чем?
— В сути конечно.
— Ну и как, я, по вашей сути, гожусь в поэты?
— Годитесь! — кивнул главврач. — Вполне. Я бы вас попросил… — тут его голос предательски дрогнул, и на миг прежний Вовка-студент выглянул из холодной белоснежной оболочки, прочитайте, пожалуйста, нам два-три стихотворения.
— Сейчас?
— Да, Пожалуйста…
— Хорошо…
Смотрю с любовью и тоской на все больное, непростое: над Минском, Киевом, Москвой несется вопль: "Плоды застоя!" Как мы ударили в набат! — И как не бить? — ведь разрешили… И обличает брата — брат, а сын — отца с российской ширью. О, обличительства размах, и мутный смысл понятья: "ВОЛЯ"! Разгул и в душах, и в умах… "Идем вперед. Чего же боле!" Россия, Родина и мать, больная, кровная держава, ты учишь старое ломать, и строить новое, пожалуй. Но в шумном грохоте идей, в разгуле облеченья, ломки, не потеряй своих людей, ведь проклянут потом потомки! Как нелегко себя блюсти во вседозволенной горячке! Прости нас, прошлое, прости, прости всех зрячих и незрячих! Дай сил мне, Родина, понять ЧЕГО и ПОЧЕМУ я пленник… Дай силы этот груз поднять, и не свалиться на колени! Врачи, застыв, изумленно слушали ее… О время выбора дороги!.. Весь город митингами сжат. На всех углах, как недотроги, средь нас оракулы визжат. О время выбора!.. До драки, когда, порою, с ног летишь, ты и при свете, и во мраке под грузом выбора кряхтишь. Друг другу мысли поверяем, друг друга яростно корим, своих товарищей теряем, и — говорим, и говорим! Заговорили быль и небыль, смешались в кучу правда, ложь… Оратор руку поднял к небу — так поднимают к горлу — — нож, так голову склоняют, — к плахе, так с колокольни льется звон, так бинт пластают из рубахи, так душу выпускают — вон! О время выбора!.. До брани, до звона стекол и монет… Как будто все мы — на экране, как будто нас на свете — нет! Довольно митингов и бреха, пора за дело, наконец!.. Молчит потерянно эпоха, как заблудившийся малец!Одна врач — молоденькая, конопатая, совсем еще девушка, по-детски приоткрыв рот, поглядывала то на Елену, то на главврача, то на старших коллег, видимо, не могла сориентироваться, как ей на все это реагировать… И Елена, улыбнувшись этой девочке в белом халате — врачевателю душ! — продолжала:
"…Мы — красные ка-ва-ле-рис-ты, и про нас"… Мы глотки рвем неистово в который раз. О, как мы озабочены судьбой страны — вопим на всех обочинах, грозны, странны. Орем на всех собраниях — их не объять! — с неистовой бранью: "Стрелять!"… "Стрелять!!!"… "Стрелять!" — кто не согласные, согласных — тож. Тревожно и опасно взлетает нож. "Стрелять!" — юнцов и бабушек, детей, отцов — "Стрелять!"… Мне кажется, пора бы уж всем нам понять: пришла пора обуздывать себя от слов, от непотребной музыки нелепых снов, и прятать шашки-жала в пыль чердаков давно пора, пожалуй, от чудаков! "Мы красные кавалеристы, и про нас"… Грустят экономисты, рабочий класс! Пока исходим воплями, орем: "Даешь!" — и хлеб мы свой, и топливо кладем под нож. Весь город — место лобное… И снова глядь,— мы слышим гневно-злобное: "Стрелять!"… "Стрелять!!!"… Очнись, страна огромная, уймись, народ! — Не с криками и громами пойдем вперед, а лишь с напором бешеным рабочих дел, с решеньем, честно взвешенным… Меж черных тел кружит, кружит по митингам беды повтор… Взбесившиеся винтики крушат мотор! И сокрушат, неистовы, Его сейчас… "…Мы — красные ка-ва-ле-рис-ты, и про нас"……Когда Елена замолкла, главный врач, как-то странно помотав головой, внезапно охрипшим голосом попросил: "Ершова, выйдите, пожалуйста, из кабинета!"
Елена вышла. Из-за плотно закрытой за ее спиной двери до нее донесся гневный голос давнего Володи: "Господи, коллеги, да что мы тут с вами делаем?!"
Она отошла от двери подальше, несколько раз прошлась бесцельно по коридору, но везде сидели ожидавшие приема больные, и она снова встала у стены.
К счастью, долго ждать не пришлось: буквально минут через десять ее пригласили зайти в кабинет.
Взмокший, красный, как вареный рак, главврач нарочито сухо сообщил ей:
— Мы считаем, что вы практически здоровы. Соответствующее заключение мы пошлем, куда требуется. Желаем вам творческих удач. До свидания!
Казалось, все завершилось вполне успешно… Но этот консилиум, как ни странно, стал последней каплей, переполнившей чашу ее терпения. Что-то сломалось внутри окончательно, что-то непоправимое произошло с ней.
Она боялась задумываться об этом, боялась вообще даже пытаться разобраться в своих чувствах, потому что подспудно знала, что она — РЕШИЛАСЬ…
Это трудно объяснить… На такие вещи еще не придуманы слова, а если они и есть, их нельзя произносить вслух, — так это больно и безнадежно… Она — РЕШИЛАСЬ…
Ночь после комиссии прошла у нее в бессоннице. Она много раз ложилась, вставала, выходила на кухню, пыталась читать, писать — все валилось из рук.
На другой день на работу она не пошла — благо, своим рабочим временем могла распоряжаться свободно.
Приготовив утром Антону завтрак, проводила его в школу. Спокойно, не торопясь, очень тщательно прибрала в доме, навела идеальный порядок на своем рабочем столе…
Потом разбудила мать — та засыпала поздно и спала по утрам долго, ей нужно было на прием к участковому врачу в поликлинику к двенадцати часам.
Позавтракав, мама тоже ушла из дома. Елена, как следует вымывшись в ванне, переоделась, села к письменному столу, что-то долго писала, зачеркивала, потом вложила в конверт, заклеила и положила на свой стол. "Антону Ершову" — было надписано на конверте крупными буквами.
Достав из своего стола бритвенное лезвие, она снова зашла в ванную и очень крепко, на две задвижки, закрылась. Пустила горячую воду, разделась, залезла в ванну.
"Говорят, это не очень больно, — подбодрила она себя и сделала на запястье глубокий надрез. — Правда, не больно… Почти не больно! Можно терпеть…"
Сердце билось громко и гулко, казалось, его удары слышны на весь дом, на весь город, может быть, на весь мир. И где-то мелькнула подспудная трусливая мыслишка: "Еще не поздно"…
— Поздно! — вслух одернула она себя. — Поздно! — и еще несколько раз решительно провела бритвенным лезвием по запястью…
Вода все гуще и гуще багровела, и мерк свет в ее глазах.
— Вот и все… — тихо сказала она сама себе. — Вот и все… Теперь уже — все! Только бы не помешали… не дай бог в живых остаться… Душа болит!
Две недели спустя, худой, с почерневшим лицом Антон сидел за письменным столом. Перед ним лежал исписанный торопливым почерком, знакомым и родным до боли, бумажный листок.
"Сынок, прости меня. Бога ради. Видимо, я и правда душевнобольная — так страшно болит душа, что нет сил жить. Прости меня, родной, прости… Будь счастлив. Я люблю тебя всегда, мой бедный маленький мальчик! Твоя мама"….
Из соседней комнаты слышались приглушенные стоны, сильно пахло лекарством — бабушка после похорон не поднималась: резко сдало сердце.
"Душа болит… Душа болит…" — пересохшими губами шептал Антон. И в его пальцах сверкнуло жало бритвенного лезвия…
От автора
Летом 1988 года, ошеломленная, я вышла из старинного читинского особняка по ул. Калинина, 97, прошла до ближайшей скамейки и обессилено опустилась на жесткое сидение…
Итак, только что закончившаяся специальная комиссия областного психоневрологического диспансера сочла возможным снять меня с психического учета, на котором я числилась 21 год. Естественно, отменялся и мой диагноз — "хроническое психическое заболевание в форме шизофрении с детства".
Значит, все позади? Значит, 21 год боли, душевной муки, вечной боязни "как бы опять не сочли сумасшедшей!" — все это уходит в безвозвратное прошлое?
Но годы, годы — 21 год жизни! Разве можно их "списать в архив"? Разве можно забыть то, за что заплачено юностью, молодостью, здоровьем?
"Люди, — думала я, — вы должны знать о том, что происходило со мной совсем недавно, буквально рядом с вами! Должны знать, чтобы подобное не повторилось с кем-то из вас, с кем-то из ваших близких!"…
Так родилась идея этой повести.
Писать ее было и легко, и неимоверно трудно: боль души с годами никуда не исчезает, болит даже память о прошлом. И потом, лгать в таких вещах не то что "нельзя" — просто невозможно.
То, о чем я пишу здесь — было. Было либо со мной, либо с кем-то из тех, кто находился и погибал рядом, кому я ничем не могла помочь, и это угнетает меня по сей день. Хотя, что же я могла в те времена, в тех условиях сделать? И все равно — больно, по сей день — больно…
Хотя вещь эта в очень значительной мере автобиографична, я бы не хотела, чтобы меня отождествляли с главной героиней моего повествования — Еленой Ершовой. Потому хотя бы, что много их было, таких Елен, и много еще их есть и будет, к сожалению…
Больны не Елены, безнадежно больно наше общество — вот главное из того, что хотела я донести до своего возможного читателя. И врачами для нашего общества должны стать все мы, каждый из нас — девушка, юноша, мужчина, женщина, старик, ребенок — все мы своей душевностью взаимной, добротой, нежностью и пониманием друг друга должны учиться спасать то, что еще можно спасти. Этому никого из нас не учили. Каждому придется все постигать с нуля. Но другого выхода у нас просто нет…
ЕЛЕНА СТЕФАНОВИЧ, г. Чита. 1989 г.



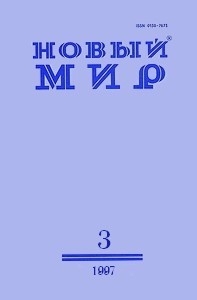







Комментарии к книге «Дурдом», Елена Викторовна Стефанович
Всего 0 комментариев