© Перова Е., текст, 2016
© Redondo V. R., иллюстрация на переплете, 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
* * *
Часть I Другая женщина
Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был И что я презирал, ненавидел, любил. Начинается новая жизнь для меня, И прощаюсь я с кожей вчерашнего дня. Больше я от себя не желаю вестей И прощаюсь с собою до мозга костей, И уже, наконец, над собою стою, Отделяю постылую душу мою, В пустоте оставляю себя самого, Равнодушно смотрю на себя – на него… Арсений ТарковскийГлава 1 Жена и любовница
Для конца августа день выдался на удивление жаркий. Очередь в Екатерининский дворец ползла медленно, и Тома пожалела, что они с ребятами туда затесались – посмотрели Лицей, да и хорошо, но Катюшка была неумолима: как это мы не увидим дворец?! А зачем тогда ехали?
– Мам, смотри! Опять эта тетенька с Настей! – закричал Антошка, подпрыгивая.
– Да не кричи ты так! – Тома оглянулась. Женщину с девочкой они приметили еще в Лицее: высокая моложавая дама с седой прядью в темных волосах и светленькая девочка, хорошенькая и резвая, на вид – ровесница восьмилетнему Антошке, который уже успел с ней познакомиться. Дама слегка прихрамывала и опиралась на элегантную трость. Настя подбежала к ним, потом подошла и ее бабушка – как решила Тамара.
– Пристраивайтесь к нам!
– Спасибо, но мы не будем стоять в очереди. У меня тут подруга работает, мы пройдем с другого входа. Хотите с нами?
– Ой, а можно? – обрадовалась Катя.
– Я думаю, можно. Пойдемте!
– Вот спасибо! А то такая очередь!
После экскурсии подруга новой знакомой пригласила их выпить чаю, и, как ни отнекивалась Тома – неудобно, ну что вы! – отказаться не удалось. Потом они все вместе еще немного погуляли по парку. Настя с Антоном носились наперегонки, а Катя снимала все подряд – фотоаппарат ей совсем недавно подарил отец. Присев на белую ажурную скамейку, женщины улыбнулись друг другу, одновременно заговорив:
– У вас такие большие дети! Сколько же вам лет?
– А вы такая молодая бабушка!
И обе невольно рассмеялись.
– Настя моя дочь. Поздний ребенок.
– Ой, простите!
– Ничего страшного, многие ошибаются.
– Сколько ей? Моему – восемь!
– Ровесники. А девочке лет шестнадцать?
– Четырнадцать. А я вовсе не такая молоденькая – под сорок уже! Просто выгляжу вечной девочкой. Знаете – маленькая собачка до старости щенок.
– А я в сорок два только родила.
– Вы героиня! Если б мне сейчас сказали рожать – да ни за что!
– Вы из Москвы?
– Да. – Тамара не стала углубляться в географические подробности, какая разница – Москва, Подмосковье. – Вот выбрались! Первый раз в Петербурге. Неделю уже здесь, завтра вечером уезжаем. Ноги просто отваливаются! А Катюшка моя неугомонная, все хочет увидеть. Ой, я не сказала! Я – Тамара, можно просто Тома.
– Очень приятно. Людмила. Вы тут у родственников?
Тома чуть было не спросила: а как вас по отчеству? – но вовремя сообразила, что не стоит.
– Нет, в гостинице. Муж заказал. Он с нами не ездит, у него вся работа в разъездах, устает.
– Понятно.
Вернулись дети и стали канючить мороженого, Тома махнула рукой – ладно, а то уж очень жарко.
– Только обедать потом все равно будете!
Настя с Антоном умчались в сторону дворца, а Катя осталась – села на соседней скамейке разглядывать и сортировать снимки. Тамара с Людмилой переглянулись, улыбнувшись. Обе чувствовали невольную симпатию друг к другу, как порой бывает с совершенно незнакомыми людьми. Тома, правда, несколько робела перед такой изысканной дамой и казалась себе слишком провинциальной, но все больше и больше поддавалась мягкому обаянию новой знакомой. А та с удовольствием разглядывала миниатюрную Тому: коротко стриженная зеленоглазая брюнетка, одетая в джинсы и простую футболку, выглядела сестрой собственной дочери, уже переросшей маму на целую голову. Не красавица, но вполне симпатичная и такая энергичная!
– Не заблудятся они? – спросила Тамара, оглянувшись на бегущих по аллее детей.
– Нет, Настя хорошо знает парк, мы тут часто бываем. Этим летом, правда, впервые: нога меня подвела – артрит замучил, даже трость пришлось завести.
– Хорошая у вас девочка!
– Вся в отца, – с нежностью произнесла Людмила. – Очень на него похожа. Ваша тоже в папу удалась, правда?
– Да, вылитая! Только, к счастью, поживей. А то папа у нас такой… задумчивый. Но надежный, заботливый.
– У вас хороший брак?
– Да не жалуюсь! А у вас?
– Я не замужем, одна Настю ращу.
– Так вы вдвойне героиня! Он что, бросил вас?!
– Нет, это совсем другая история…
Людмиле явно хотелось выговориться перед незнакомым человеком, а Тому разбирало женское любопытство:
– Ой, простите, я не подумала! Он умер, да?
– Нет. – Людмила улыбнулась. – Жив-здоров. Дело в том… Боюсь, вы меня осудите!
– Ну что вы! С какой стати мне вас осуждать? – Тамара слегка покраснела, потому что, честно говоря, уже осудила: в таком возрасте заводить ребенка просто безответственно, а без мужа – тем более!
– Дело в том, что он женат. И гораздо моложе меня.
Вот это да! У Томы загорелись глаза – она обожала скандальные житейские истории а-ля Пугачева – Галкин! Обсуждая сложные романы и любовные многоугольники звезд шоу-бизнеса или знакомых, она каждый раз испытывала чувство глубокого морального удовлетворения: у нее-то самой все правильно и стабильно. Всякое, конечно, случалось… Но ведь она справилась!
Как можно – изменять, разводиться, соблазнять чужих мужей, заводить романы с юнцами, рожать детей вне брака?! И оправдывать все любовью?! Это же безнравственно! Должно же быть чувство долга! А поскольку все вокруг нее только и делали, что разводились и заводили романы, Тома привыкла смотреть на окружающую действительность с брезгливой снисходительностью, как правоверная среди язычников, никак не поддающихся перевоспитанию. Но надо же было узнать подробности, и она постаралась как можно более естественно произнести сочувственным тоном:
– Ой, в жизни всякое может случиться!
– Именно так это и произошло – совершенно случайно! Он тоже москвич, в командировку приезжал. И так получилось, что… У них с женой была в этот момент сложная ситуация… Он сильно переживал! Это вообще очень эмоциональный, тонко чувствующий человек. Ну, в общем, я его пожалела. И теперь у меня есть Настя.
– И вы больше не виделись?!
– Нет, почему? Мы видимся довольно часто. Он помогает нам с Настей, не оставляет. Дочка, правда, не знает, кто он. Я сказала – друг отца.
– А как же вы Насте про отца объяснили?
– Да, это была проблема! Пришлось похоронить, к сожалению. Якобы авария. Ведь там жена, дети. Я совсем не хотела ничего разрушать! Потом у них все постепенно наладилось. Как ни странно, именно я помогла ему вернуться в семью.
– И вы никогда не чувствовали себя обделенной?!
– Нет, что вы! Я так благодарна судьбе! У нас с мужем детей не было, и я уже потеряла надежду. Муж умер, а потом я встретила Диму, и вот…
– Диму?! Надо же! Моего тоже зовут…
И в этот самый момент вернулись Антошка с Настей, притащившие пакетик с пачками мороженого для двух мам и Кати – свое они уже съели по дороге. Антошка еще издали закричал:
– Мам! Ты представляешь?! Мам!
– Антон! Не кричи так, сколько раз говорить!
– Мам, а у Насти такая же фамилия, как у нас! Артемьева! Правда, здорово?
В голове у Тамары вдруг что-то щелкнуло, и, еще боясь поверить до конца, она медленно спросила у Людмилы:
– А кто он по профессии? Ваш Дима?
– Дима? Программист.
– А Настя когда родилась? В каком месяце?
– В марте, чуть-чуть не дотянула до восьмого…
Тома вскочила и дрожащим голосом сказала детям, которые смотрели на нее с удивлением:
– Мы сейчас же уходим! Катя, Антон, пошли!
– Мам, ты что?! Мы же хотели… с Настей…
– Мама, с тобой все в порядке?!
– Тамара, что случилось?!
– Голова! Мигрень! У меня бывает! – Голова у нее болела очень редко, но надо же было как-то объяснить свой порыв. В уме у Томы крутились обрывки разговора с Людмилой и, словно пазлы, складывались в четкую и ужасающую картинку: тоже москвич… женат… гораздо моложе… приехал в командировку… программист… очень эмоциональный, тонко чувствующий человек…
Артемьев Дима!
И если Настя родилась в марте, то встретились они с Людмилой в июне!
Девять лет назад!
Как раз тогда, когда у них с Димкой…
Как Людмила сказала? Была сложная ситуация?
И Настя!
Она так напоминает ее собственную Катю!
Обе светленькие, с серыми глазами…
Значит…
Обе похожи на своего отца.
Боже мой!
Весь мир для Тамары перевернулся. Она решительным шагом направилась к выходу из парка, дети, переглянувшись, последовали за ней – они знали: когда мать в таком настроении, ей лучше не перечить. Катя виновато обернулась к изумленной Насте и растерянной Людмиле:
– Простите, пожалуйста! Не знаю, что на нее вдруг нашло? Мы вам очень благодарны за экскурсию! И вообще!
– Да ничего страшного, не переживай… Мигрень – это очень тяжело, я знаю…
Томка Шилова и Димка Артемьев знали друг друга с младенчества – выросли в соседних квартирах. Жили они в подмосковном поселке Филимоново, располагавшемся километрах в пятнадцати от Кольцевой. Вроде бы недалеко от столицы, но на редкость неудобно – электрички останавливались редко, особенно после того, как станцию переименовали в платформу.
Застроен поселок был хаотично и неравномерно: деревенские улицы с пасущимися козами и квохчущими курами, овраги, неожиданные лесочки, одинокая кооперативная кирпичная пятиэтажка, в которой и жили долгие годы Шиловы и Артемьевы, пока Димка с Томкой не купили квартиру в райцентре; остатки деревянных бараков и два крошечных микрорайона: первый состоял из трехэтажных домиков, построенных еще в 1950-е годы, а второй – из белых хрущоб в пять этажей.
Семьи Шиловых и Артемьевых удивительным образом походили друг на друга, как негатив и позитив в фотографии: если у Артемьевых отец был наладчиком на заводе металлоконструкций, а мать – бухгалтером, то у Шиловых, наоборот, экономистом был отец, а мама работала шлифовщицей. У Артемьевых – две дочери-погодки и сын Димка, появившийся на свет спустя восемь лет после сестер. У Шиловых – два сына и дочка следовали друг за другом, как вагончики товарного состава. И если у Шиловых имелся дед – балагур и выпивоха по прозвищу Шило, то у Артемьевых, в пару к соседскому деду, была бабушка Поля – тихая и ясная, как цветик полевой, как говаривал тот же дед Шило.
Димка с Томкой тоже представляли собой некое единство противоположностей: тихий задумчивый мальчик не расставался с книжками – бойкая энергичная девчонка была главной заводилой класса. И даже внешне они совершенно разные: светловолосый Димка, хрупкий и болезненный в детстве, к концу школы сильно вытянулся и окреп, а смуглянка Томка, буйными черными кудрями пошедшая в деда, так и не выросла, чему втайне сильно огорчалась.
Их общая подруга Варвара однажды так объяснила разницу человеческих темпераментов: «Энергии всем людям одинаково отмерено, только у нас с Димкой она спокойно по организму растекается, как вода в пруду, а у тебя, Том, ей разгуляться негде, вот она и прет наружу! И вышел из тебя веник с мотором. А мы с Доном – спокойные, как в танке».
Димка, получивший свое прозвище Дон Артемио с легкой руки учительницы литературы, усмехался про себя: он один знал, чего стоит это спокойствие. Прозвища были почти у всех в классе: Варька, конечно же, Варежка, а Томку все звали Тигрой. Никто уже не помнил, откуда взялась эта кличка, но в Томке действительно было что-то от тигренка, готового чуть что зарычать, прыгнуть и оцарапать. А то и укусить. Вот и сейчас – она вспыхнула и вскочила, зашипев:
– Спокойные они! Сонные тетери, вот вы кто! Живете, как жвачку жуете: ах-ах, лютики-цветочки! Ну и целуйтесь теперь друг с другом, раз так! – и побежала от них к пруду.
– Тигра! Эй! Ты что?!
– Да брось, Дон, – тихо сказала Варька. – Вечно ты вокруг нее пляшешь! Остынет, придет. Подумаешь, чего я такого сказала-то?!
– Она на веник обиделась.
– Да чего обидного-то?!
Но Дон ее уже не слышал – побежал догонять Томку. Тигра сама знала, что вспыльчивая. И обидчивая: иногда так накатывало! Просто насквозь пронзало иглой горькой обиды. Вот как сейчас. Конечно, разве они могут понять, каково это – смотреть на всех снизу вверх! Метр пятьдесят пять! И сколько ни тверди себе: «Мал золотник, да дорог», лучше от этого не становится. Вон Варька – вокруг нее мальчишки так и вьются! Еще бы – спортивная, красивая! И грудь что надо, а у нее самой сплошное недоразумение. И кудри эти дурацкие! Нет бы как у Варьки – прямые, пепельные…
Как всякой женщине, Томке решительно не нравилась ее собственная внешность. Она много часов провела, пытаясь как-то распрямить непослушные завитки, и в конце концов стала очень коротко стричься, назло всем. И нос у нее не такой, как надо, и губы слишком узкие, а глаза – вообще кошмар! Глаза были зеленые в коричневых крапинках, словно в веснушках, а в левой радужке одна такая «веснушка» оказалась очень большой – словно глаз хотел было стать карим, но передумал. И как Димка ни уверял ее, что это очень мило, Томка не верила.
Тигре хотелось, чтобы вокруг нее тоже вились мальчишки, только приличные, а не такие, как этот придурок Кузяев, который не дает проходу Варваре! Но приличных парней было раз-два и обчелся. Варькиного друга детства Игоря Котова они из приличных вычеркнули: он променял Варвару на какую-то шалаву из барака, и это после того, как… Томка делала большие глаза и краснела, слушая подробности, изложенные жарким Варькиным шепотом, – они-то с Димкой только целовались, а эти… Ничего себе!
Так что Варька держалась за Димку изо всех сил – уж он-то был самый что ни на есть приличный. Хотя и малахольный. «Лютики-цветочки» – это в его адрес. Конечно, вполне возможно, что там, в неведомой взрослой жизни, которая должна была вот-вот начаться, Томка встретит кого-то еще – еще более приличного и совсем не малахольного, но не факт, что она сама ему понравится. А Димка – свой, знакомый, привычный. Тигра с малых лет считала Димку своей собственностью и не собиралась выпускать из рук. А кстати, где ж ее собственность?! Неужели так и сидит с Варварой на поломанной скамейке старого парка?! Обернуться, что ли…
Но оборачиваться не пришлось – Димка ее нагнал и подхватил на руки:
– Ага, попалась!
– Пусти! – Томке страшно нравилось, что Димка такой сильный – какое счастье, что он выправился и возмужал, а ведь был задохлик задохликом!
– Ах ты, Тигра! Ну что ты все шипишь-то, а?
– Да-а… А чего вы надо мной смеетесь?!
– Никто над тобой не смеется, не выдумывай. – Димка заглянул ей в глаза, и Томка поежилась: этого она не любила. Каждый раз ей казалось, что Димка видит ее насквозь. Поэтому Томка примерилась и поцеловала его. Они целовались с прошлого года – Димка, правда, особенной инициативы в этом деле не проявлял, поэтому Томка взяла все в свои руки: неужто она хуже Варьки, которая… прям вообще! Инициативы не проявлял, но откликался. Откликнулся и сейчас.
Они целовались, а вокруг медленно кружились опадающие листья кленов – осень! Последняя школьная осень. И в этом волшебном кружении их будущее тоже казалось сияющим, как пронзительно синее небо над головой, как золотые листья, порхающие вокруг сказочными птицами в солнечном оперении, как сверкающая вода в пруду…
Впрочем, все это видел только Димка. А Тигра ничего такого не увидела бы, даже открыв глаза. Никакого сияния. И вообще, что такого особенного в этих листьях?! Каждую осень Димка водит их сюда – любоваться кленами. Клены как клены. Ой, небо синее! Да оно всегда синее! Ну, почти. Точно малахольный. И Варька эта вечно на его стороне: ах, как красиво! И что делать с этой красотой? Любоваться? Ну, полюбовались минут пять, и хорош. Сколько можно?
Томке любоваться всякими листьями было некогда – она прорывалась сквозь жизнь, как сквозь поле боя. Попробуй выживи с двумя старшими братьями, которые гнобят тебя по полной программе: то в темной кладовке закроют, то на высокий шкаф запихнут, а то и накостыляют, не говоря уж о словесных измывательствах! Малявка, кнопка, мелочь пузатая, клопик-вонючка, Томик-гномик – еще самые безобидные прозвища, которыми они ее награждали. А пауки, собранные со всего дома и заботливо насыпанные ей в пенал?! Шишки, подложенные в постель?! Или еще хуже – вылитая туда же банка воды, чтобы утром прыгать вокруг и вопить: «Клопик описался!» Так что ей ничего другого не оставалось, как стать Тигрой.
Иногда, устав от бесконечных ребячьих драк, мама приводила Томку к Артемьевым, и та на какое-то время затихала, хлюпая носом и завороженно слушая, как Димка читает вслух, а баба Поля в это время стряпала для них булочки с корицей, которые Тигра обожала. Но надолго ее не хватало – темперамент требовал действия. Сколько она успела расколотить стекол, разбить коленок, порвать штанов, набить шишек – хватило бы на пятерых! Однажды чуть не задохнулась, зацепившись воротником куртки за торчащую доску – доска была прибита поверх рубероида на крутой крыше старого сарая, с которой они катались, как с горки. Ее вовремя спас Кузяев-старший, очень кстати пришедший за мотоциклом, который там держал.
В школе Томкину энергию направили в мирное русло: во-первых, физкультура, во-вторых, Тигра вдруг увлеклась учебой, поставив себе тщеславную задачу стать лучше всех – в спорте ей не удалось добиться особенных успехов: быстро выдыхалась и не умела играть в команде. Сначала ее самолюбие было удовлетворено – отличница, единственная на два параллельных класса!
Но потом появились другие ценности. Дети взрослели, подрастали, у мальчиков ломались голоса и пробивались усики, у девочек вдруг появились свеженькие груди и тугие попки: юбки становились все короче, начесы – пышнее, глаза – ярче. Любови, измены, выяснения отношений, а то и драки сотрясали десятый «А» чуть не каждый день. Ну и ладно, решила Томка, теперь самая маленькая в классе. И самая невзрачная, как ей казалось. Подумаешь, не очень-то и хотелось! Зато у меня есть Димка. Моя собственность!
За собственностью нужен был глаз да глаз – Дон нравился девчонкам, но, к счастью, проявлял завидное хладнокровие, слегка, впрочем, огорчавшее Тигру, мечтавшую как-то продвинуться в их новых отношениях. Не то чтобы ей мало было поцелуев или так уж страстно хотелось секса, наоборот: Томка слегка побаивалась всей этой эротики. Но… Что ж, они с Димкой хуже всех, что ли?! Вон Варька! Да и остальные… И с Димкой не так страшно, он свой.
Хотя обе семьи только и мечтали их поженить, сообщение о свадьбе застало всех врасплох. Димка пошел в школу с восьми лет, потому что много болел. Восемнадцать ему стукнуло как раз в день экзамена по физике. Так что осенью Дона Артемио ждала повестка в военкомат. Томке восемнадцать исполнялось 23 августа: «Тоже мне, Дева! Какая из нее Дева – натуральный Скорпион!» – злословила толстуха Наташка Федотова, в очередной раз пострадавшая от острой на язык Томки. Поженились Дон с Тигрой 24 августа, выдержав нешуточные баталии с родственниками и друзьями: отцы с матерями и Димкины сестры дружно уговаривали не спешить, Томкины «братаны» насмешливо жалели бедного Димку, друзья недоумевали – куда торопиться-то?! И даже сам Димка вдруг предложил:
– Том, а правда! Куда мы спешим-то? Давай я отслужу, а там видно будет, а?
– А вдруг ты не вернешься?!
– Паду смертью храбрых?
– Да ну тебя! Мало, что ли, гибнут?! Вдруг тебя в Афган пошлют?!
– Да сейчас вроде как уже не посылают…
– А вдруг ты там подцепишь кого-нибудь?! Какую-нибудь девицу?
– В армии?!
– Там где-нибудь! Будут же у тебя увольнительные и всякое такое…
– А ты не подцепишь?
– Я?! Да кому я нужна!
И Томка вдруг горько заплакала: никто, никто не понимает, как она на самом деле не уверена в себе, как ей тяжело, как страшно остаться одной, без Димки! Хотя внешне, может быть, и казалось, что Тигра верховодит в их дуэте, она-то знала, как обстоит дело в действительности. Без Димкиной постоянной поддержки и участия, без его слегка насмешливой нежности она бы просто не выжила. Знать-то Томка знала, но редко допускала это знание в свою голову – еще чего! Нельзя показывать свою слабость никому, даже Димке. Поэтому она почти никогда не плакала и очень не любила, когда ее жалели. Но сейчас слезы лились ручьями, она никак не могла успокоиться. Димка обнял ее и посадил на колени:
– Ну, что ты, малышка? – Тигра ненавидела это идиотское «малышка!», но стерпела. – Бедная моя, глупая девочка… Куда ж я от тебя денусь, что ты! Никуда не денусь… Мы поженимся… Все, как ты хочешь! Только не плачь…
Он утешал ее, нежно гладя по голове, а потом поцеловал – раз, другой, все нетерпеливее. И поцелуи эти чем-то отличались от прежних – Томке, правда, некогда было заниматься сравнительным анализом качества поцелуев, потому что она тут же отключилась. А очнувшись, некоторое время оторопело моргала – так вот о чем ей толковала Варька! Пожалуй, это и правда здорово…
Они таки поженились и прожили вместе уйму лет, и родили сначала Катюшку, потом Антошку, но такую остроту ощущений, как при этих утешительных поцелуях, Томке довелось испытать всего пару раз – они с мужем занимались сексом подобно фигуристам, все время исполняющим одну обязательную программу и не подозревающим о существовании произвольной. Томка думала, что дело в ней: ну, не дано! Она даже не догадывалась, что Димку особенно возбуждает ее редко выказываемая слабость – та женственная кротость и нежность, которую она считала «бабством» и изживала из себя, как могла.
Дама, в недобрый час встретившаяся ей в Царском Селе, была воплощенной женственностью, и сколько бы Томка ни восклицала про себя: «Господи, что он только в ней нашел?! Она же старая! И хромая!» – в глубине души понимала, чем именно Людмила могла привлечь Димку, ведь и сама сразу же поддалась ее теплому обаянию: мягкая, внимательная, добрая, слушающая, сочувствующая. Другая женщина. Не такая, как Томка.
Возвращаясь из Царского Села в город, Тамара лихорадочно перебирала состоявшийся с Людмилой разговор – думала, анализировала, вспоминала. И назавтра занималась тем же – осталась в гостинице, отговорившись несуществующей головной болью, и отпустила детей одних:
– Только далеко не ходите, у нас поезд в четыре!
Катюшка клятвенно обещала, что они ни за что не станут забираться в питерские дебри, а покрутятся на Невском и Дворцовой площади. Тома собрала вещи, а потом улеглась на кровать и опять принялась вертеть калейдоскоп догадок и воспоминаний – и чем больше она этим занималась, тем больше уверялась, что все так и есть: Настя – Димкина дочь, а Людмила… его… любовница! Ей даже про себя было гадко произнести это слово. Тома только никак не могла понять, прекратились эти отношения или нет: с одной стороны – «я помогла ему вернуться в семью», а с другой – «мы часто встречаемся»! И как это понимать?! Теперь она жалела, что так стремительно рассталась с Людмилой – вот дура! Надо было остаться, еще порасспрашивать, прояснить все до конца!
Что делать дальше, Тамара просто не представляла. Как выяснять отношения с Димкой?! И как поступить, если это правда? Разводиться?! Превратиться в одну из тех несчастных брошенных женщин, чьи кости она с наслаждением перемывала с приятельницами?! Ей, Томке Артемьевой?! Такой правильной, так гордившейся своим идеальным браком! Или закрыть глаза? Простить? А если он не захочет расстаться с той женщиной?!
Вернувшись домой, она не сказала мужу ни слова. Но чем дальше тянула с разговором, тем страшнее было начинать. Так больно было почти в сорок лет осознать, что ее идеальный брак, в котором были все признаки полного благополучия, – только фасад, за которым двое совершенно чужих друг другу людей создают видимость счастливой семьи. Ради чего? Ради детей? Почти половину семейной жизни – девять лет! – прожили они во лжи.
Господи, что же делать? Как жить? Кто посоветует? Самой близкой подругой Тамары была, конечно, Варька, но Тигра привыкла относиться к ней слегка свысока, как благополучная семейная дама к неудачнице: то один мужик, то другой, а толку никакого. И как теперь рассказывать Варваре о Димкиной измене?! Она же будет злорадствовать или, хуже того, жалеть!
И так проходил день за днем – в постоянных размышлениях, душевных терзаниях и воспоминаниях. Только на работе Тома отдыхала от тягостных мыслей, преображаясь в уверенную и строгую, но справедливую, как ей казалось, начальницу – не ведая, что подчиненные считают Тамару Алексеевну законченной стервой и зовут Тигрой: детское прозвище возродилось, но уже совсем с другим оттенком смысла.
Томке нравилось руководить и наводить порядок, сознавая, что, как бы ни старались ее подчиненные, им далеко до ее блистательного совершенства: идеальная документация, точнейшее соблюдение сроков, а отчетность – комар носу не подточит! А поскольку среди подчиненных были в основном женщины, Томка старалась и тут держать фасон: хотя она с гораздо бо́льшим удовольствием одевалась бы в джинсы и кроссовки, приходилось щеголять в офисном костюме. Сначала она мучилась в туфлях на шпильках, но потом отказалась от лишних страданий: даже на десятисантиметровых каблуках Тамара Алексеевна была ниже любой из этих голенастых девиц. Но зато она прекрасно научилась смотреть на них свысока, распекая за бесконечные ошибки и ляпы.
Мужчин было трое, не считая директора, и один из них особенно нравился Тамаре, потому что чем-то неуловимо напоминал Димку – хотя тот никогда в жизни не ходил с длинными волосами, завязанными в хвост, не носил в ухе серьгу и не делал татуировок. Майкл, системный администратор, на самом деле просто Миша. За ним одним Тамара признавала право быть более компетентным, чем она сама: как ни бился с ней дома Димка, она с трудом разбиралась в компьютерных сложностях, тем более в новых банковских программах, где сам черт ногу сломит. А Майкл объяснял очень понятно и совершенно ее не боялся, разговаривая, как со сверстницей, хотя был лет на десять моложе. Это несколько смущало Тамару, но Майкл так общался со всеми, даже с грозным директором, и ему сходило с рук – уж больно солнечная улыбка была у парня, да и специалист он каких поискать.
Но как ни отвлекалась Томка на работе, сколько ни засиживалась там, без толку перебирая бумаги, домой надо было возвращаться. Там ждали вечные заботы, дети, муж, при одном взгляде на которого у нее холодело внутри: все тот же родной, привычный Димка, как всегда слегка отрешенный от действительности. И от нее самой. Тома прекрасно знала, когда началось это отчуждение. И знала, кто в нем виноват. За несколько месяцев, прошедших с того проклятого дня в Царском Селе, она столько передумала, столько вспомнила, копаясь в себе, сколько не думала и не копалась за всю сознательную жизнь!
Она страдала молча, не в силах решиться на разговор с мужем, в отчаянье от несовершенства мира в целом и собственного в частности: она ведь тоже совсем не идеальна, если муж изменил! Все эти мысли, словно нарыв, который никак не может прорваться, отравляли ей душу и тело – впервые в жизни у Тамары, почти никогда ничем не болевшей, вдруг начались какие-то странные блуждающие боли: то вдруг начинал ныть совершенно здоровый зуб, то стреляло в висок, то ломило локоть…
Ей не приходило в голову поговорить с дочерью – что она может понимать, в четырнадцать-то лет?! А Катя догадывалась о многом – не зря же тогда сидела на соседней скамейке, откуда прекрасно слышала разговор матери с Людмилой. Она, конечно, переживала и тоже не знала, что делать. Поэтому внимательно присматривалась и прислушивалась к родителям, но ничего особенного не замечала, просто мама была непривычно тиха и молчалива. Но тем не менее в воздухе постепенно концентрировалось электричество, как перед грозой. И, как обычно бывает, гром грянул все-таки неожиданно.
– Катюш, а мама что, не приходила? – спросил Дима. Было довольно поздно, и он удивился. – А вы поужинали? Антошка уроки сделал?
Катя, не отрываясь от компьютера, покивала.
– А ты не знаешь, что в последнее время происходит с мамой? Она здорова? Все в порядке? А то она что-то очень мрачная. И, по-моему, опять курит.
Катя повернулась к отцу и вздохнула:
– Да вроде здорова. Это другое. Пап, а вы с ней ни о чем таком не разговаривали?
– О чем таком?
– Знаешь, кое-что случилось! Только я не уверена, что могу с тобой это обсуждать…
– Кать, раз начала, давай! Что за тайны мадридского двора?
– Ты только не волнуйся! Понимаешь, когда мы были в Питере… В общем, в Царском Селе мы познакомились с одной женщиной, Людмилой. У нее дочка Настя…
– И что?
– Тебе это ни о чем не говорит?
– А должно?
– У нее фамилия – Артемьева! У Насти!
– Ну, мало ли однофамильцев.
– Пап, ты только не сердись, но мама, мне кажется, решила, что это твоя дочь…
– Что?! Господи, да с какой стати она так решила?!
– Она долго с той женщиной разговаривала! Я слышала краем уха. Но не сразу поняла, от чего мама так внезапно сорвалась: сидели, мирно беседовали, и вдруг – всё, уходим! А когда увидела, что фоток нет, меня осенило! Мама все фотографии с ними уничтожила, с Настей и Людмилой! Я не сразу заметила, она как-то втихаря это сделала, а фоток у меня очень много! Представляешь?! Влезла ко мне в компьютер и уничтожила!
– Кать, это бред какой-то…
– Я как Настю увидела, все думала, почему она кажется мне такой знакомой, а тут поняла: она на тебя похожа!
– Что за чушь…
– Папа, только ты не думай, я тебя не осуждаю совсем! Я на твоей стороне, правда!
– Кать, ну что ты такое говоришь?!
– Папа, я все понимаю! Я взрослая! Думаешь, я не знаю, как вы с мамой жили? Все же у меня на глазах!
– А разве мы с ней плохо жили?!
– Я тебя умоляю! Она же никогда тебя не ценила! Всегда… всегда относилась к тебе… снисходительно! Словно ты недотепа какой-то! А ты самый лучший! – В голосе у нее зазвенели слезы. – Я всегда так переживала! Эти шуточки ее дурацкие! Ей смешно было, что ты такой романтичный, сентиментальный! Что стихи читаешь! И пишешь!
– Это я – сентиментальный?!
– А то нет?! Ты все понимаешь, а мама никогда! У нее или черное, или белое! Она же всегда права! А ты… Ты всё для мамы… и даже цветы! А ей наплевать! Ей на всех нас наплевать! Лишь бы учились хорошо, а что в душе делается… И ведь советы всегда дает, учит, как жить! И нас, и тетю Варю, и всех! Как это можно? Все равно что зубной врач, у которого ни разу зубы не болели! Она не знает, каково жить с разбитым сердцем! А мы знаем!
– Кто же разбил твое сердце, дорогая?! Почему ты мне не рассказала?
– Я не хотела, чтобы ты переживал! Да уже почти заросло, это так, трещинка была…
– Господи, Катька, когда ж ты успела повзрослеть? Девочка моя!
Они сидели, обнявшись, на старом диване и никогда еще не любили друг друга так сильно и мучительно, как сейчас.
– Мне кажется, ты несправедлива к маме. – Дима вытер слезы дочери и поцеловал ее зареванную мордочку.
– Да ты всегда ее защищаешь! Я никак не могла понять, почему ты все время ей уступаешь, а теперь понимаю. Это из-за чувства вины, да?
Они услышали, что хлопнула входная дверь.
– Мама пришла! Ты поговоришь с ней?
Дима некоторое время посидел, нахмурившись, – дочь с тревогой смотрела на его сдвинутые брови и дергающуюся скулу. А потом встал и вышел…
Димка нашел жену в кухне. Тамара коротко взглянула на него и отвернулась.
– Том, я знаю про встречу в Царском Селе. Катя рассказала.
Тамара присела за стол. Руки у нее дрожали, и она принялась было нервно тереть клеенку прихваткой, но тут же отбросила ее:
– Как ты мог лгать мне все эти годы?! У меня в голове не укладывается!
– Я тебе не лгал. Просто не говорил всей правды.
– Ты вел двойную жизнь!
– Ну и что?
– Как это – ну и что…
Томка в растерянности смотрела на мужа – таким она его еще не видела. Он был явно взволнован, но, похоже, нисколько не раскаивался!
– Почему ты сразу мне ничего не сказал?!
– А надо было? Может, надо было и бросить тебя, беременную? Ты бы так хотела? Остаться одной с двумя детьми? Если забыть про мою двойную жизнь, разве за эти годы был хоть один день, хоть один час, когда ты чувствовала себя несчастной? И ты, и дети? У нас образцовая семья, идеальный брак. Ты не забыла, как хвалилась перед подругами? Я же все делал, как ты хотела, всегда. В чем ты можешь меня упрекнуть? Не пью, даже не курю, слова поперек тебе ни разу не сказал, все деньги в дом. Ну, почти. Во всяком случае, никогда тебе ни в чем не отказывал.
– Конечно, просто идеальный муж! А то, что ты изменял мне всю дорогу, это ничего?!
– Скажешь, ты не была со мной счастлива?! – Димка совсем не хотел устраивать никаких скандалов, но слова дочери так больно ударили по самолюбию, что его просто понесло. – Тебе же такого мужа и надо было. Чтобы плясал под твою дудку! А ты хоть раз спросила, что мне нужно? Счастлив ли я? Хотел ли я такой жизни? Ты хоть раз поинтересовалась, о чем я думаю, чем вообще занимаюсь? Все, что мне дорого, тебе казалось смешным! Конечно, очень смешно, когда сорокалетний мужик любуется цветочками или стишки на ночь почитывает! Да еще и пишет что-то по ночам, малахольный! Нет бы пиво жрал каждый вечер да телик смотрел, да? Я всегда тебя поддерживал, во всем, а ты? Никогда ни капли сочувствия…
– Нет, я не понимаю! Ты так все передергиваешь! Ты виноват, а получается, что это я должна каяться?!
– Да, у меня была другая, параллельная жизнь! Но иначе… я бы не выжил. И я старался. Очень старался. Я не мог бы относиться к тебе лучше, даже… если бы любил. Прости.
Томка смотрела на него, медленно моргая:
– Ты… не любил меня? Никогда?!
– Да любил, конечно. Как я мог тебя не любить – я сто лет тебя знаю, уже почти родственники. Но это не та любовь! Да и ты ко мне просто привыкла. Друг, потом муж. Очень удобно.
– Тебе… так плохо было… со мной?!
– Все эти годы я жил с чувством вины – перед тобой, перед детьми, перед любимой женщиной. Перед самим собой, наконец. А теперь уже не понимаю, зачем я это делал. Я могу каждый день на коленях просить у тебя прощения, но знаешь, что самое интересное? Мне наплевать, простишь ты меня или нет!
Он ушел. Когда Томка выскочила в коридор, дверь за ним уже захлопнулась.
– Мам?! Это что? Папа ушел? Совсем?! – И Катя ринулась вслед отцу, а Томка повернулась, ушла в комнату и легла на кровать лицом к стене.
– Папа! Подожди!
Димка остановился и убрал мобильный телефон, на котором начал было набирать номер. Катя с разбегу кинулась ему на шею, и Димка закружил ее, как в детстве, а потом поцеловал – в одну щеку, в другую…
Катя смотрела на него большими глазами:
– Папа, ты уходишь насовсем? – Губы у нее задрожали.
– Милая, мы будем очень часто видеться! Не реже, чем раньше, я обещаю! Меня и так никогда не бывало дома, правда же? И мы сможем переписываться, звонить друг другу! Я тебя очень люблю! И Антошку! Я так виноват перед вами! Прости меня, дорогая!
– Да ладно, что ж теперь делать, – шмыгнув носом, сказала Катя.
– Береги себя!
– Пап, скажи, это ведь она – Леа? Да? Людмила?
– Откуда ты знаешь… про Леа?!
– Папа! Ты же сам разрешил мне читать твои книжки! «Письма к Леа» – у тебя на полке! Даже два разных издания! Я сразу поняла, что это ты написал! И псевдоним такой прозрачный: Арсеньев – Артемьев. Мне так понравилось! Я даже плакала!
– Но как ты поняла, что это я?!
– Я тебя узнала! Там столько твоего! Леа – это же Людмила, правда? Я, как вернулась из Питера, первым делом перечитала «Письма» – она так похожа! Знаешь, она нам всем понравилась! Даже маме! Пока она не поняла, что… ну…
Дима вздохнул:
– Катюш, маме я не стал говорить, она бы все равно не поверила. Но тебе скажу. Настя – вовсе не моя дочь. И эту женщину я совсем не знаю.
– Но как же…
– Это чудовищное недоразумение.
– Но почему же ты тогда уходишь?! Папа?!
– Потому что не могу больше так жить. И я прошу тебя – позаботься о маме. Я поступил с ней подло. Она не заслужила.
– Я не понимаю… Но… Она все-таки существует?! Другая женщина?! Или ты ее выдумал?
Но отец не ответил – еще раз поцеловал ее и ушел в ночь. Во тьме вспыхнул голубоватым светом экран его мобильника, и Катя долго смотрела на удаляющийся мерцающий огонек. А потом вернулась к матери.
Глава 2 Двадцать четыре часа из жизни мужчины
Высокая молодая женщина медленно брела по ночной улице – впереди бодро бежал маленький песик, белый с черными и рыжими пятнами.
– Чарлик! Пора домой! Хватит!
Но Чарлик сделал вид, что ничего такого не слышал, и с заинтересованным видом устремился за угол, натягивая поводок.
– Да что ж такое-то…
Песик обернулся, завилял хвостом и снова насторожил уши, потом коротко тявкнул, всем видом показывая, что там, впереди, происходит что-то очень и очень интересное: ну, пойдем же! Женщина покачала головой – ладно, пойдем. Ничего интересного там впереди наверняка нет – пустая набережная, ночная Нева и разведенный Благовещенский мост. Но потом прислушалась и невольно ускорила шаг: кто-то громко читал стихи:
Люблю тебя, Петра творенье! Люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное теченье, Береговой ее гранит…На набережной действительно было пусто, только на парапете площади Трезини стоял какой-то парень и, размахивая руками, во весь голос – очень выразительно! – читал Пушкина:
Люблю воинственную живость Потешных Марсовых полей, Пехотных ратей и коней Однообразную красивость…Надо же! Меньше всего она рассчитывала увидеть такую сцену и невольно улыбнулась: забавно. Наверняка приезжий. Ее привычное уныние вдруг как-то рассеялось. Молодой человек дочитал и поклонился в сторону Невы.
– Браво! – воскликнула женщина и зааплодировала, а Чарлик пару раз тявкнул, поддерживая. Молодой человек обернулся, увидел своих слушателей и покачнулся…
– Осторожно!
…Но выправился и легко спрыгнул на асфальт. Они оказались почти одного роста и, если бы могли видеть себя со стороны, заметили бы, что удивительным образом «рифмуются» друг с другом: темноволосая женщина в черных брюках и светлой ветровке – и белокурый молодой человек в светлых джинсах и темной рубашке. Но, кажется, Чарлик это заметил: он радостно напрыгивал на незнакомца, пытаясь лизнуть.
– Чарлик! Веди себя прилично!
Молодой человек опустился на корточки и затормошил песика, который повизгивал от радости и все-таки ухитрился пару раз лизнуть его в нос.
– Вы поздно гуляете! – сказал молодой человек, поднимаясь.
– Да, так уж вышло.
– Ведь это Васильевский остров, правда? Похоже, я оказался тут в ловушке: мосты развели, метро закрыто…
– Да, недавно развели.
– И никак не выбраться на ту сторону?
– Боюсь, что нет. Но Благовещенский мост часа в три сводят ненадолго, можете проскочить. Только все равно никакой транспорт не ходит, если только такси. Вам далеко?
– В Обухово.
– Прилично!
– А Благовещенский – это который?
Женщина показала:
– Вот этот, рядом.
– Да, влип я. Увлекся! Так светло – даже не верится, что ночь!
– Белые ночи.
– А я думал, они только в мае бывают!
– До середины июля.
– Здорово! Так мост в три часа сведут, говорите? Еще часа полтора надо где-то прокантоваться… А давайте я вас с Чарликом провожу?
– Ладно, только с одним условием: по дороге будете читать стихи. Идет?
– О, этого – сколько угодно! Пушкина?
– Что хотите!
– Тогда – вот это:
В те ночи светлые, пустые, Когда в Неву глядят мосты, Они встречались как чужие, Забыв, что есть простое «ты»…[1]Они медленно шли по полутемным переулкам. Чарлик трусил впереди, иногда оглядываясь, а женщина посматривала, чуть улыбаясь, на незнакомца, который читал одно стихотворение за другим. Наконец, она остановилась около углового дома:
– Ну вот, вечер поэзии окончен. Это мой дом.
– Понятно. А вы не знаете, поблизости нет какого-нибудь ночного кафе? Или хотя бы скамейку найти, а то я весь день на ногах…
– Кафе… Боюсь, что нет. Скамейки есть в Румянцевском парке – тут недалеко! Надо вернуться опять на набережную и налево. Правда, это немного подальше от Благовещенского моста. – Она некоторое время смотрела на своего спутника, потом, чуть усмехнувшись, решилась: – Знаете что? Пойдемте-ка ко мне. Посидите, отдохнете. Чаю выпьете. Все равно я не засну.
– Это, наверно, неудобно. – Он быстро взглянул ей в глаза, и у женщины возникло неприятное ощущение, что любитель поэзии прочел ее мысли. Она слегка покраснела:
– Ничего. Ну что, идем?
– Спасибо. Вы меня просто выручите.
Поднимаясь по лестнице, он не выдержал:
– Вы очень смелая женщина!
– Хотите сказать – безрассудная?
– А вдруг я какой-нибудь маньяк?
– А вы маньяк?
– Нет.
– Ну вот. Почему-то мне кажется, что маньяк не стал бы посреди ночи читать Пушкина над Невой.
– Вы уверены? Впрочем, если я и маньяк, то только литературный!
На площадке четвертого этажа горел яркий неоновый свет, так что они смогли наконец разглядеть друг друга, и женщина подумала, что ее спутник гораздо моложе, чем ей показалось сначала, – лет двадцать пять, пожалуй. А молодой человек понял, что женщина несколько старше, чем он предположил: пожалуй, ей уже хорошо за тридцать.
Чарлик приплясывал и скулил около одной из дверей. Женщина сказала:
– Подождите, мне надо завести собаку! Это пара минут!
Вернувшись, она открыла дверь квартиры напротив и пригласила его войти, а заметив удивление, объяснила:
– Это не моя собака.
– Вы брали ее напрокат?!
Она засмеялась:
– Нет! Это собака Розы Михайловны, соседки. Я иногда гуляю с Чарликом, когда ей совсем отказывают ноги. А сегодня он еще и животом мается, бедный, поэтому пришлось… Но у меня все равно бессонница, так что… Проходите! Осторожно, там ступенька.
Он прошел на кухню и огляделся: довольно большое помещение, расположенное ниже уровня прихожей. Круглый стол, диван… резной буфет темного дерева…
– Я поставлю чайник. Что вы предпочитаете – кофе, чай? Есть зеленый.
– Да мне все равно. Спасибо. А где бы…
– Направо по коридору.
Когда он вернулся, стол был накрыт: заварной чайничек, заботливо укутанный полотенцем, тонкие чашки с розами, забавная масленка в виде кочна капусты, плетенка с хлебом, тарелки с ветчиной и сыром, хрустальная сахарница… Все разномастное, но уютное и явно старинное.
– Угощайтесь! Вы наверняка голодны.
– Спасибо!
Он размешал сахар в чашке затейливой ложечкой с витой ручкой и откусил сразу половину бутерброда с ветчиной, который она подала. Прожевав, вдруг отложил недоеденный бутерброд, встал и слегка поклонился:
– Простите, я не представился: Дмитрий Артемьев!
– Как красиво, – сказала она, улыбнувшись. – Прямо-таки девятнадцатый век: Артемьев, Иртеньев, Арсеньев… Герой романа.
– Вряд ли я гожусь в герои романа. Простой программист.
– Вы тут в командировке, Митя? – Он как-то удивленно взглянул на нее, потом медленно ответил:
– Да, в командировке. Завтра домой. Мы тут охранные системы устанавливаем… в одной фирме. А вы?
– Что – я?
– Как ваше имя?
– Ах ну да! А я – Люся Попова. – И засмеялась, увидев выражение его лица. – Что? Не похожа я на Люсю Попову?
– Ни капельки! Вам это так не подходит! Я думал – Евгения, Ирина, Софья… Как-то так. Но Люся! Да еще Попова!
– Попова – девичья фамилия, а по мужу я Карчевская.
– А где ваш муж? Он не будет сердиться, что я здесь?
– Он умер.
– Простите!
– Ничего. Это было давно.
– Значит, вы Людмила?
– Нет, не Людмила. Леонида. Леонида Аркадьевна Карчевская.
– Боже, как изысканно! Я даже не знал, что есть такое женское имя – Леонида! А как же вас зовут близкие?
– Лёка. Тоже странное имечко, да? Это папа нас так назвал: Калерия – Каля, моя старшая сестра, и Леонида. Папа хотел мальчика, а получилась я. Такая девочка-девочка. Но я давно откликаюсь на Люсю, так проще.
– Люся… Нет, совсем не годится! Мне нравится Лёка! Можно, я буду так вас называть?
Разговаривая, они исподтишка рассматривали друг друга, то и дело встречаясь взглядами. Митя сразу оценил стройность и изящество этой высокой женщины – что-то балетное было в ее осанке, в легкой походке, в строгой грации движений. Темноволосая, белокожая, с яркими карими глазами и нежным ртом, верхняя губа которого чуть выступала над нижней, – Митя вдруг вспомнил княжну Кити из «Анны Карениной».
– А вы случайно не балерина?
– Балерина?! – Лёка рассмеялась. – Почему – балерина?
– Мне так показалось. В вас есть музыка. Вы словно танцуете. Даже когда просто сидите и не двигаетесь. Музыка все равно слышна.
– Танец маленьких лебедей?
– Скорее умирающий лебедь…
«А он не так прост, как мне показалось сначала, – подумала Лёка. – Такой непримечательный с виду, совершенно обычный парень, каких миллион. Не красавец, но вполне привлекательный, а глаза умные, внимательные, видящие. И улыбка! Когда он улыбается, словно вспыхивает свет…»
– Нет, я не балерина. Хотя немножко занималась бальными танцами. Давно, еще в школе. А вообще я преподаю английский язык. И французский. В университете, в академии, частные уроки даю.
– Два языка знаете, надо же! А я английский… с трудом.
– Вообще-то – семь. В разной степени, но семь.
– Семь?! Вот это да! А какие?
– Еще итальянский и испанский. Немецкий. И немножко иврит.
– А седьмой?
Она улыбнулась:
– Русский.
– А, ну да. Потрясающе! А почему вдруг иврит?
– Сестра уехала с мужем в Израиль. Потом и родители. У меня мама наполовину еврейка. Муж был намного старше меня, рано умер. Детей мы не нажили, он не хотел. Все говорил, что я молода, успеем. – Лёка встала и налила Мите еще чаю. – Когда он умер, родители мечтали, чтобы я к ним перебралась. Я съездила в гости, но совсем переехать не решилась. Они в Ашкелоне живут. Небольшой такой город на побережье Средиземного моря. По нашим меркам, конечно, небольшой. Там все маленькое. Да и как бы я уехала! Тут свекровь, совершенно одинокая. И не очень мне там понравилось, честно говоря! Море, конечно… Но жарко, да еще хамсин. Это ветер такой – из пустыни. К тому же из сектора Газа ракетами обстреливают. Тревожно. И вообще – все чужое. Я не смогла бы без Невы, без сфинксов, без Васильевского острова. А вы москвич?
– Можно и так сказать. Работаю в Москве, а живу в ближнем Подмосковье. Но это только говорится, что ближнее – часа два на дорогу трачу. В один конец. Такая дыра, это наше Филимоново! Вся жизнь в дороге. Своих почти не вижу: приезжаю к ночи, встаю рано…
– Своих?
– Жену, дочку. Вот. – Митя достал мобильник, пощелкал и показал Лёке фото маленькой девочки с бантиками. – Моя Катька! Пять лет!
– Милая какая! На вас похожа.
– Забавное существо. – Он посмотрел на фото, нежно улыбнулся и убрал мобильник.
– Вы так рано женились!
– Сразу после школы. Как восемнадцать стукнуло, так и… Я не хотел, честно говоря. Предлагал после армии пожениться. Но…
– Наверно, она боялась, что вы к ней не вернетесь из армии?
– Возможно. Но я бы вернулся. Правда, не из-за нее. Из-за бабушки. Бабушка меня вырастила. Она умерла год назад. – У Мити дрогнуло лицо. – Мне так ее не хватает!
– Вы очень ее любили, это видно.
– Да. А она – меня. Это был единственный близкий мне человек.
– Митя, почему же – единственный?! А ваша жена? Родные, друзья? У вас же есть друзья?
– Есть, конечно. Всегда можно пива выпить, о футболе поговорить. А жена… Мы знаем друг друга всю жизнь. Сколько помним себя, столько и знаем. Больше четверти века.
– Сколько же вам лет?!
– Двадцать девять. Недавно исполнилось. Мы жили в соседних квартирах, играли в одном дворе, с первого класса – за одной партой. Ее отец всегда называл меня зятем. Мы были обречены друг на друга, понимаете? Тили-тили-тесто, жених и невеста. Это мы. Все ждали, что мы поженимся. Да и выбора особого не было. Особенно для нее. В наших двух параллельных классах училось тридцать семь человек, из них парней – не больше полутора десятков. Только трое выбились в люди. Четверых уже нет в живых, остальные спиваются потихоньку. Так что…
Митя замолчал и помрачнел. Лёка подумала, что надо сменить тему: и зачем ее понесло задавать такие вопросы?! Какое ей дело до Митиной жены?!
– Вы первый раз в Петербурге?
– Да! – Он так выдохнул это «да», что Лёка подняла голову и взглянула ему в лицо. Митя явно взволновался – щеки загорелись румянцем, глаза заблестели: – Да! Я вообще еще нигде не был. В армии и то служил в Подмосковье, так повезло. Мы вчера приехали рано утром, сразу на фирму, работали допоздна, и сегодня тоже. Но закончили пораньше, и я сразу поехал в центр. Вышел на Невском… около Аничкова моста…
У него перехватило горло – Лёка смотрела с изумлением: это был совершенно другой человек.
– Это такое потрясение! Я просто бродил по городу куда ноги несли. Я столько читал о Петербурге, и вот… Это было… узнавание! Я вернулся, понимаете? «Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез…»
Он, волнуясь, читал Мандельштама, а Лёка слушала, чувствуя, как подступают слезы к глазам.
– Нет, это невозможно объяснить…
– Почему? Я понимаю! Знаете, вам обязательно надо съездить в Царское Село! В Лицей! Вы же любите Пушкина? Ну вот! Там есть одно место, в Лицее… В библиотеке! Я стояла у окна и думала: многое изменилось, но Лицей все тот же, и парк, и вид из окна – пусть вместо карет машины. И Пушкин точно стоял здесь, на этом самом месте и смотрел в это окно! Понимаете? И я так почувствовала его! Пушкина! Это было удивительно!
Митя вдруг взял ее руку и поднес к губам. Поцеловал, потом перевернул ладонью к себе и на секунду уткнулся носом, вдохнув аромат тела. Они некоторое время смотрели друг на друга – вглядывались, словно пытаясь понять: кто ты? Потом Митя отпустил ее.
– Пушкин, да-а… Вы знаете, сначала я увлекался Мандельштамом, Пастернаком… Бродским… Пушкин казался таким… таким школьным. Простым. Ясным. Чересчур простым и ясным. Но однажды взял с полки книгу – не глядя. Я люблю на ночь почитать стихи. Оказалось – Пушкин. Я открыл, где открылось, прочел случайное стихотворение и…
Он замолчал, задумавшись, потом покачал головой:
– Как глоток чистого воздуха! Знаете, осенью, когда заморозок и на траве иней? Так все прозрачно и холодно. А стихи… Это было наслаждение… почти чувственное!
И он прочел, рассеянно глядя на Лёку:
– «На холмах Грузии лежит ночная мгла… Блестит Арагва предо мною… Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою… Тобой, одной тобой! Унынья моего ничто не мучит, не тревожит… И сердце вновь горит и любит – от того, что не любить оно не может…»
– Да, это прекрасно! – тихо сказала Лёка, чувствуя, как горят ее щеки. – Прочтите мне свои стихи. Пожалуйста!
– Почему вы решили, что я пишу?!
– А вы не пишете?
– Писал! В глубокой молодости.
– В глубокой молодости?! А сейчас что?!
– Ну-у… Сейчас ранняя зрелость!
– Вы не Близнец по зодиаку?
– Да! Как вы угадали?!
– Не знаю. Июньский?
– Вы будете смеяться, но я родился шестого июня. Как Пушкин. А кто вы?
– Вот это да! А я зимняя. Водолей. Так что там с вашими стихами? Прочтете?
– Нет. Они того не стоят. Да это даже не стихи были, а песни. Выучил полтора аккорда, пел все подряд, от Окуджавы до Высоцкого – и блатные, и дворовые, и свои. Никто и не знал, что мои. Школьный менестрель. Дон с гитарой.
– Дон? Дон Румата?
Митя чуть нахмурился и покачал головой:
– Как вы… Почему – Румата?!
– Ну, мне кажется, что вы – дон Румата. Не тот, за кого себя выдаете.
– Вы многое видите. Да, я все детство играл в дона Румату. Но прозвище другое – Дон Артемио. А про Румату никто и не знал.
– Почему вы перестали писать стихи?
– Я все время что-то такое сочиняю. Иногда записываю. Чаще… отпускаю.
– Но почему?!
– Почему? – Митя усмехнулся: – Уже всё написано до меня.
– А-а! Вон как! Это гордыня.
– Возможно. Но разве можно что-то написать после Мандельштама? Бродского? После Пушкина?! Что может быть прекрасней вот этого: «На холмах Грузии лежит ночная мгла»? Или: «Кто может знать при слове «расставанье», какая нам разлука предстоит, что нам сулит петушье восклицанье, когда огонь в акрополе горит…»
– Но зачем быть вторым Мандельштамом или Бродским?! У вас должен быть собственный голос!
– Послушайте, вы даже не знаете, какую чушь я сочиняю!
– Не верю! Прочтите!
Митя прочел:
– «Она рисует белого льва и сирень на дверце, ладони ее подобны ливням, слова сетям, а он человек с отвесной осенью в сердце, и в каждом его зрачке молодой сентябрь…»
– Это ваши?! Такие прекрасные?!
Он помотал головой:
– Нет, не мои. Это Сергей Шестаков: «Вычитающая из будущего, складывающая со смертью, умножающая на завтра, делящая на вчера, хорошо нам вместе ловить сетью огоньки живого влажного серебра…»
Они проговорили почти до утра, пропустив время сведения Благовещенского моста. Митя заснул на полуслове, и Лёка подсунула ему под голову подушку, накрыла пледом. Сама легла, не раздеваясь, на кровать поверх покрывала и долго смотрела в полутьму, потом задремала, и тотчас, как ей показалось, зазвонил будильник, поставленный на восемь – Мите к десяти надо было в офис. Такси она заказала еще вчера. Митя спал. Лёка присела на диванчик и потрясла его легонько за плечо:
– Митя, просыпайся! Сейчас такси придет!
Он сонно промычал что-то, тогда Лёка, улыбнувшись, подергала его за кончик носа. Митя отмахнулся, потом, так и не открывая глаз, вдруг обнял ее и опрокинул на диванчик, оказавшись сверху – с силой провел рукой по спине, по бедру, потом сжал грудь и поцеловал, она ответила, но, опомнившись, резко оттолкнула и… села на кровати, задыхаясь: это был сон! Просто сон… И тут же зазвонил будильник.
Голова у Лёки еще кружилась, когда она осторожно заглянула на кухню: Митя спал – точно, как в ее сне. Лёка сварила кофе, надеясь, что он проснется от аромата. Потом позвала, стоя у плиты:
– Митя! Вставайте! Кофе готов.
Он вскинулся и резко сел, уронив подушку и плед, взлохмаченный, сонный. Потер кулаками глаза, взглянул на Лёку и вдруг чудовищно покраснел, просто весь залился краской – подхватился и умчался в ванную, а Лёка прижала ладони к вспыхнувшим щекам: неужели ему снилось то же самое?! Какой кошмар…
– Спасибо! Спасибо… за все, – сказал Митя уже в дверях и как-то дернулся к ней, и Лёка потянулась к нему – то ли поцеловать, то ли обнять, но не сделала ни того, ни другого, оба нервно улыбнулись, и Митя с грохотом помчался по лестнице вниз. Захлопнув дверь, Лёка постояла, опустив руки, – в квартире стало удивительно тихо, только слышно было, как капает вода из крана на кухне. Она прибралась, допила остывший кофе, потом долго отмокала под душем, сушила волосы и грустно рассматривала себя в зеркале: бессонная ночь даром не прошла. В голове что-то тоненько звенело.
Словно со стороны наблюдала Лёка за высокой худощавой женщиной, которая рассеянно одевается, причесывается, медленно спускается по лестнице, бредет по набережной, входит в аудиторию, невнимательно принимает зачет у запоздавших со сдачей студентов, потом все так же рассеянно плывет обратно домой, покупает в магазинчике какие-то продукты, что-то готовит и ест, потом укладывается на кухонный диванчик, накрывшись пледом…
Проснулась Лёка от звонка в дверь, но, когда открыла, на площадке никого не оказалось: померещилось! Было почти пять, и остаток дня Лёка ничего не могла делать – она металась по квартире, переходя из комнаты в комнату: то прислушивалась к звукам на лестнице, то нервно барабанила пальцами по оконному стеклу. Она ждала Митю, сама не зная, чего на самом деле хочет: чтобы он действительно пришел или чтобы не возвращался. Лёка не помнила, во сколько отправляется его поезд, но наверняка ближе к двенадцати, так что самое позднее, когда он еще мог к ней заехать, было пол-одиннадцатого. Лёка решила, что будет ждать до десяти.
Решила! Как будто она могла что-то решить, как будто от нее что-то зависело! Ею владело тяжкое и мучительное чувство – такая сильная внутренняя боль, ломающая суставы и тянущая жилы, что она порой даже стонала, не в силах терпеть. Ближе к десяти Лёка начала себя уговаривать: «Все кончено, он не вернется, я больше никогда его не увижу… да это и к лучшему, зачем мне это нужно, совершенно незачем… и вообще, ему всего двадцать девять… так что все хорошо, все правильно… ничего, я сильная… справилась один раз, и сейчас справлюсь… ну, выучу еще китайский язык… или японский…»
И тут действительно прозвенел звонок. Она распахнула дверь. Митя стоял на площадке, с тревогой глядя на побледневшую Лёку, которая вдруг пошатнулась и упала бы, если бы Митя, быстро шагнув вперед, не подхватил ее. Очнулась она все на том же кухонном диванчике – Митя сидел рядом, растирая ее ледяные руки.
– Господи, я что – в обморок, что ли, завалилась? – произнесла Лёка слабым голосом, пытаясь сесть, но ее опять повело.
– Тихо, тихо, полежи немножко! И часто ты падаешь в обмороки?
– Впервые в жизни…
– Дать тебе что-нибудь? Какого-нибудь корвалола? Или… Коньяка у тебя нет? Может, «Скорую» вызвать?
– Не надо ничего… Все нормально… Сейчас…
Она все-таки села, чувствуя невероятную слабость. Митя нежно погладил ее по голове, поправляя выбившиеся пряди:
– Тебе не удалось поспать днем?
– Немножко… Я не могла спать… Я так ждала тебя…
«Что я говорю, зачем?» – подумала она в панике, но остановиться не могла:
– Так мучительно ждала! А когда ты пришел…
– Ты испугалась, да?
– Да… Почему ты вернулся?
– Потому что ты ждала меня. И еще я придумал тебе имя!
– И какое?
– Леа.
– Леа? Красиво… Ты думаешь, это мое имя?
– Да. Я ведь тоже не Митя.
– А как же?!
– Я всю жизнь – Дима. Димка, Димон, Дон! И когда ты сказала «Митя», я удивился. Мне и в голову не приходило, что я могу быть Митей! Что я и есть – Митя! Понимаешь? Это было… как с Петербургом! Я вернулся в мой город, знакомый до слез…
Леа?
В течение жизни она обросла множеством имен, как днище корабля – ракушками.
Наверно, она какая-то не цельная, не то что сестра…
Или отец…
Они вырублены из целого ствола, а она – как наборный паркет, вся из кусочков!
Мозаика, кубик Рубика…
Интересно, каково это, всю жизнь зваться одним именем?
Лёка – косички с пышными бантами, удивленно распахнутые глаза, куклы и лошадки, завязанное горлышко, леденец за щекой, желтые кленовые листья в Летнем саду, красные ботиночки…
Леонида Аркадьевна – строгий пучок на затылке, туфли-лодочки, опять не взяла ведомость, заседание кафедры в семнадцать ноль-ноль, Иванов, как всегда, не сдал, become-became-become, begin-began-begun и никакого dream-dreamt-dreamt!
Люська – стук каблучков по асфальту, шарфик вьется на ветру, привет, давно не виделись, замуж-то еще не вышла, позвони мне, где такую сумочку прикупила, и как тебе удается быть такой худой, а я опять на диете, пока! Да, и не забудь: в субботу у Дашки! В пять!
Лёнушка…
Нет, нет, вычеркиваем!
Лёнушки больше нет, давным-давно умерла…
И вот теперь – Леа.
Мягкое и сильное, женственное и ленивое, крылатое и крадущееся…
Львица и лань.
Слишком много имен, словно смотришься сразу в несколько зеркал, и каждое чуть-чуть искажает образ – или показывает разные грани?
Митя смотрел на нее с нежностью, и Лёка вдруг опять испугалась того, что с ними происходит. «Слишком быстро происходит! Двадцать девять лет, жена, ребенок, и о чем я только думаю?!»
– Что же делать? – пробормотала она. – Что нам теперь делать?
– Может, ты меня покормишь для начала? Я ужасно хочу есть.
– Да, конечно! Что это я? Наверно, не обедал, да?
– Перекусил на ходу.
– А когда у тебя поезд?
– Поезд у меня в полночь. Завтра. Я менял билет, поэтому не сразу к тебе приехал.
Лёка отвернулась к плите и спросила:
– Ты был так уверен, что я…
– Нет. Я совсем не был уверен. Но подумал: если меня не пустят на кухонный диванчик, я всегда смогу переночевать на вокзале. Будет лишний день посмотреть город, только и всего.
Она подала ему тарелку и присела к столу, а Митя вдруг рассмеялся:
– Ты сейчас так похожа на мою бабушку! Она тоже, бывало, сядет, щеку рукой подопрет и смотрит. Всегда волновалась, поел ли я. Даже когда умирала. Знаешь, я ее голос до сих пор слышу. Она всегда говорила нараспев: «Ди-имушка пришел!» – И он вздохнул, вспоминая.
– Как она умерла?
– Тихо. Тихо жила, тихо умерла. От старости. Я и глаза ей закрыл. Мои все разъехались – родители, сестры. А я рядом, в соседней квартире. Она до последнего сама себя обслуживала. Не любила быть в тягость. Но, когда слегла, пришлось, конечно…
– Ты что, сам за ней ухаживал?!
– В общем, да. Сам. Ну, когда надо было… помыться, всякое такое… мне Варька помогала.
– Жена?
– Нет. Это друг. Мы учились все вместе. Она добрая, Варька. Милосердная. И не брезгливая.
– Прости, но почему – Варька? А жена что ж? Не милосердная?
– Она не могла. Не все же могут.
– Да, нелегко тебе пришлось. А у меня свекровь на руках была. Ненавидела меня. Но больше никого не осталось. Ни первая невестка, ни внуки не хотели за ней ухаживать…
– А почему ненавидела?
– Считала, я виновата в смерти ее сына. – Лёка встала и ушла к окну, отвернувшись от Мити. – Мой муж… Мы с ним… Преподаватель и студентка, классический случай. Он был порядочным человеком, решил сначала развестись. Это долго все тянулось. Я знала, как ему трудно, хотя он берег меня, не все рассказывал. Наконец, развелся, поженились. Три года прожили. Три года, два месяца и двенадцать дней. И все это время я чувствовала ненависть, направленную на нас. На меня. Его бывшей жены, сыновей. Его матери. Он… он умер во сне. А я ничего не заметила, не услышала, не почувствовала. Проснулась, он не дышит. И все.
– Боже мой! Бедная! – Митя вскочил и подошел к ней. – Можно, я тебя обниму?
– Нет.
Но он все-таки обнял – развернул ее к себе и обнял:
– Ты не виновата! Ты ни в чем не виновата!
– Ну да, конечно. Я все время себя убеждала, что не виновата. С того самого момента, как поняла, что он меня полюбил.
– Давно он умер?
– Давно. Очень давно. Мне было меньше, чем тебе. А сейчас мне… почти сорок. – И взглянула ему прямо в глаза. Митя не дрогнул:
– Даже не думал, что тебе может быть больше тридцати.
– Значит, хорошо сохранилась. – Лёка попробовала освободиться, но он не пустил.
– И ты все это время была одна?
– Да нет, почему. Правда, я долго приходила в себя. Года три, а то и четыре. Болела много. И со свекровью проблемы были. Потом попробовала жить дальше. Было два… два романа, назовем это так. Первый меня бросил. Сказал, слишком сложная. Нашел попроще. А второй… Со вторым я не смогла. Мы даже прожили вместе года полтора. Здесь, в этой квартире. И не смогла. Как представила, что он всю оставшуюся жизнь… Помнишь, как в «Иронии судьбы» Мягков говорил?
– Всю оставшуюся жизнь будет мелькать у тебя перед глазами? Туда-сюда, туда-сюда?
– Ну да. И не смогла.
– А если… если я буду мелькать у тебя перед глазами? Ты вынесешь?
– Митя! – Лёка наконец вырвалась от него и опять села за стол. – О чем мы вообще говорим?!
– Это потому, что у меня жена и ребенок, да? Зря я тебе сказал, ты бы так не переживала…
– И как ты предполагал это скрыть?! Послушай, я старше тебя. Намного.
– Это неважно.
– Как – неважно?!
– У души нет возраста.
– Но у тела – есть! Зря ты вернулся. У нас с тобой не может быть ничего. Никакого будущего.
– А будущего никогда нет. Есть только настоящее. Здесь и сейчас. И здесь, в этом настоящем, ты больше не одна.
– Ты уедешь и забудешь меня.
– И даже если я сейчас уеду и никогда тебя больше не увижу, ты все равно не будешь одна, потому что у тебя есть я. Где бы я ни был. А у меня есть ты, хочешь ты этого или нет. Ты – во мне, во всем вокруг меня! В воздухе, в невской воде, в этих разведенных мостах. В стихах. «Я только запомнил каштановых прядей осечки, придымленных горечью, нет – с муравьиной кислинкой, от них на губах остается янтарная сухость, в такие минуты и воздух мне кажется карим, и кольца зрачков одеваются выпушкой светлой, и то, что я знаю о яблочной, розовой коже…» Это все – про тебя. Это ты! Твои каштановые пряди, карие глаза, твоя яблочная кожа. Видишь, я же говорил, что все уже написано до нас.
– И только и свету, что в звездной колючей неправде. Жизнь – не поэзия.
– Ты уверена?
– Послушай, ничего же не произошло! Мы просто разговаривали. И всё.
– Для меня – произошло. Где начинается измена? В постели? А если я с тобой за эти несколько часов разговаривал больше, чем с женой за год?! Если ты меня понимаешь так, как я сам себя не понимаю? Если мы с тобой говорим на одном языке?! Если я с тобой – настоящий я, а не… дон Румата под прикрытием?! Это измена или нет? Если я могу думать только о тебе? Если я все время хочу видеть тебя, чувствовать? Дышать тобой? Слышать, как ты смеешься! Знаешь, на что похож твой смех? После обильного снегопада сосны отряхиваются, взмахивают ветками, как крыльями, – снег летит и сверкает на солнце миллионами маленьких снежных иголочек…
– Перестань! Ты говоришь это всем девушкам?
– У меня нет никаких девушек. И никогда не было. Только жена.
– Так тебе захотелось чего-то новенького?! Послушай, я все понимаю: вы с ней очень давно знаете друг друга, вот и заскучали, у вас какие-то нелады, но это пройдет…
– Да нет, у нас все хорошо. Просто идеальный брак. – Он усмехнулся: – Ты знаешь, меня часто посещала мысль: что произойдет, когда один из нас наконец влюбится? Должно же это когда-нибудь случиться! Но я очень надеялся, что это буду не я.
– Ты что – никогда не влюблялся?!
– Никогда. Никогда и ни к кому я не чувствовал того, что чувствую к тебе. И боюсь, что на самом деле все еще хуже – я не просто влюбился, я полюбил тебя. Ты ведь понимаешь разницу?
– Но мы же знакомы меньше суток! Ты совсем меня не знаешь!
– Я все о тебе знаю – о твоей бессоннице, об одиночестве, о потребности любить и быть любимой! Потому что я сам такой! Ты хотела моих стихов? Вот, пожалуйста:
Кому – недорого! – любви? Вразвес, как семечки, в кулечек… Нет никого, как не зови. И одиночество меж строчек Глядит, как крыса из норы – Глубокой, черной, потаенной… И задыхаются миры От нежности неутоленной…Может быть, это ты написала? Теперь ты веришь, что я тебя знаю? Ты всю жизнь стараешься избыть свою вину, тебе не с кем поговорить на твоих семи языках, и ты готова гулять с чужой собакой, лишь бы не быть одной! Я знаю, почему ты позвала меня вчера…
Лёка вспыхнула и закрыла лицо руками. Митя страдальчески сморщился, но продолжил:
– Ты подумала, это хороший шанс, правда? Молодой парень, здоровый с виду, стихи читает – не совсем идиот. И приезжий. Уедет и забудет случайную женщину. А у тебя, если получится, будет ребе…
– Прекрати!
– Прости.
– Это было секундное умопомрачение! Не знаю, что на меня нашло! Я тут же передумала! Все равно я не смогла бы! Ребенка не заводят от одиночества! Боже, как стыдно…
– На самом деле все совсем не так.
– Не так?
– Просто ты влюбилась в меня с первого взгляда…
– Пожалуй, эта версия нравится мне больше, – сказала Леа, внимательно глядя на граненую сахарницу, и рассеянно провела пальцем по ее стеклянному боку. Какое странное состояние: то жар восторга, то холод ужаса. Как во сне. И страшно, и сладко, и надо бежать, и невозможно двинуться с места. Ах, эта вечная игра – противоборство между мужчиной и женщиной, из которого оба выходят и побежденными, и победителями…
– А я влюбился в тебя еще до всякого взгляда.
– Как это?!
– Я тебя выдумал. А потом увидел на набережной, там, где сфинксы. Где-то в половине десятого, наверно.
– Около университета!
– Ты меня обогнала. У тебя потрясающая походка! И волосы развевались на ветру. Женщина с ветром в волосах… Я долго шел за тобой, потом потерял. Бродил там по переулкам, заблудился. Потом вынесло к набережной. И когда ты вдруг вышла ко мне с Чарликом… Я чуть не упал в Неву!
– Так это был ты?! Кто-то насвистывал у меня за спиной! Что-то очень знакомое, я все пыталась вспомнить…
– Что походкой легкою, подошла нежданная, самая далекая, самая желанная! Да, это был я.
– Митя…
– Что, дорогая?
– Хорошо, пусть ты прав про меня. Но ты?! Тебе же есть кого любить и без меня!
– Ты понимаешь, ей не нужно то, что я мог бы дать. Не нужно! Ей удобно со мной, я идеальный муж – не пью, не гуляю, деньги зарабатываю. Но ей все равно, о чем я думаю, чем дышу, чего хочу. Все равно. Я предмет мебели. Деталь семейного интерьера. И все.
– Митя, а как же дочка?! Твоя дочка?
– Я всегда буду ей отцом.
– Ты знаешь, ведь на чужом несчастье своего счастья не построишь.
– А ты не думаешь, что эта палка – о двух концах?
– Что ты имеешь в виду?
– Вряд ли в моей семье будет счастье, если я несчастен. А без тебя… Понимаешь, меня замкнуло на тебе. Закоротило. Увидел, как ты идешь по набережной, а ветер играет твоими волосами, – и все. И я не знаю, что с этим делать. Как ни поверни, в любом случае кто-то будет страдать. Я действительно никогда не влюблялся. Мы поженились как-то… машинально. Особенно не задумываясь. Потому что все этого ожидали. И я не собирался ей изменять, правда. В этом была какая-то особенная гордость: быть верным женщине, которой дал слово. И вот, пожалуйста… Может, этот город свел меня с ума? Но ты мне нужна. Ты… заставила меня снять маску. Быть собой. Понимаешь? И мне кажется, что ты тоже… Иначе зачем ты ждала меня? Так ждала, что, увидев, потеряла сознание?! Из-за меня еще никто не падал в обморок!
– Ты давишь на меня. Сильно.
– А ты не хочешь посмотреть правде в глаза.
– Я боюсь.
– Чего, дорогая?
– Я говорила тебе, как умер мой муж.
– А! Я понимаю. Ты боишься, что… что судьба нас накажет? Или Бог? Я в это не верю. Я не верю, что есть какая-то судьба, не верю, что кто-то – или что-то! – рассматривает в микроскоп каждый наш шаг и ставит нам двойки. Всё – в нас самих. И если ты ждешь наказания – ты его получишь. Ты же сама казнишь себя все эти годы. Болезнь – это просто болезнь. Смерть – просто смерть. Ты думаешь, если будешь примерной девочкой, с тобой ничего не случится? И кирпич на голову не упадет?
– Я не знаю. Все так стремительно происходит. Я уже смирилась со своей жизнью. Притерпелась. Знаешь, есть испанская пословица: «Если ты не имеешь того, что тебе нравится, пусть тебе нравится то, что ты имеешь». – И повторила по-испански: – «Pues no podemos haber aquello que queremos, queramos aquello que podremos».
– Красиво звучит. Похоже, я тоже так жил. Но больше не могу. И, может быть, все-таки стоит добиваться того, что тебе нравится?
Они долго молча смотрели друг на друга. Потом Митя медленно произнес:
– Птицы, рожденные в клетке, думают, что полет – это болезнь.
Лёка усмехнулась и опустила голову.
– Это не я придумал, прочел где-то. Ну ладно. Уже очень поздно, тебе надо отдохнуть. Я пойду?
Лёка тихо ответила, не поднимая головы:
– Оставайся.
– Спасибо. Не бойся, я больше не буду… давить. И если тебя пугает физическая близость, то это совсем не обязательно. Ближе мы уже не станем. Конечно, я об этом только и мечтаю, но… если ты не хочешь… я переживу.
– Хорошо. Я постелю тебе в большой комнате, там диван поудобней.
– Я могу пойти в ванную?
– Конечно! У тебя есть…
– У меня все есть. Даже зубная щетка. Я же командировочный.
Выплеснув друг на друга эмоции и сомнения, они оба вдруг успокоились, утомившись, и словно отдали свое будущее в руки той самой судьбы, в которую не верил Митя. Лёка невольно рассмеялась, увидев Митю в желтых клетчатых трусах до колен и синей футболке:
– Какой ты разноцветный!
– Разве? Зато удобно!
Он улегся, с наслаждением вытянул ноги, потом улыбнулся, приглашающе похлопав ладонью по краю дивана:
– Может, тоже приляжешь? Я подвинусь!
– Прилягу, – усмехнулась Лёка. – Но не с тобой.
– Эх, не везет… Ну, тогда хоть посиди со мной немножко, а?
– Сказочку рассказать?
– Хочешь, стихи почитаю?
– Стихов, пожалуй, пока хватит. Расскажи мне о себе. – Лёка уселась на другом конце дивана, и Митя подвинулся, подобрав ноги.
– Особенно и рассказывать-то нечего. Я самый простой и обыкновенный…
– Ты какой угодно, но только не обыкновенный. И уж никак не простой. Кто твои родители?
– Мама – бухгалтерша, отец – наладчик.
– И как же вышло, что у бухгалтерши с наладчиком вырос такой… дон Румата? Да еще в какой-то дыре, как ты сказал?
– Сам удивляюсь! Знаешь, я в детстве любил думать, что меня подменили и где-то живет моя настоящая семья. А потом прочитал «Трудно быть богом», ну и… воображал себя доном Руматой.
– И как? Трудно быть богом?
– Очень. Особенно первые десять лет.
Сумерки постепенно сгущались, в комнате делалось темней, Митин голос звучал тише и глуше – давно пора было спать, но Лёка никак не могла заставить себя уйти и в конце концов заснула сидя. Задремал и Митя – задремал и вздрогнул, когда сонная Лёка сползла по мягкой спинке дивана и улеглась рядом, положив голову ему на живот, а рукой обняв ноги.
– Дорогая?! – Она не отвечала. – Может, ты пойдешь к себе? Ты совсем спишь!
Ну да, спит. Митя слегка подвинулся, но вышло еще хуже, потому что Лёка вытянулась поудобней и теснее прижалась, вздохнув, а ее рука оказалась в таком месте, что… Вот черт! Митя замер, затаив дыхание: так, спокойно! Представь, что ты… плюшевый медведь. Большой плюшевый медведь, которому совершенно безразлично, что Лёка дышит ему в живот, а ее рука…
«Медведь» закусил губу и старательно сосчитал до тридцати, потом осторожно, но решительно вывернулся из объятий Лёки и сполз на пол, облегченно выдохнув. Расположившись на кухонном диванчике, Митя накрылся пледом, сказал сам себе: «Так тебе и надо, Румата хренов!» – и тихонько рассмеялся. Хотя ему было вовсе не смешно.
Всего сутки прошли с того момента, когда он, обернувшись на возглас Лёки, чуть было не свалился с парапета в Неву. Всего сутки! Каких-то двадцать четыре часа – а вся жизнь изменилась раз и навсегда. А еще через сутки он будет маяться без сна на верхней полке купе московского поезда, время от времени включая экран мобильника, на котором улыбается прекрасная Леа. Утром он отправит ей смс: «Я в Москве. Миллион раз: люблю тебя!», а потом, вздохнув, сотрет из памяти телефона и эту смс, и фотографию. И поедет домой, постепенно превращаясь из влюбленного Мити в обычного, ничем не примечательного Диму.
Дон Румата вернется в Арканар.
Глава 3 Побег из Арканара
Он был не такой, как все, и понял это довольно рано. Уже годам к трем Димка догадался, что бесполезно приставать к взрослым с вопросами, потому что они не знают ответов. Болезненный ребенок, не по возрасту задумчивый и мечтательный, он предпочитал играть один, тем более что старшим сестрам-погодкам Ане и Мане довольно быстро надоело нянчиться с живой куклой: когда он дорос до школы, сестер уже гораздо больше интересовали всякие танцы-шманцы-обжиманцы, как выражался Томкин дед Шило.
Растила Димку бабушка – от детского сада пришлось отказаться, потому что ребенок заболевал после первого же дня, проведенного среди бойкой поселковой малышни. Отца Димка раздражал: «И что за соплю мы выродили?! Разве это пацан?!» Он-то мечтал и в футбол погонять с сыном, и порыбачить, а подрастет – так и пивка вместе шлепнуть, а тут… Вообще-то Димка раздражал всех, кроме бабушки: сестрам казалось, что братишка вечно путается под ногами, а мать ворчала, что мальчик совсем зачитался: «Опять с книжкой! Пошел бы воздухом подышал, мяч погонял!» Впрочем, мать ворчала, что бы он ни делал.
Читать он начал лет в пять и совершенно не понимал, зачем нужно гонять мяч. Буквам его научила бабушка, которая сама не слишком хорошо владела грамотой. Читал он все подряд, что попадалось под руку: детские книжки, газеты и журналы, учебники и хрестоматии сестер. Библиотеки в поселке не было, только в школе, да еще в районе, но туда одного не отпускали – далеко, а взрослым всегда было некогда.
Но в один прекрасный день Димка открыл настоящую книжную сокровищницу. Бабушка подрабатывала в доме отдыха «Залесье» – прибиралась, мыла посуду, а когда случался аврал, даже помогала на кухне. Димку она брала с собой. Сначала он цеплялся за ее подол, а потом осмелел и стал бродить по парку – тут-то, в одной из аллей, он и наткнулся на Художницу. Она сидела на низеньком стульчике перед какой-то странной штукой (потом он узнал, что это мольберт) – и тоненькой кисточкой рисовала пруд с ряской и кувшинками, виднеющийся в просвете между старинными липами. Димка посмотрел на картинку, на пруд – похоже. Но пруд на картинке казался немножко другим, как будто… волшебным! И солнечные блики, и нежно-зеленая ряска, и белые чашечки кувшинок, и темные стволы старых лип словно пришли прямиком из сказки про Ивана-царевича и Серого Волка, которую Димка недавно читал бабушке, пока та чистила картошку к обеду.
– Как красиво, – прошептал он, но Художница услышала и обернулась:
– Откуда ты взялся, малыш?
– Оттуда! – Димка махнул рукой в сторону дома. – Я с бабушкой пришел. Она посуду моет на кухне. Можно я посмотрю, как ты рисуешь?
– Посмотри.
Закончив этюд, Художница собрала вещи – время подошло к обеду. Она погладила Димку по голове и даже позволила понести матерчатый складной стульчик, сказав:
– Будешь моим пажом, хочешь?
Димка не знал, кто такой паж. Художница объяснила, что в давние времена у каждой дамы обязательно был юный паж, который держал веер, приносил цветы, подавал даме руку и отворял перед ней дверь.
– И носил складной стульчик, да?
Художница рассмеялась:
– Да!
Она была высокая, худощавая, с улыбчивыми светлыми глазами и длинной темной косой, перевязанной кожаным ремешком с желтыми висюльками. «Это янтарь», – сказала она. Про янтарь Димка знал – в одном из старых номеров журнала «Наука и жизнь», который он, честно говоря, подобрал на помойке, он прочел про Янтарную комнату. Димка теперь сразу бежал разыскивать свою новую подругу, которую про себя называл Прекрасной Дамой. На самом деле ее звали Наташей. Димка ходил за Наташей хвостиком, с замиранием сердца следил, как на белом грунтованном холсте с помощью волшебной Наташиной кисточки постепенно оживает аллея старинного парка или ветка цветущего шиповника. Каждый день он удивлялся ее нарядам – в поселке никто так не одевался: работала Наташа обычно в брюках и старой мужской рубашке с разноцветными пятнами краски, но к обеду переодевалась в длинную цыганскую юбку или платье, тоже затейливое. Димка заглядывался то на серебряные браслеты, звенящие на ее тонкой руке, то на такие же звонкие серьги или необычное ожерелье, где янтарные бусины чередовались с деревянными, а Наташа, заметив Димкин восторженный взгляд, улыбалась и гладила его по голове.
Наташа вдруг захотела писать Димкин портрет – он страшно возгордился, хотя сидеть неподвижно оказалось тяжко, но зато можно было болтать о чем угодно, и обычно молчаливый мальчик разговорился и засыпал Наташу вопросами, на которые у нее, как ни странно, находились ответы.
– А я совсем не умею рисовать! – говорил Димка, глядя на Наташу широко распахнутыми серыми глазами. – А ты долго училась? А в школе меня будут учить рисовать?
– Дим, не качай ногой, пожалуйста! В школе есть рисование, да. А я училась в художественной школе, потом в Суриковском институте. Был такой художник – Суриков.
– А я знаю! Он боярыню Морозову нарисовал! Я видел картинку в журнале и запомнил! Она такая страшная, на санях едет и рукой грозит. Как Баба-яга. А еще краска есть – сурик. У него поэтому такая фамилия, да? Потому что художник?
– Даже не знаю…
– А я смогу научиться рисовать, как ты?
– Сможешь, я надеюсь. Но не так, как я.
– А почему?!
– Потому что будешь рисовать так, как только ты можешь. Потому что у каждого человека свой талант, свой дар, понимаешь? Кто-то рисует, кто-то поет…
– А я не умею петь… Я вообще-то ничего не умею.
– Как? Совсем ничего? Этого не может быть! У тебя обязательно есть какой-то дар, я уверена. Со временем он проявится. Из каждого гадкого утенка непременно получается прекрасный лебедь. Ты знаешь сказку Андерсена? Мама тебе не читала?
– Я сам умею читать! – гордо заявил Димка, потихоньку вытянув правую ногу, которая затекла. – Но про утенка этого не знаю…
– Сам читаешь? Молодец! А сколько тебе лет?
– Шесть с хвостиком!
– Да что ты? И даже с хвостиком! Ну ладно, отдохни немножко, а то устал, наверно?
– И ни капельки! Я еще сто часов могу так просидеть! – Но тут же слез с поваленного дерева и попрыгал, разгоняя кровь. – Уже можно посмотреть?
– Еще не совсем закончено, но посмотреть можно.
Димка подошел. С небольшого холста на него глядел худенький мальчик в шортиках и полосатой футболке – светловолосый, сероглазый, очень серьезный и тоже какой-то слегка волшебный.
– Это я?!
– Это ты. – Наташа обняла его за плечи и поцеловала в макушку. – Как, нравится?
– Нравится… Но разве это я? – Димка слегка недоумевал: то, что он каждый день видел в зеркале, было мало похоже на этого сказочного отрока. – У него глаза… светятся…
– Такие уж у тебя глаза. Ты очень необычный мальчик. И я уверена, у тебя есть дар. Ты должен пробовать себя – вдруг ты тоже Художник? Или Поэт?
– Поэт?
– Поэт пишет стихи. Ты знаешь, что такое стихи?
– Стихи? Знаю… Наверно…
– Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик! Тише, Танечка, не плачь…
– Не утонет в речке мяч! Это я знаю! Так это стихи? Да ну! Так и я могу!
– Ну-ка!
Димка еще попрыгал на одной ноге и выдал:
– Тигра никогда не плачет, у нее зеленый мячик! Тигра, выходи скорей, я принес тебе… желудей! Нет, не желудей! Мимы не мюмят момумей!
– Что-то?!
– Момумей! Мимы не мумят! Ну, ты что, не знаешь про Винни-Пуха и Тигру?!
– Ах, ну да! Тигры не любят желудей!
– Тигра любит орехи, семечки, сушки, всякое такое! Как белка! Могла бы и желуди вообще-то грызть… Или они горькие? Ты не пробовала?
– Нет, не пробовала! Но раньше, когда было голодно, делали из желудей кофе.
– Во время войны? Мне бабушка рассказывала про войну! Мне не нравится война. Зачем? Можно же договориться!
– К сожалению, не всегда.
– Ой, я придумал, как надо! Тигра никогда не плачет, у нее зеленый мячик! Тигра любит поиграть – бегать, прыгать и скакать!
Наташа рассмеялась:
– Замечательно! Ну, вот видишь, ты точно поэт! Правда, это стихи такие… детские. Игрушечные.
– А какие настоящие?
– Ну, например:
Молчи, скрывайся и таи И чувства, и мечты свои – Пускай в душевной глубине Встают и заходят оне Безмолвно, как звезды в ночи, – Любуйся ими – и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, – Питайся ими – и молчи. Лишь жить в себе самом умей – Есть целый мир в душе твоей Таинственно-волшебных дум; Их оглушит наружный шум, Дневные разгонят лучи, – Внимай их пенью – и молчи!..– Краси-иво, – задумчиво протянул Димка. Он не все понял – что это такое: «Взрывая, замутишь ключи»? Про ключи он знал: здесь, в парке, был родник, и Димка иногда пил его ледяную и сладкую воду, так не похожую на водопроводную. Зачем же его взрывать?! И почему «звезды́ в ночи», а не звёзды? Мысль изрече́нная? А не изречённая? Но «молчи, скрывайся и таи» ему было понятно и привычно, так же как и мир «таинственно-волшебных дум»: мальчик давно научился скрывать от взрослых свои мечты и фантазии.
Он мог долго сидеть, разглядывая цветущий жасминовый куст, в котором – уж он-то знал! – несомненно, жили волшебные существа, и, если замереть и прищуриться, их вполне можно было увидеть. Ранней весной он часами бродил вдоль первых ручейков, разглядывая образующиеся ледяные острова и заселяя их мелким сказочным народцем. А дома получал потом взбучку за промокшие ноги: «Ты опять заболеть хочешь?! Не ребенок, а горе!»
– Дим, а кто такая Тигра?
– Тигра? Вообще-то она Томка. Но похожа на Тигру. Умеет рычать и никого не боится. Это моя невеста. – Димка вздохнул: – Она в соседней квартире живет. Вообще-то мне не очень хочется с ней жениться, но они все говорят, что надо. Не сейчас, когда вырастем.
– А сама-то Тигра хочет?
– Вроде как хочет. Она говорит, я без нее пропаду. Потому что робкий. Она боится, что меня обижать будут. Но я не робкий, я просто драться не люблю. Только она ничего не понимает. Вот ты – понимаешь, бабушка понимает, а Тигра – нет…
– А чего именно она не понимает?
– Да вообще! И не видит ничего вокруг себя. А я вижу. Только объяснить не могу. У нас дом красный такой, кирпичный, знаешь? И когда закат… И березы там растут… Белые! А стена – красная! Так красиво! И грустно почему-то. А она не видит. Или весной! Листочки ма-аленькие, зелененькие и пахнут… И птичка поет, тоже такая маленькая, совсем незаметная… Или цветочки бывают желтенькие, видела? Гусиный лук называются. И я так радуюсь! Словно воды с газом напился! Весело и хочется побежать! Или даже полететь! А ей все равно, Тигре, – листочки, птичка. Она говорит, я малахольный. Даже и не знаю, как это мы будем с ней жениться… А ты женатая?
– Нет, я не замужем.
– А почему?! Ты такая красивая! Как Прекрасная Дама!
– Ну, наверно, потому что не нашла того, кто… понимает. И все видит вокруг себя.
– Я бы на тебе женился! Когда вырасту!
Наташа засмеялась:
– Ну, когда ты вырастешь, я уже стану бабушкой, и ты не захочешь на мне жениться.
– А у тебя же детей нету, раз ты не женатая? Или есть?
– Нет. – И Наташа помрачнела.
– Ну вот! Откуда же внуки возьмутся, если детей нету! Значит, ты никогда и не будешь бабушкой!
– Да, тут ты, пожалуй, прав. – И Наташа, горько вздохнув, потрепала его по волосам. – Пойдем! Пожалуй, следует перевести тебя из пажей в рыцари.
Наташа отвела его в библиотеку Дома отдыха и нашла сказки Андерсена – Димка прочел и про гадкого утенка, и про стойкого оловянного солдатика, и про Русалочку. Читал и плакал. Хорошо, что читал в парке, а то дома бы засмеяли: сестры и так дразнили его нюней и хлюпиком, а отец ругал слабаком и девчонкой. Поэтому Димка и научился ловко прятаться, не попадаться на глаза, делаться незаметным, сливаться с окружающей действительностью – так что иной раз и сам верил, что умеет превращаться в невидимку.
Ему все чаще казалось, что он попал сюда по ошибке – в эту семью, в этот дом, в этот поселок. В этот мир, который был настолько тесен и неудобен для его растущей души, что порой он впадал в настоящую истерику и горько рыдал, подвывая: «Хочу домой!», чем страшно пугал бабушку. Куда – домой? Димка не знал. Куда-то, где бы его понимали и… любили.
Ему так не хватало тепла, что он спал в обнимку с плюшевым медведем – старым, облезлым, с пуговицами вместо глаз и криво зашитым черными нитками боком. По-настоящему любила Димку только бабушка. И вот теперь – Наташа. Он чувствовал, как от нее веет нежным теплом, и мечтал: вдруг Наташа окажется его настоящей мамой и заберет… домой. Его и бабушку.
Но Наташа, конечно, никуда его с бабушкой не забрала, а, наоборот, сама уехала, потому что срок ее путевки в Доме отдыха закончился. На прощанье она подарила расстроенному Димке акварельку с птичкой, сидящей на кусте бузины, хотя он очень хотел Наташин автопортрет, который увидел в папке, но постеснялся попросить. Сам он дня три писал для нее стих – читал-то Димка хорошо, а вот писать получалось плохо. Он испортил кучу листочков из Маниной тетрадки – даже выписанные по клеточкам буквы получились кривыми и косыми, словно пьяными, и Димка огорчался. Он был не очень уверен, что у него получился именно стих, но так хотел выразить все томившие его чувства!
– Ты еще приедешь? – произнес Димка, и губы у него предательски задрожали. Наташа прочитала его творение, заплакала, присела к нему и обняла – очень крепко, а потом поцеловала несколько раз:
– Не знаю, миленький! Как получится! Береги себя!
И быстро села в автобус, с трудом сдерживая рыдания. Димка не плакал. Ни в этот момент, ни потом. Бабушка тревожно заглядывала ему в лицо, но мальчик держался. А вечером у него вдруг подскочила температура, и следующие три дня он провалялся в постели, хотя ни горлышко не болело, ни кашля с насморком не было.
А Наташа…
…приехала, когда он перестал ждать. Нашла его у родника, обняла, поцеловала – Димка задохнулся от счастья:
– Ты заберешь меня домой? – и крепко стиснул ее руку своей горячей ладошкой.
Они прошли окольной тропкой к выходу из парка, потом к станции.
– А бабушка?
– Она потом к нам приедет, – сказала Наташа, убыстряя шаг. В электричке она купила ему мороженое, которое разносила по вагонам громогласная тетенька с большим зеленым ящиком на ремне, – Димка болтал ногами и смотрел в окно. Потом они ехали в метро, и Димка ни капли не боялся! Эскалатор ему понравился – здорово, лестница сама едет. И он все порывался идти «против течения». Лифт привел Димку в полный восторг – Наташа разрешила ему нажать кнопку седьмого этажа. Дома она накормила его гречневой кашей с котлетой – кашу Димка не очень любил, но мужественно съел. Потом он зарылся в книжки, выбрал «Приключения Нильса с дикими гусями», улегся на живот и читал до вечера, а Наташа…
…больше не приехала никогда. Но до конца жизни сохранила листок бумаги в клеточку с криво написанным синей шариковой ручкой «стихом»:
я хачу уехать стабой домой! может я и стану поет но тибя тут нетПостепенно Димкино горе притупилось, образ Наташи поблек в памяти, но даже спустя годы, проходя через парк в библиотеку Дома отдыха, он чувствовал, как болезненно сжимается сердце. А когда, разбирая после смерти бабушки ее вещи, наткнулся на акварельку с птичкой, то на пару секунд превратился в шестилетнего мальчика и услышал голос Наташи: «Пожалуй, следует перевести тебя из пажей в рыцари…»
Спасли его братья Стругацкие. Если бы не их книжка, прочитанная в десять лет, неизвестно, выжил бы Димка или сломался. Школа далась ему с таким трудом, что поначалу он рыдал почти каждый вечер: «Я не хочу! Не хочу туда идти!» Но кто его слушал? Сестры смеялись, отец ругался, мать раздражалась, и только бабушка потихоньку утешала всхлипывающего Димку: «Ну, потерпи, потерпи, сыночка! Что ж делать! Все учатся, и тебе надо!»
Он не понимал, зачем обязательно надо?! На уроках Димка томился – все учебники старших сестер были прочитаны еще до школы. Рисовать учили, но как-то скучно – никаких птичек, да и получалось у него плохо. С мальчишками он не находил общего языка, сторонясь их шумных игр и яростных драк. Дружить с девочками было проще, но Димка сознавал, что тогда вообще станет изгоем и кличка «Девчонка» приклеится к нему намертво.
Поэтому он все время совершенствовался в своем умении становиться невидимым: не высовывался, не нарывался, скользил по жизни, перебираясь из одного темного угла в другой, уходил в свой внутренний мир, о котором не мог поведать никому, даже Тигре. Она первая бы посмеялась, хотя при случае защищала Димку действительно как тигрица – очень маленькая, но бесстрашная тигрица: она прекрасно умела драться, могла оцарапать и укусить противника до крови, и с ней предпочитали не связываться даже ребята постарше, тем более что Томкины «братаны» никому не позволяли обижать сестренку: надо – сами наваляем!
Незаметный, средний, никакой, Димка и учился средне, хотя легко мог бы стать отличником – но зачем?! Ему хватало того, что отличницей стремилась стать Тигра – обойти всех, стать первой, самой главной! Да пожалуйста, сколько угодно. И он помогал Томке в этом, как мог. Со временем Тигра молчаливо признала, что робкий и малахольный Димка гораздо умнее, чем она, и не стеснялась пользоваться его умом и знаниями в собственных целях. Да и не такой уж он и робкий – просто, в отличие от нее, не лезет на рожон. В общем, они были хорошей парой. И если сначала Томка прикрывала приятеля, то потом, в старших классах, именно благодаря Димке она смогла чувствовать себя первой и главной – еще бы: маленькая Тигра не блистала особой красотой, но зато у нее был парень, да какой! Димка вытянулся, возмужал, его спокойная уверенность привлекала девчонок, к которым он относился с легкой снисходительностью: мало кто из юных красоток осмеливался строить ему глазки, помня о вспыльчивом характере его официальной подружки. Совершенно неожиданно Димка вдруг оказался впереди всех, даже Томки, по физике, а потом и по информатике. В этом тоже были виноваты братья Стругацкие, благодаря которым Димка заинтересовался научной фантастикой и устройством мироздания.
А произошла эта судьбоносная встреча так: Димка возвращался из районной библиотеки – читал он много, бывал там часто, и библиотекарша, горбатенькая Нина Васильевна, его уже хорошо знала. Она разрешала мальчику брать семь книжек вместо положенных пяти, хотя и удивлялась порой выбору этого худенького светловолосого паренька, решительно отвергавшего детские книжки, норовившего прихватить что-нибудь, не очень подходящее к его десятилетнему возрасту, и особенно интересовавшегося поэзией: первым делом Димка попросил у потрясенной библиотекарши Тютчева! Он, правда, не знал, что это Тютчев, просто прочел запомнившуюся строчку: «Мысль изрече́нная есть ложь – вы не знаете, кто это сочинил?» Уж очень ему нравилось слово – «изрече́нная»!
Димка брел к остановке автобуса, читая на ходу – он уже второй год ездил в район самостоятельно. Ему оставалось свернуть за угол, как вдруг книжка вылетела из рук – местные мальчишки окружили его кольцом. Настроены они были воинственно, и Димка понял, что дело плохо. Он опасался не столько за себя, сколько за книжки, которые разлетелись по кустам. Били его часто, обычно он старался убежать, но тут стал защищаться. Неизвестно, чем бы дело закончилось, если бы проходивший мимо мужчина не разогнал хулиганов.
– Ты как? – спросил он, разглядывая Димку, у которого из носа шла кровь, и дал ему платок.
– Нормально, – буркнул Димка.
– Молодец, не струсил! Один против шестерых! – Димка не стал уточнять, что не убежал он только из-за библиотечных книг. – Но слабоват ты, брат. Спортом-то совсем, что ли, не занимаешься? А надо бы! Ты ж мужчина! У меня вон сын, чуть постарше тебя, на карате ходит.
– Да меня не возьмут! Сами же говорите – слабый…
– А там особая сила не нужна. Это ж не бокс! А ловкость у тебя есть и координация движений хорошая.
Мужчина помог собрать книжки, и только дома Димка заметил, что их восемь, а не семь. Восьмая, которую он не брал в библиотеке, – без обложки и первых листов, довольно потрепанная. Откуда она взялась?! Содержание было напечатано в конце, Димка прочел: «Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. Трудно быть богом». «Понедельник» не произвел на него особого впечатления – так, забавно, конечно. Но вот «Трудно быть богом»! Димка прочел раз, другой, третий…
И в конце концов выучил почти наизусть. Он заболел этой книжкой, жил ею. Дон Румата стал для Димки образцом: если Румата смог существовать среди диких и невежественных аборигенов Арканара, то чем он сам хуже! У Димки открылись глаза – всю жизнь он чувствовал себя не в своей тарелке, словно инопланетянин, оказавшийся в чуждом и враждебном мире, и спасался, как мог. Но теперь… теперь он сам стал благородным доном Руматой! Несколько лет он играл в Арканар, потом перерос. Но фундамент его личности уже был заложен.
Он все-таки записался на карате и сам дома потихоньку накачивал мышцы: такого меча, как у дона Руматы, у него не было – надо было обходиться собственными силами. Первым делом он, конечно, прочитал все, что смог найти, о карате и понял, что их обучают не совсем тому искусству, о котором написано в книгах, а более простому и примитивному. Он постарался взять все, что возможно, от мастера, который не заморачивался никакими философскими понятиями и совершенствовал в основном тела своих юных учеников, надеясь, что с душами они как-нибудь сами разберутся.
А Димка выучил наизусть слова Гитина Фунакоси, популяризатора карате в Японии, судьба которого его поразила – тот тоже в детстве много болел и был очень слабым: «Как полированная поверхность зеркала отражает все, что находится перед ним, а тихая долина разносит малейший звук, так и изучающий карате должен освободить себя от эгоизма и злобы, стремясь адекватно реагировать на все, с чем он может столкнуться».
Димка не достиг в карате никаких особенных успехов, потом и вовсе забросил, но приобрел несокрушимую уверенность в себе и жил дальше в полном соответствии со словами Эрнеста Хемингуэя, которые Стругацкие взяли эпиграфом к своему роману: «Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах» – примерно так. Оружие действительно было всегда при нем – невидимое, но мощное: сознание собственной силы.
К пятнадцати годам он прекрасно вписался в окружающую действительность: научился и лихо свистеть, и шикарно сплевывать, и даже материться, когда надо, поддерживая идиотский разговор какого-нибудь Кузяева. Зрелище вечно поддатого отца отвращало его от пьянства, но пили все, и Димка…
…и Димка попробовал как-то водку: они сидели на берегу пруда, закуски почти не было, бутылки передавали по кругу, он глотнул раз, другой, третий – в голове как-то помутилось, и, увидев, что Кузяев облапил недовольную Варьку, вскочил и врезал тому ногой в грудь. Кузяев опрокинулся на спину, но быстро поднялся и пошел, матерясь, на Димку:
– Ну ты, Ван Дамм хренов! Сейчас получишь!
Димка ударил еще раз, уже рукой, потом опять ногой…
– Дон, перестань! Димка, ты что! – кричали перепуганные девчонки. – Да оттащите же его!
Наконец, навалившись сзади, двое парней постарше скрутили его. Кузяев лежал не шевелясь. Варвара опустилась на колени и пригнулась, вглядываясь, но тут же отскочила, зажав рот рукой. Все молчали. Димка, протрезвев, с ужасом смотрел на бездыханного Кузяева – упав, тот попал виском на камень.
– Да ты ж убил его! – сказал кто-то, и Димка…
…и Димка виртуозно делал вид, что пьет наравне с парнями пиво или водку, хотя плохо переносил даже запах алкоголя: первый же опыт чуть не окончился трагически, и он избегал, как мог, спиртного.
У них сложилась своя небольшая компания: Томка, уверенно идущая на золотую медаль; Варя Абрамова, вечная школьная чемпионка чуть не во всех видах спорта; сам Димка – победитель физических олимпиад и умелый наладчик еще немногочисленных школьных компьютеров; Наташа Федотова – главная школьная певица, не сильно, правда, блещущая умом и красотой; Игорь Котов, бывший Варькин сосед, который вместе с матерью перебрался в Москву, но все каникулы проводил в Филимонове… Ну, и еще кое-кто, по мелочи.
Димку давно уже не считали робким или малахольным – сдержанный, молчаливый, слегка замкнутый, но вполне свой парень, да еще с гитарой! Выучился Димка по самоучителю, и гитара не раз спасала его в разных ситуациях, особенно в армии, где, впрочем, очень даже пригодились все его «руматовские» навыки: умение уклоняться от драки и уходить от опасности – в общем, не нарываться на неприятности.
От женитьбы на Тигре он уклониться не смог – все только и ждали этой свадьбы, даже бабушка, которая мечтала понянчить правнуков. Димка надеялся отложить это дело до возвращения из армии, но Томка уперлась, а он привык соглашаться, так всегда было проще. Сыграли пышную свадьбу, на которой все, как водится, перепились, а кое-кто и подрался. Димка стоически вытерпел всю эту суету, хотя целоваться с невестой у всех на виду ему не сильно нравилось.
Первый раз они с Тигрой поцеловались в девятом классе. И то, если б не учительница литературы, может, и не раскачались бы. Старая – действительно старая! – учительница умерла летом, и прислали новою, молодую, рьяную и очень язвительную особу, которая тут же разнесла в пух и прах систему преподавания своей предшественницы. Прежде Димка литературу игнорировал: читал он явно больше, чем Марь Семенна, сочинение мог написать одной левой – и Томке заодно, поэтому чаще всего читал под партой что-нибудь свое. Новая литераторша с дивным имечком Виолетта Трофимовна, тут же прозванная Фиалкой, сразу положила глаз на Димку: без конца вызывала, приставала с вопросами, разбирала по косточкам его сочинения. Он не понимал, в чем дело, но Тигра просекла мгновенно:
– Да она в тебя втюрилась!
– Обалдела, что ли?! – возмутился Димка, хотя ему тоже что-то такое мерещилось. Но Томка своим женским чутьем прекрасно все «унюхала», тем более что ее саму Фиалка всячески третировала: ревнует, стерва! Как Димка ни старался быть незаметным, он все же выделялся на общем фоне: собранный, подтянутый, сосредоточенный, умный, начитанный – он казался старше одноклассников. Да и весьма привлекательный, если приглядеться: стройный, светловолосый, с правильными чертами лица и выразительным взглядом, чаще всего несколько ироническим.
Именно благодаря Фиалке Димка и получил свое прозвище. Они с Тигрой неосторожно опоздали на литературу, и Фиалка приветствовала их появление язвительным: «А вот и наш Дон Кихот со своей верной Санчо Пансой! Что, сражались с ветряными мельницами?» Действительно, Димка и маленькая Тигра смотрелись рядом забавно, чем-то и правда напоминая парочку, созданную Сервантесом. Тигра чуть не зашипела, а Димка слегка поклонился Фиалке и сказал: «Вряд ли я тяну на Дон Кихота, Виолетта Трофимовна. Так, Дон Артемио, не больше». Класс захохотал, и к Димке тут же прилип этот «Дон Артемио», постепенно сократившийся просто до Дона. Он не возражал. А вечером того же дня…
Вечером того же дня они с Фиалкой нечаянно столкнулись на лестнице: Димка налетел на нее, не вписавшись в поворот, она оступилась, изящная туфелька с высоким каблуком соскочила и покатилась вниз по ступенькам. Димка бросился следом, поймал и торжественно понес Фиалке, которая стояла на одной ноге, как цапля.
– Простите, Виолетта Трофимовна! Я нечаянно! – сказал он, опустился на колено и надел туфельку на ее стройную и длинную ногу, которую ему снизу было видно почти до бедра. Надел и, чувствуя себя Доном Руматой, провел ладонью по гладкому прозрачному чулку – до колена. А потом легко поднялся и взглянул ей в глаза: вся красная, Фиалка растерянно моргала, а он…
Вечером того же дня они с Тигрой впервые поцеловались в школьном саду. Никакой особенной страсти Димка не почувствовал, и дальше поцелуев они не продвинулись. И если бы Томка знала, что именно думает Димка по поводу их возможной физической близости, то расстроилась бы невероятно. А ему это представлялось чем-то вроде кровосмешения, не иначе: он привык воспринимать Тигру как родного человека, практически сестру, хотя все вокруг с детства прочили их друг другу. Томкина неожиданная активность его несколько смущала, но как он мог ее оттолкнуть?! Ее, такую самолюбивую, обидчивую, обуреваемую многочисленными комплексами? Он на самом деле видел Тигру насквозь. Да и не так уж это было неприятно, честно говоря! Даже наоборот. Но женщины вообще-то ему нравились совсем другие: высокие, длинноногие, длинноволосые. Ну да, такие, как Фиалка! Сущая стерва, она тем не менее порой снилась Димке в романтических, а то и вполне эротических снах – преображенная силой его фантазии, прекрасная, нежная и страстная.
Конечно, теоретически они с Томкой представляли себе, что к чему. Свою первую ночь оба потом вспоминали со смешанным чувством, которое хорошо выражает известная поговорка «и смех, и грех»! Но как-то справились, несмотря на то что у Димки все время вертелись в голове наставления пьяного в дым отца, изложенные простым русским матом – Димку всегда тошнило от этой похабщины. Хорошо, что дед Шило, увидев выражение лица жениха, быстренько увел отца: пойдем, выпьем за молодых!
Поженились, потом Димка отслужил, Томка его дождалась, он выучился на программиста, Томка – на экономиста, Димка нашел хорошую работу в московской фирме по установке охранных систем, она – в банке районного центра, потом родилась Катька, которую бабушка все-таки успела понянчить. Димке иной раз казалось, что именно бабушка и держит их с Томкой брак: один раз ему даже приснилось, что они с Тигрой стоят посреди комнаты с Катькой на руках, а бабушка старательно заворачивает их в прозрачную упаковочную бумагу и перевязывает красной ленточкой – как букет!
Димка прекрасно знал, почему бабушка так ратовала за их брак с Томкой. Давно знал. Когда он еще был маленьким, бабушка часто ходила в гости к деду Шило – Александру Петровичу Шилову, Томкиному дедушке. Он жил один в старом, потихоньку разваливающемся доме. Бабушка надевала чистую кофточку, повязывала нарядный платочек – прихорашивалась. Димка сначала не понимал, почему мать с отцом и сестры над ней подсмеиваются, потом догадался: у бабушки с дедом Шило – любовь! Такая, как в романах – он прочел парочку, стащив у сестер. Правда, в романах герои были молодые и красивые, а бабушка с дедом Шило уже старые и морщинистые, особенно дед Шило, весь сморщенный, как печеное яблоко. Тигру они с собой никогда не брали, вдвоем ходили. Навстречу им вылетал дедов Трезор – маленький лохматый песик, который заливался лаем и прыгал, норовя лизнуть в нос. Димка каждый раз волновался, когда дед Шило выходил на крыльцо и спрашивал:
– Никак Поля пришла?
– Ну да. Здравствуй, Саша! – отвечала бабушка, и лицо ее расцветало, молодело, заливалось нежным румянцем, и дед Шило тоже улыбался счастливой мальчишеской улыбкой. Димка смотрел не дыша – это было так красиво! И почему надо над этим смеяться?! Бабушка с дедом долго пили чай с пастилой и разговаривали, иногда дед доставал графинчик с вишневой наливкой, и тогда, немного выпив, они пели слабыми старческими голосами, а Димка слушал: «Вот кто-то с горочки спустился, наверно, милый мой идет… На нем защитна гимнастерка… Она с ума меня сведет!» Или «Окрасился месяц багрянцем». Но особенно дед Шило любил песню, которую пел Марк Бернес – у Артемьевых была такая пластинка, и бабушка часто ее заводила:
Мне тебя сравнить бы надо С песней соловьиною, С майским утром, с тихим садом, С гибкою рябиною. С вишнею, черемухой, Даль мою туманную, Самую далекую, Самую желанную!Потом, научившись играть на гитаре, Димка сам пел для бабушки: «Как это все случилось, в какие вечера? Три года ты мне снилась, а встретилась вчера…» – И бабушка вытирала слезы платочком. Если старики не пели, Димка убегал во двор и носился там наперегонки с Трезором или заглядывал в дедову мастерскую – тот был сапожник. Колодки, разбойничьего вида ножи и шильца, разноцветные куски кожи, деревянные гвоздики, дратва, готовые нарядные туфельки – все это хозяйство так занимало Димку! Дед дарил ему то деревянные гвоздики, то металлическую подковку на каблучок, а то и маленький обрезок остро пахнущей кожи, приговаривая:
– Эх, какое шевро! Мягкое, что твой шелк! Разве сейчас такое найдешь! А это, гляди, опоек! Чувствуешь, гладкая какая?
Димка порой мечтал, чтобы они с бабушкой ушли к деду Шило жить. Как было бы хорошо! Деревянный дом, большой участок с яблонями-вишнями, веселый Трезор, толстый ленивый кот Мурзя, которого Димка каждый раз радостно тискал, а тот только вяло помахивал хвостом. Пожалуй, Димка тогда тоже стал бы сапожником… Но дед Шило быстро развеял его мечты:
– Эх, малый! Кончились все сапожники! Это я так, по старой памяти – кому набойки набить, кому стельку вклеить, а туфель-то почти никто и не заказывает. Все ж теперь купить можно, и дешевле гораздо. А что покупают-то?! Одни слезы! Ни кожи тебе настоящей, ни работы – так, картон на клею! Так что и не мечтай. Никому мы теперь не нужны.
Поэтому Димка понимал, отчего бабушке так хочется, чтобы хоть он породнился с Шиловыми. Однажды спросил – деда Шило уже не было в живых:
– Бабуль, а почему ты не ушла к деду Шило? К Александру Петровичу? Ведь ты его любила, правда? И он тебя? Он один, ты одна – чего было не жить вместе?
– Да как я могла-то, что ты! На мне ж все хозяйство, весь дом. Да и какая любовь на старости лет! Поздно, сыночка. Поздно, – и вздохнула.
Бабушка овдовела очень давно, Димки еще и на свете не было. А похороны супруги деда Шило он даже смутно помнил. Бабушка немножко рассказывала ему про свою жизнь, когда он был маленький. Как же Димка потом жалел, что мало сохранил в памяти. Когда стал сознательно выспрашивать, бабушка уже не помнила подробности, а записал всю историю Димка только после ее смерти, сведя воедино отрывочные воспоминания и рассказы, которые слышал от родных. Он сам не знал, зачем это делает, но давно уже потихоньку копил разные сюжеты, словно про запас. А уж бабушкина жизнь тянула на целый роман.
Полине было всего шестнадцать лет, когда приехавший в село «уполномоченный», как называла дедову должность бабушка, присмотрел ее себе в жены – юная, но крепкая и справная, хоть и небольшого росточка, зато домовитая – старшая дочь в семье, где мал-мала меньше. Присмотрел и увез на другой конец Московской области, под Можайск. В родной деревне бабушка больше не была ни разу в жизни и никогда не узнала, что стало с ее семьей.
Привез ее муж к своей матери и… своим детям: Санечке уже восемь исполнилось, а Машеньке – всего полтора. Мать их скончалась, как Поля решила, при родах – только гораздо позже дошли до Полины смутные слухи, что умерла ее предшественница вовсе не от родов, а от побоев ревнивого мужа. «Старый муж, грозный муж» действительно был и грозным, и ревнивым, и старым – по сравнению с юной Полечкой: Ефиму Савельичу было под сорок. Бабушка так его всю жизнь и величала: Ефим Савельич и на «вы».
К началу войны, когда немцы заняли деревню, у двадцатисемилетней Полины было на руках четверо детей и больная свекровь – «уполномоченный» муж дома бывал редко, занятый своими важными делами. Санечка, которому уже исполнилось девятнадцать, ушел на фронт и погиб потом на Курской дуге. Машеньке – двенадцать с хвостиком, и трое собственных детишек: Колечка и Ванечка, десяти и восьми лет, да крошечная, еще грудная Галинка, родившаяся перед самой войной, – будущая Димкина мама.
Про то, как жили «под немцами», бабушка не любила рассказывать, но проговорилась, что поначалу немцев даже ждали, надеясь, что они отменят колхозы. Всякое было – то «кур, млеко, яйки» отбирали, а то и шоколадкой детей угощали в честь ихнего Рождества. От деревни не осталось ничего – то, что не успели сжечь немцы, сгорело потом во время жестоких боев. В 1942 году дед забрал всех в Филимоново, где им, как полным погорельцам, дали полдома – вместе с Шиловыми. Это потом они разъехались по разным квартирам кооперативного дома. А дед Шило с женой остались.
– Она хворала много, – рассказывала бабушка Димке. – Слабая была, как осенняя муха. Ну, я и помогала им по хозяйству, как могла. Ефиму Савельичу это, конечно, не нравилось, так я потихоньку. Он после войны шибко пить начал, потому как контуженный.
– Он на фронте был?
– Да вроде не был, сыночка. Он же уполномоченный! Важный человек.
Судя по всему, «важный человек» не только пил по-черному, но и поднимал руку на кроткую жену, подозревая ее во всех смертных грехах: и что с соседом путается, и что «под немцами» была и неизвестно как выжила. Старший сын пытался как-то защитить мать, за которой отец гонялся с топором, но не справился, и Ефим чуть было не отрубил ему руку в горячке. Машенька всех этих страстей не выдержала и повредилась рассудком – повесилась в сарае, после чего Ефим совсем слетел с катушек, и, если бы не товарняк, под которым он нашел свою пьяную смерть, неизвестно, какой трагедией это бы все закончилось.
Димка слушал, ожесточаясь сердцем против давно покойного деда, о котором часто думал: ведь в его собственных жилах текла и дедова кровь! И отцовская… Именно поэтому он избегал, как мог, спиртного, поэтому и в драки никогда не лез – боялся собственной ярости, вскипавшей ключом. А гибель деда он хорошо себе представлял! Видел ярко и вполне реально, особенно сцену на железнодорожном переходе: хотя бабушка не проговорилась ни словечком, Димка со временем уверился, что Ефим не сам попал под поезд. Димка видел, как из электрички…
Из электрички на пустую платформу вышли двое мужчин. Ефим едва держался на ногах, и Шилов, оглянувшись по сторонам, пошел за ним и нагнал Ефима у края дощатого настила, лежащего на шпалах: давай, брат, помогу! Они медленно побрели на ту сторону – товарняк грохотал уже совсем близко. Шилов чуть придержал шатающегося Ефима, а потом с силой толкнул под колеса локомотива. И скрылся во тьме…
Когда Димка додумался до этого и попробовал расспросить бабушку, она уже ничего не могла вспомнить, да и мало кого узнавала. Только Димку – всегда. Бабушка осталась одна в квартире Артемьевых – отец к тому времени умер, сестры разъехались, и Аня, старшая, забрала мать к себе. Бабушка оказалась никому не нужна, но Димка встал на дыбы, когда сестры предложили сдать ее в дом престарелых: ни за что. Томка категорически отказалась ухаживать за бабушкой: меня тошнит от ее запаха! – хотя Димка никакого особенного запаха не ощущал.
Бабушка всегда была очень чистоплотной, всегда старалась не доставлять никому лишних хлопот – кроткая, тихая, незаметная, с вечно извиняющейся улыбкой на морщинистом лице. Сначала Димка как-то справлялся, потом Варя Абрамова сама предложила ему помощь, и он с благодарностью принял – знал, как нелегко приходится ей с собственной сумасшедшей матерью. А потом бабушка умерла, и сразу все стало как-то… не то чтобы разваливаться…
Потеряло устойчивость!
Димка начал задумываться: «Неужели это и есть вся моя жизнь?!»
Семья, ребенок, работа…
По выходным – бесконечные домашние дела…
Ребенок! Он не очень понимал, как обращаться с дочкой – такая крошечная, хрупкая, беззащитная, что порой горло перехватывало от умиления. Димка разговаривал с ней, как со взрослой, помня себя в детстве, но Катюшка была совсем не такая, как он: бойкая, уверенная в себе, упрямая, храбрая. Димка с некоторым сожалением (но и с облегчением!) узнавал в дочери материнские черты характера, хотя внешне она была полной его копией: светлые волосики, ясные серые глаза. Видел он дочку редко: выходил из дома в полседьмого, приезжал поздно вечером – только в выходные удавалось погулять или поиграть вместе. По субботам и воскресеньям Дима сам укладывал Катюшку спать – девочка засыпала с трудом, и он долго сидел рядом: читал книжки, рассказывал сказки, сочиняя их на ходу, любовался румяной сонной мордочкой, целовал в тугую щечку, вдыхая сладковатый родной запах…
Дорога отнимала у него четыре часа каждый день. Конечно, только в дороге он и читал, да еще на ночь успевал пролистать пару страниц какого-нибудь поэтического сборника. И что, это вся его жизнь?! Нет, конечно, собирались по праздникам друзья, пели, валяли дурака – но все реже и реже: у всех были свои проблемы, свои заморочки…
На одно из таких сборищ Варька Абрамова пришла с приятелем, который скромно отрекомендовался поэтом. Славик Усольцев. Димка во все глаза смотрел на человека, так легко нацепившего на себя это высокое звание, потом подсел, разговорился. У того при себе и книжка оказалась – Димка почитал. Кончилось тем, что они чуть было не подрались, в такой раж вошли на почве поэзии.
Сам Димка давно уже ничего не сочинял – со школы. Но и тогда собственные вирши казались ему несовершенными и жалкими – одно расстройство! Несколько своих стихотворений, он, правда, пел под гитару: в сочетании с музыкой, тоже довольно примитивной, они вполне сходили за бардовские песни. Поэзия представлялась Диме таким святым и возвышенным делом, что его покоробили первые же прочитанные в тощей книжонке строфы: без знаков препинания, без соблюдения размера, с вкраплениями матерных слов.
– Да ты ретроград, брат! – сказал снисходительно Усольцев, подцепляя на вилку кусок красной рыбы. Он выдавил на рыбку сок лимона и, чуть ли не с нежностью оглядев, отправил в рот. – Это новая форма, теперь все так пишут. Вон англичане вообще от рифмы отказались. С рифмой-то любой дурак может. Главное – суть! Вникнуть надо, понять, почувствовать…
– Понять – это точно! Твои стихи разгадывать нужно, как кроссворды! И чем тебе помешали знаки препинания?! Или ты неграмотный? – Сам Димка писал на редкость грамотно, остро чувствуя необходимость каждой запятой, правда чудовищным почерком, разбирать который было одно мучение, поэтому всегда получал тройки по русскому.
– Слушай, чего ты прицепился? Дай спокойно пожрать! – довольно миролюбиво ответил Усольцев, наваливая в тарелку еще порцию салата.
– Да потому, что это не поэзия! Это не из души идет, а… одно словоблудие! Ты просто… выпендриваешься! – Димка незаметно для себя выпил рюмку водки, поэтому выразился гораздо более крепким словом, хотя всегда избегал мата.
– Это я… выпендриваюсь?! – взвился Усольцев. – Да это поэзия чистейшей воды! Понимал бы!
– Как ни странно, кое-что понимаю!
– Да конечно! Для тебя небось Пушкин – вся поэзия! А то, что был, например, Хлебников, тебе известно?! Это что, не поэзия?! Или Крученых?!
– Да ты сам-то Хлебникова читал? Или того же Крученых?!
– Представь себе, читал! А вы все застряли на ваших Тютчевых и Фетах! Ахматова ваша! «Нарцисс в хрустале у меня на столе» – это, по-твоему, поэзия?!
– Не помню, кто сказал, что поэзия – это исповедь водного животного, которое живет на суше, а хотело бы в воздухе…
– И что?!
– А то, что твоя так называемая поэзия это просто исповедь животного! Которое знать не знает ни о каком воздухе!
– Да какого черта?! Кто ты такой, чтобы судить о моей поэзии?!
Димка открыл было рот, но наткнулся взглядом на бледную Варьку, растерянно комкавшую бумажную салфетку, и осекся: «Что это я?!» Он огляделся – все затихли и смотрели на него с некоторым изумлением: впервые он так завелся перед друзьями. Димка встал и вышел на кухню, а пришедшая следом Томка выразительно покрутила пальцем у виска и сказала:
– Нет, как ты был малахольным, так и остался! Чего тебя понесло! Никому ж не интересно!
– А что вам интересно?! Про Пугачеву с Киркоровым?! – Он никак не мог успокоиться и сбежал на лестничную площадку, где добрая Федотова поделилась с ним сигаретой. Димка курил очень редко, но сейчас не мог удержаться: Усольцев оскорблял его самим фактом своего существования. Потом он просил прощения у Варьки – господи, и где она только нашла этого придурка?!
– Да ладно, не переживай. Я сама вижу, какое это сокровище. Где ж мне такого-то, как ты, найти? – грустно сказала Варя, поцеловала Димку в щеку и ушла вслед за демонстративно хлопнувшим дверью Усольцевым. А Дима со вздохом раскаяния ярко представил Варькино существование – сумасшедшая мать, беспросветное одиночество, жалкие попытки наладить личную жизнь, тающая с годами надежда на нормальную семью. И книжку-то эту несчастную она сама издала, за собственные деньги!
Варька была хорошим, верным другом, почти сестрой, и Димка иной раз заходил к ней, гуляя с дочкой, которая обожала и саму «тетю Варю», и тети-Варину кошку, и тети-Варины пироги. А Дима отдыхал душой у Варвары: ну почему Тигра не может быть такой, как Варька?! Почему ей все время надо шипеть и выпускать когти?! Он так уставал от бесконечных словесных баталий с женой и все чаще просто отмалчивался. И ладно бы они ссорились! Нет, это были вовсе не ссоры: Томка все время ехидничала, все время оттачивала на нем свое остроумие, и добиться от нее простого ответа на прямо поставленный вопрос было невозможно – она сразу бросалась в атаку!
– Том, я только спросил! Ты не могла просто сказать «да»?! – стонал он.
– Не-а! – Томка улыбалась, глядя на него такими невинными зелеными глазами, что так и хотелось стукнуть по макушке.
А с Варькой можно было разговаривать. Иногда Варвара сама звала его в гости, когда у матери сильно съезжала крыша: почему-то Дима хорошо на нее действовал. Мать вообще успокаивалась в мужском присутствии – видимо, чувствовала себя под защитой. Димка не пугался и не ужасался, выслушивая ее безумные речи: ему было интересно! Он поражался необузданному воображению, все время создающему параллельную действительность: мать Варьки жила в своем, выдуманном мире, полном фантасмагорических опасностей и тревог – как будто в реальности их не хватало. И Димка чувствовал, что есть сходство между ее безумием и его собственным постоянным творческим процессом, пока не нашедшим выхода, – просто он сам способен отделять вымысел от реальности.
В книжке, которую «великий поэт» забыл у них дома, была ссылка на страницу Усольцева в Интернете. Так он открыл для себя самиздат. Димка и не предполагал, что существует такое количество пишущего народа! Кто ж читать-то станет, если все пишут? Полазил по страницам, где-то ужаснулся, где-то посмеялся, кое-что тронуло. Он стал читать современных поэтов, которых совсем не знал. Постепенно привык и к отсутствию рифмы со знаками препинания, и к рваной строке. Даже понял, что именно так раздражало его в поэзии Усольцева: не форма, а содержание. Оказалось, что литературная жизнь в столице кипит и бурлит – поэтические вечера, литературные кафе, конкурсы и премии.
Впервые Димке пришло в голову, что вместо того, чтобы подлаживаться под окружающий его «Арканар», нужно было искать свою собственную среду, свой мир, где бы он не чувствовал себя инопланетянином. До сих пор Димка очень хорошо знал, чего не хочет – быть таким, как «арканарцы». Но чего же он хочет на самом деле? Кто он такой? Поэт из него не вышел… Читатель – и все. Но чувствовал, что прибедняется перед самим собой – внутри у него словно кипела ищущая выхода лава. Начать писать прозу? Пополнить собой армию графоманов самиздата? Издавать книжонки за свой счет, как Усольцев?!
Димка закинул удочку насчет переезда в Москву – если он не будет столько времени тратить на дорогу, может, сумеет как-то влиться в эту литературную тусовку? Найдет таких же инопланетян, как он? Зарабатывал Димка хорошо, так что Артемьевы смогли кое-что накопить, хотя Тома почти три года не работала, сидя с Катюшкой. Продав обе квартиры, они вполне могли что-нибудь приобрести в Москве, пусть и не в центре. Но Томка отказалась категорически:
– Тут у меня все схвачено, я на хорошем счету, есть перспектива развития, а что я буду делать в Москве?! Все заново начинать?! Да там таких, как я, – миллион!
Тигра была, конечно, права. Как всегда. Но ему-то как быть? И дальше задыхаться в этом «Арканаре»?!
– А давай лучше переедем в район? – сказала Томка, облизывая ложку: она обожала клубничное варенье. – Смотри-ка, засахарилось! Надо доедать, скоро нового наварим. Будешь?
Димка отмахнулся, отодвинув чашку с чаем.
– В район?!
– А что? Там жилье дешевле. Эту квартиру можно продать, а вторую – бабкину – оставить: будет вместо дачи. Летом-то тут хорошо!
Димка затосковал. Он понимал, что Томке это выгодно – работа рядом. И если здраво рассудить, в этой идее был смысл: там и детский сад приличный, и школа, да и вообще какая-никакая, а цивилизация, не то, что здесь. Но ему-то тогда придется еще больше времени тратить на дорогу! Райцентр был дальше от Москвы, хотя электричек там останавливалось больше, чем в Филимонове. Он представил себе райцентр – пыльный, бестолковый, с жалкими подобиями клумб на плешивых газонах. Здесь он ходил пешком до электрички – через старый парк давно исчезнувшего имения: весной там обильно цвела черемуха, летом – шиповник и жасмин, осенью сияли золотом клены, пели птицы… А в райцентре до станции придется ехать на автобусе…
– А может, ты тоже тут работу найдешь? Наверняка! И в Москву ездить не надо.
Нет! Только не это! Димка вдруг осознал, что именно четыре часа дороги и дают ему возможность отрешиться, побыть с самим собой, поразмышлять… помечтать. То, что он про себя называл «помечтать», было постоянной и нескончаемой работой воображения, словно в голове у него тарахтел вечный двигатель, генератор образов и сюжетов, пока не находивших себе выхода. Они с Томкой даже слегка поругались: ни один не желал уступать другому. Потом помирились, конечно. Куда деваться! А через месяц Димка уехал в командировку в Петербург, где случайная встреча у разведенного моста изменила его жизнь навсегда.
Глава 4 Женщина с ветром в волосах
Через сорок восемь часов после судьбоносной встречи у разведенного моста женщина, изменившая имя и жизнь Дмитрия Артемьева, стояла на платформе Московского вокзала и смотрела в хвост поезда, увозившего в столицу бывшего Диму – теперь Митю. Она улыбалась, прижимая к себе большой букет белых роз, и все время притрагивалась пальцами к губам, на которых постепенно остывал их первый с Митей поцелуй…
Весь день они провели, гуляя по Петербургу: Петропавловка, Троицкий мост, Летний сад, Марсово поле, Дворцовая набережная, Адмиралтейство, Исаакий… Покатались на катере по рекам и каналам, а из всех музеев зашли только на набережную Мойки, 12, – к Пушкину, причем оказалось, что Лёка там впервые.
– Как это тебе удалось?! – удивился Митя.
– Сама не знаю! Когда в школе экскурсия была, я болела, а потом то ремонт в музее, то санитарный день, то еще что…
Они постояли молча в кабинете, глядя на черный диван, на котором умирал Пушкин, потом Митя спросил:
– А здесь? Ты чувствуешь его? Как тогда в Лицее?
Лёка прислушалась к себе, подумав, что сейчас, пожалуй, она никого, кроме Мити, и не способна чувствовать.
– Не знаю… А ты?
– Мне кажется, я чувствую ее… Натали!
– А как ты к ней относишься? Цветаева не любила Гончарову! И Ахматова, кажется…
– Ревновали! Какая бы Натали ни была – Пушкин-то ее любил.
Митя честно держался в установленных Лёкой рамках и не «давил» на нее, но так откровенно любовался, так ласкал взглядом, что она все время чувствовала себя словно рядом с разгорающимся огнем: тепло, жарко, горячо, еще чуть-чуть – и можно вспыхнуть самой.
– Перестань! – краснея, говорила Лёка, глядя в его смеющиеся глаза.
– А разве я что-то делаю?
– Ты смотришь! И думаешь!
– Это не подвластно мне, дорогая!
Время от времени Митя прикасался к ней, слегка обнимая за плечи или за талию – на пару секунд, очень естественно и невинно, а потом просто взял за руку. И Лёка не отняла. А вечером Митя повел ее в ресторан – они уже совсем не чуяли под собой ног.
– Ничего, сейчас отдохнем! Закажем что-нибудь грандиозное. Ты какое вино предпочитаешь? Или, может, шампанское? Сам-то я не пью.
– Совсем не пьешь?!
– Ну, могу полбокала белого.
– Тогда и я белое. А денег-то у тебя хватит на грандиозный ужин?
– Хватит, не волнуйся.
Они вошли в вестибюль, и Лёка вдруг увидела, что навстречу им из полутьмы движется какая-то пара. Она успела подумать: «Боже, какие прекрасные!», но тут же поняла, что один из них – Митя. Себя не узнала – эта удивительно красивая женщина «с ветром в волосах» и сияющими глазами никак не могла быть ею! Такой могла быть только Леа! Приоткрыв рот, Лёка с недоумением таращилась в зеркало, а Митя обнял ее за плечи и быстро, пока не успела опомниться, поцеловал в висок:
– Ну? Теперь ты видишь?!
– Что? – растерянно спросила Лёка, не в силах оторвать взгляд от волшебного стекла.
– Что мы – пара!
Так же, как при первой встрече, они «рифмовались» одеждой: светлые джинсы и темная рубашка Мити, черные брюки и светлая блузка Лёки. И хотя трудно было найти прямое внешнее сходство между коротко стриженным белокурым сероглазым мужчиной и длинноволосой брюнеткой с яркими карими глазами, они все же были удивительно похожи, как бывают, например, похожи две собаки или кошки одной породы. Менеджер страшно суетился вокруг них, выбирая лучший столик, и лучезарно улыбался, пожирая Лёку глазами, а потом вдруг принес большую красную розу:
– Это для вашей девушки! От заведения! Вы, наверно, молодожены? Это так заметно! Поздравляю!
– Спасибо, – серьезно ответил Митя, а когда менеджер отошел, сказал, улыбаясь: – Видишь, даже он понял, что ты моя девушка!
Лёка взглянула на розу, потом на Митю и залпом выпила бокал вина – в горле совсем пересохло. Она и в самом деле чувствовала себя невероятно юной – лет двадцать, не больше.
– Знаешь, меня всегда коробило это обращение: «дорогая»! – сказала она, вертя в пальцах ножку пустого бокала. – Дорогие товарищи, дорогие коллеги… Сухо, заезжено…
– Если тебе неприятно, я не стану!
– Нет! Мне нравится, как ты это произносишь, правда! Как-то очень интимно. И нежно. Словно ты первый придумал. И я сразу чувствую себя… драгоценностью.
– Так и есть.
Лёка вдруг вспомнила, что приснилось ей в первое утро их знакомства, и снова покраснела. Они просидели целую вечность в этом ресторане. Розу, конечно, так и забыли на столике, но Митя сказал, что хочет сам купить ей цветов. Напоследок они медленно прогулялись по Невскому.
– От вокзала ты непременно возьмешь такси! – настаивал Митя.
– Ладно. – Лёка послушно кивнула.
– У тебя есть деньги на такси? Давай я дам?
– У меня есть…
– И ты сразу позвонишь мне, как только доберешься до дома?
– Хорошо…
– А я позвоню тебе из Москвы! Нет, это будет очень рано, я пришлю смс, чтобы не будить.
– Да…
На вокзале среди спешащих пассажиров они оба заволновались, не зная, как прощаться. Проводница проверила Митин билет, и они отошли в сторону – Митя бросил сумку на асфальт, положил на сумку мешавший букет и решительно обнял Лёку. Обнял, посмотрел в глаза и поцеловал. И в ту же секунду для нее все пропало – вокзал, поезд, платформа, пассажиры, сумки и чемоданы, проводница в форме… Петербург с Адмиралтейством и Исаакием… Не осталось ничего, кроме бешеного стука сердец и яростных Митиных губ. Земля уходила у Лёки из-под ног, и она изо всех сил уцепилась за Митю, так же пылко отвечая на его поцелуй. Когда он оторвался от Лёки, она была почти в обмороке.
– Дорогая… Я буду звонить тебе при любой возможности! И приеду, как только смогу! – горячечно шептал Митя, целуя закрытые глаза Лёки, дрожащую на виске жилку, пылающие щеки и вздрагивающие губы. – А почта! Я же забыл узнать твой e-mail! Пришли мне смс, хорошо?
– Да… Хорошо, – бормотала Лёка, плохо понимая, о чем он говорит.
– Поезд отправляется! Молодой человек, вы рискуете остаться! – закричала им проводница, а Митя, еще крепче обняв Лёку, сказал:
– А я бы остался! Прямо сейчас. Навсегда.
– Митя! – очнулась Лёка. – Но ты ведь не станешь?! Не будешь ничего предпринимать?! Пожалуйста! Это был прекрасный день, самый счастливый в моей жизни, но…
– И в моей!
– Но ведь это всего один день! Разве можно все разрушать из-за одного дня?! Я прошу тебя! Не торопись! Митя…
– Я люблю тебя!
Он запрыгнул в тронувшийся вагон, а Лёка стояла, прижимая к груди букет, и улыбалась слегка растерянной улыбкой. Она так же улыбалась, сидя в такси и зарывшись лицом в розы. И дома, расставляя цветы: вазочек не хватило, и последние три она пристроила в высокую банку из-под растворимого кофе. И заснула с улыбкой на устах и с мобильным телефоном, зажатым в руке, – они еще немножко поговорили с Митей.
Утром Лёка раз двадцать перечла короткую Митину эсэмэску, потом долго пила кофе, рассеянно глядя в окно: жизнь переменилась, и надо было понять, как существовать дальше. Лёка опасалась, что у нее может снова начаться та душевная «ломка», которая чуть было не сокрушила ее после смерти мужа – и так мучила позавчера, когда она ждала возвращения Мити.
Но ничего подобного не было! Лёка прислушивалась к себе – ничто нигде не болело и не ныло, только легкое беспокойство, как бы Митя все-таки не наломал дров. Митина любовь наполняла Лёку, словно сосуд, не оставляя места ни для страхов, ни для тоски или боли. Какая тоска?! Ей хотелось прыгать, петь, танцевать, и Лёка немножко покружилась в большой комнате, как Элиза Дулитл после бала: «I could have danced all night, I could have danced all night… Тарам-тарам-па-па!» Так она и протанцевала весь день и все последующие – музыка, не переставая, звучала у нее в душе.
Незаметно для себя Лёка снова начала «чистить пёрышки», как на заре юности. Они с сестрой обожали по субботам наводить марафет: делали друг другу маникюр и затейливые прически, пробовали клубничные и творожные маски для лица, овсяный отвар для тела, ополаскивания для волос из коры дуба, придававший особенно красивый оттенок их темным волосам. Хотя Каля больше любила заварить для этой цели кофе – кора дуба пахнет каким-то болотом! По молодости они были прекрасны и без клубники с корой дуба, но очень любили все эти женские затеи: кремы, лосьоны, шампуни, духи, разноцветные помады, лаки для ногтей и тени для век. Потом, когда умер муж, Лёка забыла обо всем. Два ее неудачных романа тоже не слишком подняли самооценку, но сейчас… сейчас она вдруг почувствовала себя королевой. И окружающие сразу же это заметили:
– Леонида Аркадьевна, вы просто великолепно сегодня выглядите! – с некоторой даже завистью воскликнула мама пятиклассника, которого Лёка подтягивала по английскому.
– Что это с вами, Люси? – спросила прокуренным басом коллега на кафедре. – Расцветаете с каждым днем!
– Люсенька, деточка! Ты так похорошела! – радовалась соседка Роза Михайловна, а Чарлик подпрыгивал и норовил лизнуть в нос.
И даже Каля, приглядываясь к ней в скайпе, заметила изменения:
– Лёка, у тебя ничего не случилось? Что-то ты просто дивно прекрасна! Никто не появился на горизонте, а? Надеюсь, ты не наступишь опять на те же грабли?
Лёка показала ей язык и отключилась. При чем здесь какие-то грабли?! Она снова стала заглядывать в магазины: купила себе длинную разлетающуюся юбку и туфельки на каблучках, долго и придирчиво выбирала кремы – ночной, дневной, для век, для рук, для тела, вдумчиво принюхивалась к духам, размышляла над разноцветьем помады и с огромным трудом увела себя из отдела дамского белья. На улице и в метро к ней все время кто-то клеился; а один из великовозрастных учеников (Лёка вела группу французского для «продвинутых»), до того не обращавший на нее особенного внимания, уже два раза пытался подъехать, приглашая то на выставку, то в театр. Лучшая подруга, привыкшая слегка снисходительно относиться к неустроенной в личном плане Люське, насторожилась и спросила, помешивая пенку капучино – они зашли в небольшое кафе на Невском:
– Роман, что ли, завела? Выглядишь так, будто у тебя молодой любовник! Колись давай!
Но Лёка не раскололась, только загадочно улыбалась. Она очень гордилась тем, что сумела устоять перед Митиным мягким натиском: ничего такого, о чем можно было бы пожалеть или стыдиться, не произошло – ну, поболтали, погуляли, держась за руки, пококетничали слегка… Поцеловались… Один раз! Это не считается! Главное, удержаться на этом опасном краю, не переступить. Лёка уговаривала себя, что ей вполне достаточно того, что было, и вовсе не надо Мите больше приезжать! Звонки, смс, электронные письма – пусть это будет виртуальная любовь, ничего страшного. Она переживет. Она переживет, даже…
Даже если Митя опомнится и остынет. И лучше, чтобы опомнился. Ничего хорошего у них получиться не может: жена, ребенок! «Ему всего двадцать девять, а тебе почти сорок, помни об этом!» – говорила себе Лёка, глядя в зеркало. И не верила, потому что женщине, смотревшей на нее из глубины зазеркалья, никак не могло быть больше двадцати пяти: глаза сияли, губы горели, кожа светилась белизной, а волосы чуть ли не вились.
А вела она себя и вовсе как пятнадцатилетняя девчонка: полюбила прилечь с книжкой на кухонном диванчике, который теперь назывался «Митин» – подушка еще хранила его слабый запах. Чашка, из которой Митя пил кофе, стояла на почетном месте в буфете, и Лёка иногда – как бы украдкой от себя самой! – целовала фарфоровый бок. Она гуляла по тем местам, где они бродили с Митей, и даже пару раз съездила на Московский вокзал, чтобы постоять на той самой платформе и вновь ощутить на губах Митин поцелуй…
А иногда, присев на диван в большой комнате, она воображала сидящего напротив Митю и невольно уходила мыслями в прошлое – слова сестры не давали покоя: Лёке казалось, что все «грабли» в ее жизни были совершенно разными, если вообще можно говорить о каких-то «граблях»! В чем же Каля увидела сходство? В том, что каждый раз Лёка выбирала совершенно неподходящих мужчин?! Ну, первый раз, допустим, она вообще не выбирала…
Лёке было чуть больше двадцати, когда она встретила своего будущего мужа – два семестра подряд он читал им курс английской литературы. Уже через пару занятий Лёка почувствовала нечто странное: у нее почти не было опыта в любовных отношениях, не считая наивных школьных романчиков, и сначала она решила, что ей мерещится повышенное внимание Германа Валерьяновича. Потом недоумевала, чем она могла привлечь такого умного, тонкого, интеллигентного, образованного человека, к тому же годящегося ей в отцы! Лёка мучилась, думая, что она либо сошла с ума, раз ей чудится нечто подобное, либо самым пошлым образом влюбилась в преподавателя, и старалась быть с ним как можно более сдержанной. Явных знаков внимания не было: Герман Валерьянович смотрел на нее не чаще, чем на других студенток, на семинарах и экзаменах спрашивал наравне со всеми, не подстерегал в темных углах и «не краснел удушливой волной, едва соприкасаясь рукавами». Но Лёка все время чувствовала направленный на нее луч любви – как в театре, когда свет одинокого прожектора высвечивает из тьмы главную героиню. Пару раз они разговаривали, случайно столкнувшись в лифте и на улице перед университетом, – вполне нейтральный разговор, ничего такого! Но после экзамена он попросил Лёку задержаться, и она взволновалась. Герман Валерьянович долго молчал – Лёка покосилась на его судорожно сцепленные руки, лежащие на столе. Руки были красивые, с длинными музыкальными пальцами. И сам он был красив – высокий, тоже какой-то удлиненный, словно готический, с узким благородным лицом и копной полуседых волос. Наконец он заговорил – Лёка похолодела: ничего ей не примерещилось! Герман Валерьянович, смущаясь и волнуясь, поведал ей о своей любви, которую он не смог преодолеть, как ни пытался:
– Если у вас есть хоть капля чувства ко мне, если я вам не совсем безразличен – я сделаю все, чтобы мы были вместе! Я тотчас подам заявление о разводе! Пусть вас это не смущает: у нас в семье давно всё развалилось, и долгие годы нас объединяли только дети, они выросли, так что… Ответьте же мне что-нибудь! Лёнушка?
Что она могла ответить?! Лёка чувствовала, что ее словно затягивает в воронку! Она всегда слушалась старших. Каля была совсем другая: решительная, знающая себе цену, прямо идущая к поставленной цели. Вся в отца. А Лёка… Робкая, неуверенная, привыкшая быть младшей и сверх меры наделенная способностью к состраданию. Вот и сейчас ей стало жалко Германа Валерьяновича – он так переживал, так заглядывал ей в глаза, так сжимал руки! Они стали встречаться и после его мучительного развода, длившегося чуть не два года, наконец поженились. Их роман родители восприняли с красноречивым неодобрением, особенно отец, а Каля спрашивала сестру страшным шепотом, поднимая брови и делая большие глаза:
– Лёка! Ты что?! Он же старый! Он же, наверно, ничего уже не может!
Лёка только краснела и отворачивалась. Ей было нечего ответить сестре – случая проверить так и не представилось до свадьбы: Герман Валерьянович оказался весьма старомоден и не позволял себе ничего, кроме невинных поцелуев. Только потом Лёка смогла оценить, чего ему это стоило и сколько пылкой страсти скрывалось за его элегантной сдержанностью: он, пожалуй, и оскорбился бы, узнав, что его, едва разменявшего пятый десяток, считают дряхлым старцем!
После скромной свадьбы в небольшом ресторанчике, где были только немногочисленные родственники и друзья невесты, «молодые» отправились на такси в пустую Лёкину квартиру: родители заранее взяли путевку в санаторий и уехали на вокзал прямо из ресторана, а Каля жила у мужа – они должны были вот-вот получить визу и уехать в Израиль. Непривычно тихая квартира показалась Лёке совершенно чужой. Трусила она просто отчаянно. Лёка вышла из ванной в длинной белой шелковой сорочке, и Герман Валерьянович, который успел только снять пиджак и галстук, увидев ее, ахнул. Лёка, зажмурившись, спустила с плеч тонкие бретельки, сорочка скользнула на пол – Герман шагнул вперед, рухнул на колени и, застонав, стиснул горячими ладонями ее бедра – Лёка покачнулась и судорожно сглотнула…
Потом они вполне приладились друг к другу, и Лёка постепенно перестала смущаться – но не переставала удивляться тому, что способна вызывать у мужчины такие сильные эмоции и желания. Через полгода родители Лёки уехали к старшей дочери в Израиль, и Лёка с мужем вздохнули посвободней: шесть месяцев холодной войны совершенно их измотали – отец Лёки так и не смог примириться с зятем. Правда, с отъездом родителей холодная война не закончилась, просто активизировался другой фронт: семидесятилетняя мать Германа Валерьяновича успешно вела наступление, то и дело совершая разнообразные диверсии. Лёку она невзлюбила сразу же и заключила союз с бывшей невесткой, которую прежде ненавидела. Теперь они по телефону страстно перемывали кости новоявленной супруге Германа, а тот предпочитал навещать мать в одиночестве – хватило одного совместного визита, после которого Лёнушка полночи прорыдала.
Лёка знала, что из нее получилась не слишком хорошая жена, но она старалась. Очень старалась! Она научилась гладить рубашки и брюки, наводя острые стрелки, завязывать галстуки и вдевать запонки, а ботинки Герман Валерьянович чистил сам, добиваясь зеркального блеска. Лёка освоила приготовление соусов, и бешамель у нее получался, как признавал Герман Валерьянович, куда лучше, чем у свекрови. Шарлотка с антоновскими яблоками и корицей, утка с апельсинами, фаршированная рыба, заливное – не говоря уж о затейливых салатах! – часто красовались на столе: гости Германа Валерьяновича обсуждали какие-нибудь «высокие материи», как выражалась Каля, а Лёка суетилась по хозяйству.
Но Герман Валерьянович не давал ей погрязнуть в утюгах и фаршированных щуках: по средам они с мужем говорили исключительно по-английски, пятница была посвящена немецкому, а книги, подобранные мужем для Лёнушки, следовало непременно обсудить по прочтении. Ей приходилось все время тянуться вверх, становиться на цыпочки, чтобы дотянуться до Германа Валерьяновича и хоть немножко соответствовать масштабу его незаурядной личности и великой любви. Порой Лёка ужасно уставала от постоянно устремленного на нее внимания мужа: невозможно все время жить в луче прожектора! Она так не привыкла. Лёка была сумеречным существом. Временами ей хотелось побыть одной – просто помечтать, сидя у окна, почитать какой-нибудь сентиментальный романчик или, наоборот, похихикать и повалять дурака с подругами.
И ужасно не хватало мамы с Калей!
Просто ужасно.
К тому же Герман Валерьянович все время беспокоился о своей Лёнушке: столько опасностей подстерегает слабых и прекрасных женщин в этом чудовищном мире! Если бы он мог накрыть ее стеклянным колпаком и держать на комоде, как хрупкий фарфоровый цветок, то наверняка сделал бы это. Но колпака не было, поэтому постепенно Лёка пришла к мысли, что проще никуда не ходить, чем по двадцать раз звонить и докладывать, что все в порядке. Иногда ее просто подмывало ответить на его бесконечные наставления: «Да, папочка!» – собственный отец никогда не проявлял столь трепетной заботы.
– Он просто ревнует, твой Герман Валерьянович, – говорила Каля.
– Да к кому?! Совершенно не к кому! И потом, он выше этого! Он мне доверяет!
– Он ревнует вообще. Считает тебя своей собственностью.
Это было похоже на правду. Иногда Лёке казалось, что Герман Валерьянович и любит-то вовсе не ее, а какую-то другую, выдуманную им Лёнушку, а ей приходится соответствовать. Сейчас, оглядываясь назад, Лёка не понимала: она сама-то любила Германа Валерьяновича? Уважала, восхищалась, трепетала, благоговела, сострадала – да. Но любила ли? Он заполнил собой всю жизнь Лёки, и Каля обзывала ее чеховской Душечкой:
– Нельзя так растворяться в человеке! Ты же отдельная самостоятельная личность!
После смерти Германа Валерьяновича Лёке пришлось по кусочкам восстанавливать эту отдельную и самостоятельную личность. До сих пор ей иногда снилось то страшное утро, когда она, привычно потянувшись поцеловать еще спящего мужа, ощутила губами его почти остывшую плоть. Лёка дико закричала, шарахнулась, упала на пол и как была – в длинной ночной рубашке с оборочками и кружевцами – кинулась на лестничную площадку и билась там о закрытые двери соседских квартир, пока вышедшая на шум Роза Михайловна не увела ее к себе. Увела, напоила валерьянкой, вызвала «Скорую», которая и констатировала смерть. Лёке вкололи что-то покрепче валерьянки, но она так и не пришла в себя к похоронам, о которых пришлось хлопотать Розе Михайловне. Лёка часами сидела в оцепенении на чужом диване, держа на руках беременную кошку Грету – никакого Чарлика тогда еще не существовало. Грета была кошка чопорная и высокомерная – дворянской породы, как говорила ее хозяйка, подобравшая полосатый орущий комочек у помойных баков. Кошка не сильно любила всякие обнимашки, но почему-то терпела судорожные объятия Лёки.
Это слово придумала мама, которая баловала дочек потихоньку от строгого отца, особенно вечно хныкающую Лёку, – распахивала руки и говорила: «А ну-ка – обнимашки!» И девочка изо всех сил стискивала мамины ноги, утыкаясь в ее теплый и мягкий живот. Мама, которая была так нужна младшей дочери, на похороны прилететь не смогла, так же как и мучающаяся от токсикоза Каля – ее второй младенец был уже на подходе. Приехал только отец, который непривычно бережно обращался с Лёкой, остро напоминая Германа Валерьяновича, который больше никогда… никогда…
Никогда.
Родители настаивали, чтобы Лёка приехала к ним, но у нее не было загранпаспорта. И сил никаких не было, ни душевных, ни физических. Две недели она вообще не выходила из квартиры. Ничего не делала, просто сидела на кухне – в комнаты заходить не могла. И спала там же на диванчике – тоже сидя и обнявши маленькую подушку с вышитыми крестиком цветочками, под неумолчное бормотание маленького телевизора с вечно отваливающейся комнатной антенной. Вдруг материализовались все страхи, терзавшие некогда Германа Валерьяновича, – они таились в темноте подъездов, поджидали Лёку в проходных дворах и переулках, ездили с ней в лифтах и поздних троллейбусах, оживали в телефонных и дверных звонках.
Спасла ее кошка. Дочка Греты – маленькая рыжая Пеппи с белым чулочком на левой задней лапке, шкодливая, забавная и ласковая, которая очень быстро научилась обнимать Лёку за шею мягкими лапками: обнимашки! Кошка постепенно прогнала все фобии и страхи, и Лёка потихоньку выбралась из одолевавших ее болячек, а ведь за три года брака она ни разу ничем не болела. И болячки-то были все какие-то дурацкие: ну ладно грипп или ангина, не привыкать, а то вдруг упала в ванной, вешая белье. Хорошо, ногу не сломала, отделалась ушибом. Потом чуть не задохнулась, подавившись сухариком, – продышалась, но горло оцарапала так, что кашляла еще чуть не месяц. Наконец, она как-то выправилась и укрепилась духом, похоронила свекровь, за которой приходилось ухаживать, выслушивая бесконечные обвинения и упреки, порой совершенно фантасмагорические; получила паспорт и съездила на две недели к родным в Израиль – хотела пробыть три, но ужасно соскучилась по Пеппи.
Вернувшись, Лёка сделала в квартире небольшой ремонт, переставила всю мебель, купила новую кровать и выбросила прежнюю одежду: Герман Валерьянович предпочитал, чтобы она одевалась в консервативном стиле, который Каля определяла просто: старушечий. Лёка надела джинсы, и чуть было под горячую руку не подстриглась, но стало жаль так долго лелеемых волос. Обновленная, выпорхнула она в новую жизнь, и… и тут ей подвернулся Алик, о котором Лёка вспоминала теперь со слегка брезгливым недоумением: надо же быть такой дурой! Все-таки она не совсем пришла в себя, иначе не ухнула бы в роман с Аликом, как в прорубь. Прорубь случилась на дне рождения лучшей подруги, и только потом Лёка узнала, что Алик – бывший любовник этой самой подруги.
Она не сразу осознала, что их не связывает ничего, кроме секса: выбравшись, как Алик выражался, «из кроватки», они решительно не знали, о чем разговаривать. Поэтому старались и не вылезать – только с Аликом Лёка поняла, что секс может быть легким, веселым и вообще-то приятным занятием. Очень приятным. Но Алик не отличался верностью, и, застав его с какой-то блондинкой, Лёка устроила дикий скандал, который его страшно изумил. «Теряешь стиль, подруга!» – растерянно пробормотал незадачливый любовник, вовремя увернувшись от летевшей в него тарелки, которая, впрочем, не разбилась. Синий прозрачный пластик, прочная вещь. На какое-то время он приутих, потом опять взялся за свое. Он то пропадал неведомо где, то внезапно сваливался на голову, так что Лёка все время чувствовала себя словно под неисправным душем, из которого непредсказуемо льется или кипяток, или ледяная вода. И отрегулировать невозможно! Она с трудом выбралась из этих отношений, продлившихся, к счастью, недолго – как увязшая в сиропе муха, Лёка освобождала одну лапку, но тут же вязла другая. И если бы сам Алик ее в конце концов не бросил, она, вполне вероятно, до сих пор так бы и барахталась, увязая все дальше.
Справилась она с последствиями разрыва довольно скоро: больше всего пострадало оскорбленное самолюбие, но самолюбию она порекомендовала заткнуться, а сама взяла абонемент в бассейн и несколько месяцев старательно смывала с себя память об Алике, активно молотя руками и ногами в голубоватой, пахнущей хлоркой воде. Вспоминать об отношениях с Аликом Лёке было немножко стыдно, потому что вела она себя как ребенок, дорвавшийся до банки с вареньем и обнаруживший, что туда запускают свои ложки и другие любители сладенького.
А Гоша появился в ее жизни вообще-то случайно: они столкнулись в библиотеке университета. Гоша успел закончить аспирантуру и стать доцентом, пока Лёка трепетала, увязала и барахталась, а теперь работал над докторской. Они разговорились, вспомнили студенческие годы и как-то незаметно для себя оказались в одной постели, а потом Гоша и вообще перебрался к Лёке: сам он после развода жил вместе с мамой.
Лёка честно пыталась построить нормальные семейные отношения, да и пора бы: тридцать три, еще немного, и рожать будет поздно. Но Гоша ее раздражал! Просто чудовищно. Своим занудством, рассеянностью, душевной слабостью. Не помогало ничего: ни общность интересов, ни схожесть литературных вкусов, ни вполне пристойный секс. Конечно, после Алика это было как газировка вместо шампанского… Зато надежно. Но скучно! Смертельно скучно. И если с Германом Валерьяновичем – да и с Аликом! – она чувствовала себя вечной девочкой, то с Гошей ей пришлось стать любящей мамочкой, а это вовсе Лёку не обрадовало. И потом, что может родиться от такого Гоши?! Узнав о разрыве, лучшая подруга недоумевала:
– Не понимаю, чего тебе надо? Ну ладно Алик – тот еще кобель…
– Могла бы вообще-то меня и предупредить! Подруга, называется!
– Да я и подумать не могла, что ты тут же прыгнешь к нему в объятия!
– Я тоже не могла…
– Кобель, конечно. Но такой пупсик, скажи? – И подруги хором вздохнули. – А Гоша тебе чем плох?!
– Он зануда! И маменькин сынок! Звонил ей по пятьдесят раз на дню. Нет, с меня вполне хватило одной безумной свекрови!
– Да уж, ты настрадалась.
– Он ничего не мог решить самостоятельно! – И Лёка выразительно передразнила Гошу: – «Как ты думаешь, Леонтия, мне надеть синюю рубашку или серую? А галстук какой?»
– Леонтия?!
– Он даже имя мое выучить не смог!
– Ну, не знаю, не знаю. С ним вполне можно было жить. Подумаешь, отвечала бы не глядя: рубашку – синюю! Галстук – желтый!
– Он так и оделся бы! Представляю реакцию его студенток!
Они посмеялись, но каждая осталась при своем: подруга мрачно подумала, что Люська с ее высокими запросами так и останется одна на веки вечные, а «Люська» еще яснее поняла: лучше быть одной, чем… Чем вместе с кем попало!
Каля была более проницательной и, послушав откровения сестры, сказала:
– Он тебя отравил!
– Кто?!
– Твой Герман Валерьянович. Собой отравил. Задал очень высокую планку, и теперь ты подсознательно ищешь такого же. Лёка, Герман был один такой!
– Может, ты и права. Да, верно, по сравнению с Германом все какие-то… мелкие.
К тому же Гоша оказался совершенно несовместим с кошкой, которую невзлюбил и даже побаивался, – Пеппи это прекрасно чувствовала и изводила Гошу, как могла: писала ему в тапки, кусала за пятки и гипнотизировала взглядом. Алика она, кстати сказать, просто обожала! В ответ на ультиматум «Или я, или кошка!» Лёка выбрала кошку, но через полтора года Пеппи умерла, и Лёка решила, что не станет никого больше заводить. Ни кошек, ни Гош с Аликами. Но Гоши с Аликами вдруг тоже как-то оживились! Зануда Гоша, который в первое после разрыва время звонил чуть не каждый день, а потом, слава богу, надолго пропал, снова проявился и донимал ее бесконечными разговорами «в пользу бедных», как любила сказать Каля. Каждый такой разговор начинался словами: «А вот мама говорит…» На пятый раз Лёка не выдержала:
– Мне совершенно неинтересно, что говорит твоя мама!
– Как?! – удивился Гоша. – Почему?!
– Потому. И не звони мне больше, умоляю!
А «пупсика» она встретила на Невском. Загорелый, белозубый и чертовски сексуальный Алик щеголял новым цветом волос (платиновый блондин, шикарно, ты что?!) и благоухал, как всегда, дорогим мужским парфюмом, хорошим трубочным табаком и слегка коньяком, тоже дорогим и хорошим. Алик любил пожить в свое удовольствие. Лёка растерялась, а он радостно облапил ее и несколько раз поцеловал в губы, пока она, опомнившись, не вырвалась.
– Ну ты жесто-окая! – произнес Алик тоном обиженного ребенка, слегка растягивая гласные, и вытянул губы трубочкой: – У-у, злюка!
Вот так он всегда и разговаривал. Разглядывая его улыбающуюся физиономию с ямочками на щеках, Лёка думала, что Алик похож одновременно и на резинового пупса, и на плюшевого медведя. Холеный, здоровый, отмытый до блеска, легкомысленный, веселый и совершенно беспринципный вечный мальчик в свеженьком льняном костюмчике.
– Чем это я жестокая?
– Бросила меня, маленького! А сама такая красотка!
– Вообще-то это ты меня бросил, забыл?
– Ой да ладно! Какая, в сущности, разница? Кто старое помянет… А куда ты так целеустремленно двигаешься, рыбка моя?
– Я опаздываю на урок. И перестань меня лапать!
– На уро-ок? Училка! Слушай, да забей ты на этот урок! Пойдем ко мне, а? Я ж тут рядышком, помнишь? Ну, пойдем, пойдем – прыгнем в кроватку! Давай!
– Никуда я с тобой не пойду, тем более в кроватку. Слушай, отстань, а?
Но Алик не отстал, а целую вечность тащился за ней по Невскому и трындел, то и дело норовя пристроить свою лапищу ей на бедро. Наконец Лёка вспомнила, что он понимает только мат – за время общения с Аликом она сильно пополнила свои весьма скудные познания в этой области. Лёка резко остановилась, повернулась, сурово посмотрела в его хитрые голубые глаза и произнесла всего одно весьма выразительное слово – тут он наконец отцепился.
Господи, и о чем Лёка только думала, когда связалась с ним! Нет, конечно, было и забавно, и весело, и приятно – особенно «в кроватке». И ходить с ним по магазинам было одно удовольствие: Алик безошибочно выбирал самые подходящие для нее наряды – платить за них, правда, приходилось самой. На какие шиши существовал Алик и чем он вообще занимался, не знал никто. Немножко переводчик, немножко актер, немножко журналист, немножко модельер и дизайнер – плейбой, прожигатель жизни, дамский угодник. А может, и не только дамский, как, слегка содрогнувшись, предположила Лёка, увидев его новую платиновую прическу и бриллиант в ухе. Да, для замужества он никак не годился! А кто годился? Гоша?!
Честно говоря, Лёке вовсе не хотелось замуж. И если бы не родители и подруги, Лёка не волновалась бы по этому поводу – хватит с нее Германа Валерьяновича! И зачем непременно надо быть замужем?! Но как тогда быть с детьми? Родить одной, без мужа – для себя? А нужно ли? У нее никогда не возникало такого осознанного и острого желания иметь детей, как у Кали, которая ждала уже четвертого и, похоже, останавливаться не собиралась, стараясь за них обеих. Лёке казалось, что этого как-то мало: замужество, дети, которые потом народят своих детей, а те – своих. Бесконечная цепочка жизней, существующих лишь для того, чтобы воспроизводить себе подобных? И все?! Должно же быть… что-то еще! Что-то сверх обыденности!
Этим и привлек ее Герман Валерьянович, который умел отрешиться от ежедневной суеты, погрузившись в Викторианскую эпоху. Он, несомненно, был творческой личностью: знал чуть ли не двенадцать европейских языков, в том числе древнегреческий, был великолепным оратором – послушать его лекции приходили с других факультетов, обладал изысканным слогом – Лёка перепечатывала его мемуары, изданные потом небольшой книжечкой. И, наконец, он прекрасно играл на фортепьяно и пел красивым, хотя и не сильным, тенором русские романсы!
И что мог противопоставить этому Гоша?! Не говоря уж об Алике. Да ничего! Лёка давно уже осознала, что может влюбиться по-настоящему только в талантливую, неординарную личность. Правда, она никогда не предполагала, что способна заинтересоваться таким молодым мужчиной, как Митя, – и еще более, что он может увлечься ею! Но… в нем что-то было, она чувствовала. Что-то кипело внутри, отражаясь в глазах, не по возрасту мудрых. К тому же впервые в жизни она была на равных с мужчиной. Почти на равных: весы все время немножко колебались, и это было так интересно и волнующе. В Мите удивительным образом сочетались юношеская хрупкость и мужская сила – образ его двоился, оставаясь тем не менее цельным: так ломается мальчишеский голос, сбиваясь то на проникновенный бас, то на звонкий фальцет. Никогда в жизни она не испытывала ничего подобного и все время вспоминала слова Мити: «Я не просто влюбился, я полюбил тебя». Пожалуй, она уже понимала, в чем разница. И хотя Лёка весьма успешно, как ей казалось, убеждала себя в безобидности происходящего – не сознавая этого, она все больше и больше отдавалась новому, разгорающемуся в душе чувству.
Месяца два они с Митей общались виртуально: звонки, смс, письма – музыка в сердце, полет души над реальностью. Они избегали заводить речь о любви, просто рассказывали друг другу, как прошел день, что видели или читали, о чем думали, – но любовью была пропитана каждая строчка электронного письма, каждый звук далекого голоса. В смс они чаще всего общались картинками и смайликами. Лёке было легче – она хранила все смс, а те немногие Митины фотографии, что успела снять на телефон, скинула в компьютер и любовалась. Мите приходилось уничтожать все следы общения с Лёкой: жена никогда не проверяла ни мобильник, ни компьютер, но береженого бог бережет.
Однажды поздним августовским вечером Лёка сидела перед компьютером – вдруг загрустив, она в очередной раз повздыхала над Митиными фотографиями, потом открыла Интернет, чтобы посмотреть видео со смешными кошками на YouTub. Перескакивая с одного видео на другое, она вдруг наткнулась на театральные сюжеты и увидела клип с Марией Бабановой – боже, какое забытое имя! «Как тонка и нежна любовь людская и прозрачна как хрусталь. Чуть заденешь ее ты, играя, – разобьешь, а это жаль…» Прозрачный, переливающийся, как ручеек, волшебный голосок Бабановой оживил давние воспоминания: радиотеатр, детские пластинки, сказка про Айогу, потом «Маленький принц» и «Звездный мальчик»… Эта песенка была из спектакля «Таня» по пьесе Алексея Арбузова. Лёка видела и пьесу, и фильм – ни одна из актрис, игравших Таню, ей не понравилась, но каждый раз она от души рыдала над судьбой героев. А не потому ли, кстати, она и замуж-то за Германа Валерьяновича вышла, ведь мужа Тани в пьесе тоже звали Германом?! Лёка прослушала песенку раз десять, хлюпая носом – ну разве можно не поплакать, слушая такие слова: «Вот мое сердце открыто – если хочешь, разбей его, но в этом сердце ты убьешь себя…», но тут неожиданно зазвенел звонок.
Лёка посмотрела в глазок, не поверила и резко распахнула дверь – на площадке, залитой ослепительным неоновым светом, особенно ярким после полумрака прихожей, стоял настоящий, живой Митя! Лёка ахнула и бросилась ему на шею: счастье было настолько сокрушительным, что она опять чуть не потеряла сознание. Они обнялись так крепко, что дыхание прервалось, – уткнулись друг в друга, зажмурившись, но даже с закрытыми глазами Лёка видела, слышала, чувствовала, как рвется сполохами света окружающее пространство, взорванное силой любви.
– Откуда ты взялся?! Что ж ты не позвонил?! А вдруг меня не оказалось бы дома? Ты надолго? Прямо с поезда? Или ты с утра в Питере?
– Ты дома, я прямо с поезда, на сутки. К тебе! – Митя, улыбаясь, смотрел, как Лёка, вся розовая от волнения, мечется по кухне. – Я был в Вологде, ну и… А ты похожа сейчас на Чарлика!
– И правда! Просто с ума сошла от счастья! Ты голодный? Я чайник поставлю! Или ты хочешь в душ с дороги?
– Я не голодный, чаю выпью, в душ потом. Все потом. Иди ко мне! Я хочу тобой надышаться!
И они опять обнялись. Лёка жадно всматривалась в Митино лицо: осунулся, бледный… И хотя тоже сияет от счастья, в глазах прячется… отчаянье?!
– Ты не заболел? Как-то неважно выглядишь! Что с тобой?
– Нет, я как раз выздоровел. Болел немножко, но ничего серьезного. Просто устал. Все в порядке, не волнуйся.
– Но я же вижу! Что-то случилось? Расскажи мне!
Митя вздохнул:
– Да, надо поговорить.
Они ушли в большую комнату и сели в разных концах дивана – Лёка забралась с ногами, кутаясь в длинный махровый халат, а Митя сгорбился и закрыл лицо руками. Он долго молчал. Лёка тревожилась все больше и смотрела на него с состраданием, сознавая: о чем бы Митя ей ни рассказал, какое решение ни принял, что бы ни случилось с ними дальше, ее собственная судьба определилась раз и навсегда в тот сверкающий миг полного и абсолютного счастья, когда она увидела Митю.
– Я не знаю, как об этом рассказывать.
– Просто расскажи. Как есть.
Митя с мукой взглянул на Лёку и опять опустил голову:
– Я не знал. Когда был тут в прошлый раз. Я ничего не знал! Она мне не сказала. Возможно, если б я знал, то… Может, мы с тобой и не встретились бы… Не знаю.
– Митя, о чем не сказала?
– Она беременна.
Лёка почувствовала, как ее словно обдало порывом ледяного ветра, и вздрогнула. Так вот оно что! Беременна…
Митя смотрел на нее с тоской:
– Правда, я не знал!
– Я верю, ну что ты…
– Понимаешь, мы не планировали. Она только на работу вышла после Катьки, новая должность, всякое такое. Да и вообще у нас в последнее время с этим делом было не очень. Довольно прохладно. А тут мы поругались. Ну, и помирились. Говорила, все у нее под контролем – и вот. Она мне даже не сказала. Знаешь почему? Потому что хотела аборт сделать, пока я в Питере!
– Но все-таки не сделала?
– Ее Варька отговорила. Подруга наша, помнишь, я рассказывал? Она пришла к Варьке за поддержкой, а та сказала, что не будет в этом участвовать – надо обязательно обсудить со мной. Но главный аргумент, который подействовал: если я когда-нибудь узнаю об этом аборте, то решу, что ребенок был не мой. А я так бы и подумал, точно!
– Митя, любой бы так подумал! Иначе – зачем скрывать?!
– Она знала: я буду против, мы обсуждали это! Как можно убить ребенка?! У нас и с Катькой случайно получилось, но тогда она обрадовалась – опять первая! Из всех подруг – первая замуж вышла, первая забеременела. А теперь… И я как подумаю, что мог вообще никогда ничего не узнать… И жить с ней дальше… Но я…
Митя вдруг запнулся, с силой потер ладонями лицо, встал и ушел к окну, отвернувшись от Лёки.
– Я вообще-то не собирался… жить с нею дальше. Да, ты просила ничего не ломать, я знаю! Но я хотел попытаться. Всю дорогу это обдумывал. И решил. Понимаешь, дело даже не в тебе… не в нас с тобой! Я был совсем не уверен, что ты… примешь меня. Пустишь в свою жизнь. Дело во мне, в моей собственной жизни! Я все время делал то, чего от меня хотели окружающие, понимаешь? Шел на поводу, ни на чем никогда не настаивал. Наверно, мне казалось, что будет какая-то вторая жизнь, где я смогу делать то, что хочу, что мне нравится. Когда вернусь из Арканара. Но жизнь-то одна! Я не сразу это понял. А теперь я по-настоящему знаю, чего хочу. Да, знаю. Решил, найду работу в Питере, сниму тут комнату – для начала. Я помогал бы им деньгами, конечно. И Катька… Я бы ее не бросил, ни за что! Так все продумал, так мечтал об этом… И она сразу вывалила на меня свою новость. И всё. Всё кончено.
Он ударил кулаком по оконной раме, повернулся и вышел в коридор, потом вернулся. Лёка следила за его метаниями встревоженным взглядом.
– Подожди… Она что, сама тебе всё рассказала?! И про Варины слова?! Она же могла просто сказать, что беременна!
– Да. Она так и не поняла, почему это надо со мной обсуждать. Вроде как не мое дело. «Не ты же рожать будешь!» – такой аргумент. Но когда я сказал, что разведусь с ней, если сделает аборт… Не знаю, поняла она что-нибудь или нет. Но испугалась. Лёка, ты понимаешь? Я теперь в ловушке! Я не могу уйти! Как я могу?! Это будет такая подлость, что дальше некуда! Но самое ужасное – я больше не могу ее выносить. Видеть, слышать. Разговаривать. Раньше я жалел ее. Да и любил, конечно, как я мог не любить! Столько вместе пережито. А теперь – все умерло. Я свободен от нее, совсем. И связан накрепко. И это… убивает меня. Просто убивает! И я не могу не думать, что… Если бы она поступила, как собиралась…
– Это был бы повод для развода.
– Да.
Митя молча смотрел на Лёку, она на него. Чувства ее рвались наружу, но слова никак не находились. Митя медленно произнес:
– Я знаю все, что ты скажешь. Я не должен был тогда возвращаться к тебе, не должен был сейчас приезжать. Не должен был даже мечтать о тебе. И если ты сейчас потребуешь, чтобы я ушел, – я уйду. Хотя это будет тяжело. Словно умереть. Я понимаю, я тебе ни к чему! Зачем?! Только лишние страдания! А я очень не хочу, чтобы ты страдала! – Он вдруг опустился на колени, словно ноги подкосились, сел на пол и закрыл лицо руками. – Господи, что же делать?! И зачем я только приехал! Только все усложнил! Но мне даже поговорить там не с кем, понимаешь?! Я не мог больше держать это в себе! Прости, прости! Черт, устроил какую-то истерику! Мне стыдно. Я сейчас уйду…
Леа смотрела на Митю, а в ушах у нее все звучал и звучал нежный голосок, который ни о чем не умолял, не просил, а просто и грустно говорил: «Вот мое сердце открыто – если хочешь, разбей его! Но в этом сердце ты убьешь себя…»
Она на секунду прикрыла глаза, вздохнула, потом решительно встала, подошла к Мите, скорчившемуся в своем отчаянье, и тоже опустилась на пол. Она силой отвела его руки от лица и поцеловала, вложив в этот поцелуй всю любовь, копившуюся у нее в душе на протяжении последних месяцев. Он не сразу поверил. Отстранив Леа, Митя напряженно всмотрелся в ее лицо:
– Ты?! Ты…
– Да!
Леа расплела косу и встряхнула головой, впуская в волосы ветер. А потом развязала пояс и распахнула халат, отдавая себя Мите, как драгоценность, – себя, свое тело, свою душу, свою любовь. Свою жизнь.
И он принял этот дар.
Глава 5 Письма к Леа
Поздним августовским вечером две подруги пили чай на кухне у Артемьевых. Варька рассеянно взяла очередную сушку и, вздохнув, положила обратно – хватит, и так целую кучу слопала! Отпила поостывшего чая и с завистью взглянула на Тигру, которая намазывала клубничным вареньем большой кусок мягкой булки. Та, уловив ее взгляд, сказала:
– Хочешь? Свежее, этого года! Обожаю клубничное! – и с аппетитом откусила, измазав нос вареньем.
– И как тебе удается! Трескаешь все подряд – и хоть бы что! А тут лишнюю сушку съешь, и пожалуйста…
– Да ничего ты не толстая! – благородно покривила душой подруга. – Не расстраивайся, скоро я тоже растолстею! Буду опять колобок на тонких ножках…
И она, помрачнев, так впилась зубами в свой «бутерброд», что кусок хлеба отломился и упал на пол – конечно, вареньем вниз!
– А, чтоб тебе! Ну вот, все не так! За что ни возьмусь!
– Сиди, я приберу! – Варька присела с тряпкой и снизу заглянула в злое лицо Тигры: Том, перестань уже злиться! Тебе вредно!
– Зачем ты мне напоминаешь лишний раз! Я и так знаю, что беременная!
– Да ты ж сама только что…
– Это ты виновата!
– Да чем же?!
– Ты заварила эту кашу! Я давно бы все втихаря сделала, а теперь… Конечно, со стороны легко рассуждать! Сама бы попробовала, знала бы, что это такое! Меня в прошлый раз чуть не три месяца подряд выворачивало!
– Я бы попробовала… с радостью, – тихо сказала Варька, споласкивая тряпку под краном.
– И этот со мной теперь сквозь зубы разговаривает, словно я преступница какая!
– Димка? Его можно понять.
– Вечно ты его защищаешь! Что, нравится?!
– Нравится. И всегда нравился, ты же знаешь.
– Вот и брала бы его себе!
– Но не настолько. И потом, у тебя попробуй отними! Ты ж живьем съешь! Что твое – то твое. Слушай, Том, правда, хватит уже. Или что – раз мы тебя отговорили от аборта, теперь должны все время терпеть твои капризы?!
– Ага, – спокойно ответила Тигра и посмотрела на Варьку невинными зелеными глазами.
– Ну ты и зараза! Смирись уже! Ребенок – это такая радость!
– Чужие дети – всегда радость. А как понянчить, никого нет.
– Хочешь, я понянчу?
– Вот тебе только этого не хватало! Спасибо, с нашей бабкой понянчилась. Слушай, я что заметила: как бабки не стало, Димка просто слетел с катушек!
– У него горе, как ты не понимаешь?! Баба Поля вырастила его.
– Сколько можно горевать-то?! Она ж совсем старая была, пора и честь знать.
– Он очень любил бабушку, ты же знаешь!
– Ага! Цветы ей приносил! Бабке за восемьдесят, не видит ни хрена, а он ей – букет!
– Ну и что?! Я тоже приносила! Баба Поля очень любила цветы! Если тебе не надо, это не значит, что другим…
– А Димка в бабку пошел, такой же малахольный.
– Том!
– Ну что – Том?! Не права я, что ли? Точно, с катушек слетел. Представляешь, захотел в Москву перебраться!
– Да он просто устал от дороги. Все время в командировках. Сейчас-то он где, кстати?
– В Вологде, что ли. Или в Ярославле. Где-то там. И чего уставать-то? Сидишь себе, поезд везет. Красота! Я предложила ему в район переехать – он взвился, как не знаю кто. Ну, сейчас-то согласился – деваться некуда. Нет, все-таки мужики – такие эгоисты. Только о себе и думают!
– Том, да побойся ты Бога! Уж кто-кто, а Димка…
– А то нет?! Приспичило ему ребенка! Да его никогда дома не бывает, я одна тут кручусь, как безумная белка!
– Послушай, он же работает, деньги зарабатывает, и хорошие деньги!
– А что, я бы не заработала?! У меня знаешь какая перспектива открывалась! А теперь…
– Так в этом дело? – спросила Варька, строго глядя на Томку. – Ты хотела зарабатывать больше его, да? Опять тебе надо быть первой? Том, семейная жизнь – это ж не спортивное соревнование! Дальше, выше, быстрее!
– Вот кто бы говорил! Что ты можешь знать о семейной жизни?!
– Да, ты права. И вообще, это вовсе не мое дело. – Варька встала и оглянулась в поисках сумки, с которой пришла. – Поздно уже, пойду. А то мать небось с ума сходит…
Выйдя на улицу, Варька тут же заплакала. Так и брела по темным переулкам, вытирая горькие слезы. «Ну почему? Почему мне всегда так больно от ее слов? Должна бы привыкнуть!» Они дружили с первого класса, знали друг о друге всю подноготную, и Томка всегда умела ковырнуть самую болезненную Варькину болячку. Вот и сейчас – попрекнуть тем, что Варька не замужем! Зная, что она по рукам и ногам повязана заботой о сумасшедшей матери!
Варькин жених, узнав о болезни будущей тещи, слинял. Неожиданно возникший роман со Славкой Усольцевым, великим поэтом, кончился разрывом: «корова» Варька никогда, как выяснилось, не понимала его духовных исканий, поэтому Усольцев нашел себе новую «Варьку», которая пока еще ходила в «ласточках», но вскоре тоже грозила превратиться в «корову». Работу в Москве Варваре пришлось оставить – хорошо, местный предприниматель Шарапов к себе взял: Варька вела его дела, занималась счетами и налогами, да еще подрабатывала, как могла, уборкой и готовкой в коттеджах. Одна, без семьи, без надежды…
Томка после Варькиного ухода почувствовала было легкие угрызения совести, но быстро отвлеклась: да ладно, переживет, ничего! Томка искренне любила Варвару, сочувствовала ее тяжелой жизни и была страшно благодарна за помощь с бабкой, но… ничего не могла с собой поделать! Что ж теперь, и не подколоть?! Тем более что присматривала Варька за бабой Полей вовсе и не бесплатно! Правда, Димка весь извелся, не зная, как предложить Варваре денег, и Варька сначала вспыхнула, оскорбившись: «Я ж по дружбе!», но потом все-таки взяла. Жить-то на что-то надо.
А Варваре действительно всегда нравился Димка – тихий, спокойный, умный. И правда, благородный Дон! Не зря прозвали. Прекрасно зная и его, и Тигру, Варька недоумевала, как могут уживаться два столь разных характера и темперамента. Судя по всему, Димка просто все время уступал Томке, не желая скандалить. И вот взбунтовался, да как! Два месяца назад Томка посреди ночи прибежала к Варваре в полной панике, хотя накануне они поссорились из-за аборта, и Томка поклялась больше никогда в жизни с Варькой не общаться – как всегда после каждой размолвки, которых было немало за годы дружбы. Но Димка заболел, и Томка не знала, что делать. Вдвоем они подняли с постели тетю Катю Тимошину, жившую на соседней улице, – бывшего участкового терапевта, а когда прибежали к Артемьевым, Варька ужаснулась: Димка весь горел, метался и бредил.
– Под сорок, представляете?! Вдруг ни с того ни с сего! Теть Кать, что это? Грипп, что ли?
– Да нет, не похоже… Странно… Дышит нормально, горло не красное, сыпи нет никакой… Пульс зашкаливает, но это от температуры…
– Он сегодня из Питера приехал! Поел, помылся, все ничего…
Варвара осторожно спросила:
– Том, а вы с ним не говорили о…
– Ну, поговорили, и что? Все нормально было. – Поговорили они вовсе не «нормально», скандал вышел не шуточный: Тигра никогда таким Димку не видела и слегка струхнула. А ночью – вот, пожалуйста!
– Поругались, что ли? – спросила тетя Катя, внимательно поглядев на взволнованную Томку. – Сильно?
Та опустила голову.
– Похоже, это у него на нервной почве. Он и маленький такой был, чуть что – температура. Тонкая нервная организация. Надо какое-нибудь жаропонижающее. И успокоительное. Анальгин есть у вас? Можно дать таблетку, чтобы сбить градусы. И компресс прохладный на лоб – уксусу немножко в воду добавь и меняй почаще. Что это он бормочет?
– Про какие-то мосты! Все время: мосты развели, мосты развели…
Тетя Катя посидела у Артемьевых, пока не упала температура – анальгин и правда помог. Пару дней Димка провалялся в постели, потом встал, и все пошло по-прежнему. Только с Томкой почти не разговаривал. Это была их вторая серьезная ссора – первая случилась из-за бабушки, когда Томка отказалась за ней ухаживать. Димка тогда просто переселился в бабушкину квартиру, и Томка скрепя сердце согласилась заходить днем и кормить бабку обедом. Как будто у нее есть время, с маленьким-то ребенком! Если б не Варька…
А Варька случайно встретилась с Димкой через пару недель после кризиса: шла через парк, а там Дима с Катюшкой – девочка качалась на качелях, а Димка, сидя рядом на скамейке, что-то писал в блокноте. Увидев Варвару, он закрыл блокнот и поднялся:
– Привет!
– Гуляете? Катюшка, привет!
Малышка тут же слезла с качелей и обняла Варьку, которую просто обожала:
– Валя! Пливет!
– Когда ж ты «р» научишься выговаривать, а? Пять лет уже, а все картавишь! Ну-ка, скажи: «Варвара!»
– Не-а! А у тебя пилоги есть?
– Вот научишься правильно выговаривать, и будут тебе пироги! А правда, пошли ко мне? Чаем напою! И пироги есть!
– Да нам домой уже пора.
– Как ты?
– Нормально.
– Нормально?! Весь зеленый!
– Да ладно, не весь. Местами.
– А что это ты там пишешь? Планы переустройства мира?
Димка усмехнулся:
– Да вроде того.
– А как у вас с Томкой?
– Нормально.
– Дон, мне-то не надо лапшу вешать!
Он промолчал и отвернулся, только скула дернулась.
– Ты бы простил ее, а? Ведь вам же дальше жить, детей растить…
– Варька… Все-то ты понимаешь… Ладно, пора двигаться к дому. Катюшка! Пошли! Господи, зачем тебе этот сучок?!
– Класивый потому что! Ты, что ли, не видишь? Это вовсе длакон!
Варька рассмеялась:
– Да, твоя дочь!
И, глядя им вслед, подумала, что на самом деле ничего не понимает – уж больно странно выглядит Дон, совсем на себя не похож…
Пока Варька, бредя домой от Артемьевых, вспоминала события недавнего прошлого, а Томка, зевая, разбирала постель – второй час, ты подумай, как засиделись с Варварой! – за семьсот с лишним километров от них Митя и Лёка медленно приходили в себя. Лежать им было почему-то не очень удобно. Митя некоторое время с удивлением рассматривал красный тапочек, маячивший у него перед носом, потом догадался и быстро перевернулся на спину, притянув к себе Лёку, которая, томно вздохнув, послушно улеглась сверху.
– Слушай, почему это мы на полу?!
– Потому-у…
– Понятно. Тебе жестко было, бедная!
– Я не заметила…
– Дорогая! – Он поцеловал ее в шею под ушком, потом вдруг рассмеялся.
– Что ты?
– Да так. Странное чувство…
– Какое?
– Словно это первый раз! Как будто я впервые с женщиной!
– Адам после грехопадения?
– Вроде того.
– Ладно, вставай, Адам! А то мы всю пыль с ковра собрали!
Они перебрались на кухню – у обоих тут же возникло ощущение, что этих двух месяцев расставания и не было: Митя так же, как тогда, наворачивал такую же жареную цветную капусту с куриной котлетой, а Лёка опять сидела и любовалась им, подперев щеку рукой.
– Слушай, совсем забыл! – сказал Митя, едва прожевав первый кусок. – Я ведь написал кое-что за это время.
– Правда?! Стихи?
– Нет, совсем не стихи. Это вроде как проза. Повесть, что ли? Называется «Письма к Леа».
– Я хочу почитать!
– Конечно! Только надо еще править. Понимаешь, мне писать-то некогда, да и негде. Поэтому текст частично в блокнотах, а почерк у меня… Ну, сама увидишь. Потом я купил маленький ноутбук и писал по дороге. И по ночам. В общем, это все нужно привести в порядок, и я надеялся, что ты поможешь… Лёка?!
Лёка вдруг заплакала навзрыд – слезы так и брызнули!
– Господи, да что ж такое?! – Митя кинулся обнимать и целовать, а Лёка, отвечая на его поцелуи, бормотала, смеясь и плача одновременно:
– Я знала, знала! Я чувствовала это в тебе! Я знала, что мы не просто так! Я все сделаю – перепишу, напечатаю, выправлю! Там большой текст? Книжка получится?
– Ты даже не прочла, а думаешь о книжке! Может, это сплошная графомания!
– Нет! Этого не может быть! У тебя дар, я знаю! Я сразу это поняла!
– Ты так веришь в меня, что даже страшно…
Мите действительно стало страшно: а вдруг, если текст на самом деле ничего не стоит, она разочаруется?! В самом-то деле – что в нем есть такого, чтобы привлечь столь изысканную женщину, как Леа? Ничего! Но в глубине души он знал: написанное – прекрасно. Митя еще не догадывался, что теперь всю жизнь его душа так и будет колебаться на весах, которые держит своенравная Муза – от полного отчаянья и ощущения собственной никчемности до классического «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!».
Хотя он все время что-то сочинял и даже иногда записывал, то, что происходило с ним в последние два месяца, совсем не было похоже на прежнее! Уже после смерти бабушки Митя почувствовал, как что-то сдвинулось в душе, словно слегка приоткрылась тяжелая дверь в таинственную сокровищницу. Он попытался было написать рассказ или повесть о бабушкиной жизни – получалось плохо, да он и сам понимал, что горе еще переполняет душу.
Все изменилось после той внезапной горячки – температура спа́ла, но внутренний жар не утих. Митя не мог этому сопротивляться, словно чья-то жесткая рука держала его за воротник и тыкала в клавиатуру: пиши! Он и писал. Слова изливались свободно, и Мите казалось: он просто записывает под диктовку. И, перечитывая потом текст, даже несколько недоумевал: «Неужели это все я сочинил?! Как у меня получилось?!»
На следующий день они разобрали черновики – то и дело отвлекаясь.
– Это что – курица лапой корябала?! – вглядываясь в рукопись, ворчала полуголая Лёка, сидевшая по-турецки на кровати. – Ради бога, пиши сразу в компьютер! Ну ладно, разберусь как-нибудь… Ай! Что ж ты делаешь…
Митя притянул ее к себе – сил у него никаких уже не было, но хотелось чувствовать ее рядом:
– Ты слишком далеко!
– А тебе надо обязательно близко?
– Обязательно!
– Листочки рассыпались…
– Да ладно…
Через несколько минут – и несколько поцелуев! – все листочки были собраны, и они, приткнувшись друг к другу, стали разбирать Митины каракули, которые он сам не всегда мог расшифровать – Лёка сразу писала карандашом перевод самых загадочных пассажей, а две фразы так и остались неразъясненными.
Мите действительно было необходимо все время ощущать свою Лёку рядом: чувствовать тепло ее тела, запах волос, слышать стук сердца, биение пульса, дыхание. Только сейчас он осознал, насколько ему раньше не хватало простой человеческой нежности – Томка терпеть не могла все эти, как она выражалась, сюси-пуси, и за каждым поцелуем или объятием ей мерещилось непременное продолжение. Спали они с самого начала отдельно: Томка во сне без конца ворочалась и металась, и, после того как заехала Димке коленом по самому чувствительному месту, он категорически отказался делить с нею супружеское ложе. И теперь, проведя ночь с Леа, он просто наслаждался близостью женщины, такой прекрасной, такой желанной! Такой спокойной.
– Как хорошо, что ты тоже любишь обнимашки, – сказала прекрасная и желанная, устраиваясь поудобней у него под боком. – Ты знаешь, оказывается, человеку обязательно надо, чтобы его обнимали! Четыре раза в день – минимум. Правда-правда!
– Обнимашки?! Забавное слово. Детское. А расскажи – какая ты была в детстве?
– Ой, страшная нюня и плакса! Все время куксилась! Когда гуляли, вечно терялась – мама рассказывала. Играла только с лошадками, просто помешана была на этих лошадках! У меня их много было, разных – и пластмассовые, и деревянные, большие, маленькие. Целое стадо!
– Целый табун.
– Ну да. Даже снилось, что скачу верхом! А когда видела клодтовских коней на Аничковом, увести нельзя было, только мороженым отвлекали. И почему именно лошадки?
– А лет в пятнадцать?
– В пятнадцать? Нескладная, неуклюжая…
– Быть этого не может!
– Еще как может! Я очень быстро выросла, выше Кали, а она на целых три года старше. Координация движений плохая, я все время что-нибудь роняла, разбивала. Ужасно себе не нравилась. Худая, длинная… Ноги отрастила тридцать девятого размера, ступня узкая, ничего не купишь, в каких-то галошах вечно ходила… Платья донашивала за Калей… И страшно была влюблена. Безнадежно!
– В какого-нибудь учителя, наверно?
– Нет! В Калиного молодого человека. Он совсем взрослый – года двадцать два – двадцать три… Красивый… Я так страдала! Все воображала, как умру от неразделенной любви и они будут рыдать над моим гробом. А я лежу – вся из себя прекрасная. И он сокрушается: «Ах, почему я не ответил на ее чувство, такое сильное и глубокое, она же мне нравилась больше сестры!» Вроде как я собой пожертвовала ради Калиного счастья… Смейся-смейся! – И невольно рассмеялась сама. – Ну да, теперь смешно. А тогда…
– А дальше что было? С молодым человеком?
– Ну, потом он куда-то делся! Так и не узнал о моей безнадежной любви.
– Бедная девочка! – очень нежно произнес Митя и провел пальцами по ее щеке и губам.
– Мне так хорошо с тобой, – прошептала она. – Так надежно! Я чувствую себя защищенной…
– Знаешь, это ты делаешь меня мужчиной. Раньше я ощущал себя мальчиком, понимаешь? Жил, как… как лист на ветру. А сейчас пустил корни. Ты создала меня. Нет, не так. Я был всегда, просто ты вызвала меня к жизни. Мне кажется, это и есть любовь.
– А я два месяца убеждала себя, что нам не нужно никакого продолжения! И что вышло? Ужасно в тебя влюбилась! Просто ужасно…
– Так сильно?
– Да…
– Я счастлив.
– Правда?!
Они заглянули друг другу в глаза, потрясенные той невероятной, немыслимой, невозможной случайностью, что привела их друг к другу.
– Я тебя никогда не перелюблю, – прошептала Лёка, а Митя улыбнулся:
– Тоже детское слово, да?
– Ага. Я так маме всегда говорила.
– Хорошее слово, многозначное.
– Не перелюблю – не разлюблю!
– А еще – не буду любить слишком много. Избыточно.
– Да, правда… Мне это в голову не приходило. – Она вспомнила Германа Валерьяновича – пожалуй, он ее перелюбил именно в этом смысле. И, пожалуй, ей стоит последить за собой, чтобы не стать Мите в тягость со своей любовью! Постараться любить Митю – для него, а не для себя.
– Что ты вдруг загрустила, а?
– Я просто подумала… Когда я стану старушкой, седой и сморщенной, ты будешь еще вполне молодцом…
– Когда нам будет сто и девяносто, кто заметит разницу?! А вообще, ты никогда не будешь старушкой.
– Почему это?!
– Потому что ты удивительным образом сохранила ум шестилетнего ребенка.
– Я что, такая глупая?!
– Ты умница и красавица! И я всегда буду видеть тебя такой, как сейчас! Сколько тебе? Вот в эту минуту? На сколько ты себя ощущаешь? Только честно!
– Лет на двадцать, наверно…
– Ну вот! Ты очень юная, милая, смешная… Прелестная! Нежная и хрупкая, как мартовская льдинка – прозрачная, тонкая, кружевная, тающая на солнце… Боже мой, за что ж мне, дураку, такое счастье!
Наконец, ближе к вечеру, Митя сосредоточился на тексте и выстроил последовательность эпизодов, разбросанных по разным файлам. Он уехал, а Лёка осталась сводить воедино Митину писанину. Заняло это почти неделю – она скрывала от Мити, что работает и по ночам. Закончив, она выслала текст Мите на окончательную правку, внесла его корректуру и, наконец, распечатала. Получилось почти три авторских листа – маленькая книжка! Пару дней Лёка не притрагивалась к распечатке – надо было отдохнуть от текста, отвыкнуть, чтобы увидеть его новыми глазами – не как редактор, а как простой читатель. А когда наконец прочла… Если бы Митя мог видеть ее в этот момент! Она сидела с закрытыми глазами, прижав листы с текстом к груди – щеки горели, сердце колотилось, как сумасшедшее! Нарушив их правила, она сама позвонила Мите и закричала в трубку слова любви и восторга, а Митя, который как раз шел пешком со станции, слушал и улыбался во весь рот. Когда Лёка отключилась, он высоко подпрыгнул, размахивая руками и ногами, и заорал во весь голос, благо никого вокруг не было. Он бы и колесом прошелся, но было слишком грязно для таких выражений экстаза – только что прошел дождь.
Они все-таки сделали книжку – Лёка настояла. Она сама все провернула – нашла издательство, художника для обложки, так что Мите оставалось только заплатить. Сумма была приличная, а тираж небольшой, но зато издательство само занималось распространением. Он завел себе сайт – в придачу к странице на самиздате и Живому Журналу, который вела от его имени Лёка: у него не было времени. Теперь он писал почти все время, при любом удобном случае, и научился отключаться: жена могла что-то говорить, а он поддакивал и кивал, не вникая. Детей он слушал. Вернее, Катюшку – Антошка еще пока не говорил. Пацан получился забавный и очень похожий на Томку: маленький тигренок! И когда Катюшка тетешкала его, напевая: «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку!» – он заливисто хохотал, размахивая ручонками. Только дети и радовали, а жену Митя как бы вынес за скобки своего существования.
Он начал работать над романом, который про себя называл «бабушкин». Дело двигалось медленно, потому что попутно Митя то и дело отвлекался на что-то другое, более короткое. Да и замахнулся он по-крупному: действие романа начиналось в конце девятнадцатого века, а закончиться должно было в начале двадцать первого. Ему требовалось много фактического материала, и Лёка рылась в книгах и Интернете, помогая ему войти в эпоху. Теперь Митя был уверен, что справится – пусть на это и уйдет несколько лет. Текст рос и ветвился, как растет деревце из маленького семечка, – любое Митино произведение так и возникало на свет. Все «Письма к Леа» родились из видения женщины с ветром в волосах, идущей по набережной. А «бабушкин» роман кристаллизовался вокруг сцены в оккупированной деревне: немцы забрали последние продукты и – до кучи! – лоскутное одеяло, сшитое Полиной. Она бежала за немцами, крича:
– Отдайте хоть одеяло! У меня ребенок маленький!
А Машенька хватала ее за подол и плакала:
– Мама, не надо, не надо! Застрелят!
Но порой Митю охватывало отчаянье: все написанное казалось корявой ерундой – и кто это станет читать-то?! В такие минуты ему была просто необходима Лёка – только она умела успокоить его и вселить уверенность в себе. Лёка взялась переводить его «Письма к Леа» на английский и французский, надеясь заинтересовать зарубежных издателей: у нее были какие-то знакомства, еще со времен замужества. Митя даже не надеялся и был просто потрясен, когда с ним действительно подписало контракт лондонское издательство.
С момента встречи с Лёкой его жизнь изменилась так круто и так стремительно набирала обороты, что его порой укачивало. Да и писал он слишком много. Ему все больше хотелось бросить работу и полностью отдаться творчеству, которое особенных заработков, честно-то говоря, не приносило. Ну, и как бросить? Жить-то на что?! Он давно уже был партнером в фирме и чувствовал ответственность за дело. И ответственность за семью, за детей. За Лёку. И хотя Митя как-то приладился к своей двойной жизни, это не сильно ему нравилось: два города, две женщины, две разные работы. И еще больше ему не нравилось, каким он сам становился, разрываясь между двумя городами и двумя женщинами.
Хотя…
Если все время только писать, можно и с ума сойти – порой он так уставал, что, приехав к Лёке, спал часов двенадцать подряд. Или, наоборот, писал как заведенный, потому что по дороге ему пришла в голову какая-нибудь новая идея. А бедная Лёка всё это терпела: неделями ждала его приезда, стерегла его сон, сдувала пылинки, правила его рукописи, бегала по издательствам…
После выхода английского издания «Писем к Леа» они с Лёкой не виделись целых три месяца – Митя никак не мог вырваться. А когда наконец приехал… Нет, вроде бы все было как всегда – и радость встречи после долгой разлуки, и острый всплеск желания при первом же поцелуе, и сбивчивые, перепрыгивающие с одного на другое разговоры – столько надо было поведать друг другу! Все как всегда, но… Что-то было не так – Лёка чувствовала. Словно струя холодной воды в теплом течении, словно сквозняк из незакрытой форточки. Лёка невольно приглядывалась и прислушивалась: ей мерещилась какая-то фальшь в Митиной нежности… и вдруг, прервав саму себя на полуслове, она воскликнула:
– Ты снова с нею спишь!
Повисла тяжелая пауза – Митя ничего не ответил, только опустил голову, и Лёка, немного помолчав, продолжила прерванную фразу:
– Да, и проблемы с верстальщиками…
– Дорогая! Послушай!
Но она не хотела ничего слушать и суетилась больше обычного, а Митя следил за ней страдальческим взглядом.
– Совершенно невозможно найти приличного верстальщика, ты знаешь! Редактор там хороший, насчет обложки я договорилась…
После ужина, прибираясь на кухне, Лёка сказала, стоя к Мите спиной:
– Я постелю тебе сегодня на диване в большой комнате, хорошо? А то я что-то… Ну, в общем, голова болит весь день.
Прозвучало это жалко – Митя встал и попытался ее обнять, но Лёка вывернулась и ушла в комнату, бросив из-за плеча:
– Надеюсь, вы хотя бы предохраняетесь.
Полночи Лёка не спала, зная, что и Митя не спит в соседней комнате. Она никак не могла переломить себя: ведь знала же, знала, что так и будет! Знала! И все равно оказалась не готова! Наконец она задремала. Ей снилось большое французское окно, которое надо было отмыть – там, за мутным стеклом, маячила Митина фигура. Лёка старательно терла стекло тряпкой, прыская очистителем, но стекло не столько очищалось, сколько истончалось и, наконец, рассыпалось под ее рукой в мелкую стеклянную пыль. За первым стеклом оказалось второе, точно такое же, потом третье – она возила и возила тряпкой, а толку не было – стекла рассыпались одно за другим. Вдруг Митя решительно ударил кулаком в стекло со своей стороны, и все преграды рухнули. Он улыбнулся ей и протянул руку – Лёка, помедлив, дала свою, они переплели пальцы… Она проснулась – Митя держал ее за руку. Он стоял на полу на коленях, положив голову на край постели. Лёка обняла его холодные плечи:
– Митя! Ты что?! Ты с ума сошел? Ты же простудишься!
Он действительно закоченел и еле разогнулся, поднимаясь с пола. Лёка прижалась к нему, согревая:
– Сумасшедший…
– Не отказывайся от меня! – зашептал Митя. – Дорогая! Пожалуйста, не отказывайся! Я не вынесу! Меньше всего я хотел, чтобы ты страдала, и вот… Прости меня! Прости! Можно, я объясню?
– Нет! Митя, ты не должен! Ты не обязан ничего мне объяснять и оправдываться! Не должен просить прощения! За что?! За то, что спишь со своей женой?! С матерью своих детей?! У меня нет на тебя никаких прав!
– У тебя больше прав, чем у кого бы то ни было. Послушай… Хочешь… хочешь, я останусь? Навсегда? Прямо сейчас? – Он тут же почувствовал, как Лёка напряглась, и пожалел о сказанном. Справиться с инфернальным страхом Лёки перед его открытым разрывом с женой он никак не мог, как ни пытался.
– Митя, но ты же знаешь…
– Не понимаю, какая разница? Все равно я изменяю жене! По крайней мере, я поступлю честно, пусть и жестоко. Лучше один раз отрезать, чем врать всю жизнь! Хотя… особенно и врать-то не приходится… Она так мало интересуется моей жизнью…
– Митя, пожалуйста! Пожалуйста! Ты прав, я знаю! Но я ничего не могу с этим поделать! Я боюсь! Я не могу, просто не могу…
– Ну хорошо, хорошо! Прости меня! Прости. Все будет, как ты хочешь.
– Я смирюсь, правда! Не буду об этом думать, и все!
– Это не я там, понимаешь? С ней. Там – Дима. А я – Митя. Я не знаю, как мне удается раздваиваться, но… настоящий я – с тобой. И настоящая любовь – здесь, сейчас…
И Митя принялся утешать и успокаивать трепещущую Лёку – поцеловал раз, другой, и она, вздохнув, забыла обо всем, чувствуя только поцелуи, только прикосновения рук Мити, только касания его чутких пальцев, что настраивали ее, словно живой музыкальный инструмент. Все ее существо звучало, пело, парило, плыло на волнах этой волшебной мелодии, слышимой им двоим, а Митя, просто тая от нежности, смотрел, как она расцветает от ласк. Но, придя в себя, Лёка вдруг снова испугалась – никогда еще Митя не был так нежен с нею!
– Ты… ты что?! Ты так со мной прощался?!
– Лёка, ну что ты! Господи… Я так просил прощения! Как я мог прощаться, если я только что умолял не бросать меня?! Я же хотел остаться, ты забыла?!
– А вдруг… ты решил… что если не так… то никак. – И она совершенно по-девчоночьи разревелась.
– Ну вот! Теперь ты решила утопить меня в слезах?
Ну что с нею делать?! Митя знал, почему Лёка так страшится его возможного развода: ей казалось, что чем реже они видятся, тем сильнее любовь, а если они будут жить вместе, все кончится очень быстро – она надоест Мите, и он найдет себе более юную и прекрасную девицу. И пока она не увела Митю из семьи, все еще, возможно, и обойдется. Ну, встречаются они раз в месяц – может, судьба и не обратит на это внимания? И не накажет их?
Лёка ужасно боялась, что Митя ее разлюбит! Она старалась это скрывать, но иногда страх прорывался наружу, вот как сейчас. Получив гонорар от англичан, Митя положил его на счет Лёки и торжественно вручил ей карту – если бы не она, никакой книжки не было бы вообще. Но она ужасно испугалась: смертельно побледнела и отбросила карту, как раскаленную головешку. Митя решил было, что оскорбил ее деньгами, но потом понял: Лёка решила, что он хочет с ней расстаться!
– Господи, ну что ты выдумала?! Совсем сошла с ума! Лёка, бедная моя… Давай ты не будешь думать всякие глупости, а?
– Ладно… Я постараюсь…
Она старалась, очень старалась! Если бы Митя только знал, с каким страхом Лёка ждет неизбежного пятидесятилетия, сколько усилий она прилагает для поддержания молодости и красоты! Еще счастье, что у нее хорошие гены – мама и в семьдесят пять выглядит прекрасно, а Кале никто никогда не дает ее лет: великолепная кожа, никаких морщин и ни одного седого волоса. Каждый день Лёка делала гимнастику, ходила в бассейн и на фитнес, питалась исключительно здоровой пищей и старалась не засиживаться за компьютером. Летом она носила темные очки, а потом даже купила шляпу с большими полями, чтобы кожа не страдала от солнца. В общем, жила она в сплошном трепете и волнении…
– Митя, скажи, ты веришь в это? Что мы когда-нибудь сможем быть вместе? И не бояться?
– Я и сейчас ничего не боюсь. Я же говорил тебе, что не верю в наказание судьбы. Чаще всего страдают невинные, ты не заметила? Вот моя бабушка – это такая кроткая и добрая душа, а какая жизнь у нее была?! Выдали замуж, не спросясь – хочет, нет ли! Растила чужих и своих детей, пасынок на фронте погиб, падчерица повесилась, ее собственный сын – мой дядя Ваня – от рака умер совсем молодым. Терпела от мужа побои и унижения. Полюбила человека, а уйти к нему не могла, потому что весь наш дом на ней был. И ни от кого словечка благодарности не дождалась! Если б не я… А, ладно! Или вот Варька, которая мне с бабушкой помогала, – она-то за что наказана? Или мать ее? Дочь умерла в детстве, муж от инфаркта, сын под поезд попал… Сойдешь тут с ума!
– Да, верно! За что?!
– А нет ответа. Ни за что. Просто так карта легла.
– Ты так это понимаешь?
– Да.
– Митя, а ты в Бога не веришь?
– В Бога? – Митя вздохнул: – Я много думал об этом. Мне кажется, вера – это такое особое состояние души… Нет, мне не дано. Бог как-то не вписывается в мою картину мироздания.
– У тебя есть своя картина мироздания?!
– Да. А у тебя нет? Девчонка, что с тебя взять! А насчет Бога… Знаешь про рыбок в аквариуме?
– Нет! Что за рыбки?
– Плавают две рыбки в аквариуме. Одна спрашивает: «Как ты думаешь, Бог есть?» Другая отвечает: «Не знаю… Но кто-то же меняет нам воду». Так что, дорогая, давай подождем, пока нам не поменяют воду…
Лёка рассмеялась, потом задумалась.
Две рыбки в аквариуме мироздания – они лежали, обнявшись: Лёка потихоньку засыпала, а Митя не мог спать. В голове у него шла привычная нескончаемая работа, наполовину осознанная: он словно просеивал сквозь мелкое сито впечатления сегодняшнего вечера и пережитые чувства, отбирая и складывая про запас в хранилища памяти все самое выразительное и яркое, чтобы потом, уже забыв, откуда что взялось, вставить в роман и внезапные слезы Лёки, и ее смех, и тихий стон… И собственную – почти невыносимую! – нежность к этой женщине, неизвестно за какие заслуги подаренную ему судьбой.
А утром, когда Лёка проснулась, Митя уже сидел за компьютером и быстро шелестел клавишами – рассеянно ответил на ее поцелуй и снова погрузился в текст: в очередной раз отложив роман, он писал небольшую повесть о любви и измене, которую не знал пока, как закончить.
– Сделать тебе кофе?
– Да, пожалуйста. Я поработаю немножко, ладно?
– Конечно.
Леа принесла кофе, поставила рядом с ноутбуком, а сама забралась с ногами на диван, завернулась в халат и, потягивая кофе, любовалась работающим Митей: хмурилась вместе с ним, поднимала брови, улыбалась. И, рассеянно прихлебывая кофе, думала: «Господи, я так люблю его! Если бы не было компьютера, я переписывала бы от руки его черновики, как Софья Андреевна – Льву Толстому. Хоть сто раз! Или на машинке перепечатывала…»
Она представила себе, каково это – жить вместе с Митей?
Просыпаться вместе каждое утро, засыпать ночью…
Смотреть, как он работает…
Готовить ему обед, стирать рубашки…
И вздохнула.
Ну, хоть помечтать-то можно?!
Митя перестал шелестеть, перечел написанный текст, почесал нос, потом быстро исправил что-то в двух местах и кивнул: вот так лучше! Протянул, не глядя, руку за чашкой, промазал – Лёка хихикнула. Наконец, нашел чашку, отпил, все так же глядя в экран, и поморщился – кофе холодный! Лёка не выдержала и рассмеялась. Митя повернулся к ней вместе с креслом, вытянул ноги и сказал, закинув руки за голову:
– Привет! Как ты хорошо уклопштосилась!
– Что я сделала?!
– Уклопштосилась! Ну, угнездилась. И долго ты собираешься так сидеть?
– Всю жизнь, – ответила Лёка. – И всю следующую жизнь.
– В халате?
– Могу и без халата!
Они, улыбаясь, смотрели друг на друга. Потом Лёка покраснела и засмеялась:
– Перестань!
– А разве я что-то делаю?
– Ты думаешь!
– Я же не могу не думать! Особенно глядя на тебя…
Лёка вздохнула: она прекрасно знала, что последует дальше. Сейчас ему в голову придет очередная гениальная мысль, и он напрочь забудет про нее – будь она в халате или без халата! Так и есть – Митя нахмурился и, разворачивая кресло, рассеянно сказал:
– Ты знаешь… Мне тут надо кое-что доделать… недолго. А потом я весь твой, ладно?
– Конечно!
Но он уже не слышал. Лёка встала, тихонько подошла и, стоя у Мити за спиной, некоторое время смотрела на слова, выползающие на экран из-под его быстрых пальцев, подобно вереницам черных муравьев, – откуда? Откуда он их берет?! Почему именно эти слова, цепляющиеся друг за друга крепкими усиками смысла и связывающиеся в такие прекрасные фразы?! Иногда она угадывала очередное слово, иногда нет, но увлекательнее занятия не было, и, если бы Митя только позволил, она всю жизнь стояла бы у него за плечом! Но он этого не любил, поэтому Лёка осторожно отступила, но Митя быстро повернул кресло и, ловко ухватив ее за талию, посадил к себе на колени:
– Попалась!
Лёка виновато сморщила нос, но Митя не сильно сердился:
– Сколько раз я просил не стоять над душой, а? Сбиваешь меня… Разве можно работать, когда над ухом сопят всякие Леонидки…
И тут же заглянул ей в глаза: не обиделась ли? И поцеловал.
– Леонидки! Это что такое? Это птички, насекомые, зверюшки или рыбки? – Лёка положила голову Мите на плечо и обвела пальцем скулу, на которой пробивалась щетина: ее страшно забавляло, что усы и борода у него растут совершенно рыжие!
– Выдумщица! Рыбка-бананка, это у Сэлинджера. А насекомое – медведка.
– А! Я помню что-то такое! Медведка – она какая? Мне кажется, лохматая, вроде гусеницы, коричневая, в норке живет…
Митя рассмеялся:
– Медведка – страшный хищник в доспехах! Фильм «Чужой» смотрела? Вот такое, только маленькое.
– Фу! Гадость какая!
– А леонидки… Они полупрозрачные, бледно-зеленые… Крылышки у них, как у стрекоз, только не жесткие, а мягкие! И золотые глаза. Они танцуют в воздухе… в солнечном луче… над ручьем. Над лесным ручьем! А когда солнца нет, они прячутся во мху. Такой густой зеленый мох… Цветет оранжевыми метелочками.
– А они умеют петь?
– Да! Как цикады, только нежней. Очень тихо. На закате…
Лёка шмыгнула носом и уткнулась Мите в шею – плечи ее вздрагивали.
– Я так люблю тебя! Просто невозможно, как сильно!
– Конечно, это такое горе, любить меня, да?
– Не смейся!
– Я совсем не смеюсь, – хрипло сказал Митя, с силой провел рукой по ее спине и, распахнув халат, стал жадно целовать беззащитно откинутую шею, ключицы, плечи, грудь – впиваясь ртом в нежную плоть и оставляя синяки на невероятно белой коже, особенно белой на фоне черной ткани халата. Но даже в эти минуты он не переставал думать о своем тексте, и в тот самый миг, когда сознание наконец вспыхнуло снопом искр и отключилось, он понял, каким должен быть финал!
Глава 6 Перемена участи
Тамара очень не любила, когда дети болели. Конечно, какие родители это любят? Но Томке каждый раз казалось, что дети цепляют всякие гриппы и ангины нарочно, ей назло – сама она почти никогда не простужалась и даже ни разу в жизни не была у зубного врача, а «критические дни» просто ненавидела: и почему этот организм так по-дурацки устроен! Везет мужикам! И когда простудился трехлетний Антошка, тоже сначала злилась: так не вовремя. Отчет на носу, а тут! С утра Антошка куксился, хлюпал носом, подкашливал, но к обеду температура у него подскочила до тридцати девяти! Он горел, метался, никакие домашние средства не помогали, и Томка вдруг впала в страшную панику: точно так же метался и бредил четыре года назад его отец. Она благополучно забыла, что не хотела рожать этого ребенка, а теперь вдруг вспомнила и скандал с мужем, и свое идиотское поведение: а вдруг… вдруг судьба решила ее наказать и Антошка… умрет?! Господи, нет, нет! Она заметалась, не понимая, что делать, и схватилась за телефон, как за спасательный круг: Димка! Позвонить Димке! Тамара не помнила, куда он уехал на сей раз, да никогда и не пыталась особенно запоминать: в командировке, и ладно. Димка ответил сразу – фоном слышались какие-то мужские голоса и невнятный шум. Выслушав жену, он сказал:
– Вызови «Скорую», немедленно! О чем ты только думаешь? Я приеду сегодня.
«Скорую», конечно! Она совсем рехнулась, если не подумала об этом! Томка бормотала, что не надо приезжать, она справится: вернуться Димка должен только в понедельник.
– Я сказал – приеду.
Он приехал в половине первого ночи, когда кризис уже миновал – Антошка заснул, а Тамара сидела, беспомощно опустив руки, сама еле живая. Димка посмотрел на нее тяжелым взглядом, прошел к сыну, поцеловал его в потный лобик – Антошка, не просыпаясь, пробормотал: «Папа…», а Томка отвернулась – для нее у мужа давно уже не находилось такого нежного выражения лица. Димка отпустил жену спать, а сам еще долго ходил по квартире – то в ванну, то на кухню, то к дочери, то опять к сыну. Только к Томке не зашел. Спать она не могла, страх не отпускал. И Тамара все-таки заплакала, как ни крепилась, – горько, безнадежно, отчаянно. Она вздрогнула, когда неслышно подошедший муж лег рядом с ней и обнял. Она вцепилась в него и зарыдала с удвоенной силой, а Димка молча гладил ее по голове.
– Я так испугалась, так испугалась! Вдруг он умрет?! Я тогда жить не смогу!
– Успокойся! Никто не умер, все живы, все будет хорошо.
– Димочка!
Димка нахмурился – она впервые в жизни назвала его так.
– Ди-имочка, прости меня! Прости меня, пожалуйста, за Антошку! Я была такой дурой! Просто идиоткой! Я так раскаиваюсь, честно! Димочка, пожалуйста! Простииии…
– Ну что ты… не надо… перестань…
Димка никогда не видел в жену в таком состоянии, и ему стало как-то не по себе. А Томка вздрагивала от рыданий и прижималась к нему изо всех сил. Она вдруг осознала, как соскучилась – сто лет он ее не обнимал! В первые годы брака муж еще лез к ней с какими-то нежностями, но Томка сама его отучила: ты ж мужик, а не трепетная лань! А сейчас ей так хотелось нежности и ласки! И, пожалуй, она была бы вовсе не против, если б он назвал ее малышкой и бедной девочкой, как когда-то, потому что именно так себя и чувствовала: испуганной малышкой и глупой девочкой.
Томка даже не могла вспомнить, когда у них последний раз был секс – боже, неужели… неужели четыре года назад?! Ну да, тогда они и сотворили Антошку. Четыре года! Нет, это слишком – даже для них с Димкой! А если… если он больше ее не хочет?! Совсем?! Она вся дрожала, сгорая от вспыхнувшего вдруг острого желания – нет, это просто невыносимо: чувствовать так близко его тело, запах… Томка робела, не решаясь ни поцеловать, ни приласкать собственного мужа, и больше всего боялась, что он сейчас встанет и уйдет, бросив ее одну в этой проклятой постели! Но муж не уходил. Он вдруг повернулся и включил ночник. Томка заморгала, представив, какая она зареванная, опухшая от слез и красная. Несчастная и жалкая. Конечно, ему неприятно… Димка все смотрел на нее, очень внимательно: выражение лица у него было странное, и Томка совершенно не понимала, о чем он думает. Никогда не понимала, а сейчас – и подавно.
– Димочка! – дрожащим шепотом попросила она. – Димочка, пожалуйста…
И «Димочка» поцеловал ее наконец.
Но если Тамара надеялась, что после этой безумной ночи у них все наладится, она ошибалась – стало еще хуже. Утром Димка ушел, когда она еще спала, а ночевать не явился. Тома не сразу догадалась ему позвонить, подумав, что он вернулся в эту свою командировку – с него станется. Но оказалось, что он в Филимонове! «Мне надо побыть одному». Голос у Димки был какой-то чудной, и Тамара, только повесив трубку, с ужасом поняла, что он напился! Пить Диме было категорически нельзя, он и сам это прекрасно знал. На Томкиной памяти он напивался всего дважды: первый раз еще пацаном, когда подрался с Кузяевым. Именно тогда Томка и поверила, что Димка и алкоголь несовместимы, а то все думала: выпендривается! С тех пор Димка на празднествах не пил ничего крепче пива и белого вина, и то по чуть-чуть, предпочитая минералку.
Второй раз это случилось на бабушкиных поминках – Тома не успела оглянуться, а Димка уже орет на мать и сестер, что они угробили бабу Полю! Старший Томкин братан полез было его утихомиривать, но Димка вошел в раж и разбил тому физиономию в кровь. Если бы не Варвара, неизвестно, чем бы закончились поминки – Томка просто не знала, что делать, да и испугалась, честно говоря. Варя спокойно подошла к невменяемому Димке и тихо сказала:
– Дон! Ну, что ты разошелся, а?
Димка перевел на нее мутный взгляд, потом встряхнул, поморщившись, головой:
– Ва-арежка…
– Пойдем-ка! – Она бестрепетно взяла его за руку и увела в бабкину квартиру. Когда Тома, слегка опомнившись, заглянула туда, Димка рыдал, уткнувшись в Варькины колени, а та гладила его по голове. Тамара вытаращила глаза, а Варя махнула ей рукой и шепотом сказала:
– Ничего, отойдет! Не беспокойся! Иди!
И Томка ушла, оставив мужа в объятиях лучшей подруги. Она долго не могла простить это Варьке. И вот снова! Господи, что же делать? Поехать, что ли, туда? Или опять просить Варьку? Стыдно! Да и не хочется вообще-то: мало ли, что у них там может произойти! Так ничего и не придумав, Томка пустила все на самотек. Ночью она почти не спала, Димка за весь день ни разу не позвонил, но вечером приехал домой. Антошка выздоровел, и все пошло, как всегда: командировки, работа, домашняя суета, невидимая, но прочная стена между мужем и женой. Ближе они не стали, наоборот. Томка страшно мучилась – в ней наконец проснулась женщина, и она изнывала по ночам, не решаясь сама пойти к мужу, который спал в соседней комнате. Один раз, не выдержав, зашла – Дима вовсе не спал, а сидел перед компьютером. Тамара успела увидеть какой-то длинный текст, пока он не свернул документ.
– Тебе что-то надо?
«Тебя!» – хотелось сказать Томке, но она молчала, а Димка смотрел на нее с непроницаемым видом. Она повернулась и ушла. Характер у Томки совсем испортился, она ничего не могла с собой поделать и цеплялась к мужу по любому поводу. Раньше он доводился быстро, а теперь совершенно невозмутимо реагировал на все ее шпильки, глядя с понимающей усмешкой. Черт его побери, он всегда видел ее насквозь! Один раз Томке все-таки удалось его задеть – у него задергалась скула, в глазах вспыхнуло бешенство: Томка похолодела, глядя на него, как кролик на удава, и зажмурилась, когда он…
…он ударил ее резким и точным ударом каратиста – прямо в висок, и Томка отлетела в угол, стукнулась затылком о край серванта и застыла на полу, как сломанная кукла, а сверху на нее медленно и плавно, как при замедленной съемке, посыпались пластиковые футляры с кинодисками. Дима, мгновенно остыв, с ужасом увидел, как расплывается на ковре темное пятно:
– Томка! Боже мой…
Он встал на колени, пытаясь нащупать пульс – Тамара не дышала, зачем-то потряс ее безжизненное тело – напрасно, попытался сделать искусственное дыхание…
– Папа! Что случилось?! Что с мамой?! Почему ты… в крови?! Папа!
Он не слышал, как хлопнула входная дверь! Катя и Антон дико смотрели на него, а Катя вдруг зажала рот обеими руками и…
Томка зажмурилась, но муж не ударил, а кинул ее на диван и взял почти силой – быстро, грубо, унизительно. И ушел, хлопнув дверью. Тамара свернулась клубочком на диване: ну что, получила? Хорошо, детей дома не было! Ну, при детях он бы не посмел… Да и она сама не стала бы так к нему цепляться! Слезы текли у нее по щекам – за всю предыдущую жизнь она не плакала столько, сколько за последнее время. Поздно ночью он разбудил Томку, напугав до ужаса – спросонок показалось, что он пришел ее убить, и она шарахнулась к стенке. Но Дима просил прощения, и она, опять заплакав, сказала:
– Ничего… Я сама виновата… Я больше не буду…
– Том, я тебя серьезно прошу: прекрати! Господи, и почему мы не можем общаться как нормальные люди?!
– Не знаю…
Но постепенно все как-то наладилось – Димка иногда спал с ней, когда видел, что совсем сносит крышу. Редко. Очень редко. И Томка задумалась: а может, родить еще ребенка? Тогда ей точно будет не до секса. Она заикнулась об этом Димке, но он хмыкнул и сказал: «Не выдумывай!» И Тома даже представить не могла, что на языке у него вертелись совсем другие слова: «А может, лучше разведемся?» Так они и жили, и потом, когда вся правда наконец выплыла наружу, Тамара поражалась: почему ей никогда не приходила в голову простая мысль, что у мужа есть другая женщина?! А может, и не одна – с его бесконечными командировками можно было изменять хоть каждый день! И как теперь жить дальше? С Варварой, что ли, поговорить…
А Варька наконец вышла замуж! Четыре года назад, когда Глеба Пономарева, в которого Варвара давно и безнадежно была влюблена, бросила жена, Варя приняла его в радостно распахнутые объятия вместе с тремя детьми: дочкой и близнецами-пацанами. Теперь Томка со стыдом вспоминала свое снисходительное сочувствие: она, конечно, радовалась тогда за подругу, но не слишком ее одобряла – Глеб казался ей прирожденным неудачником, не сумевшим удержаться в Москве. И почему, интересно, его жена бросила? А теперь он посадил Варьке на шею троих детей, одна вообще почти калека (у девочки был ДЦП) – любое физическое отклонение или недомогание вызывало у Томки бессознательный страх и отторжение. Но Варвара с Глебом были так счастливы, так упивались собственной любовью, так нянчились с детьми, к которым довольно скоро прибавилась их собственная Танечка, что невозможно было не признать: после долгих лет безнадежного отчаянья удача наконец повернулась к ним лицом. И как теперь рассказывать Варваре о Димкиной измене?! Она же будет злорадствовать или, хуже того, жалеть!
И так проходил день за днем – в постоянных размышлениях, душевных терзаниях и воспоминаниях. Только на работе Томка могла отключиться: надев строгий офисный костюм, она преображалась в благополучную и уверенную в себе даму, наводящую страх на подчиненных барышень.
– Тебе не показалось, что наша Тигра как-то помягчела после отпуска? – спросила, выходя из туалета, одна барышня в пиджачке и зеленом фирменном галстучке у другой, точно такой же, но в очках.
– Как же, помягчеет она!
– Нет, правда! Ходит с томным видом, рассеянная, а вчера я ошиблась в сводке, думала – убьет! А она: «Постарайтесь больше так не делать!» – и все, представляешь?!
– Слушай, а может, она… – И барышня в очках зашептала что-то на ухо барышне без очков, но та скептически поджала губы:
– Да ладно, никогда не поверю!
– Я тебе говорю! Так и млеет рядом с ним! А что? Он такой зайка!
– Все у тебя зайки! Она ему в мамки годится! Тсс, идет! – И барышни с деловитым видом разбежались.
Томка никак не могла годиться в мамки «зайке», о котором шла речь, потому что была всего-то лет на десять старше Майкла, системного администратора. Майкл – ему удивительно шло это имя! – действительно нравился Тамаре, и она не видела в этом ничего предосудительного: симпатичный молодой человек, легкий в общении, с приятной улыбкой. Всегда очень понятно объясняет, а то в этих новых банковских программах сам черт ногу сломит. Он совершенно ее не боялся, разговаривал, как со сверстницей, и… очень странно на нее действовал! Когда Майкл садился за ее компьютер и быстро шелестел по клавиатуре, задумчиво покусывая ноготь большого пальца и хмурясь на монитор, Тамара почему-то волновалась и не могла оторвать взгляда от его рук с татуировками: на левой от запястья до локтя красовалась длинная фраза на английском языке, выведенная красивой вязью, а на предплечье правой руки – затейливый иероглиф.
– А что он означает? – не выдержала однажды Томка.
– Любовь, – ответил Майкл, глядя в монитор.
– А как переводится фраза?
– Эта? – Он вытянул руку, показывая татуировку Тамаре. – Будь осторожней со своими желаниями – они сбываются.
– А что, есть еще фразы? – спросила Томка и подумала: «Что я к нему пристала?! Какое мне дело до его татуировок?! Совсем с ума сошла!» Они сидели рядышком, как школьники за партой, и у Томки от близости его крепкой загорелой руки бежали по коже мурашки. Майкл повернулся и взглянул Томке в глаза, а она вдруг покраснела.
– Есть и еще. Могу показать, хотите?
– Нет, спасибо! Не стоит!
Вернувшись из Петербурга, Тамара уже не могла больше смотреть Майклу в глаза, потому что осознала, в чем причина мурашек и волнения – раньше ей казалось, что она не способна испытывать ничего подобного ни к кому, кроме собственного мужа, а уж в особенности к такому молодому человеку, как Майкл! С серьгой в ухе и татуировками. Не способна и не должна! Но пример Людмилы и Димки наглядно показал, на что способны и женщины, и мужчины. А муж ничего не замечал, занятый, как всегда, своими загадочными делами…
Дела у него были – хуже некуда. Оставшись один, когда Томка с детьми уехала в Питер, Митя слегка волновался. Нет, надо же было им отправиться именно в Петербург! Мите казалось, что они вторглись на его заповедную территорию. Но волновался он вовсе не из-за этого: Лёка собралась на две недели к родным в Израиль, а он так не любил, когда она уезжала! Он сразу чувствовал себя сиротой, хотя обычно они виделись вовсе не каждый день, да и не каждый месяц вообще-то! Но сознание того, что нельзя сесть в «Сапсан» и через четыре с небольшим часа увидеть Лёку, его огорчало. Проводить ее Митя в этот раз не смог и с нетерпением ждал сообщения. Но получил совсем не то, что ожидал. Лёка уже давным-давно должна была приехать на место, а ни звонка, ни смс! Телефон ее не отвечал. Наконец Митя догадался влезть в почту – не веря своим глазам, читал он путаные и какие-то лихорадочные строки, из которых сначала понял только то, что она разбила мобильник. Он перечел раза три, пока дошло: Лёка его бросила! Бросила?!
«Прости, я больше так не могу, это убивает меня, не ищи, я не вернусь, квартира – твоя, можешь там всегда останавливаться»… Какая, к черту, квартира?! При чем тут квартира?! Он еще раз набрал ее мобильный – ничего, позвонил зачем-то в Питер – гудки, еще раз перечитал письмо – все то же: «Не надо мне писать, я не отвечу, давай разорвем сразу, а то очень больно». Да что ж это такое?! Почему?! Ничто ж не предвещало! Он стал вспоминать недавние встречи – вроде бы все как всегда… Не ссорились, он даже не заговаривал о разводе… Давно не заговаривал…
Хотя сам как раз собирался осуществить свой план: уйти из семьи и поставить Лёку перед фактом. Он уже нашел работу в Питере и присмотрел квартиру, оставалось только поговорить с женой и детьми. Митя планировал сделать это сразу, как они вернутся из Петербурга. И вот пожалуйста – и квартиру снимать не нужно! Живи – не хочу! Но без Лёки ему не нужна ни эта квартира, ни любимый Петербург, ни литература – ничего не нужно. Почему, почему она это сделала?! Нет, что-то тут не так… Он посмотрел, когда отправлено письмо – двадцать минут назад! Митя представил Лёку, сидящую у компьютера, и закричал, как будто она могла его слышать:
– Почему?!
И рванул в Питер. Ночным поездом. Конечно, не спал! Даже лежать не мог и почти всю дорогу метался в тамбуре: то ему казалось, что Лёка ждет его в Питере, а то… От другого варианта, тоже приходившего ему в голову, он покрывался холодным потом. К утру Митя осознал: если Лёки не окажется в питерской квартире – а ее там точно не окажется! – как он будет ее искать?! У него не было ничего, кроме бесполезного теперь номера мобильника и электронной почты – он уже написал Лёке три письма, но не получил даже автоматического извещения о доставке.
За все эти годы он не удосужился толком узнать, где именно живут ее родные в Израиле! Отца уже не было в живых, а мама – как ее, кстати, зовут?! – вроде осталась в Ашкелоне… Или не в Ашкелоне?! Может, она переехала к старшей дочери, которая – где?! В Иерусалиме или Тель-Авиве? Сестру зовут Каля, Калерия! У нее какое-то кошмарное количество детей – не то шесть, не то семь! Или пять? Но как ее фамилия? Вряд ли она оставила девичью… Ее муж – врач, это Митя откуда-то знал. Ни телефонов у него нет, ничего…
Он готов был биться головой о мутное стекло вагона: почему?!
Почему она это сделала?!
Конечно, никакой Лёки дома не оказалось: пусто, прибрано, но большинство ее вещей – на месте. Это вселяло надежду. Может, и правда поселиться тут? Приедет же она когда-нибудь! Он поискал телефонную книжку, нашел совсем старую, в которой никаких израильских телефонов не было и в помине. Митя полистал пожелтелые страницы: всё незнакомые ему люди. Разные рабочие телефоны покойного мужа Лёки… номер свекрови… сиделки… перечеркнутый дважды Гоша… Н-да, вот тебе адреса, по которым найдешь мертвецов голоса, подумал он словами Мандельштама.
Митя позвонил в институт и похолодел: Лёка уволилась еще в июне! И не сказала ни слова! А подруга? Лучшая подруга? Не то Даша, не то… Катя? Нет, Катю он бы запомнил. Они виделись пару раз, и Мите не сильно понравилась эта красивая, знающая себе цену женщина, весьма многообещающе ему улыбавшаяся. Он уселся на диван и стал упорно думать про эту подругу, не то Дашу, не то Катю – образно представлял себе ее внешность и манеру поведения, заставляя этот созданный им фантом подойти к телефону и набрать номер Лёки. Иногда у него такое получалось, особенно с Лёкой, конечно. Но зазвонил мобильник, и он чуть не подпрыгнул от неожиданности: издательство наконец раскачалось и приглашало его подписать договор:
– Ах, как удачно, что вы как раз в Петербурге!
А когда тут же следом позвонил приятель, который проталкивал его сценарий, и сказал, что дело сдвинулось: «Старик, нашелся спонсор!» – у Мити случилось что-то вроде тихой истерики. Что это?! Насмешка судьбы?! Неужели нужно было потерять Лёку, чтобы…
Ну нет! Он не сдастся!
Лёкина подруга и правда позвонила, когда он уже выходил, чтобы ехать в издательство, но толку от ее звонка не было никакого. Подруга (он ловко обошелся без имени) знать ничего не знала и даже не подозревала, что Лёка в Израиле – про увольнение он и не заикался.
– Со вчерашнего дня не могу ей дозвониться! Телефон, что ли, потеряла? – Услышав Митин голос, она сразу же заговорила весьма кокетливым тоном.
– Разбила мобильник. Случайно.
– Вполне в ее духе! Вечно она так! Значит, ты там один? Может, сходим куда-нибудь, раз ты в Питере?
– Не сегодня! – И, уже собираясь повесить трубку, Митя вдруг вспомнил про еще одного человека: – Послушай, у тебя нет случайно телефона Алика?
– Алика?! А тебе зачем?
– Да надо. По делу. Так есть?
– Был где-то… Сейчас… Сто лет с ним не общалась… Вот! Пишешь? Слушай, а ты знаешь, что он…
– Знаю-знаю, пока! Извини, я тороплюсь! Спасибо тебе большое!
Митя все знал и про Гошу, и про Алика. Он, правда, и сам не понимал, чем ему поможет Алик, но Лёка вроде бы виделась с ним не так давно и рассказывала, что тот очень плохо выглядит.
– Болеет, что ли? – спросил Митя.
– Похоже! Мы мельком виделись, – ответила Лёка и перевела разговор.
Алик Митю интересовал – еще бы, такой колоритный персонаж! Лёка как-то показала ему Алика – тот сидел за дальним столиком ресторана в компании необыкновенно красивого молодого человека. «Его друг, танцор. Восходящая звезда балета», – сказала Лёка и страшно покраснела. «Так Алик что, на два фронта работает? Бисексуал?!» – Митя еще раз, уже внимательней, взглянул в ту сторону, а Лёка прикрылась меню: Алик с другом как раз расплатились и шествовали мимо, но Митя успел оценить и прибрать в кладовку памяти эту яркую парочку: утонченный нервный красавец с грациозной походкой и… стареющий Алик, так явно и безнадежно влюбленный! Он смотрел только на свое балетное чудо, так что напрасно Лёка прикрывалась листочками меню. Она тоже заметила и была потрясена:
– Никогда не думала, что он способен на такое! Надо же…
И вот теперь Митя звонил этому Алику – неизвестно зачем. Но он хватался за любую соломинку. Голос в трубке звучал вяло. Митя объяснил, кто он. Как ни странно, Алик о нем слышал.
– А-а, писатель! Классные романы, старик! Ну ладно, подъезжай на Садовую. А то я сам не того. Не выхожу, короче.
Говорил он с паузами, задыхаясь. А когда открыл дверь, Митя сначала его не узнал – ничего не осталось от того здоровяка с ямочками на щеках, которого он разглядывал в ресторане. Старая квартира была обставлена весьма стильно, но скупо. Митя прошел в большую комнату, и Алик тут же улегся на большую кровать – похоже, тут он проводил все свое время. Кроме кровати с тумбочкой, на которой стояли бутылка бренди и бокал, в комнате был только огромный телевизор, а вся стена напротив кровати оказалась завешана фотографиями и афишами балетного друга.
– Слушай, принеси себе стул! Выпить хочешь? Тогда и бокал захвати…
Митя принес табуретку из кухни, сел и вгляделся в Алика.
– Не пьешь, что ли? А я шлёпну! – Он допил остатки бренди и налил еще. – Значит, это ты с Люськой живешь?
– С какой Люськой?! А, ну да. Выходит, я. Слушай, извини, конечно, но… Что с тобой такое?
– Со мной-то? Да ничего особенного. Смерть называется, знаешь?
– Ты что, болен чем-то… таким?!
– Ага. СПИД у меня. Да ладно, чего ты взвился? Когда мы с Люськой… у меня ничего вообще не было, даже гонореи, так что…
Митя оглянулся на стену с фотографиями:
– Так это он?! Он тебя заразил?
– Он. Хорош, правда? Смертельно хорош! Умер, сволочь, год назад! Бросил меня одного, мерзавец. – И Алик заплакал, вытирая слезы рукавами пижамной куртки. – Ладно, ничего! Мне недолго осталось.
– Послушай, но есть же лекарства…
– Да при чем тут лекарства! Я жить не хочу… без него! Что ты понимаешь?! Я знал, знал, что у него СПИД! Он сразу мне сказал! Когда понял, что я… Его все оставили, все отвернулись, даже мать, только я… я один…
Он плакал навзрыд, а Митя не знал, что и делать. Наконец, Алик успокоился, выпил еще бренди и посмотрел на Митю красными глазами:
– Что, сбежала от тебя Люська?
– Откуда ты знаешь?! Она что… Она сказала тебе?!
– Идиотка! Забила себе голову всякой хренью …
– Да в чем дело-то?!
– Ладно, ты уж прости, но я скажу! Слова она с меня никакого не брала. Не думала, что ты меня разыщешь, наверно. Короче, опухоль у нее. Не то в груди, не то еще где. Что-то по женской части.
– Рак?! Господи… Так вот в чем дело… Вот почему…
Алик смотрел на него с сочувствием:
– Ну?! Идиотка, я ж говорю. Решила тебя освободить. К своим, что ли, рванула?
– А ты не знаешь, как ее там разыскать? Телефоны какие-нибудь, адреса?
– Явки и пароли, ага. Нет, не знаю. Я ее отговаривал, честно. Но она ж упертая, как не знаю кто!
– Что ж мне делать? Как я ее найду?!
– Не знаю, брат.
– Спасибо! Я очень тебе благодарен! Слушай, может, тебе помочь чем? Денег не надо? На лекарства?
– Деньги у меня есть. Жизни нет. Ладно, иди на хрен! А то от твоего сочувствия я сейчас опять зареву, как гребаная корова! Дверь захлопни за собой! Давай, вали.
Митя оставил Алику свою визитку – мало ли, вдруг что понадобится! И ушел, думая, как же ему разыскать канувшую в неизвестность бедную Лёку… Пришлось второй раз разговаривать с лучшей подругой, которую звали, как все-таки вспомнил Митя, Лидой, а никакой не Дашей. Он вытряс из нее имя и фамилию Калиного мужа, выяснил, что живут они в Тель-Авиве, а имя мамы он и сам прекрасно знал: Вероника Сергеевна! И что это на него нашло?!
Митя широко раскинул сеть, чтобы найти в Тель-Авиве хирурга Романа Шагаловича: бросил клич в своем Живом Журнале, подключил литературных друзей и даже обратился с просьбой к одному полковнику ФСБ – у Мити и там были связи. И каждый день писал письма Лёке. И она каждый раз не отвечала.
С женой он так и не поговорил – Томка вернулась из Питера какая-то странная. Митя решил отложить все разговоры: главное – найти Лёку! И вот, когда он вышел на финишную прямую и собирался утром с работы звонить по раздобытому ценой неимоверных усилий телефону, ему на мобильник позвонила Каля! Он выскочил из-за стола, где они с детьми ужинали – Томка задерживалась. Митя выбежал во двор: они с Калей кричали друг другу одновременно:
– Как Лёка?! – Все хорошо! – Она жива?! – С ней все в порядке!
Наконец Митя догадался замолчать – с безумно колотящимся сердцем он слушал, как Каля рассказывает про Лёку: сделали операцию, удалили одну грудь, теперь у нее химиотерапия… И депрессия.
– Я понятия не имела, что она затеяла! Даже не подозревала, что ты не в курсе! Не волнуйся, она поправится! Метастаз нет, все чисто!
– Я приеду! У меня билеты уже заказаны! Когда заканчивается курс?
Оказалось, еще пара дней, а потом надо будет повторить через какое-то время. Митя выдохнул и сел на качели на детской площадке. Он был весь мокрый от пота. Каля успела рассказать, что Лёка как-то невразумительно отвечала на ее вопросы про Митю, и только когда Лёка осознала, что выздоровеет и захотела получить вид на жительство, Каля поняла: дело не чисто. Его мобильник она раздобыла в издательстве – Митя даже боялся представить, что Каля там наговорила, раз они дали номер!
Все, время вышло. Тянуть больше невозможно – пора поговорить с Томкой! У него заныло сердце: конечно, он собирается поступить как последняя сволочь… Собирается! Последние девять лет так поступал! Митя вздохнул: Катя, Антошка! Черт побери! Но Томки все не было и не было, и Митя начал волноваться: ему было совсем не до того, чтобы особенно присматриваться к жене, но даже он заметил, какая она странная в последние дни. И он пошел к дочери:
– Катюш, ты не знаешь, что происходит с мамой? Она здорова? А то она что-то очень мрачная. И, по-моему, опять курит.
Катя повернулась к отцу и вздохнула:
– Да здорова она! Тут такое дело… Ты только не волнуйся! Понимаешь, когда мы были в Питере… В общем, в Царском Селе мы познакомились с одной женщиной, Людмилой. У нее дочка Настя, и фамилия – Артемьева. И мама, мне кажется, решила, что это твоя дочь!
– Что?! Да с какой стати она так решила?! – Этого Митя никак не ожидал. Он и не предполагал, что это не последний сюрприз сегодняшнего вечера.
– Настя даже похожа немного на тебя.
– Это просто бред какой-то!
– Папа, только ты не думай, я тебя не осуждаю совсем! Я на твоей стороне, правда!
– Кать, ты сама не знаешь, о чем говоришь!
Они услышали, что хлопнула входная дверь, и Димка отправился к жене – в полном недоумении. Тамара коротко взглянула на него и отвернулась.
– Том! Послушай…
Но продолжить не успел – Томка быстро произнесла:
– Я тебе изменила.
– Что?! Что ты сказала?! – И Димка расхохотался, просто не смог удержаться! Да что ж это такое?! Тамара посмотрела на него с бешенством и изо всех сил ударила по щеке. Он тут же замолчал, обнял ее, крепко прижал, чтобы не вырывалась, и зашептал в ухо:
– Прости меня! Прости, пожалуйста! Я просто от неожиданности! Прости! Я думал, ты скажешь совсем другое!
– Ну, всё. Пусти.
– Том, я знаю про вашу встречу в Царском Селе. Катя рассказала. Ты поэтому? Мне в отместку, да?
– Не знаю. Мне было так плохо… Как ты мог?! Столько лет лгал!
– Да я особенно и не лгал. Просто не говорил всей правды.
– Вел двойную жизнь!
– Да. Как-то так. Давно ты… ну… сделала это?
– Неделю назад.
– И как?
– Что – как?! Тебя интересуют подробности?! Прекрасно! Просто великолепно! Так, как с тобой не было ни разу! Доволен?!
Неделю назад она опять задержалась на работе, где ей совершенно нечего было делать. Просто не хотелось идти домой. Томка то рассеянно перебирала бумаги, то просто смотрела в окно, где, как нарочно, шел дождь. Наконец, дождавшись просвета, она решительно вышла на улицу. До дома – пятнадцать минут пешком, и впервые в жизни она пожалела, что живет так близко от работы. Поэтому пошла в обход. На детской площадке около новых высоток Тамара присела на влажную скамейку и закурила. Курить она начала, когда Димка был в армии, какое-то время они дымили вместе, но, как только она забеременела, муж бросил раз и навсегда. А она так и не смогла избавиться от этой привычки – когда нервничала, так и тянуло к сигаретам, хотя и Димка, и Катя на нее ворчали.
– Тамара Алексеевна! Что вы здесь делаете?! – Томка подняла голову: на нее с удивлением смотрел Майкл. – Вы же промокнете!
Оказывается, опять пошел дождь, а она и не заметила. И сигарета давно потухла… Тамара, моргая, глядела на Майкла несчастными глазами. Он нахмурился и решительно взял ее за руку, помогая подняться:
– Что-то случилось?
Томка поняла, что сейчас заплачет.
– Так, понятно. Пошли!
Он привел ее к себе в квартиру в одной из высоток, снял плащ и дал шерстяные носки. Томка очнулась, сидя на чужой кухне в чужих носках с чужой чашкой в руках. Чашка была горячая – она отхлебнула: там оказался сладкий чай с лимоном.
– Ну вот, уже лучше, – сказал Майкл, внимательно на нее глядя, и Томку опять пронзило ощущение его никак не уловимого сходства с Димкой.
– Почему ты сделал такую татуировку? – вдруг спросила она.
– Какую? А, иероглиф?
– Да. Почему именно этот? Любовь?
– Потому что это важно – любовь.
– И что, без нее никак нельзя?
– Можно, наверно. Живут же люди как-то…
– Как-то! Именно. Спасибо тебе! Мне… мне надо идти… наверно…
И она наконец заплакала. Заплакала и рассказала Майклу все – выплеснула, как из ведра, все свои бессвязные мысли, сомнения и догадки. Отчаянье и обиду, страх перед будущим и сожаления о прошлом.
– Тебе больно! И страшно. Да? Надо просто это пережить. Что ж делать! Ничто не вечно. Ты все равно не сможешь его удержать, понимаешь? Не стоит цепляться за прошлое. Он же не твоя собственность, правда?
– Он никогда и не был моей собственностью… Только я поняла это слишком поздно…
– Жизнь не кончена, поверь мне! И ты – живая, раз можешь страдать. Другое дело, что ты вынесешь из этого страдания. Главное – сохранить любовь.
– Как… сохранить?
– Не впускать к себе в душу ненависть. Он же неплохой человек, твой муж, правда? У вас дети…
– Он хороший отец!
– Вот видишь. Я понимаю, тебе обидно, но… Как же объяснить… Понимаешь, любовь – она разная. Есть страсть, есть влюбленность, а есть то, что остается в остатке, когда заканчивается влюбленность и проходит страсть.
– Не знаю… Влюбленность, страсть… Я никогда не верила в это! Может, мне и не дано…
– А разве ты не влюблена в меня?
Томка вспыхнула и попыталась было вскочить с дивана, где они сидели, но Майкл не пустил – он уже давно обнимал ее за плечи.
– Откуда ты… Пусти сейчас же! Как ты смеешь!
– Не бойся, я увольняюсь. Нашел другую работу. Завтра хотел заявление подать. Меня могут рассчитать прямо с завтрашнего дня?
– Как… увольняешься?! – Тамара вдруг чудовищно расстроилась.
– Ну вот, видишь! А говоришь – не способна! Неужели ты раньше никогда не влюблялась? Даже в своего мужа?
– Я знаю его с рождения…
– Ну, тогда понятно.
– Это все просто ужасно! Я совершенно запуталась…
– Распутается постепенно! Не переживай, все как-нибудь образуется. Чем бы тебя отвлечь… Может, выпьем? У меня хорошее вино есть!
– Мне вообще-то давно пора домой…
– А хочешь посмотреть другую татуировку? Помнишь, ты спрашивала, какая еще фраза? Да ладно, она на ноге! На ступне! А ты что подумала?
Тамара много чего подумала и опять покраснела. Майкл, посмеиваясь, поднял ногу:
– Вот смотри! Это по-итальянски: «C'è sempre una via d'uscita».
– И что это означает?
– Выход есть всегда.
– Забавно…
Томка еще раз посмотрела на его босую ногу с изящной надписью по внешнему краю ступни, тоже довольно изящной для мужчины – раньше ей и в голову не приходило разглядывать мужские ступни, как и женские, впрочем, – потом подняла голову:
– Но это же, наверно, больно?
– Не больнее, чем разбитое сердце. – Майкл нежно погладил ее по щеке. Томка нервно улыбнулась. Она понимала, что нужно немедленно встать и уйти, но… не могла.
– Есть и еще!
– Правда? – Голос у нее дрожал.
Глядя Томке в глаза, Майкл расстегнул ремень джинсов, потом молнию и, приспустив трусы, обнажил загорелый живот с татуировкой над завитками темных волос:
– Вот!
«Ни за что не стану смотреть», – подумала Томка, и тут же взглянула: стилизованная ящерица. Она выдохнула – так боялась увидеть какую-нибудь гадость, а ящерица была вполне безобидная. Боже мой, она совсем сошла с ума – рассматривает ящериц и… Плохо понимая, что делает, она протянула руку и погладила ящерицу, проведя пальцем от мордочки до хвоста. И тогда Майкл обнял ее и поцеловал, мягко опрокинув на диванную подушку…
На следующий день он принес, как и обещал, заявление. Стараясь не встречаться с ним взглядом, Тамара завизировала:
– Всего вам хорошего. Удачи на новом месте.
Но Майкл не ушел.
– Как ты? – спросил он шепотом, и Томка быстро взглянула на дверь кабинета: закрыта!
– Все в порядке, спасибо.
Но он, перегнувшись через стол, взял ее за подбородок и поцеловал:
– Не переживай!
Она вздохнула и на секунду прижалась щекой к его руке, потом взглянула прямо в лицо:
– Иди уже! Все, что мог, ты сделал.
– Ты уверена? Смотри, а то ящерица скучает!
– Господи, Майкл…
Томка встала из-за стола, и они обнялись.
– Прощай!
– Ну, если вспомнишь вдруг… про ящерицу… У тебя есть мой мобильник!
И ушел. Томка постояла, прижав руку к губам, потом подошла к окну, постояла, опять села за стол, переложила без толку бумаги с места на место и замерла, закрыв лицо руками: что делать?! Что теперь делать?!
Целую неделю она маялась, избегая мужа, и вот – вывалила все. Тома взглянула на Димку – он смотрел на нее с состраданием. Черт бы его побрал!
– Что ж, рад за тебя. Вообще-то я хотел спросить, стало ли тебе от этого легче на душе, только и всего.
– Нет.
И Тамара вдруг впервые в жизни почувствовала Димку, как себя – изнутри! Господи, он же… Он же все время так мучился, как она эту неделю! Не мог не мучиться! Он такой! После того, что произошло у нее с Майклом, она словно всплыла на поверхность из тех тайных глубин, где пряталась всю жизнь, и совершенно по-другому смотрела на мир: видела и понимала многое, прежде недоступное. Как будто Майкл вместе с одеждой снял с нее и верхний маскировочный – или защитный! – слой ее личности, и теперь она была совершенно новая и непривычная себе самой. Обнаженная.
– Ты изменилась.
– Наконец повзрослела, наверно. Ты тоже стал другим. Дим, ты же меня никогда не любил, да?
– Это неправда, – мягко ответил муж.
– Как женщину? Я ведь тебя никогда особенно… не вдохновляла.
Он вздохнул:
– Не вдохновляла! Пожалуй, это верное слово.
– Ты знаешь, а он похож на тебя. На Дона Артемио. Только… другой. Свободный. И не боится быть самим собой. Странным, иным…
– Малахольным.
– Да.
– Завидую. Я почти сорок лет шел к этому.
– Я тоже.
Они помолчали, думая каждый о своем – и об одном и том же, потом одновременно произнесли: «А помнишь…» – и невольно рассмеялись.
– Ты первая!
– Да я вспомнила, как мы маленькие по крышам сараев лазали, а сосед нас ружьем пугал! Мы побежали, я ногу расцарапала, а ты упал и плакал, как всегда! Как я злилась, что ты такой трус и нескладеха! А ты что вспомнил?
– То же самое. Знаешь, почему я плакал? Я испугался, что он тебя застрелит! Ты же была моим единственным другом. А сам я не боялся.
– Правда?! Надо же! – Глаза у нее налились слезами, и Томка быстро смахнула их пальцами. – Все время теперь плачу, как дура! Наверно, нам не надо было жениться. Остались бы просто друзьями.
– Зато у нас есть Катюшка и Антон.
– И то правда. Как думаешь, нам не удастся… склеить все обратно?
– Боюсь, что нет. Если только сохранить осколки. Ну, не надо, не плачь! Прости меня. Это я во всем виноват.
– Нет, я! – сказала она, всхлипывая.
– А вот и не подеремся!
– Да ну тебя…
– Том, знаешь, ведь дело не только в том, что… Не только в нас с тобой. Или в ком-то еще. Может быть, это тебя как-то утешит? Дело в том, что… Господи, самому дико, что я сейчас это скажу! Понимаешь, я… Мне нужно… работать. Писать. Все время. А здесь это невозможно.
– Писать? Что писать?!
– Книги. Романы. Я писатель вообще-то. Все время над чем-то работал у тебя на глазах. Только ты не интересовалась.
– Но… разве… И что ты написал?!
– Вообще-то у меня уже четыре книжки вышло. Неплохо, я считаю. А сейчас я подписал договор с издательством, очень хороший. Но это такая кабала! По четыре романа в год! Задел у меня есть, но все равно… Так что, скорее всего, придется уйти с работы. Но ты не переживай, без денег вы не останетесь! У меня еще договор есть на сценарий – сериал собираются снимать, представляешь?
Томка смотрела на него в полной растерянности:
– И о чем ты пишешь?!
– О жизни. О любви. Просто проза. Говорят, хорошая. Даже на Букера в прошлом году номинировали, но не прошел, правда. Ну, что ты?
– Я не понимаю… Ты только поэтому хочешь уйти?!
– Не только. Но это – главное. Понимаешь, это трудный процесс, мучительный даже. И мне очень нужна… поддержка. Кто-то должен вдохновлять. Ты не можешь, к сожалению. Ты… гасишь. Прости.
После того как Димка поговорил с детьми и ушел – налегке, с одной сумкой через плечо, Тамара долго сидела, глядя в темное окно, а потом свернулась клубочком в постели. Детям он сказал, что уезжает в Израиль – в длительную командировку по обмену опытом. При чем тут вообще Израиль?! Томка никогда не понимала, чем, собственно, занимается ее муж на работе, а Антошка считал папу кем-то вроде шпиона, агента 007, и принял эту новость с восторгом. С Катей Димка поговорил отдельно, а у Томки еще раз просил прощения: не держи зла, ладно? Томка только махнула рукой.
– Мам? Как ты? Мамочка? – Катюшка подлезла к ней и обняла. Никогда они не были подругами, никогда не секретничали – все свои заботы Катя поверяла отцу, и Томка не знала, как разговаривать с дочерью. Обычно они пикировались, а то и скандалили в свое удовольствие – Катя за словом в карман не лезла, и отец иной раз возмущался их манерой общения: вы что, не можете разговаривать, как нормальные люди?! Томка на работе вела себя вполне прилично, зато дома выплескивала все накопившееся за день, и порой ее страшно заносило. Вот и сейчас она взорвалась:
– Не лезь ко мне со своей жалостью! И без тебя тошно!
– Ну и пожалуйста! – Катя соскочила с кровати и закричала со слезами в голосе: – Так тебе и надо! Ты сама виновата, что папа тебя бросил! Никаких человеческих чувств у тебя нет! Как я буду теперь без папы…
И она зарыдала. Томка ужаснулась – опять, опять она ведет себя как мегера! Сколько раз Димка говорил ей: Тигра, втяни когти, на тебя никто не нападает! Почему у нее никак не получается быть внимательной, нежной, сострадательной, как любая обычная женщина?! Варька, например?! Или эта питерская…
– Катенька, доченька!
– Я уйду! Уйду от тебя к папе! Он обещал!
– Обещал?!
Мать с дочерью смотрели друг на друга несчастными глазами, и Томка дрожащим голосом произнесла впервые в жизни:
– Катюша, прости меня! Прости, детка! Я не знаю, что говорю! Мне так плохо…
Они долго сидели, обнявшись, на кровати. Молчали, думали. Потом Тамара тихо спросила:
– Кать, я что, правда такая ужасная?!
– Ну, мам! Не ужасная ты вовсе! Просто…
– Да говори!
– Ты очень давишь всегда! Словно только ты знаешь, как надо! Понимаешь?
– Ох, ничего я больше не знаю и не понимаю… Кать, а у нас есть папины книжки? Ты читала?
– Конечно! Все! Дать тебе?
– Ну, дай что-нибудь.
Катя сбегала и принесла стопочку книжек – Томка посмотрела одну:
– Эта про что?
– Это первая книга большого романа! Еще две будет, пока не вышли! Папа про бабу Полю написал. Про ее судьбу.
– Про бабу Полю?! – изумилась Тамара.
– Ну да. Очень интересно, правда! В первой книге он о ее предках пишет. Революцией заканчивается. Ой, эту я зря принесла…
Тамара держала в руках «Письма к Леа»: на обложке – женщина с темными волосами, развевающимися на ветру.
– Мам, не надо тебе это читать!
– Почему? – Она полистала книжку, бегло прочла полстраницы…
– Зачем ты будешь душу травить?
– Это что, про его роман? С той женщиной?!
– Мам, ты знаешь, что папа говорит?! Это чудовищное недоразумение, и Настя ему вовсе не дочь, а женщину ту он вообще не знает!
– Да ладно! Почему он мне этого не сказал?!
– Он знал, что ты не поверишь!
– Я уже не знаю, чему верить…
Катя ушла спать, а Томка раскрыла книжку и начала читать.
В голове у нее был полный сумбур: неужели это написал Димка?!
Ее Димка?!
Димка, которого она знала с колыбели!
И не знала совсем…
В Бен-Гурионе Митю встретил Роман и всю дорогу до дома развлекал разговорами, но Митя так волновался, что ничего не понимал. Роман внимательно вгляделся в бледного Митю и покачал головой:
– Послушай, не надо так переживать! С ней все в порядке, правда!
Но Митя не мог не переживать. Как в трансе, вошел он в квартиру – его обступили со всех сторон: Каля, мама, дети. Все что-то говорили, теребили его, улыбались. Кажется, на пару секунд он отключился, а когда пришел в себя, около него была одна Каля, так ужасно похожая на Лёку, что он закусил губу и заморгал.
– На-ка, выпей!
– Что это? Я не пью спиртного!
– Это успокоительное, там никакого спирта, выпей.
Он послушно выпил. Каля погладила его по голове: все будет хорошо! – и присела рядом:
– Послушай, тебе понадобится терпение! Понимаешь, для нее это очень тяжело. Очень! Она чувствует себя уродиной.
– Да я понимаю!
– Вряд ли поймешь до конца, ты ведь мужчина. Просто я хочу, чтоб ты был готов к тому, что увидишь. Она действительно плохо выглядит: сильно похудела, потеряла волосы. Плачет все время, не ест ничего. Так что – соберись. Я не говорила ей, что ты приедешь, будет сюрприз. Пойдем!
Митя встал и на подгибающихся ногах пошел за Калей куда-то в глубь квартиры – на лоджию, как выяснилось. Лёка сидела в плетеном кресле, откинув голову на спинку и спала. Митя ужаснулся: руки-ноги как палочки, синие тени под глазами… Она была в длинной легкой юбке и какой-то цветастой размахайке. Острижена налысо, а она так гордилась своими волосами! Митя шагнул к ней, встал на колени рядом с креслом, взял Лёку за руку…
Каля осторожно притворила дверь и еще некоторое время смотрела сквозь жалюзи, как Митя целует Лёке руки, потом ушла. Лёка медленно открыла глаза, казавшиеся просто огромными на исхудалом лице, – увидев Митю, она выпрямилась и ахнула, а он, волнуясь, смотрел, как розовеют ее щеки и оживают глаза, как будто где-то внутри зажегся свет.
– Митя… Митя! Это ты?!
– Бессовестная! – сказал он, смеясь и плача одновременно. – Бросила меня! Как ты могла?!
– Митя! Господи, откуда ты взялся?!
– На все пойдешь, лишь бы от меня избавиться, да? Даже не надейся!
– Я не хотела быть тебе в тягость…
– Идиотка! Я чуть с ума не сошел!
Митя вынул ее из кресла – боже, какая легкая! Одни косточки! Он сел на диванчик, усадив Лёку на колени, и попытался поцеловать, но она отстранилась:
– Не надо…
– Почему это?! Я соскучился!
– Тебе не понравится… Я вся такая… химическая. И запах…
– Не выдумывай! Нормальный запах – твой, родной…
И Митя поцеловал ее, почти насильно, но потом Лёка ответила. Ну вот, наконец. Она вздохнула и положила голову ему на плечо:
– Я страшная… И лысая…
– Разве? Я не заметил! – Митя провел рукой по ее голове. – Смотри-ка, и правда! Послушай, это так сексуально!
– Да ну тебя! Пусти! Я отвратительная!
– Перестань! Ты самая красивая женщина в мире. Посмотри мне в глаза, ну!
Лёка робко взглянула.
– Давай покончим с этим. Покажи мне!
– Что показать? Нет! Ни за что! Не надо…
Но Митя уже поднял полу ее размахайки – Лёка закрыла глаза и вздрогнула, ощутив прикосновение его губ к тому, что когда-то было ее грудью.
– Ну вот! Я все видел. И не умер от ужаса.
И Лёка заплакала:
– Мне так тебя не хватало! Господи, какое счастье, что ты приехал! Я так тебя люблю…
А Митя погладил ее по темному ежику волос и сказал, улыбаясь:
– Я знаю, дорогая. Я знаю…
Тамара еще раз перечитала конец и всхлипнула, вытерев слезы краем простыни. Она никак не могла остановиться: все читала и перечитывала Димкины книжки, а «Письма к Леа» уже почти выучила наизусть. Ей казалось: если внимательно читать, то она поймет наконец, почему их «идеальный брак» рассыпался словно карточный домик. Иногда казалось, что понимает. Наверно, не так надо было жить. Не так себя вести, не так обращаться с Димкой. Не так его любить. Да просто больше любить. Но – поздно. А вдруг он вернется? Он же всегда возвращался из своих командировок! Дети – если еще не спали – тут же висли на нем радостными обезьянками: папа приехал, ура! Если бы он сейчас вернулся, Томка и сама вцепилась бы в него, как обезьянка, задыхаясь от счастья: Димочка, родной… любимый! И сама знала: нет, не вцепилась бы. Просто сказала бы: «А, привет! Ужинать будешь? Ты купил, что я просила, или опять забыл? Так я и знала! Конечно, где вам, благородным донам, помнить о такой ерунде!» А Димка мрачно посмотрел бы на нее и ушел к себе – шелестеть клавишами компьютера.
Как он сказал?
Ты не можешь меня вдохновлять!
Ты – гасишь…
Томка взвыла, уткнувшись в подушку, потом не выдержала, зажгла лампу, снова открыла «Письма к Леа» и начала читать сначала: «Для конца августа день выдался на удивление жаркий…»
Часть II Непарная варежка
Надо посуду вымыть, а тянет разбить. Это отчаянье, Господи, а не лень. Как это тяжко, Господи, век любить, Каждое утро, Господи, каждый день. Был сквозь окно замерзшее виден рай. Тусклым моченым яблоком манила зима. Как я тогда просила: Господи, дай! На, – отвечал, – только будешь нести сама. Наталья ХаткинаГлава 1 Котов
Котову было тошно. Новогодний корпоратив, как теперь стало модно называть обычную рабочую пьянку, только-только дошел до стадии полной анархии, ибо шеф наконец благоразумно отбыл. Котову хотелось не то напиться, не то удавиться, как, бывало, говорила его бабка. Поэтому он решил поесть и вооружился пластиковой тарелкой, на которой пока что стоял пластиковый же стаканчик с теплой водкой. Он задумчиво рассматривал нанизанные на палочки конструкции из сыра, ветчины и оливок – хотелось жареной курицы или мяса. Вздохнул, залпом допил свою водку и закусил маринованным огурчиком. Тоска.
– Огурцы очень острые?
– Огурцы? Нет, скорее сладкие. – Котов поднял глаза и обомлел: с той стороны стола ему улыбалась Варька. Настоящая живая Варька!
– Варежка!
– Я!
– Ты откуда здесь?
– Ну, я вообще-то здесь работаю.
Котов перешел на ее сторону стола и радостно схватил за руку – за локоть, потому что она тоже держала тарелку и стаканчик. Схватил и потряс:
– Привет! У нас работаешь? Вот здорово! А чего я тебя раньше не видел? И вообще, я тебя сто лет не видел! Ты в каком отделе?
– Маркетинга.
– Ишь ты! И что, ты прямо разбираешься в этом маркетинге?
– В меру.
Господи, Варька! Котов так обрадовался, что ему совершенно расхотелось и напиться, и удавиться. Варвара тоже улыбалась, глядя на Котова, а он разглядывал ее: смеющиеся серые глаза, пепельные волосы, закрученные в тяжелый узел, румяные щеки… Варька!
– Сколько ж мы не виделись? Лет пять?
– Три года. Последний раз – у твоего отца на юбилее.
– Правда! Как ты живешь-то? Выглядишь потрясающе! Элегантная такая, с ума сойти!
– Нормально живу. А ты, говорят, развелся?
– Ну да. Не совсем еще, но… Разъехались, в общем. Как-то так. Слушай, а может, сбежим отсюда? Посидим где-нибудь, поговорим, а?
Варвара посмотрела на часы: ого, уже девятый час!
– Ты знаешь, мне вообще-то пора домой. Поздно.
– А ты все там же живешь? В Филимонове?
– Все там же.
– Ты на машине?
– Котов, какая машина? Нет у меня машины! На электричке, потом на автобусе, потом еще пешком. Надо двигаться, а то ближе к ночи всё редко ходит – и электрички, и маршрутки.
– Слушай, а поехали ко мне! Я тут совсем рядом, в двух остановках. Поговорим, поедим по-человечески, у меня курица жареная есть!
– Курица? Курица – это заманчиво! А ты же где-то далеко жил, совсем не в этом районе?
– Да я сейчас у родителей.
– А-а! Все, что ли, Эсмеральде своей оставил? И теперь нищий, но свободный?
– Да нет, просто у меня ремонт.
– И у которых ты родителей?
– У отца. Ну что? Переночуешь, а завтра поедешь!
Варька смотрела на Котова и думала: что ж делать-то? Поехать, что ли, к нему? Она представила долгий путь домой, увидела, как, проваливаясь в снегу, бежит по полутемной улице, открывает пустой дом…
– Ну ладно. Давай к тебе.
– Ура! Варежка, ты настоящий друг!
Варвара с интересом оглядывалась по сторонам – квартира была новая, большая, с высокими потолками. Впрочем, после ее деревянного старого дома любая квартира покажется новой и большой. На самом деле Варе нравилось там жить, и, если б не дорога, она бы и не задумывалась о московских квартирах, которые, впрочем – задумывайся не задумывайся, – были для нее так же далеки и недоступны, как Луна. Котов подал ей тапки с розовыми помпонами:
– Влезешь? – Нога у Варьки была крупная. – А то отцовы дам!
– Влезу. А где все? Собаку, что ли, выгуливают?
– А они в Финке.
– Где?!
– В Финляндии. Уехали на каникулы всем табором. Сняли там дом.
– Так ты что, тут один?
– Ага. Да ты не бойся, я не стану к тебе грязно приставать. Твоя добродетель никак не пострадает.
– Приставать он не будет! А зачем я тогда сюда притащилась, интересно? – пробормотала Варька себе под нос, но Котов услышал и изумился:
– Что ты говоришь?!
– Я говорю, чего ты с ними не поехал?
– А! Сам не знаю. Хотелось побыть одному, знаешь, как-то осмыслить все, подумать…
– Ну и как, осмыслил?
– Да что-то не очень.
Они просидели полночи на кухне – съели курицу, выпили бутылку красного вина, поговорили. Правда, обсудить развод Котову почему-то не удалось, хотя и очень хотелось: они с женой окончательно разругались всего несколько месяцев назад и он никак не мог прийти в себя. Но каждый раз, как Игорь пытался свернуть на эту тему, Варвара перебивала, и он забывал, что хотел сказать, все повторяя:
– Господи, Варька! Как я рад тебя видеть! И как это мы раньше не встретились, не понимаю! Чего ты не позвонила-то? Какое чудо, что ты у нас работаешь! Если бы не ты, я бы напился и лежал сейчас мордой в салате!
– Там не было салата, не лежал бы.
Потом они разошлись по разным комнатам. Котов заложил руки за голову и таращился на потолок, по которому метались разноцветные тени от рекламы соседнего магазина, и все радовался: надо же, Варежка! И почему он раньше не догадался ей позвонить, встретиться? Вот болван! Потом вдруг вспомнил, что она пробурчала, когда надевала тапки, – или послышалось? А может… она хотела… а он не понял?! Игорь встал и босиком подошел к двери Варькиной комнаты, прислушался, потом тихонько приоткрыл дверь: Варвара лежала на боку, лицом к нему, положив руку под щеку, и спала. Котов вздохнул и закрыл дверь. А Варя открыла глаза и некоторое время мрачно смотрела в полутьму. Утром Игорь затеялся провожать Варьку и даже предложил было отвезти:
– В «Ашан» заедем, продуктов купишь!
– Какие продукты, Котов? У меня все есть, а ты потом застрянешь в пробке на полдня. Ты что, под самый Новый год! Прекрасно доеду на электричке.
Он довел ее до самого вагона, поцеловал на прощанье в щечку, Варька помахала Котову рукой, а когда поезд тронулся – заплакала. Слезы сами так и побежали из глаз, Варька вытирала их бумажным платочком, а они все текли и текли. Она виновато посматривала по сторонам, но никто не обращал на нее внимания – ну плачет эка невидаль. Москва слезам не верит.
Мама умерла почти год назад, а Варька все плакала – не каждый день, конечно, как первое время, но слезы стояли так близко, что лились сами собой чуть что. Ей казалось, что со слезами исходит все накопившееся за десять лет отчаянье – и усталость, и безнадежность, и одиночество. Сейчас она тоже была одинока – еще более одинока, чем раньше, но появилась надежда… и свобода. А главное – появилось желание изменить свою жизнь. Первый шаг сделан – новая работа была и престижной, и хорошо оплачиваемой. Дорога, конечно, отнимала много времени, но что делать! На новом месте Варька получала раза в два больше, чем раньше, но денег ей почему-то все равно не хватало: пришлось приодеться – дресс-код, всякое такое, да и домом она давно не занималась, а туда, сколько ни вкладывай, все мало. Но Варька надеялась, что, позатыкав кое-какие дыры, она сможет все-таки съездить в отпуск: за всю жизнь она побывала только у сестры Лидочки в Вильнюсе, да и то совсем маленькая была и ничего не запомнила. Да, работа у нее была. Работа, дом, сад, старая кошка. И все. А теперь вот снова возник Котов. Может, зря она поехала к нему?
Варвара Абрамова и Игорь Котов когда-то жили напротив друг друга на улице Пионерской подмосковного поселка Филимоново. Росли вместе, в одну школу ходили – до девятого класса, когда родители Игоря вдруг в одночасье развелись, а мать тут же вышла замуж и увезла Игоря в Москву. Впрочем, и отец тоже мгновенно женился. Они были легкие люди, родители Котова: рано поженились, весело жили, пока жилось, и так же легко и весело разошлись. Никакой трагедии не получилось: они каким-то чудом сохранили дружеские отношения, так что у Игоря вдруг образовалось огромное количество родственников – почти одновременно в обеих новых семьях родились новые дети, сводные сестры Игоря, которых, не сговариваясь, назвали Катеринами. Чтобы не запутаться, Котов привык называть мамину дочку «наша Катька», а дочь отца – «папина Катька».
И отчим, и новая жена отца – язык не поворачивался называть ее мачехой! – и новообретенные бабушки-дедушки любили Игоря и баловали: еще бы, единственный парень на две семьи. А Варька – одна с мамой: старшая сестра Лидочка – на пятнадцать лет старшая! – вышла замуж и уехала в Прибалтику, которая потом неожиданно стала заграницей, средняя сестра Маша умерла еще до рождения Вари, а единственный брат Генка попал под электричку, когда Варька училась в третьем классе. Отца Варвара не помнила совсем: ей было всего годика два, когда он в одночасье помер от инфаркта. Самая младшая – нежданная и нечаянная! – Варька осталась матери в утешение.
Игорь и Варя даже внешне были слегка похожи – рослые, складные, светловолосые. Когда стали постарше, кто-нибудь из приятелей порой, стесняясь, просил Котова свести его с Варькой – она нравилась мальчишкам, но всегда фыркала: «Да ну, отстань! Еще не хватало!» У Котова своей девчонки тоже еще не было, а Варька не в счет: в одном корыте купались голопузыми младенцами. В их общей компании заводилой была Тигра – Томка Шилова, староста класса, маленькая и очень энергичная – веник с мотором. Тигра и Дон Артемио – Димка Артемьев. Они были парочкой с первого класса, и, как ни старались девчонки, высокий молчаливый Дон был верен своей Тигре.
Уехав с матерью и ее новым мужем в Москву, Котов с трудом привыкал к московской школе, поэтому проводил у бабки в Филимонове все праздники и каникулы. Перед приятелями он делал вид, что все прекрасно, но Варька-то знала его как облупленного: только ей Котов мог пожаловаться, до чего трудно ему приходится среди столичных выпендрежников. Варька сочувствовала, хотя иногда и хохотала от души над его рассказами – она была страшно смешливой. Но Игорь не обижался, потому что Варька умела найти смешную сторону в том, что только что казалось ему ужасным, и он тоже начинал смеяться.
Это случилось с ними во время весенних каникул. Всей компанией они до ночи гуляли по Филимонову, долго сидели в парке на веранде и пели под гитару Дона, а потом Котов и Варька застряли в саду – так неохота было расходиться, и скамейка удобная, со спинкой: дед Игоря когда-то притащил ее из того самого парка. Ночь была теплой – жара настала неожиданно, хотя ничего еще толком не распустилось и не расцвело, только вишни. Старая вишня, под которой и стояла скамейка, уже отцветала и осыпала их с Варькой душистыми лепестками при каждом порыве ветра. Игорь покосился на Варвару – она сидела, вытянув ноги и закинув руки за голову, – и спросил:
– Варь, а ты уже целовалась с кем-нибудь?
– Не-а. Вот еще, очень надо! Тут один пытался, но схлопотал!
– Кузяев, что ли?
– Ага! Представляешь, Кузяев?! Бе-э… А ты?
– Я? – Котов хотел было соврать, но вздохнул и признался: – Я тоже… схлопотал.
– Ну?! Так тебе и надо! Что, прямо по физиономии?
– Да нет, словесно…
Варька засмеялась, а Игорь опять скосил глаза на ее вздрагивающую от смеха грудь под тонкой футболкой.
– Варь, а давай… попробуем?
– Чего попробуем?
– Ну… это самое… поцеловаться.
– Что это ты вдруг?!
– Интересно же, как оно! А тебе не интересно, что ли?
Варя вытаращилась на него, но потом пожала печами:
– Ну, давай! – Слегка придвинулась, и некоторое время они смотрели друг на друга, а потом вдруг прыснули и захохотали.
– Да ну тебя, – сквозь смех проговорил Котов. – Такое дело… серьезное… а ты ржешь!
– Ну ладно, ладно, я постараюсь! Давай, целуй! Я глаза закрою, чтоб не смеяться. – И она действительно закрыла глаза, хотя губы все еще улыбались. Игорь поцеловал ее прямо в улыбку. Они довольно быстро вошли во вкус, и Варька, открыв глаза, произнесла:
– Ух ты! Здорово! Мне понравилось! Давай еще!
Они целовались до утра, а потом, когда Котов приехал на все лето…
В один из июльских дней изнемогающая от жары Варя забежала домой переодеться, а Котов машинально пошел за ней следом. Открыл дверь – Варька повернулась к нему: загорелая, гладкая, в одних шортиках, она стояла, прикрываясь футболкой, а потом медленно опустила руки, и Игорь увидел ее юную белую грудь, особенно белую на фоне загорелых плеч – невинные розовые соски так и уставились на него. Он подошел и закрыл дрожащими ладонями это прохладное, нежное, упругое, белое и розовое – ощущение впечаталось в кожу ладоней навсегда…
Чуть не каждую ночь Котов залезал к Варьке в окно, и они до утра познавали друг друга в полутьме ее спальни, с наивным любопытством первооткрывателей исследуя тайны своих тел и идя на поводу у своей новорожденной чувственности. Они ни разу так и не сделали это «по-настоящему» – ума хватило, но маленький зверек, разбуженный ими, постепенно рос, и довольно скоро оказалось, что справиться с ним не так легко.
Но лето кончилось, а вместе с ним кончилось и это юное безумие – они оба словно опомнились. Как дальше справлялась Варька, Котов не представлял, сам он обходился с трудом и в зимние каникулы наконец сделал это «по-настоящему». Он случайно встретил Кузяева, зачем-то потащился с ним к Толяну, у которого собралась компания парней и девиц постарше, и слегка там напился – ну, чуть побольше, чем слегка! В результате он неведомым для себя образом очутился в постели Алки-давалки, жившей в соседнем деревянном бараке.
Сначала Котов даже гордился собой, но утром, вспомнив скрипучую кровать с несвежими простынями, в которой до него наверняка перебывал не один десяток мужиков, он так чудовищно затосковал, что чуть не заплакал. Теперь-то он ясно понимал, как прекрасно это было бы с Варькой. Он вспомнил ее крепкое, словно налитое тело, гладкую кожу, ее юный пыл и застонал: почему, почему он не подождал! Какого черта его туда понесло! Как он будет смотреть Варьке в глаза…
А Варька как раз и явилась:
– Котов, ты что, все спишь, что ли? Во дает! А на лыжах?!
Игорь, избегая встречаться с ней взглядом, пробормотал:
– Да я… это самое… перебрал вчера… с Кузяевым.
– С Кузяевым! Нашел компанию! Давай, давай, шевелись. Смотри, солнце какое!
И Котов зашевелился. День и правда был как по заказу! Синее небо, солнце, легкий морозец. Они сразу встали на лыжи, и Котов забыл о прошедшей ночи – как не бывало. Но оказалось, зря. Они с Варварой приостановились у колодца, дожидаясь Тигру с Доном, которые закричали им из переулка, и тут из ворот вышла с ведрами Алка и сказала, улыбаясь:
– Здравствуй, Игорек!
«Игорек» мгновенно покраснел с ног до головы, а Варька нахмурилась, посмотрела на Котова, на Алку и, резко оттолкнувшись палками, умчалась вперед. Котов рванул было за ней, но не догнал, да и куда ему: Варвара была неизменной чемпионкой всех лыжных соревнований, и не только лыжных, а он вечно плелся в хвосте.
С тех пор между ними образовалось легкое отчуждение: ни Варька ничего не спросила, ни Котов ничего не рассказал, но оба словно отступили на пару шагов – не то что поцеловаться, дотронуться друг до друга стало немыслимо. Когда Котовы после смерти бабушки продали дом, их встречи стали совсем редкими – только на семейных торжествах: и мать, и отец Игоря неизменно приглашали Варьку. Детские забавы остались в прошлом, и когда Котов как-то попытался на прощание поцеловать Варьку в губы, она отстранилась и сказала, смеясь глазами:
– Котов, схлопочешь! Мы уже не маленькие, забыл?
– Да ладно тебе! Мы все те же. Давай сходим куда-нибудь? В выходные?
Варька помрачнела:
– Я не могу. Я должна быть дома.
Тогда он понял только одно: Варька не хочет с ним встречаться.
А потом Котов женился.
И вот теперь развелся. Ну, почти.
Все это Игорь вспоминал, возвращаясь домой с вокзала. Делать ему было совершенно нечего. Теперь Котов уже не понимал, что, собственно, помешало ему поехать с семьей отца в Финку и что мешает встречать Новый год в семье матери. До конца дня Котов жалел себя какой-то сладкой детской жалостью – никто меня не любит, никому я не нужен! – что было совершенной неправдой. И отец звонил ему несколько раз из Элливуори, и мать уговаривала приехать к ним в Крылатское, и обе Катьки забросали эсэмэсками, и Ксюша – ну да, да, Ксюша, он же практически разведенный свободный мужчина, почему бы и не быть Ксюше! – прислала парочку электронных писем, намекая на встречу, и даже жена…
Бывшая жена!
Ну, почти бывшая.
Одна только Варька не звонила и не слала эсэмэсок. Может, поэтому и тосковал Котов, сидя на диване перед телевизором и потягивая пиво «Будвайзер» – он всегда предпочитал чешское. В телевизоре показывали какую-то слащавую предновогоднюю муть, потом на одном из каналов обнаружилась «Ирония судьбы», и он стал смотреть фильм с середины – со сцены внезапного появления подруг и первого поцелуя героев. От этого поцелуя Котову стало совсем тошно, и он внезапно подумал: а почему бы не поехать завтра к Варьке?! А что?
И поехал. До улицы Пионерской Котов добрался, а вот там совершенно растерялся – последний раз он навещал родные места лет… Да, лет десять назад! Он с недоумением оглядывался по сторонам, не понимая даже, где стоял их собственный дом – и зачем, спрашивается, они его продали? Вокруг громоздились какие-то не то за́мки, не то дворцы, еле видные за глухими заборами: во времена его детства заборы были из покосившегося штакетника и никаких дворцов не существовало в природе…
Филимоново находилось недалеко от Москвы – всего каких-то километров пятнадцать от Кольцевой. Недалеко, но на редкость неудобно – электрички останавливались редко, особенно после того, как их станцию переименовали в платформу, так что ездить на работу в Москву местным стало совсем уж сложно. Районный центр был тоже довольно близко, но автобусы туда ходили теперь всего четыре раза в сутки – два рейса утром и два вечером, вот и вертись как хочешь: поликлиника, собес и прочие учреждения – все в районе!
Поселок располагался в треугольнике, две стороны которого были образованы железной дорогой и автомобильной трассой, построенной уже лет пятьдесят назад, но по-прежнему называвшейся «новой» – в отличие от старой, по которой давно почти никто не ездил. Третьей стороной треугольника был завод металлоконструкций, находившийся при последнем издыхании, – раньше именно там и работало большинство филимоновцев.
За железкой километрах в трех размещался пансионат «Залесье», некоторое время назад было захиревший, но потом снова оживший – владелец реанимировал подсобное хозяйство, очистил пруды и завел лошадей. Рядом с «Залесьем» образовался коттеджный поселок, второй строился за новой трассой, а чуть дальше еще в девяностых годах выросли два садоводческих товарищества.
Застроен поселок был хаотично и неравномерно: деревенские улицы с пасущимися козами и квохчущими курами, овраги, неожиданные лесочки, одинокая кооперативная кирпичная пятиэтажка, деревянные бараки и два крошечных микрорайона: первый состоял из трехэтажных домиков, построенных еще в 1950-е годы, а второй – из белых хрущоб в пять этажей.
После перестройки поселок стал постепенно вымирать: завод закрылся, пансионат еле дышал, в Москву не наездишься, а в районном центре своих безработных хватает. Все, кто мог, побежали в столицу – множество деревянных домов пустовало, принимая постояльцев лишь на лето. И вот теперь Филимоново постепенно возрождалось: новые хозяева, новые дворцы, глухие заборы, гаражи и машины. Даже заасфальтировали наконец тот конец Пионерской улицы, где жила Варька!
Всего этого Котов, конечно, не знал – а если и знал, то забыл. Зато Варька хорошо разбиралась и в истории, и в географии Филимонова: ей пришлось бросить работу в Москве, чтобы присматривать за матерью, и Шарапов взял ее к себе. Николай Шарапов был местным бизнесменом, которого филимоновские бабки иначе, чем «кулак проклятый», не называли. И отец его такой же куркуль был, а дед – тот вообще! Они забывали, что и живы-то только благодаря «кулаку»: когда в поселке прогорел последний магазин, он завел автолавку – привозил продукты, лекарства, почту, возил тех же бабок в поликлинику и в собес. Деньги брал, а как же! Но кое-кому отпускал в долг и об оплате не напоминал, и подвозил кое-кого бесплатно, и помогал втихаря.
Вот и Варе помог – она шла домой и рыдала. Даже остановилась и прислонилась к дереву, чтобы рыдать было удобней: что же делать, что ж мне делать?! Ей давно уже было понятно, что мать нельзя оставлять одну, но держалась за столичную работу до последнего, а сейчас фирму переводили на другой конец Москвы, так что на одну дорогу будет уходить чуть не три часа! Тут-то ее и подобрал Шарапов. В прямом смысле слова – затормозил, подвез, разговорил:
– Завязывай ты с этой Москвой! Давай я тебя возьму!
– А что я у тебя делать буду? Еще киоск откроешь? – В киоске на соседней станции работала его старшая дочь.
– Еще киоск? Это мысль! Нет, я чего хотел-то: чтоб ты с бумагами мне помогла. Ну, налоги, договора, всякое такое! Ты ж сечешь? А то я пролетал уже пару раз. Сам-то не силен. Ты же вроде экономист?
– Ну да. А сколько ты мне платить будешь?
– А сейчас сколько получаешь?
Варька сказала, Шарапов крякнул:
– Не, столько не смогу! Но ты подумай, у тебя ж экономия выйдет: на дорогу тратиться не надо, магазинов тут никаких, так что ненужную кофточку не купишь. Огород опять же. Зато мать под присмотром. А потом, если не погнушаешься, можно и руками поработать. Ирка фыркает, не хочет, а Черепаха моя работает, но ты ж ее знаешь, она медленная как не знаю кто!
Ира – младшая дочь Шараповых, красотка и кокетка, выскочила замуж раньше старшей Нади, некрасивой и такой же медлительной, как мать, которую нежный супруг любовно прозвал Черепахой. А зятя, высоченного и совершенно бессловесного, все так и именовали Зятем, как будто своего имени у него и не бывало.
– Коль, а чего руками-то делать?!
– Да у буржуев полно работы! И у ближних, и у дальних! – «Буржуями» он называл обитателей коттеджей. – Убраться, окна помыть, всякое такое. И на стройке можно, на отделочных работах, – и буржуи строятся, и эти, которые садо-мазо-огородо!
Варька подумала – и согласилась. Физической работы она не боялась. Проработала она у Шарапова года четыре, а потом мать умерла, и Варька вернулась в свою московскую фирму, только в другой филиал, где и встретилась с Котовым – так неожиданно для него.
Если бы Варька не окликнула Котова, он так и слонялся бы по Пионерской улице, увязая в снегу, до следующего года, до которого оставалось всего-то ничего, каких-то часов десять. Варька разгребала снег большой алюминиевой лопатой и страшно удивилась, увидев Игоря, – он обрадовался и полез к ней прямо по сугробам. Пролез и с налету поцеловал в румяную щеку, которая показалась ему одновременно ледяной и жгуче горячей – или так не бывает?
– Господи, Котов! Откуда ты взялся?
– Я приехал к тебе! – Увидев, как Варька вытаращила глаза, он поспешно добавил: – Новый год встречать!
Варька растерянно моргала, а он вдруг испугался:
– Или что? Ты в гости собралась? А может, ждешь кого? Я как-то не подумал…
– Никого я не жду. Ну, ты даешь, Котов! Проходи в дом, я дочищу дорожку и приду.
– Давай я… это самое… дочищу!
– Да ладно! Ты вон и так весь в снегу. Иди уже, я мигом.
Игорь попытался отнять у нее лопату, и они слегка повозились, как в детстве, потом, хохоча, повалились в сугроб.
– Слушай, а горка? Помнишь, катались? Она существует?
– Горка-то? Конечно! Ледянка. А что, хочешь покататься?
– Ага! Давай потом сходим, а? Хочется дурака повалять!
– Дурака повалять? Так ты и так уже валяешься! – И кинула в него снежком.
Они долго отряхивались в сенях, потом вошли в теплую полутьму старого дома, который показался Котову маленьким и низким, а ведь в детстве он завидовал Варьке, у которой такой большой и светлый дом! Пахло пирогами и еще чем-то, тоже из детства.
– Ты есть хочешь?
– Ужасно! У тебя пироги?
– Напекла по привычке, неизвестно зачем. Щи будешь?
– А то! Варь, а чего у тебя елки нет?
– Да я не успела! Можем потом нарядить.
Они ели, поглядывая друг на друга над тарелками, и в какой-то момент Котову вдруг почудилось, что все это: огненные щи в разномастных тарелках, пироги в плетеной корзинке, выцветшая скатерть; маленькое окно, сквозь которое косо пробивался бледный зимний свет; Варька в белом свитере с вывязанными узорами и в таких же носках; и он сам тоже в носках, только зеленых, которые ему выдала Варвара, потому что по полу дует, – это было всегда. А никакой другой жизни у него и не бывало. «Я дома!» Такая простая, ясная и правильная мысль, только додумался до нее Котов слишком поздно. Или нет?
– Варь, а ты умеешь трагически молчать? – вдруг спросил он, вспомнив не к месту бывшую жену.
– Молчать умею. Обязательно надо трагически? Могу попробовать, но не ручаюсь. А это ты к чему? А-а, – догадалась Варька, – эта твоя… как ее… Жозефина? Трагически молчала?
– Неделями! А я должен был догадываться, по какому вопросу она молчит!
– Бедный!
– А однажды она прислала мне девяносто семь смс подряд, представляешь?
– Девяносто семь? А чего ж не сто?
– Ну, может, и сто бы прислала, я телефон отключил. Это еще до свадьбы было.
– Говорила я тебе, что она дура? Слушай, а как ее на самом-то деле зовут, твою Изольду?
– Как зовут? – Котов вдруг замолчал и молчал довольно долго. – Ты представляешь? Я забыл! И вообще, что ты ко мне пристала с этой Изольдой?!
– Я пристала! Мне это нравится…
Потом они наряжали старую искусственную елку, для чего пришлось слегка подвигать мебель, потому что елка то загораживала телевизор, то блокировала дверцу шкафа. Игрушки тоже были старые, потертые, забытые – Котов радовался каждой совершенно по-детски, так что Варька не выдержала и, умилившись, быстро чмокнула его в щеку. Они на секунду встретились взглядами и тут же отвели глаза.
– На! Вот эту штуку надо на самый верх! Там отбито немножко, не поранься!
Игорь влез на табуретку и осторожно надел навершие со звездой, потом спрыгнул и полюбовался – здорово!
– А гирлянда есть?
– Ой, точно, гирлянда! Наверно, надо было ее сначала?
– Ничего, мы и так пристроим…
Пристраивая гирлянду, Котов вдруг спросил у Варьки:
– Варь, а почему ты замуж так и не вышла? Ты ж вроде собиралась? – И тут же испугался. Варвара включила гирлянду, которая бодро замигала разноцветными огоньками, и отошла в сторону, не глядя на Котова.
– А у меня приданое было неподходящее.
– Что значит – неподходящее?!
Варька села на кровать и издали посмотрела на Котова – в мигающем свете гирлянды ее лицо странно менялось: то казалось, что она плачет, а то – смеется.
– Ты знаешь, что это такое – жить с психически больным человеком? Не знаешь, и слава богу! А я знаю. Я десять лет прожила рядом. Так что какое замужество! Кому я нужна была с таким приданым?! Я сама-то еле выжила.
– Подожди… Ты кого имеешь в виду?! С кем… десять лет?!
– Котов, я про маму говорю! Про свою маму, Анну Викторовну Абрамову. Помнишь мою маму?
– Конечно, помню! Но разве она… Разве у нее… Варь, а почему я не знал?! Почему ты нам не говорила? Мы бы…
– Что – вы бы?! Вот чем вы помочь мне могли, а? Да ничем! Это была моя жизнь, Котов. И не смей меня жалеть! – Варвара вскочила и выбежала на кухню.
Варька и правда собиралась замуж. Познакомились еще в институте, последний год жили вместе у Олега в Москве, даже заявление подали. Но тут все и рухнуло. Однажды Варька зачем-то позвонила матери на работу – да просто соскучилась, давно не была. А там ей сказали, что Анна Викторовна уволилась. Как, когда?! Да на прошлой неделе! Почему, что случилось?! К матери хорошо относились на работе, ценили и, несмотря на возраст, на пенсию отправлять не собирались. Не добившись от материнских коллег внятного объяснения, Варька поехала в Филимоново – что-то так нехорошо стало на душе, и не зря, как оказалось.
Приехав домой, Варька застала мать в таком странном состоянии, что просто испугалась: та собирала чемоданы и намеревалась срочно ехать к старшей дочери в Вильнюс. Мама, куда, зачем?! Она была явно не в себе, и Варька с трудом убедила мать, что без визы и медицинской страховки ее никуда не пустят, а для получения страховки надо обязательно сходить в поликлинику. «Вот завтра с утречка мы с тобой и сходим, ладно?»
Сказав, что ей надо сбегать позвонить и отпроситься на завтра с работы – телефона у них тогда еще не было, Варька побежала на соседнюю улицу, к тете Кате Тимошиной, бывшей раньше их участковым терапевтом, пока поликлинику не упразднили. Но тетя Катя, выслушав Варьку, сама куда-то позвонила и велела завтра отправляться прямо в психоневрологический диспансер – она договорилась, их примут. Потом Варька побежала к Шарапову – а к кому ж еще? Он мрачно выслушал ее и сказал:
– Да не вопрос! Отвезу, конечно. Только… может, она и не захочет со мной ехать.
– Коль, ну как-нибудь! Я ее уболтаю! А что делать?!
Делать действительно было нечего. Возвращаясь домой, Варька корила себя, что в последнее время мало уделяла матери внимания. Последнее время! Последние лет пять, а то и шесть: работала, училась на вечернем, приезжала поздно, потом появился Олег…
Мать ждала ее, сидя в пальто, с узелком на коленях. Полночи она все куда-то рвалась – ехать, бежать, лететь, цеплялась за Варьку, плакала, спрашивала жалобным детским голоском:
– А у тебя все в порядке? Ты меня не обманываешь? А у Лидочки? У нее все в порядке?
И Варька снова и снова повторяла, что у всех все в порядке, а в какой-то момент не выдержала, и ударила мать по щеке, потому что та совсем зашлась в истерике.
– Спасибо! Спасибо!
Мать кивала с явным облегчением: от пощечины ей, видно, и правда стало лучше. К утру Варька была уже еле живая – а ведь еще надо как-то уговорить мать поехать с Шараповым! Анна Викторовна его ненавидела – ненавидела до такой степени, что, завидев ее издали, Шарапов переходил на другую сторону улицы или прятался в кустах: однажды она даже вцепилась ему в волосы и расцарапала лицо. Но это было давно, Шарапов тогда только вышел из больницы и еще не обходился без палки – маленькая Варька кричала и оттаскивала мать, а Шарапов даже не защищался, только жмурился.
Их было трое друзей – Колька Шарапов, Кузяев-старший и Генка Абрамов. Переходили железную дорогу – все и всегда там переходили, даже деревянные мостки были построены для пущего удобства. Но доски прогнили, а парни прыгали, толкались – словом, бузили, приняв на грудь пивка. Нога Шарапова застряла в треснувших досках. Кузяев-старший сбежал, а Генка стал вытаскивать друга. Вытащил, но сам не успел. Кузяев отделался легким испугом – правда, спился потом очень быстро; Шарапов чуть не потерял ногу, сломанную в двух местах и разодранную острыми щепками в клочья, а Генка погиб под колесами поезда. Лет по восемнадцать им было, Шарапову с Генкой, а Кузяев уже отслужил…
Но утром все обошлось на удивление мирно – мать в ее состоянии как-то не заметила Шарапова и спокойно села к нему в машину:
– Мы к Лидочке поедем?
– К Лидочке! Но сначала в поликлинику, ты помнишь?
Мать положили сразу. Хорошо, Варька догадалась захватить халат, ночную рубашку, тапки и еще что-то нужное. Всю обратную дорогу она тихо плакала, а Шарапов только вздыхал да кряхтел – все-таки дождался ее, как ни уговаривала: сама доберусь! Дождался, довез до дома, вышел проводить до крыльца и даже посидел там с ней немножко.
– Спасибо тебе, Коль! Сколько я должна?
– Нисколько. Ладно, пошел я. Держись!
– Постараюсь. Спасибо!
– Да перестань.
Варька проводила его до машины, а когда сел за руль, сказала в приоткрытую дверцу:
– Коль, ты ни в чем не виноват! Я про Генку! Я всегда это понимала. А мама… ну, ты же видишь, что с ней…
– Живые всегда перед мертвыми виноваты. Потому что живые. Так-то.
И вдруг Варька догадалась:
– Так это ты был, да?! Ну, картошку нам подложил? И еще что-то? Тогда, давно?
– Какую еще картошку? – спросил Шарапов с фальшивым недоумением в голосе и дал по газам.
Он, кому ж еще! Это было спустя несколько лет после смерти Генки – мать болела, забросила огород, ничего почти не уродилось, а картошку вообще не сажала. И однажды они нашли на крыльце два мешка картошки, а потом появилось несколько кочнов капусты, еще какие-то овощи. Варька помнила, как они с мамой гадали, откуда это взялось, и долго перетаскивали картошку ведрами в подпол – мешки были большие. Варька тогда вполне еще верила во всяких гномов, а мать думала, что подложили Котовы, жившие напротив, но те так и не признались.
Варька долго сидела на крыльце – думала, вспоминала, вытаскивала из памяти давно забытые мелочи и происшествия: пожалуй, мать давно была больна, только никто не замечал. Может, это началось с гибели Генки? Или после смерти отца, которого Варька почти и не помнила? Или еще раньше? Господи, что же за жизнь у матери, ужаснулась Варвара: потери за потерями! А теперь и она сама, последняя, младшая дочь, бросила мать, замуж собралась. Конечно, та испугалась…
Сколько Варя себя помнила, мать всегда чего-нибудь опасалась, особенно сильно переживала за дочь – все ей казалось: вдруг обидит кто, вдруг что случится! А Варька, словно в противовес матери, совсем ничего не боялась: ни людей, ни обстоятельств. Спокойно бегала ночью по пустой дороге, возвращаясь со второй пары, умела ловко отбиться от навязчивых приставаний случайного попутчика, а то и врезать как следует: рука у нее была тяжелая.
Варя даже не очень понимала, что это такое – бояться! Ну, жутковато бывало иной раз, но быстро справлялась, так глубоко и непоколебимо была уверена, что ничего плохого с ней случиться не может. Просто потому, что этого не может быть никогда! И только насмотревшись сейчас на мать, она поняла, что такое страх: животный, липкий, вязкий, неистребимый, проникающий до мозга костей. Убивающий. И еще одно поняла: ее собственная жизнь закончилась. Ничего больше не будет: ни замужества, ни детей. Она не осознала это толком, но почувствовала такое полное и беспросветное одиночество, словно была единственным существом, что осталось во Вселенной после глобальной катастрофы, уничтожившей все живое.
Мать пролежала полтора месяца, но больше Варя ее никогда не отправляла в стационар: так напугалась бедная Анна Викторовна, так цеплялась за дочь на первом же свидании, так умоляла, что Варька побежала к лечащему врачу – просить, чтоб отпустили домой. Не отпустили. Мать вернулась спокойная, но заторможенная, и Варвара взяла отпуск, чтобы присматривать – а Олег все ждал: свадьбу они отложили. Когда Варя рассказала ему о своей идее продать дом и его квартиру и купить жилье побольше, он ужаснулся:
– Ты что, хочешь, чтобы она с нами жила?!
– Олег, а что же делать?! Она не может одна!
– А нельзя сиделку нанять? Или… Есть же специальные заведения?
Варя молча на него смотрела: сиделку? Какую сиделку, где найти в Филимонове?! И матери вовсе не сиделка нужна, а она, Варька! И в специальном заведении мать уже побывала – спасибо, больше не надо. Что ж делать-то? Они решили посмотреть, что будет с Анной Викторовной через месяц, хотя Варька предчувствовала: ничего хорошего ее не ждет.
В один из дней она так соскучилась по Олегу, так устала, что решила взять выходной – сказала матери, что ее вызвали на работу, та поверила, хотя была суббота: работа – это святое! Варвара примчалась к Олегу, открыла своим ключом, но наткнулась на цепочку – позвонила, Олег долго не открывал, а когда открыл…
Варька сразу прошла в комнату, даже сапоги не сняла – Олег просто трясся над своими полами и всегда заставлял всех разуваться. Прошла и увидела в постели – в их с Олегом постели! – перепуганную насмерть девицу: та закрылась одеялом, только глаза было видно. Варя не стала скандалить – нашла большой клетчатый баул и стала собирать свои вещи. Олег сначала ходил за ней: «Дорогая, это не то, что ты думаешь, я все объясню!» – потом махнул рукой и сел на диван, опустив голову.
– Так, вроде бы все, – сказала Варвара. – Прощай! Заявление из загса сам заберешь. Какое счастье, что я не успела от тебя забеременеть!
– Конечно! – заорал вдруг Олег. – Еще не хватало! Еще неизвестно, кого ты родишь, с такой-то наследственностью!
Варька даже не ответила и повернулась к выходу, но тут вдруг истошно закричала девица в одеяле:
– Стой! Не уходи! Подожди меня! Варь, не оставляй меня с ним!
Варька обернулась: девица выбралась из одеяла и лихорадочно одевалась – оказалось, это Алёна, с которой Варя пару раз пересекалась на вечеринках. Она работала вместе с Олегом и вроде бы встречалась с его другом. Алена оделась, нашла сумочку, замахнулась ею на Олега, он шарахнулся – Варька разинула рот.
– Пойдем! Ну, что ты заснула! – Алена за руку вытащила Варвару из квартиры и, пока ехали в лифте, ругалась не переставая: – Ах, сволочь! Вот козел! Он мне сказал, что вы расстались! Ой, какая я дура!
Выйдя из подъезда, они вдруг обнялись и заревели, а Олег, который как раз подошел к окну с бутылкой пива в руках, увидел их и поморщился. Потом показал им сверху средний палец: да пошли вы! И отхлебнул пива…
Пока Варька утирала слезы на кухне, Котов маялся в комнате, не зная: то ли пойти за ней, то ли подождать, чтоб остыла. Господи, бедная Варежка! Его собственные страдания и метания показались сейчас такой глупой и никчемной ерундой, что он даже устыдился. Ах ты черт! И ведь даже никогда не интересовался, как, собственно, живет его подруга детства! А? Он вспомнил их редкие встречи на всяких днях рожденьях и прочих семейных праздниках – Варвара всегда была спокойна и слегка насмешлива, всегда выслушивала его россказни и сочувствовала от души!
Он пошел к Варьке. Она стояла у окна, и Котов с нежностью посмотрел на ее прямую спину в затейливо вывязанном белом свитере и на короткую косу, завязанную простой аптечной резинкой: волосы у Варежки были густые и тяжелые. Котов легонько подергал ее за хвостик косы, и Варвара строптиво дернула плечом – отстань! Но он не отстал, а повернул ее лицом к себе и обнял. Варька не смотрела на Котова и упиралась, но он пересилил – прихватил ее за подбородок и заставил поднять опущенную голову, потом поцеловал. Варька еще поупиралась, а потом вздохнула и сама его обняла. Котов что-то делал у нее на спине – Варя оторвалась от его губ:
– Что ты там возишься?!
– Подожди! Никак! Я боюсь тебе больно сделать…
– Да что ты хочешь-то?!
– Косу твою распустить…
– Господи, Котов! – И Варька сама сняла резинку и тряхнула головой, расправляя волосы, которые сразу легли тяжелой волной ей на плечи.
– Ну вот! – Он запустил руку в Варькины волосы и опять поцеловал. И сразу словно повернулся выключатель и вырубил всю окружающую действительность: только Варежка, только поцелуй, в котором он тонул и тонул – в полной тьме, среди медленно проплывающих золотых искр и звона в ушах. Потом вдруг добавилось какое-то дребезжание и шипение. Котов поморщился, а Варька вырвалась из его рук и куда-то делась, потом вернулась:
– Это чайник!
– Какой… чайник…
– Чайник закипел, я выключила. Слушай, а что это мы такое делаем?
– Мне кажется, целуемся. А тебе как кажется?
– Ты думаешь, это правильно?
– При чем тут… правильно?! Не морочь мне голову! И вообще, пойдем уже! А то я… не могу.
– Куда пойдем? С горки кататься?
– С какой еще… горки…
Они опять поцеловались, потом еще раз – в комнате, рядом с пышной Варькиной кроватью, и Котов запустил уже руку ей под свитер, и джинсы расстегнул, как вдруг звучно хлопнула, закрываясь, входная дверь, и кто-то прошел в кухню, довольно громко топая.
– Варь, пришел кто-то! Ты гостей ждешь?
– Никого не жду. Надо было дверь закрыть! И как я не подумала…
– Барби! Ты где? – заорал вдруг этот кто-то из кухни.
– Кто это – Барби?! – изумился Котов.
– Это я. Вот черт, принесло его!
– Кто это?!
– Котов, это Изольда. Моя Изольда. У тебя – своя, у меня – своя.
– Какая еще Изольда?! – Голос, кричавший «Барби», был явно мужской, но у Котова в голове все настолько перепуталось, что он с недоумением спросил: – Ты что, лесбиянка, что ли?!
– Обалдел совсем, Котов? Что за чушь! Я в переносном смысле сказала «Изольда»! Это мой бывший любовник. Мы давно расстались, а он все никак не отстанет. Ты бы застегнул штаны! А то, боюсь, придется применять грубую мужскую силу. Ты можешь применить грубую мужскую силу?
– Ну, могу… наверно.
– Ты не волнуйся, он хлипкий!
Котов был до глубины души оскорблен тем фактом, что у Варьки мог быть в любовниках какой-то хмырь, называющий ее Барби! Барби, а?! И она еще попрекает его Изольдой! То есть… Жозефиной? Это ж надо – забыл, как зовут жену! Бывшую. Ну, почти.
В комнате материализовался неведомый Варькин любовник, дожевывающий пирог. Он действительно был на вид хлипок, и Котов приободрился. Невысокий, субтильный, очень коротко стриженный, с высоким, переходящим в залысину лбом, невразумительной бороденкой и усиками, он выглядел рано постаревшим мальчиком.
– Ну вот, – сказала Варвара, – это и есть моя бывшая «Изольда».
– Какая, к черту, Изольда?! Барби, что это за хрен?
– Это не хрен, как ты выражаешься, а мой муж. Котов Игорь Владимирович. Прошу любить и жаловать, – и поцеловала Котова в щеку.
– Му-уж? Да ладно!
– Что значит – да ладно?!
– Ладно врать! Муж! Выдумает тоже!
– Нет, Усольцев, ты чего приперся-то, а?! Или что? Тебя твоя очередная ласточка выгнала?
– И ничего не выгнала. Я сам ушел. Она никогда меня не понимала, никогда! Корова!
– А, так ты ко мне за пониманием пришел? Не дождешься! – Варвара сорвалась с места и куда-то унеслась, а Котов с «Изольдой» растерянно смотрели друг на друга. «Изольда» быстро запихал в рот остатки пирога, вытер руку о джинсы и протянул Котову:
– Как тебя зовут-то, забыл? А я – Ростислав Усольцев, можно просто Слава…
Но тут ворвалась Варька, притащившая большую спортивную сумку, которую обрушила прямо на ноги «Изольде» – Ростиславу:
– Вот! Забирай и выметайся!
– Ну, ты вообще! Куда я книжки-то сейчас дену?
– А мне какое дело?
– Барби, ну будь человеком!
– Какая она тебе, к черту, Барби! – разъярился вдруг Котов и сделал шаг вперед: – Сказано тебе – выметайся!
– Ну ладно, ладно! Хорошо! Уйду! В морозы гоните, в снега! Замерзну на хрен! Твой грех будет, твой!
– Пошел вон!
– А мне, может, и деваться-то некуда!
– А я при чем?! Мы с тобой уже сто лет как расстались! Ты сам меня бросил, забыл?! Конечно, я – такая корова! – не способна понять твою тонкую душу! Так что катись отсюда вместе со своими книжками! Еще место тут занимают!
– А, все вы, суки, одинаковы!
– Что ты сказал?! – И Котов, окончательно выйдя из себя, выкинул щуплого Ростислава за дверь, а потом туда же его куртку с шапкой и сумку с книжками, оказавшуюся неожиданно тяжелой. В доме сразу стало очень тихо. Варька опять встала у кухонного окна, и Котов второй раз за сегодняшний день обнял ее, развернул к себе и поцеловал.
– Варь, кто он такой?
– Никто. Гений.
– Гений?!
– Поэт.
– Так это его, что ли, книжки в сумке?
– Ну да. Издали-то тиражом всего сто штук, и те не расходятся никак. Еще шестьдесят осталось. Я ж говорю – гений.
– За свой счет издали? – догадался Котов. – Вернее – за твой?
Варвара промолчала.
– Где ты его взяла-то, гения этого?
– В Интернете.
– Где?!
– Где-где? В Интернете! Наткнулась случайно «ВКонтакте», переписывались сначала. Такие письма мне писал! И стихи. Потом приехал. Год у меня прожил. Он вообще-то из Тавды сам…
– Откуда?!
– Из Тавды. Это на Урале.
– Варь, ты что, совсем дура?! Из Тавды! Да ему Москва была нужна, и все! Гений, ты ж понимаешь!
– Ну да, я дура, а ты такой умный, что дальше некуда! Гортензию свою вспомни! Да, мне было одиноко! Каково, ты думаешь, рядом с безумным человеком существовать? Я ничего себе не могла позволить, ничего! А его письма, стихи… Я, может, и выжила только поэтому!
– Ага, а потом он тебя бросил! Москвичку нашел?
– Да, хорошо, я дура! А ты! Да ну!.. – И Варька, махнув рукой, выбежала из дому, схватив на ходу куртку.
– Варька! Варежка!
Котов выскочил на улицу, огляделся – Варька как сквозь землю провалилась. Он пробежал в один конец улицы, в другой – никого. Озяб, вернулся в дом: ну, и что теперь делать?! Может, успокоится – вернется? Вздохнул и присел на кухне – машинально взял с блюда пирог и откусил сразу половину…
Женился Игорь неожиданно для себя самого. Совершенно не собирался! Он только что окончил институт, отчим пристроил его в хорошее место, отец помог с квартирой, и Котов вовсю резвился на свободе – сам себе хозяин, какое счастье! Он и до этого, собственно, никем особо не притеснялся, но одно дело – комната в материнском доме, другое – собственная квартира. А потом он простудился – грипп косил всех безжалостно. Выписавшись с больничного, Котов стоял около лифта, когда тихий нежный голосок у него за спиной произнес:
– Простите, пожалуйста… Вы не могли бы мне помочь…
Он оглянулся – к противоположной стене прислонилась маленькая девушка и беспомощно на него смотрела. Она показывала на пол – там валялась ортопедическая трость с подлокотником:
– Я уронила…
– Да-да, конечно!
Игорь подскочил и поднял трость, почему-то страшно смутившись. В лифте они ехали вдвоем, и совершенно красный от замешательства Котов все время отворачивался, покашливал и без толку водил рукой над кнопками этажей, чуть было не нажав случайно «Стоп».
Покосившись на девушку, он успел заметить легкую улыбку на ее лице – вспыхнувшую и тут же погасшую. Ресницы скромно опущены, золотые кудри по плечам, нежный румянец… Сумка через плечо… Тонкая талия, маленькие ножки и ручки – Котов все разглядел, преисполнившись нежного сочувствия: надо же, такая хорошенькая и хромая! Бедняжка! Он подвез ее до дому и сам не заметил, как оказался на веселенькой розовой кухне – на столе чашки с чаем, пирожные и клубничное варенье в хрустальных вазочках, напротив – мило улыбающаяся Анжелика…
Боже мой, Анжелика!
Чай подавала бабушка – точно такая же, как Анжелика, только в два раза выше ростом. Седая, розовая, мило улыбающаяся. Так начались их отношения, и Котов просто таял от умиления и нежности, чувствуя себя героем, благородным рыцарем, щедрым покровителем – короче, персонажем дамского любовного романа, которые он втихаря почитывал, утаскивая у одной из собственных бабушек. Анжелика смотрела на него с благоговением, скромно краснела и вздыхала, трепеща длинными ресницами. Оказалось, что ничего особенно страшного у нее с ногой не случилось, просто неудачно упала и повредила мениск.
Через полгода они поженились, и Анжелика принялась вить гнездышко в холостяцкой квартире Котова. Довольно скоро Котов начал чувствовать себя не слишком уютно в этом царстве салфеточек, подушечек, розочек и кошечек. Лежать с ногами на диване было нельзя, ставить кружку с кофе на полированный столик тоже: Игоша, подложи салфеточку! Игоша! Его просто бесило это дурацкое имя! Пиво не приветствовалось, футбол Анжелику нервировал, а от бесконечных сериалов, которые она обожала, Котова тошнило.
А еще дача, где все лето жила та самая бабушка и куда приходилось ездить каждые выходные! Нет, против самой дачи Игорь ничего не имел: так приятно поваляться в гамаке среди цветов, поиграть в бадминтон, полакомиться клубникой с грядки, да и свеженький пупырчатый огурчик так хорош к водочке, а уж малосольный вообще самое то! Но он решительно не был готов к тому, что огород надо копать, грядки – полоть, огурцы – поливать, да еще какие-то усы у клубники обрезать! И все время что-нибудь ломалось – то крыша протекала, то забор валился.
Но самое главное: все то, что так нравилось ему в Анжелике во времена жениховства: – легкое жеманство, наивное кокетство, трепетная слабость и трогательная беспомощность, – теперь стало чудовищно раздражать. Анжелика все время на что-то жаловалась, без конца обижалась, трагически молчала или слала бесконечные эсэмэски, и чем дальше, тем больше Котов чувствовал себя мухой, увязнувшей в липком сиропе. Последние полгода они только и делали, что выясняли отношения: Котов то уходил, хлопнув дверью, к кому-нибудь из родителей, то возвращался домой, неожиданно соскучившись – все-таки никто больше не смотрел на него с таким обожанием и не трепетал так сильно. Да и готовила она, честно сказать, просто умопомрачительно. Особенно Анжелике удавались торты – сказочной красоты, их и есть-то было жалко. Так что Котов слегка раздобрел на этих кулинарных шедеврах, которые она пекла по поводу и без повода. И сама Анжелика чем-то напоминала пирожное – нежное, воздушное, изысканное… капризное…
А Варька – она как пирог, думал Котов, дожевывая очередную ватрушку. Простое и сытное кушанье, без особых изысков, не старающееся казаться лучше, чем есть. Надежное, основательное. Предавшись воспоминаниям, Игорь и не заметил, как ополовинил блюдо с пирогами. Философские размышления прервал звук хлопнувшей входной двери – он с надеждой рванул в прихожую, но это был Славик-«Изольда», совершенно замерзший и даже несколько заиндевевший. Он топтался, отряхивая снег, а увидев мрачно глядевшего на него Котова, сказал:
– Это снова я.
– Я заметил.
– Не вернулась Барб… Варвара-то?
– Нет. А ты откуда знаешь, что она…
– Да я видел. Понеслась, как чумовая. Поругались, что ли? Из-за меня?
– Очень надо из-за тебя ругаться!
– Ну да. Я пройду?
Котов отступил, и Славик прошел в кухню.
– Слушай, замерз я как собака. И жрать хочу, умираю. Можно я пирога, что ли, съем?
– Ну, съешь.
– А ты правда, что ли, муж?
– Пока нет.
– Ну-ну. А давай выпьем, а? За знакомство? У нее наверняка есть, Новый год же!
Господи, Новый год! Котов и забыл – он взглянул на часы: почти одиннадцать. Где ж Варька-то?!
– Она небось к Тигре пошла, – сказал жующий пирог Славик, словно услышавший мысли Игоря.
– К Тигре! Точно, как я сам не сообразил! А ты откуда Тигру знаешь?!
– А чего ж не знать! Я тут почти год прожил, всех ваших знаю.
– Так, вставай! Пошли!
– Куда?!
– К Тигре.
– Не, я не пойду. Очень надо. Ты иди, а я тут посижу. Пироги вон доем.
– Так я и оставил тебя тут одного! Даже не надейся!
– О черт! Да не могу я туда!
– Тогда вали куда хочешь…
Пока двое мужчин препирались на Варькиной кухне, сама Варька на кухне у Тигры ловко нарезала огурцы для салата. Как всегда, у Артемьевых стоял дым коромыслом: кто-то накрывает на стол, что-то запекается в духовке, дети орут, Дон настраивает гитару. Не жизнь, а балалайка! Артемьевы решили устроить маскарад, поэтому Тигра щеголяла в тельняшке и пиратской косынке на голове, как и Димка с четырехлетним Антошкой, а десятилетняя Катюшка нарядилась принцессой. У Варвары никакого костюма не было, поэтому ей выдали очки с красным носом и усами, которые пока что лежали на подоконнике.
– Варь, а ты чего такая? – спросила Тигра, внимательно глядя на Варвару.
– Какая?
– Тихая грусть.
– Представляешь, Котов приперся.
– Ну! Чего это он?
– Да мы с ним на работе встретились, на вечеринке.
– Ты ж не хотела!
– Случайно вышло. Смотрю – стоит, огурец жует, несчастный такой.
– Как же, несчастный! Варь, ну что ты всех подряд жалеешь!
– В общем, пообщались вчера, а сегодня – бац, приехал.
– И что?
– Ну, что! Как тебе сказать… В общем, Баркис не прочь.
– Про Баркиса-то понятно, он всегда не прочь, а ты?
– Том, я не знаю. Не понимаю, надо оно мне или нет. Потом, Котов вообще-то еще и не развелся. Весь мозг мне вынес своей Эсмеральдой, только о ней и говорит. Одной тошно, конечно, но… В общем, не знаю.
– Да-а… Нет обстановки – и это не мебель.
– И еще Усольцев заявился!
– А этому-то что надо?!
– Все то же! Очередная ласточка выгнала! Мы все у него сначала ласточки, а потом коровы.
– А ты что? Пожалела?
– От ворот поворот. Котов его выкинул, я прямо зауважала.
– Котов? Ишь ты, может, оказывается. Подожди! Если там у тебя Котов, чего ж ты пришла? Уже поругались?
– Слегка. Он меня жить учит. Со своей жизнью справиться не может, а туда же. Я думаю, он сейчас притащится. Даже Котов способен догадаться, куда я пошла.
– Варь, а может, тебе попытаться? Ну, с Котовым? И привыкать не надо, ты ж его знаешь отродясь! А?
– Вот именно, что знаю. Том, понимаешь, они все какие-то одинаковые, хотя и разные: Котов, Усольцев, да и первый мой – Олег. Все предсказуемые. И ненадежные. Это вон тебе повезло с Доном! Где ж еще такого найдешь?
– Ну да, конечно, – отвернувшись, довольно грустно произнесла Тигра, и Варька покосилась на нее: опять, что ли, поругались? Но спрашивать не стала: захочет, – сама расскажет.
– Ну вот, все! Салат готов.
– Красота! Давай отнесу. И вообще, пора за стол!
Томка подхватила миску с салатом, украшенным веточками петрушки, и уже от двери спросила фальшиво-равнодушным тоном:
– Варь, а Жеглова ты давно видела?
– Давно. Второго сентября, – ответила Варя и отвернулась к окну. Томкина квартира была на пятом этаже кооперативного дома, так что видно далеко, но смотреть особенно не на что: полночная зимняя тьма, только на горизонте, за лесочком, неясный свет от второго микрорайона, где как раз и живет Глеб Пономарев, которого они с Шараповым прозвали Жегловым. Вдруг в черном небе расцвели яркие вспышки – надо же, кто-то уже фейерверки зажег, подумала Варька. И двенадцати не дождался…
Варька вздохнула – каждый раз, когда вспоминала Глеба, так болела душа, просто нестерпимо. Она прекрасно понимала, чем ей не хорош Котов – да тем, что он не Глеб, только и всего. Если б могла – выпорхнула б в Томкино окно и полетела во второй микрорайон: а вдруг Глеб во дворе! Вдруг это он фейерверки пускает? Ну почему?! Почему все так несправедливо?! – подумала Варвара и всхлипнула. Но особенно разводить сырость ей не дали – заглянула Томка:
– Варь, Котов пришел. Слушай, он и Усольцева привел!
– Вот придурок, – сказала Варька и пошла разбираться.
– Варь, он снова приперся, этот твой гений – куда мне было его девать-то?! Не оставлять же там одного? – оправдывался Котов, а Славик скромно стоял рядом, держа в руках сумку с книжками. Варька махнула рукой: ну, что с ними делать?
Усольцев появился в ее жизни через несколько лет после разрыва с Олегом. Варька еще работала в Москве и чувствовала себя как заключенный – шаг влево, шаг вправо карается расстрелом: звонила матери по три-четыре раза на дню, после работы бежала сразу домой, все выходные торчала в Филимонове. Иной раз ее подстраховывала соседка тетя Дуся, когда надо было куда-нибудь оторваться, но не часто. Еще счастье, что мать соглашалась принимать лекарства – так напугала ее больница. Осенью и весной бывало совсем худо, а летом – полегче: Анна Викторовна копалась в огороде и отвлекалась. Когда Усольцев спросил, нельзя ли у нее остановиться – он по дороге из Питера в Тавду хотел заехать в Москву, Варька подумала: а почему бы и нет? Остался он чуть не на год, и Варька сначала радовалась: мать при нем была спокойней – все-таки мужчина в доме!
Хотя Варька почти сразу поняла, что образ, сложившийся у нее по письмам и стихам, плохо совпадает с реальностью, все равно смотрела на Усольцева с восторженным удивлением: надо же, настоящий поэт! Как он это делает, как приходят ему в голову эти странные строки, которые она не сразу научилась понимать?! И письма были такие же, и сам он – странный, слегка заумный, ни на кого не похожий! Потом-то оказалось, что еще паталогически ленивый, по-женски истеричный и страшный эгоист. Он искренне полагал, что является центром мироздания, и никак не мог понять, почему мироздание так плохо выполняет свои обязанности по отношению к нему – великому поэту Усольцеву?! А письма великий поэт писал не только Варьке, и стихи посвящал не ей одной, и в Питере, как оказалось, у него была такая же Варька, а в Тавде – жена с двумя сыновьями, в Екатеринбурге – еще одна бывшая, и где-то еще третья, тоже бывшая. И в один прекрасный день Варька вдруг озверела и выгнала его к чертовой матери! Пришла как-то с работы, а дома – шаром покати: великий поэт все подъел.
– Слав, ну ты мог бы хоть картошки сварить? Я устала как собака!
– Вот вечно ты с какой-то ерундой пристаешь! Картошка! На, для тебя, дуры, старался! – Он сунул ей тетрадку, исписанную кривым летящим почерком. – Купила бы уже принтер! А то пришлось от руки писать, ты ж знаешь, я не могу на мониторе править.
– Принтер?!
Даже поскандалить с ним как следует Варька не могла – мать бы расстроилась. Но выгнала. Не в этот день, потом. Тогда-то помирились кое-как, ведь и правда, для нее сказку сочинил, очень забавную, даже умилилась. Но он, видно, сделал выводы и довольно скоро торжественно заявил, что Варька его никогда не понимала, корова такая, а он не может жить с женщиной, которой не доступны его высокие искания! Так и сказал – высокие искания.
– Ну так и катись на все четыре стороны, – спокойно ответила Варька.
– Учти, это я тебя бросил!
– Учту. Давай проваливай.
– Слушай, а можно, я книжки пока оставлю? Тяжело же! Я потом по частям заберу.
Варька сгоряча чуть сама ему книжки не отнесла, но передумала – еще не хватало. Понимающую женщину он нашел неподалеку – это была Наталья Федотова из их общей с Тигрой компании: толстая нелепая Наташка, без конца влюбляющаяся в каких-то придурков. Варя честно попыталась ее предупредить по поводу Усольцева, но успеха не имела. Федотову спустя некоторое время Славка тоже бросил и перебрался в Москву к очередной ласточке, готовой приголубить такого одинокого, неприкаянного и непонятого великого поэта с высокими исканиями…
Кстати! Федотова же обещала забежать, вспомнила Варька. Ой, что будет! Но Федотова пришла не сразу, и они успели спокойно встретить Новый год. Варя все-таки не удержалась: вышла на кухню, набрала номер Глеба и зажмурилась, слушая гудки – но он не ответил. Ну и ладно, и ничего! Значит, не судьба. Вон, видно, Котов твоя судьба. А Котов веселился вовсю, радуясь, что догадался прийти к Тигре. Усольцев тоже потихоньку радовался, налегая на холодец и водочку – он предусмотрительно сел подальше от хозяина дома, с которым как-то чуть не подрался на почве поэзии: знаток хренов нашелся, ты ж понимаешь! Славик и не заметил, что вокруг стало как-то подозрительно тихо. Он доел кусок, облизал вилку и нацелился на соленый огурец, как вдруг…
– Ах ты сволочь! – ласково произнесла подошедшая Федотова, раскрасневшаяся после морозца и уже слегка пьяненькая. Ее мощный бюст был задрапирован блестящим фиолетовым боа из елочной мишуры, а на голове надеты розовые заячьи ушки. Она засучила рукава и полезла к Усольцеву, распихивая сидящих, – тот стремительно нырнул под стол. Котов разинул рот, а Варька наслаждалась.
Последовала небольшая погоня и свалка: Федотова рвалась к Славику, ее пытались оттащить, дети радостно верещали, друзья хохотали, а Дон наяривал на гитаре какой-то марш. Наконец Усольцева неосторожно вынесло прямо к Федотовой, она размахнулась и врезала ему по носу – Славик упал, мгновенно залившись кровью, Федотова зарыдала и ринулась страдать в ванную комнату, откуда тут же раздался страшный грохот и вопль Федотовой. Тигра помчалась смотреть, что случилось: оказалось, бедная Наташка облокотилась на раковину, и та с грохотом обрушилась! Варька, уже просто рыдавшая от смеха, схватила совершенно потрясенного Котова за руку:
– Бежим! Хватит с меня!
На улице было морозно и необычайно тихо – по сравнению с тем бедламом, из которого они сбежали.
– Ты хотел на горку – пойдем?
И они целый час, как маленькие, катались с ледянки, изгваздавшись по уши в снегу – хохотали, целовались и пили шампанское, которое запасливый Котов прихватил с собой. Потом привалила вся компания Артемьевых с петардами и фейерверками. Тигра, хохоча, рассказала, что Усольцев устроил истерику: «Эта корова мне нос сломала!» Нос, к счастью, оказался цел, и рыдающая Федотова увела великого поэта к себе – лечить нос, утешать, скандалить, мириться, все по полной программе.
– Да, этот Новый год мы запомним надолго!
И дома у Тигры, и по дороге, и на горке Варька несколько раз проверяла мобильник, но Глеб не позвонил и сообщения никакого не прислал. Хоть бы рожицу улыбающуюся – ей бы хватило. Носила бы с собой улыбку Глеба в телефончике…
Ну и ладно. И Варвара решительно отключила телефон.
Под шумок они с Котовым сбежали домой и в конце концов опять очутились у Варькиной роскошной кровати, о чем давно мечтал Котов, – правда, дверь они на всякий случай заперли. А то кто его знает, Усольцева! Котов стащил с Варьки ее немыслимый свитер, под которым оказалась белая футболочка и никакого лифчика, чем он немедленно воспользовался, потом расстегнул джинсы и лихорадочно выдрался из них, как змея из старой шкуры, а когда выдрался, обнаружил, что из заднего кармана вывалился пакетик с презервативом.
– Смотри-ка, подготовился! А ты предусмотрительный. – Варька брезгливо потыкала ногой в пакетик. – Значит, решил приехать и переспать со мной, да? Раз я… раз ты… Значит, можно?!
– Варь! Ну что ты, в самом деле?! Ничего я не решил! Нет, я, конечно, хотел… В смысле – мечтал! Но я и не думал! То есть я думал, что… может быть. И чем плохо, что я предусмотрительный?! Варь?! Ты же знаешь, что я…
– Что ты?
– Я, конечно, никогда… Но я всегда! Я просто сам не понимал! А теперь понял! Я еще позавчера понял! Или когда это было-то? Вчера, что ли? Ну, Ва-арежка…
Варвара усмехнулась, скинула покрывало, разметала горку подушек, стянула брюки и, сверкнув наивными белыми трусиками, быстро забралась под одеяло и завозилась там, снимая оставшиеся одежки. Котов смотрел, моргая.
– Ну, ты чего? Давай быстрей, а то холодно! Вон у тебя уже ноги синие!
Игорь покосился на свои синие ноги, скинул джемпер вместе с майкой и проворно залез к Варьке:
– Варь, я что-то не понял… Это что было-то?
– Не вникай!
– Как это – не вникай? Если я именно что хочу вникнуть!
Но тут Варвара его поцеловала, и вникать дальше не стало никакой возможности, Котов и перестал. Про презерватив он забыл напрочь, ему было не до того – не опозориться бы перед Варькой: она как-то… возбуждала его, конечно! Но словно проверяла: посмотрим-посмотрим, на что ты годен, да и годен ли вообще. И потом он долго не мог прийти в себя – в глазах все сверкали цветные искры, и он не сразу сообразил, что это всего-навсего гирлянда на елке.
– Ко-отов, – томным голосом с еле ощутимой насмешкой произнесла Варвара, – ты такой темпера-аментный, я прямо не ожидала!
– Я?! Да это ты меня завела! Такая тихоня с виду, а сама…
– Да ладно! Я сама скромность. – Она сладко зевнула и пристроилась спать, положив руку ему на живот. Котов даже вздохнул – от счастья. Счастье было реальное, живое – сидело, словно кошка, на краю кровати и жмурилось, мурлыча. Кошка, спавшая у них в ногах, впрочем, тоже мурлыкала, и очень даже громко.
Проспали они до полудня, а потом почти сразу поругались. Не то чтобы поругались – просто Варежка как-то ловко выставила его вон, и недоумевающий Котов потащился в Москву, придумав по дороге, что, пожалуй, поедет сейчас к матери – там его встретили воплями восторга, и он мгновенно восстановил пошатнувшееся было душевное равновесие: все хорошо, его любят и ценят, ему рады!
А дело было в том, что Варька включила телефон и тут же увидела высветившийся вызов от Глеба – в два тридцать семь, как раз, когда они с Котовым развлекались в постели. Варька чуть не взвыла и набрала его номер, наплевав на все предосторожности:
– Ты мне звонил?!
– Да, я тогда не мог говорить, когда ты звонила! С Новым годом тебя!
– И тебя! Как ты? У тебя все в порядке?
– Все по-старому. Без особенных изменений.
– Гле-еб…
– Варька…
– Глеб…
– Прости меня…
– Перестань. Я… думаю о тебе.
– Я тоже. И я так хочу, чтобы ты… была счастлива! Пожалуйста, Варь!
Она чуть было не воскликнула: «Счастлива?! Без тебя?!» – но удержалась и сказала тихо:
– Я постараюсь. Постараюсь.
Но старалась она плохо: выставив Котова, Варька проплакала остаток дня и на следующий день тосковала, хотя и сходила к Артемьевым посмотреть на разрушенную Федотовой раковину. А потом позвонил Котов и робко позвал ее на Рождество – к его матери в гости.
И Варя согласилась.
Глава 2 Непарная Варежка
Первый раз Варька встретилась с Глебом случайно: бежала домой от «ближних буржуев», где готовила ужин. Эта работа перепала ей неожиданно: Варвара мыла окна в особняке, а когда домылась до кухни, обнаружила там молодую хозяйку, рыдающую в три ручья – обычно готовившая свекровь свалилась с приступом мигрени, а у невестки все сгорело и убежало. Варька слезла с окна, повязала фартук и за полтора часа приготовила роскошный ужин, даже успела окна домыть до приезда сурового мужа. А через пару дней свекровь, оправившаяся от мигрени, позвала ее кухарить, и Варя согласилась – она любила готовить. Когда она шла по новой трассе, Глеб притормозил и предложил подвезти, а Варька предупредила:
– Мне недалеко! На Пионерскую!
Он разочарованно хмыкнул:
– Да, не везет мне сегодня! Ладно, тогда и сам домой поеду.
– А ты что, «бомбить», что ли, ездил?
– Ну да. Только неудачно.
Варька пригляделась и вдруг поняла, кто это, – поселок маленький:
– А ты где живешь? Во втором микрорайоне? Ты Зои Васильевны сын, нет?
Глеб мрачно на нее покосился: ну конечно, его историю знала в Филимонове каждая собака.
– Слушай, а ты что, работу так и не нашел? Ты кто по специальности?
– Я строительный закончил. Работал в проектной фирме.
– А ты не хочешь к Шарапову пойти? Он сейчас как раз задумал еще и строительством заняться!
– К Шарапову? А, этот! Не знаю… А он возьмет?
– Сейчас спросим. – И Варька набрала номер Шарапова: – Коль, слушай, я тебе мужика нашла!
– Да мне вроде и баб хватает! – хмыкнул Шарапов.
– Я серьезно! Да не чавкай ты в трубку!
– Прям уж и не почавкай ей! Ну, что еще за мужик?
– Да Зои Васильевны сын! Он строитель, представляешь?
Зоя Васильевна была учительницей географии и завучем в единственной филимоновской школе, и все поселковые у нее учились.
– А-а! Это тот, у которого трое детей и…
– Он тут, рядом со мной! Как тебя зовут?
– Глеб, – сказал Глеб, слегка ошарашенный быстротой развития событий.
– Его Глебом зовут. О, смотри-ка, здорово получается: вы с ним почти Жеглов и Шарапов!
– Точно! Ну ладно, приложи его к трубе!
Мужики договорились, и на следующий день Глеб приехал знакомиться. Прозвище так и осталось за ним. В машине Варя не рассмотрела его как следует – Глеб оказался высоким и худощавым. Волосы светлые и вечно взлохмаченные, а глаза тоскливые, как у спаниеля. Они с Колькой выглядели комической парочкой, прямо Пат и Паташон: маленький кругленький Шарапов, припадающий на правую ногу, и длинный сутулый Глеб с унылым носом. Но постепенно «Жеглов» отогрелся в их теплой компании, и глаза повеселели, и чувство юмора прорезалось – стал выдавать перлы не хуже самого Шарапова. «Не жизнь, а балалайка» – это было Глебово любимое выражение.
Конечно, во многом Варвара постаралась – она так жалела «Жеглова»! Он особенно не делился своими проблемами, но после того, как увидел Варькину мать, стал ей рассказывать про свою девочку с забавным именем Люша и про пацанов-близняшек. А Варя пропустила «контрольный звонок» – она звонила матери каждые три часа, иначе та начинала волноваться, а тут – забыла! Глеб подвез Варьку до дома и помог в поисках – мать спряталась на втором этаже под кроватью, откуда они ее с большим трудом извлекли и успокоили. Глеб Анне Викторовне понравился – мать всегда чувствовала себя защищенной в присутствии мужчин, ей даже Усольцев нравился, и она расстраивалась, когда Варвара его выгнала. Но Глеб ужаснулся и назавтра спросил у Варьки:
– Как ты живешь в таком кошмаре? Я бы не смог. Это ж какое терпение нужно!
– Да у меня не всегда и хватает, ты что думаешь – я железная? Все бывает: и срываюсь, и плачу…
Это как раз и был такой день, когда Варька почти сорвалась: ей приснился мучительный сон, который время от времени повторялся, чаще всего в полнолуние. Во сне она кричала на мать, орала с ненавистью, со злыми слезами: «Ты всю жизнь мне поломала, идиотка проклятая, всю жизнь! Так и сдохну тут, в дыре этой! Без детей, без мужа!» Проснувшись, она чувствовала глубокий стыд и раскаянье, а мать тоже словно что-то ощущала и сильнее нервничала, так что Варьке приходилось прилагать массу усилий, чтобы на самом деле не разораться, как во сне.
– И ведь не подумаешь, – сказал Глеб. – Ты всегда улыбаешься!
– Глеб, а что мне еще остается? Иначе меня туда затянет, в этот ужас. Нельзя унывать, понимаешь? И ты давай-ка, распрямись! А то согнулся, как дед девяностолетний. Ничего, пробьемся!
Но Глеб переживал: молодая, красивая, а никакой жизни не видит! Он даже спросил у Шарапова, есть ли кто у Варвары.
– А что? – прищурился на него Шарапов. – Подъехать хочешь? Ты, Жеглов, смотри! Варька мне как сестра! Я за нее любому врежу, будь он хоть в два раза выше меня ростом, понял?!
Сначала им казалось, что это просто дружба. Глеб рассказывал про детей, Варька слушала, сочувствовала, особенно переживала из-за Люши – оказалось, девочка сама себя так назвала: шепелявила слегка, вот и получилась из Люси – Люша. Переживала Варвара всерьез, даже иной раз ночью просыпалась и думала. Влезла в Интернет, прочла все, что смогла найти о проблемах детей с ДЦП, пересказывала Глебу, тот только вздыхал: он никогда на жену не жаловался, но раз проговорился, что она плохо следит за детьми, особенно за Люшей, и той по большей части занимается бабушка.
Варька этого никак не понимала! Один раз она видела Люшу – поехала во второй микрорайон с автолавкой вместо шараповской Черепахи и увидела, как Зоя Васильевна гуляет с маленькой девочкой – та ковыляла по детской площадке, приволакивая ножку. У Варьки все сердце изболелось, а когда они подошли за сахарным песком и Варвара увидела ее трогательную мордочку с косящим глазиком и ямочками на щеках, то чуть не заплакала, с трудом сдержалась. Как можно такого ребенка не любить?! Варька подарила Люше шоколадку и всхлипывала всю обратную дорогу, а Зять, который сидел за рулем, косился на нее с недоумением.
А когда Глеб однажды принес показать детские фотографии, Варвара выпросила у него одну Люшину – тот слегка удивился, но дал. Это было что-то мощное, ей совершенно неподвластное – Варька полюбила чужого ребенка, как своего! Иногда Люша снилась ей, и Варя просыпалась в слезах: хотелось побежать, обнять, утешить… забрать себе… вместе с Глебом. И с пацанами. Она как-то спросила у Шарапова про Галю, жену Глеба: какая она? Тот поморщился: «А, та еще штучка! Холодная стерва! Не повезло мужику».
Не повезло…
Как-то работали в одном из коттеджей – красили, обои клеили. День был как по заказу – ясный, солнечный. Варька сидела на полу, вся освещенная солнцем, и старательно обрезала кромки обоев длинными ножницами. Глеб, проходивший мимо с ведром клея, остановился и залюбовался: казалось, что светится сама Варя.
– Какая ты… смешная, – сказал он, запнувшись: чуть было не выскочило «славная».
– Чем это я смешная?! Вот еще!
– Стараешься, аж язык от усердия высунула, как первоклашка!
– Да врешь ты все! – Варька, улыбаясь, подняла голову…
Улыбки медленно таяли у них на лицах, и взгляды становились все серьезнее и серьезнее – что-то происходило странное, словно кокон солнечного света, в котором сидела Варька, постепенно рос, расширялся, делался все ярче, пока не захватил в свое сияние и Глеба. Они смотрели друг на друга целую вечность, но тут из другой комнаты закричал Шарапов:
– Жеглов! Где ты там? Тебя только за смертью посылать!
Глеб повернулся и вышел, а Варька опустила голову и принялась дальше обрезать кромки. И вроде бы ничего не изменилось между ними. Но изменилось всё. Нет, они не вспыхивали при виде друг друга, спокойно разговаривали обо всем на свете, все так же подтрунивали один над другим. Но дотрагиваться избегали, опытным путем определив самую короткую дистанцию: сантиметров тридцать, не меньше! А то ощутимо било током. Ни Глеб, ни Варька не сказали ни слова о том, что с ними произошло, просто оба знали. Но оказалось, что знают не только они. Как-то вечером Шарапов, который вез Варвару домой с дальнего коттеджного поселка, спросил:
– Варь, а что у тебя с Жегловым?
Варя долго молчала, потом пожала плечами и ответила:
– Любовь.
– Вот горе!
– Почему ж горе? Счастье.
– Варь, ну ты ж понимаешь, что…
– Коль, я все понимаю. Я знаю, что ты мне хочешь сказать. Но изменить мы ничего не можем. Оно есть – и все.
Километра через полтора он снова спросил:
– Слушай, а может, вам просто переспать, да и все? А? Я ключи дам от пустого коттеджа…
– Шарапов! Да разве в этом дело?! Я… умереть за него готова! А ты – переспать! И как у вас, мужиков, всегда только секс в голове!
– Ну, не скажи, секс тоже вещь нужная. Вы оба как волки голодные – ты одна, молодая-красивая, а у него с женой напряженка…
– Это что, он тебя попросил со мной поговорить?!
– Избави боже, ты что! Я к Жеглову и подступиться с этим боюсь – убьет сразу!
– А со мной, значит, можно! Хочешь, Шарапов, я с тобой пересплю?! Раз ты так обо мне печешься? О моей сексуальной жизни!
– Варь, ну ты что!
– Ничего. Высади меня, я пешком дойду.
– Обиделась! Вот черт! Ну, прости меня, дурака! Прости, а? Просто смотреть на вас сил никаких нет, жалко же!
– А что, так заметно?
– Я вижу.
– Коль, ты сам-то подумай: неужели нам одного раза будет достаточно?! Да у тебя пустых коттеджей не хватит! И как дальше Глебу жить? На два дома? Ты знаешь, я бы на все согласилась, честно тебе говорю. Но он же не сможет. Ты видишь, какой он. У него пунктик на детях, на разводах. Он же упрямый, как не знаю кто! Я бы и с детьми его приняла, но как это возможно – от живой матери?!
– Вот же засада! Что ж за жизнь такая дурацкая!
– Какая есть.
А потом Варькина мать умерла. На похороны собралось неожиданно много народа, и даже сестра Лидочка приехала из Вильнюса, а на девятый день были только свои – Артемьевы, Шараповы и Глеб. Артемьевы ушли первые, а Наталья Шарапова помогла прибраться. Вытирая последнюю тарелку – Николай с Глебом допивали чай, – Черепаха вдруг сказала:
– Варь, теперь тебе новую жизнь начинать надо. Анна Викторовна, царствие ей небесное, отмучилась – и ты тоже отмучилась, хватит. Надо тебе в Москву перебираться, что ты здесь будешь киснуть? Молодая, образованная, красивая, умная!
Варвара аж опешила – не ожидала услышать от молчаливой Натальи такую длинную речь.
– Да я сама думала…
– И нечего думать! – поддержал жену Шарапов. – Что тут за жизнь для тебя!
– Встретишь кого-нибудь, судьбу устроишь, детей заведешь. А тут – какие женихи!
– Если только Кузяев!
– Ага, нужен ей твой Кузяев! Варя получше найдет!
Наталья с Колей говорили по очереди, как будто сговорились заранее. Глеб молчал, опустив голову, а Варвара смотрела только на него. Глеб мрачно произнес:
– Они правы, Варь. Что тебе здесь пропадать? – Встал и вышел.
Шараповы тоже распрощались и уехали, сделав вид, что не заметили машину Глеба, стоящую чуть поодаль. Варвара подошла, он вылез.
– Гле-еб! – сказала Варька с тоской и шагнула к нему – шагнула и прислонилась. Просто прислонилась, не обнимая. Они постояли, Глеб вздохнул и все-таки обнял ее, так осторожно, словно Варька была стеклянная. А потом уехал.
Работу в Москве Варвара нашла довольно быстро. Сначала она справлялась: новое дело, новые люди, новые наряды. Времени не было, чтобы особенно тосковать, – поднималась рано, приезжала поздно, уставала с непривычки, в выходные отсыпалась. Общалась только с Тигрой. Шарапову звонила изредка, чтобы узнать, как Жеглов. Так проработала лето, а осенью – второго сентября! – нечаянно встретила Глеба. Этот день выдался теплым и ясным, так что Варя решила пойти пешком, хотя после целого дня беготни на каблуках ноги просто отваливались – никак она не могла привыкнуть к новому стилю жизни. Глеб нагнал ее на первом повороте:
– Садись, подвезу! Сто лет не виделись.
Они и правда не виделись больше полугода и теперь так волновались, что никак не могли заговорить друг с другом, а только беспомощно улыбались. Потом Варька затрещала про новую работу – она всегда много говорила, когда нервничала. Глеб только посматривал на нее – глаза у него опять стали как у печального спаниеля. Он подвез Варю прямо к дому. Посидели немножко в машине, а потом Глеб спросил:
– А ты меня чаем не угостишь?
– Чаем?
– Когда я говорю чай, – Глеб покосился на Варьку, – я имею в виду чай. И больше ничего.
– Конечно! Пойдем.
Он присел за стол и потер лицо рукой.
– Уморился?
– Немного.
– Слушай, а давай поедим! Что толку в этом чае? Я с работы, есть хочу ужасно, да и ты небось не обедал? У меня лапша куриная, давай?
– Да я перекусил вообще-то…
– Перекусил он! Знаю я твои перекусы!
Варвара быстро накрыла на стол, разогрела суп, щедро налила ему в тарелку, но Глеб так шустро заработал ложкой, что она, уже не спрашивая, подлила еще половник и добавила кусок курицы.
– Ох, хорошо! Вкусно, спасибо.
– Слушай, как удачно, что мы встретились! Возьмешь яблок? А то мне девать некуда! Такой урожай в этом году, просто ужас! Ветки так и обламываются! Я уж и варенье варила, и сок делала, а все не кончаются…
– Ну давай.
Варька притащила две корзины с яблоками.
– Да куда ты столько?!
– Ничего, съедите! Эти вот, смотри, антоновка, она снятая, не битая, долго лежать будет. А тут разные, сейчас погрызть. Одни витамины!
– Ну ладно, спасибо. – Глеб тяжело вздохнул и опять потер лицо рукой. – Разморило меня от твоего супа. Прямо глаза закрываются.
– Может, кофе сделать?
– Не надо. Поеду я, – но не двинулся с места. Уходить ему явно не хотелось.
– Глеб, у тебя все в порядке? Что-то ты мрачный!
– Да ерунда, пройдет.
– Поругались, что ли?
Глеб мрачно поглядел на Варьку и сказал, опустив голову:
– Не то слово – поругались. Чуть не врезал ей.
– За что?!
– Варь, когда мы узнали, что девочка… нездорова…
Глеб замолчал. Варька не дышала.
– Давай, говорит, сдадим в Дом ребенка! Вроде как бракованная! Ну, я думал – стресс у нее. Потом, когда пацаны родились… Я-то не собирался еще детей заводить. С Люшей одной сколько забот, но она уперлась: надо еще ребенка, здорового, а то ты меня бросишь, кому нужен больной ребенок и всякое такое. Пацана, конечно, мне хотелось. Но сразу двое! И, как нарочно, все сразу разваливаться стало. Нет, я понимаю, Галка устает, кто ж спорит. Но я-то тоже не отдыхаю! Разве я плохо стараюсь, Варь? Я верчусь как уж на сковородке, за все хватаюсь!
– Глеб, ты очень хорошо стараешься! Ты молодец!
– А ей все не так, все мало. Ну, трудно нам сейчас, так выправимся со временем…
– Конечно! Это просто черная полоса!
– Ты понимаешь, я ведь не из-за себя переживаю! Я-то все выдержу. Я из-за дочки. Плохо она с Люшей обращается. Галка и на пацанов, бывает, кричит. Но те-то здоровые! Моторные такие пацаны получились, кого хочешь с ума сведут.
– А как с Люшей?
– Варь, она иначе, чем «уродка» и «дебилка», Люшу не называет! А девочка вовсе не дебилка, она умненькая! Ей шести нет, а уже читать может и считает хорошо! Бабушка с ней занимается. Она же почти все время у бабушки, Люша. И помогать всем старается, только что ж она может – слабенькая, и ручки-ножки плохо слушаются, но она силится! И всех любит, такое сердечко доброе! Галка на нее кричит, а она… она мне говорит: «Мамочка… мамочка устала…»
Глеб замолчал и закрыл лицо руками.
– Глеб, ну что ты! Не надо, милый…
Но Глеб ее и не слышал:
– А тут Люша разбила что-то, нечаянно. Галка ее ругала, а я как раз вошел, слышу, кричит: «В детдом тебя сдам, уродка!» – и замахнулась на нее, а Люша отшатнулась и упала, ножку вывихнула…
– Господи…
– Я к врачу повез, испугался, что перелом, у нее косточки хрупкие. Потом к бабушке отправил, вернулся домой. Говорю: если ты еще раз на Люшу руку поднимешь или обзовешь, я тебя саму в такой детдом сдам, что не обрадуешься!
– А она что?
– Ну что! Каялась, плакала. Устала, говорит, сама не знаю, что делаю…
Они долго молчали, сидя напротив друг друга в круге желтого света под старым выгоревшим абажуром с кистями. Потом Глеб тяжело поднялся и вздохнул:
– Прости. И зачем я на тебя все это вывалил! Разнюнился, как баба.
– Глеб, перестань. Ты ж никогда не жаловался. Значит, припекло.
– Да, припекло что-то.
– Она и правда устала, Галка твоя. Ничего, образуется все, правда!
– Надеюсь. Галка хочет работать пойти. Пацанов в садик, и работать. Она, конечно, дома закисла. Ведь ей и приодеться хочется, и в люди выйти…
– Я понимаю.
– Ладно, пошел я.
– Яблоки не забудь.
Варя проводила его до двери, а на прощание не удержалась: быстро погладила по щеке и поцеловала, едва коснувшись губами, – получилось в уголок рта. Он усмехнулся:
– Что, пожалела?
– Ну да. Наладится все, Глеб, не переживай!
Он вдруг притянул Варьку к себе и провел рукой по волосам, которые она сразу же развязала, придя домой, – к вечеру от туго стянутого хвоста болела голова. Глеб пропустил сквозь пальцы густые пряди Варькиных пепельных волос, а потом взял да и поцеловал ее. Всерьез, сильно. Варька опомнилась первой – попыталась отстраниться, но он не пустил.
– Глеб, не надо, – сказала она тихо. – Не надо нам этого, ты же понимаешь…
– Я знаю.
– Поезжай домой.
– Сейчас. Еще минуту.
Варька замерла. Они просто стояли, прижавшись друг к другу, щека к щеке, и сердца так стучали, словно бились друг о друга! У Варьки вдруг промелькнула в голове странная фраза: «И двое стали – одно…» Откуда это? Наконец Глеб ослабил объятия:
– И что на меня нашло…
– Просто сегодня день такой. Тяжелый. Магнитная буря, наверно. Ты не переживай, подумаешь – поцеловались. Это просто… передышка. Любому нужна передышка.
Глеб совсем отодвинулся и невесело усмехнулся:
– Передышка! Разве ты можешь быть передышкой? Ты – воздух. Когда ушла, словно кислород перекрыли. Или свет выключили. Так и ковыряюсь в потемках.
Варька молча на него смотрела.
– Ладно, прости. И спасибо тебе. За все.
Он ушел. Варя постояла, потом переоделась, вымыла посуду. Забралась с ногами на кровать, включила телевизор, приглушила звук – она глядела на светящийся экран с меняющимися картинками, как смотрят на огонь в камине. Смотрела – и ничего не видела. Потом встала, походила из комнаты в комнату, опять села – обхватила себя руками и начала раскачиваться: взад – вперед, взад – вперед. Раскачивалась и выла, стонала на одной ноте: «Господи-и, почему ж так больно-о?!» Боль все усиливалась – уже не душевная, физическая. Варька не знала, что с этим делать, как превозмочь, как справиться?! Она то металась по дому, то бросалась на постель и колотила кулаками подушки, то кусала в кровь руки – больно!
Больно же, Господи!
Больно…
И такой был порыв – пойти к этой Гале, сказать: отдай!
Отдай мне девочку, все равно ты ее не любишь!
Не надо мне даже Глеба – он взрослый, справится!
И я… справлюсь.
Постараюсь.
Но девочка!
Девочка…
Заснула только под утро, но даже во сне чувствовала эту проклятую боль. А на следующий день вдруг приехали Андрей с Таней – Варька как увидела худую бледную Таню в инвалидной коляске, так ее и отпустило слегка. С Андреем и Таней Варвара познакомилась года два назад, хотя знала, что Андрей – родственник дяди Вити, соседа Котовых. После смерти дяди Вити его дом долго стоял бесхозным, как и дом Котовых, которые никак не могли его продать. Потом на этих двух участках вдруг началась строительная суета: старые дома снесли, начали ставить фундамент, и в один прекрасный день Варька увидела, как Андрей вытаскивает из машины складную инвалидную коляску – она тут же побежала помогать. Но оказалось, что по развороченному участку коляску не провезти, Андрей взял Таню на руки и прошел с ней к дому – показать стройку, а Варя стояла, печально глядя им вслед.
Потом Варвара напоила их чаем, а когда Андрей снова пошел на стройку, разговорилась с Таней. Они подружились – Андрей еще несколько раз привозил Таню в Филимоново, а Варька даже съездила к ним в гости – на Татьянин день и просто так, без особого повода.
Строящийся дом постепенно обретал очертания маленького сказочного за́мка, затейливого домика с башенками – местные тут же прозвали его «за́мком любви»: семейная история Андрея и Тани, которую первой узнала Варвара, скоро стала известна всему поселку. У Тани был рассеянный склероз – давно, уже лет пятнадцать, а то и больше. А дом этот ей приснился! Так что Андрей воплощал в жизнь Танину мечту, до полного осуществления которой оставалось совсем немного, только внутренняя отделка. Сейчас, взглянув на Таню, Варька ужаснулась: не доживет! Совсем прозрачная, слабая, Таня тем не менее улыбалась. Андрей пошел разговаривать со строителями, а Варя угощала Таню чаем с неизменными пирогами. Они чаевничали на веранде, и Таня, задумчиво глядя в окно, вдруг произнесла:
– Как жалко со всем этим расставаться…
За окном было видно Варькин сад: яблони, усыпанные красными и желтыми яблоками, разноцветные гладиолусы и хризантемы, а на столе в вазочке синего стекла стояли бархатцы, добавляя чуть горьковатого осеннего аромата к запахам сдобного теста и корицы.
– И Андрюшу жалко…
Варя с состраданием смотрела на Таню, а та чуть улыбнулась:
– Я не боюсь, нисколько! Только очень жалко Андрюшу. Ты знаешь, мы почти пятнадцать лет прожили, а полюбила я его только три года назад. Бедолага, он так со мной намучился. А у тебя есть кто-нибудь?
– Да. Но… В общем, это безнадежно – женат, трое детей.
– Понимаю. Жаль. Ты такая теплая, добрая. Солнечная. Тебе бы семью, детей побольше.
– Ну, что делать! – вздохнула Варька. – Как есть, так и есть.
– Ты тоже с мамой мучилась, бедная! Варь, я знаешь что подумала? Если у тебя так все безнадежно, может, у вас с Андреем получилось бы? Он очень хороший человек, правда!
– Таня! Ну что ты такое говоришь, ей-богу!
– Варенька, я же умру скоро, я знаю. И почему не спросить? Не намекнуть? Сами-то вы не сообразите, особенно Андрей. Я даже подумать боюсь, как он это переживет! А ты бы смогла ему помочь… Раз все равно одна…
Варька вскочила, не в силах дальше слушать, и выбежала на кухню, наткнувшись в коридоре на потрясенного Андрея, который все слышал, – они обнялись с налету, просто вцепились друг в друга, и Варька прошептала сквозь рвущиеся рыдания:
– Бедные, бедные! Горькие вы мои!
Таня умерла через два месяца. С Андреем Варька виделась только дважды: на похоронах и на сороковой день, когда тот неожиданно приехал в Филимоново – но эту встречу и Андрей, и Варвара старались не вспоминать. Конечно, Варя думала о том, что сказала Таня, не могла не думать! И Андрея ей было чудовищно жалко, но…
Но как же Глеб?! Люша?!
Стоило Варьке только представить: вот живет она с Андреем, и вдруг Глеб каким-то чудом стал свободен – она, не задумываясь, тут же уйдет к нему! Андрей такого не заслужил.
Нет, нельзя.
Но и одной оставаться тошно…
Так что, когда на ее горизонте снова появился Котов, Варвара задумалась: а может, и правда попробовать с ним? Почему-то Котова ей совсем не было жалко. Может, потому, что она слишком хорошо его знала? Пока Варька размышляла о своей незадавшейся жизни и любовалась фейерверками, которые действительно запускал Глеб, развлекая дочку перед тем, как отвести ее к бабушке, у окна кухни Пономаревых стояла его жена и думала точно так же, как Варька: почему, почему все так несправедливо?!
Пацаны уже спали, а им с Глебом предстояло уныло пить шампанское под бой телевизионных курантов – вот и весь Новый год! Раньше, сбагрив всех детей свекрови, они ходили праздновать к Шараповым, но сейчас Зоя Васильевна плохо себя чувствовала. Правда, у Шараповых Гале тоже не сильно нравилось, но хоть что-то. Она отвернулась от окна и с ненавистью оглядела кухню. Ничего нового, впрочем, не увидела – все тот же бардак, что и всегда. В такой же бардак превратилась и ее собственная жизнь. Как это случилось, как?! А так хорошо все начиналось…
Галочка ловко щелкала ножницами и жужжала машинкой, постепенно превращая запущенную шевелюру клиента в стильную стрижку. Волосы у него были густые, непослушные и росли как-то своеобразно, завитками, но Галка старалась. Не очень высокая, но стройненькая и длинноногая, черноволосая и синеглазая, Галя выглядела очень соблазнительно в кокетливом фартучке, и знала это. Она пользовалась успехом у клиентов – все хвалили ее умелые ручки, такие теплые и мягкие. Галя умела лучше всех преобразить самого невзрачного мужчину почти в красавца, несмотря на наличие лысин, складок на шее и шишек на голове. Это было целое искусство, и не все мастерицы брались за короткие мужские стрижки, предпочитая заниматься женскими головками, где всегда можно спрятать нечаянный огрех под кудрями и начесами.
Стричь-то Галя стригла, но и зевать – не зевала. Не зря же она с огромным трудом устроилась именно сюда – самый центр, шикарные клиенты, где же еще искать потенциального мужа-миллионера? Ну, пусть не миллионера – Галя все-таки была реалисткой, но кого-нибудь получше, чем папочка-бухгалтер, она себе точно найдет! На Глеба она сначала не обратила внимания: ну, волосы завитками растут, стричь сложно, а так – ничего особенного.
Но когда маникюрша Светка ворвалась с улицы в крайнем возбуждении и заверещала: «Ой, девочки! Ой, какая машинка там стоит! А кто ж это к нам приехал на такой классной машинке?», а клиент с непослушными волосами смущенно ответил: «Это моя!» – она заинтересовалась. К мужчине, который мог себе позволить такую машину, стоило приглядеться!
А Глеб все никак не мог налюбоваться и наиграться – даже новой квартире он не радовался так, как этой машине, приобретенной за совершенно неприличные деньги. Это была чистая радость мальчишки, для которого и велосипед-то казался недостижимой мечтой! И вот он прорвался, поднялся, доказал всем, что стоит чего-то, – машина была символом его новой жизни, его новой свободы. И он, смущаясь, но и гордясь, принимал комплименты и восхищенные вопли девиц в фирменных фартучках, которые побросали клиентов и толпились у окна, разглядывая «машинку».
Светка села за спиной Гали – так, чтобы Глеб видел ее в зеркале, и положила ногу на ногу. Ноги были длинные, юбка короткая, и она, меняя время от времени ногу, казалась самой себе почти что Шарон Стоун в «Основном инстинкте».
– Ах, какая маши-инка! – пела она. – А куда же вы ездите на такой маши-инке? На рабо-оту? А где вы работаете? Наверно, в банке, да?
Галя, поймав в зеркале напряженный взгляд клиента, понимающе улыбнулась и чуть повернула кресло – теперь он видел только кулер с водой.
– Свет, ты бы поработала. Тебя там клиентка уже полчаса ждет.
– Ой, и правда! – Светка встала, томно потянулась, выпятив грудь, и походкой манекенщицы ушла в свой кабинет. Галя опять переглянулась с клиентом. Понятно, подумала она. Значит, ты не любишь таких, как Светка. Это хорошо! И она тихо спросила у Глеба, прижавшись на секунду к его плечу грудью, которая тоже была очень даже неплоха, не хуже, чем у Светки:
– А вы не хотите височки подлиннее?
Она стала записывать его на стрижку последним, на всякий случай – вдруг пригласит куда-нибудь. Приручала постепенно, стараясь выглядеть скромной, но знающей себе цену. Он приходил часто, потому что быстро обрастал, и пару раз она угощала его кофе с печеньем в маленькой комнатке, где Глебу приходилось подбирать ноги, чтобы невзначай не коснуться ее коленом.
Он раскачивался медленно, и Галя не знала, как форсировать события. «Смотри, не упусти!» – наставляла ее мать. К тому времени Галочка уже выяснила все про его работу и квартиру она умела подобраться исподтишка. Ей помог случай: Глеб опоздал на 20 минут, застряв в пробке, и Галя встретила его уже в шубке, которую быстро нацепила, увидев подъезжающую машину Глеба. Он расстроился, что опоздал, долго извинялся, Галя сняла шубку, надела фартучек, задумчиво взъерошила ему волосы и посмотрела на часы:
– Что ж вы так обросли-то? Давно не были, все пропадали где-то.
– Я в командировке был. И никому не решился доверить свою голову – как можно! Только вам!
– Это хорошо, но стричь придется долго, да еще опоздали. Прямо и не знаю, что делать…
– Я нарушил ваши планы? – догадался Глеб. – У вас свидание?
– Свидание, да. – Галя улыбнулась: – С мамой. Она попросила кое-что сделать, а я… Ну ничего, я сейчас ей позвоню!
– Нет-нет-нет! – Глеб всполошился. – Галя, ну что вы? Давайте перенесем. Я приду, когда скажете! Мне-то какая разница? Поезжайте к маме!
– Как-то неловко… Вы уже здесь…
– Это мне неловко! Одевайтесь, я подвезу вас!
Он подвез, в следующий раз приехал с цветами и пригласил в ресторан. Через три месяца они поженились. И вот к чему все свелось – двухкомнатная хрущоба в богом забытой дыре, трое сопливых детей, одна вообще уродка! И денег вечно не хватает… ни покоя, ни радости, ни друзей, ни развлечений… свекровь разговаривает сквозь зубы… Молодость проходит зря!
Иногда Галочке снилась совсем другая жизнь, прекрасная и сверкающая: море, пальмы, белый песок, синее небо, коктейли с разноцветными соломинками, ананасы в шампанском, в общем, Баунти, райское наслаждение. Окружающая действительность была на Баунти совершенно не похожа. Ах, если бы она могла уйти! Но куда? К матери? С тремя детьми?! Та точно не обрадуется! Мать Гали совсем разочаровалась в зяте и иначе, чем придурком и проклятым неудачником, не называла. Да и Глеб не пойдет на развод, хотя отношения у них хуже некуда.
Вот если б не было детей…
Родители Глеба развелись, когда ему было тринадцать, и он очень тяжело это пережил. Ему-то казалось, что у них в семье все просто прекрасно – и вот вам! Глеб обозлился и на отца, и на мать, не слишком разобравшись, кто прав, кто виноват. Обозлился – и отгородился ото всех: я сам по себе! Зоя Васильевна и Алексей Дмитриевич вели с ним долгие душеспасительные беседы: отец пытался оправдаться, мать объясняла про сложности жизни, и оба хором твердили, что ничего не изменилось и он, Глеб, ни в чем не виноват – они по-прежнему его любят, только теперь порознь. Глеб мрачно слушал. Он сам решил остаться с отцом, когда предложили выбор: прекрасно понимал преимущества московской школы, да и друзья все здесь. Мама поддержала его решение, хотя и расстраивалась, но Глеб ей почему-то совсем не сочувствовал, а должен бы вообще-то: инициатором развода был отец. Мама уехала в Филимоново, но звонила ему чуть не каждый день, а Глеб еще и скандалил:
– Да нечего мне рассказывать! Все то же самое каждый день!
Отцу и его новой жене Марине пришлось несладко: самый трудный возраст у парня, все поперек. Глеб даже не поехал к матери на весенние каникулы, как отец ни уговаривал, – проболтался в Москве. Но на лето пришлось отправиться. Мама встречала его на станции, а увидев, сразу заплакала, обняла, принялась целовать, бормоча:
– Глебочка, мальчик мой! Боже, как вырос-то! Глебочка, сыночек!
Он и правда перерос маму на целую голову. И тут наконец его проняло: Глеб понял, как ужасно он соскучился по маме, каким одиноким и потерянным чувствовал себя все это время, – и тоже заревел как маленький. Это было лето долгих разговоров – Глеб все пытался разобраться, понять: как, почему, что случилось? Мама рассказала, что встретились они с отцом на первом курсе, сразу влюбились…
– А потом?
– Ты родился.
– А потом?! – Он никак не мог понять, куда делась эта любовь, почему закончилась?! Как мог отец разлюбить маму и полюбить эту Марину – нет, она вовсе не плохая – красивая, добрая, умная, но им-то и без нее было хорошо!
– Так бывает, – говорила мама. – Никто не виноват. Я полюбила папу, а он… Он просто был влюблен. Влюбленность проходит, к сожалению. Иногда ей на смену приходит любовь, иногда – нет. У нас не получилось.
– Так, может, в Марину он тоже просто влюблен? И это пройдет? – Хотя сам видел и понимал: нет, такое, пожалуй, не пройдет. Никогда отец не относился к матери с такой трепетной нежностью, никогда их жизнь не была наполнена таким теплом и сиянием, которое захватывало своими лучами и Глеба, как он ни сопротивлялся.
– Понимаешь, настоящая любовь – большая редкость, особенно взаимная, – объясняла мама. – Вот папе – повезло. Мне – нет, что ж делать! У нас с ним не совпало.
– А как отличить настоящую любовь?
– Слово одно, а чувства могут быть разные. Вот я тебя люблю – это никогда не иссякнет, и у папы так же. Родители никогда не могут своих детей разлюбить. А между мужчиной и женщиной все сложнее, там еще секс примешивается – и сбивает. Хотеть женщину и любить ее – разные вещи, ты понимаешь?
Глеб краснел, но кивал – про секс он уже все, как ему казалось, понимал.
– Поэтому так важно правильно разбираться в своих чувствах, чтобы не принять за любовь обычное желание. А когда ты чувствуешь, что этот человек стал для тебя родным, то уже не разлюбишь.
И Глеб задумывался: как это – стал родным? Например, как может стать ему родной Ирка Петрова, с которой он с пятого класса сидел за одной партой и даже пару раз поцеловался? Целоваться с ней Глебу нравилось, и вообще она была приятная и симпатичная, но родная?! О чем с ней разговаривать-то? С Кириллом гораздо интересней! Все эти беседы привели только к тому, что для себя он решил: не буду я морочиться этой самой любовью! Может, и вообще не доведется испытать – что ж теперь, с девчонками не встречаться, что ли?!
Потом только он понял, что мама рассказывала ему про себя. Это ее любовь – настоящая, которая не проходит, которая вынесет все, даже то, что любимый человек уходит к другой женщине. Только потом он узнал, что отец на самом деле хотел уйти и оставить им с мамой эту квартиру, а самому снимать жилье, потому что у Марины была только крошечная комнатка в доме родителей. Но мать настояла, что уйдет она, и вернулась в Филимоново – квартира была отцовская, и свекровь, пока была жива, все время ее попрекала, заявляя, что Зоя вышла замуж только ради московской прописки. А Зоя была гордая. И упрямая. Потому и ушла сама.
И Глеб был упрямым – весь в мать. На Галке он женился без лишнего трепета – хорошенькая, складненькая, домовитая, не скучная, чего еще надо? Он прекрасно понимал, что и Галка не пылает к нему особенной любовью, просто хочет замуж. Первые несколько лет они прожили замечательно – легко и весело, и Глеб радовался, как хорошо устроил свою жизнь: если нет любви, то и проходить нечему! Но довольно скоро выяснилось, что их прекрасный брак рассчитан только на «легко и весело», а когда тяжело и трудно, получается плохо. В радости и богатстве справлялись, а в горе и бедности – перестали.
Первым потрясением было рождение дочери – Глеб взял на руки маленькое беспомощное существо и чуть не заплакал. А когда выяснилось про ДЦП… Если б ему сказали, что нужно отдать жизнь за здоровье девочки, не раздумывал бы ни секунды. А Галка оказалась на редкость неловкой и неумелой матерью, и молоко у нее быстро ушло, и реветь принималась чуть что. Глеб никак не мог понять, в чем дело, списывая все на послеродовой синдром и стресс, в чем его настойчиво убеждал приглашенный за большие деньги психотерапевт. Он же порекомендовал нанять няню – в доме сразу стало спокойней.
Поэтому, когда жена через пару лет завела песню о втором ребенке, Глеб был категорически против, но постепенно Галка не без помощи тещи и все того же психотерапевта его убедила: оказывается, нервное состояние жены объяснялось тем, что она считала себя виновной в болезни дочери! А новый ребенок – здоровый, нормальный – приведет ее психическое состояние в норму. И он на это повелся! Махнул рукой: а, ладно, где один – там и двое. Оказалось – трое.
А через полтора года после рождения близнецов их жизнь рухнула. Когда Кирилл вызвал его к себе, Глеб ничего такого даже не заподозрил, решив, что речь пойдет о кадровых передвижках: Кирилла со дня на день должны были повысить, и тогда Глеб занял бы его место. Они дружили со школы, поступили в один институт – Глеб, словно паровоз, тащил за собой способного, но ленивого и избалованного приятеля, благодаря чему оба получили красные дипломы. А дальше паровозом стал Кирилл: связи его отца помогли обоим пристроиться в хорошую фирму. И вот наконец долгожданное обещанное повышение!
Глеб вошел, Кирилл коротко взглянул и отвел глаза:
– Присаживайся. Тут такое дело… Не знаю, как сказать… В общем, вот! – По гладкой поверхности полированного стола он подвинул узкий белый конверт.
– Что это? – Глеб открыл – там был чек. Увидев прописанную сумму, он присвистнул: – Ого! Это что, премия?!
– Нет. – Кирилл страдальчески сморщился. – Это… расчет.
– Я не понял… Ты что… ты меня увольняешь?!
– Не я! Фирма закрывается. Увольняют всех! Я решил сам тебе сообщить, по-дружески. Они прикрывают московский филиал.
– Значит, это выходное пособие…
– Послушай, я ничего не мог сделать, ты ж понимаешь! Не я это решаю!
Глеб сидел, рассеянно постукивая конвертом по столу. Такого он никак не ожидал. В его голове лихорадочно крутились цифры: кредит, выходное пособие, счет в банке… долги… только что купленная машина… дача… Дача, черт бы ее побрал! Дача, существовавшая пока только в виде фундамента и груды стройматериалов!
– А ты? – вдруг спросил он Кирилла, и тот вздрогнул.
– Что я?
– Тебя тоже увольняют?
Кирилл как-то засуетился, без толку передвигая лежащие на столе мобильник и ручку, потом зачем-то выдвинул ящик, посмотрел туда, задвинул… Наконец, выговорил:
– Ты понимаешь, меня переводят. В другой филиал.
– И где ж этот филиал?
– В Германии.
– Понятно.
Глебу на самом деле было все понятно: станция Березай – приехали, вылезай! Паровоз свернул на другой путь, вагон отцепили. И то сказать, лет десять тащил его за собой паровоз, грех жаловаться. Кто кого тащил, правда, вопрос! Связи – это Кирилл, знания и умения – это по части Глеба. Общая работа, общие заказы, общие планы… Глеб никогда не вникал, как Кирилл подает заказчикам и начальству результаты их общего труда, какие снимает сливки, как распределяет премии. А пожалуй, и надо было.
– Да, кстати! А когда ты узнал о ликвидации фирмы?
И тут Кирилл так заюлил, что даже Глебу стало понятно: знал давно и подготовил себе теплое спасительное местечко. Нет, Глеб даже не думал, что Кирилл обязан как-то устраивать его судьбу – все люди взрослые и самостоятельные, не детский сад! Но сказать-то мог?! Чтобы и Глеб подготовился!
– Когда я советовался с тобой, брать ли кредит, ты уже знал?! Какого черта ты тогда пел о моем повышении?! У меня же трое детей! Трое!
– Ну, старик… Я ж не мог… Ты ж понимаешь…
– Я ж, ты ж! А, чтоб тебе! – и Глеб ушел, хлопнув дверью.
В этот вечер он напился, да так, что Галка напугалась. Он пытался объяснить, что случилось, – она не понимала. Не понимала, что это крах всей их жизни. Сначала и сам Глеб не очень это понимал – проспавшись, он бодро раскидал резюме куда мог и стал ждать откликов. Связей у него, в отличие от Кирилла, никаких не было. Не сразу Глеб понял и то, что надо бы снизить запросы – работу прежнего уровня ему не предлагали, а то, что предлагали, не нравилось. И таких, как он, по Москве было полно: молодых, безработных, готовых на все.
Только побегав в поисках работы, он осознал, как ему повезло, что Кирилл тогда взял его к себе. Глеб попробовал в одном месте – сократили, в другом – развалилась фирма, а из третьего сам ушел, чтобы не сесть за компанию с прочими деятелями. Он был кругом в долгах – назанимал, чтобы вернуть кредит, поскольку и участок с недостроенной дачей, и новую машину продал в убыток. Плохой из него коммерсант оказался. Глеб никогда этого не умел: выгадывать, лезть напролом, толкаться локтями. И Галка! Она не помогала нисколько: все цеплялась за прежний образ жизни, за все эти спа-салоны, бассейны и тренажерные залы, за шубки и бриллианты, которые были уже не по карману. Няню Глеб пытался сохранить до последнего – понимал, что Галка просто не справится. Но он даже представить себе не мог, насколько Галка не справляется!
Выходя замуж, Галочка никак не ожидала, что ее ожидает такая неприятность с детьми. Мечтая о замужестве, она всегда представляла себе парочку здоровеньких ребятишек. Будущая семейная жизнь виделась ей эдаким ярким видеоклипом, вроде рекламы «Милки Вея» или «Киндер-сюрприза»: волшебство в шоколаде, молочные реки, фруктовые берега – натуральное счастье в надежной упаковке!
Поначалу примерно так и было. Узнав, что забеременела, Галочка углубилась в журналы – «Девять месяцев», «Мой ребенок», «Счастливая мама», обновила гардероб и приготовилась вкушать радости материнства. Но настоящая беременность оказалась настолько же далека от журнальной, насколько сама Галя – от глянцевых красоток, демонстрирующих свои отфотошопленные животы на рекламных картинках. Галочка мучилась от токсикоза, страдала от отеков, а выглядела просто уродиной. Мужу некогда было с ней нянчиться, а мама нисколько не сочувствовала: «Я родила, и ты родишь как миленькая! Терпи, у всех так».
Раньше Галя как-то не имела дела с детьми: выросла одна, никаких племянников и племянниц. Конечно, у подруг были младенцы, да и вообще вокруг все время тусовались какие-то дети: пищали в колясках, орали в песочницах, скандалили в магазинах. Галя смотрела на них без особенного энтузиазма, не испытывая никакого умиления – или что там положено испытывать?
Но собственный ребенок – это же совсем другое дело! Конечно, она будет безумно его любить, баловать, наряжать, катать в нарядных колясочках. Вернее – ее! Потому что ждала девочку. Еще лучше: платьица, бантики и оборочки, красные туфельки, бусики и куколки! К выбору имени она подошла очень ответственно – ей хотелось что-нибудь вроде Ренаты или Кристины. Но, как оказалось, выбора-то и не было: мама настаивала на Людмиле – так звали бабушку, и Галя, вздохнув, покорилась. С мамой было трудно спорить.
Процесс родов показался Галочке отвратительным, а ребенок ужаснул – какой-то красненький уродец! А где же обещанный журналами розовый ангелочек с ямочками?! И Галя с недоумением смотрела на мужа и родителей, которые ахали, охали, сюсюкали и квохтали над девочкой. Она сама с легкой брезгливостью дала ребенку грудь и невольно поморщилась, когда маленький ротик жадно зачмокал. Никаких материнских чувств она не испытывала – живое дитя, в отличие от чистеньких рекламных младенцев, без конца пищало, вопило, отрыгивало, пускало слюни и сопли, писало и какало.
А потом выяснилось, что у девочки церебральный паралич – спастическая диплегия. Галя ужаснулась: как это получилось?! Как она, прекрасная и здоровая, могла произвести на свет такого… такого неправильного ребенка?! И муж, и обе бабушки с дедушкой заквохтали и запричитали над ребенком с удвоенной силой – правда, участие тещи с тестем этим и ограничилось. У Галиной матери и своих забот хватало! А зять вполне способен обеспечить уход за внучкой, даже такой проблемной: няни, врачи, массажисты, какие-нибудь процедуры вроде иголоукалывания, всякое такое. И никто, никто не понимал, как страдала Галочка! Она даже смотреть не могла, как девочка пытается сначала ползать, потом ходить, приволакивая ножку. А ребенок был на диво ласковым, так и лез на руки – Галю передергивало.
Когда она узнала, что ждет двойню, опять содрогнулась. Ее всегда пугали близнецы – в соседнем классе учились девочки-близняшки, и Галочка обходила их за версту, не в силах различить, кто есть кто. Зачем, зачем создавать двух одинаковых людей?! Галя не понимала и ужасалась заранее. Но мальчишки, слава богу, родились здоровенькие и не совсем одинаковые, хотя и похожие. Опять все вокруг умилялись и кудахтали, а Галя вдруг осознала: это она сама – неправильная, раз не способна испытывать никаких чувств. До нее наконец дошло, что она просто-напросто не любит детей! Ни больных, ни здоровых, ни своих, ни чужих. Никаких.
Она старательно это скрывала, делая вид, что умиляется наравне со всеми – какое счастье, что они смогли позволить себе вторую няню и ей не приходилось особенно возиться с младенцами. Обе няньки Галю ненавидели, сразу определив женским чутьем ее тайный порок. Но Галочке было все равно – зарплату теткам платят хорошую, а остальное их не касается. Главное, чтобы ничего не понял муж, который обожал детей, а Люшу особенно. Галочка жила своей жизнью, особенно не вникая в домашние заботы, муж работал, няньки старались, дети подрастали, даже Люша стала почти похожа на нормального ребенка. Гале казалось: еще немножко, и семья Пономаревых вполне впишется в мир журнального глянца – прекрасная квартира в новом доме на Малой Полянке, отдых на Кипре, машины, дача…
Дача! Глеб поначалу был категорически против: они еще толком не расплатились с долгами по квартире, но Галочка, поддерживаемая матерью, умела быть убедительной. Сама Галя всю юность с отвращением горбатилась на материнских шести сотках, но если это будет большой дом с хорошим участком, почему бы и нет? Пригласить ландшафтного дизайнера, сделать бассейн, нанять садовника, домработницу… И все рухнуло. Глянцевые мечты развеялись в прах.
Нет, так жить просто невозможно…
Честно говоря, родительская квартира была еще меньше нынешней, и Галочке приходилось там ютиться в узкой и длинной комнатке, похожей на пенал. Правда, порядок царил просто идеальный. И как это удавалось матери? Ну да, у нее же не было троих детей! Ладно, пусть не троих – двоих: Люша совсем переселилась к бабушке. Правда, один отец вполне заменял двойню! Мать вечно возилась с ним: скандалила, мирилась, лечила, кодировала, отлучала от дома, принимала обратно, загоняла на дачу…
Галя присмотрела себе работу – хоть какое-то развлечение, да и деньги не помешают. Парикмахерская в райцентре была вполне приличной. Галочка выпросила у Глеба денег на обзаведение: фены, щетки, ножницы, шампуни, краски и бальзамы, всякое такое. Теперь Глеб с утра отвозил детей в садик, а Галю – в парикмахерскую. Заехать за ними вечером он мог не всегда, поэтому приходилось возвращаться на автобусе, что Галочке ужасно не нравилось, но брать такси было слишком дорого – Галя сразу стала откладывать часть денег из своего вполне приличного заработка. С московской парикмахерской не сравнить, но тоже ничего. Галя повеселела.
Домашний бардак, конечно, никуда не делся, а даже усугубился, потому что времени на готовку и уборку у нее не стало совсем – не по ночам же пылесосить и суп варить! А если Глебу не нравится, пусть сам варит и пылесосит, а она теперь работающая женщина. Нацепив стильный фартучек и взяв в руки ножницы, Галя преображалась и снова чувствовала себя юной и прелестной. Да и на самом-то деле – ей только-только исполнилось тридцать! Несмотря на чудовищно прожитые последние годы, Галочка выглядела очень свеженькой и соблазнительной: в отличие от остальных девушек, она всегда была идеально накрашена и причесана. Белая кожа, синие глаза, гладкая черная челка, яркая помада и маникюр – просто куколка! Неудивительно, что на нее заглядывались клиенты. Возвращаясь по вечерам домой, Галя порой ловила себя на том, что смотрит на мужа и детей с недоумением: кто это, почему я здесь, что я тут делаю?! У нее внутри словно все сжималась и сжималась стальная пружина – да так, что даже воздух вокруг звенел и искрил. И Галочка со сладким ужасом ждала, когда пружина наконец распрямится и выбросит ее, словно ракету фейерверка, в новую жизнь, сияющую и прекрасную.
Ведь она этого достойна!
А Варвару ее новая жизнь вовсе не радовала. Конечно, поселиться в большой и светлой, хотя и однокомнатной, московской квартире и тратить на дорогу до работы всего сорок минут – это счастье, о котором можно только мечтать. Вот если бы к этому счастью еще не прилагался Котов…
– Варь, да что тебе не так-то? – пожала плечами Томка, запустив ложку в вазочку с клубничным вареньем. – Нормальная семейная жизнь…
Подруги пили чай – и не только чай! – на кухне у Артемьевых: после того как Димка перевез семью в райцентр, Варвара с Тигрой виделись не часто. Тамарину квартиру в Филимонове Артемьевы продали, а соседнюю, в которой жила Димкина бабушка, оставили и проводили там все праздники и каникулы, как на даче: в райцентре они так и не обзавелись новыми друзьями.
– Как же, семейная! – вздохнула Варвара. – Он же так и не развелся! Больше полугода с ним живем, а он все к ней ездит, представляешь? То бабушка у Эсмеральды ногу сломала, то ей самой телевизор нужно купить или шторы повесить! Компьютер наладить! Я все понимаю: надо помогать, конечно. Тем более бабушке. Но этому ж конца нет!
– Как ее на самом-то деле зовут?
– Анжелика. Нет, Том, чувствую я, не выйдет ничего. И с ребенком не получается никак… А, ну его совсем! Давай лучше выпьем! За любовь!
И они звонко чокнулись бокалами с красным вином.
– За любовь… А есть она вообще-то? – уныло спросила Тигра, нацепив на вилку кусочек сыра с голубой плесенью: понюхала, поморщилась и закинула в рот.
– Есть, – усмехнулась Варька. – Еще как есть!
– Жеглов твой, что ли?
– А хоть и так. Брошу я, пожалуй, Котова. Не могу больше про его Клотильду слушать.
– И что? Одна будешь? Ждать у моря погоды?
– Пусть так! – И Варвара, вздохнув, допила вино. – Ладно, что мы все про меня да про меня! Ты-то как?
– Я? Ну, ты ж видела, как мы общаемся…
Димка посидел с ними немножко за столом – с отсутствующим видом пил чай, в разговоре почти не участвовал, отделываясь улыбками и междометиями, а потом и вообще ушел.
– Вот так у нас все время. И раньше-то слова не вытянешь, а сейчас и вовсе. То ли есть муж, то ли нет!
– А поговорить не пробовала?
– Не получается. Уйдет к себе и дверь закроет. Уткнется в монитор и сидит.
– Играет, что ли? Котов вечно зависает в каких-то стрелялках!
– Я тоже думала, играет. А он пишет!
– Что пишет?!
– Да фигню всякую! Я как-то почитала – он от компа отошел и файл не закрыл. Что-то про войну.
– Про войну?!
– Ага. Какие-то бои под Москвой. Короче, кино и немцы! Хотела еще что-нибудь посмотреть, а у него все под паролями, не влезешь.
– Интересно! Наверно, он на самиздате выставляет, как Усольцев. Вот не думала, что Димка – и про войну! Как они тогда со Славкой из-за стихов-то сцепились, помнишь? Все-таки Димка талантливый! Какие он сочинения писал, да?
– Талантливый! Малахольный, лучше скажи! А про Усольцева ничего не слышно? Он все еще с Федотовой или опять бросил?
– Представляешь, все с Наташкой! Мы как-то встретились вчетвером, случайно, так он потом мне звонил, рассказывал, как хорошо живет. Конечно, чем плохо: сел ей, дуре, на шею и ножками болтает!
– Да уж…
Усольцев при встрече выразительно оглядел Варьку, шедшую под ручку с Котовым, и усмехнулся. А по телефону сказал:
– Ну что, нашла себе подходящего, да?
– И нашла, тебе-то какое дело?
– Да ты ж с ним от тоски сдохнешь.
– Ага, то-то я с тобой веселилась!
– А то нет? Здорово ж было, скажи! А этот… Как его – Кошкин?
– Котов!
– Ну Котов! Он же ничем не лучше меня! Точно такой же, только стихов не пишет. Разве тебе такого мужика надо?
– Да?! А какого мне надо?! И что вы все лезете, советы даете! В своей жизни сначала разберись!
– Да я уж и не надеюсь разобраться, скажешь тоже! А ты баба умная! И зачем тебе такой… такой Кошкин?
– Котов!
– Вот тот мужик, между прочим, классный, который меня тогда в канаву скинул! Этот прям для тебя! И такая между вами искра́ была, жуть! А то – Кошкин! Придумала тоже…
– Да пошел ты к чертовой матери! Что ты мне душу вынимаешь! – заорала Варвара и шваркнула трубку, успев услышать довольный смех Усольцева. Вот гад! Нет, ну надо же так ее довести! И она мстительно представила себе валяющегося в канаве Усольцева – вот мало тебе от Глеба досталось! Мало! В тот день Варька брела с работы домой и столкнулась с Усольцевым, который бодро шел ей навстречу. Варвара удивилась: с Федотовой он уже вроде бы расстался?! Что он тут делает?
– О, привет! – радостно воскликнул Славик. – А я у тебя был!
– У меня?! За каким чертом?! – Варька представила, какую реакцию вызвал у матери приход Усольцева, и рассвирепела: – Я ж просила тебя! Я объясняла! Мне теперь неделю расхлебывать придется!
– Да ладно, она мне обрадовалась. Слушай, я у тебя там книжки оставил, пусть полежат, ладно? Мне надо домой съездить, а моя корова еще выкинет сдуру на помойку, с нее станется!
– Господи, как ты мне надоел, Усольцев! Я твои книжки сожгу на хрен!
– Ты что?! Сожгу! Совсем сбрендила? Не, я тогда не оставлю! Вот черт, тащиться теперь обратно! Ну ты и стерва, Барби!
Варька, не выдержав, размахнулась, чтобы врезать ему как следует, но в это время незаметно подошедший к ним Глеб спросил:
– В чем дело? Варь, какие-то проблемы? – В результате Усольцев оказался в канаве. Правда, книжки Варвара так и не сожгла – духу не хватило: поэзия все-таки.
Телефонный разговор с Усольцевым состоялся неделю назад, а Варька все никак не могла успокоиться и даже под горячую руку вдрызг разругалась с Котовым. Потом, правда, кое-как помирились, а куда деваться: уже и билеты куплены, и чемоданы собраны. Варя и приехала-то к Тигре, чтобы оставить у Артемьевых на две недели кошку – сейчас недовольная Муся сидела на шкафу в комнате Кати, подальше от Антошки.
Но, поговорив с Томкой, Варя вдруг поняла, что не хочет ни ехать с Котовым в Египет, ни вообще жить с ним дальше. Она опять вспомнила Глеба, и сердце защемило. За последние семь с лишним месяцев Варвара была в Филимонове от силы раза три и в каждый приезд ужасно боялась случайно встретиться с Глебом или Шараповым, которому даже не звонила – зачем? Только душу травить! А Глеб в последнее время вспоминался ей очень часто и снился чуть не каждую ночь…
– Ну ладно, поздно уже. – Варя поднялась. – Пора и честь знать!
– Сейчас я расписание посмотрю, – засуетилась Томка. – Чтоб ты зря на платформе не стояла!
– Не надо. Я в Филимоново поеду. Домой.
– В Филимоново?!
– Ну да. Все – побаловались с Котовым, и хватит.
– Понятно. Ну ладно, Димка тебя отвезет. – Артемьевы год назад купили машину, но катались на ней в основном в Филимонове: в Москву не наездишься, одни пробки.
– Да ну, неудобно. Я тачку поймаю, до новой трассы довезут, а там добегу.
– Варь, тебе не стыдно?! Дим! Дима! Варька стесняется попросить, чтоб ты ее домой отвез! В Филимоново!
– Варежка, ты с ума сошла?! Стесняется она!
В машине Варя не выдержала и заплакала. Димка покосился на нее, тяжко вздохнул и спросил:
– Ушла, что ли, от Котова-то?
Варька кивнула, всхлипнув.
– Ну и правильно! Ты достойна лучшего. Не плачь, Варежка. Все наладится.
– Когда, Дим? Когда наладится?! Мне уже почти тридцать пять! И где он, мой лучший?! Да и не мой он вовсе! Нет, видно, я варежка-то непарная…
– Так сильно его любишь? Глеба?
– Да. Но это безнадежно, ты же знаешь.
– Ну ладно, ладно! Ничего, как-нибудь. Хочешь, завтра заеду с тобой к Котову, вещи заберешь?
– Спасибо…
Димка проводил Варю до дому и занес сумку с вопящей кошкой – освобожденная из заточения Муся замолчала, огляделась, принюхалась, с чувством потянулась, поточив когти, и побрела, ворчливо мявкая, к своей миске.
– Слышишь, ругается на меня? Сейчас, сейчас, грымза ты старая!
«Сама такая!» – явно огрызнулась Муся, и Варя с Димкой невольно рассмеялись. Прощаясь, Димка вдруг обнял Варвару, а потом поцеловал ей руку. Варька удивилась – что еще за нежности?! Но увидела страдальческое выражение Димкиного лица и похолодела: не может быть! Открыла было рот, но ничего не сказала. А что тут скажешь? Лишь пару мгновений смотрели они друг другу в глаза, Димка тут же отвернулся, но Варвара поняла: Дон ее брат по несчастью – или по счастью, это уж как рассудить. У него кто-то есть. Другая женщина! И тоже все безнадежно! Бедный, бедный Дон…
А Томка?! Варька вспомнила слова Тамары: «малахольный», «фигней занимается»! Сколько раз она говорила Тигре, что нельзя так обращаться с мужем, но в ответ получала только ехидное: «Что-то ты уж больно его защищаешь!» И вот, пожалуйста…
– Ди-им! – не выдержала все-таки Варька. Прозвучало это довольно жалобно. – Димочка… Как же ты живешь?! И давно это?
Дон как-то криво улыбнулся и махнул рукой:
– Да все нормально, не переживай.
– Может, расскажешь? Ты ж знаешь, я всегда была на твоей стороне!
– Прости, нет. Это мои проблемы. Мне и решать.
Димка уехал, а Варвара еще долго стояла на полутемной улице, печально глядя вслед удаляющимся красным огонькам его машины.
Глава 3 Варькино счастье
Глеб закрыл телефон и чертыхнулся: опять эта зараза не забрала детей из садика! Только вчера они поругались из-за этого, и вот опять. Можно же предупреждать заранее, чтобы он не мчался в райцентр сломя голову и не выслушивал вполне справедливые попреки воспитательницы! Вот и сейчас Глеб долго извинялся, а потом подхватил пацанов и поехал к Галкиной парикмахерской.
У входа курила одна из мастериц – рыженькая, и Глеб порадовался, что им с пацанами не придется лезть на третий этаж по крутой лестнице – оставлять их в машине было категорически невозможно, а то и машину потом не соберешь по кусочкам!
– Привет! – сказал Глеб курившей девушке. – Слушай, скажи моей, что мы здесь, ладно? Ждать ее, не ждать? Долго еще?
– Твоей? – удивилась рыженькая. – А ее нет! По-моему, и не было сегодня.
– Как не было?! – Глеб сам подвез Галку к парикмахерской. Конечно, он не обратил внимания, вошла ли она внутрь здания, да и с какой стати?
– Подожди, я спрошу! Я сама-то с обеда, может, Галка утром приходила…
Но оказалось, что не приходила. В полном недоумении Глеб позвонил ей на мобильник – недоступна, к домашнему тоже никто не подошел. Подъезжая к дому, он вдруг страшно занервничал и открыл дверь с опаской, сам хорошенько не зная, что ожидает увидеть. Увидел он привычный повседневный бардак: незаправленные кровати, разбросанные игрушки, куча неглаженого белья, грязная посуда в мойке. И никакой Гали! Глеб накормил пацанов, размышляя, куда ж она могла подеваться.
Вымыв посуду и кое-как прибравшись, он позвонил матери. Естественно, Галки там не было – она и носа не показывала у Зои Васильевны после того, как сбагрила той Люшку. Шараповы тоже ничего не знали – Галка иногда общалась с Ирой, младшей дочерью Николая. Собственно говоря, больше и звонить было некому, только теще. Глеб выслушал очередную порцию причитаний на тему: «Ах, моя бедная девочка! Всю жизнь ты ей поломал! Она могла выйти замуж за генерала!» – и понял, что «бедной девочки» нет и там. Мобильник ее по-прежнему не отвечал. Глеб сходил к соседям, но безрезультатно: никто ничего не видел и не слышал. Наконец догадался осмотреть ее вещи: вроде бы все на месте, да и какие там особенные вещи! Так, барахло. Ни бриллиантов, ни шубок давно не было и в помине. Он стал вспоминать, в чем Галка вышла из дому – ветровка, брюки… Или не брюки? Сумка! Ни куртки, ни сумки с документами не оказалось. Да что ж все это значит, черт побери?!
Ночь он почти не спал, а утром, завезя пацанов в садик, опять поехал в парикмахерскую – там возились с клиентками две блондинки, удивительно похожие друг на друга, а вчерашней рыженькой не было. Девицы как-то жались и мялись, в глаза не смотрели – Глебу казалось, что они что-то знают, но говорить не хотят. Галка не откликалась, хотя он накидал ей кучу сообщений. И Глеб отправился в полицию. Но никакого заявления у него не приняли, да еще и обсмеяли:
– Да она тебя бросила! С любовником сбежала!
– С каким любовником?! У нас же трое детей!
Глеб просто не знал, что и делать. Теще он решил пока ничего не говорить, но матери пришлось рассказать.
– И ты туда же! – кричал он, с возмущением глядя на расстроенную мать. – Как она могла меня бросить?! Ладно меня, но детей?! А вдруг с ней что случилось?!
Но на следующий же день Глебу пришлось поверить, что Галя его бросила – от нее пришло смс: «Не ищи меня, я ушла навсегда!» Глеб успел только спросить: «А как же дети?!», но в ответ получил: «Не звони больше».
Как они напились с Шараповым! А когда проспались, Шарапов решил провести собственное расследование. Он отправил в Галкину парикмахерскую свою Черепаху – Наталья была хоть флегматичная и медлительная, но соображала очень даже хорошо, к тому же парикмахерские девицы ее никогда раньше не видели. Наталье пришлось ходить туда целых три раза: постриглась, потом выщипала и покрасила брови и, наконец, сделала маникюр. Маникюрша и оказалась самой словоохотливой. Выслушав рассказ жены, Шарапов только крякнул и почесал затылок – как преподнести все это Глебу, он решительно не знал.
А через месяц Глеба взяли прямо на центральной площади. Они с Шараповым только собрались зайти перекусить в итальянский ресторанчик, открывшийся в новом торговом центре, как из подъехавшей машины с мигалкой вылез знакомый им обоим полицейский Федотов и увез потрясенного Глеба в морг на опознание. Шарапов поехал за ними – из морга Глеба вывели в наручниках, хотя тот и кричал: «Вы что, мужики?! Это ж не она!» Шарапов выругался и злобно сплюнул: «Ну и дела! Посадят как пить дать! Она не она, им же по фигу!»
Им точно было по фигу: есть труп, есть подозреваемый с пропавшей женой, все одно к одному. В морге Глеб на подгибающихся ногах подошел к столу, где лежало прикрытое простынкой тело, простынку отвернули, и он зажмурился от увиденного. Потом с трудом разлепил веки, еще раз взглянул и выдохнул: это была не Галя! Слава богу! Тоже черненькая, голубоглазая, но не Галя. Бедная женщина, кто ж ее так… Оказалось, что выдохнул он напрасно. Его забрали в отделение, а потом посадили в предварилку. Следователь – немолодой мужик в очках – прилежно шил ему дело, несмотря на все уверения Глеба, что его жена жива-здорова:
– Смс? Да кто угодно мог послать с ее телефона. Вы сами и послали.
– Послушайте, но та женщина в морге – не Галя! Я же знаю свою жену! У моей должен быть шрам от кесарева – у этой разве есть?! А отпечатки пальцев? Можно же сравнить! Или генетическую экспертизу сделать! И зачем мне ее убивать-то?! У нас же трое детей!
– Трое! И с пятерыми убивают. А уж грамотные-то все стали! Насмотрелись детективов. Экспертизу ему подавай! Ты лучше признайся по-хорошему. Вон все соседи в один голос твердят, что жили вы как кошка с собакой, каждый день скандалили!
– Послушайте, если б я и правда убил, зачем бы я к вам поперся заявление подавать о пропаже?! Только внимание к себе привлекать!
– Значит, признаешь, что убил? Добровольное признание, сам знаешь, облегчает понимание. А то смотри, еще парочку трупов тебе подкинем! Сядешь по полной.
Словесными уговорами следователь не ограничился – признание выбивали в буквальном смысле слова, и Глеб совершенно отчаялся, а вспоминая мать с Люшей и пацанов, которых пока пригрели Шараповы, просто сходил с ума: что с ними будет, если его и правда посадят! И тогда Шарапов взялся за дело сам. Подумал, подумал да и отправился в ближний коттеджный поселок. Охранник у ворот оглядел его с ног до головы и кивнул – проходи. Шарапов прошел по длинной дорожке к дому, прячущемуся за деревьями, – участок был огромный, справа виднелся еще дом, поменьше, а слева в кустах пряталась беседка, из которой доносились звонкие детские голоса. Хозяин, предупрежденный охранником, сам вышел ему навстречу – толстый, вальяжный, густо заросший черным кудрявым волосом. Раскланялись, и хозяин провел гостя в гостиную – сначала поговорили ни о чем: погода, виды на урожай, то-се. Потом, выпив коньячка, хозяин спросил:
– Так что за дело привело ко мне уважаемого господина Шарапова? У нас какие-то проблемы?
– Нет, дорогой Анвар, никаких проблем! У тебя свой бизнес, у меня – свой. Слава богу, мы друг другу не мешаем. Но проблема есть. – Шарапов вздохнул: – Прости за то, что скажу, но проблема в твоем сыне.
– А-а, опять он во что-то вляпался, мерзавец! – Детей у Анвара было много, а внуков – еще больше, но проблемы создавал только младший, Мурад. – Что на сей раз?
– Ты моего напарника знаешь? Глеба Пономарева?
– Жеглова-то? Конечно, знаю.
– Его менты повязали, дело шьют. Якобы он жену свою убил.
– А Мурад при чем?!
– Так она с Мурадом сбежала, жена Глебова. Послушай, поговори с сыном – надо ее предъявить ментам. А то ведь засудят мужика! А у него мать больная, детей трое, дочка-инвалидка! Прошу тебя, помоги!
– Так она что, троих детей бросила?! Вот тварь! И мой-то хорош, дурак: девок ему мало, с замужней связался! Да к нему любая прибежала бы, только свистни!
Анвар тяжело поднялся с низкого кресла, взял мобильник, набрал номер Мурада и вышел за дверь, кивнув Шарапову на коньяк: угощайся, мол, не стесняйся! Шарапов угостился – коньяк был хороший. Из-за двери доносился раздраженный голос Анвара, кричавшего в телефон, потом добавился голос его жены. Наконец Анвар, совершенно красный и злой, вернулся. Сел, допил залпом коньяк и сказал, мрачно глядя на Шарапова налитыми кровью глазами:
– Завтра. Завтра приедут. Они в Москве, к счастью. Любовь у них, ты ж понимаешь! – и выругался.
А Мурад действительно был хорош: высокий черноволосый красавец со жгучими глазами, осененными длиннейшими ресницами. Мужественный и в то же время изящный – Галя, увидев такого сказочного принца, просто обомлела. Она, трепеща, стригла его жесткие вьющиеся волосы, а Мурад неотрывно смотрел на нее в зеркало – когда их взгляды встречались, у Гали подгибались ноги. Он постригся у нее еще раз, а через пару дней остановил прямо на улице: Галя закончила смену и шла за детьми в садик. Распахнул дверцу шикарной красной машины – садись, дорогая, подвезу. Она села. До садика в этот день Галя так и не добралась. Хотя у Мурада хватало девушек и без Галочки, он как-то сразу прикипел к ней, а ведь сначала собирался просто развлечься: делать в этой дыре больше было нечего, а денег на московские забавы отец не давал, наказывая провинившегося оболтуса. Но больше никто из девушек не смотрел на Мурада с таким неподдельным восхищением, не доверялся так безоговорочно и настолько ничего не требовал!
Самый младший ребенок, сын от второй жены Анвара, Мурад был белой вороной в большой семье: мать баловала своего единственного мальчика, рожденного после трех дочек подряд, и тряслась над ним. Отца Мурад побаивался, сводных старших братьев – еще пуще. Отцовский бизнес его вовсе не привлекал: фрукты-овощи – фу, какая проза! Мурад считал себя человеком возвышенным, артистическим, его манил киноэкран, но в ГИТИС поступить не удалось, таланту не хватило: одной красоты, как оказалось, было мало, а тратить деньги на актерские амбиции сына отец категорически отказался.
Мурад поучился в одном институте – бросил, потом в другом, кое-как закончил третий, а что делать дальше, не очень понимал. Он ловко уворачивался от всех попыток отца и братьев пристроить его хоть к какому-нибудь бизнесу, так что постепенно его привыкли считать паршивой овцой в семейном стаде: парню почти тридцатник, а толку никакого, один пшик! Мурад успешно прожигал жизнь в Москве – в ночных клубах, казино и околокиношной тусовке, все надеясь на счастливый случай в лице какого-нибудь режиссера или продюсера. Обычно отец, вздыхая, отстегивал сыну деньги, хотя время от времени и устраивал дикие скандалы, грозя выгнать из дому и лишить наследства, но потом снова поддавался на уговоры жены: избаловала парня, глупая кекелка! Анвар совершенно не мог выносить ее слез: он любил и жалел свою «кекелку», вырастившую шестерых детей – своих четверо да двое сыновей от рано умершей первой жены Анвара.
Так что на фоне родных, которые его только что ногами не пинали, и девушек, без конца тянувших деньги, Галя выглядела чистым ангелом: любила Мурада таким, как есть, и ничего не требовала, радуясь любому знаку внимания, будь хоть задрипанный цветочек. Мурад расправил плечи и распустил хвост, почувствовав себя настоящим мужчиной, практически главой семьи. Он свозил Галочку на неделю в Турцию – море, синее небо, пальмы, белый песок, райское наслаждение! – и собирался удивить ее Мальдивами, но тут позвонил разъяренный отец, и Мальдивы пришлось отложить…
Глеба в очередной раз вызвали на допрос. В сопровождении мента он уныло брел по длинному желтому коридору. На металлических стульчиках у кабинета следователя сидело несколько человек, и первым Глеб узнал Шарапова, который радостно ему закивал и показал большой палец – мол, все хорошо! Глеб не понял – чего хорошего-то?! И тут между двумя мрачными одинаковыми типами, похожими на охранников, увидел съежившуюся Галку. Увидел, не поверил своим глазам, а потом, совершенно осатанев, рванул к ней, несмотря на наручники. Галка завизжала, мент и охранники кинулись к Глебу и с трудом его удержали. Потом следователь, не глядя Глебу в глаза, извинился и отпустил с миром. У крыльца они опять столкнулись с Галкой – охранники ее загородили, но Глеб уже остыл.
– Я на развод подам, – сказал он, и Галя испуганно закивала. – И если ты только попробуешь отнять детей, я тебя сам, своими руками в землю зарою! Поняла, сука?!
Машина с Галкой отъехала, и Шарапов сочувственно похлопал Глеба по плечу:
– Ну ладно, ладно. Ничего. Поехали домой. Слава богу, что она нашлась.
И пока ехали, все косился на мрачного Глеба – эк его ухайдакали в ментовке, сволочи! А Глеб вдруг спросил:
– Ты Варваре ничего не говорил, я надеюсь? Про меня? И не говори, не надо.
– Глеб, а может…
– Не может. Оставь это, понял?
– Ну ладно, ладно… Я разве что…
А Галочка в это время рыдала в объятиях Мурада. Прошло чуть больше месяца, как она сбежала из дома, а прежняя жизнь уже представлялась ей такой же нереальной, как кино – черно-белое и немое. Галочка ушла из этого кинотеатра на середине сеанса, но фильм, как ей казалось, и дальше продолжался с теми же героями: неудачник Глеб, вечно орущие близнецы, дочь-уродка, стерва свекровь, и она сама, превратившаяся из прелестной Галочки в серую замурзанную галку, хрипло каркающую на детей и мужа. Увидев Глеба, она ужаснулась: никакого кино, суровая и жестокая жизнь, от которой не спрячешься на Мальдивах.
Рыдать ей пришлось долго – Анвар хотел было сразу выкинуть ее на улицу, но Мурад устроил такую истерику, поддержанную матерью, что отец в конце концов махнул рукой: а-а, делайте, что хотите! В отличие от Мурада, Галочка теперь очень хорошо знала, чего хочет. Мальдивы, Багамы и прочие Баунти хороши только для развлечения. Нужна стабильность. И больше она не собиралась рассчитывать на мужчин – все они слабаки и неудачники, что Глеб, что… Мурад. За четыре месяца отношений она его хорошо изучила. Но если Глеба Галочка ненавидела, то Мурада страстно жалела: пусть слабый, избалованный и самолюбивый, но такой красивый, такой одинокий, ранимый, непонятый, отвергнутый тупыми родственниками, неспособными оценить его тонкую душу!
Они с Мурадом нашли друг друга и вцепились накрепко, объединившись против всего мира, словно Бонни и Клайд – правда, грабить банки они не собирались: денег и так хватало. Галочка задумала открыть салон – ей всегда нравилось работать в парикмахерской. Нарыдавшись всласть, она поговорила о своих планах с Мурадом и «кекелкой». Идея салона неожиданно понравилась Мураду: а что, вполне гламурное занятие! Пришлось Анвару скрепя сердце выдать им денег:
– И чтоб я больше о вас не слышал!
«Кекелка», правда, с недоумением вглядывалась в Галочку, не в силах постичь, как женщина может бросить троих детей. Но раз Мурадику она нравится… Хорошенькая, глазки синенькие, ладная. И Мурадика так любит! Может, еще сделает из него человека и отец перестанет переживать? Удалось же ей отвадить мальчика от казино! Это было первое, чем занялась Галя, когда чуть поутих любовный пыл: смотреть на то, как Мурад кидает деньги на ветер, было свыше ее сил. Нет, пора кончать эти глупости, надо заниматься делом. И слушать она теперь будет только себя – никаких материнских советов! Наслушалась, хватит…
Варька бежала, задыхаясь от нетерпения: ну, давай же, шевели ногами! Она вовсю кляла себя за проклятую глупость: почему, почему не звонила Шарапову?! Давно бы знала, что случилось! Идиотка! Перед дверью подъезда она остановилась, зажмурилась и несколько раз глубоко вздохнула, потом рванула по лестнице вверх и решительно позвонила.
– Сейчас! – заорал Глеб из-за двери. – Сейчас открою!
Дверь распахнулась, и он замер на пороге, комкая в руках кухонное полотенце.
– Можно войти? – Голос у Варьки сел от волнения. Глеб отступил к стене, и Варвара прошла на кухню, быстро пробежав взглядом по сторонам – грязный пол, мойка набита посудой, на веревке какое-то тряпье сушится…
Глеб мрачно процедил сквозь зубы:
– Что, пожалеть пришла?
– Ну да. Или уже кто жалеет?
– Нет, некому.
– А дети где?
– Пацаны на улице с бабушкой, Люша мультики смотрит.
– Как сам-то?
– Я-то? Да просто прекрасно. Жена сбежала, все в порядке. Просто блеск.
– А если вернется?
– Она-то?! На порог не пущу.
– Глеб, она же мать! Вдруг одумается?
– Мать! Матери детей не бросают! Не вернется она, мы на развод уже подали. Нет, ты зачем пришла, а? Душу мне травить?!
– Да я помочь хотела…
– И чем же ты мне поможешь? Посуду помоешь?! Помочь она пришла!
Варька молча на него смотрела: похудел, глаза запали, серый какой-то, замученный… Горе мое…
– Ну?! Что ты молчишь? Ты… ты что?! – Глеб вдруг как-то поперхнулся и заморгал, медленно наливаясь краской, а Варя нервно усмехнулась и опустила глаза. – Варь? Ты что придумала, ненормальная?!
– Я знаешь что придумала? – быстро заговорила Варвара. – Я придумала, что вы все ко мне переедете, вот что. Зоя Васильевна, наверно, не захочет, но вдруг. У меня три комнаты жилые, а летом еще веранда и на втором этаже комнатки, участок, опять же, и сад! Кухня, правда, маленькая – ну, ты видел. Но это ничего, как-нибудь! Зато у нас и газ есть, и вода, и туалет. Нам повезло – когда к вам тянули, и нас зацепили. А эту квартиру сдавать можно – прибраться, конечно, ремонтик небольшой сделать, и хорошо. Я тогда могла бы и не работать, а пацанам можно в садик не ходить, я же дома буду все время. Люше в школу скоро, я бы с ней занималась. И ты даже можешь на мне не жениться, если не захочешь, я и так согласна!
– Варь, ты с ума сошла…
Варька стрельнула в него взглядом и опять затараторила:
– Конечно, у меня работа сейчас хорошая, и зарплата большая, очень большая, так что, может, мне бы и поработать, пока ты себе не найдешь получше, да? Тогда пусть пацаны так в садик и ходят, а маме твоей в помощь можно нанять кого-нибудь – если квартиру сдавать, то вполне можно! А к тому времени, как мальчикам в школу, может, и ты поднимешься, а я тогда с работы уйду… Надо подумать, как лучше, правда?
– Варь, я не понимаю! Тебе-то это зачем?! Ты же меня и не знаешь толком! Ну, разговоры разговаривали, это да! Поцеловались один раз, и все!
– А ты… ты, что ли, обо мне не думал?!
– Ну, думал, думал! Но я и не мечтал, чтобы ты… Нет, это все серьезно?! Варь, да ты что?! Я не могу так! Ты молодая красивая баба, тебе надо свою жизнь строить! Найдешь мужика хорошего, семья будет – зачем тебе чужие дети?!
– Затем, что своих детей у меня, может, никогда и не будет! – Слезы давно стояли у Варьки в глазах, а теперь потекли по щекам ручьями, она вытирала их, но пыталась улыбаться: – А у тебя сразу трое! Готовенькие…
– Ты точно ненормальная… Это ж надо такое придумать! – Глеб напряженно вглядывался в Варьку, а она, опять смахнув слезы, повернулась, нацепила висевший на крючке фартук и включила воду:
– Посуду я сейчас вымою!
– Варь, да ладно! Я ж так сказал про посуду!
– Обед-то есть у вас?
– Обед? Суп остался, мать делала. А я картошку хотел сварить…
Глеб смотрел Варьке в спину – она споро мыла посуду, шмыгая носом, а хвостик пепельных волос, перетянутых простой аптечной резинкой, вздрагивал и качался.
– Ты почисть картошку! И чайник поставь, ладно? Я запеканку сделаю, это быстро. Молоко есть? А яйца? Давай потом сходим ко мне, ты посмотришь, что к чему. У меня кроватей столько нет, но это ж подкупить можно, правда? А пацанам хорошо бы двухэтажную! Только не передерутся они, кому наверху спать? Или маленькие еще? А Люше надо специальную, я посмотрела в Интернете. Аллергии нет у них? А то у меня кошка! Мы с тобой потом обсудим, как лучше, да? И мама твоя – она-то что скажет? Глеб, картошка! Что ты стоишь? И чайник не поставил…
– Чайник?! – Глеб шагнул к Варьке и обнял. Она сразу затихла. – Варь! А ты когда узнала, что у нас случилось?
Варвара подняла на него глаза с мокрыми от слез ресницами:
– Вчера.
– Вчера?!
– Ну да. Если б раньше узнала, сразу бы пришла. Я с Федотовой в электричке ехала, она мне рассказала. Я хотела со станции прямо к вам, но подумала – чего на ночь глядя, лучше с утра, на ясную голову! А потом, я ж не знала, вдруг у тебя есть кто, а я припрусь: здрасьте вам! Почему ты мне не рассказал? Ты что, не верил? Или… навязываться не хотел? Один тут мучился! Глеб, ты… прямо я не знаю!
– Варька… Господи, Варька…
– Ты согласен, да? Скажи уже, а то я не могу больше!
Он спросил, улыбаясь:
– Значит, говоришь, все это только из-за детей?
– Конечно, – всхлипнула Варька. – Конечно, из-за детей… А то из-за чего ж еще…
– А меня ты ни капельки не любишь?
– Еще не хватало…
– Действительно! Кто ж такого дурака полюбит…
И они наконец поцеловались.
– Пап, а мультики кончились! – Они обернулись на звук тонкого голоска: в проеме двери, прислонясь плечом, стояла Люша и серьезно смотрела на них. Маленькая, худенькая, взъерошенные русые волосики перышками торчат, личико бледное, глазик слегка косит, ножка вывернута и ручка тоже… Варька одним взглядом словно впила ее всю, вобрала в себя, вдохнула – ноги подкосились, и она села на пол перед Люшей, а та, шагнув вперед, доверчиво положила ручку ей на плечо:
– А ты кто?
– Я Варя…
– А почему у тебя щеки такие красные? У тебя температура?
– Нет, просто мне жарко!
Люша серьезно приложила маленькую ладошку к Варькиному лбу:
– Нету температуры! А ты зачем к нам пришла?
– Я к тебе пришла!
– Ко мне-е? – Люша удивилась. – А откуда ты про меня знаешь?
– Мне папа рассказывал! Говорил, есть у него маленькая девочка, очень добрая и хорошая, умница и красавица и даже читать умеет.
– Я умею читать!
– А я тебе книжек принесла!
– А где они?
– Они там, в сумке! Сейчас достану, а ты мне покажешь, как читаешь, да?
– Люша, детка, что надо сказать? – Голос у Глеба был странный: он давно как-то покашливал у Варьки за спиной. Люша вдруг улыбнулась, показав ямочки на щеках, и все ее личико сразу осветилось.
– Спасибо! – Она придвинулась еще ближе, и Варя обняла девочку за слабую спинку, словно состоящую из одних косточек. Люша, наклонив голову, разглядывала Варвару и даже потрогала ее все еще красную щеку.
– А у тебя есть своя маленькая девочка?
– Нет!
– И мальчиков нет?
– И мальчиков нет! У меня никого нет, я одна. Только кошка!
– А кто же о тебе заботится?
– Да никто, я сама.
– А хочешь? – выдохнула Люша и обняла Варьку за шею. – Хочешь, я буду о тебе заботиться?
И пока Люша в большой комнате читала Варваре вслух, водя пальчиком по строчкам, Глеб стоял, прислонясь к кухонному окну, и смотрел, как на детской площадке возятся его пацаны. Смотрел и думал, думал – то вздыхал, то головой качал, то улыбался: Варька! Это ж надо! Стекло было какое-то мутное, но, сколько Глеб ни протирал его кухонным полотенцем, которое все это время так и держал в руке, чище оно почему-то не становилось. Потом он нацепил куртку и заглянул в комнату – Варя с Люшей сидели рядышком на диване, разглядывая книжки.
– Девчонки! – сказал Глеб, а они подняли головы и посмотрели на него с совершенно одинаковым выражением. – Девчонки! Я за пацанами схожу, а вы тут не балуйтесь!
– Мы не станем баловаться, – серьезно ответила Варька, смеясь глазами. – Мы на кухню пойдем, картошку почистим и посуду помоем. Да, Люша?
– Мне нельзя на кухню, – совсем тихо сказала Люша и опустила голову.
– Ничего, с Варей можно.
– Ну, пойдем, помощница! – Варька погладила девочку по голове.
– А я не умею картошку чистить…
– И не надо! Я почищу, а ты мне что-нибудь расскажешь, ладно? А потом я тебя научу – и картошку чистить, и посуду мыть, чему захочешь, тому и научу…
Глеб выскочил за дверь и некоторое время постоял, с трудом удерживаясь, чтобы не вернуться и не удостовериться: на самом деле там Варька или ему примстилось от тоски и безнадеги? Он с грохотом ссыпался по лестнице, хлопнул дверью парадного и тут же посмотрел на окно кухни – Варька помахала ему рукой. Правда! Это Варька, настоящая!
– Что ты такой взъерошенный? – спросила мать, когда он рухнул на скамейку рядом с ней. Лавочка была низенькая, и коленки у него торчали, как у кузнечика – сидеть было неудобно, но Глеб ничего не замечал.
– Мам, ты помнишь Варю Абрамову?
– Конечно! Спортсменка, гордость школы! У нее еще мама была психически нездорова. Варя тоже на Шарапова работала – я помню, ты рассказывал. А потом ушла от него, в Москву стала ездить. Как странно, что ты спросил! Сейчас какая-то женщина к нам в подъезд прошла, мне показалось – Варя.
– Не показалось. Мам, это Варька. Она… она ко мне пришла. К нам. Насовсем! Понимаешь?
– Не понимаю! Что значит – насовсем?!
– Ну… В общем, так получилось, что… – Глеб потопал ногами, засунул руки в карманы, вытащил, покашлял, почесал затылок, но в конце концов выговорил: – Так получилось… что мы с ней… любим друг друга.
Зоя Васильевна вытаращила глаза:
– Любите?! Это когда ж вы успели? Или что? Подожди! У вас с ней что, роман был? Так Галя поэтому ушла?!
– Ну, мам! Ты ничего не поняла! Не было у нас никакого романа, не было! Вообще ничего не было! Варька ж не такая! Честно! И Галя тут ни при чем! Она ничего не знала про Варьку, да там и знать нечего! Просто мы понимали, что любим друг друга. И все.
– И давно? Понимали?
– Давно. Она сразу пришла, представляешь! Как только узнала, что я… Мы больше года не виделись, а она пришла!
– Да-а…
Зоя Васильевна только качала головой, пока Глеб пересказывал Варькины идеи, качала головой и думала, глядя на светящееся от счастья лицо сына: может быть, еще все наладится? Может быть, ему наконец повезло?
– Вот что, – решительно сказала мама, прервав Глеба на полуслове. – Я сейчас пойду с ней повидаюсь, с твоей Варей, а потом домой, отдохну. А вечером опять приду, часиков в восемь. Отпущу вас. Сходишь к ней, посмотришь, что и как, поговорите. А утром придете.
– Мама! Ты… просто… ну вообще! Вот спасибо!
– Ну, вам же надо… поговорить, раз вы год не видались, правильно? – Зоя Васильевна улыбнулась, а Глеб покраснел, просто чудовищно.
До Варькиного дома они добрались только часам к девяти вечера. Варвара огляделась с недоумением: ей показалось – чуть не год дома не была! Она сразу же затрещала как сорока. Глеб и сам волновался, не столько глядя по сторонам, сколько исподтишка разглядывая Варю. Она провела Глеба по всему дому, даже на второй этаж потащила, и там все осмотрели, потом вернулись вниз, в большую комнату, где Варька и обитала в последнее время. Она вдруг замолчала. Глеб оглянулся – сидит на кровати, опустив голову и бессильно уронив руки. Глеб присел рядом, обнял, и Варька тут же положила голову ему на плечо. Они долго сидели в тишине, потом пришла кошка, посмотрела на них и уселась посреди ковра вылизываться.
– Почему ты меня сразу не позвал? – внимательно глядя на кошку, тихо спросила Варвара.
– Сразу! Да меня ж чуть не посадили! Только представь: они меня там прессуют вовсю, а тут ты заявляешься – вот вам и живой мотив! Господи, если б не Шарапов…
– Ну да, я не подумала. Ты прав. Ой, я как представлю, что с тобой было, мне прям плохо делается! Бедный ты мой! Но потом-то почему не сказал? Я испугалась, что у тебя все прошло…
– Не прошло. – Глеб поцеловал ее в висок. – Варь, ты представь себя на моем месте: ты бы позвала меня на такое?
Варька перевела взгляд на Глеба и чуть улыбнулась:
– Нет. Я ждала бы, чтоб ты сам пришел.
– Ну вот!
– Я так по тебе страдала! А эту ночь совсем не спала, все представляла, как ты удивишься и обрадуешься, а ты…
– А я не обрадовался, да? Прости! Прости, что так тебя встретил! Но я и правда не сразу понял, что ты насовсем пришла! Я притерпелся уже, зубы стиснул – живу как-то. А тут – ты! Это было словно удар под дых! Я как представил, что ты опять уйдешь – и что мне тогда делать?! Лечь и помереть?
– Я подумала, вдруг не нужна тебе…
– Нужна! Ты что?! Еще как нужна! Представляешь, ты мне как раз в эту ночь снилась!
– Правда?!
– Помнишь, как мы обои клеили? Вот это и снилось. На самом деле я так ждал тебя!
Варькино лицо расцвело улыбкой:
– Ну, тогда ладно!
Глеб поцеловал Варьку – раз, другой, потом прошептал:
– Может, ляжем?
– Давай! – Варька легко соскочила с кровати, согнала Глеба, быстро раскидала подушки и стянула покрывало. – Вот! Ты ложись, я сейчас приду. Я быстро.
Она вернулась в халатике, а когда потянулась выключить свет, Глеб остановил ее:
– Пусть горит, а?
– Разглядывать меня будешь?
Варька скинула халат и предстала перед ним во всей красе: крепенькая, удивительно складная и женственная.
– Ну что? Нагляделся? А то зябко! – И юркнула к нему под одеяло. – Я толстая, да?
– Не выдумывай!
– Ой, эти девушки… ну, на работе… они все такие стройные, гламурные! Фитнес, бассейн, питаются одними листиками…
– Листиками?!
– Листиками и зернышками! Салат, орешки, креветки. А я как хряпну пирога – у них аж косметика осыпается от возмущения. Я в микроволновке разогреваю, запах такой – с ума сойти. Они мне говорят: Варвара, вам надо сбросить килограммов десять минимум…
– Десять?! – ужаснулся Глеб. – Да от тебя ж тогда ничего не останется! Даже не вздумай!
– Да я и не собиралась…
Больше Глеб не дал ей произнести ни единого слова. Правда, получилось у них так себе. На троечку, честно говоря. Но оба сделали вид, что все просто прекрасно и лучше не бывает, но думали об одном и том же: Варька тосковала, почему не послушала в свое время Шарапова – переспали бы тогда и не мучились! А Глеб сокрушался, что был таким идиотом и хранил верность этой… этой… Он подумал было о Гале с привычной ненавистью, но вдруг опомнился: что это я?! Да ведь хорошо, что она ушла! Это ж просто счастье!
Проснувшись посреди ночи, Глеб обнаружил, что Варька прижалась так тесно, что он того и гляди свалится – прижалась, и рукой обняла, и ногу на него закинула. Он тихонько рассмеялся: собственница!
– Варь! – Он попытался ее чуть подвинуть. – Варька! Я свалюсь сейчас!
Она сонно подвинулась, но не в ту сторону, и он все-таки сполз на пол. Смеясь, забрался обратно, перелез через Варьку – она так и не проснулась, и Глеб, обнимая ее, вздохнул: пожалуй, если б сейчас… то и на четверку бы потянуло! Но не будить же…
А рано утром, когда он, зевая, выполз на кухню и увидел там Варьку, которая на скорую руку готовила завтрак – полусонная, в растоптанных тапках и старом застиранном халате, небрежно завязанном на талии, с кое-как заколотыми непослушными волосами, – его шарахнуло такой молнией, таким высоковольтным разрядом, что просто искры посыпались! И по тому, как вдруг замерла Варька, как напряглась ее спина, Глеб понял – шарахнуло их обоих. Варька обернулась, посмотрела на него исподлобья, закусив губу – о черт! Он взял бы ее прямо там, на кухне, но даже прислониться было не к чему, поэтому они каким-то образом опять оказались в кровати. Глеб склонился к Варькиным улыбающимся губам – она в последнюю секунду отвернулась, тогда он впился ей в шею совершенно вампирским поцелуем, но она даже не пискнула, а сама укусила его за плечо…
– Ах, ты так!
Варька смеялась и не давалась; отворачивалась от его губ и сама целовала, когда он не ожидал; сопротивлялась, а потом вдруг замирала, сдаваясь – сильная, гладкая, горячая, она дразнила Глеба и возбуждала просто чудовищно! Сердце колотилось, в голове гудел набат – весь мокрый, он хватал воздух пересохшим ртом, а под ним так же задыхалась Варвара. Щеки у нее пылали, дрожали опущенные ресницы, на губах то вспыхивала, то пропадала улыбка… Напоследок Глеб нежно провел рукой по Варькиной шее, где уже наливался оставленный им синяк, потом по груди – Варька вскрикнула.
– Тебе не хватило? – прошептал он, снова наваливаясь сверху. – Хочешь еще?
– Нет! Я не могу больше… Не надо!
Но он все-таки еще раз поцеловал Варьку, почти насильно – словно печать поставил: моя!
– Вот это да! Аж в голове звенит, – слабым голосом пробормотала Варвара, а Глеб откликнулся:
– И не говори! Все снесено могучим ураганом! – Они засмеялись, сначала тихонько, потому что сил не было, а потом разошлись и никак не могли остановиться. Одевались, завтракали по-быстрому и все переглядывались и посмеивались:
– Вот ты подумай! Целая ночь у нас была! Так нет, когда бежать надо – приспичило!
– Да ладно тебе, Глеб! Вчера мы просто переволновались.
– Эх, сколько мы с тобой времени зря потеряли! Надо было тогда решиться! А я, дурак, еще гордился собой, что… ну… типа – устоял, жизнь тебе не сломал!
– Перестань! Как есть, так и есть. Все равно – счастье.
– Да, счастье.
– Знаешь, Глеб, что я думаю? Если б мы с тобой еще тогда начали… встречаться, то Галя, может, и не ушла бы.
– Почему?!
– Потому что треугольник – самая устойчивая…
– Геометрическая фигура, знаю. А вообще, в этом что-то есть! Я ведь тогда все время чувствовал себя перед Галей виноватым, хотя у нас с тобой вообще ничего не было! И поэтому как-то… не знаю… суетился, что ли, вокруг нее. А когда ты ушла… Такое одиночество, такая тоска…
– Я знаю. Больно было. Очень.
– Но в то же время – свобода. Я понял: ничего ей не должен, ни в чем не виноват, понимаешь? И вдруг увидел ее словно со стороны: черствая эгоистка, плохая мать, злобная стерва. Да и меня она никогда не любила – давно бы ушла, просто некуда было. Осознал я это все и отгородился от нее стеной. Занимался только детьми. И о тебе… мечтал…
Глеб вдруг обнял Варю, да так сильно, что она ойкнула, – обнял и уткнулся ей в шею. Варька чувствовала, как вздрагивают его плечи и двигается кадык:
– Глебушка… ну что ты…
– Я тоже… по тебе… так страдал…
Два выходных дня они ускоренными темпами вили гнездо в Варькином доме – с помощью Шараповых, которые вздохнули с облегчением: слава богу, наконец-то! Мальчишек взяла на себя Зоя Васильевна, а Люша запросилась к Варе:
– Я не буду мешаться! Я тихонько посижу!
И правда, не мешалась, а сидела в уголке с книжкой или возилась с кошкой – старушка Муся, дама довольно суровая и своенравная, внезапно прониклась к Люше страстной любовью: всюду ходила за ней, беспокоилась и норовила облизать.
– Смотри-ка, она Люшу считает котенком! – поразился Глеб.
– Котенок и есть, – улыбнулась Варвара.
А Люша, впервые в жизни так тесно общавшаяся с кошкой, отнеслась к Мусе с большим почтением и обращалась на «вы»:
– Коша, налить вам молочка?
Время от времени Люша подходила к Варьке и просто прислонялась к ее теплому боку, заглядывая снизу в лицо. Тогда Варвара обнимала девочку и целовала в макушку, а то и поднимала на руки. Глеб, застав такую сцену, тут же обнял и расцеловал их обеих: девчонки вы мои! Люша, сопровождаемая по пятам бдительной Мусей, ушла на веранду, а Варька всхлипнула – она то и дело принималась плакать: короткое рыдание, слезы ручьем, и тут же все прошло, снова улыбка.
– Ты как дождик! – сказал Глеб, целуя Варьку в соленые губы. – Тучка пролилась, и снова солнышко!
– Я от счастья! Ты знаешь, я думаю, они там просто перепутали!
– Где – там?!
– Ну, в небесной канцелярии! Потому что это мой ребенок! Мой! Мы потерялись, а теперь нашлись, вот!
– Варька… А скажи, почему ты сама не надеешься родить? У тебя что-то не так?
– Ну да. Такая глупость получилась! Я болела в детстве, а это осложнение. Мама-то знала, наверно, но толку? Может, и мне говорила, а я не запомнила. Да и какие у нас тут врачи! А потом, когда я замуж собиралась – помнишь, я рассказывала? Сначала-то мы предохранялись, а потом перестали, ребенка хотели. И ничего! Но я только радовалась, что легко отделалась. А с Усольцевым… От него я и не хотела, избави боже! Ну, ты ж его видел! А когда мы с тобой… расстались…
– Расстались, так и не встретившись! – невесело усмехнулся Глеб.
– Ну, в общем, я решила, что надо к кому-нибудь пристроиться. Встретились мы нечаянно с Котовым, а он вроде как разводится, я и подумала: кого мне искать, где? А этого знаю как облупленного. Мы ж выросли вместе! Они напротив жили, где сейчас недостроенный дом. Замок любви! Помнишь, такой Андрей? У него жена умерла, он и забросил все – для нее строил. Ну вот, Котов. Но я быстро поняла, что ничего не выйдет. Не могу – и все! Бесит он меня. Ладно, пусть хоть ребенок будет! И опять – ничего. А мы месяцев восемь, что ли, прожили. Я по врачам пошла, вот и узнала. В принципе можно пролечиться, но долго. А мне уже лет-то сколько! Да и раздумала я от него рожать: получится такой же Котов, и буду я всю жизнь с ним нянчиться! Я, конечно, его обманула…
– Как – обманула?
– Нечаянно вышло. Он решил, я сама предохраняюсь, а я и не разубеждала. Ой, какой он мне скандал закатил, когда узнал! Мама дорогая! Я покусилась на самое святое, я обманула его доверие, я строила козни, я такая-сякая-разэдакая! Да провались ты, думаю! Нет, ребенка надо рожать только от любимого человека…
– Ну, так и займись собой! Не тяни время!
– Глеб, ты что?! Ты правда хочешь, чтобы я… У нас же и так трое!
– Где трое – там и четверо. Я ж тоже хочу ребенка от любимой женщины! Ну вот, опять она плачет!
– Гле-еб, а ты меня прости-ишь?
– Да за что?!
– За Котова… За то, что я с ним… Но я сама его бросила, еще в августе, правда!
– Варь, перестань! Как я могу тебе на это пенять?! Ты что, засохнуть должна была на корню, меня дожидаясь?!
– Должна-а… Мне прям тошно, когда вспоминаю… Я так тебя люблю! А сама…
– Ну все, все! Забудь! Не было никакого Котова!
А Котов все это время наслаждался возращенным семейным раем и думал: как он мог променять Анжелику – это эфирное создание, нежное и трепетное – на грубую и язвительную Варвару, оказавшуюся к тому же гнусной предательницей!
– Нет, ты представляешь себе всю глубину ее подлости?! – распинался Игорь, а сидящая с вязанием в руках Анжелика кивала и смотрела на него ангельским взором. – Я так доверял ей, а она!
Трындец! – думало между тем эфирное создание, накидывая очередную петлю. Полный трындец! Мало того, что Игорь уже который месяц выносит ей мозг историей коварного обмана Варвары, так теперь этот путь заказан и ей самой! Она вполне сочувствовала Варьке – а что такого, тетке за тридцать, конечно, она хочет ребенка. Анжелике было еще далеко до тридцати, но ребенка она тоже хотела. Какого черта эта дура Варвара все рассказала Котову?! Он же теперь удвоит бдительность, будет держать процесс под контролем и станет надевать по три презерватива зараз!
Анжелика тяжко вздохнула, а Котов растрогался: ах, как она ему сострадает! Только этот ангел способен понять всю глубину его мучительных переживаний! Но, несмотря на упоительную мучительность переживаний, в них ощутимо чего-то не хватало, а именно – самой Варвары, которая словно сквозь землю провалилась. Нет, сначала-то Котов обходил за сто километров место ее дислокации в отделе маркетинга. Потом, когда острота происшедшего слегка сгладилась, он уже и не прочь был случайно встретиться с Варькой и облить ее презрением. Он, конечно, не надеялся, что Варвара будет слать ему по девяносто семь смс подряд, но могла бы, к примеру, и позвонить: вернись, я все прощу! Нет, наоборот: прости меня, мне так одиноко! Опустела без тебя земля и всякое такое. Он решился заглянуть в отдел маркетинга – никакой Варьки там не обнаружилось.
– Она уволилась, – равнодушно произнесла одна из девиц, не отрываясь от монитора.
– Как уволилась?! – воскликнул Котов, и тут же все девушки повернулись к нему с одинаково заинтересованным выражением лиц, словно львицы, увидевшие в саванне одинокую антилопу.
– Ну, вообще-то еще не совсем уволилась, она пока в отпуске, но уже не вернется. – Одна из львиц поднялась и подошла к нему поближе. – А вам нужна именно Абрамова? Может быть, я смогу как-то решить ваши проблемы?
Она кокетливо приподняла бровь, а Котов невольно окинул ее оценивающим взглядом: ничего, вполне ничего – и улыбнулся:
– Как только у меня появятся проблемы, я непременно вам сообщу!
– Тогда возьмите! – Девица сунула ему в кармашек пиджака визитку и на секунду прижала ладонь к его груди. Котов вышел, посмеиваясь, и до конца дня не вспоминал о Варьке.
Хотя Варька на самом деле мечтала уволиться и заниматься детьми, ни она, ни Глеб не ожидали, что это произойдет так стремительно. В понедельник Варваре пришлось идти на работу, и за этот немыслимо долгий день Глеб соскучился так, что ближе к вечеру даже впал в панику: его стали одолевать странные мысли, что никакой Варвары нет и не бывало – просто он все выдумал, окончательно сбрендив от тоски и одиночества! Спасла его Люша, которая очень тонко чувствовала отцовские переживания. Глеб уныло смотрел в окно, мрачно думая: вот приеду сейчас на станцию, а там никого, никакой Варьки… Люша обхватила его сзади за ноги – Глеб улыбнулся:
– Ой! Кто это? Наверно, бармаглотик? – и подхватил смеющуюся девочку на руки. Люша обняла его за шею и сказала:
– Папа! Как хорошо, что Варя к нам пришла, правда? Ты когда за ней поедешь? А то я соскучилась!
– И я соскучился! Сейчас поеду. – И вздохнул с облегчением: нет, с «крышей» у него все в порядке. Хотя… как сказать! На станции он опять разволновался: не мог ни сидеть, ни стоять – бегал вокруг машины, протирал стекла, хлопал дверцами, пинал шины, словом, суетился. Наконец электричка пришла, и он увидел улыбающуюся Варвару, увешанную какими-то сумками и пакетами.
– Ты супермаркет ограбила? Привет!
Они спешно закидали сумки в машину, запрыгнули внутрь и минут десять с упоением целовались.
– Господи, как же я соскучилась! – бормотала между поцелуями Варька. – Просто ужас какой-то!
– А я-то!
Поехали, и Варька тут же затараторила:
– А я отпуск взяла! И еще две недели за свой счет!
– Ура!
– Глеб, слушай, я еще кое-что предприняла! Ты не станешь сердиться?
– Точно, «Ашан» ограбила, не иначе! Давай колись!
– Конечно, надо было сначала с тобой поговорить, я знаю! Я больше так никогда не буду поступать, правда-правда! Но тут так повезло, ты не представляешь! Я иду, а он из лифта выходит! Он так редко приезжает в офис, а тут – пожалуйста. Ну, я сразу к нему на прием и напросилась. Чего время терять, верно? Я так и так думала ему звонить…
– Варь, кто он-то?! Что-то я ничего не понимаю!
– Дядя Саша! Александр Петрович! Отчим Котова – помнишь Котова? Я тебе рассказывала. Ну вот! Дядя Саша там самый главный. Ну, почти. Соучредитель, что ли. Дядя Саша меня туда и пристроил. Смешно, они там все уверены, что я его любовница!
– А ты его любовница?
Тут Варька так обиделась, что Глебу пришлось остановить машину и утешать ее:
– Это шутка! Дурацкая шутка! Прости! Я дурак, и шутки у меня дурацкие! Ну, пожалуйста, Варенька!
– Ну ла-адно… Просто я так скучала, а ты…
– Так что дядя Саша-то?
– А! Ну, в общем, у тебя завтра собеседование.
Глеб опять затормозил:
– Что у меня завтра?!
– Собеседование. Он обещал тебя на работу взять. Дядя Саша, конечно, огорчился, когда я про тебя рассказала, но понял. Они-то все мечтали меня за Котова замуж выдать! Еще с детства. Я, мол, такая основательная, а ему сильная рука нужна. Вот еще, очень надо, правда? Глеб, ну чего ты опять встал? Поехали, а то мы так никогда домой не доберемся!
– Варь, подожди! Ты мне все расскажи, и поедем. А то я ничего не понимаю! Что хоть за фирма-то? Чем занимается?
– Глеб, да какая тебе разница! Я тоже не совсем по специальности там работаю, ну и что? У него много разных объектов, у дяди Саши. Что-нибудь подберет. Резюме я тебе напечатаю. И еще… Я не знала, есть у тебя или нет… В общем, я тебе костюм купила! И рубашку, и галстук! И ботинки…
– А носки? Не купила?
– Купила! Ты сердишься?
– Варь, разве я могу сердиться?! Ты что?! Как же ты ботинки покупала, их же мерить надо?
– А я посмотрела, какие ты носишь, еще мерочку сняла…
– Мерочку?! Господи, Варька…
И костюм, и ботинки оказались впору – на самом деле правый слегка жал, но Глеб об этом не распространялся: разносится, ничего! Конечно, назавтра Варька поехала с Глебом и полчаса изнывала в ожидании, гуляя по окрестным магазинам. Наконец показался Глеб с мрачным лицом – сердце у Варьки так и упало:
– Что?! Не взял?!
Но Глеб тут же расплылся в улыбке, а Варька стукнула его кулаком в плечо: я тут волнуюсь, а ты дурака валяешь! Оказалось, дядя Саша предложил ему еще одну вакансию – в строительной фирме, и надо срочно туда ехать. Там Глеб застрял надолго, и Варька чуть не задремала в мягком кресле, несмотря на кофе, любезно предложенный ей секретаршей.
– Не спи, замерзнешь! – Глеб вытащил ее из кресла и увел в коридор. – Варь, давай решим! Смотри: я могу пойти туда, где ты работаешь – ну, там ты все знаешь: зарплата хорошая, премии, работа от звонка до звонка. А тут, конечно, денег в три раза больше, и машину дают, но зато ненормированный рабочий день, да и по выходным, возможно, придется работать…
– Это что, я тебя совсем и видеть не буду-у…
– Варь, да не обязательно мне сюда-то идти! Всех денег не заработаешь!
– Но я ж вижу, тебе хочется!
– Если честно, то да. Варь, даже не из-за денег, правда. Просто отвык я от офиса – сидеть, бумажки перебирать, тьфу! А тут – интересно! Настоящее дело. Он классный мужик, шеф. Берет меня практически заместителем, представляешь?! Сказал: рекомендация Александра Петровича дорогого стоит!
– А какую тебе машину дадут?
– Джип. «Гранд Чероки», что ли.
– Ну-у! Здорово! А ты тогда свою мне отдашь?
– Тебе?!
– А что? Ты ж сам меня водить учил! Мне тоже придется ездить, мало ли куда!
– А у тебя права-то есть?
– Есть, я сдала! Ой! Гле-еб! А если ты согласишься, можно мне…
– Да я вообще-то уже согласился. Со следующего понедельника приступаю.
– Я так и знала! Глеб, можно я прямо сразу уволюсь, а?! Ну пожалуйста! Давай вернемся, я заявление им закину!
– Ну давай. Только не прямо сейчас – шеф хочет с тобой познакомиться, обедать нас пригласил…
А Котов, помучившись пару дней, решил все-таки позвонить Варваре: чего это она уволилась? Неужели… из-за него?! Сначала абонент долго был вне зоны доступа, потом звонок прошел, но Варька его сразу сбросила. Игорь звонил ей несколько дней подряд, но она не отвечала, а к городскому никто не подходил. Он уже не знал, что и думать, и в субботу рванул в Филимоново, как ни уговаривала его Анжелика поехать к бабушке на дачу:
– Шашлыки сделаем, отдохнем! Смотри, какая погода!
Наврал, что нужно съездить к матери, и помчался. Ехал долго – то пробки, то заблудился, то шлагбаум на железке долго не открывали, пропуская товарняк. Вошел, услышал голоса, свернул на кухню… и обомлел! За столом сидело трое детей – косенькая девочка и двое почти одинаковых пацанов. Игорь зажмурился, открыл глаза – все то же самое. Дети с интересом уставились на него, а один из мальчишек махнул в его сторону ложкой и сказал:
– Дядя!
– О, какие люди! – У плиты стояла Варвара, которая показалась Котову неправдоподобно красивой, просто ослепительной. Он открыл было рот, но тут мужской голос у него за спиной продолжил Варькину фразу:
– И без охраны.
Котов оглянулся – к дверному косяку прислонился высокий худощавый мужик и смотрел на него с таким же интересом, как и дети.
– Глеб, познакомься – это Котов!
– Да я почему-то догадался. Привет, Котов. А я – Жеглов.
Варька прыснула, ребятишки тоже захихикали, а Котов заморгал:
– Жеглов?
– Котов, ты зачем приехал? – спросила Варька. – Опять хочешь про свою Изольду рассказывать?
– При чем тут… какая-то Изольда! – вспыхнул Котов. – Я волновался! Из-за тебя! Ты уволилась, и вообще! Я думал – мало ли!
– А, она уже какая-то! Да ты не волнуйся, Игорек, у меня все хорошо. Вот мой муж, вот мои дети – все прекрасно! Видишь?
Котов абсолютно – ну просто абсолютно! – ничего не понимал. Нет, муж – это он еще мог осознать, но дети?! Какие дети, откуда они взялись?! И такие… уже не маленькие дети?!
– Котов, все хорошо! Поезжай к Эсмеральде, она тебя ждет, она милая, тортик тебе испечет! А то хочешь, пирогов дам? Ты же любишь мои пироги?
– Пироги?! Тортик?! Ты… издеваешься, да?!
И Котов выскочил из кухни. Дорогу до Москвы он не запомнил – показалось, домчался минут за десять. Вошел – Анжелика обрадовалась:
– Ой, как ты быстро! Как раз к обеду. – Но потом вгляделась в него и слегка нахмурилась: – Игоша, что случилось?
– Случилось! Нет, ты себе даже представить не можешь, что случилось! – и вывалил на нее все сразу: Варька, дети, муж, пироги. – Нет, откуда взялись дети-то, не понимаю?!
– Зачем ты к ней поехал?!
– Понимаешь, она уволилась и к телефону не подходила, я подумал, вдруг она… ну… мало ли.
– Что она? С собой покончила, что ли? Из-за тебя?!
– Но мы же так поссорились, и вообще…
– Так для этого увольняться не надо.
– Это, конечно, верно, но…
Анжелика молча на него смотрела: значит, вместо того чтобы ехать с ней на дачу, этот… этот придурок рванул к Варваре?! Ее мало волновали таинственные Варькины дети – гораздо больше она переживала из-за собственных, которых ей, судя по всему, никогда не дождаться, если он так и будет мотыляться от одной бабы к другой. Анжелика развязала кокетливый фартучек с оборочками и сказала:
– Так, все. Хватит.
Повернулась и ушла в комнату, а когда удивленный Игоша отправился вслед, оказалось, что Анжелика собирает вещи. Она покидала в большой пластиковый пакет что-то самое необходимое, огляделась, скинула розовые тапки с помпонами, обула босоножки, взяла сумочку…
– Ключи я пока не отдам. Остальное заберу, когда ты будешь на работе.
– Анжел, я не понял…
– Я. От тебя. Ухожу. Чего тут не понять? Развожусь. И на этот раз – действительно разведусь. Все, пока!
– Но я не понял…
Дверь захлопнулась. Котов постоял, почесал в затылке. Что ж за день-то такой! Вздохнул и пошел на кухню – есть хотелось ужасно. Суп Анжелика не успела разогреть, а ему было лень. Он заглянул в холодильник, вытащил пластиковый контейнер с остатками торта, откусил сразу половину ломтя, потом вспомнил Варьку – «Тортик! Пироги!». Прямо все удовольствие испортила, стерва. И эта тоже… стерва, а вовсе не ангел! Но торт доел, задумчиво разглядывая содержимое холодильника.
Достал буженину – Анжелика сама запекала, еще маринованные огурцы – тоже свои, бабушка делала. Отыскал в буфете непочатую бутылку водки – теплая, фу! Он-то любил из морозилки, но что делать. Нашел лед и соорудил себе коктейль, добавив вишневого компота. Долго сидел на кухне и страдал, закусывая вполне сносный коктейль мясом и огурчиками: никто его не любит, никто его не понимает, все бабы стервы и эгоистки! Потом вдруг вспомнил кое-что и долго рылся в гардеробе – наконец нашел в кармане одного из пиджаков визитку: ага! С трудом прочитал мелкий шрифт – все-таки порядочно набрался этого коктейля: «Петренко», нет – «Петрынько»… Надо же, какая фамилия! Петрынько Анастасия – смотри-ка, Настя! Была уже вроде какая-то Настя? Или Ксюша? Набрал номер и сказал игривым тоном:
– Настя? Помните, вы предлагали решить все мои проблемы? Их есть у меня!
Варвара перестала греметь посудой и прислушалась: вроде позвал кто-то? Или нет? Люша еще в школе, а мальчишки во дворе… На всякий случай она выглянула в окно – пацаны возились на детской площадке, устроенной Глебом на месте бывших картофельных грядок. Бог с ней, с картошкой! Зато детям есть где беситься: горка, турники, качели.
Варька взглянула на часы и развязала фартук – пора ехать за Люшей! Пацаны, обожавшие кататься на машине, с радостным визгом побежали открывать ворота. Люша заканчивала второй класс и училась на удивление хорошо. – Хотя чему удивляться? Она девочка умная, начитанная. Варвара нисколько не сомневалась, что Люша станет отличницей, гораздо больше она беспокоилась о том, не будут ли одноклассники обижать ее драгоценного ребенка! Но и с этим Люша справилась: она мгновенно обросла друзьями, которые все время толклись у них дома, так что к ночи у Варвары просто звенело в ушах от детских голосов. Вон и мерещиться даже начали!
Уже пару раз она просыпалась ночью и бежала проверять, что с детьми, – но все крепко спали. Потом и среди дня Варька начала вдруг слышать звонкое: «Ма-ма!» – и вздрагивала. Это было так реально, что Варвара невольно оглядывалась в поисках ребенка. С каждым разом голос словно приближался, делался громче – что за морок такой?! Варвара решила, что у нее слегка съехала «крыша» от слишком долгого ожидания возможной беременности: она сразу же начала курс лечения, но пока никакого толку не было.
Глебу она об этих голосах не рассказывала – у него и без того проблем хватает! Глеб в последнее время выглядел сильно озабоченным, но как Варька ни подъезжала к нему с вопросами, не кололся. А загадок вокруг и без того хватало – вдруг оживилась замершая было после смерти Тани строительная суета на участке напротив. Варвара знала, что Андрей никак не решит судьбу этого «Замка любви»: жить там он не мог, а продавать жалко. Варька не выдержала и сходила через дорогу – дом был достроен, и все работы велись внутри. Она заглянула и увидела Шарапова, который обсуждал что-то с одним из работяг.
– Варежка! Привет!
– Коль, так это ты тут, оказывается? А я-то думаю, кто такую бурную деятельность развил?
– Да кому ж еще?
– Это Андрей тебя нанял? Или он все-таки продал кому-то?
Как выяснилось – продал. Кто владелец, Шарапов так Варьке и не сказал – сам, дескать, толком не знаю! Да и какая разница? Ну да, действительно. Дальше прихожей Варька не пошла – неудобно, хотя любопытство разбирало. Она знала, что Таня не успела ничего спроектировать внутри, но заметила какую-то необычную конструкцию: лестница такая, что ли? Глеб тоже несколько раз заходил в тот дом, но на Варькины расспросы отвечал невразумительно: сколько комнат, какие обои – или не обои? Ничего от него не добьешься, ну вообще!
А в одну прекрасную июньскую пятницу Глеб вдруг не пошел на работу – решил почему-то взять отгул. С утра к ним зашла Зоя Васильевна – она иногда давала им выходной: надо ж и вдвоем побыть! Варька с Глебом тогда уезжали куда-нибудь и «прожигали жизнь»: гуляли по Москве, катались на теплоходике, а то и на аттракционах в Парке культуры, обедали в ресторане, а под вечер заезжали в пустую квартиру Зои Васильевны, чтобы на свободе предаться любви.
– Ну что, куда поедем? – спросила Варька, радуясь неожиданному празднику.
– Сюрприз! – хитро улыбаясь, сказал Глеб.
Они выехали на новую трассу, Глеб притормозил и достал с заднего сиденья длинный Варькин шарф:
– Мне придется завязать тебе глаза!
– Ничего себе! Надолго?
– Пока не приедем! Потерпишь? А то сюрприза не получится.
– Ладно…
Глеб завязал ей шарфом глаза и поцеловал.
– Ой! Слушай, как с завязанными глазами целоваться-то интересно! Давай потом попробуем!
Глеб рассмеялся. Ехали они не очень долго – Варька сначала пыталась понять, куда Глеб ее везет, но потом запуталась в поворотах, да и голова начала кружиться:
– Глеб, когда мы уже приедем? А то меня укачивает!
– Все! Мы на месте. Подожди, не развязывай! Я сам сниму, когда можно будет.
– Да что ж такое-то? Куда ты меня завез?
Глеб помог ей вылезти из машины и повел, придерживая за плечи.
– Осторожно, ступеньки!
Варька поднялась, куда-то вошла – шаги гулко отдавались в явно пустом помещении. Наконец Глеб размотал шарф, и Варька открыла глаза. Некоторое время она растерянно оглядывалась по сторонам: большая комната с двумя окнами – на желтом паркете прямоугольники солнечного света. Стены тоже золотистые…
– Где это мы?! Ах! – Она увидела в окно через улицу собственный дом. – Глеб! Ах ты паразит! А возил-то, возил! Я думала, мы до дальних коттеджей доехали! А это Андреев замок!
Глеб смеялся:
– Ну? Нравится тебе? Принимай работу, хозяйка!
– Как… хозяйка?!
– Так! Это теперь наш дом!
– Так это ты у Андрея купил?! А как мне голову заморочили с Шараповым! Ну, вы вообще!
И Варька побежала по комнатам, не веря обрушившемуся на нее счастью: высокие потолки, большие окна, паркет, а кухня какая! А ванная! И не одна! Так вот что это за конструкция – рядом с лестницей на второй этаж вился гладкий деревянный желоб: горка!
– Это я придумал! – с гордостью сказал Глеб. – Правда, здорово?
– Ага! Вот ребята обрадуются! Их можно наверху поселить, да?
– Люше тяжело будет по лестнице-то…
– Посмотрим! Ну что, обновим? – Варька села в желоб, оттолкнулась и с визгом съехала вниз, Глеб – за ней, устроив внизу небольшую кучу-малу.
– А может, по-другому обновим, а? – спросил Глеб, не выпуская Варьку из объятий.
– Прямо на полу, что ли?!
– Зачем? Я подготовился! Смотри! – Он встал и достал из-под лестницы толстое лоскутное одеяло.
– Ой, не могу! Подготовился! Ну давай. Наверху? Или здесь?
– Пойдем наверх. – Глеб взял одеяло в охапку и пошел на второй этаж. Варька за ним – и вдруг остановилась, прислушиваясь:
– Ма-ма! Мама! – звонко произнес детский голос. Похолодев, Варька услышала еще один отчетливый звук: босые детские ножки зашлепали по паркету. Наконец она поняла, кто зовет ее, кто спешит к ней из неведомой дали – ее нерожденный ребенок! Именно сейчас, именно здесь – на паркетном полу, нагретом июньским солнцем, на старом лоскутном одеяле зародится новая прекрасная жизнь.
Варька улыбнулась: значит, сегодня у них обязательно получится!
Не может не получиться!
И, обнимая мужа, услышала, как смеется их будущее дитя.
Часть III Женщина на миллион
… Ни одно сердце не способно биться в прошлом или будущем. У него всегда есть только один удар. Сейчас. Елена КасьянГлава 1 Знакомство
Андрей лениво взглянул в окно на сияющий золотом клен: осень, конец сентября. Еще одна осень. Обычно он приходил на работу раньше всех, к восьми, а то и к половине восьмого, и уже через час ему страшно хотелось кофе. Сотрудники сползались к законным девяти, поэтому он чуть раньше покидал офис, спускался с седьмого этажа по лестнице и сворачивал за угол – в маленькое кафе, где негромко играла приятная музыка, пахло корицей, всегда были свежие клетчатые скатерти с зелеными салфетками, почему-то напоминавшими о Новом годе, и где подавали совершенно замечательный кофе, а в окно лез ветками старый клен.
Через полчаса Андрей возвращался. Полчаса форы, данные подчиненным, не спасали – все равно опаздывали: пробки, то-се. Они искренне полагали, что наличие детей, престарелых родителей, кошек и собак их оправдывает, а Андрей так же искренне недоумевал, что мешает им правильно рассчитать время и выйти пораньше, чтобы успеть отвести детей в школу, выгулять собаку или вынести мусор?! Впрочем, у него не было ни детей, ни собак, а мусор он выносил вечером.
Конечно, он вполне мог выпить кофе и в офисе. Но ему так нравился этот короткий утренний перерыв в бесконечно долгом рабочем дне, так нравилось спускаться по лестнице, по-мальчишески перепрыгивая через ступеньки, а потом сидеть, вытянув ноги, помешивать кофе маленькой ложечкой и не думать ни о чем. А в последнее время появилась еще одна причина, по которой он стремился в кафе, – но вот уже четыре дня место у окна, где обычно сидела эта «причина», пустовало.
Андрей вздохнул и огляделся по сторонам. За соседним столиком лицом к нему пила кофе молодая женщина, показавшаяся знакомой. Андрей еще раз взглянул: «Откуда же я ее знаю?» Та улыбнулась, заметив его пристальный взгляд.
– Простите, ведь мы с вами знакомы? Я запамятовал имя-отчество!
– Нет, незнакомы. Просто мы с вами почти каждый день пьем здесь кофе по утрам.
– Вот те на! – ахнул Андрей. – А я-то сокрушаюсь, что вас нет! А вы рядышком! Нет, это ж надо – не заметил! Можно я к вам пересяду?
– Пожалуйста.
Андрей пересел, захватив свою чашку. Теперь он лучше ее разглядел: что-то неуловимо прелестное, нежное, даже детское проглядывало в выражении лица, в мягком очерке скул, в улыбающихся губах. И нос у нее какой-то веселый, с чуть приподнятым кончиком, и брови с легким изломом – тоже веселые и словно все время удивленные! А глаза серьезные, даже печальные – с длинными черными ресницами, словно обведенные траурной рамкой. Непонятно какие – серые, зеленые? Голубые? Они словно все время мерцали, переливались, как переливается на солнце вода в реке, все время меняли свой цвет. Глаза удивительной формы – миндалевидные? Нет, так же про ногти говорят! Удлиненные, продолговатые – он никак не мог подобрать определение. Словно листики ивы или маленькие рыбки! И так же отливают серебром, а внешние уголки глаз слегка опущены книзу. Может быть, именно это и придает ей такое трогательное выражение? Разноцветный шарфик на шее, бледно-зеленый джемпер… И красивая грудь – Андрей быстро отвел взгляд. А руки, державшие чашку с капучино, были маленькие, с короткими розовыми ноготками, совсем не миндалевидными.
– Теперь я вас узнал! Но что-то изменилось, нет? Прическа?
– Да, я постриглась. И порыжела немножко.
– Порыжела? Ах, волосы! Понял. Вам очень идет!
– Спасибо!
– Да, позвольте представиться: Андрей.
– Ирина. А бабушка звала меня Ия.
– Какое милое имя!
– Я «р» не выговаривала, вместо Иры получалась Ия, так и прижилось.
– Девочка Ия! Бабушкина любимица, да? И бантики у вас были?
– Да, я любила банты.
Она посмотрела на Андрея над чашкой с капучино, и он вдруг ярко, как на цветной фотографии, представил себе маленькую Ию с бантом на макушке, пьющую какао из чашки в красный горошек – такая была когда-то у него самого.
– Мне кажется, вы нисколько не изменились с тех пор!
– Ничего себе, комплимент! – Ирина рассмеялась. Смех у нее оказался нежный и звонкий, легкий смех, летучий… хрустальный!
– Нет, я имел в виду, что некоторые люди с возрастом очень сильно меняются – трудно даже соотносить с детскими фотографиями. А некоторые сразу опознаваемы.
– Да, правда. Я похожа на себя в детстве, очень. А вы?
– Я? Пожалуй, тоже похож.
– А это хорошо, когда похожи, как вы думаете? Или плохо?
– Мне кажется, хорошо.
– Вот и я так думаю!
Андрей вдруг закрыл глаза, ненадолго, а когда открыл, она все так же серьезно смотрела на него, и глубокая печаль все так же сквозила в ее улыбке, в сочувственном взгляде, в скупом и изящном жесте, которым она положила теплую ладонь на его судорожно сжатый кулак. Приступы горя, что внезапно случались с Андреем, стали с течением времени совсем редкими и короткими, но больно было все так же. Вот и сейчас – словно раскаленной иглой пронзило. Так не вовремя…
– Что с вами? Вам плохо?
– Нет-нет, все в порядке. Это… другая боль.
– Расскажите, – тихо попросила Ирина. – Просто расскажите мне!
– У меня… умерла жена. Давно. Шесть лет прошло. Чуть больше. Но… до сих пор… нестерпимо. Накатывает иногда. Простите.
– Я понимаю. Мой муж погиб почти три года назад.
– Боже мой! Простите, что завел этот разговор, простите!
– Ничего. Что ж делать. Я могу говорить об этом. Теперь уже могу.
– Авария?
– Да. И детей у нас нет. Мы и жили-то вместе всего ничего.
– У нас тоже нет. Не было. Хотя мы почти пятнадцать лет прожили. Но Таня заболела, почти сразу. Так что – тоже не успели.
Они помолчали, глядя на золотой клен за окном, потом Ира отодвинула чашку и сказала:
– Знаете что? Давайте мы с вами прогуляем! Ну ее, эту работу!
– Как… прогуляем?!
– Ну, как уроки прогуливали. Или лекции. А вы не прогуливали? Я все время в кино сбегала.
– Работу прогуляем?!
– Ну да. Сходим куда-нибудь, в парк например. Смотрите, день какой! Все равно сегодня пятница. Начальница меня отпустит, а вас?
– А я сам начальник…
– Ну вот! Вам и отпрашиваться не надо!
Андрей смотрел на Ирину во все глаза, потом хмыкнул и полез за телефоном.
– Ладно! Давайте и правда, что ли, прогуляем, не пропадать же такому дню!
Он серьезным тоном выдал несколько руководящих указаний недоумевающему помощнику, в то время как Ира что-то бормотала своей начальнице. Одновременно отключив телефоны, они слегка растерянно посмотрели друг на друга: оба плохо понимали, что с ними такое происходит и как именно они станут «прогуливать».
– Вот что, – решительно сказал Андрей и махнул рукой официантке. – Может, еще по чашечке кофе для начала?
Официантка подошла, понимающе прищурилась на них и ласково предложила:
– Не хотите ли пирожных? У нас очень вкусные пирожные! И всегда свежие!
– Гулять так гулять! По пирожному?
– Мне корзиночку!
– Давайте и мне, что ли, эту самую корзиночку!
Официантка мгновенно принесла им два затейливых пирожных. Андрей рассмотрел кулинарную конструкцию, потом с некоторой опаской откусил сразу половину, испачкав нос. Ира рассмеялась:
– Не любите сладкое?
– В меру. Нет, ничего, вкусно.
– А я люблю. Очень! Но стараюсь держать себя в рамках приличия.
Он в два приема покончил с пирожным и улыбнулся Ире, которая аккуратно ела ложечкой взбитые сливки:
– Хотите, расскажу вам одну историю?
– Расскажите! У нее хороший конец?
– Надеюсь. – Он вздохнул: – Таня… Моя жена… Она была архитектором. И однажды ей приснился дом. Такой сказочный домик, маленький замок. Она его придумала, а я стал строить. Она болела, а я строил. А потом… вы знаете.
– Таня не успела его увидеть?!
– Успела. Дом-то построили, внутри только не отделали. Но я привез Таню, показал. Она была счастлива. А через пару месяцев… ее не стало. Но это еще только предыстория. История впереди. Я не знал, что мне с ним делать, с домом. Жить я там не мог, продавать… продавать не хотел. Впору было объявление вешать, знаете, как про котенка пишут: отдам в хорошие руки! Но вдруг появился покупатель, и оказалось, что это муж Варьки…
– А кто такая Варька?
– Варька! Это такой человечек дивный! Ее дом – напротив нашего. И мы, когда приезжали, всегда к ней заходили – отдохнуть, чаю попить. Она с Таней подружилась, мы даже мечтали, когда переедем, Варьку к Тане нанять помощницей. Тане она очень нравилась. Говорила, что похожа на модель Майоля. Это скульптор такой французский.
– Я знаю, Аристид Майоль. Так Варя на Дину Верни похожа?
– Да, точно, на молодую Дину Верни! Слегка лицом, но больше фигурой. Такая… очень женственная. Варька – она удивительная! У каждого свой талант, правда? Таня – архитектор, кто-то скульптор или музыкант, а Варя… Она творит жизнь вокруг себя. Около нее всегда тепло, светло и пирогами пахнет. Такая вот Варька. Я не сразу понял, в чем дело. Только когда увидел их с Глебом вместе, догадался. Она умеет любить сейчас, понимаешь? – Ира быстро взглянула на Андрея, чуть улыбнувшись: он и не заметил, как перешел на «ты». – Сейчас, сию минуту! Не завтра, не вчера, а сегодня. Ведь мы когда сильнее любим? В разлуке, когда свидания ждем, правда? А когда рядом каждый день, как-то и забываем про любовь…
– Да, верно. Или мечтаем о будущей любви, или сокрушаемся об ушедшей, которую не вернуть. И не видим того, что совсем рядом.
Андрей вдруг забыл, о чем хотел рассказывать, – они с Ириной взглянули друг на друга и одновременно отвели взгляды.
– Так о чем это я? Ну да, Варька! Она с Глебом работала вместе у Шарапова – это у них такой местный Дон Корлеоне. Не в том смысле, что мафиози, просто у него там все схвачено, всю работу под себя подгреб: стройка, ремонт, перевозки, всякое такое. И Варька с Глебом полюбили друг друга. А он женат, трое детей, у старшей девочки – ДЦП. Жили бедно, с трудом концы с концами сводили. А у Варьки мать сумасшедшая. Ну, можешь себе представить. Потом мать умерла, Варька стала в Москве работать, пыталась как-то личную жизнь наладить. У них с Глебом ничего вообще не было, представляешь? Никакого романа! Даже не виделись почти год. А в это время от Глеба жена ушла, детей ему оставила…
– Детей бросила?! Ничего себе!
– Да, та еще стерва. И Варька, как узнала, тут же к Глебу примчалась. Еще обижалась, что он ее сразу не позвал!
Андрей рассказывал историю Варьки и Глеба, а Ира слушала и сопереживала, то улыбаясь, то ахая, то поднимая брови, потом покачала головой и вздохнула:
– Надо же! И ты продал им свой дом?
– Да я хотел так отдать, но он не принял, Глеб-то! Гордый. Долго мы с ним препирались, наконец называю цену, совсем мизерную, говорю: вот моя цена, а не хочешь, вообще не продам! Ну, он и сдался. Отделал изнутри, второй год живут. Или уже третий?
– Как замечательно! Удивительно это все. Трое детей, и девочка с ДЦП, а она не забоялась, твоя Варя!
– Да она не моя, она – Глебова, – рассмеялся Андрей. – А детей уже четверо! Они еще девочку родили.
Ирина ахнула – вот это да! Ай да Варька!
– Да, она такая. На новоселье меня пригласили. Я, правда, боялся ехать. Ну, ты понимаешь. А приехал – и ничего страшного, наоборот. У них с Глебом любовь – как… не знаю… как сметана! Хоть ложкой ешь. Варька знаешь что придумала? Выклянчила у меня фотографию, нашу с Таней. И повесила на стенку. У них там целая галерея: дети, родные, друзья. И мы. Тоже вроде как родные. Я смеюсь, что они меня усыновили! Хотя оба младше.
– Ну, вот видишь! Таня все-таки живет в своем доме!
– Живет, да. – У Андрея вдруг перехватило горло, но он выговорил: – Они… Они свою девочку… Танечкой… назвали.
Одним глотком он допил остывший кофе и смущенно взглянул на Ирину:
– Хочешь дом посмотреть?
– Хочу! А можно?!
– Почему ж нельзя! Можем прямо сейчас и съездить, раз все равно прогуливаем. Глеб наверняка на работе, а Варька уж точно дома.
– А это далеко?
– Нет, не далеко, но, может быть, немножко долго – пока из Москвы выедем, пробки, то-се. Ну что, поехали? Я за машиной только схожу, она на стоянке.
За машиной он припустил бегом. Ирина ждала его на крылечке – стояла, повернувшись к солнцу, и жмурилась, как довольная кошка. Андрей взлетел к ней и остановился ступенькой ниже, чтобы оказаться лицом к лицу:
– Ты здесь! А то я волновался!
– Думал, исчезну?
– Ну да. Прости, что долго – надо было в офис забежать!
Андрей жадно вглядывался – в кафе царила золотистая полутьма, а тут, под ярким солнцем, все было видно гораздо лучше: и светлую нежную кожу, и розовые губы с прячущейся в уголках улыбкой, и серьезные глаза непонятного цвета, переливающиеся, как вода в реке, и густые, коротко стриженные рыжеватые волосы. Про грудь он помнил. И стройные ноги, затянутые в голубые джинсы, оценил, подходя. И вдруг они поцеловались, как-то само собой получилось: сначала неловко ткнулись носами, потом приладились. Рука Иры лежала у Андрея на груди, и казалось, что его сердце бьется прямо о ее ладонь.
– Ты не волнуйся, – прошептала Ирина. – Что ты так волнуешься?
– У меня… у меня никого не было… после Тани, – совсем тихо сказал Андрей, уткнувшись ей в шею. – Никого… настоящего.
– У меня тоже. Никого! – И добавила дрожащим голосом: – Все это так странно, правда?
– Невероятно!
Они еще поцеловались, и это вышло так пылко – Андрей даже забыл, что они стоят на крыльце кафе и собираются куда-то ехать. Пальцы Ирины сжали его рубашку, потом отпустили. Оба разом выдохнули и замерли, обнявшись.
– Может, поедем ко мне? – Андрей сам не узнал свой голос, так глухо он прозвучал. Ира ответила:
– Ты слишком торопишься.
– Просто… мне показалось…
– Тебе правильно показалось. Но я не умею так быстро. Я же северная девушка, а мы медленно созреваем. Дай мне время. Немножко.
– Девушка с Севера?
– Ну да. Я ж из Вологды родом. Ты ведь не обиделся?
– Нет! Главное, что мне все правильно показалось. И вообще-то… знаешь, я тоже не умею… так быстро. Даже не знаю, что со мной такое!
– Я думаю, это как вода…
– Какая вода? – спросил Андрей, завороженно глядя в ее невероятные глаза.
– Ну, любовь! – Ия покраснела. – Любовь – словно вода! Одинаковая и разная. Из крана, из бутылки, из родника, в реке, озере, колодце… в море! А дождик? И снег? Это же все – вода! H2O! Так и любовь. Одинаковая и каждый раз другая. И вкус разный. Ну что ты смеешься?!
– H2O?! Откуда ты знаешь про H2O?
– Я вообще-то в школе училась! Там рассказывают про H2O, если ты не в курсе. И я, между прочим, химик! Вот!
– Химик?! Чего еще я про тебя не знаю?
– Да ты вообще ничего про меня не знаешь! – Ира забавно сморщила нос и чмокнула его в щеку. – Поехали смотреть твой дом!
А сев в машину, сказала:
– Я знаю, зачем ты меня туда везешь! Вовсе и не дом смотреть! Ты хочешь, чтобы дом на меня посмотрел. И Варя. Чтобы одобрила меня, да?
– Не тебя! Чтобы нас одобрила.
– А что, уже есть мы?
– Да. Ты разве не чувствуешь?
– Чувствую.
– Ну вот! А Варька на нас посмотрит и сразу поймет. Она такая. Варька – она все про любовь понимает.
Все про любовь понимает! Да разве может кто-нибудь понимать все про любовь? Ирина потихоньку рассматривала Андрея: некрасивое, но выразительное лицо – крупный нос, решительный подбородок, густые брови, внимательные карие глаза с сеточкой тонких морщинок в уголках век, темные жесткие волосы с залысинами на висках и заметной сединой. Очень хорошая улыбка. И слегка оттопыренные уши – Ира умилилась. Разглядывала, а сама думала: «Боже, что я делаю! Я сошла с ума…»
Впрочем, с ума она сошла не сегодня, когда вдруг назвала Андрею свое детское имя, давно позабытое, когда согласилась ехать с ним незнамо куда, целовалась на виду у прохожих и несла какую-то чушь про H2O. И даже не в прошлую пятницу! В тот день Ира опоздала в кафе, Андрей уже выходил, они столкнулись в дверях – он так явно обрадовался и открыл было рот, чтобы заговорить, но страшно покраснел и не решился, а потом, отойдя на пару шагов, оглянулся, потоптался, посмотрел на часы, махнул рукой и побежал за угол. Пожалуй, она сошла с ума несколько месяцев назад, когда вдруг поймала себя на том, что все время думает о незнакомце из кафе. О человеке, про которого знать ничего не знает! Ну да, они виделись почти каждое утро и даже слегка улыбались друг другу, и он, входя, тут же смотрел, на месте она или нет, и украдкой разглядывал ее, а она краснела и отворачивалась к окну. В общем, вели себя так, словно им лет по пятнадцать.
Но даже в пятнадцать лет Ирка не мечтала о прекрасных незнакомцах в кафе, о предопределенных судьбой встречах, о любви с первого взгляда и на всю жизнь – и пока смерть не разлучит нас. Дамские романы она не любила, в судьбоносные встречи не верила. Но ее так поразило, что Андрей смутился: взрослый, респектабельный, явно успешный мужчина вспыхнул, как мальчишка! Ей и в голову не приходило, что он просто стесняется – подойти, заговорить, познакомиться. Ладно, решила Ира, в понедельник заговорю с ним сама. Всю пятницу она думала, как бы половчей это сделать – никогда в жизни она сама ни с кем не знакомилась. В субботу внезапно решила подстричься, а парикмахерша уговорила ее покраситься. Результат Ире понравился – она то и дело посматривала на собственное отражение во всех попадающихся по дороге витринах и даже купила совершенно не нужную ей кофточку, а потом еще тушь для ресниц, и тени, и помаду, и духи, и шарфик…
А в воскресенье на работе подвернула ногу, слезая с низенькой библиотечной лестнички, на которую пришлось забраться, чтобы достать для читателя-семиклассника том Максима Горького: сначала она долго выясняла, что именно ему нужно – тот просил «Судьбу человека» Горького, оказалось, нужно «Детство»!
– А что, ребенок не человек, что ли? – шмыгнув носом, мрачно произнес читатель и удалился с книжкой под мышкой, а Ира ушла, хромая, за стеллажи и долго рассматривала ногу, пытаясь понять: сломана она или нет – больно было ужасно. Всего-то три ступеньки, и надо же! Кое-как доковыляла до конца рабочего дня, в понедельник потащилась к врачу, а в поликлинике, где она не была еще ни разу, ее так загоняли по кабинетам, что дома она сразу заплакала, рухнув на кровать. Нога ужасно распухла, и было понятно, что ни в какое кафе она не попадет и завтра.
Два дня она лежала в лежку, время от времени принимаясь плакать: а вдруг он… не дождется! Решит, что она больше не вернется! Что тогда делать?! В четверг закрыла больничный, хотя нога еще болела, и ночь не спала, представляя, как все будет… или не будет. Собиралась, как на прием к английской королеве, меняла джинсы на юбку и обратно, вывалила все из гардероба в поисках красивого лифчика – да где ж он, черт побери?! И трусики?! Хотела все бросить на полу, но потом все-таки запихнула кое-как обратно в шкаф. Уже в лифте слегка опомнилась: что это я?! Лифчик, трусики?! И мысль о том, что нельзя оставлять беспорядок в квартире, а то вдруг… Что – вдруг?! Ты что, собралась сразу привести его домой? Ой, мама!
Как ни копалась, все равно примчалась в кафе раньше обычного и волновалась так, что дрожали руки. Господи, а вдруг он не придет?! Пришел. Увидев Андрея, Ирина мгновенно успокоилась – он был точно такой, как она помнила, и сразу посмотрел на ее привычное место, никого там не обнаружил, расстроился и мрачно опустился на свой стул. Ира сидела прямо у него под носом, он время от времени утыкался в нее печальным взглядом и… не узнавал! Это было так забавно, что она с трудом удерживалась от смеха. И вот теперь ехала в его машине… а куда, собственно?!
– А куда мы едем?
– В Филимоново! Это такой поселок, довольно бестолковый. Там дядя мой жил, отцов брат. Двоюродный. Оставил мне дом, а я еще соседний участок прикупил, когда задумал дом строить.
– Понятно. А как ты думаешь, может, нам заехать куда-нибудь? В магазин? Там же дети, а мы с пустыми руками!
Андрей улыбнулся:
– Ладно. «Ашан» будет по дороге, заедем. А я и не подумал! Варька, правда, ругается всегда, что эти игрушки девать некуда…
– А мы что-нибудь мелкое купим! Сколько им лет?
Тут Андрей забуксовал, не в силах сообразить, кому сколько лет, но как-то вычислили: пацаны в первом классе учатся, это он точно знал, а Люша года на три-четыре старше, так что… А Танечка совсем мелкая – полтора-два, не больше! Или два с половиной?!
– Люша? Какое имя славное!
– Вообще-то она Люся.
– Андрей, а как она? Ну, справляется? Она ходит?
– Ходит, ты что! У нее легкая форма, слава богу! Она даже не захотела на первом этаже жить, только на втором, с пацанами! Специально, чтобы по лестнице подниматься. Она такая упорная. Очень способная девочка. Увидишь! Лестницу эту уже Глеб сделал, сам. Таня внутри не стала проектировать, только наметила. Поэтому построили коробку на два этажа, лестница была самая простая, а Глеб придумал очень интересно, с деревянным желобом!
– Как это – с желобом?
– Как горка, чтобы съезжать! Так здорово, дети в восторге…
Ирина бродила по магазину, выбирая подарки, и вдруг оглянулась: Андрей смотрел на нее издали – таким пристальным, даже суровым взглядом, что она похолодела. Всё вдруг исчезло: стеллажи, тележки, покупатели – нет ничего, одна гулкая космическая пустота, и сквозь эту слепящую пустоту она пошла к Андрею, все убыстряя шаг, с ходу обняла и прижалась всем телом, чувствуя ком в горле. Они постояли, обнявшись, потом Ира подняла голову и спросила шепотом:
– Что ты?
– Не знаю. Я не ожидал, что все так…
– Так серьезно?
– Да. По-настоящему.
– Я тоже. Мы же просто пили кофе. За разными столиками. И все.
– Нет. Не просто. Это все очень не просто. Мне кажется… нас с тобой… Таня свела. Ты не думай, я не сумасшедший! Просто она все время говорила, что обязательно найдет мне хорошую женщину. Оттуда, мол, ей все будет видно. Ну, с небес. И нашла! Тебя.
– Как это может быть?
– А ты забыла, как наше кафе называется?
– А я и не знала никогда. Я вдаль плохо вижу, поэтому никогда вывески не читаю. А как?
– «У Татьяны»!
– Нет!
– Да! Я потому туда и зашел сразу, как они открылись. И стал приходить. Приятно было думать: к Тане пойду. А потом ты появилась. Я сразу тебя заметил, правда.
Ирка вдруг ахнула:
– Господи!
– Что?!
– Ты подумай, никогда я во все это не верила, но что ж получается?! Накануне к нам в библиотеку пришла одна дама, она когда-то там работала, давно на пенсии, но время от времени заходит. Пришла и принесла пирожные, такие вкусные! И рассказала, что открыли новое кафе – вот оттуда и пирожные. А я же люблю, ты знаешь! Она меня так настойчиво уговаривала, все объясняла, как найти – я даже раздражаться начала: и что, думаю, пристала со своим кафе! Но утром все-таки пошла – раньше я этой дорогой на работу не ходила, поэтому и не видела, что открылось. Ну вот! Пришла – а там ты!
– А что необычного-то?
– Знаешь, как ее зовут, даму эту?! Татьяна Ивановна!
– Ну, вот видишь!
– Мистика какая-то! А почему ты со мной не заговорил ни разу? Стеснялся?
– Я собирался заговорить, все придумывал подходцы. Я не очень это умею. Решил – в понедельник. Все выходные думал, как это будет.
– А я не пришла…
– Я так расстроился! Просто чудовищно! Разволновался. Думаю: ну, дурак! Как я ее теперь найду? А вдруг что случилось?!
– А как бы ты меня искал?
– Сам не знаю! Потом уговорил себя, что ты в отпуск ушла. Решил: буду ждать месяц, а потом…
– А потом не узнал! Всего-то четыре дня меня не было!
– И не говори! Но ты не за свой столик села и подстриглась, а я уже настроился месяц ждать…
– Я ногу подвернула, поэтому не приходила! И тоже хотела с тобой заговорить, но ты опередил…
– Да, смешно получилось – не узнал! Ладно, как-нибудь справимся, правда? – Андрей поцеловал ее в висок, а Ира погладила его по щеке:
– Мы постараемся.
– Ну что, ты выбрала, что хотела?
– Да. – Ира оглянулась в поисках тележки, оказалось, та осталась у стеллажа с книгами. – Я подумала, что Люше надо книгу купить. Она любит читать?
– Да только и делает, что читает! У них книг полно, целая библиотека.
– Я нашла замечательные сказки, и картинки забавные, а то сейчас редко хорошие иллюстрации делают. Только дорогая, ничего?
– Ничего. Вот посмотри-ка! – И Андрей сунул ей игрушку – маленького плюшевого ослика с грустными глазами.
– Ой! Ослик Иа! Где ж ты взял, я не видела такого!
– Нравится? Он последний был. Это тебе.
– Мне?!
– Ну да. Мне почему-то показалось, что тебе нужен такой ослик.
– Нужен! Я всегда хотела! Как ты угадал? Потрясающе! Нас было четыре подруги в институте: Винни-Пух, Пятачок, Кролик и я, ослик, только не Иа, а Антипка!
– Почему же ты ослик? И почему – Антипка?!
– Не знаю, они говорили – похожа на Иа, хотя я вроде не такая унылая. Антипка – по фамилии, я же Антипова!
– Ты милая. И вовсе не похожа на ослика. Ты похожа на птичку. Синичка!
– Почему?!
– Ты первый раз в апреле пришла. В голубой шапочке.
– Да, у меня есть голубая беретка! Наверно, в апреле, правда.
– У меня в офисе балкон, я там кормушку повесил. Прилетают всякие воробьи-синицы и одна маленькая, с голубой головкой! Ты как вошла, я сразу эту синичку вспомнил. Потом, когда приходил в кафе, всегда смотрел: прилетела моя Синичка или нет? В голубой шапочке.
– В беретке!
– Ну в беретке. Главное, что ты прилетала.
– Вот все ты врешь! Это ты сейчас придумал!
– Чистая правда.
– А меня бабушка птичкой называла…
– Вот видишь, все одно к одному!
Они наконец выбрались с Кольцевой и теперь ехали какими-то проселками. Андрей уверенно вел машину, поглядывая на Иру, которая все думала про себя: «Не может быть! Что я делаю? Я сошла с ума…»
– Андрей, а ты вообще кто? – вдруг спросила Ира.
– В смысле?
– Ну, я химик, а ты?
– А-а! Юрист.
– Юрист?! Я почему-то подумала, что ты архитектор или строитель. Ты ж сказал, что дом строил!
– Ну, не сам же строил-то, я людей нанял. Да, юрист. У меня контора. Дом офисный рядом с кафе, знаешь? Вот там, на седьмом этаже.
– А сколько тебе лет?
– Сорок пять. С хвостиком. Много?
– А мне тридцать три. Тоже с хвостиком.
– Девчонка! А ты что, правда химик? Мне казалось, что ты такая… гуманитарная! Почему-то подумал, что ты обязательно должна писать стихи.
– По образованию химик. А так ты угадал – я очень даже гуманитарная! И стихи пишу, правда.
– Дашь почитать?
– А ты что, любишь поэзию?
– В меру.
– Так и знала, что ты это скажешь!
– А где ты работаешь? В библиотеке, да?
– В детской. Зарплата, конечно, маленькая, но я искала что-нибудь… необременительное. И недалеко от дома. Потому что не хотелось опять на завод.
– На завод?!
– Химзавод, да. Я технологом была, как мама. А когда замуж вышла… В общем, он хотел, чтобы я дома сидела. Вот я и сидела.
Ира задумалась и помрачнела. Андрей молчал, не лез с вопросами: захочет – сама расскажет.
– А ты какой юрист – адвокат?
– Скорее, нотариус. Оформление сделок, разводов. Завещания, брачные контракты, всякое такое.
– А-а! И что, у нас тоже брачные контракты оформляют?
– Да, сейчас модно стало.
– А у меня не было никакого контракта. Я замуж поздно вышла, почти в тридцать. Сильно его любила. Он был… очень требовательный. То не так, это не эдак. Но я старалась, хотя мне трудно давалось. Я ведь девочка интернатская, не домашняя…
– Как – интернатская?!
– Так. Я детство в Вологде провела, у бабушки. Мама с отцом рассталась, второй раз замуж вышла, у них свои дети, мальчик и девочка. Потом бабушка умерла, мама меня в Москву забрала, но… В общем, отдала в интернат. Я дома только на каникулах бывала.
– Господи, что за люди!
– Нет, ты знаешь, мне просто места у них не было, тесно очень жили.
– Тесно жили!
– А когда за Арсена вышла, он меня воспитывать начал, потому что я плохая хозяйка. У него мама армянка и еще три старшие сестры, он в этом женском царстве таким принцем вырос – у армян очень трепетное отношение к сыновьям. А я ни готовить толком не умела, ничего. Он придет, сядет ужинать, попробует мою стряпню – все в мусоропровод и уходит к маме или в ресторан, а я сижу реву…
– Ничего себе…
– Потом всему научилась, все умею: и толму, и айлазан. Пряности выучила. Так что я хорошо готовлю, правда. Ребенка я очень хотела, а он говорил: какая из тебя мать – ты за мужем ухаживать не умеешь… Господи, и почему я тебе об этом рассказываю?!
– Потому что мне интересно.
– Знаешь, оглядываюсь назад и думаю: что я за дура такая была? Просто свет клином у меня на нем сошелся! Когда погиб, еле выжила. Себя не помнила. А потом… А потом оказалось, что он все это время мне изменял. И когда встречались, и когда поженились.
– А как ты узнала? Может, это и неправда?!
– Правда. Не хочу об этом говорить. Было и прошло.
«И зачем я только завела этот разговор?» – расстроилась Ира. Андрей покосился на нее, в очередной раз куда-то свернул и затормозил:
– Ну вот, приехали! – Потянулся к ней и поцеловал, очень нежно, и по щеке погладил: – Не переживай так, Синичка! Все будет хорошо! Пойдем.
Глава 2 Пряничные страдания
Дом стоял в глубине большого участка и действительно напоминал маленький замок с черепичной крышей и башенками-дымоходами.
– Как пряничный домик! – восхищенно произнесла Ирина, разглядывая затейливую отделку «замка». Но тут в дверях появилась хозяйка пряничного домика с ребенком на руках и радостно закричала:
– Ой, какие люди! Андрюша, ты молодец, что приехал! Глебу звонил? Ну что ж ты! Сейчас сама позвоню!
– Варь, познакомься – это Ира! И не суетись ты, мы ненадолго. Я хотел Ире дом показать.
– И покажешь! Здравствуйте, Ира! Я очень рада! И дом посмо́трите, и поужинаете, а захотите – и переночуете. Куда торопиться-то! Приедет раз в сто лет, и пожалуйста – мы торопимся! Глеб, – переключилась она на телефон, радушно махая рукой: проходите, проходите! – Глеб, Андрей приехал! Ты где? Да?! Вот хорошо! За детьми заедешь?
Ира увидела, что у Андрея загорелись уши и даже шея покраснела. Она тоже растерялась – переночуете, ничего себе. Что ж делать-то? Господи, как неловко! А Варька, которая вроде бы говорила по телефону, все это сразу заметила и слегка удивилась, но подумала: ладно, потом разберемся.
– Слушайте, вы не помрете до ужина, а? А то мне надо малу́ю кормить, потом укладывать, а там Глеб и ребят привезет. Давайте я вам сейчас перекусить дам?
– Варь, да не суетись ты, говорю!
– Не суетись! Как это – не суетись?! Ой, как же я рада тебя видеть! – И Варька звонко чмокнула Андрея – в одну щеку, в другую, а заодно и Ирину, которая растерянно ответила и промазала, а потом – до кучи – и «малу́ю» расцеловала. Да, правда, думала Ирка, тепло, светло и пирогами пахнет! Варя ей нравилась – веселая, живая, непосредственная, но и вызывала… что-то вроде легкой ревности.
Как ни отнекивались, Варвара усадила их за стол, моментально накрыла, натащила пирогов, бутербродов каких-то понаделала:
– Так, вот чай, кофе, сахар… Ириш, ты давай хозяйничай, не стесняйся! А я пошла кормить, а то такой концерт начнется!
– Сколько ей? Вашей девочке? – спросила вдогонку Ирка.
– Год и семь месяцев нашей девочке! И все кормлю, ага! Завязывать пора, но никак не получается. Угощайтесь! Андрей, ты потом сам Иришу по дому поводи, ты ж все тут знаешь!
Андрей рассмеялся:
– Ну все! И тебя удочерили! Ириша – как хорошо она придумала, правда?
– Меня никогда так не называли. – У Ирки голова шла кругом.
Андрей показал ей дом, на второй этаж повел, даже заставил с горки съехать:
– Давай, не бойся! Я поймаю!
И поймал. Так крепко поймал, что Ирка вдруг вспорхнула и полетела, полетела… Хорошо, как раз Глеб приехал, а то неизвестно, куда бы и улетела. Глеб оказался высоким лохматым мужиком с веселыми глазами, а когда к ним вернулась Варька, Ира поняла, что имел в виду Андрей, говоря: любовь – как сметана, хоть ложкой ешь! Да, так и есть…
Она таращила глаза и вертела головой, пытаясь уследить за всем сразу: Андрей с Глебом, улыбаясь, хлопают друг друга по плечам, Варька хохочет и что-то им рассказывает, одновременно в очередной раз накрывая на стол; пацаны – ой, какие одинаковые-то! – скандалят, не желая мыть руки; откуда-то вдруг появившаяся бабушка – Зоя Васильевна, вот как! – укоризненно грозит им пальцем; Андрей целует тоненькую девочку, которая обнимает его за шею… Люша! Хрупкая, большеглазая… С болью в сердце Ирка увидела и вывернутую внутрь ножку, и ручку, и косящий глазик… А как улыбается! И ямочка на щеке!
Вдруг подступили слезы и так перехватило горло, что Ирка потихоньку ушла и села на лестнице рядом с горкой: ей было жалко Люшу и себя… тоже жалко! Потому что она сама вроде Люши, только снаружи этого не видно. Тоже вся вывернутая, исковерканная… И так мучительно захотелось ей такого же дома, детей, шума, беспорядка, суеты этой радостной, этой любви, что можно ложкой есть… и не иссякнет!
– А что ты тут сидишь? Ты, что ли, плачешь? Зачем?! – Люша смотрела на Ирку, наклонив голову набок, как птичка.
– Нет, что ты! Я вовсе не плачу! Просто в глаз что-то попало!
– Спасибо тебе за книгу! Я люблю сказки. Хочешь посмотреть мою комнату?
– Да, конечно! – Ирка встала и с трудом удержалась, чтобы не подхватить девочку, но та очень уверенно, хотя и медленно, стала подниматься по лестнице.
– Какая ты молодчина! У тебя очень хорошо получается!
– Ага! – Люша обернулась, глаза ее сияли. – Видишь, как я умею!
– Замечательно!
Комната Люши была полна книг и мягких игрушек.
– О, у тебя и компьютер!
– Да, папа мне купил! Давно уже. И Интернет! У меня даже свой Живой Журнал есть! Хочешь, покажу?
– Покажи! А то я не знаю, что это такое.
– Я тебя могу научить! Тоже заведешь, и мы с тобой будем там общаться!
Ирка не выдержала и погладила Люшу по голове, а та улыбнулась:
– Ты мне тоже нравишься! Ты дяди Андрея девушка, да?
– Ну да. Вроде того.
– Он очень хороший! Ты не бойся, он тебя не обидит.
– А что, это заметно? Что я боюсь?
– Мне заметно. Я многое вижу, чего другие не видят.
– А что ты еще видишь?
– Я вижу, что ты много боялась. И плакала. Раньше. А теперь у тебя есть доспехи. Ты уже не такая беззащитная.
– Доспехи?! Как странно…
– Что?
– Я сама так чувствую – доспехи и меч, правда.
– Ну, я же говорю тебе, что много вижу! Это хорошо, что вы с дядей Андреем нашлись.
– Думаешь?
– Конечно! Видишь, как у папы с Варей? У вас так же будет. Я ужасно рада, что Варя к нам пришла! Без нее мы совсем бы пропали. Ты знаешь, что Варя не моя мама?
– Знаю. А ты ее Варей называешь?
– Нет, мамой. Потому что она вправду мама. Лучше не бывает!
– А почему ты думаешь, что у нас с Андреем…
– Потому что вы с ним – как пазлы! Ты умеешь пазлы собирать?
– Умею, но не очень люблю.
– Я тоже не очень люблю, но мне надо – мелкую моторику развивает. Вот и вы друг другу подходите, как правильные пазлы. Ты же знаешь, что люди все разные? Вот мама – ей надо всех в кучку собрать, у нее любви много, очень много! И сил много, она тратит-тратит, а не кончаются. А у меня – мало. Сил мало. Я с людьми устаю быстро. Мне надо одной побыть. Я могу быть одна. Даже люблю. А мама не может. И дядя Андрей не может. Он так давно один живет, устал. Он поэтому и к нам все время ездит – нас много, мы его любим!
– А я? Могу быть одна?
– Ты можешь. Ты не устаешь одна. Ты сильная. Но тебе обязательно нужно любить кого-нибудь.
– Да, обязательно нужно…
– Тебе кажется, я слишком взрослая, да? Но мне надо быть умной, ты же видишь – я не могу бегать, прыгать, я даже пишу с трудом, на компьютере у меня лучше получается. Зато читаю много. Вот и умная.
– А сколько тебе лет?
– Почти десять.
У них за спиной открылась дверь, и появилась слегка запыхавшаяся Варя:
– Ой, Ириш, ты здесь! А то Андрей тебя потерял! Люш, ты бы пошла, поела, а, зайка? Никогда есть не хочет, такое наказание! Давай-давай! Я там тебе накрыла. – И Варька легко подняла Люшу со стула, чмокнула в макушку, поставила на ноги и легонько шлепнула по попке.
– Ну, ма-ама! Я же не маленькая! Я сама!
– А я что? А я ничего! Я тебе ускорение придаю, и все! Пойдем, Ириш, ты мне поможешь, ладно? Ничего, что я на «ты»?
– Ничего. Нормально.
Они спустились по лестнице, но внизу Варька приостановилась:
– Подожди-ка! А галерею нашу тебе Андрей показывал?
– Нет, не успел…
– Пойдем! Вот смотри! – На одной из стен было развешено множество фотографий в разнокалиберных рамочках. Ирка узнала Варю с Глебом, детей… А где же… Андрей говорил, есть их с Таней фото…
– Андрея-то узнала? Вот он, с женой. Ты знаешь про Таню?
– Да, знаю.
Ирина напряженно вглядывалась в фотографию: Андрей – помоложе, чем сейчас, никакой седины и в помине нет. А Таня красивая, очень! Удивительное какое лицо, словно… словно летящее! Брови вразлет, глаза, губы… Лицо как взмах крыла! Птица, только… раненая. В инвалидной коляске. На фоне пряничного домика.
– Это я их снимала, незадолго до Таниной смерти.
– Какая она красивая! Кого-то мне напоминает, никак не могу понять…
– Она на одну французскую актрису похожа, Андрей говорил, я забыла. Фильм был такой знаменитый – «Мужчина и женщина».
– Анук Эме! Да, что-то есть. А какая болезнь у нее была?
– Рассеянный склероз. Тяжелая штука.
– Господи… Бедная Таня…
– Да. И бедный Андрей. А ты давно с ним знакома? Почему он тебя раньше к нам не привозил?
– Ну-у… Вообще-то мы только сегодня познакомились. – Ирка страшно покраснела, прямо до слез, а Варя так и села:
– Как сегодня?! Да быть этого не может! Вы с ним так смотритесь, словно… Ну ничего себе! Вы даете, ребята! Господи, да ты что?! Ты что плачешь-то?! Ириш, ну что ты?
– Ты думаешь, я легкомысленная, да? Но мы с ним давно! Чуть не полгода! Мы в одном кафе виделись… по утрам… почти каждый день! А сегодня вот решились, наконец…
– Это что, полгода переглядывались только? Ну, это как раз на Андрея похоже. А я-то удивилась, что он вдруг такой прыткий! Ириш, да не переживай ты так! Ну что ты в самом-то деле?
– Я боюсь! Понимаешь, я обожглась очень сильно в замужестве, теперь всего боюсь! Я три года совсем одна, вообще от всего отвыкла!
– Это понятно. Я тоже… обжигалась. Ничего, жива. Мы, бабы, живучие. Крылышки опалила, подумаешь! Новые отрастут, ничего. Что ж теперь, и не жить? Всю-то жизнь под одеялом не пролежишь, вылезать придется. Не бойся, Андрей очень хороший человек, правда! Зануда, конечно, и на работе зациклен, а так – очень хороший: надежный, верный…
– И никакой он не зануда!
– А-а! Вон чего! Так ты ж влюбилась, подруга! Ну во-от, что ж такое-то…
Ирка совсем расплакалась, и Варя обняла ее, утешая:
– Да ладно тебе! Это ж хорошо, что влюбилась. А он-то – просто по уши, я ж вижу. Послушай: оставайтесь ночевать, правда. А то вы еще полгода будете вокруг да около танцевать! Ну что вы сейчас в ночи поедете, только маята: куда ехать, к кому? Или вообще не надо, или надо? И боязно, и хочется! Одна мука!
Ира невольно рассмеялась:
– Ой, Варька! Неудобно же, как ты не понимаешь!
– Неудобно знаешь что делать? Штаны через голову надевать! Тут вы на нейтральной территории, оба в одинаковом положении, а если у него – ты начнешь дергаться, у тебя – он. Я вас в старом доме помещу, одни будете, постелю в разных комнатах. А дальше – все от тебя зависит. Как ты захочешь, так и…
– От меня?! А разве не мужчина…
– От женщины все зависит, всегда. Чего она хочет и что позволяет. И потом, нам-то – проще!
– Чем это?!
– Как – чем? Мы-то всегда можем, раз – и полетела! А у них технические сложности бывают… при взлете. То закрылки не открылись, то шасси не убирается, то трап не поднимается. Ну, ты что, как будто замужем не была!
– У моего всегда всё… поднималось, – мрачно сказала Ирка.
– Повезло тебе!
– Да уж! Так повезло, что дальше некуда.
– Ириш, Андрей-то еще больше боится, я точно говорю! Ты подумай, он шесть лет уже один, да и при Тане… сама понимаешь.
– Он мне сказал, да. Но я не думала, что так буквально – один, без никого. Шесть лет! Он же… не монах какой!
– Ну, может, кто и был, я свечку не держала. Но это все не для него – случайные связи, всякое такое. Он очень семейный, правда. Детей ему надо, теплый дом, понимаешь? Не повезло ему с женой, это да…
– Ну, ей-то больше не повезло вообще-то!
– Ириш, не в том смысле не повезло, что Таня заболела. Не любила она его.
– Как… не любила?!
– Так. Я знаю. Он тебе расскажет, если сможет. И вообще-то хорошо, если б рассказал. Надо ему… освободиться от этого. Ну что, останетесь?
– Не знаю… Как я об этом Андрею-то скажу? Что он подумает?! Может, он и не хочет вовсе…
– Ну конечно, не хочет! Он на тебя смотрит, как кот на сметану! Целовались уже?
– Да-а…
– И как?
– Хорошо-о…
– Ну вот! Значит, и дальше все хорошо будет!
– Варь! Да разве это главное?! Мой муж знаешь как целовался?! И все прочее не хуже было! Я просто… в космос улетала! И что?! Всю душу мне растоптал, подонок! Еле выжила!
– Вон что… Ириш, я тебе за Андрея ручаюсь – он тебя не обидит. Правда. Неужели ты сама не чувствуешь?
Ирка смущенно улыбнулась:
– Вроде как чувствую…
– Вроде как! Ой, горе с вами! Все, решено, остаетесь! Ты знаешь как сделай: сама ему водки налей и подай, он и поймет, что ты решила остаться. Сам он пить не станет – за рулем же. И все.
– Варька, ты…
– Ну да, старая сводница, знаю! Пошли, горе мое! Ужин-то кто за нас приготовит?
– Варь, скажи, как тебе удается? Быть такой… такой… счастливой?
– Как удается… Ты знаешь, у меня жизнь-то совсем невеселая была. Тебе сколько, около тридцати?
– Тридцать три…
– И не подумаешь! А мне почти сорок. И я тогда, четыре года назад, уже слегка отчаялась – о Глебе и мечтать не могла, ребенка родить не надеялась. Понимаешь? И вдруг! Я ведь каждый вечер о ней молюсь, о Гале! Это бывшая жена Глебова. Прошу, чтобы все у нее хорошо было: и здоровье, и деньги, и все, что она хочет! Чтобы не наказывал ее Господь за то, что детей бросила! Потому что… если б она не ушла…
– Варенька, ну не расстраивайся! И зачем я спросила! Прости меня, прости!
– Да ладно! И поплакать можно, ничего. Глеб сам ее никогда бы не оставил, он такой. И Андрей такой же. Они – настоящие мужики, понимаешь? А это сейчас такая редкость! Поэтому я каждую секунду счастлива и благодарна – Гале этой, пусть у нее все в шоколаде будет, Господу, Мирозданию, Судьбе! Понимаешь?
Ирка обняла Варьку и поцеловала – понимаю! Еще как понимаю!
– Ты знаешь, – Варька еще шмыгала носом, но уже улыбалась, – я где-то прочла, что у женщины девять жизней, как у кошки. И посчитала. Так вышло, что у меня с Глебом – девятая жизнь! Значит, это настоящее. До конца времен. Ты тоже посчитай!
– А как понять, когда одна жизнь кончается, другая начинается?
– Да чего там понимать-то! Ну, изменилось что-то в обстоятельствах. Не обязательно замуж вышла, мало ли что бывает: болезнь, например, чтоб все были здоровы! Или переезд, или…
– Я поняла!
– Ну, и подтасовать слегка можно, ты ж понимаешь! – И они обе рассмеялись.
Весь вечер – пока они с Варварой в четыре руки готовили парадный ужин, а мужчины в соседней комнате обсуждали что-то свое, «мальчуковое», как выразилась Варька, – Ира вспоминала и считала. А потом, уже за столом, показала Варе руки с растопыренными пальцами, один подогнут: девять! Девять получилось! И поцеловала Андрея в колючую щеку. Он удивленно обернулся к ней, но тут Глеб начал разливать:
– Та-ак, кому водочки?
Ирка подставила стопку:
– Вот сюда! И побольше!
– О! Наш человек.
Но Ирка подала стопку Андрею:
– Это тебе! А я водку не пью.
– Мне?! Но я же за рулем! Нам же… еще ехать! Или нет?! – Он наконец догадался и страшно покраснел. Залпом выпил водку, но больше уже не пил и все пытался ей в глаза заглянуть, но Ира лишь загадочно улыбалась. Улыбалась она, и лежа в полутьме старого дома на широкой и высокой Варькиной кровати: ей прекрасно было слышно, как ходит по дому Андрей – в ванну, обратно, потом на кухню пошлепал за чем-то. Ходит и вздыхает.
– Андрюш! – закричала она наконец. – Подойди ко мне! Пожалуйста!
Он подошел и сел на край кровати, Ирка взяла его за руку и тихо сказала:
– Ложись со мной… если хочешь…
– Если хочешь! Да я об этом с утра мечтаю! А ты снимешь… эту штуку?
«Эта штука» была Варькиной ночнушкой, в которой Ира слегка утонула. Она засмеялась и быстро стащила с себя рубашку. Андрей тут же потянулся к ней, но Ирка не далась:
– А ты? Давай тоже! Снимай! – Андрей был в одних трусах.
– Закрой глаза.
– Да темно же!
– Все равно! Ну, пожалуйста! Я стесняюсь…
Ирка прикрыла глаза ладошками – давай!
– Не подсматривай! – Он неловко стянул трусы и влез к ней. – Господи, это не кровать, это какой-то трон, ей-богу!
Андрей волновался, и бормотал невесть что, и предполагал, что придется долго заговаривать ей зубы… искать подходы… и надеялся, что все получится… и боялся, что не выйдет, и… Но оказалось, что у Ирки совсем другие планы! Она тут же прильнула к нему всем телом, обняла и поцеловала. Ее рука скользила по груди, по плечу Андрея, потом прихватила его за затылок, погладила по спине, слегка царапнув ногтями, потом перебралась на живот, еще пониже… Он был так ошарашен, так обомлел, что какое-то время даже не отвечал ей! Только вслушивался в себя, в свои ощущения, испытывая невероятное чувственное изумление – весь его прежний опыт не годился! Да и какой там опыт…
Ирка оторвалась от него, приподнялась, вгляделась:
– Андрюш, ты что? Ты… не хочешь меня?
– Я?! Я не хочу?! – Это было как взрыв. Он словно резко проснулся – и ринулся в атаку, Ирина только ахнула. Ахнула, застонала, вцепилась в него, прижалась, обняла – и вся раскрылась навстречу его жадному нетерпению…
– Ммммммм! Как же мне хорошо! – Ирка рассмеялась. Словно хрустальный колокольчик, подумал Андрей, и чмокнул ее в макушку. Он с трудом приходил в себя, а Ирка все гладила его теплой рукой по груди, заросшей волосами, и мурчала, как разнежившаяся кошка: – Как ты мне нра-авишься! Ты такой… теплый, уютный! Сильный! Немножко увалень…
– Увалень?
– Ну, как медведь! И шерстяной! Ты знаешь, раньше у меня заросшие мужчины вызывали отвращение, а ты… мммм! – Ирка потерлась щекой о его волосатую грудь. – И пахнешь так приятно! Правда, у нас хорошо получилось?
Андрей пребывал в полном смятении: Ирка так льнула к нему, так ласкалась, так целовала – в какие-то совершенно немыслимые места! Так хотела его, так радостно отдавалась… и теперь так явно была довольна!
– А у нас… получилось?
– Андрюш, да ты что?! Ты разве ни видишь, что со мной делается? А ты… ты – мой герой, вот! Как мне нравится, что ты смущаешься, и волнуешься, и вообще! Это так… по-человечески!
– Ну, я ж и есть человек…
– Да, ты есть человек! А мог ведь оказаться… инопланетянином…
Разве можно было объяснить Андрею, что она-то жила как раз с инопланетянином – с Чужим или с Хищником. С чудовищем.
– Инопланетянином?! Господи, Ийка! – Андрей стиснул ее изо всех сил. – Иечка! Это невозможно! Синичка! Ты такая… такая моя! Я тебя больше не отпущу, вот что!
– Совсем? Никогда?
– Никогда!
– И в туалет не отпустишь? А то я описаюсь сейчас!
– Ну вот! Я ей про любовь, а она – описаюсь!
И они оба захохотали и смеялись, как сумасшедшие, и Ирка чуть было и вправду не описалась и спешно полезла через Андрея, а он ущипнул ее за попку, а когда она вернулась, все началось снова, и еще лучше, чем первый раз!
– Ты выйдешь за меня? – спросил Андрей, чуть отдышавшись.
– Так сразу?!
– А чего тянуть-то? И потом, что значит – сразу! Мы ж полгода друг к другу присматривались!
– И то верно. Андрюш, ты знаешь, я ведь могу и так, правда. Это вовсе не обязательно – жениться.
– Обязательно. Ты что, отказываешь мне, я не понял?!
– Я согласна, согласна! Ты что!
– То-то же.
– Знаешь, что я поняла? Я ужасно сама себе нравлюсь, когда с тобой. Ведь мы всегда подстраиваемся к другому человеку, правда? Иногда совсем себя теряем… А с тобой… У меня такое чувство, что я нашла себя прежнюю! А то мне казалось, что меня вообще больше нет.
– Ты очень даже есть. Слушай, я в понедельник прямо и договорюсь. Ну, чтобы расписаться, не ждать долго. Может, на следующей неделе получится. Ты какую хочешь свадьбу?
– А ты?
– Я? Даже не знаю…
– У меня уже была свадьба… такая… пышная. Больше не хочу. Давай как-нибудь простенько, а? Можно в нашем кафе!
– Это хорошая идея. Но все равно придется и тут праздновать, у Варьки с Глебом. Как же без них!
– Конечно! Без Варьки вообще… мы бы еще сто лет раскачивались.
– А-а! Так и знал! Это она тебя… сподвигла?
– Она! Мы поговорили с ней немножко… про тебя.
– И что она рассказывала?
– Хвалила тебя очень!
– Варька! А еще?
– Ну… она сказала… что ты… был несчастлив в браке. Прости, не надо было об этом, да?
– Ничего. Что ж теперь. – Андрей вздохнул и задумался, рассеянно поглаживая Ирку по спине, а она поцеловала его в подбородок, потом в губы, чуть приподнявшись. Он усмехнулся: – Ничего, все нормально.
– Андрей, а можно я спрошу? Такое… личное?
– Ну, спроси. – Он почему-то сразу понял, о чем она, и помрачнел.
– Ты изменял Тане?
– Да, – ответил он, помедлив. – Да. Так получилось, что…
И опять замолчал.
– Андрюш, прости! Не говори, если не хочешь! Просто… для меня это важно.
– Да, я понимаю. Я помню про твоего мужа.
– Я все расскажу тебе, если захочешь, но потом, ладно? Сейчас я так счастлива! Не хочу даже вспоминать! Господи, и зачем я вообще завела этот разговор?! Все испортила…
– Ничего ты не испортила. Это и в самом деле важно. Синичка, я не собираюсь тебе изменять. Я вообще-то вовсе не… не Казанова какой-нибудь! Я «ботаник», зануда, тихий еврейский мальчик со скрипочкой. А с Таней у нас все было… не просто.
– Почему ты – тихий еврейский мальчик со скрипочкой?!
– Потому что так и есть. Дед у меня – еврей, и я на четверть. И на скрипочке я играл в детстве. Это бабушка придумала: ребенок должен заниматься музыкой! А я и не рыпался, с бабушкой не поспоришь: «Ryby i dzieci głosu nie mają!», и все! Это по-польски: «Рыбы и дети голоса не имеют!» Бабушка полька была. Я младший, Максим на восемь лет меня старше. А когда я родился, бабушка уже не работала, вот она мною и занималась. Культурно воспитывала! Но я особыми талантами не блистал, прямо скажем. И сразу понятно было, что стану юристом, у нас все в этой области подвизались: и дед, и мама, и отец…
– А бабушка?
– Бабася-то? Я звал ее Бабася – баба Ася. Энгельсина Матвеевна. Такое вот революционное имя. На самом деле – Ангелина, Анджелина. Но ее мать второй раз замуж вышла за какого-то комиссара, вот отчим и переделал в соответствующем духе. Бабася была аккомпаниатором у одной известной певицы, сопрано. Тогда известной, сейчас забыли совсем. Я ее обожал! Восемьдесят четыре года прожила. Красавица была! На нее до последнего мужики заглядывались. Жалко, не дожила – она бы тебе понравилась! А ты – ей.
– Думаешь?
– Уверен. А вот Таня ей совсем не нравилась. Вообще-то Таня никому не нравилась. Кроме меня. Только мама с отцом скрывали, политес разводили, а Бабася всегда все прямо говорила: я в таком возрасте, что могу уже не притворяться! Это я позже узнал, какие за моей спиной шекспировские страсти разыгрывались. Мне потом Макс рассказал. Бабася сразу родителям заявила: этой девице нужна московская прописка! А Ендрека она вовсе и не любит! Таня-то из Ярославля…
– Ендрека?!
– Это по-польски, уменьшительное от Анджей. Видишь, сколько кровей во мне намешано! Бабася, кроме русского, еще по-польски говорила и по-немецки, а идишу ее уже дед научил. На четырех языках ругались, оба были темпераментные. Но это так, театр, разрядка. Любили друг друга. Поэтому Бабася и огорчалась, что я Таню выбрал – ни поругаться с ней, ни помириться, говорила…
Глава 3 Ендрек
Таня не понравилась никому, даже Максу, который прилетел на свадьбу из Иерусалима. Но все старались не показывать своих чувств – ради Ендрека, влюбленного по уши. Андрей познакомился с Таней в одной случайной компании. Он уже работал, а Таня училась в МАРХИ на последнем курсе. Добивался он Татьяны долго – целый год! И не помнил себя от счастья, когда наконец согласилась.
Умная, жесткая, даже циничная. Холодная и расчетливая. Ничего этого очарованный Ендрек не понимал, а видел только: изящная, красивая, стильная, остроумная, блестящая! Таня прекрасно знала о своем сходстве с Анук Эме и подчеркивала его, одеваясь и делая макияж в стиле 60-х. Только Ендрек-то никак не годился на роль Жана-Луи Трентиньяна! Он был застенчив, слегка полноват, и уши торчали, и косолапил, и ничего не понимал в искусстве. Главное его достоинство было – квартира, как правильно и поняла Бабася: «Ta wiedźma będzie go kochać tylko wtedy, gdy rak jest świsne!»[2]
К тому времени их большая семья поредела: умер дед, Макс с женой Ниночкой уехал в Израиль, и в большой квартире стало как-то слишком пустынно и тихо. Андрей не сразу заметил, что с приходом Тани ничего не изменилось: они оба много работали. Но вдруг почему-то прекратились привычные общие посиделки за круглым столом вокруг самовара, электрического, конечно. Все зарылись по своим норкам, к ним с Таней не заходили: ну, что мы вам мешать будем, и Андрей сам заглядывал к родителям или Бабасе, словно в гости.
Он не сразу понял, что Татьяна совсем не в восторге от его родственников – ну ладно, язвительная и резкая Бабася, но мама! Прекрасная мама, неимоверно добрая и отзывчивая, эмоциональная – вся в деда. Которую никто и никогда не звал по имени-отчеству – Софья Михайловна, а только Сонечка. А папа? Такой деликатный и стеснительный, что Бабася всю жизнь дразнила зятя «облаком в штанах», что отнюдь не мешало Илье Николаевичу оставаться блестящим и успешным адвокатом.
Ендрек обожал своих родителей, и брата, и деда с Бабасей и всегда думал, что у него все сложится точно так же, как у мамы с папой или у Макса с его Ниночкой, – да разве может быть по-другому? Разве бывает?! Оказалось, бывает. Таня смотрела на его «предков», как она выражалась, с иронией. Кухонные посиделки ее раздражали – «опять развели свое словоблудие», а мамина бурная «личная жизнь» казалась показной и лицемерной. Личная жизнь Сонечки выражалась в том, что друзья обоего пола, коих у нее было множество, постоянно плакались ей в жилетку, занимали деньги, обременяли своими проблемами и даже порой приходили пожить на некоторое время, а Сонечка утирала всем слезы, одалживала денег, бегала по чужим делам и с радостью принимала очередную неприкаянную душу.
У Тани были свои друзья: архитекторы, художники, дизайнеры, своя жизнь, куда она не допускала Андрея – тебе это не интересно! И сама почти не вникала в его дела: ужасная скука эта твоя юриспруденция. Ребенка Таня не хотела – какой ребенок, надо делать карьеру, зарабатывать деньги, добиваться известности, добывать заказы – ты что, не понимаешь? Да и откуда ему взяться, ребенку… Таня дарила себя Андрею гомеопатическими дозами. Снисходила время от времени. Подавала милостыню. Нехотя уступала после долгих ритуальных танцев и уговоров: устала, голова болит, ноги ломит, времени нет, отстань, ну ладно, черт с тобой, давай, только быстро! И он всегда чувствовал себя псом, который наконец выклянчил вожделенную косточку. Служи, Ендрек, служи!
Неизвестно, чем бы кончился их брак, если бы Таня не заболела. На самом-то деле она была больна уже давно, очень давно, лет десять, как потом оказалось – болезнь развивалась медленно, и Таня не придавала значения проявляющимся симптомам: у всех бывают порой приступы слабости, иногда вдруг подворачивается нога, дрожат руки или темнеет в глазах. Усталость, переутомление, много работы – вот я отдохну, и все пройдет. И проходило, и опять возвращалось, а в один совсем не прекрасный день у нее вдруг отнялась левая нога. Думала – отсидела, но никак не проходило, никак. Ей долго не могли поставить диагноз, даже начали лечить от чего-то совсем другого, но потом Андрей нашел специалиста, который и сказал им страшную правду: рассеянный склероз! И сразу стало понятно, почему у нее все время выскальзывали из рук чашки и так трудно было подниматься по лестнице. И падала часто, и в глазах внезапно двоилось, и ноги немели, и вдруг пронзало резкой болью – «стреляло» в шею или спину. Все стало понятно.
Тане было двадцать восемь, когда они узнали. Всего двадцать восемь. Андрею – тридцать. У них началась совсем иная жизнь. Постепенно Андрей прочел все, что только мог найти, о самой болезни, ее возможном лечении, о последствиях и прогнозах: ночью разбуди, мог рассказать о том, что происходит с миелиновыми оболочками нервных волокон…
Прочел, осознал и принял – а что оставалось делать?
Таня – не приняла.
Не хотела принимать.
Было все: отрицание болезни, гнев, отчаяние, ужас, депрессия.
Смирения так и не наступило.
Через пять лет умер от инфаркта отец Андрея, за ним очень быстро ушла мама – не смогла жить без обожаемого Илюши. Осталась только Бабася. И Андрей с Таней. Андрей работал, и Тане, которая уже плохо двигалась, волей-неволей приходилось обращаться за помощью к ненавистной старухе – и чем больше сострадания проявляла к ней Бабася, тем больше Таня ее ненавидела: почему?! Почему эта старая грымза все живет, а я, такая молодая… Андрей же думал: как несправедливо, что эта болячка прицепилась именно к Тане – самостоятельной и самодостаточной! Даже первые слова, что она произнесла в младенчестве, были: «Я сама!» И вот теперь она ничего не могла сама: болезнь, столько лет дремавшая, разгоралась подобно пожару – очень скоро появились поручни и перила в туалете и ванной, понадобилась инвалидная коляска, специальная кровать…
И самое страшное, что Таня не хотела бороться. Андрей изо всех сил старался облегчить и украсить ей жизнь: чуть не каждый день приносил цветы, скачивал любимые фильмы и музыку, уговаривал погулять – но Таня не хотела, чтобы кто-нибудь видел ее на костылях, а тем более в коляске! Не хотела ни цветов, ни музыки, ни кино, ни книг, ни друзей – ничего. И врачи твои мне не помогут, все шарлатаны! И гимнастику эту идиотскую делать не буду, отстань!
В квартире все время было холодно, потому что жара ухудшала Танино состояние, и Бабася ходила наряженная, как эскимос, – в дедовых унтах и старой шубе. Потом Андрей нашел сиделку, которую все деликатно называли помощницей, – сорокалетняя медсестра Ольга, очень хорошо державшаяся с Таней. И Таня не капризничала с ней, не устраивала истерик, как Андрею: сиделке платили деньги, она отрабатывала, все понятно. Таня предпочитала не помнить, что платит за все Андрей: и за сиделку, и за кресло с кроватью, и за безумно дорогие лекарства, и за консультации с еще более дорогими специалистами, и за поездки в Израиль и Германию. Ничего не помогало, ни лекарства, ни специалисты, ни Германия с Израилем: то замедляясь, то убыстряясь, процесс шел своим чередом.
Потом умерла Бабася. В один день. Приступ, «Скорая», больница – и все. Горе было… неподъемное. Ендрек остался совсем один. Брат далеко, не дотянешься. Приехал домой с кладбища, а Таня… в Ярославль собралась. К родителям. Уперлась – ни в какую! Хочу домой. Куда, зачем?! Там ни условий, ни врачей, ничего! Я не смогу к тебе ездить, ты же должна понимать! И Ольга не поедет в Ярославль! Где ты там найдешь опытную сиделку?!
– Не надо мне ничего! – кричала Таня. – Скорей помру! Освобожу тебя! Думаешь, ничего не понимаю?! Господи, за что мне это?! За что-о…
Вызвал врача, вкололи ей что-то, заснула, а он ходил всю ночь проверять: дышит или нет. И тоже думал: за что?! Господи, за что…
Таня перестала с ним разговаривать, совсем. Андрей сам не понимал, как он держится – что его держит? Нет, то, что он Тане нужен, это понятно. И как нарочно, на работе все шло не то что гладко – катилось как по маслу! Его контора начала процветать, появились богатые клиенты, и деньги пошли достойные, даже машину себе купил. Иногда по вечерам просто ездил по Москве, катался – только бы домой не идти, только бы не натыкаться на ненавидящий Танин взгляд, не слушать ее истеричные речи, не маяться бессонницей, не биться головой о стену: за что?! Но в конце концов возвращался, и слушал, и маялся, и об стену бился, и умирал от сострадания и любви…
Да, он все еще любил ее.
А потом как-то ему неожиданно позвонила Ольга, он сорвался, бросив важного клиента, и помчался домой, где уже был вызванный ею психиатр: Таня пыталась покончить с собой. У нее почти не было для этого возможностей, но она придумала: на лоджии – низкая балюстрада, вот Таня и выехала туда на коляске, подняла сиденье повыше и хотела просто перевалиться через перила – шестой этаж, хватило бы. Но не получилось – ноги застряли в тяжелой коляске.
Когда Андрей приехал домой, Таня кричала – не плакала, не рыдала, а кричала на одной ноте: ааааааааааааааа! Замолкала и снова кричала. И так второй час, сказала Ольга. Сейчас уже реже, лекарство действует. Он думал, это никогда не кончится. Но Таня все-таки замолчала к ночи и заснула. Утром он подошел к ней:
– Как ты, родная?
– Я тебя ненавижу, – злобно произнесла Таня, глядя на него запавшими глазами. – Тюремщик.
– Танечка, что ты говоришь?!
– Это ты виноват, ты! Если б я за тебя не вышла, ничего бы не было!
– Таня, ну что ты! Ты же прекрасно знаешь, что это все давно началось… Еще до меня…
– А ты знаешь, почему я за тебя вышла? Нет? А я скажу: из-за квартиры! Да-да! Из-за прописки! А ты думал?! Мне надо было в Москве зацепиться! Что бы я делала в этом занюханном Ярославле? Меня же тошнило от тебя! От любви твоей слюнявой! От всей вашей семейки – мамочка, папочка! Как я вас ненавижу!
Андрей постоял, посмотрел на нее и ушел. Совсем ушел. Увеличил Ольге зарплату, чтобы и по ночам оставалась при Тане, оставил денег – на еду, на лекарства и врачей, а сам снял квартиру. Не сразу. Сначала напился – первый раз в жизни. Напился, какую-то девицу подцепил – тоже первый раз в жизни, проснулся утром у нее в постели, потом уехал к дядьке в Филимоново и там квасил с ним вместе целую неделю – дядька был большой любитель этого дела. Потом у него на почве непривычного пьянства случился сердечный приступ, и Андрей дней десять провалялся в больничке. Со спиртным он завязал, а с девушками – нет. Все случайные и все, как ему казалось, на одно лицо: хоть блондинки, хоть брюнетки, хоть лысые! Ну да, одна попалась совсем лысая, с татуировкой на гладком черепе – паук в паутине. И как только не подхватил ничего, никакой болячки! Потом слегка опомнился, пришел в себя, вернулся разгребать завалы на работе. И завел «отношения» с секретаршей, которая давно смотрела на него с обожанием. Наплевать! Все катилось в тартарары, к чертовой матери – и пусть. Все было напрасно, вся жизнь была напрасна, всё зря. Так прошло месяца три. И вдруг позвонила Ольга:
– Андрей, с тобой Таня хочет поговорить.
Голос в трубке был совершенно не похож на Танин и дрожал:
– Андрюша! Вернись домой, пожалуйста! Ты мне нужен! Я прошу тебя! Умоляю! Ну, хоть на один вечер, пожалуйста…
Конечно, он приехал. Таня лежала в кровати, и он ужаснулся ее страшному виду: худая, бледная. Но она улыбнулась ему! Андрей присел к ней, взял за руку.
– Вот видишь, я не могу сама даже прикоснуться к тебе. Ни обнять, ни поцеловать… Ничего не могу… Андрюша, прости меня! Прости меня, прости, прости, прости, прости, прости…
Она повторяла и повторяла, пока Андрей не обнял ее, заставив замолчать. Ничто не дрогнуло у него в душе. Все умерло. Он вздохнул, осторожно уложил Таню на подушку, погладил по голове:
– Ну что ты, не переживай. Я же все понимаю, – и пошел было к выходу, но замер, услышав печальный Танин голос:
– Ты разлюбил меня. И я заслужила это. Но все равно прошу: вернись домой. Я не буду больше тебе досаждать. – И совсем тихо добавила: – Просто мне было очень страшно. Ужасно страшно. А сейчас я не боюсь. Так замечательно, что я могу больше не бояться!
– Не боишься?
– Нет.
– А почему?
– Не знаю. Может, просто устала бояться?
Андрей вернулся к ней, опять сел рядом.
– Мне тоже было страшно.
– Я знаю. Прости меня. Все, что я наговорила тогда… Это только часть правды. Я так вам завидовала. Тебе – завидовала. Потому что не умела, как вы, просто радоваться, просто любить. Просто жить. У меня никак не получалось. На самом деле я себя ненавидела, не вас. И только сейчас это все поняла. А теперь я умею. И жить, и радоваться. И любить. Но… поздно.
Андрей смотрел на нее во все глаза:
– Тань, а что случилось?! Почему ты вдруг…
– Да ничего не случилось. Просто я смирилась наконец. Я поняла, что бесполезно спрашивать: за что? Никто не ответит. Надо было спрашивать: зачем? Для чего? Понимаешь?
– И ты знаешь – зачем?
– Да. Чтобы я научилась любить.
Конечно, он вернулся домой. Но Тане не поверил и каждый вечер открывал дверь с опаской: что его ждет? А Таня улыбалась ему, никаких истерик не устраивала, была мила и приветлива. Спрашивала, как у него дела, – и слушала. И сама что-то рассказывала «из своей жизни» – какая у нее могла быть жизнь, господи! Но оказалось, что была: Таня смотрела кино и новости по телевизору, слушала музыку и аудиокниги, любовалась цветами, что развела на лоджии Ольга, – ты представляешь, бабочка прилетала! На шестой этаж! Андрей осторожно к ней присматривался: что за внезапная перемена? Что за эйфория такая?! Попытался выведать у Ольги, но та пожала плечами: сама удивляюсь, Андрей Ильич. Правда, призналась, что говорила пару раз с Таней и даже вопреки запрету рассказала, что у Андрея был сердечный приступ – может, Таня испугалась, что одна останется? Родителям-то она не сильно нужна…
Постепенно Андрей слегка оттаял и сам начал улыбаться Тане, разговаривать с ней. Вдруг оказалось, что она прекрасная рассказчица: с таким юмором пересказывала ему увиденные фильмы, что он хохотал до слез. Андрей вдруг понял, что его стало тянуть домой, к Тане, и старался приходить пораньше, принося с собой нужные бумаги. Но один раз так заработался у себя в кабинете, что… забыл про нее! Забыл, что нужно уложить спать. Ольга теперь на ночь не оставалась. Вот черт!
Андрей ринулся к Тане – она сидела в кресле, закрыв глаза.
– Тань, прости! Почему ты не позвала меня?
– Андрюша, не волнуйся, все нормально, – медленно сказала Таня, и он понял, как она устала от этого кресла. – Ничего страшного, какая мне разница, где дремать…
Он поднял на руки ее почти невесомое тело – Таня вздохнула и поцеловала его в шею под ухом. Он чуть не взвыл от жалости к ней и ненависти к себе: как я мог забыть! А на следующий день вдруг случилось маленькое чудо – Таня позвала его из своей комнаты:
– Андрюша, иди скорей! Скорей!
Он прибежал в испуге:
– Что?! Что случилось?!
– Тсс! Тихо! Смотри, на лоджии! Только осторожно!
Андрей подошел, заглянул в окно – вот это да! На лоджии сидела… сова! Самая настоящая, огромная, важная. Распушилась, глаза закрыла! Откуда ж она взялась-то?!
– Как ты думаешь, она не ранена?
– Да вроде нет, не похоже.
– Может, ее покормить?
– А чем? Колбасой, что ли? Они же хищные, совы эти…
– Ну хоть колбасой!
Андрей пошел на кухню, нашел какое-то копченое мясо и задумался: а будет ли сова есть такое? Может, ей вредно копченое-то? И самому смешно стало. Осторожно приоткрыл дверь – сова встрепенулась, заволновалась…
– Тихо-тихо-тихо! Не бойся, цыпа! – Он кинул обрезки на пол лоджии: захочет найдет. Целый день они занимались этой совой: наблюдали, искали ее в Интернете, выясняли, перелетные совы или нет, гадали, откуда взялась. Просто юные натуралисты. А когда Андрей уложил Таню в постель, она посмотрела на него сияющими глазами и сказала тоном ребенка, получившего подарок от Деда Мороза:
– Сова-а!
Андрей нагнулся и поцеловал ее сухие губы. Потом прошептал:
– Не бойся, я тебя никогда не оставлю.
Утром никакой совы на лоджии уже не было. И Андрей вдруг предложил Тане погулять. Он и раньше предлагал, но Таня никогда не соглашалась – она уже года три не выходила из квартиры. А сейчас согласилась:
– Давай! Я сама хотела тебя попросить, но мне… боязно. Столько хлопот…
– Никаких хлопот! Мы с тобой прекрасно справимся. Куда бы тебе хотелось?
– Как куда? Во двор…
– Не обязательно во двор! У меня же машина, у тебя коляска есть специальная, складная. Можем съездить… ну, не знаю… в Измайлово, например! В Измайловский парк. Там сейчас красиво, осень золотая…
– В Измайлово?!
– Ну, или в Коломенское!
И они поехали в Коломенское. К концу этого дня Андрей устал как собака, но Таня была счастлива – глаза горели, она улыбалась всем прохожим, которые по большей части отводили взгляды, но одна юная парочка долго шла рядом с Таниной коляской. А потом девочка еще раз подбежала и высыпала на Танины колени, укрытые пледом, ворох разноцветных кленовых листьев. И на обратной дороге они даже пообедали в маленьком кафе, где оказался пандус для колясок и даже был туалет для инвалидов. Таня захотела лосося на гриле и выпила немного вина, щеки у нее порозовели, и Андрей невольно залюбовался:
– Ты очень красивая!
– Ну да, конечно.
– Правда.
Домой они добрались к ночи. Таня заснула в машине, Андрей на последнем дыхании поднял ее в квартиру:
– Хорошее у нас получилось приключение, скажи?
– Очень! Спасибо тебе! Только ты устал, наверно?
– А ты не устала, что ли?
Но Таня только усмехнулась. А когда он зажигал ночник у нее в комнате, сказала:
– Я так люблю тебя. Как жаль, что ты мне не веришь.
– Я верю. Спокойной ночи!
Потом он долго лежал без сна и думал: «Почему же я не верю? Ведь люди меняются… наверно. Почему она не могла измениться? Может быть, я просто боюсь поверить? Боюсь, что вернется тот ужас? Та ненависть?»
– Андрей… Помоги мне…
У Тани начались судороги в ногах. Он нашел лекарство, дал ей и долго сидел рядом, поглаживая худые щиколотки и узкие ступни – сидел и клял себя на чем свет стоит: разве можно было затевать такую долгую поездку, да еще в пробке застряли! Идиот!
– Ты знаешь, – сказала вдруг Таня. – Я не сразу заметила, когда ты ушел. Недели две не замечала, правда! А потом заглянула в твой кабинет, а там все такое… нежилое. Спросила Ольгу…
– А она что?
– Сказала, что ты решил пожить отдельно. И попыталась слегка мозги мне вправить. Но тогда я только разозлилась. А потом, когда узнала, что ты был в больнице! Я испугалась. Нет, не за себя. За тебя. Меня как молнией ударило. Я подумала: все же умрут. Рано или поздно. Не я одна! И когда поняла, что ты мог умереть…
– Тань, не надо! Ничего серьезного у меня не было! Так, ерунда.
– Как же мне объяснить… Я вдруг поняла, что есть только настоящее, понимаешь? Вот эта секунда, когда мы с тобой разговариваем и ты меня за руку держишь! Только эта секунда, и все! Ни прошлого нет, ни будущего, ничего нельзя исправить и ничего нельзя… Как это – человек предполагает?
– А Бог располагает.
– Да! Потому что Бог все равно по-своему… расположит. И все надо делать сейчас, сию секунду – не завтра, не послезавтра, а сейчас. И сейчас я люблю тебя, потому что завтра могу умереть. Или ты. Но лучше, чтобы я.
– Таня! Господи, Таня! – Он закрыл себе лицо ее рукой. – Пожалуйста!
– Ты знаешь, я думаю, что все это – не просто так. Болезни, страдания… Бессмысленно спрашивать: за что, почему? Потому. Случайность, что это оказалась я. Попала под раздачу. Кто-то под дождь попадает. Но вот что я думаю: если там ничего нет, то все бессмысленно.
– Где – там?
– Ну, там. За чертой. Там обязательно должно что-то быть, иначе нет никакого смысла…
– Ты о Боге говоришь?
– Это люди так называют: Бог. А что там на самом деле, нам, наверно, не дано постигнуть. Может, у нас и нет… нет приспособления такого, чтобы постигнуть! Вот собаки, они видят все в черно-белом виде, без цвета. Зато, может, что-то такое чувствуют, чего мы не можем. Нет, я тебе точно говорю, там что-то есть! И вот – любовь. Она тоже оттуда! Я знаю. Потому что совсем близко подошла, понимаешь? К этой границе! Я ее чувствую. И мне вдруг стало интересно: а что там?
Они проговорили почти всю ночь и потом каждый день все разговаривали и разговаривали – наверстывали за прошедшие годы. И однажды Таня сказала ему:
– Андрюш, я вот что подумала… Ты только не сердись, ладно?
– Попробую. Что?
– Ну… Я подумала… ты же молодой здоровый мужчина, у тебя есть определенные… потребности…
– Тань, прекрати!
– Нет, правда! Андрюш, я же ни на что не гожусь! Просто, если вдруг у тебя кто-то есть, так я не обижусь, честное слово! Я знаю, ты меня не оставишь. Это главное. А остальное – неважно. Лишь бы тебе хорошо было, ты и так со мной намучился… Андрюш?!
Андрей выскочил из комнаты – ему стало так чудовищно стыдно и горько, что даже затошнило, а в ванной просто вывернуло наизнанку: он вспомнил девицу с пауком на лысом черепе и всех этих дурацких красоток, всю эту грязь, в которой он вывалялся. И секретаршу, с которой до сих пор встречался, вспомнил. Когда вернулся к Тане, она посмотрела на него несчастными глазами:
– Прости! Я хотела как лучше…
– Тань, чтобы я больше таких разговоров не слышал, поняла?
– А то что? Побьешь меня? – Таня пыталась шутить, но в глазах стояли слезы.
– Вот именно. Ну что, продолжим партию? – Они играли в шахматы, и Андрей как раз выигрывал. Продолжили, но удача ему изменила.
– Шах и мат! Ага, как я тебя!
– Я понял! Ты специально меня этим своим дурацким разговором отвлекла!
– Конечно…
Посмеялись и забыли. Или сделали вид. Но секретаршу Андрей на следующий день уволил, хотя и чувствовал себя последней сволочью. А потом Таня рассказала Андрею про приснившийся ей дом – маленький волшебный замок, сказочный теремок.
– Давай мы его нарисуем? – предложил Андрей.
– Я же не могу…
– Так я буду рисовать!
– Ты?! Ой, ты нарисуешь!
– А ты будешь мной руководить.
Это было странное занятие: Андрей чертил, а Таня сидела с закрытыми глазами и командовала:
– Начерти квадрат – девять на девять. Слева пристрой к нему прямоугольник… так… пять на три, нет, на два с половиной! И проведи линию от квадрата к прямоугольнику, чтобы получился скат крыши. Ну, покажи. О господи! Андрюш, ты не знаешь, где право, где лево?!
– Ты ж сказала – справа!
– Слева! Какая ж ты все-таки бестолочь! – произнесла она с нежностью.
Андрей засмеялся – это была прежняя Таня. Прежняя, но другая – какой она могла быть, о которой он всегда мечтал! И которой она наконец стала. Андрей опустился на пол и положил голову Тане на колени, а она, сделав усилие, погладила его по голове и прошептала:
– Ендрек…
Это была их третья жизнь, последняя.
Глава 4 У меня есть миллион, у тебя есть миллион…
Андрей уже собирался уходить, когда помощник заглянул к нему в кабинет:
– Андрей Ильич! Видели – в Яндексе, в новостях? Чембарцев скончался! Сегодня утром. После тяжелой и продолжительной… Сообщение только что появилось.
Значит, умер. А казался вечным. Сколько ему было, почти восемьдесят? М-да. Сегодня, пожалуй, уже никто с ними не свяжется, всё будет завтра, все дела и разговоры. Можно идти домой. Домой… Андрей тяжело вздохнул. Что ж, рано или поздно это произошло бы. Вот и настал наконец момент истины. А так ли она ему нужна, эта истина…
Андрей уже полтора года жил с тяжестью в душе. С того самого дня, когда взял в руки паспорт Иечки и прочел ее данные: Антипова Ирина Алексеевна… родилась тогда-то и там-то. Не совпадала только прописка. Память у него была хорошая, профессиональная. Все это он уже знал. Мало того, все это он собственной рукой вписывал в документ, которому не было цены – в завещание одного очень могучего человека, почти олигарха. Ивана Петровича Чембарцева.
Какое отношение имеет к нему Ирка, думал он, тупо разглядывая паспорт. Его Ирка, Иечка, Синичка, которая как раз сейчас чмокнула Андрея в щеку. Они были в Иркиной квартирке – заехали по дороге из Филимонова собрать ее вещи, чтобы завтра уже никуда не вылезать, а в понедельник Андрей хотел договориться в загсе, где у него были связи – пусть распишут поскорей. Да, конечно, они еще почти ничего не знали друг о друге! Что можно было узнать за сутки с небольшим? Но Андрей знал главное – это его женщина. Другой он не хочет. Только она. За эти сутки они успели уже… четыре раза! Да нет, со вчерашнего вечера! Ну да, ну да – он считал. Как дурак, считал и гордился собой! И опять хотел ее, хотя четвертый раз был только что – они отметились на Иркиной кровати. И вот пожалуйста. Андрей внимательно всмотрелся в Ию – она тут же оглянулась и улыбнулась ему, сморщив нос. Невозможно! Немыслимо, чтобы она имела какое-то отношение к этому человеку! Какое?! Может, все-таки не она?
И тут Андрей вспомнил, какое на Ирке было белье! Там, у Варьки, он и не заметил, а здесь сам ее раздевал. Познания Андрея в этой области были весьма скудными: он подозревал, что женское белье может быть белым, черным… ну красным! Но Иркино было какого-то немыслимого лилового цвета – с кружевами, вышитыми фиалочками и бантиками! Ее и без того соблазнительная грудь в этих фиалочках и бантиках выглядела совсем уж… сногсшибательно! Как ни был он наивен, все же сообразил, что белье – самая роскошная Иркина вещь: джинсы на ней были самые простые, хотя и не дешевые, скромный джемпер, спортивная куртка и трогательные замшевые ботиночки с тупыми носами, умилившие Андрея – ножки у Ирки тоже были маленькие. И квартира не блистала особенной роскошью – милый, чистый, теплый домик, очень женственный, даже какой-то девический!
Зачем? Зачем одинокой женщине такое соблазнительное белье?! Если никто его не видит?! Или… или она с самого начала знала, что дело кончится постелью?! Он тут же вспомнил, как она поразила его своим пылом, и внутренне застонал: нет! Да нет же! Это было пылко, но так… по-человечески, так естественно! Не может быть, чтобы Ирка была… профессионалкой! Просто потому, что этого не может быть никогда. Он имел дело с… профессионалками. И при воспоминании об этом его слегка затошнило.
– Мне так нравится твоя квартирка! Уютно, светло. Давно ты тут живешь?
– Маленькая, да? Ты знаешь, наверно, у меня… как это называется, когда не клаустрофобия, а наоборот?
– Агорафобия вроде бы.
– Вот! Я люблю в коробочках жить! Когда много пространства, мне не очень уютно. Вот и купила поменьше, зато лоджия какая и вид, правда?
– Вид замечательный. А до этого ты где жила?
– У мужа. Своего у меня ничего не было, я комнату снимала. У родителей очень тесно. Ту продала, эту купила. Я ж не работала, а пока искала себе место, деньги и пригодились.
– А у мужа что, большая квартира? – Андрей чувствовал себя мерзко, выспрашивая, но ничего не мог поделать, уж очень хотелось понять.
– Огромная! На Кутузовском, за Панорамой.
– А-а, понятно…
Ну да, на Кутузовском. Все верно. Он сам и настоял, чтобы в завещание было внесено дополнение: «на момент составления данного завещания» – «Антипова Ирина Алексеевна, на момент составления данного завещания прописанная по адресу Кутузовский проспект, дом такой-то…». А то вдруг она переедет? Вот и правда – переехала. Да, он хороший юрист. Предусмотрительный.
– А муж твой, он кто был?
– В службе безопасности работал, в частной.
– А почему ты его фамилию не брала? Или обратно поменяла?
– Да он и не настаивал. У него фамилия неблагозвучная – Харин. Кстати! А как твоя фамилия?!
– Синицын.
– Нет! Ты меня разыгрываешь!
– Чистая правда. Так что не зря я тебя Синичкой прозвал. Ну что, готова? Поехали?
– Ага! Ты знаешь, я все пыталась представить, как ты живешь! Хочешь, расскажу? Смешно будет, если угадала, правда?
– Вот по дороге и расскажешь…
И весь этот долгий день – и по дороге, и дома – Андрей все думал, думал. Улыбался Иечке, кивал, поддакивал, что-то отвечал, любовался ею – и думал. Ирка ахала, бегая по его квартире:
– Я так и знала – одни книги! А это твое логово, да? Ой, лампа с зеленым абажуром! Я так и думала! Тут и спишь, понятно…
Андрей действительно спал в кабинете на диване, почти не заходя в другие комнаты.
– Даже и не думай, что я буду с тобой тут на диване спать!
– Конечно! Есть спальня, зачем же – на диване. – Андрей вдруг взглянул на свой дом ее глазами: да, мрачновато. – Синичка, ты можешь тут все переделать по-своему, если захочешь! Ну, кроме моего логова, ладно?
– С какой стати?! Ты что? Мне нравится! Если только мелочи какие-нибудь, а так – и не надо. Это же твой дом? Ты тут вырос, да?
– Да. – Андрей вздохнул. Они с Иркой стояли в коридоре, и ему вдруг почудилось, что изо всех дверей выглядывают родные лица: отец, мама, дед, Бабася, брат Максим. Таня. Все вышли встретить новую хозяйку.
А хозяйка, повязав фартучек, уже вовсю что-то готовила на кухне – по дороге они заехали в магазин, потому что никакой еды у Андрея не водилось: йогурты, хлеб, яблоки, сыр, вино. Питался он обычно «в городе», как говаривала Бабася: «Выйду-ка я, пожалуй, в город!» И выходила, нацепив очередную немыслимую шляпку, а Таня говорила, что ее когда-нибудь заберут в психушку за эти чудовищные сооружения на голове. Андрей обижался: он страшно любил свою невозможную, умную и язвительную бабку…
Но, что бы Андрей ни делал, о чем бы ни говорил или ни думал, параллельным курсом все время шли мысли о завещании, в которое вписано имя Антиповой Ирины Алексеевны, такого-то года рождения. А Ирина Алексеевна хлопотала, суетилась, щебетала и просто светилась от счастья, а к ночи так уморилась, что Андрей, придя из ванной, нашел ее глубоко спящей. Он улыбнулся, покачал головой, присел на кровать, полюбовался, потом осторожно приподнял одеяло, чтобы рассмотреть наконец вволю. Она лежала на спине, повернув голову набок, и Андрей с каким-то даже благоговением разглядывал ее обнаженное тело: высокая грудь, которая все время так волновала его, ровно дышащий животик… Так и подумал с умилением: животик! Маленькая родинка под пупком, у самого начала треугольничка волос, длинные ноги…
Наклонился, поцеловал прямо в родинку и вдохнул запах ее тела.
Иечка, счастье мое!
Ирка завозилась и повернулась на бок, подтянув ноги. Андрей быстро накрыл ее одеялом: вот дурак, озябнет же! Сел на пол, оказавшись с ней лицом к лицу, и все смотрел, смотрел, изучал, впитывал – с такой пронзительной нежностью, что ныло сердце: длинные ресницы чуть вздрагивают… синяя жилка бьется на виске…
И вдруг подумал: «Наплевать! Наплевать на завещание, на эти проклятые деньги, на то, что подумают люди… на то, что может подумать сама Ия! Я нашел ее и не хочу потерять. Что будет, то будет. Счастье мое, Синичка, Иечка, родная, любимая… жизнь моя…»
Оказалось, что он бормочет это вслух, и его Синичка вдруг заплакала во сне, потом открыла полные слез глаза, обняла его за шею и потянула к себе:
– Господи! Где ты был раньше, а? Я так долго тебя ждала! Всю жизнь! А тебя все не было и не было! Я пропадала, а тебя не было…
Они целовались солеными от слез губами, приникали друг к другу, проникали в самую глубь, в самую суть – телами, сердцами, душами. Андрей перестал бояться, перестал думать – Ия держала его взглядом, отвечала ему каждым вздохом, отдавалась ему полностью, растворялась в нем и взлетала вместе с ним!
Почему-то Андрею казалось, что именно тогда они и сотворили Антипку. Господи, ведь он умудрился испортить даже тот радостный день, когда Ирка сообщила, что беременна! И почему он вечно все портит! Именно в тот день она впервые показала свой настоящий характер – именно поэтому Андрей и сидел сейчас в офисе, вместо того чтобы идти наконец домой. Боялся! «Ну да, я трус, – уныло думал он. – Самый настоящий трус…»
А тогда Андрей мчался домой так, словно им выстрелили из лука! Пятница, впереди два выходных – Ира еще работала, но добрая начальница разрешила ей не приходить по субботам и воскресеньям. Примчался и с ходу обнял ее, стал целовать – Ирка, хохоча, отбивалась:
– Подожди, ну подожди же! Мне надо тебе что-то сказать!
– Ты же видишь… я не могу… ждать…
Потом он растроганно сказал ей, целуя блаженно улыбающиеся губы и мокрый от пота висок:
– Ты удивительная женщина, потрясающая! Такая щедрая!
– Щедрая?
– Ну, по-женски щедрая!
– Но я люблю тебя, как же иначе?!
А Андрей вспомнил свои мучительные отношения с Таней – в их первой жизни – и произнес, рассеянно глядя в потолок:
– Ты представляешь, а ведь я ни разу не спал с ней! С настоящей Таней… которая меня любила…
Ирка вдруг перелезла через него, встала, завернулась в халат и убежала на кухню, а Андрей даже сморщился от неловкости: «Ну что я за идиот! Зачем я заговорил про Таню? В такой момент». Он ринулся за ней – кухня была полна черного дыма и пара, а Ирка так громыхала посудой, что он понял – дело плохо.
– Ир, что случилось, а?
– Картошка вся сгорела! Что случилось! Открой окно!
– Ир, ты прости меня!
Она повернулась и уставилась на него – руки в боки, лицо красное и сердитое, волосы взлохмаченные:
– За что?!
– Ну… я не подумал… что тебе может быть неприятно… про Таню…
– Да! Да, мне неприятно! Мне так неприятно, что внутри все переворачивается! Потому что мне безумно вас жалко! И тебя, и Таню! Но только мне все больше кажется, что тебе нравится быть несчастным! Я понимаю, это твоя жизнь, пятнадцать лет, три года любви – этого не забудешь, да и нельзя забывать! Но и жить этим нельзя! Ты же настоящее пропускаешь! Здесь, сейчас – мы с тобой, ты и я! А ты все копаешься в прошлом, растравляешь раны! Опилки пилишь!
– Какие… опилки…
– Такие! Это бревно распилено, все. Остались опилки. А ты их пилишь и пилишь!
Андрей смотрел на нее во все глаза: да, Синичка совсем не кроткая птичка! Как она его… приложила. А ведь права, права! Во всем права. А Ирка вдруг выдохлась, замолчала и закрыла лицо руками.
– Ну вот! Иечка, не плачь! Я совершенно не могу выносить твоих слез! Пожалуйста, Синичка! – Андрей обнял ее, прижал потеснее.
– Да-а… Мне что-то так оби-идно стало, – всхлипывала Ирка. – Тебе хоть есть что вспомнить – три года в любви прожили! Подумаешь, не спал он с ней! Зато теперь со мной… отрываешься по полной! Почему у вас, мужиков, всегда только секс в голове?! А мой муж со мной спал, пусть редко! Но не любил! Использовал, как… как резиновую куклу из секс-шопа! А потом в шкафчик убирал, до следующего раза. А я, дура, думала, что это любовь такая… резиновая…
– Ну прости меня!
– Да ладно. Это ты прости. Накинулась на тебя, как мегера какая-нибудь. А ты еще и не ужинал! А все… сгоре-ело-о…
И она зарыдала с новой силой.
Только потом, ночью, после того как сварили новую картошку, поужинали, прибрались на кухне, после того как утешили друг друга, Ирка наконец сказала, что беременна, и Андрей завопил от радости так, что им застучали в стену!
Долго выбирали имя – мальчика-то сразу решили назвать Антипкой, так хором и произнесли: Антипка! А с девочкой помучались – Андрей хотел Ирку-маленькую, но Ирка-большая воспротивилась:
– Я не хочу. А что, если мы ее назовем…
– Нет, так мы называть нашу дочь не будем!
– Андрюш, я хотела предложить Варьку! А ты что подумал?
Конечно, он подумал про Таню. Долго перебирали, ничего не нравилось, потом Иру осенило:
– Назовем Асей! Как твою бабушку!
– Это что – Энгельсиной?!
– Ну, зачем! Можно Анной, а звать будем – Ася. Ася Синицина, хорошо же, правда?
– Анна Андреевна будет, как Ахматова! Все, только Ася!
Потом-то стало понятно, что родится именно Антипка. Ему было уже почти девять месяцев, ослику Антипке. Андрей представил, как Ия кормит их пухленького сына, а тот серьезно сосет, тараща круглые карие глаза и толкая ее в грудь крошечной ладошкой…
Господи, что ж делать-то?!
Делать нечего, надо идти домой.
Ирка уложила Антипку и присела на диван перед телевизором, где под бодренькую музыку раскрывал преступления и совершал массу нелепостей странный мистер Монк, которого она обожала.
– Андрюш, он так на тебя похож!
– Да ничего общего, не выдумывай!
– Нет, похож! Мне лучше знать.
– Это что же, я такое нелепое существо?!
– Ты существо лепое, милое, плюшевое, и я тебя обожаю!
– Ну, раз обожаешь, тогда ладно. – Андрей поцеловал Ирку в щеку и сунул большое красное яблоко, в которое она тут же с аппетитом вгрызлась.
– Ир, скажи… А что б ты делала, если бы у тебя был миллион?
– Миллион чего? Денег?
– Ну да.
– У меня есть.
– Как есть?!
– Даже полтора. Около того! Осталось от продажи той квартиры. Тебе нужно денег?
– Да нет! Что-то у тебя мало осталось, твоя нынешняя-то наверняка не слишком дорогая, хотя и почти в центре…
– Я же маме часть отдала! Они Мишке квартиру купили. Хватило только на однокомнатную, правда, и далеко, чуть не в области. До сих пор обижаются.
– На тебя?! Ты им купила квартиру, а они обижаются?!
– Обижаются, что маленькая, ага. Но я же у себя еще ремонт делала, потом мебель, то-се. Сантехника, холодильники-телевизоры, всякое такое. И не работала почти два года. Не могла себя заставить. А, я же еще снимала, пока ремонт шел! Вот деньги и разошлись. Я старалась экономить, правда! Но, наверно, плохо старалась. Так всего хотелось! У меня ж никогда ни жилья своего не было, ни денег. Ой, я еще путешествовала! В Вологду первым делом, бабушке новый крест поставила, потом в Питер. Ну, это близко, я часто туда гоняла, на «Сапсане» так быстро! Еще в Париже побывала. В Англию мне очень хочется! Давай съездим? А еще знаешь куда? Мачу Пикчу! Это в Перу, город инков! И еще в пустыню Наска, там эти рисунки загадочные, я давно про них думаю. Но это очень дорого.
У Андрея даже заболело сердце: господи, Мачу Пикчу, Наска! Как ребенок!
– Ир, я имел в виду миллион евро, не рублей.
– Евро? А сколько это в рублях?
– Ну, умножь на сорок пять.
– На сорок пять! Четыре с половиной миллиона, что ли, получается? Всегда я путаюсь в этих ноликах. У меня есть миллион, у тебя есть миллион, нам еще бы миллион, мы б пропили стадион, – вдруг запела Ирка, болтая ногой. – Дай на маленькую, дай на беленькую, на большую не прошу, дай на маленькую! Что? Это песня такая, походная! Дурацкая, конечно…
– Ира, миллион евро – это сорок пять миллионов рублей. Чуть меньше вообще-то, налог съест часть…
– Ух ты! Сорок пять миллионов! Куча денег! А почему ты спрашиваешь? У тебя что, есть миллион евро?
– У меня – нет. У тебя есть.
– У меня?! Откуда?! Я что, наследство получила? Неужели нашелся богатый дядюшка в Америке? – Ирка даже забыла грызть яблоко и удивленно таращила на Андрея глаза. Сердце у него болело все сильнее и сильнее.
– Да, наследство.
– Андрей, перестань! Какое наследство, от кого?!
– От Чембарцева Ивана Петровича. Знаешь такого?
– От… Чембарцева?! – Ирка так переменилась в лице, что Андрей понял: знает. И знает, почему оставил. Она помолчала, потом встала и ушла к окну. Спросила, не оборачиваясь:
– Когда он умер?
– Сегодня.
– Откуда ты можешь знать… про наследство?
Андрей прижал руку к сердцу, вместо которого была раскаленная головешка – так жгло за грудиной:
– Я… составлял… завещание.
– Значит, все это время ты знал? И не сказал мне ни слова?
– Ира, я не мог… сказать тебе. Есть закон. Нельзя… нарушить. Я бы… потерял… лицензию. И завещатель… мог в суд подать.
– Ну да. Тайна исповеди, клятва Гиппократа! Конечно! Значит, ты знал с самого начала…
Тут она обернулась, закричала и бросилась к Андрею – совершенно белый, он неловко лежал на диване, откинув голову, и не дышал. Из больницы его выписали через неделю.
– Инфаркт не подтвердился, но поберечь себя следует, – сказал врач.
– Снизьте нагрузки, чаще бывайте на свежем воздухе, избегайте стрессов, не курите…
– Да я и не курю, – мрачно пробормотал Андрей.
– И побольше положительных эмоций, – добавил врач, глядя на Андрея поверх очков.
За все это время они с Ирой ни слова не произнесли по поводу денег. Первым не выдержал Андрей:
– Ир, давай уже поговорим, а?
– Про наследство? А ты как себя чувствуешь?
– Да нормально я себя чувствую! – сказал он злобно. – Просто прекрасно. Тебе ж сказали: я симулянт!
– Андрюш, перестань. Никакой ты не симулянт! Ты просто переволновался. Я как представлю, что ты все это время придумывал невесть что, накручивал себя: ах, она подумает, что я женился на ней из-за денег!
– А ты не подумала?
– Нет.
– Нет?! Но ты же так рассердилась на меня?!
– Рассердилась! Да я разъярилась просто! Андрюш, ты же меня не дослушал! Сразу в обморок свалился, как… как институтка какая-нибудь!
– Институтка?!
– Ну да! Барышни такие нежные были, чуть что – хлоп в обморок!
– Да знаю я, кто такие институтки! Не сбивай меня! Ты что, правда не подумала, что я…
– Да нет же! А разъярилась, потому что сначала не поверила, что ты на самом деле не мог мне ничего рассказать, понимаешь? Потом представила, как ты год с лишним воображал, что я тут же тебя брошу и вообще…
– Нет, подожди! А почему ты так не подумала?!
– Господи! Да потому, что я люблю тебя! И знаю, что ты меня любишь! Потому что ты плакал, когда родился Антипка, потому что ты стоял на коленях около моей кровати и шептал мне слова любви, пока я спала, а я проснулась и слышала! Потому что ты краснел и смущался, а в первый раз ужасно трусил! Потому что Варька за тебя, и Глеб, и Люша! И все Филимоново вместе с Шараповым! Хватит уже или недостаточно? Потому что ты – моя девятая жизнь. Последняя. До конца времен.
– Девятая?
– Да! Это Варька меня научила. У кошек девять жизней, и у женщин тоже. У нее с Глебом девятая, и у меня – с тобой.
– Ирка! Какой же я идиот! Прости меня!
– Не смей называть идиотом моего любимого человека! – Ирка наконец села к нему на диван и обняла. – Ничего ты не идиот! Любой бы так рассуждал. А виновата во всем я сама. Давно надо было тебе рассказать, но я так была счастлива, так не хотела к этому возвращаться! Скажи, а ты что решил? Ну, про наследство? Почему Чембарцев мне столько денег оставил? Что подумал, самое первое?
– Я подумал, он твой отец.
– Мой… отец?! – Ирка даже подпрыгнула и руками всплеснула от удивления.
– Ну да, ты же говорила, что ничего про отца не знаешь, вот я и подумал, мало ли, вдруг это он.
– Андрюша! Я знаю, кто мой отец – Антипов Алексей Егорович! Я про его жизнь ничего не знаю, потому что мне два года было, когда они развелись! И то он заходил к бабушке, пока я у нее жила, я помню! Он умер пять лет назад. В Вологде. А если б и оставил мне чего, так это миллион пустых бутылок. Он алкоголик был, пьяница. Мама поэтому и ушла от него.
– Ну да. Я потом выяснил.
– Так ты что, расследование проводил?
– Попытался. Но плохой из меня Шерлок Холмс.
– И что ты дальше думал?
– Да я и не знал, что думать, Ир, правда! Решил, что это как-то с твоим мужем связано – он же у Чембарцева охранником работал, может… не знаю… жизнь ему спас!
– Ага, точно. Именно. А ты не думал, что я спала с Чембарцевым?
– А ты что, спала?
– Нет.
– Вот и я подумал – нет, этого быть не может. Ирка – не из таких. Правда, меня твое белье сильно смутило…
– Мое… белье?!
– Ну да. Я задумался – ты три года одна… Три года же? Вот. И такое белье! Зачем?! Некому же… демонстрировать.
– Господи, Андрюша! Просто я люблю красивое белье! Единственное, что мне не безразлично! У меня никогда не было ничего такого, а хотелось ужасно! Оно ж безумно дорогое! Вот я и покупала, когда деньги появились – для себя, ни для кого. Арсену вообще наплевать было. Для себя, понимаешь? Кто-то туфли скупает, кто-то бирюльки, а я…
– Нет, я все равно не понимаю! Туфли, бирюльки – это хоть видно! А белье же внутри, его не видно! Какой смысл в этом?!
– Да никакого! Я знаю, что я в красивом белье, и мне приятно – все! Ну, в тот день… я, конечно, самое лучшее надела, если честно.
– Ты что, знала, чем наше свидание кончится?!
– Андрюш, я ничего такого не планировала, если ты об этом. Так, на всякий случай. Мало ли! – Ирка рассмеялась, сверкая глазами, но тут же нахмурилась: – Так ты что, решил, что я… проститутка, что ли?!
– Да нет же! Я ж сказал! Ты не из таких, это видно было. И потом, почему он тебя так поздно решил… вознаградить, если б ты с ним действительно жила? Обычно сразу кусок отстегивают. А по тебе ж понятно, что ты… не миллионерша вовсе. Да и кусок больно большой. Он вообще прижимистый, Чембарцев.
– Правда? – Ирка усмехнулась: – Надо же, как высоко меня оценил. Видишь, что за женщина тебе досталась – на миллион! А ты не ценишь!
– Я ценю, – твердо выговорил Андрей, глядя ей в глаза. – Я люблю тебя, ты знаешь.
– Знаю! Андрюш, ты не беспокойся, я денег этих не возьму. Ты скажи, как от них избавиться, я так и сделаю. Мы с тобой сделаем. Могу я просто отказаться?
– Ир, ты это серьезно? Все-таки миллион!
– А тебе жалко стало, да? Ну, и возьми их себе!
– Мне тоже не надо. Я сам заработаю, если захочу. Подумаешь, миллион евро!
– Действительно! Так могу?
– Да, – ответил Андрей. – Можешь совсем отказаться, а можешь принять и отдать на какую-нибудь благотворительность, например.
– А если откажусь, кому деньги пойдут? Жене его? Она же главная наследница, да?
– Нет. Главный наследник – сын. А с женой он развелся.
– Развелся?! Когда?
– Тогда же, когда завещание оформлял, четыре… нет, четыре с половиной года назад.
– Вон оно что! Интересно.
– Ир, может, ты расскажешь наконец, в чем дело?! А то я сейчас от любопытства просто сдохну!
– Я тебе сдохну! Попробуй только! Ну ладно. Только я начну с Вологды, с детства. С хорошего. Потому что история вообще-то не сильно веселая. Ну вот. Бабушку мою вологодскую звали Авдотья Ивановна, баба Дуся. Жили мы с ней хорошо, дружно…
Глава 5 Ослик Антипка и все-все-все
Ия с бабушкой хорошо жили, дружно. А потом бабушка умерла. Давно уже плохо себя чувствовала, а тут вдруг совсем приперло, так и подумала: «Ой, помираю что-то!» Вызвала из Москвы дочь и умерла уже при ней, словно специально дожидалась. Успела проститься с внучкой – подозвала, сказала: «Иечка, птичка моя! Ты теперь будешь с мамой в Москве жить, в школу пойдешь, все будет хорошо!» И раньше все время внучке про маму рассказывала, про братика и отчима: «Ты его, птичка моя, будешь папой называть, хорошо?» – «Хорошо, – соглашалась Ия, – буду». Поэтому не сильно огорчалась, что придется уехать: мама! Братик, папа! Москва! Только как же она без бабушки-то?! Без бабушки – никак! Но бабушка с ними в Москву не поехала. Ия ужасно скучала – даже когда подросла и осознала, что бабушки больше нет, все представляла себе, как та в Вологде живет, чай пьет с пастилой, вяжет разноцветные варежки на продажу, расчесывает на ночь волосы круглой гребенкой и напевает, заплетая тонюсенькую седую косичку: «Сама садик я садила… сама буду… поливать…»
В новой жизни Ию звали Ира – она сначала никак не могла привыкнуть и не отзывалась, а мама раздражалась: «Забудь ты это птичье прозвище!» И птичкой никто не называл, Ира да Ира. Квартира в Ясеневе была двухкомнатная, маленькая. Братику Мише уже годика два, милый, забавный. И отчим… папа… тоже не страшный – добрый оказался, конфетку дал. Ия очень старалась быть хорошей девочкой, как бабушка наставляла: всех любить и слушаться, помогать маме, не мешать папе и занимать как можно меньше места. А потом мама опять забеременела. Ия запомнила на всю жизнь: идут они с мамой, Мишеньку в коляске везут, навстречу соседка. Посмотрела на них, на мамин живот – и говорит:
– Что, Людмила Сергеевна, никак еще пополнение ждете?
Мама отвечает:
– Да, Пашенька очень девочку хочет!
Пашенька – это отчим, папа. «А я? – подумала Ия. – Я разве не девочка?» И, видно, такое у нее лицо было выразительное, что соседка вздохнула и по голове Ию погладила. Пожалела.
Когда сестренка Юлечка родилась, мама Ирку в интернат отдала, а там все больше по фамилии кликали: эй, Антипова! Трудно пришлось поначалу: домашняя девочка-то, нежная. Но что делать – пришлось привыкать. Всему научилась, ничего. И защищаться, и не поддаваться, и в зубы дать, кому надо. Справилась. Дома она редко бывала: на выходные, на каникулы – и то не каждый раз. Ей и места-то дома не было, в стенном шкафу спала, когда приезжала. Вернее, в кладовке. Крошечная темная комнатка, раскладушка как раз помещалась. Потом Ира школу закончила, и мама настояла, чтобы она в «керосинку» поступила – в Губкинский, нефти и газа институт, мама сама там училась. И общежитие опять же имеется. А Ире было все равно – «керосинка» так «керосинка», хотя сама больше любила литературу, историю, и языки легко давались, но химия тоже ничего, интересно. Училась хорошо, что в школе, что в институте, – прилежная, способная.
Самое лучшее время было – институт, общага! Разное, конечно, случалось: и обокрали пару раз, хотя чего там красть-то – одни слезы, и приставали – еле отбилась, но по молодости все воспринималось легко, не страшно. Четыре подружки их было: Настя Калюжная – Кролик, Крольчик; Верка Смирнова – Винни-Пух, вылитый просто, сластена та еще! Пятачок-Хрюпсик Наташка Худякова и Ирка – Ослик Антипка. Это Настя придумала, что Антипка – по фамилии Иркиной, и так смешно показалось, и прижилось. Так весело жили с девчонками! Сбегали с лекций в кино, встречали вчетвером Новый год, пели, хохотали, писали шпоры к экзаменам, влюблялись в каких-то придурков, страдали, жить не могли друг без друга! Вдруг записались на ирландские танцы и сами над собой потешались, что в ирландки подались. Хрюпсик – Наташка Худякова – первая замуж вышла. А Настя-Крольчик умерла. Самая умная из них, самая добрая. Так несправедливо! Ира страшно горевала – единственная близкая подруга была, на всю жизнь! А жизни-то и не хватило.
Закончила Ира институт, комнату сняла, пополам с Веркой Винни-Пухом. А потом сестра Юлечка замуж выскочила, только-только ей восемнадцать исполнилось. Ира хотела домой вернуться – сестра-то к мужу ушла, но оказалось… В общем, Мишенька уже взрослый, ему отдельная комната нужна, и опять Ирке места нет. И замуж тебе давно пора, ищи себе мужа с жильем. Ищи мужа! Где его найдешь-то?! Как-то никто не нравился. Верка – та влюблялась через день и каждый раз насмерть. А ты, Антипка, разборчивая больно! Разборчивая? Может быть…
Было два… романа не романа – так, недоразумения. Первый еще в институте, с Вовкой Петровым – два семестра продержались, а потом он ее бросил ради москвички с квартирой. Ирка всем говорила, что она из Вологды – не объяснять же про интернат и стенной шкаф. Второй раз было посерьезнее, по-взрослому. Толя – Анатолий Михайлович из соседнего отдела – на тринадцать лет старше, интеллигентный, начитанный и сам почти писатель, романы-фэнтези сочинял в свободное от работы время. Ия читала, нравилось, так романтично. И говорить с ним было хорошо, не то что с Вовкой – только целоваться. Поговорить – это для Ирки было так важно! Обо всем: о книжках, о кино – оба любили французское. И о поэзии – ну да, Ия писала стихи, конечно! Мелким почерком в блокнотиках: весна, любовь, одиночество, никто меня не понимает – все как положено.
Толя к ее творчеству относился слегка снисходительно, хотя поэзию любил – Бродского наизусть шпарил: «Ах, проклятое ремесло поэта. Телефон молчит, впереди диета. Можно в месткоме занять, но это все равно что занять у бабы. Потерять независимость много хуже, чем потерять невинность…» – ну, и так далее. Бродского Ия понимала плохо, особенно позднего, но Толю жалела: одинокий такой, непризнанный, талантливый. Пусть и слегка пьющий – а как талантливому человеку не пить-то?! Но так оказалось всё по-взрослому, что дальше некуда: женат и двое детей! Вот тебе и фэнтези. Но Ирка только радовалась, что не сильно обожглась, вовремя отпорхнула. И подумала про себя: «Да ну их всех! Проживу как-нибудь».
Хотя хотелось, хотелось – и семью, и детей, и разговоров по вечерам на уютной кухне, и поездок на дачу всей семьей, и пусть бы даже и ссорились – не всерьез, так. А потом мирились. В ее мечтах, в отличие от любовных романов, которыми зачитывалась Верка Винни-Пух, со свадьбы всё только начиналось: переживания, романтика, любит – не любит, поцелуи в сирени, звездные ночи, вздохи при луне, фата, белое платье – все это хорошо, конечно. Но главное-то начинается потом! Потом. И так казалось недостижимо это простое женское счастье: встать утром раньше всех, приготовить завтрак, чтобы муж просыпался от аромата кофе, а не от будильника… Целовать сонную детскую мордочку: вставай, радость моя, пора… И бегать по магазинам, и стоять у плиты, изобретая что-нибудь новенькое, и ужинать всем вместе за круглым столом, покрытом скатертью, а не на клеенке… И ходить по выходным в зоопарк, а зимой кататься с горки… хохотать, изваляться в снегу… и тайком целоваться замерзшими губами.
Принца на белом коне Ия никогда не ждала. Был бы по сердцу – и ладно. О принце не мечтала, а он взял да и свалился ей на голову! Правда, принц оказался не совсем принц, и подъехал не на белом коне, а на черном лимузине: нынешние принцы – они все больше на лимузинах разъезжают. Она упала – так неудачно, прямо в лужу, ну Ослик Антипка! И чулки порвала, и пальто запачкала, и автобус ушел! Так обидно, чуть не заплакала. А тут он и появился, принц на черном лимузине, прямо как в кино: ехал мимо, остановился, помог, подвез. Очень все галантно. И телефончик взял. Позвонил, пригласил в ресторан, потом еще. Не очень часто, но регулярно.
Ирка опомниться не могла. Никак не понимала, чем она привлекла такого… такого… такого Антонио Бандераса! Похож был слегка на Бандераса, но пожестче. Высокий, черноглазый, роскошный. Постарше лет на пять. Обеспеченный, воспитанный. Сильный и сдержанный. Что опасный – Ира не сразу поняла. Такой… тигр в смокинге. Не в смокинге, конечно, но всегда в костюме, при галстуке, ботинки сияют. Смотрит загадочно, улыбается снисходительно. И ухаживал так старомодно, ничего лишнего себе не позволял – первый раз в губы поцеловал, когда предложение делал.
Ирка себя чувствовала примерно как Джулия Робертс в «Красотке» – но куда Ричарду Гиру до Арсена! В подметки не годится. Верка Винни-Пух прямо облизывалась: ах, какой мужчина! Как тебе повезло! И матери понравился, особенно когда его квартиру на Кутузовском увидела. Квартира эта просто пентхаузом им показалась, после хрущобы-то. И свадьбу затеял прямо голливудскую, с размахом. Ирка плохо запомнила – как в тумане была. Все казалось: это кино. Ну не может такого со мной происходить, никак не может! И дальше стали жить, как в кино. Или во сне. Началась новая Иркина жизнь – прощай, Ослик Антипка!
Перед Арсеном она трепетала, млела, обмирала: да, дорогой! Как скажешь, дорогой! Перекрасилась в блондинку, как он хотел, макияж делала – глаза раскрашивала чуть не до висков, ресницы накладные, помада… Туфли на шпильках носила, короткие юбки… работу бросила… ждала его целыми днями… Только и делала, что ждала: «У меня рабочий день не нормированный, привыкай, детка». Так и звал: Ирочка, детка, киска. Да какая она Ирочка?! И вообще, она ли это?! В зеркалах отражалось что-то несусветное: гламурная блондинка, кукла Барби с испуганными глазами. Шарон Стоун с Ясенева. Трепетала, да. Сначала от любви трепетала, бояться потом начала, месяца через два.
Первый раз, правда, испугалась, когда предложение делал – тоже по-голливудски, с кольцом. Ирка как увидела бриллиант, так чуть в обморок не упала: это что, все взаправду?! И словно опомнилась: «Что ж я делаю-то? Куда лезу? Да разве это для таких, как я – из стенного шкафа?! И не знаю я его совсем…» Арсен смотрел на нее с ласковой насмешкой – решил, что прибалдела от бриллианта, дурочка.
– Дорогая, я жду твоего ответа!
Ирка моргала, не зная, что делать.
– Дорогая?
«Дорогая, дорогой, дорогие оба! Дорогая дорогого довела до гроба!» – непрошено всплыла в памяти бабушкина частушка.
– Арсен, я… не знаю… Я не уверена, что… Как-то неожиданно, – залепетала она, краснея.
– Чего ты не знаешь? Ты сомневаешься? Разве ты можешь во мне сомневаться, детка? – Насмешки в его взгляде прибавилось, он наклонился, взял ее за подбородок и поцеловал. Совершенно киношным поцелуем, красиво и страстно. Они сидели в маленьком кафе, чрезвычайно изысканном и безумно дорогом – свечи, розы, шампанское, кольцо с бриллиантом. Поцелуй. На пару секунд Ирка все-таки потеряла сознание, так ее проняло. Целоваться он умел, ничего не скажешь! Оторвавшись от ее губ, Арсен улыбнулся:
– Ну вот! Ты не можешь мне отказать.
И она согласилась. Собственно, ее согласия особенно и не требовалось, так, для порядка. Арсен все провернул сам: регистрация, ресторан, лимузин, платье, кольца, цветы – Ирка все больше и больше погружалась в сладкий туман, все больше и больше теряла себя, растворялась, пока не растворилась до такой степени, что перестала узнавать себя в зеркалах. Это было что угодно, но не любовь – не та любовь, о которой она для себя мечтала.
Зависимость, рабство!
Обожание, страсть…
Мания.
После первой же проведенной вместе ночи она превратилась во влюбленную кошку: мурлыкала, терлась об ноги, заглядывала в глаза, а хозяин, усмехаясь, иногда ласкал ее. Спали они отдельно с самого начала, так хотел Арсен, и она смирилась. По дому он часто разгуливал голышом, не стесняясь даже домработницы, которая испуганно шарахалась, стыдливо прикрывая глаза. Домработница была новая – Светка, мать-одиночка средних лет, приходила только убираться, а прежняя еще и готовила, но зачем – теперь есть жена.
– Арсен, ты смущаешь Свету! Хоть бы штаны надел!
– Да ладно! Ей, может, приятно на мужика посмотреть, своего-то нет!
А посмотреть было на что, это правда. Высокий, очень пропорционально сложенный, плечистый, накачанный, загорелый, такой красивый, что у Ирки кружилась голова, когда он проходил из комнаты с тренажерами в ванную. Молодой здоровый самец, машина для секса – он быстро и ловко доводил Ирку до полного умопомрачения, когда снисходил к ее робким заигрываниям. Редко. Очень редко. Ирка недоумевала – неужели ему не нужно? Неужели ему хватает? Ей – не хватало.
Воспитывать Ирку он начал сразу, с первых же дней. Никогда даже голоса не повысил, руки на нее не поднял, но умел так ласково и проникновенно низвести ее до уровня подковерной пыли – унасекомить, как сказала бы Настя-Крольчик, что Ирка вздохнуть боялась, не то что перечить! А пыли под коврами у них и не водилось – свекровь самолично проверяла, когда приезжала в гости. И свекровь, и сестер Арсена Ирка уже откровенно боялась, особенно Терезу, старшую – та бывала у них чаще, чем две другие, замужние и обремененные детьми. Родным Арсена Ирка не нравилась: свекровь губы поджимала, сестры шипели.
Но Ирка старалась! Очень старалась. И все не так, все мимо. Ей казалось – она волна, океанская волна. А Арсен – скала. Волна натыкается на скалу и разбивается, разрушается, опадает – раз за разом, раз за разом…
Постепенно она выучила все Арсеновы правила: не задавать вопросов, не звонить, в крайнем случае – слать смс, на все спрашивать разрешения, всегда выглядеть прилично, то есть – причесанной, накрашенной и наряженной, как на парад. Не разбрасывать вещи – все должно было стоять и лежать на раз заведенных местах. И она сама была вещью – вазочкой, скульптуркой, куколкой, в которую он снисходительно играл время от времени: украшал брильянтиками, выводил раз в неделю в ресторан, в клуб или на корпоратив, где Ирочка томилась в компании его сослуживцев и их «Ирочек», похожих друг на друга как две капли воды, и терпела заигрывания Владика, приятеля Арсена, удивляясь, почему муж его не одернет.
Она далеко не сразу поняла, что Арсен просто шофер! У большого человека, да. Очень большого – Тереза так и закатывала глаза, когда об этом заходила речь. Сам себя он называл работником службы безопасности, телохранителем, охранником – и усмехался. Это потом Ирка поняла, почему усмехался, почему нежничал с ней на людях, почему друга не одергивал. Почему спал с ней так редко. Потом. А пока пыталась как-то существовать в рамках Арсеновых правил и предписаний: училась готовить армянские блюда и варить кофе, как он любит, не приставать с глупостями: неужели ты не можешь сама решить такой простой вопрос, детка? Но когда решала сама…
Однажды она решилась перекраситься – не совсем, просто добавить цветных прядей, парикмахерша уговорила. Арсен был в ярости, и больше она не поступала так никогда. Ирка изнемогала от той странной жизни, что ей приходилось вести: парикмахерская, маникюр-педикюр-эпиляция, бассейн, тренажеры, солярий – нет, все это замечательно, конечно. И необходимо. Наверно. Но ей так хотелось просто погулять по городу, сворачивая в первые попавшиеся переулки, съесть мороженое на ходу, посидеть на бульваре, покормить воробьев и голубей, просто поглазеть по сторонам… «Опять ты шлялась по городу!» – так это называлось. Да на шпильках особенно и не пошляешься. Шпильки, сапоги-ботфорты, платья в обтяжку, шубки, бриллианты – все это теперь у нее было. И роскошное белье – единственное, что Ирке действительно нравилось и что она выбирала сама. Арсен к ее белью был почему-то равнодушен.
Не было только ребенка.
И жизни не было.
Нет, оставались еще книжки, которые она читала по ночам, лежа одна в огромной постели; ее собственные стихи, писавшиеся украдкой и делавшиеся все мрачнее и мрачнее; фильмы – «Звездные войны», «Гарри Поттер» и прочие «Игры Престолов», но никаких мелодрам, никаких романтических историй со слащавыми хеппи-эндами, избави боже! Да и читала в основном детективы, потому что от книжной или киношной любви так расстраивалась, так переживала, так тосковала, что чуть не плакала, а плакать нельзя – глаза опухнут, Арсен будет недоволен…
Да, еще Интернет! Арсен купил ей ноутбук, подключил Интернет, но строго-настрого пригрозил: «Никаких социальных сетей, никакой электронной почты! Я тебя вычислю на раз, и мало не покажется». Ирка и не рыпалась, ей достаточно было просто бродить по разным сайтам – литературным, художественным, музейным. Это было ее окно в мир! Вернее, форточка.
Потом, когда все рухнуло, когда закончилось голливудское кино и не стало ни брильянтов, ни шубок, ни Арсеновых правил, ни самого Арсена, Ирина недоумевала: как я могла так жить?! Почему все время разбивалась об эту скалу? Почему приходила в такое исступление от одного запаха его разгоряченной после тренажера кожи, от редких прикосновений сильных и жестких рук?! Почему?..
Когда Ире сообщили об аварии, она не поверила. Не могла поверить. Видела его и в морге, и в гробу – а все не верила. И плакать не могла – свекровь и сестры рыдали, а она – хоть бы слезинку выдавила, только вопросительно заглядывала всем в глаза: ведь это же не правда? Это понарошку? Это просто кино? Но гроб опустили в могилу, забросали землей…
Вот тут она наконец поверила.
Поверила и потеряла сознание. Надолго. Очнулась все-таки, но жила как в тумане – не в прежнем, сладком и дурманном, а в черном тумане, душном и горьком. Туман рассеивался медленно, а когда сквозь него стала видна окружающая действительность, вдруг оказалось, что Ира осталась ни с чем: страховка была оформлена на свекровь, машина, совсем новый Porsche, на сестру – разбился Арсен на служебной.
Но квартира все-таки досталась ей. Почти пустая. Ирка слегка удивилась, куда все делось, но тут же забыла. Она вообще почти все время спала, раз в день что-то ела, доставая из морозилки и машинально разогревая в микроволновке. Домработница сначала нянчилась с ней, сочувствовала, пока оплачено было, потом ушла. Ирка и не заметила, как почти не замечала приходов Терезы и матери. Мать-то ей глаза и открыла: и про страховку рассказала, и про машину, и про Терезу, которая каждый раз что-нибудь да прибирала к рукам – то музыкальный центр, то телевизор, то кухонный комбайн.
«Где шубки твои, а? Колечки, сережки? А часы у Арсена были, «Ролекс», они где? – причитала мать. – Перстни Арсен любил, цепи на шею, все золотое, запонки были с бриллиантами, а костюмы какие – от Версаче, а ботинки – итальянские, кожаные, высший класс! Все забрала Тереза, зараза! Если б могла, она бы и саму квартиру унесла в узелочке!»
– Мама, ну зачем тебе Арсеновы ботинки? – вяло спрашивала Ира.
– Как зачем?! Мишеньке бы пошли!
– Да у Миши размер не тот, мама…
– Неважно!
От материнского назойливого внимания Ира утомлялась, но зато туман таял гораздо быстрее: вдруг проявились краски, стали слышны звуки – оказалось, на дворе весна: солнце, ветер, воробьи купаются в лужах, нежно пахнут первые клейкие листочки. Она выходила во двор и тихо сидела на детской площадке, заново привыкая к миру и к себе – новой и какой-то не совсем настоящей, словно пустой внутри. Потом стала ездить на кладбище – далеко, на автобусе от «Кунцевской». На это у нее уходил весь день: собраться, заставить себя выйти из дома, спуститься в метро, дождаться автобуса, который ездит редко, – автобус петлял и кружил, особенно на обратной дороге.
Троекуровское кладбище – роскошное, богатое, элитное. Навестив Арсена, Ира долго бродила среди могил – рассеянно рассматривала памятники и вдруг узнавала известную личность: как, и этот умер? Все умерли. Она сама умерла. И обязательно вспоминала Кроличка – Настю Калюжную, любимую подружку, так рано ушедшую из жизни. Второе горе было после бабушки – сильное, почти невыносимое. Надо бы съездить к Насте на Ваганьково, сил только нет. А надо. Поехать, поплакать у нее на могилке – здесь, у Арсена, Ира не могла плакать. Не получалось почему-то. Куда это все делось: девичья дружба, смешные прозвища, ирландские танцы, наивные мечты и детские сказки, радость бытия и легкость полета? Пропало, словно вытекло в дырку, как молоко из рваного пакета. Осталась одна пустота, которую Ирина не знала, чем заполнить. Где ты, Ослик Антипка…
Разглядывая недавно поставленное искусственное деревце с цветами на могиле в соседнем ряду – красиво и трогательно! – Ира вдруг услышала: кто-то рыдает. Страшно рыдает, горько. И оглянулась. Женщина в черной шляпе с большими полями обнимала памятник Арсену и плакала. Памятник был роскошный и безвкусный, Ире совсем не нравился, но ставила Тереза, да и не все ли равно? Арсену точно все равно. Ира с недоумением вглядывалась в женщину – кто это? Кто-то из сестер Арсена? Она их плохо знала, только Терезу. Но Тереза в жизни шляп не носила! «Кто ж так убивается по моему мужу?», – подумала Ира, чувствуя болезненный озноб.
Женщина выпрямилась, поправила шляпу, посмотрелась в зеркальце, подкрасилась, надела темные очки, потом повернулась и пошла к выходу – прямая спина, летящая походка, высоко поднятая голова. И тут Ира ее узнала. И сразу все поняла, мгновенно. Но не хотела понимать, не хотела впускать это понимание себе в душу, потому что слишком оно было страшно. Медленно побрела следом за женщиной и увидела, как та садится в машину и отъезжает. И машину Ира узнала, и водителя тоже: Владик, приятель Арсена. Повысили его, значит. Вон как! Постояла, потом тоже села и куда-то поехала – оказалась маршрутка, которая привезла Иру к совсем другому метро.
В маршрутке орало радио, надсадно било по ушам «русским шансоном». Арсен все это обожал: хриплое ерничество, блатной надрыв, «как упоительны в России вечера», «а я сяду в кабриолет…», «не жди меня, мама, хорошего сына». В общем, Таганка – ночи, полные огня. И эту песню Арсен часто слушал: «А я нашел другую, хоть не люблю, но целую, а когда ее обнимаю, все равно тебя вспоминаю…» Правда, там пел мужчина, и выходило по-киношному красиво: скупая мужская слеза, вкус сигарет с ментолом… Нет, «дым сигарет с ментолом»! И как она это помнит: «Дым сигарет с ментолом пьяный угар качает. В глаза ты смотришь другому, который тебя ласкает…» А тут и слова были немножко другие, и пела женщина – сильным кабацким голосом, безо всякой тоски, даже с иронией, словно залихватски приплясывая: «Письма мои читаешь и надо мной хохочешь, ждать ты меня не стала, ну так гуляй, с кем хочешь!»
И вдруг Ира окончательно все поняла. И окончательно проснулась, а та дырка, сквозь которую утекала и утекала ее душа, заросла сама собой – никакой пустоты, никакой черной мути – ясное сознание и холодное бешенство. «Господи, почему я была такой дурой, а?!» Господь не ответил. Да и некому отвечать, никого там нету по ту сторону мироздания, и другой стороны нет – всё одно, один жестокий и безжалостный мир, которому на тебя глубоко наплевать. Она выругалась – длинно и витиевато – так, что проходившие мимо подростки даже присвистнули. Ну да, Ирка и это умела – интернат и общага не прошли даром. «Нет, теперь я не дамся!» – подумала она, чувствуя, как с ног до головы одевается невидимой броней, легкими крепкими доспехами, и холод булатной стали вошел в ее сердце, когда она проверила, легко ли вынимается меч из ножен. «Не дамся!»
В квартиру она вошла улыбаясь. И первое, что увидела, была Тереза с пылесосом в руках. Пылесос совсем новый, навороченный, Ира сама выбирала, и домработница Света нахвалиться не могла, до чего хорош, вот и Терезе, видно, понравился. А впрочем, может, только пылесос и остался – все остальное уже потихоньку прибрала к рукам домовитая старшая сестра. Увидев выражение лица Ирины, Тереза побледнела и отступила на шаг, подумав: «Вот черт, не успела!»
– Никак прибраться у меня решила? – ледяным тоном спросила Ирина, внимательно разглядывая Терезу. – Так начинай, чего стоишь.
Тереза открыла было рот, но ничего не смогла из себя выдавить. А Ира, сузив глаза, шагнула вперед и резко спросила:
– Ты знала, что твой брат мне изменял всю дорогу? – И по тому, как ахнула Тереза, как шарахнулась, с каким ужасом посмотрела, поняла – знала, знала! И с кем – тоже знала.
– Что ты такое говоришь, Ирочка? – забормотала Тереза. – С чего ты это взяла… Да Арсюша никогда… Он всегда… Об этом и думать нельзя, ты что… Ты не говори никому, а то, не дай бог…
«Что-то я должна еще у нее спросить? – думала Ира. – Что? О чем?» В голове замельтешили материнские причитания о «ролексах», костюмах, музыкальных центрах, ботинках… Страховка? «Порше»? Нет, не то. Про вклады спросить? О вкладах Ира и знать не знала – есть они, нет. Арсен дал ей карту, куда ежемесячно сбрасывалась определенная сумма на продукты, «на булавки», а что подороже, сам покупал. Хорошо, деньги поступили перед самой аварией – и неожиданно много! Арсен сказал: «Это тебе к дню рождения, киска». Но Ирка старалась экономить, чтобы растянуть подольше. Еще раз проверила себя: нет, все это мне не надо. Ни к чему. И вспомнила наконец – ключи!
– Верни мне ключи от квартиры. Быстро. Ну?!
Тереза заметалась. Она никак не догадывалась поставить пылесос на пол – Ира подошла и отняла силой.
– Давай ключи.
Тереза трясущимися руками вынула ключи из кармана куртки и подала Ире.
– Молодец. Еще дубликаты есть?
Тереза замотала головой.
– Тогда вали отсюда! И чтобы я тебя никогда больше не видела! Ни тебя, ни всю вашу семейку Хариных!
И снова выругалась. Тереза завизжала и выскочила за дверь, а Ира подумала: «Все-таки замки я поменяю». Потом пошла по квартире, методично открывая шкафы, выдвигая ящики, обследуя укромные уголки, сваливая на пол барахло, и во все горло распевала: «Губы твои, как маки, платье по моде носишь. Себя ты ему раздаришь, меня же ты знать не хочешь! А я нашел другую, хоть не люблю, но целую. А когда ее обнимаю, все равно тебя вспоминаю!»
Она сама хорошенько не знала, что ищет – но что-нибудь да найдется. И нашлось! Кое-что. Ира выложила добычу на стол в «кабинете» Арсена, где все и обнаружилось. Не зря он запрещал ей туда заходить, а Ира еще недоумевала: зачем ему кабинет?! Что он там делает? Не читает ничего, не пишет, какие такие особенные у него дела, требующие отдельного кабинета? Кино смотреть? Музыку слушать? В стрелялки свои играть? Музыку они слушали разную, кино смотрели тоже разное, стрелялок Ира не понимала, так что вскоре смирилась, хотя и грустила: Арсен так редко бывал дома, мог бы уделять ей побольше внимания, а не уединяться за закрытой дверью…
Массивный письменный стол с компьютером, кожаные кресла и диван, огромная плазма, а еще шкафы, в которых вместо книг стояли бутылки с дорогим коньяком, бокалы и безделушки, привезенные из разных стран мира, – вот и вся обстановка. Больше всего Ире нравилась огромная раковина – розовая, перламутровая, рогатая. Собственно, она и заходила в «кабинет», только чтобы послушать, как шумит в раковине океанский прибой – раковина была такая тяжелая, что Ира сама прикладывала к ней ухо, наклоняя голову. Потом Арсен отдал раковину ей, и Ирина перестала даже заглядывать в его убежище.
Да, не густо, подумала она, брезгливо приподнимая кончиками пальцев кружевные красные трусики, которые обнаружила среди диванных подушек. Что он только с ними делал?! Мятые, в пятнах… Бррр! Еще она нашла в ящиках стола использованный почти до конца тюбик алой помады, полупустой флакончик духов и очки. Точно такие, как у нее, но вообще без диоптрий. Ирина раньше обходилась, хотя неважно видела вдаль, но Арсену почему-то нравилось, когда она в очках, и он сам заказал ей оправу, довольно экстравагантную, но Ирка не спорила: раз ему нравится, значит, хорошо.
И помаду такую заставил купить – цвет кавьяр, красная икра, и ногти велел красить алым лаком, и духи такие же подарил, большой флакон – Elizabeth Arden 5th avenue NYC. Ирине нравились совсем другие ароматы, но какое это имело значение! Да, дорогой, как скажешь. Разве это про нее, такую кроткую и слабую: «Свежий цитрусовый аромат достаточно точно и в полной мере отображает ритм жизни современной женщины, которая излучает энергию, силу, смелость и непокорность!» Ира усмехнулась и понюхала флакончик: «Да, теперь я такая, дорогой, сильная, смелая. Непокорная. Пожалуй, это и правда мой аромат. А вот трусиков красных у меня никогда не было. И почему, интересно?»
Ирина открыла шкаф, налила коньяка в первый попавшийся бокал, выпила залпом и пошла на кухню. Сварила кофе, добавила побольше сливок и сахара, сдобрила корицей. Отрезала кусок белого хлеба, намазала маслом, положила сверху шмат докторской колбасы и жадно откусила – колбасу и батон купила по дороге. Теперь никто не запретит, хочу бутерброд с докторской колбасой и съем – наплевать, что вредно! Жевала, запивая кофе, и думала, как жить дальше.
Денег на карте уже почти не было, но если питаться докторской колбасой и кефиром, можно протянуть какое-то время. Да и в морозилках еще что-то оставалось. Одежда какая-то имеется, правда, большую ее часть она носить не собиралась, но парочка джинсов и кое-какие джемперы пригодятся. Из трех шуб осталась одна. Черт с ней, с Терезой! Пусть подавится! Ничего, выживу. Найду работу. А квартиру продам – мать уже выяснила, что квартира принадлежит Ире по праву наследования. Наверно, не успел Арсюша, подумала Ирка. Не успел и квартиру на своих баб перевести…
Но оказалось, что на квартиру у ее матери совсем другие планы. В тот же день все и выяснилось – такой уж получился решающий день, прямо судьбоносный. Ирка-то думала – с благодарностью, чуть не со слезами! – что мама о ней так заботится. Нет, не о ней. О Мишеньке. Парню почти тридцатник, а все у родителей на шее сидит. От армии отмазали, поучился где-то, бросил, еще куда-то пошел, все за деньги. Не работает толком. Ирка, конечно, маму понимала: устала одна крутиться, на отчима надежда плохая – так, пустое место. Одна радость, что добрый.
Понимала, да. И все равно такая ярость у нее в душе поднялась! «Что ж это? – подумала. – Почему все об меня ноги вытирают, как о тряпку! Мишеньке, видите ли, жениться надо, а как он женится, когда своего угла нет! Значит, я должна отдать ему эту квартиру, а сама – к маме с папой, тем более что папочка плохо себя чувствует, маме помощь нужна. А мне уже ничего не надо, что ли? Я ж с Арсеном жила как… как в тюрьме! Шаг влево, шаг вправо. Ни свободы, ни радости. И кругом обман, как выяснилось».
– Нет! – сказала Ирка матери. – Нет. Это моя квартира, и я ее продам. А Миша пусть наконец задницу от дивана оторвет и поработает для разнообразия.
– Как – нет?! – удивилась мама. Поразилась даже. Такая кроткая всегда была доченька, а тут… Это деньги ее испортили, вот что! Жизнь роскошная! Привыкла уже как сыр в масле кататься! Неблагодарная! Так и сказала дочери:
– Ах ты неблагодарная! Да я для тебя жизни не жалела! А ты!
– Нет, мамочка, что ты, я тебе очень благодарна. Интернат хороший был, спасибо.
Мама и замолчала. В общем, продала Ирка квартиру. Купила маленькую, однокомнатную, подальше от них от всех. Денег, конечно, дала матери – как не дать, мать все-таки. Та взяла, ничего. Простила. И такое было счастье – обустраивать эту квартирку крошечную, гнездышко вить: по веточке, по перышку! Минимум мебели, много света, кружевные занавески разлетаются от ветра – семнадцатый этаж, пол-Москвы видно! Потихоньку искала работу – для души, наплевать на зарплату. Деньги экономила, но не устояла – съездила в Париж: ранней весной, не в сезон, на пять дней, но все равно! Еще записалась на разные курсы: икебана, батик, художественная лепка, фотография – пробовала все понемножку, сама не понимала, что ей надо, но было интересно.
А прежняя жизнь никак не отпускала. Всей-то этой прежней жизни было года полтора вместе с ухаживаниями, а словно черная дыра разверзлась и поглотила Ослика Антипку! Проглотила, пожевала и выплюнула. Живи теперь как знаешь. И Арсен не отпускал. Снился. Руки его снились, властные губы, тяжесть сильного горячего тела – просыпалась, задыхаясь, вскакивала и долго рыдала под душем, под тугими струями воды: за что?! За что ты меня так? Почему ты так со мной поступил? Почемууууу…
И та женщина не давала покоя, что плакала на его могиле – страшно, горько, безнадежно. Та женщина, что красила губы помадой оттенка кавьяр, душилась духами со свежим цитрусовым ароматом и любила красное нижнее белье.
Илона Чембарцева. Жена всесильного босса.
Глава 6 Дым сигарет с ментолом
Ирина видела Илону Чембарцеву всего три раза и не очень разглядела – на свадьбе, на похоронах. И у могилы Арсена. Когда Ирка обо всем догадалась, то стала искать про нее информацию в Интернете – про нее и про самого Чембарцева. О нем почти ничего не было, хорошо окопался. Так, пара случайных фотографий и туманные намеки на уголовное прошлое. И в списке Forbes его не было – это что, даже жалких двух миллиардиков не нарыл?! А вот Илоны в Интернете было много: тусовки, презентации, кинофестивали, конкурсы, ток-шоу. Бывшая мисс чего-то там – кто бы сомневался! Пару раз рядом с ней мелькнул и Арсен – Кевин Костнер, твою мать! Майкл Дуглас! Ирка, конечно же, посмотрела всех этих «Телохранителей» и «Охранников».
Илона была хороша: стильная брюнетка с экстравагантной стрижкой. Ирка рассматривала ее с пристрастием: так вот кого вспоминал Арсен, обнимая жену! Это у нее губы, как маки, и платье по моде! Неужели я на нее похожа?! Да нет, просто рост одинаковый, ноги такие же длинные. Грудь у Илоны явно больше, наверняка силикон. Но если надеть парик, очки… Помада, духи одинаковые… Яркая платиновая блондинка с алой помадой в экстравагантных очках – конечно, это жена Арсена, такая киска! Как ее – Ирочка?..
Ирка все время думала, вспоминала, анализировала, складывала мозаику – пазлик к пазлику, кусочек к кусочку. Картинка вырисовывалась страшненькая. «Неужели это правда? – мучилась Ирка. – Или я детективов начиталась? Как бы узнать точно?» Жизнь-то – не книжка, где к финалу Пуаро собирает всех вокруг камина и рассказывает, как оно на самом деле было! Нет никакого Пуаро! Она сама себе и Пуаро, и мисс Марпл, и Шерлок Холмс с доктором Ватсоном.
В Сети нашлись даже фотографии совсем юной Илоны – и тут Ирку как обухом по голове ударило! Подхватилась и поехала к свекрови. И так прочны были ее доспехи, так выразителен меч в ножнах, что Тереза, открывшая дверь, ужаснулась и не хотела было пускать, но Ирка ее просто отодвинула и вошла.
– Что тебе надо?! Зачем пришла?
– Мне нужно посмотреть школьные фотографии Арсена. Я помню, есть такой альбом. Я взгляну и уйду.
В конце концов, они ей дали альбом, лишь бы отвязалась. Ирка быстро перелистала картонные страницы – Арсен в детстве был чистым ангелом: толстенький армянский мальчик с кудряшками и ресницами, как у девчонки. Наверняка пацаны его били, подумала вдруг Ирка. К старшим классам он выправился, постройнел, подрос. А потом и вовсе заматерел. Ирка еще раз перелистала – а, вот эта фотография! Нашла. Она безжалостно выдрала карточку:
– Эту я возьму, мне нужно. У вас еще много.
Свекровь с Терезой завопили вразнобой:
– А-а! Хулиганка! Сейчас милицию вызову! Караул!
Ирка усмехнулась:
– Милицию? Да вызывайте! Ну? Что ж вы? – Повернулась и ушла.
Ехала домой и думала: вот сволочь! Сволочь, Арсен! Нет, какой мерзавец! Ирку распирало от ненависти и ярости, хотелось что-то сделать, как-то… отомстить?
Но – кому?!
Арсену? Поздно!
Илоне? Она и так наказана – вон как убивается.
Чембарцеву? Невозможно!
А вдруг она все выдумала? И все не так, как ей кажется?
А что, если…
А что, если поговорить с Владиком? И она позвонила – Владик сам сунул ей визитку на одной из вечеринок: звякни, когда заскучаешь, детка. Детка! Ее просто тошнило от этого слова. Прискакал как миленький – видно, она ему и правда нравилась. Встретились в кафе, и Владик так напугался первого же ее вопроса, что Ирке стало понятно: ничего она не выдумала, все так и было. А всего-то и спросила: правда ли, что тормоза отказали у машины, на которой Арсен разбился?
– Ничего я не знаю! И знать не хочу, и тебе не советую! Куда ты лезешь, дурища? Жить надоело?
– Ладно. Ты только скажи, почему ко мне клеился. Сам или Арсен попросил?
– Ну, попросил. Хотел, чтобы я тебя… развлек немножко. А то скучает, говорит, девочка. Но я и сам был не прочь, правда…
Ирка усмехнулась: скучает. Хорошо сформулировал.
– Так ты знал? Про него и…
Владик переменился в лице:
– Никаких имен! Совсем дура, что ли!
– А ведь тебя повысили, Владик. Ты ее теперь и охраняешь, да? За что ж такая милость? Уж не ты ли и настучал на Арсена? – И, увидев, как Владик еще больше позеленел, поняла: он.
– Ты, тварь! Ты лишнего-то не говори! Поняла? Помалкивай, дура! Пока у тебя тоже… тормоза не отказали! Твою мать! – Швырнул деньги на столик и ушел.
А Ирка сидела, окаменев от вдруг навалившегося страха: действительно, куда лезу, идиотка?! Потом опомнилась: да что это я! Раньше смерти не убьют.
Спустя годы Ирина вспоминала это время и думала: просто я тогда сошла с ума! «Крышу» снесло на почве горя и ненависти. Ирка ничего не могла с собой поделать: ей нужно было знать правду. Нужно. Смертельно нужно. И она… отправилась к самому Чембарцеву. Помнила, где находится офис, Арсен показывал. Ира понятия не имела, как будет пробиваться к боссу, и даже не подумала, что его просто может не быть не только в офисе, но и вообще в Москве – он теперь мало занимался делами, да и то сказать, восьмой десяток уже, хотя никогда не подумаешь.
Ирка теперь понимала, что появление босса на свадьбе и похоронах такого мелкого сотрудника, как Арсен, было весьма странным явлением. Ладно на похоронах – все-таки личный шофер погиб, но на свадьбе! Да еще с супругой! Оба раза босс только обозначил себя – заехал в ресторан, провозгласил тост «за молодых» и отбыл, да и на похоронах не задержался. А Тереза все уши пропилила Ире: «Какой хороший у Арсюши начальник, приехал, не погнушался, а ровня ли мы ему, сама подумай, такой человек, богатющий да влиятельный, а мы-то кто – тьфу, грязь подколесная…» Демократичный вы наш, подумала Ира, чуть задержавшись у дверей. Сейчас и узнаем, насколько демократичный. Она проверила себя: нет, все в порядке, доспехи на месте и меч в ножнах. Ну и хорошо! Охранник посмотрел на нее скептически. «Куда ты лезешь, козявка?» – так и было написано у него на лице.
– Вы просто сообщите старшему! Сообщить-то вы можете? Не уволят же вас за это!
Охранник оскорбился:
– С какой это стати – уволят?! Чего я должен сообщить-то?
– Что к Ивану Петровичу пришла жена… вдова… Арсена Харина. А там видно будет.
Недоверчиво поглядывая на Ирину, охранник позвонил. Через пять минут в холле материализовался «старший», внимательно осмотрел Иру и тоже куда-то позвонил. Еще минут через пять появился, очевидно, чин повыше, уже не в форме, а в костюме с галстуком и тоже уставился. Ей стало смешно. «Ой, не к добру ты веселишься, ослик Антипка!» – подумала Ирина, но тут «ослика» пригласили в лифт, подняли куда-то к небесам и передали с рук на руки еще одному типу при галстуке. Тот быстро и внимательно проверил ее сумку, обыскал с ног до головы и провел в кабинет, в котором легко могли бы разместиться штук пять «кабинетов» Арсена.
– Присаживайтесь!
Ирина присела. Из боковой двери медленно вышел Чембарцев – большой, внушительный, чем-то неуловимо похожий на советского актера Бориса Андреева, которого очень любила бабушка. Постоял над ней, посмотрел, кивнул – Ира было дернулась, чтобы встать, а потом передумала: еще не хватало! – и сел напротив нее. Взаимное молчание длилось и длилось.
– Так в чем дело, Ирина Алексеевна? – скучным голосом спросил наконец Чембарцев. – Зачем я вам понадобился?
– Это вы убили моего мужа? – прямо спросила Ира. Она сидела, выпрямившись, подняв подбородок, вцепившись в подлокотники и крепко упираясь ногами, – пол уплывал у нее из-под ног, кресло качалось. Чембарцев поднял брови – удивился. Потом покачал головой, усмехнулся и ответил:
– Нет, я вашего мужа не убивал, – подчеркнув голосом «я».
– Я не имела в виду сам, своими руками. Это вы отдали приказ убить моего мужа?
– Почему же я должен был отдавать такой приказ?
– Потому что он спал с вашей женой.
– А! Вон что!
Ирина физически чувствовала взгляд Чембарцева – тяжелый, мужской, опасный. Она никак специально не готовилась к этому визиту, пошла в чем была: джинсы, какой-то джемпер, кроссовки – одежда, которую ненавидел Арсен. И длинные волосы она обрезала по плечи и не красилась больше в блондинку. Ирина не знала, как хочет выглядеть, но только не так, как нравилось Арсену.
Но сейчас, под пристальным взглядом Чембарцева, ей вдруг захотелось стать… прекрасной, великолепной, блистательной, чтоб он ослеп от ее красоты, задохнулся… чтобы сдох! И она представила, как наступает на грудь беспомощно лежащего на ковре Чембарцева, а ее тонкий острый каблук пронзает ему сердце.
Чембарцеву, Арсену – неважно.
Ему.
Господи, о чем она только думает?!
Чембарцев тяжко вздохнул, даже как-то крякнул, отведя от нее глаза:
– Эк вы меня ненавидите! Так что же вам все-таки надо? Еще денег?
– Зачем мне деньги? Я просто хочу знать правду.
– И что вы станете с этой правдой делать? Куда ее понесете?
– Никуда! Я просто хочу знать. Мне нужно.
Он поднялся, побродил по кабинету, заложив руки за спину, вернулся и встал над ней, возвышаясь горой.
– Вы совсем меня не боитесь?
– Нет. А должна?
– Обычно все боятся.
– Что, моя жизнь висит на волоске? – Ирина посмотрела ему прямо в глаза. – «Не думаешь ли, что это ты ее подвесил, игемон?»
Чембарцев хмыкнул.
– Это цитата, – пояснила Ира. – Мастер и Маргарита.
– Я знаю, откуда это. Ну, до Иешуа вам далеко, прямо скажем.
– Я и не претендую. Да, кстати! Что значит – «еще»? Вы спросили, не хочу ли я еще денег?
– А разве вы не получили от меня чек? Мой помощник передал, на похоронах.
– Чек? Ах да, я забыла! Я не в себе была. Да, правда, простите. Спасибо, они пригодились на памятник Арсену. Я Терезе отдала.
– Не дороговато ли? Памятник за полмиллиона отгрохали? Какой размах-то у вас, однако. Не понимаю я этой кладбищенской моды, ей-богу! Столько мрамора навалят – первая мысль: старались, чтоб обратно не вылез! Не-ет, я и в завещании написал: простой деревянный крест, и все.
– Подождите! Как – полмиллиона?! Там что, пятьсот тысяч было?! На чеке?
– Да. А вы что подумали?
– Я подумала – пятьдесят… Я всегда путаюсь в этих ноликах!
– Там же словами было написано, что ж вы, и читать не умеете, что ли?!
– Наверно, плохо прочла. Ну и ладно, пусть будет за полмиллиона. Раз им так хотелось…
Им так хотелось, конечно! Чембарцев разозлился, но не на нее, эту юродивую, которая ничего не боится и путается в «ноликах», а на родных Арсена: как же, памятник за полмиллиона, держи карман шире! Действительно, тыщ пятьдесят, поди, и истратили, максимум сто, не больше! Обобрали ее как липку, пока не в себе была. Вот черт, принесло ж ее…
– Ладно, значит, денег вам не надо. Хорошо. Слушайте правду. Эта сучка, моя жена, и ваш Арсен давно снюхались, еще до того, как он вас встретил. Понимаете? А женился он для прикрытия, чтобы я чего не заподозрил. Все демонстрировал, как сильно в свою жену влюблен. То есть в вас. Следы заметал, в Джеймса Бонда играл. Агент 007, мать его! Как дети, честное слово. Думали, я не узнаю.
– Да, я так и предполагала. Он выдавал ее за меня, когда… Рост такой же, фигура… Парик надеть, и все. Очки еще. Поэтому и духи, и косметику мне дарил – все, как у нее. А я даже не догадывалась, дура. Мне один раз подруга позвонила: ой, Ир, видела тебя с мужем в клубе – а я там и не была ни разу, Арсен меня туда не водил…
– Ну вот, вы и сами все знали, оказывается! Зачем же ко мне-то пришли?
– Убедиться. Я предполагала, а хотела точно знать.
– Да зачем?! Меньше знаешь, крепче спишь!
– Зачем? А затем, что я не понимала, как дальше жить! Я ж его любила! Я думала, раз женился, значит, тоже любит! А что у нас никак не получается, так это я виновата – плохая хозяйка, плохая жена! Плохая… любовница. Негодящая. Я так старалась! А все просто объяснялось: он другую женщину любил! Я – ни при чем!
– Ну, хорошо, теперь вы знаете. И что будете делать?
– Жить буду! Просто жить дальше. Если вы меня, конечно… не убьете… как Арсена.
– Да ладно вам! – отмахнулся Чембарцев. – Кому вы нужны, руки марать! Доказательств-то у вас все равно никаких нет.
– Нет.
– А вот скажите мне лучше, что б вы сделали, если б раньше узнали?
– Ушла бы.
– И все?
– И все. А что можно сделать, если человек тебя не любит? Не заставишь же. Страдала бы, конечно. Переживала. Но навязываться… Нет, никогда. Почему вы просто ее не отпустили? Свою жену? Когда узнали, что…
– А я не держал ее. Она всегда могла уйти, в любой момент. Но без денег. Нет, не совсем нищая, конечно, но… но так она не хотела. Ей нужно было все: и любовь, и деньги. Много денег. Все деньги. А про Арсена твоего вот что скажу – он погиб не из-за любви, а из-за жадности. Он предал меня, понимаешь? Я просто успел первым.
– Я поняла.
Они теперь смотрели друг на друга совсем по-другому, чем в начале этого странного разговора. Ирина чувствовала страшную усталость, даже голову заломило, и у Чембарцева как-то осунулось лицо, набрякли мешки под глазами, и стало заметно, что он очень стар.
– Сейчас я выпишу вам чек.
– Какой чек, зачем?! Я не приму.
– Почему? Тех денег у вас уже нет, на что вы живете? Вы работаете?
– Я найду работу. Я справлюсь. Никаких денег я от вас не возьму.
– Потому что я…
– Да. Я очень сильно любила Арсена. Как я могу взять от вас деньги?!
– Но он же вам изменял, использовал вас!
– Но я-то этого не знала! Я оплакивала его целый год! Еле выжила! За это вы мне хотите денег дать? За год жизни?!
– А-а, черт вас побери совсем! Вы же должны понимать, что для вас все к лучшему вышло!
– Может быть. Простите, я очень устала, пойду.
– Подождите! – Чембарцев встал и опять заходил по комнате. – Подождите…
Нет, что за женщина, а?! Она раздражала его, ужасно раздражала и… трогала. Сидит, сжав коленки, смотрит снизу вверх своими невероятными глазищами и совершенно его не боится. На самом деле не боится! От ее взгляда у Чембарцева словно трескалась кора – он давно ощущал себя чем-то вроде старого дерева, у которого уже почти не осталось живой плоти, только толстенная кора, сухая и шершавая, а под ней – трухлявая пустота.
А эта женщина, годящаяся ему в дочери – да куда там, во внучки! – заставила Чембарцева почувствовать себя живым. И напомнила Валечку, первую жену, которой уже почти полвека как не было на свете. Не похожа совсем, а напомнила. В последнее время Валечка стала чаще ему сниться, словно намекая, что жизнь подходит к концу, и Чембарцев тосковал, что и там не встретится с ней, со своей первой, единственной, настоящей, – кто ж его пустит в рай-то?! Никто. Гореть ему в аду веки вечные. А Валечка – точно в райских кущах. Кому там и быть, как не ей.
Эта тоже была настоящая, он чувствовал.
Или нет?
И медленно произнес, глядя на нее мрачным взглядом:
– Я могу назначить вам содержание. Вы мне нравитесь. Мне давно никто так не нравился, как вы. Красивая, смелая женщина…
– В каком смысле – содержание? – У Ирины пересохло в горле. – Вы что… Я не поняла… Вы предлагаете мне стать… вашей содержанкой?! Любовницей, что ли?!
– А если и так?
– Нет. Я не продаюсь за деньги.
– Ну, Арсен-то вас содержал!
– Я была его женой! И любила! – гневно отчеканила Ирина и встала. – При чем здесь деньги?! Позвольте мне уйти.
– Не продается она! Все продаются. Надо просто знать цену. Сто тысяч хотите? За одну ночь?
Ирина задохнулась:
– Вы что?! Вы в своем уме?!
– Пятьсот тысяч? Миллион?
– Послушайте, вы так развлекаетесь, да? Ни ночь, ни час, ни за десять, ни за сто миллионов! Вы убили моего мужа! Как я могу с вами спать?! Я любила его!
– Помешалась на любви! Это для тебя – главное?!
– Конечно! А для вас – нет?! А что тогда? Деньги? Что? Власть? – закричала Ирка, сверкая глазами. – Все это у вас есть – и власть, и денег навалом! И вы счастливы?! Отвечайте – счастливы?!
– А ты счастлива была?! Со своим муда… С мужем своим? С этим ублюдком! Счастлива?! Он же избавиться от тебя собирался, ты что, так и не поняла?!
– Как… избавиться? Что вы такое говорите?! – Ирка побелела.
– Черт, не хотел ведь… Вот ёлкин корень! Довела меня! А, чтоб тебе…
Он достал из бара виски, разлил в два бокала и сунул один Ире в руки:
– Выпей, быстро! Ну!
Она выпила и закашлялась.
– Ты в порядке?
Ирина посмотрела на него несчастными глазами:
– Нор… нормально. Что-то я… не сильно удивилась. Наверно, догадывалась. Иначе – зачем такие сложности? Парики, переодевания. Но не верила, что он… Ведь я так… так…
Слезы все-таки полились ручьем, как она ни старалась, и Чембарцев подал ей свой платок – старомодный клетчатый платок, большой и уютный.
– Ну ладно, ладно! Я ж говорил, что для тебя так лучше вышло…
– Все равно! Все равно никого убивать нельзя!
– Ах ты господи! – Чембарцев не выдержал, обнял ее и прижал к себе. – Ну, поплачь, что ж делать…
– Простите! – Ирка наконец успокоилась, вздохнула и отодвинулась от Чембарцева. Ноги у нее дрожали, и она опять села. – Скажите, как… Как он хотел это сделать?
Чембарцев вгляделся в Ирину: белая вся, дрожит, но держится. Молодец, девка!
– Ну, не знаю, как именно. Но план был таков: сначала от меня избавиться, получить наследство. Потом Илона уехала бы за границу, и Арсен тоже, вроде как с тобой вместе. И все. Она там играла бы на публику роль безутешной вдовы, а сама жила бы с твоим Арсеном под видом его жены. А тебя тут нашли бы… в виде неопознанного трупа в канаве.
– Но почему? Почему надо было так сложно?! Вышла бы замуж за него, и все!
– Потом, может, и вышла бы. Но первое время надо было выждать, мало ли что. Вопросы пойдут, расследование кто-нибудь затеет, завещание оспорит. Скандал выйдет. Она очень старалась быть… респектабельной. Так что – перестраховывались. А самое смешное, что никакого наследства она бы не получила. И не получит.
– Почему?
– А потому что я не дурак. В завещании прописано, что она получает свою долю лишь в случае безупречного поведения в браке, а при доказанной измене – шиш с маслом! А я уж постарался доказательства собрать: и фотографии, и записи разговоров, и видео. Все есть. Так что…
– А в тот день… Почему он погиб именно в тот день?
– Деликатно выражаешься. Убрали его именно в тот день, потому что взяли с поличным. Он же не в машине разбился, это так, для родных. Тоже мне, агент 007! Даже не подозревал, что давно под колпаком.
– С поличным… Значит, он попытался… И его убрали. Ясно.
– Ну да. Я все знал заранее. И подготовился. Илона к матери уехала на два дня, чтобы остаться вне подозрений, а он…
– Я вспомнила! Это же был мой день рождения! И он сказал, что… что мы скоро поедем… я забыла, куда… к морю, на какие-то острова… И так нежен был… так ласков… О боже!
– Ну?
– Он же остался у меня на ночь! Мы всегда отдельно спали, в разных комнатах, а тут остался – это подарок тебе, киска! И я счастлива была, дура, и спать совсем не хотела! Как можно заснуть, когда Арсен рядом! Но заснула как убитая… А утром проснулась – нет его… Нигде нет… Вообще больше нет…
Она замолчала, глядя пустыми глазами на Чембарцева, он вздохнул и налил ей еще виски. Ирка машинально глотнула.
– Я поняла. Мы тогда мартини пили. Коктейль такой, Арсен меня приучил: мартини, водка, апельсиновый сок и лед. А в этот раз грейпфрутовый был. Мартини горчит, грейпфрут тоже такой… резкий. Незаметно, если что добавил. Значит, он так алиби себе пытался обеспечить, да? Вроде как всю ночь со мной провел. Я проснулась бы утром – он под боком. Но что-то пошло не так…
– Все пошло не так. Я ж говорю – успел первым.
Ирка вдруг схватила сумку, валявшуюся на полу, и стала в ней рыться:
– Сейчас! Я же хотела вам показать! Где же… Вот!
– Что это?
– Это я вырезала из его школьной фотографии! Восьмой класс. Это Арсен – видите? А это Илона! Они учились вместе. Почему-то она только на этой фотографии, на других ее нет. Может, только с восьмого класса с ними училась, не знаю. Или я не заметила. Совсем девочка, а какая красавица! Только звали ее тогда не Илоной, а тоже Ириной, как меня. Вот Арсен веселился, я думаю. Видите, подписано: Ира Молчанова! Наверно, потом поменяла? Ирин много, а Илона – редкое имя, красивое. Но это точно она.
Чембарцев достал из нагрудного кармана очки и всмотрелся в фотографию. Долго смотрел, потом вернул Ирине.
– Да, она. А я-то думал, что меня уже ничем не удивишь! Значит, вон оно что…
– Вы не знали?
– Не знал. М-да. А как пела мне про любовь! Не хуже тебя. В здравии и болезни, в горе и радости! Ах, вы такой мужчина – надежный, сильный, брутальный! Твою мать! Я, конечно, не сильно верил. Какая там любовь! Подумал: ладно, пусть поживет девочка в достатке, последние годы мне скрасит. Ласковая девочка, красивая. Старый дурак! Врала, с первой минуты врала! А все деньги, деньги! Когда женились, я ведь не особенно хорошо себя чувствовал. Она, поди, думала, что недолго придется… Я-то выправился, а им, видно, невтерпеж.
Чембарцев ушел к окну и долго стоял там, отвернувшись от Ирки, пока она не кашлянула робко:
– Иван Петрович! Наверно, я пойду, да? Я и так отняла у вас много времени…
– Ну, конечно. Сейчас пойдешь. Давай-ка еще выпьем.
Они молча выпили, и Чембарцев дал ей шоколадную конфету:
– На, закуси! – И пояснил: – Диабет у меня. Бывает, инсулин падает, надо что-то съесть срочно. Вот держу на черный день.
Ирка кивнула. И вдруг поняла, что ей… жалко его. Почему-то жалко!
– Да, мерзкая история. – Чембарцев потер лицо рукой и вздохнул.
– А вы… вы долго с ней прожили? С Илоной?
– Не особенно. Года четыре, что ли? Вроде того.
– Это Арсен… ее вам… ну…
– Нет. То есть… Черт побери! Да, наверно. Ты права. Но все очень ловко было устроено. Мы на выставке с ней познакомились. – Чембарцев покосился на Ирину, но договорил: – На кошачьей выставке.
Ирка вытаращила глаза, а Чембарцев явно смутился, даже уши покраснели.
– На кошачьей?!
– И что такого?! Да, я люблю кошек!
– Я тоже люблю! Но не могла себе позволить, Арсен не выносил. Особенно люблю вислоухих, плюшевых, знаете? Ой, они такие лапочки!
– А меня Наталья приучила. Предыдущая жена. Третья. Она страстная кошатница была, ну, и я… втянулся. Даже в какие-то общества вступил – этих, как их? Кошколюбов, в общем. А Наталья серьезно занималась, экспертом стала, в жюри заседала – или как оно там называется. Детей не могла иметь, так все на кошек и…
– А что с ней стало? С Натальей?
– Что с ней стало?! Да ничего! Живет себе в Майами с новым мужем, американских кошек… экспертирует. Влюбилась, понимаешь! Лет десять прожили, и на тебе – влюбилась. Критический возраст у женщины, можно понять. Нашла себе молодого красивого. Ну, что поделаешь! Не заставишь же, как ты говоришь. Котов мне оставила. Теперь вот морока начнется, с переездом. Я хочу в Швейцарию уехать, насовсем. Хватит с меня этого бардака. Как котов-то с собой везти? Одних бумажек миллион надо, сдохнешь, пока оформишь.
– А много котов?
– Пятеро! Три кота, две кошки. Шестой вот помер недавно, Томас. Совсем старый был.
– Они какие-нибудь породистые?
– Все помоешные! Наталья с улицы подбирала. Но красавцы!
Ирка смотрела на Чембарцева во все глаза: кошки, кто б мог подумать…
– Иван Петрович, а дети у вас есть?
– А как же! Две дочери. Внуки. Даже одна правнучка! И сын. – Он нахмурился. – Но почти не общаемся. Так получилось. Да и не умею я… с детьми общаться… Вот только ты меня не жалей! Нашла кого! Себя лучше пожалей!
Он залпом допил бокал. Ирка сидела тихо, только моргала. В голове у нее слегка звенело от выпитого виски. Ира чувствовала, что ей… не хочется уходить! С ума сошла, точно. Нет, надо бежать, немедленно! Чембарцев печально посмотрел на нее и усмехнулся:
– Ну что, теперь ты все знаешь. Может, передумаешь? Прости, что мильёны предлагал – это я так, проверял. А ты мне и вправду нравишься. Давай в жены возьму, а? Это мне и обойдется дешевле.
– У вас же есть жена. Вроде как.
– Это не проблема. Уйдет с миром, как ты и хотела. Ну?
– Нет.
– Ишь какая! Бабье готово поубивать друг друга за такое предложение, а она – нет!
– Простите.
– Ну что ж, насильно мил не будешь. Ладно, иди с богом. Только впредь смотри, в кого влюбляешься.
– Думаю, мне это в ближайшее время не грозит. Иван Петрович! Я такую глупость сделала – с Владиком поговорила, а теперь боюсь, как бы он…
– С Владиком?
– Ну, охранник вашей жены, приятель Арсена! Это же он их сдал, правда?
– Ах, этот! И что ж, его ты, выходит дело, боишься, а меня – нет?
– Он дурак. Как и Арсен. А вы – умный. Вы же понимаете, что я для вас не опасна. Как может муравей слону навредить? Да никак.
Чембарцев рассмеялся:
– Ишь ты, муравей! Живи спокойно, никто тебя не тронет. А слон будет под ноги смотреть, чтоб ненароком на муравья не наступить. Прощай! Береги себя!
Ирина протянула ему руку:
– Прощайте. Вы… вы меня поразили. Ну, своим предложением. Даже как-то… лестно, что ли, не знаю, – и страшно покраснела.
Чембарцев взял ее руку и поцеловал:
– Иди, девочка. И знай себе цену. Ты дорогого стоишь. Я не про деньги говорю, поняла?
В кабинете материализовался давешний тип в галстуке, любезно открыл перед нею дверь, и Ирина пошла к лифту, чувствуя себя очень странно. Конечно, рассказ Чембарцева о планах Арсена ее потряс, но предложение замужества изумило, пожалуй, еще больше: сначала она решила – шутит. Потом поняла, что он всерьез, и… удивилась. Это удивление было таким огромным, что не умещалось в ней, выплескивалось наружу, и редкие встречные даже оглядывались, заметив ее потрясенное лицо. Выйдя из подъезда, она перешла на другую сторону улицы и оглянулась – Ира не знала, сюда ли выходят окна кабинета Чембарцева, даже не поняла толком, какой это был этаж, но увидела темную фигуру за стеклом и догадалась: это он!
Глава 7 Чембарцев
Ирина ушла, Чембарцев постоял, рассеянно глядя на дверь – никак не мог отделаться от воспоминаний: так и видел, какое лицо было у Илоны, когда вышел к ней, живой и здоровый. Побледнела – не хуже Ирины, открыла рот. И закрыла. А он смотреть на нее не мог – от ненависти! Отвернулся и сказал:
– Теперь тебя другой человек охранять будет. Владислав.
– А как… как же Арсен? – спросила дрожащим голосом.
– Арсен твой у меня больше не работает! – Повернулся и прямо в лицо ей отчеканил: – Умер твой Арсен! Похороны послезавтра. И мы с тобой пойдем. Отдадим последний…
И не договорил – Илона медленно осела на пол. Чембарцев посмотрел, перешагнул через нее, вышел и сказал горничной:
– «Скорую» вызови. Мадам что-то плохо стало.
Сейчас ему было больно это вспоминать – больно и… стыдно. Потому что сам во всем виноват. И жениться не надо было – ведь чувствовал фальшь, чувствовал! И когда узнал про связь с Арсеном – нет бы выгнать сразу обоих, да и все. Не-ет, развлекался, дурак старый! Играл в живых куколок! За ниточки дергал. Решил посмотреть, как далеко зайдут. Вот и заигрался. М-да…
Чембарцев постоял, потом тяжко вздохнул и подошел к большому панорамному окну – оперся руками о толстое стекло и взглянул вниз – увидел, как выходит Ирина, останавливается, оглядывается, смотрит… Снова вздохнул: жаль. Хорошая девочка. А глаза какие! Всю душу в них видно. Как она его ненавидела сначала! А потом – пожалела. Он усмехнулся – это его-то! Да, настоящая. С ней можно было бы разговаривать. Да, собственно, ничего ему больше и не надо – в его-то возрасте, когда о душе пора думать, а не о… А не о девочках. Да и есть ли у него душа-то? Чембарцев давно не размышлял ни о чем таком, а тут вдруг понесло: рай, ад, душа… любовь. Это она разбередила, Ирина, черт бы ее побрал совсем! Ну надо же, приперлась: это вы моего мужа убили? Господи, и как она будет дальше жить, юродивая!
Тогда, на свадьбе Арсена, куда он специально пришел, чтобы посмотреть, как будут дергаться его куколки, Ирина ему не понравилась: еще одна куколка – фарфоровая, кружевная, бледная, с испуганными глазами и извиняющейся улыбкой. И просто обмирала от поцелуев Арсена, себя не помнила, – Чембарцев покосился на Илону, та ему улыбнулась, немного криво, но улыбнулась, а рука ее так напряженно сжимала ножку бокала, что костяшки побелели. И ночью была необычайно нежна с ним – не иначе, представляла себе первую брачную ночь своего Арсена. А Чембарцев веселился втихаря. На похоронах Ирина была совсем другая, с пустыми глазами, потом в обморок упала. Чембарцев видел, как она рассеянно приняла чек от помощника, скомкала – сейчас выкинет, подумал он. Но подскочила – как ее? – Тереза! и выхватила чек.
А Илона – молодец, даже зауважал: ни слезинки, ни звука! Только потом, в машине, попросила: «Можно, я к маме сейчас поеду? А то она что-то неважно себя чувствует в последнее время». Ну, поезжай. И что-то все веселье его разом кончилось – пустота, одиночество, словечка сказать некому. Илона уехала в Испанию, он не возражал – пусть ее! Теперь все равно. Теперь и отпустил бы, и денег дал. Но не заикалась. Наследства ждала? Ну, жди-жди.
А поговорить хотелось. Просто поговорить, как люди разговаривают! И не с кем. Он давно отошел от дел – так, присматривал, держал фасон. Вдруг оказалось полно свободного времени, которое не на что было особенно тратить. Друзей у Чембарцева не осталось – да и какие такие друзья! Он был самым старым из тех, кто поднялся в лихие девяностые. Самый старый, самый осторожный, самый живучий. Самый одинокий. Всю жизнь прожил волком-одиночкой, ни к кому душой не прикипал. После Валечки.
Валечка…
Как всегда, при мысли о ней защемило сердце. И ведь не красавица совсем: такая пигалица была! И нисколько его не боялась, даром что маленькая. Командовала, вертела им, как хотела. А он только радовался: после детдома, после общаги – пусть всего-то комната в коммуналке, но свое гнездо! А жили весело, хоть и бедно. Валечка хотела, чтоб он в институт поступил: ты умный, способный, всего добьешься, инженером станешь! Как увидел в первый раз – ямочки, локоточки, коленочки, платьице в цветочек, – так и зацепила она Ваньку, так и забрала его жизнь в свои маленькие ручки! А потом – выпустила. И покатился он колобком недопеченным – и от дедушки ушел, и от бабушки ушел, и от лисы, и от волка с медведем, а зайцев – тех сам лопал по дороге за милую душу.
После Валечки он долго не женился, лет пятнадцать. Потом выбрал кого ни попадя, через три года еле развелся. Дочерей-погодков толком и не видел, не хотят знаться, а там ведь еще и двое внуков. Решил плюнуть на это дело – на семью. Что, баб нет, что ли? Были б деньги. А деньги были. Потом появилась Наталья. И как-то вдруг… подружился, что ли, с ней? Идиотское слово, но другого подобрать не мог. Классический случай – секретаршей у него была. Никогда не брал в секретарши молодых длинноногих. Средних лет, все прилично. А длинноногие в другом месте найдутся. Наталья тоже, правда, была длинноногая, хотя и не молодая. Всего-то на 15 лет его младше. Стройная, красивая – для своего возраста, конечно. Очень спокойная, разумная, все понимала. И поговорить с ней можно было – так и договорился до женитьбы. Наталья даже засмеялась, когда предложил:
– Что это вы, Иван Петрович?
– А что?
– Совсем одиноко, да? – Подошла, заглянула в глаза, он обнял ее, вздохнул. Наталья его по щеке погладила: – Бедный Ваня…
Сейчас он иногда скучал по Наталье, звонил, опять говорили, как прежде. Особенной любви между ними не было, но… дружили. Да и расстались, в общем, друзьями. Ничего, привык. Нет бы и жил дальше один! Надо же было ему эту Илону – кошку драную, сучку подзаборную! – подобрать. Точно говорят – бес в ребро.
А теперь вон что вышло…
Любовь, ты ж понимаешь! Душа! Душа надобна, да… А все она виновата, рассердился Чембарцев, Ирина! И подумал: а ведь ей можно было бы рассказать. Эта поняла бы, пожалуй. То, что никому не рассказывал, никогда. Даже сыну…
В тот день, сломавший его судьбу, Чембарцев проспал. Всего-то кружку пива выпил после работы с мужиками, и вот тебе, пожалуйста: проспал! Они с Валечкой работали в разные смены, и по вечерам Иван ездил ее встречать к заводу – мало ли что, все-таки на седьмом месяце. Был конец марта, но морозно и снежно, как в январе, – весна запаздывала. Иван накинул пальто, схватил шапку и помчался на улицу – так здорово проспал, вот черт! Наверно, она уже на подходе. Выскочил в переулок и сразу увидел Валечку – она медленно шла по снегу вдоль длинной ледяной дорожки, раскатанной местными мальчишками. Увидела его, рукой замахала…
То, что случилось дальше, врезалось в его память замедленными кадрами фильма: в переулок въехала светлая «Волга», ее чуть занесло, и машина почти задела Валечку, та покачнулась, шагнула в сторону…
Если бы не эта ледяная дорожка!
Нога у Вали поехала, она потеряла равновесие, замахала руками и упала…
Нехорошо упала, навзничь.
Иван заорал и побежал к ней, а машина, которая слегка притормозила, резво рванула вперед. Иван бежал прямо на машину – увидел перекошенное от страха лицо водителя, опять заорал:
– Стой! Стой! Помоги! В больницу надо! Стой!
Но машина, вильнув, объехала его и умчалась дальше по переулку, потом свернула направо.
– Что же ты… В больницу же… надо…
Он побежал к Валечке – она не дышала, и Ванька заплакал от ужаса: что ж такое-то?! Что же это?! Врача, надо врача… В больницу… Он попытался ее поднять, не выходило, но как-то осилил, встал, поскользнулся, чуть не упал, но выправился и пошел с Валей на руках к главной улице, где горели фонари и ездили машины, где была телефонная будка. Дошел, положил ее на тротуар – где ж телефон-то?
Тут же собрались прохожие: что, что случилось? Ой, смотри, женщине плохо! Беременная! Рожает, что ли? Да ты смотри, кровь! И правда, здесь, на свету, стало видно, что снег под головой Валечки красный. И вдруг Иван увидел машину «Скорой помощи», выехавшую из-за поворота. Он выскочил на проезжую часть, чуть не под колеса кинулся:
– Стойте! Помогите!
Дальше он помнил плохо: скрежет тормозов, свистки милиционера, общий крик, кто-то ударил его в зубы – вроде как шофер «Скорой», кого-то он бил сам, вырываясь:
– Пусти, сволочь! Жена же моя! Пустииииии…
Как оказалось, бил он милиционера. Ну, его и повязали, несмотря на то, что орал как резаный: жена помирает! Успел увидеть, что Валечку забрала та «Скорая», на которую он кидался. В машине милиция ему еще наваляла, и здорово, и в отделении добавили – в такой раж он вошел. Иван буйствовал в «обезьяннике» почти час, потом затих. Тогда к нему осторожно подлез жавшийся в уголке пацан со смешной челочкой – Генка Степанов по прозвищу Чубчик кучерявый, мелкий жулик, карманник, взятый с поличным.
– Эй, парень! Как тебя звать-то? Иван? Ванька, значит. Слушай, ты зря бузишь! Так тебе всего пятнадцать суток дали бы, а теперь на статью тянешь!
– Пятнадцать суток?! – ужаснулся Иван. – Я не могу пятнадцать суток! У меня жена помирает!
– Тихо-тихо-тихо! Ты что! Тихо сиди! Не хочет он пятнадцать суток! А два года не желаешь?
– Как… два года?! За что?! Они ж сами!
– Тихо, говорю тебе! Не ори! Надо утра дождаться. Начальник придет. Тут хороший начальник, правильный. Он меня один раз отпустил, веришь? Вдруг и тебя отпустит…
Они оказались ровесниками. Оба детдомовцы – нашлось, о чем поговорить. Правда, говорил один Генка, трындел без умолку, заговаривая Ваньку, и в конце концов Чембарцев впал в тягучее мутное забытье. Очнулся от звонкого голоса все того же Генки, который радостно кричал, стоя у решетки:
– Дяденька начальник! Здравствуй! Как она, жизнь?
– Какой я тебе дяденька! Племянник нашелся. Степанов, ты, что ли? Завязывай ты с этим делом, не годишься! Какой из тебя щипач, ты уж пятый раз попадаешься.
– И всего третий! Гражданин начальник, подойди, сделай божеску милость!
– Ну, чего тебе?
– Начальник, будь человеком, отпусти, – тихо заговорил Генка совсем другим тоном, серьезным. – Да не меня! Вон его! У парня горе, жена помирает, а его забрали по дурке! Отпусти, правда! Беременная жена, на седьмом месяце…
Начальник посмотрел на сидящего на лавке Чембарцева, тот, исподлобья, на него.
– А чего рожа такая? Дрался, что ли?
– Ну, накидал слегка мусорам твоим, так он осознал! Правда! Ну, горе ж у пацана!
– Подойди-ка! Как тебя?
– Чембарцев Иван. – Ванька с трудом встал, так все затекло за ночь, подошел.
– Ну что, Чембарцев Иван? Плохо дело? Рассказывай!
Иван рассказал, как мог. Начальник смотрел на него, молчал, только хмурился и желваки на скулах играли. Он был немолод – в отцы пацанам годился. Седой, глаза голубые. И, глядя в эти голубые глаза, Иван вдруг сполз по решетке и встал на колени:
– Отпустите меня, христом богом прошу! Век не забуду!
Начальник тяжко вздохнул, потом крикнул:
– Дежурный! Алексеенко! Отпусти этого! Чембарцева. Да, и позвони в справочную, узнай, куда привезли Чембарцеву… Как дальше?
– Валентину Сергеевну!
Дежурный, гремя ключами, отпер замок. Иван пошел в сортир, умылся. Увидел себя в мутном зеркале – ужаснулся: ну и рожа, правда! Глаз заплыл, губа разбита, нос… Нет, нос вроде не сломан. Ужас! Валечка же… Валечка испугается… И таким ужасом охватило, что руки затряслись. Валечка! Вышел и услышал, как начальник переспрашивает дежурного, вешающего трубку:
– Умерла?! А ребенок?
– Ребенок вроде жив…
Они все обернулись на него: мрачный начальник, перепуганный дежурный, еще какие-то люди в форме и без нее… Бледный Генка-Чубчик смотрел из-за решетки. Тишина настала. Смертная тишина. Потом кто-то дал ему воды, Иван машинально выпил.
– Пойдем, – сказал начальник. – Я сам тебя отвезу. А то опять загребут, с такой-то рожей. Какая больница, Алексеенко?
– Роддом № 6!
– Абрикосовский? Пошли, Чембарцев.
В морге Чембарцев отрубился. Как увидел Валечку, так и все. Младенца ему потом все-таки показали, начальник настоял. Маленький, красненький…
– А он выживет?
– Посмотрим, – ответил главврач, глядя на Ивана с состраданием. Он не очень понял, почему отец в таком виде, но раз милиция просит… да еще так настойчиво… Начальник довез Ивана до дома, даже в комнату зашел, посмотрел – да, бедненько.
– Тут, значит, живете? А родные-то какие есть?
– Здесь. Только я еще не прописан. Не успели мы… с Валечкой. А родных… никого. Я ж детдомовский, а… Валечка… Валечка…
– Так, спокойно! Водка есть у тебя?
Выпили, помянули.
– Ну ладно, парень, держись. Ты не один, сын у тебя. Держись, мальчик.
– Спасибо вам!
– Не благодари! Не за что! – И зубами скрипнул. В дверях приостановился: – А ты номер не запомнил? Ну, машины этой? Бежевая «Волга», говоришь?
– Не запомнил.
– Ну да, тебе не до того было. Прощай! И чтоб я тебе больше не видел, понял?
– Понял…
Номер он запомнил. Как в камень врезал. И мужика этого. На всю жизнь.
Как похоронили Валечку, как, что – ничего не заметил, как в тумане все было. Переехал обратно в общагу, работал, даже не пил. Потом начал. И тоже, как на работу, ходил по очереди: то на кладбище к Валечке, то к сыну в роддом, то к Валечкиному дому, в тот переулок проклятый. Долго ходил, но наконец увидел машину – бежевую «Волгу». И номера те самые, и водитель. Едет себе как ни в чем не бывало. Проследил за ним – тот свернул направо и встал в закоулке, машину оставил, а сам пошел в арку, Чембарцев – за ним: ага, падла! К любовнице, не иначе! Мужик был, как ему по молодости показалось, уже старый – лет сорока. В шляпе, в хорошем пальто, кашне белое развевается. Почему-то это кашне прямо взбесило Чембарцева. Ну ладно, погоди. Дождался в арке, пока обратно пойдет, спросил культурно:
– Товарищ, прикурить не найдется? – и шагнул к нему из тени. Тот шарахнулся:
– Я не курю!
Чембарцев сгреб его, ухватил за кашне и подтащил к закрытой намертво двери, там углубление небольшое было в стене, туда и втащил. Притиснул к двери и заточку к горлу приставил:
– Только пикни – пришью!
Тот сразу затрясся, забормотал шепотом, выпучив глаза:
– Возьмите, возьмите, вот кошелек, часы, только не надо, не надо!
– Умолкни! Узнаешь меня?
– Нет! Нет, я не знаю вас, нет…
– А, сволочь! Ты жену мою убил и не помнишь?!
– Я никого… никого… вы обоз… обознались…
– Машиной сбил! Тут, рядом, в переулке! В марте? Не помнишь?!
И увидел, что тот вспомнил. Затрясся еще больше, завизжал:
– Нет, нет! Я не сбивал! Она сама упала! Сама!
– Да если б не ты, она б не упала! Она беременная была, ты не заметил, что ль?! На седьмом месяце! Что ж ты, гад, не остановился, а? Я ж тебе кричал! Если б ее сразу… в больницу… она выжила бы! Почему ты не остановился, сволочь?! Почему?!
– Я… испугался… Простите… Я не хотел, чтоб так вышло… Простите…
Руки у Чембарцева тряслись, заточка царапала мужику горло – тоненькая струйка крови стекала на белое кашне…
Это была последняя секунда, когда он мог остановиться.
Всю оставшуюся жизнь мучил Чембарцева навязчивый сон: вот он отводит заточку, изо всех сил бьет мужика кулаком в лицо и говорит: «Живи, сука! Если сможешь!» И уходит. И сам живет дальше. Потому что он умер вместе с этим мужиком – там, в подворотне! Только не сразу это понял.
А тогда он отвел заточку, размахнулся и с силой вонзил ее мужику в сердце. Тот сразу обмяк, Чембарцев выдернул заточку, осторожно положил мужика на асфальт, проверил, жив ли, потом сорвал с него кашне, завернул заточку, сунул в карман. Снял часы, вынул бумажник, распихал по карманам и быстро ушел. Все заняло меньше минуты. Никто не видел, не слышал.
Под первым же фонарем осмотрел себя – крови нигде не было. Заточку, завернутую в кашне, и часы выбросил в Москва-реку, бумажник – в урну, а деньги, которых оказалось неожиданно много, взял. Что делать с ними, не знал: тратить не собирался, а просто выкинуть рука не поднималась. По дороге попалась маленькая церквушка – вот сюда и отдам, подумал. Зашел, огляделся, увидел какой-то прилавок, подошел:
– Как бы мне… Не знаю… Что надо сделать? Жена у меня… умерла…
Женщина средних лет, вся в черном, занялась с ним: помогла заказать поминальную службу по Валечке, надоумила записку за здравие младенца подать, хоть и некрещеный еще – а надо, надо бы окрестить-то, сынок! Ведь сирота, без мамки, ангела надо в помощь. Отдал ей все деньги – много! Ну, все равно, возьмите. На храм, что ли. И ушел, и еще радовался, как правильно все сделал. Успокоился.
И главное, прекратился тот нескончаемый крик – вопль, вой, стон, что звучал у него внутри, раздирая в клочья душу, с того самого момента, как увидел мертвую Валечку. Вой стихал только тогда, когда стоял у бокса, где лежал его сыночек – маленький, красненький, весь в трубочках и проводочках. Однажды что-то толкнуло в спину – оглянулся: женщина. Вся в белом и сама белая, а глаза как черные дыры! Моргнул – исчезла. Испугался: не смерть ли приходила?! За сыночком?! Побежал спрашивать, но сестра успокоила, сказала – на поправку идет! Выживет, теперь точно выживет! Отлегло…
Вернулся в общагу, пельменей поел, побазарил с мужиками – и заснул мгновенно, впервые за все последние бессонные ночи. А через пару часов проснулся от голоса Валечки – тоскливого, надрывного:
– Ваня-а! Что ж ты надела-ал! Ты ж человека уби-ил, Ваня-а! Как же мы теперь с тобой?! Ты ж себя убил! Ваня…
Сел, схватился за голову: «Господи! Я ж человека убил!»
Вспомнил все – застонал.
Что я наделал?!
«Валечка! Валечка, прости меня! Валечка…»
И заплакал.
Больше не плакал уже никогда.
Но запил, пошел вразнос – а, все равно! Конец всему.
Потом в тюрьму загремел. Ехал как-то в трамвае – женщина стоит беременная. Сказал сидящему мужику: «Встал бы, место уступил!» Тот тоже был выпивши, ответил грубо, Чембарцев врезал, мужик – ему. Короче, избил его так, что… Нет, жив-то остался. Дали два года, отсидел, вернулся на завод – взяли, ничего. Его жалели там, понимали, что жизнь не задалась. А в суде с начальником случайно встретился – с тем, что отпустил тогда:
– Это ты? Как тебя – Чембарцев? Что ж ты, Ваня, а? Говорил же тебе – держись! Хоть бы о сыне подумал! А ты что?! Ох, горе…
Сын…
Ну да, сын. Конечно.
О сыне он думает, все время думает.
Всю жизнь думает.
Случилось это на девятый день после смерти Валечки. Чембарцев, как всегда, стоял у бокса, когда к нему подошла старшая медсестра Серафима Андреевна и увела к себе, в крошечный кабинетик. Усадила, налила сто грамм разведенного спирта – давай помянем твою жену! Помянули, закусили холодными котлетами, которые она из дому принесла. Серафима посмотрела, как он заглотил котлету, спросила, когда обедал последний раз, – Иван не помнил. Пошла принесла ему больничный обед в судках. Он насупился было:
– Спасибо, не надо!
– Ешь, кому говорю! – и еще по сто грамм разлила.
Он съел. А она заговорила с ним шепотом – о сыне:
– Ваня, мальчик, послушай меня, только тихо, не кричи! Не справишься ты, не поднимешь ребенка! Да тебе и не отдадут – живешь в общежитии, родных никого. Понимаешь? Тебе бы надо срочно кого-нибудь найти, и хорошо бы с жильем…
– Кого… найти? – не понял Иван. – Няньку ребенку?
– Да какую няньку! Где она нянькаться с ним будет? В общаге? Женщину! Чтоб приняла тебя с ребенком! Сейчас одиноких много, а ты парень красивый…
– Какую еще женщину, вы что?! Я только жену схоронил! А что в общежитии, так мне квартиру, может, дадут! Или хоть комнату!
– Не кричи ты! – Серафима выглянула в коридор и прикрыла поплотнее дверь. – Пока ты комнату будешь ждать, у тебя сына отберут, в Дом ребенка отправят. Ты этого хочешь?
– Нет! Ни за что! Я сам из детдома! Ни за что!
– Есть еще вариант.
– Какой?
– Отдать хорошим людям. Интеллигентные, обеспеченные, у твоего мальчика все будет, полная семья, образование, все! Женщине уже под сорок, детей нет, и родить не сможет уже никогда, понимаешь? Умер у нее ребенок! В то же день, что твой сын родился.
Иван не знал, что делать. Серафима говорила так складно, да он и сам понимал, что права: куда ему с младенцем! Он и смотреть-то на него боялся, не то что на руки взять! А тут – ухаживать за ним будут…
– Она выходит мальчика, выходит! – словно услышав мысли Ивана, сказала Серафима. – Слабенький, недоношенный! А с ними не пропадет!
– Я могу с ней поговорить?
– Сейчас, приведу! Сегодня и муж ее здесь.
Когда вошли, Иван сразу узнал ту белую женщину с черными глазами-дырами, что напугала его у бокса. Она сразу упала перед ним на колени и стала хватать горячими руками:
– Ванечка, мальчик! Отдай мне его! Пожалуйста! Умоляю!
– Оля, не унижайся! Он же подумает, что ты сумасшедшая! – с мукой в голосе сказал ее муж. Они оба показались Ивану очень старыми, особенно муж – да он и на самом деле был гораздо старше жены, как потом оказалось. Ольга поднялась, присела, закрыла лицо руками, вздохнула глубоко, и, когда снова убрала руки, оказалось, что никакие не черные дыры, а обычные серые глаза, полные слез.
– Ваня, я ведь каждый день к нему ходила, к твоему сыну. Ты уйдешь – я прихожу. Я уже люблю его, правда! Отдай нам! Я всю жизнь, каждый день буду за тебя Богу молиться! Как вы хотели мальчика назвать? Борей? Мне нравится! Боречка, Бориска! Правда, Миша?
И Миша мрачно кивнул. Только потом, спустя годы, Чембарцев сообразил, что без денег не обошлось – главврачу, Серафиме. Дело-то подсудное. Ему никто денег не предлагал. Да он бы и не взял.
Глава 8 Говорящая кошка
Андрей позвонил в пять часов, сказал, что придет не один. Ирка было обрадовалась, что заедет Глеб, но оказалось, кто-то незнакомый. Андрей держался таинственно и на ее расспросы не поддался.
– Морочит нам папа голову, да, Антипка?
– Ы-ы! – радостно сказал Антипка, улыбаясь во все свои четыре зуба.
– Ы-ы! – передразнила его Ирка и чмокнула в носик. – Ослик ты мой! Ну, пойдем приготовим что-нибудь простенькое, но изысканное, как наш папа выражается.
Наконец папа с загадочным гостем явились. Ирка вышла в прихожую и… обомлела:
– Господи, как вы на отца-то похожи! Я в первую секунду даже подумала…
– Да, все говорят, что похож на Чембарцева. Но я против отца пожиже буду.
Действительно, гость был помельче. Но очень похож, просто копия.
– Андрей, ты хоть бы предупредил!
– А это сюрприз! Подожди, еще не все!
Они с гостем засуетились и извлекли откуда-то из-под вешалки небольшую плетеную корзиночку с крышкой – вот!
– Это вам подарок от отца.
Ирка подняла крышку, и на нее тут же уставился желтыми глазищами маленький вислоухий котенок – зевнул, потянулся, растопырив лапки, сел и звонко произнес:
– Мрррау! – Это прозвучало как «Привет!».
– Ой! Котик!
– Это кошечка. Скотишш фолд. Расцветка называется серебристо-черная табби. Зовут Зайка Флэппи Джонс Кити Лав. Ей три месяца.
– Зайка! Точно, Зайка! Ой, я не могуууу…
Мужчины с улыбкой смотрели на Ирку, которая умилялась над котенком, серьезно ее разглядывающим.
– Ты Зайка, да? Ой, чудо какое!
– Мррав! – подтвердила Зайка и полезла к Ирке на руки.
– Она разговаривает! Господи, Чембарцев запомнил, что мне нравятся вислоухие кошки…
Некоторое время все суетились: разбирали сумку с приданым Зайки, здоровались с Антипкой, усаживались за стол, устраивали кошечку, которая решительно заявила, что согласна сидеть только на плече у Ирки – отсюда же все видно, вы что! Наконец, разлили, выпили, закусили – за знакомство.
– Простите, я в этой суете не расслышала, как вас зовут!
– Да я толком и не представился. Борис Михайлович Журавлев.
– Как?! Почему вы – Михайлович? Журавлев?!
– Я усыновленный. Не стал менять, привык за всю жизнь. Отец сказал – ему все равно.
– Усыновленный?
– Это долгая история. Я, собственно, и приехал, чтобы ее рассказать. И познакомиться с вами. Отец очень хотел этого. Говорил – вы на мою мать похожи. На мою настоящую мать. Ее звали Валентина, Валечка. Не внешне похожи, а своей женской сутью. Это он так выразился. Сильная, честная, верная, искренняя, добрая. Смелая, красивая. Настоящая женщина.
– Правда? Надо же…
– Вот она, на фото, вместе с отцом. – Борис подал Ирине раскрытую книгу. – Это все, что у нас с ним осталось от мамы.
Ирка взглянула сначала на обложку – простой серый переплет и черный текст: «Иван Чембарцев. Моя история».
– Это не мемуары в полном смысле слова. Именно история. Не вся его жизнь, только начало. Отец наговорил на диктофон, а я потом редактировал. Таких книг всего две, одна у нас, другая – у вас. Отец хотел, чтобы вы прочли. Он очень часто вас вспоминал.
Ирка открыла книгу – фотография была старая, мутноватая. И правда, внешне Валечка совсем другая: миниатюрная, с кругленьким личиком и ямочками на щеках. Как глаза-то сияют! Прическа модная. Как это называлось – бабетта? И платьице в горошек с кружевным воротничком…
– Это новогодний праздник на заводе. Мама на четвертом месяце. В следующем, шестьдесят первом году я и родился. А она умерла.
– Сколько ж им тут лет?!
– Маме девятнадцать, отцу – двадцать один.
У юного Чембарцева было простое открытое лицо, очень доброе и счастливое. Он улыбался и обнимал за плечи свою Валечку. У Ирки защемило сердце:
– А что же случилось?
– Это вы в книге прочтете. Я сам-то узнал всего несколько лет назад, что именно случилось. А Чембарцева – дядю Ваню – я помню с детства. Он иногда в гости приходил, а на мой день рождения – обязательно. Игрушки дарил, машинки! Потом перестал, когда я подрос. Сейчас-то понятно почему – чтобы лишних вопросов не возникало, сходство-то неоспоримое. А мне мама все рассказала перед смертью. Приемная мама. Мама Оля. И я… я так себя повел… В общем, мне до сих пор стыдно и горько вспоминать! А ведь взрослый уже был, сорокалетний мужик, у самого дети…
Зайка вдруг слезла с Иркиного плеча, запрыгнула на стол, шустро его перебежала – они даже не успели опомниться! – и так же шустро взобралась на плечо к Борису. Забралась, потерлась о его щеку и замурлыкала в ухо.
– Ты посмотри, что она делает! Это ж что за кошка такая, а?!
– Это специальная утешительная кошка! Да, Зайка?
И Зайка подтвердила, перебирая лапками:
– Мррав!..
Теперь Борис действительно вспоминал свое поведение со стыдом: он чудовищно разозлился, даже никак не мог вникнуть в суть дела – от злости! Отец к тому времени уже умер – вовсе и не родной отец, как выяснилось. Михаил Афанасьевич был на пятнадцать лет старше своей жены, и Борис сначала решил, что мама ему изменила с Чембарцевым, потом – что изменила с отцовского согласия, чтобы завести ребенка, потому что отец не мог…
– Да нет же! Боря, ты не слушаешь меня! – воскликнула мама, глядя на него с отчаяньем. – Это я не могла иметь детей, я! У меня было четыре выкидыша, потом забеременела, но ребенок родился мертвым! А в соседней палате роженица умерла, твоя настоящая мать! Чембарцев нам тебя и отдал!
– Отдал?! Я что, щенок? Или что? Вы ему заплатили? Купили меня?!
– Боря! Ну что ты такое говоришь! Это Чембарцев нам помогал! Всю жизнь!
– Помогал?! Значит, машина… И квартира?!
А он-то принимал все как должное! Жили скромно, очень скромно: отец – историк, преподаватель в институте, мама – искусствовед, в музее работала, а у него все всегда было! Ну, не буквально все, но было. На двадцать пять лет машину ему подарили, на тридцатник – квартиру. Уж тут мог бы как-то сообразить: 1991 год, павловская денежная реформа, а ему квартиру покупают! Откуда такие деньги? Сказали: у нас были сбережения! Откуда сбережения, с каких таких доходов?!
Сейчас только все осознал и никак не мог примириться. А уж когда узнал, кто такой Чембарцев… Мама пыталась ему что-то объяснять, рассказать, что за человек его отец, – не слушал, не хотел слушать! А потом мама умерла, очень быстро, и Борис до сих пор чувствовал свою вину перед ней. Чембарцев пришел на ее похороны, но держался скромно – стоял в отдалении, к ним не приближался. Крупный, мощный, серьезный. Рядом – два охранника. Уходя, Боря оглянулся: Чембарцев опустился на колени перед могилой, поклонился в землю и медленно поднялся, опершись на руку одного из охранников. Какое-то время они с Чембарцевым смотрели в глаза друг другу, потом Борис отвернулся. Отец звонил ему, пытался наладить контакт, но Борис вел себя так, что Чембарцев отступился. И позвонил только лет через десять:
– Боря, я очень старый человек. Мне недолго осталось жить. Я был тебе плохим отцом. Да, собственно, никаким. Но я очень сильно любил твою мать. До сих пор ее оплакиваю. Я не навязываюсь. Но если ты не хочешь до конца своих дней мучиться, что так ни разу с отцом не поговорил…
– Я тебя слушаю… папа…
Почему-то Борис никогда не думал о матери – о своей настоящей матери! Какая она была? И что вообще произошло? То ли он наконец повзрослел – это к пятидесяти-то, самое время! То ли осмыслил все за эти годы, но они с Чембарцевым начали общаться. Отец приехал к ним в гости, впервые увидел внуков, невестку и правнучку, был совершенно счастлив, просто сиял – и сразу же покорил их всех. Харизма у него была невероятная! Так что, когда он позвал их всех с собой в Швейцарию, они согласились. Сначала поехали Борис с женой и младшим сыном, потом и старший подтянулся с семьей…
– В общем, мы теперь все там и живем, – сказал Борис. – Конечно, трудно. В смысле – непривычно. Деньги эти на нас свалились! Знаете, как говорится – не были богатыми, не надо бы и привыкать. Молодежь-то быстро адаптировалась, а мы с женой…
– Деньги! – воскликнула Ирка. – Кстати, о деньгах! Андрей сказал вам, что я отказываюсь от наследства? Андрей, ты сказал?
Мужчины переглянулись, и Андрей красноречиво развел руками.
– Да, наследство. Это такая нелепая история! Я просто не понимал, как поступить, хотел было даже… Но когда узнал, что вы отказываетесь, прямо гора с плеч! Хотя все равно получилось по-дурацки, так неловко!
– Ничего не понимаю! – Ирка машинально взяла на руки Зайку, которая пробиралась к ней по столу, обнюхивая попадающиеся по дороге тарелки.
– Дело в том, Ир, что Чембарцев написал новое завещание…
– И вас в нем уже нет!
– То есть старое аннулировано, понимаешь?
– Он, конечно, никак не предполагал, что вам станет известно про завещанный ранее миллион…
– Если б я не вылез, ты ничего и не знала бы! И как я не подумал о втором завещании!
– И получилось странно: сначала оставил деньги, потом передумал…
Борис с Андреем говорили по очереди, перебивая друг друга, а Ирка вертела головой, глядя то на мужа, то на гостя:
– Стойте! Подождите! Так что, нет наследства, да? Никакого миллиона нет?
– Нет! – ответили мужчины хором.
– Слава богу! Какое счастье! – выдохнула Ирка. – Я так благодарна Ивану Петровичу!
– Ну, что я вам говорил?!
– Да, а я еще не верил Андрею! Вы и правда юродивая, как отец называл.
– Значит, он все-таки что-то про меня понял. – Ирка усмехнулась, покачала головой и посмотрела на кошечку, которая зажмурилась ей в ответ и громче замурлыкала: – Да, Зайка?
– Мрррау! Конечно, понял! – согласилась Зайка, спрыгнула, подошла к мисочке и села около, оглянувшись на Ирку: – Мррав! Мрраув!
Что в переводе с кошачьего, несомненно, означало, что она не прочь подкрепиться.
– Вы только подумайте, нам досталась говорящая кошка!
– Я рад, что она вам нравится! Отец был бы доволен. Ира, но тут такое дело… Денег он вам не завещал, но все-таки кое-что оставил. И я надеюсь – очень надеюсь! – что вы примете. В память о нем. Он любил вас, я думаю.
Ирка страшно покраснела, и вид у нее стал самый несчастный. Андрей засмеялся и обнял ее:
– Ну что ты так напугалась? Все хорошо! Ты посмотри лучше, что он тебе прислал!
– А ты видел уже, да? Оно не страшное?
Тут засмеялся и Борис:
– Оно прекрасное! – Поднял на стол плоский деревянный чемоданчик с золотыми замочками – Зайка тут же подсунулась нюхать и хотела было погрызть уголок, но Андрей ее зацапал и начал тискать, а Зайка весьма кокетливо отбивалась от него мягкими лапками. Но Ирка смотрела только на чемоданчик, в котором оказалась коробка из белого картона, потом еще мягкая бумага, и, наконец, Борис осторожно вынул и повернул к Ире небольшую картину в широкой раме матового золота: женская головка в натуральную величину.
На пару секунд все замерли, и даже Зайка уставилась на картину, тараща желтые глаза. Ирка выдохнула:
– Но… Это ведь… Это же не… не может быть!
– Это Ренуар, – улыбаясь, сказал Борис. – Эскиз к портрету Жанны Самари. Один из эскизов к одному из портретов, не очень понятно, к какому именно, их несколько, а тут только головка недописанная, никаких аксессуаров. Два портрета у нас – в ГМИИ и в Эрмитаже. Помните – один в рост, другой поясной, на обоих она в бальном платье, декольте. Есть еще один, оплечный, с красным бантом, возможно, подготовительный к ростовому – там она в сером костюме и тоже с бантом. Отцу больше нравился эрмитажный. Он считал, что там Жанна больше на вас похожа.
– На меня?! – изумилась Ирка.
– Да. Сейчас и я вижу – есть сходство, особенно на этом эскизе. Я долго искал что-нибудь подобное. Отец очень хотел вам подарить! Музеи не продают, а то бы он, глядишь, эрмитажный портрет купил. Ну вот, к счастью, нашлось на Christie’s. Все есть: экспертиза, провенанс, страховка, дарственная.
– Да, я документы на работе оставил, в сейфе. – Андрей с удовольствием запрятал бы в сейф и картину. Он надеялся, что Ирка не станет спрашивать о ее стоимости, которая вообще-то была намного больше так и не доставшегося ей миллиона евро. Но Ирка пока не думала об этом.
– А что, неужели Иван Петрович увлекался живописью?!
– Да не особенно. Это я искусствовед, как и мама. Специалист по французским импрессионистам. Ну, отец и заинтересовался, чем сын занимается, стал альбомы смотреть, я даже в Париж его свозил – Лувр, д’Орсе. И вот – запал на Жанну Самари! Это она, говорил, то есть вы, Ирина! Ваши глаза. Он вообще был удивительный человек, отец. Образования никакого особенного не имел, но столько читал, я даже удивлялся. Сначала удивлялся. И все ему было интересно, в его-то годы. Эх, говорил, вот она – жизнь-то, только началась, а помирать надо. Он после первого инсульта на удивление быстро оправился и жил только этим портретом, его поисками. Но второго инсульта уже не пережил. А вы, похоже, были его последней любовью.
Ирка вдруг заплакала – слезы так и брызнули! Заплакала, полезла целовать Бориса, потом Андрея…
– Ну, во-от! Синичка, не надо…
– Я не буду, не буду! Просто так жалко! Всех! И Ивана Петровича, и вас! Я приму, конечно, приму! Спасибо! Это так трогательно, просто невозможно! – И она зарыдала с новой силой, но тут в детской завопил Антипка, и Ирка помчалась к нему. Мужчины выдохнули – один с картиной, другой с кошкой в руках.
– Нет, все обошлось гораздо лучше, чем могло быть! Но если она узнает, почем нынче Ренуар, мне точно не жить! – Андрей потрепал кошку по голове: – Да, Зайка?
– Мрряв!
– Ну вот.
– А вы не говорите ей.
– Да она сама в Интернет влезет и узнает!
– Ну, скажите, не знали.
– Да я врать совсем не умею…
Проводив Бориса, Андрей вернулся на кухню, где Ирка задумчиво разглядывала портрет.
– Андрюш, а куда мы его повесим?
– Давай пока в коробку уберем, а завтра подумаем, ладно? – А сам вздохнул: придется квартиру на сигнализацию ставить. До сих пор не удосужился, да и что у них красть – книги? Шкафы? Так их еще от книг освободить надо…
– А что, правда она на меня похожа? Или я на нее?
– Ты знаешь, да, есть что-то такое… труднообъяснимое! Подбородок у нее тяжеловат, губы немного другие, хотя тоже с улыбкой, как у тебя. Но вот скулы, нос, брови… Нет, брови меньше похожи. И рыженькая она, как ты сейчас, с челкой. Но особенно – глаза! Глаза точно твои. Разрез, ресницы… взгляд…
– У нее же карие!
– А у тебя какие?
– Ну, такие… зеленовато-серые, что ли.
– Ты знаешь, я никогда не мог понять, какого они у тебя цвета, правда. Потому что меняются все время, как поверхность воды – то туча, то солнце, то дождик, то волна. Переливаются! А вот на нее сейчас посмотрел и подумал, что в глазах пламя свечи отражается. Вот и у тебя так, все время пламя свечи в глазах.
– С огоньком, значит? Да? – Ирка улыбалась.
– Ты – точно с огоньком!
– Ой! Да подожди, Андрюш! Ну пусти. Прибраться надо, и вообще, где наша Зайка?
– А Ослик?
– Ослик спит вовсю. Поищи Зайку, а то она такая мелкая – хорошо хоть светленькая, видно ее.
– Ир, скажи… А ты… ты не жалеешь? Что отказала Чембарцеву? Жила бы сейчас в Швейцарских Альпах…
– Опять ты за свое! Вот любитель пилить опилки! Я никогда ни о чем не жалею, потому как – бесполезно.
– Нет, но все-таки? Не из-за того, что деньги немереные, а из-за него самого?
– Из-за него самого? Не знаю… Все-таки он мне в отцы годился, а то и в деды… Но, пожалуй…
– Что?!
– Ну, если б он так не тыкал мне в нос своими деньжищами, я могла бы… наверно… пожалеть его.
– Пожалеть?
– Ну да. По-женски. Как тебя Варька пожалела.
Андрей охнул, поперхнулся, закашлялся и покраснел – прямо до слез! Ирка постучала его по спине:
– Эй, ты что?! Дать воды?
– Нет… ничего. Это я так… от неожи… от неожиданности. Откуда ты знаешь-то?! Я ж не рассказывал тебе! Неужели она…
– Да нет, я сама догадалась. Варька ни словечком не обмолвилась. Я вовсе не собиралась тебе говорить, а то опять распереживаешься, но как-то само вырвалось.
– И как ты догадалась?! Это что, заметно со стороны?
– Нет, что ты! Совсем не заметно. Но я почему-то сразу поняла, как только Варьку увидела. Нет, не так! Сначала я приревновала. И сама удивилась. А потом вдруг пришла эта мысль, что она могла… тебя пожалеть.
– Ну да, так и было. Всего один раз. Я после смерти Тани… в общем… слетел с катушек. Ну и… Короче, она меня спасла, Варька…
После похорон, на которые приезжали и Танины родители, и Макс с Ниночкой, Андрей остался совершенно один. Макс ему звонил, конечно, звал к себе. К сороковому дню Андрей совершенно отчаялся. И поехал в Филимоново. Вошел на участок: дом стоит, а Тани нет. Сжечь его, что ли, к чертовой матери?! Стоял, думал, вспоминал. Казалось: если б Таня умерла прежняя, ненавидящая – легче было бы, правда. А потерять ее – после того как нашел! Настоящую Таню! Которая любила его! И которую он снова полюбил…
Всего три года в любви прожили!
Три года – из пятнадцати…
Долго он стоял у дома, потом ноги не выдержали – опустился на колени, сел.
Пошел дождь, потемнело совсем, похолодало.
Дождь перешел в мокрый снег.
Андрей лег на землю, прямо в лужу – лег, свернулся клубком и начал умирать. Он это чувствовал – как утекают постепенно силы, как скукоживается сознание, как наступает тьма. Как душа отлетает…
– Андрей! Тебе плохо?! Да что ж это! – Голос доносился откуда-то издалека, из очень далекого далека. Варька пихала его, толкала, трясла: – Ты что, пьян, что ли?! Вставай, слышишь?! Вставай же ты! Я не подниму тебя, не дотащу! Ах ты горе какое!
Она приехала с работы, увидела машину Андрея, подумала: зайдет, значит. Поела, дела какие-то переделала. Поздно уже, темно. Решила – уехал. Но выглянула все-таки за калитку: машина стоит, Андрей так и не зашел! Ночь на дворе, погода мерзкая. Где ж он? В доме? Что там делать-то – без света, без тепла? Испугалась, вернулась за фонариком, побежала на тот участок – и наткнулась на его почти бездыханное тело, лежащее в луже – еще чуть, и захлебнулся бы!
Кое-как она подняла Андрея, повела к дому, втащила на крыльцо, потом в комнату, усадила, начала снимать куртку, ботинки, мокрые насквозь джинсы… Он все заваливался, тогда Варька с силой ударила его по щекам – раз, другой! Очнулся, слава богу. Налила ему ванну, принесла водки, заставила выпить, уложила в постель. От горячей воды и водки Андрею почему-то стало чудовищно холодно, он дрожал, не переставая, и тогда Варька разделась и легла рядом с ним: обняла, согрела и утешила. Как умела. Утром Андрей проснулся как новый. Не чихнул, не кашлянул! Только не мог смотреть Варьке в глаза – а она вела себя так, как будто ничего такого и не случилось, все как всегда. Съел огромную яичницу, выпил кофе и вздохнул:
– Варь…
– Андрюш, не надо, – сказала Варька, не оборачиваясь. – Просто не будем об этом говорить, и все.
– Спасибо. Вот что я хотел сказать.
– Пожалуйста! – Она повернулась, села напротив, взяла пирог, откусила. Андрей смотрел.
– Ну ладно, перестань! Все нормально.
– Варь, а может быть, ты… Ну, мы с тобой… И Таня так хотела… А?
– Андрюша! Никаких нас с тобой нет. Нет – и не будет, ты сам это прекрасно понимаешь. Я люблю Глеба. Безнадежно, знаю. Я, может, попытаюсь как-нибудь… пристроиться. Но не с тобой. Я к тебе слишком хорошо отношусь, понимаешь? Мне нужен кто попроще, чтобы бросить было не жалко, если вдруг чудо случится! Потому что я сразу к Глебу уйду, сразу. При первой же возможности. А ты страдать будешь. И я. Лучше так, как есть. Будем друзьями, и все. А ты найдешь себе женщину, я уверена. Обязательно найдешь…
И вот – нашел же!
– Андрюш, ты не переживай, – сказала его женщина. – Это все только вас с ней касается. Ты совсем не обязан мне об этом рассказывать, я ж сама догадалась. И Варьке я только благодарна: если б не она, что бы с нами было?! С тобой и со мной?
– Ну да, верно…
– А ты что, теперь ревнуешь меня к Чембарцеву, что ли? Его же на свете нет!
– Да, чувствую, это мне крупно повезло, что он умер, а то… так бы я тебя и видел!
– Ой, вы подумайте! Он меня и правда ревнует! Какая прелесть! – Ирка чмокнула его в губы. – Андрюш, ты иди отдыхай, ладно? А я приберусь и посижу тут немножко. Мне надо побыть одной.
– Хорошо-хорошо! – Раньше Андрей пугался, когда слышал это: «Мне надо побыть одной!» Думал: обиделась или нездорова, но потом понял, Ирке действительно нужно немножко посидеть в одиночестве и тишине, чтобы восстановить силы. Иногда она проводила «в затворе», как они стали это называть, всего минут десять-пятнадцать, а порой и час. Ну что ж, надо так надо.
Он пошел разыскивать Зайку и нашел в туалете, где кошечка важно восседала в лотке, задрав хвост, потом быстро закопала лапкой, что наделала, и посмотрела невинным взглядом.
– Молодец! – похвалил Андрей. – Умница! Хорошая девочка! Красавица!
Зайка дернула крошечным хвостиком и с независимым видом прошествовала мимо Андрея походкой манекенщицы, обронив на ходу небрежное: «Мрряв!» – сама, мол, знаю, что умница и красавица! Но Андрей хлопнул в ладоши, и Зайка подскочила, изогнула спинку, задрала хвостик и поскакала боком на вытянутых лапках, Андрей хлопнул еще раз, и она галопом помчалась в глубь квартиры. Когда Ирка пришла к Андрею, он лежал с книжкой Чембарцева в руках, а Зайка спала у него на животе.
– Это что ж такое?
– Ир, она сказала, что хочет спать только так, правда! Я ей устроил домик на кресле – нет, ни в какую. Тут, говорит, мягче и теплее!
– Прямо так и говорит? – Ирка скользнула к нему под бок, и Зайка сонно приветствовала ее: «Мрр-мрр!»
– Это ж надо, какая кошка разговорчивая! – прошептал Андрей, откладывая книгу.
– Мррря! – тут же откликнулась Зайка.
– Все, конец спокойной жизни! Нет, Ир, ты подумай: в квартире четыре комнаты! Четыре! И кухня! А мы все здесь в кучке! С кошками и Осликами! Никакой тебе свободы действий, а?!
– Подожди, Ослик чуть подрастет, в детской будет спать.
– Может, еще и собаку завести? Для полноты картины?
– Ты подожди с собакой. – Ирка прижалась поближе и пощекотала ноготками его живот. – Что-то мне такое мерещится… странное! Вроде как я опять… беременна.
– Как?!
– Но ты не радуйся раньше времени, может, и нет ничего. Я проверюсь сначала.
– Ы-ы! – сказал Андрей. – Хочу Асеньку!
– Ты прям как Ослик: ы-ы!
– Так счастье ж! Правда?
– Правда. А вот что-то ты такое про огонек намекал, забыл?
– Да я уж устал ждать, когда ты «из затвора» выйдешь!
– Взгляни только, где там котенок, а то придавим ненароком…
– Я ж говорю, никакой свободы!
Котенок оказался в кресле, в гнездышке, сооруженном Андреем, а они и не заметили, когда Зайка туда перебралась. Услышав свое имя, она сонно муркнула и на секунду приоткрыла хитрый желтый глаз…
– Ну вот! – Андрей еще раз поцеловал Ирку и повернулся на спину. – Я ж говорю – огонек! А то вышла бы за мильёнэра, прозябала бы сейчас в Швейцарских Альпах…
– Это что, ты теперь меня всю жизнь мильёнэром попрекать будешь?! Ну вообще! А хочешь, я картину верну? Слушай, а она вообще дорогая? Как ты думаешь?
– Она бесценная. Как и ты! – быстро сказал Андрей и еще раз поцеловал Ирку. – Хочешь, расскажу про миллионера, или ты спать будешь?
– А ты что, уже всю книжку прочел?!
– Так, по диагонали пробежался. Только историю с Валечкой – подробно.
– Ну и как, очень страшно?
– Да, впечатляет.
– Андрюш, ты мне в общих чертах расскажи, чтоб я знала, чего ожидать! А то я читать боюсь!
– Вот я так и подумал, что забоишься. Знаешь, его история довольно типичная для того времени. Отца арестовали в 1937-м, мать даже расписаться с ним не успела, впрочем, на ее счастье, потому что не тронули. В эвакуации были в Средней Азии, а в 1946-м мать Чембарцева умерла от тифа, и он попал в детдом. Его разыскала сестра матери, это от нее он узнал про родителей. Но забрать мальчика она не могла, так что остался в детдоме. Потом ПТУ закончил, работал на ЗИЛе, там же с Валечкой познакомился. Он в общаге жил, а у нее комната была в коммуналке. Поженились, ребенка ждали. Тут-то вся жизнь и поломалась. Дальше Чембарцев, видно, не успел надиктовать, но мне Борис немножко рассказал, хотя сам и половины не знает. Чембарцев не особенно откровенничал.
– А он правда сидел?
– Да, два раза. Первый раз за драку, совсем молодым. Он после смерти жены здорово пил, как я понял. Вот и загремел. А второй раз сел уже по другой статье. Его как-то к теневикам вынесло…
– К теневикам?
– Теневая экономика, подпольные фабриканты. Не знаешь? Были такие в СССР.
– Нет!
– Девчонка! Ничего ты не знаешь! Чембарцев слесарем был, и хорошим. Сначала станки налаживал у какого-то трикотажного короля…
– Трикотажного?!
– Ну да. Кофточки, батнички, всякое такое. Гнали потоком, лейблы фирменные пришивали, народ с руками отрывал. А потом Чембарцев поднялся – в долю, видно, вошел. Сам стал королем. Потом это все подполье на поверхность вышло, кооператоры всякие появились. Помнишь… А, у кого я спрашиваю! Был такой кооператор, миллион партвзносов заплатил. Ну, дальше девяностые, там вообще разлюли-малина…
– Надо же, трикотаж! А я-то думала – на нем пробы негде ставить!
– Ну, может, ты и не далека от истины. Это ж все было полукриминальное – разборки, передел сферы влияния, устранение конкурентов. Так что он вовсе не ангел. И потом… Ну, ты все равно прочтешь! Одного человека он точно убил.
– Сам?! Своими руками?!
– Да. За Валечку вроде как отомстил. Но ты лучше прочти, хотя реветь, конечно, будешь.
– Господи… Ужас какой… Но почему-то мне все равно его жалко!
– Можем на могилу к нему сходить, если хочешь.
– В Швейцарию поедем?!
– Да он здесь – рядом со своей Валечкой! На Преображенском. Как завещал. Я в больнице провалялся, не знал, а то бы мы и на похороны сходили…
Андрей быстро заснул, а Ирка никак не могла, все вертелась в голове история Чембарцева. Не выдержала, потихоньку встала, взяла книжку и ушла на кухню – нет, не могу, надо прочесть, как оно было! Читала, заливаясь слезами, а когда дошла до истории с усыновлением, вообще разволновалась, хотела даже валерьянки накапать, а потом передумала – налила коньячку и выпила. Так-то лучше. Ирка дочитала и долго сидела, всхлипывая и шмыгая носом. Потом выпила еще коньячка и пошла к Андрею: влезла тихонько, обняла, поцеловала и уткнулась ему в бок.
Подумала: «Спасибо, Господи!»
Как хорошо, что мы живы-здоровы, любим и любимы, что счастливы…
Что у нас есть Антипка!
И Зайка…
И – может быть! – будет Асенька…
Как хорошо, что мы нашли друг друга!
Теперь бы не потерять».
А когда Ирка заснула, тихонько пришла маленькая кошка с желтыми глазами и улеглась у них в головах. Улеглась и замурлыкала, перебирая лапками: «Прравильно, прравильно, хоррошо! Не потерряетесь! Я пррисмотррю… мрррр… мррр… мррр…»
Сноски
1
Александр Блок.
(обратно)2
Эта ведьма полюбит его, только когда рак свиснет! – [польск.]
(обратно)

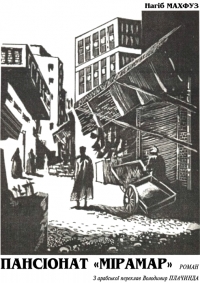

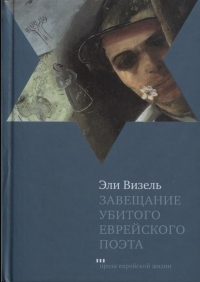

![Любовница депутата [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/524704/primary-medium.jpg)



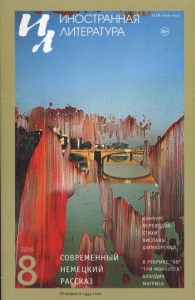
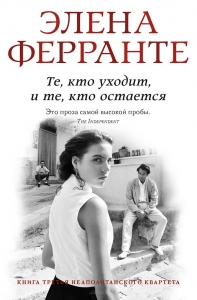


Комментарии к книге «Другая женщина», Евгения Георгиевна Перова
Всего 0 комментариев