Олег Рой Белый квадрат. Захват судьбы
© Резепкин О., 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
* * *
Спасибо моим друзьям – продюсерам фильма «Начало. Легенда о самбо», а также лично Георгию Шенгелия и Сергею Торчилину, чьи идеи вдохновили меня на создание этого романа, и моему консультанту по политико-экономическим, военным и социально-бытовым аспектам сюжета Битанову Алексею Евгеньевичу.
Памяти моего сына Женечки посвящается.
События, описанные в романе, не претендуют на полную историческую достоверность и являются художественным вымыслом.
Глава 1 Сердце из кремня
Новосибирск встречал Спиридонова переменной облачностью; судя по всему, не так давно прошел дождь, краски вокруг были яркими, сочными, воздух все еще был насыщен влагой.
Ступив на перрон, Виктор Афанасьевич достал папиросы и закурил последнюю, спрятав пустую пачку в карман кителя, чтобы при случае выбросить в урну. И тут он увидел Ощепкова.
Виктор Афанасьевич сразу узнал его, хоть и представлял себе по-другому. Василий Сергеевич оказался крупнее и старше (последнее, впрочем, легко объяснить – фотографии в деле были нескольких лет давности). Одет он был в простой костюм, какие носят советские служащие летом, – светлая блуза с накладными карманами и чуть более темные просторные брюки. На ногах – ботинки армейского образца, в каких ходила тогда вся страна независимо от пола и возраста. На голове – светлая шляпа с широкими полями, довольно-таки несерьезная. Через руку переброшен светлый же плащик – их на юге России почему-то зовут макинтошами.
Виктор Афанасьевич нарочно зашел не с той стороны, куда Ощепков смотрел, выглядывая его, и бодро проговорил:
– Василий Сергеевич, не меня ли высматриваете? Я Спиридонов.
И протянул ему руку, с ноткой злорадства глядя на мгновенное замешательство. Впрочем, Ощепков совладал с собой моментально.
– Как я вас упустил? – патетически воскликнул он, крепко пожимая протянутую ему руку. – Рад познакомиться, Виктор Афанасьевич, весьма наслышан.
– Как и я про вас, – с готовностью отвечал Спиридонов. – Но, конечно, хотелось бы познакомиться ближе, коллега. Должен сказать, вашими успехами я впечатлен.
Ощепков смутился, натурально, как институтка. Высший дан по дзюудзюцу, вынужден был напомнить себе Спиридонов. В поведении, да и во всем облике Ощепкова было что-то детское, невинное, незамутненное. Это как-то не вязалось ни с его шпионской биографией, ни с тем, что было известно о нем как о дзюудоку.
– Непременно! – ответил Ощепков с энтузиазмом. – Нас с вами объединяет дзюудзюцу, а это, как вы знаете, намного больше, чем «схватил-подсек-повалил».
Виктор Афанасьевич кивнул. На его вкус, Ощепков был простоват, как инженерный карандаш.
– Несомненно, – улыбнулся он. – Сгораю от нетерпения узнать вашу историю. Вы видели места, где я только мечтал побывать, Кодокан…
– В свою очередь хотел бы познакомиться с вашей историей, – ответил Ощепков. – Как я слышал, вы учились у японского мастера. Я многих среди них знаю. Хотелось бы провести с вами хотя бы один поединок. Вы ведь тренируете московскую милицию; о вас говорят как о большом мастере…
– И вам не терпится узнать, насколько это соответствует действительности? – улыбнулся Виктор Афанасьевич. – Как я могу вам отказать? Мне только надо найти какую-нибудь гостиницу, а потом…
– Я отвезу вас, – живо вызвался Ощепков, – у меня извозчик заложен. А для вас заказан номер в «Метрополе»… простите, в «Октябрьской», просто все ее «Метрополем» здесь называют, как раньше.
И он улыбнулся какой-то бесхитростной, совершенно детской улыбкой. Улыбка ему удивительно шла.
– В «Метрополе»? – удивился Виктор Афанасьевич. – Но зачем? Я же не нэпман какой-то, меня бы вполне устроила чистая койка в какой-нибудь гостинице попроще.
Ощепков опять смутился. Но не так, как можно было бы ждать от провинциального чиновника, раболепствующего перед столичным и начинающим метать перед ним бисер (вспомним отечественных сатириков от Гоголя до Ильфа и Петрова). Нет, Василий Сергеевич смущался не от того, что чувствовал себя «на скользкой почве». Его смущение шло от души, от чистого сердца:
– Вы здесь из-за меня… Проделали долгий путь, оторвались от своих дел, оставили учеников…
Виктор Афанасьевич остановился и сказал почти строго:
– Но ведь и вы собираетесь оставить своих… И не просто надолго. Если все сложится так, как надо, вас переведут в Москву.
Василий Сергеевич посмотрел Спиридонову прямо в глаза и со вздохом ответил:
– Видит бог, мне бы этого не хотелось! Я привязчивый. Очень привыкаю к людям, к местам… Я любил Сахалин, хотя там нечего было особо любить, любил Токио, хотя он совершенно чужой нам, любил Владивосток… Теперь вот люблю Новосибирск. Но судьба не интересуется нашими предпочтениями. Я не виноват, что Машенька расхворалась. – Его глаза подозрительно заблестели, но Ощепков быстро взял себя в руки: – В свое оправдание скажу, что мне есть на кого оставить секцию. Другим тоже следует расти, а мне – обживаться на новом месте. Такова жизнь…
Спиридонов машинально кивнул, и они продолжили путь.
* * *
Оставив вещи в гостинице, Виктор Афанасьевич и его спутник сразу же отправились в спортклуб Осоавиахима, где Ощепков проводил занятия. Машин в городе почти не было, да и гужевой транспорт не запрудил улицы, и в целом, если сравнить с Москвой, Новосибирск казался тихим и патриархальным, о чем Виктор Афанасьевич опрометчиво не преминул сообщить Василию Сергеевичу.
Тот отреагировал, видимо, с легкой обидой, потому как пустился в пространные объяснения:
– Во-первых, мы с вами едем по периферийным кварталам, вдали от, так сказать, делового центра. А во-вторых, сегодня же пятница. Все домой спешат, отдохнуть после трудовой недели.
– А с преступностью у вас как? – поинтересовался Спиридонов, не подав виду, что заметил обиду.
– Бог миловал, – с удовлетворением ответил Ощепков. – Во Владивостоке похуже было, и то справлялись. А в Москве что?
Виктор Афанасьевич вздохнул:
– Да уж не то что раньше, но могло быть получше. Сознательность в народе растет медленно. Но мы над этим работаем, так сказать, не покладая рук и не жалея ног.
Василий Сергеевич каламбура, скорее всего, не понял:
– Здорово! Я вот занимаюсь с рабочей молодежью, и, доложу я вам, сколько в этой среде талантов! Золотое дно. Хорошо, что советская власть дает им возможность прорасти, не как встарь: упало зерние в терние… – Виктор Афанасьевич молчал, и Василий Сергеевич продолжил: – Дзюудзюцу меняет человека, меняет к лучшему. Я заметил, ко мне многие приходили, чтобы «научиться драться». Сейчас они совсем другие люди.
– Научились драться? – ровным голосом уточнил Спиридонов.
Ощепков выражением лица дал понять, что речь о другом:
– Научились жить! Думать научились, и все благодаря дзюудзюцу. Вы, кстати, как, не проголодались с дороги? Можем в столовую заехать, ресторана, правда, не могу предложить.
– Спасибо, не голоден, – ответил Виктор Афанасьевич. При его обычно скудном пайке и после вчерашней обильной трапезы в вокзальном общепите он мог не испытывать чувства голода еще дня три. – А вот курево мне купить стоило бы. У меня кончилось, а на вокзале я разносчиц что-то не заметил. Брал с собой в дорогу, но все выкурил… В поезде, знаете ли, чем еще заниматься?..
– Тогда остановимся у табачной лавки, – решил Ощепков и спросил у извозчика: – Дружок, здесь где-нибудь махоркой торгуют?
– На перекрестке есть лабаз Потребсоюза, Василь Степаныч, – степенно ответил тот, – да товар там негодный, одно название, что табак, а так солома сухая. Заехать, что ли, к Дешевкиным? У них есть любое курево, хошь «Кино», хошь буржуйское зелье. Правда, цены дерут, буржуи недобитые…
– Заедь, дружок, будь добр, – попросил Ощепков, поудобнее усаживаясь на сиденье. – А уж вы меня, Виктор Афанасьевич, великодушно простите, курить, по-моему, дело дурное.
– Извозчик-то ваш, что ли? – Виктор Афанасьевич пропустил замечание о вреде табака мимо ушей. Только морализаторства ему тут не хватало!
– Чей это «наш»? Новосибирский? – удивился Ощепков.
– А откуда же он вас знает? – в свою очередь был удивлен Спиридонов.
Ощепков разулыбался:
– А меня тут каждая собака знает, не то что рабочий люд. Как там у Есенина? «В переулках каждая собака знает мою легкую походку». Вот только, к счастью, по другому поводу.
Будь на месте Ощепкова кто-то другой, Виктор Афанасьевич давно бы решил, что тот задается, кичится своим показательным образом жизни – с Ощепковым представить себе такое было решительно невозможно. Казалось, Василий Сергеевич был напрочь лишен и малейшего намека на то, чтоб лукавить и играть роль. Говорят, сильные от природы люди добры. Действительно, очень часто, если не всегда, злыми человеконенавистниками люди становятся оттого, что несчастны и не видят ничего лучше, чем делиться своим несчастьем с окружающими. Впрочем, и сильных людей не обходят несчастья…
– Вот и лавка, – сообщил Ощепков, локтем дружелюбно подпихнув Спиридонова в бок. – Идите покупайте свою милую вашему сердцу отраву, а мы подождем.
Виктор Афанасьевич проворно выскочил из коляски и поспешил под сень вывески бедного провинциального сородича московских нэпманских «универсальных магазинов». Здесь, как и в Москве, можно было отовариться чем угодно – с поправкой на провинциальность заведения, разумеется. Виктор Афанасьевич, впрочем, купил только две пачки папирос «Кино», дешевых и дурно пахнувших. Выйдя на крыльцо, с наслаждением закурил. И как это он выдержал час без курева? Обычно он закуривал каждые полчаса…
«Надо будет перед отъездом сюда еще разок заскочить, – отметил он про себя. – Две пачки – этого мне не хватит…»
Он все думал об Ощепкове. Образ прожженного афериста-двурушника рассеялся, но осадок сомнений все же оставил. Доверять Ощепкову Виктор Афанасьевич не мог, но и воспринимать его как прохиндея тоже уже был не в состоянии. Больше всего Василий Сергеевич напоминал добродушного увальня, но…
Но как тогда он сумел так успешно сотрудничать с разведкой ДВР, скажите на милость? Откуда в этом бесхитростном человеке столько нашлось… (он поискал слово) изворотливости? Ведь иначе как он мог уцелеть, когда все подполье оказалось проваленным? Вот в чем загвоздка… Ну да ладно. Посмотрим, что он сам скажет на это.
Докурив, Виктор Афанасьевич вернулся в коляску.
– Простите, задержался, – пробормотал он, забираясь на сиденье. – Не хотел травить вас дымом.
– Да курите, товарищ, – великодушно разрешил извозчик, – не стесняйтесь. Иные пассажиры как сядут, да как пойдут дымить вчетвером…
Свое извинительное замечание Спиридонов адресовал не извозчику, конечно же, а Ощепкову с его правильным образом жизни, но вносить ясность было бы глупо.
До спортзала, оборудованного в старом угольном складе, добрались быстро. Здание напоминало саманный китайский овин ровно настолько, насколько океанский лайнер напоминает озерную плоскодонку, однако Виктор Афанасьевич поймал себя на каком-то смутном чувстве узнавания. Окна под крышей, сквозь которые льется в зал серый свет пасмурного дня, обширное пространство с белым квадратом татами на полу… точнее, квадратами – татами в зале было несколько, а главное – символ инь-ян на стене – вот что служило поводом к спиридоновскому дежавю.
– Вот здесь мы и тренируемся, – прокомментировал Ощепков, пропуская Спиридонова вперед. – Не бог весть что, конечно, но и того довольно.
– По-моему, совсем неплохо, – откликнулся Виктор Афанасьевич. – Как будете в Москве, я вам свой зал покажу. Условия примерно те же, только и того, что паровое отопление имеется. Зимой-то вы как?
– Мерзнем, что уж тут говорить, ну и тренируемся в ватниках с валенками, – улыбнулся Василий Степанович. – Здесь температура ниже четырех не падает даже в самые лютые морозы.
Фразу про Москву он, похоже, пропустил мимо ушей, а Виктор Афанасьевич ее запустил как пробный шар. И что он узнал? Да ровным счетом ничего. Ощепков был весь округлый, ухватиться не за что. Может быть, в этом и секрет его конспиративных успехов?
– Вот тут у нас раздевалки, – Василий Степанович указал на воздвигнутые в конце зала деревянные выгородки. – Это ребята сами сообразили, есть среди них рукастые, из рабочей молодежи. А мой кабинет наверху. По лестнице надо подняться.
Он остановился у лестницы и сказал со смущением:
– Вы уж простите, Виктор Афанасьевич, но домой к себе я вас пригласить не могу. У Машеньки открытая форма, дом превращен, можно сказать, в лазарет. Меня-то хворь не берет, бог знает почему, а за вас я в ответе: вдруг заразитесь? Да и Маша слаба, не до гостей ей…
Виктор Афанасьевич кивнул:
– Заразиться я не боюсь, а вот больную тревожить и впрямь ни к чему. Побеседуем у вас в кабинете. У нас время-то есть?
Василий Сергеевич посмотрел на часы (какие-то дешевенькие, с тонкими стрелочками и картонным циферблатом в металлическом корпусе):
– Тренировка через два часа с половиной. Вы же останетесь на тренировку? Вы мне еще и поединок обещали.
Виктор Афанасьевич улыбнулся. В словах Ощепкова опять проступило что-то детское; так дети напоминают родителям, что те обещали сводить их в зоосад:
– Я не из тех, кто нарушает обещания. Посмотрим, чему вы учите своих бойцов. Может, что-то и почерпну… Как говорится, век живи, век учись, да все одно помрешь дураком.
– Тогда идемте ко мне, – с детским воодушевлением пригласил Василий Сергеевич и стал подниматься по лестнице. Виктор Афанасьевич следовал за ним.
* * *
Кабинет Ощепкова оказался небольшим и чем-то напомнил Спиридонову недавно приходившее ему на память купе Сашки Егорова. В углу стоял японский манекен, на котором отрабатывают удары и захваты, остальной интерьер составляли старый овальный стол простой работы и три разнокалиберных стула. В кабинете царил дух запустения.
– Я тут почти не бываю, – пояснил Василий Сергеевич, словно прочитав его мысли. – Так, только чтобы переодеться. Раньше больше времени проводил здесь, да теперь не до того: каждую свободную минуту возле жены, сами понимаете…
У Спиридонова кольнуло сердце. О да, он понимал! По коже пополз неприятный холодок. Он мысленно пожелал собеседнику никогда не пережить того, что пережил он в ту ночь. Это понимание приблизило его к Ощепкову, породило в душе некое сочувствие. Он выбрал стул, рефлекторно смахнул с него пыль и сел. Ощепков сел напротив.
– Итак, Виктор Афанасьевич, давайте начистоту. Полагаю, не ошибусь, если скажу, что в вашем лице я имею честь беседовать с ОГэПэУ, верно?
– Можно и так сказать, – ответил ему Спиридонов и улыбнулся. Прямота собеседника ему импонировала. – Как вы знаете, мы с вами коллеги, вы, насколько я понимаю, тренируете милиционеров с восемнадцатого года…
– С семнадцатого, но с перерывами, – ответил Ощепков. – А вообще, я и с подпольщиками работал.
– Ну вот, а я тренирую московскую милицию, – продолжал Спиридонов. – Выходит, одним делом занимаемся. К тому же и вы, и я – дзюудоку, хотя у меня и нет таких регалий, как у вас.
– Будем откровенны, Виктор Афанасьевич, – предложил Ощепков. – Вы человек известный. Полагаю, вы бы с легкостью сдали на высший дан.
– Не слишком ли поспешно вы судите? – возразил Спиридонов. – Вы еще не видели меня… хм… на татами.
– Зато встречался с некоторыми из ваших учеников и весьма впечатлен, – парировал Ощепков. – Не скрою, меня очень интересует ваша система, и я очень надеюсь, что еще смогу детально с ней ознакомиться. Вы ведь не станете отрицать, что шагнули гораздо дальше того, чему научились в плену?
– Не стану, – подтвердил Спиридонов, задаваясь вопросом, являются ли слова Ощепкова все же попыткой подольститься к нему или же он говорит искренне. В глубине души Виктор Афанасьевич полагал, что разбирается в людях, но тут был поставлен в тупик: по всему выходило, что Ощепков и впрямь высоко его ценит. – Раз уж мы с вами начистоту… Вы сказали, что в моем лице видите ОГэПэУ… А вот я в вашем Кодокан вижу…
– Вряд ли почтенный Дзигоро Кано одобрил бы ваши экзерсисы, – улыбнулся Ощепков. – Он глубже всех погружен в дзюудо, он фактически сам есть дзюудо, но в этом не только его сила, а и слабость: дальше канонов своей школы он не видит.
«Он говорит то же, что и Фудзиюки», – подумал Спиридонов, а вслух повторил:
– Вы интересуетесь моей системой, а я, в свою очередь, хочу узнать, что такое Кодокан. И очень надеюсь, что вы мне это расскажете. Вы все это видели, трогали руками…
Ощепков прищурился, очень как-то по-детски:
– Вот я и подумал, что самым правильным с моей стороны будет рассказать вам мою историю, от корки до корки. Этим мы и ваше любопытство удовлетворим, и, надеюсь, снимем возможные вопросы, какие возникнут у вашего начальства. Я догадываюсь, как выглядит моя биография со стороны. Откровенно говоря, меня можно было бы даже пристрелить чисто из осторожности, на всякий случай, так сказать. Увы, это судьба всех разведчиков – постоянно быть под подозрением, даже у своих. Оттого-то я легко отказался от этой карьеры. Довольно. Я и без этого могу принести пользу рабоче-крестьянскому государству.
– Хорошее решение, – заметил Виктор Афанасьевич относительно предложения Ощепкова изложить его биографию в виде монолога от первого лица. – Вы не будете возражать, если я буду какие-то моменты уточнять?
– И записывать, вы хотели сказать, – улыбнулся Ощепков. – Я видел у вас в кармане блокнот и автоматическую ручку. Думаю, вы неспроста их захватили.
Спиридонов ничуть не смутился. Да, все так. А как же иначе? Это его работа.
– Человека нельзя судить по бумагам, даже по самым документально точным, – сказал дальше Ощепков. – Я, например, верю только личному впечатлению. Терпеть не могу анкеты, личные дела и прочую канцелярщину. Жаль, что люди так неискренни друг с другом, бумаге доверяют больше, чем живому слову…
Виктор Афанасьевич вспомнил отца Клавушки, ее невесть где сгинувшего дядю, своих родителей… Их честному слову верили больше, чем векселю, заверенному крючкотворами-нотариусами. Но не рассказывать же об этом Ощепкову, право слово!
Потому он только кивнул и достал блокнот.
– Я буду с вами искренен, как на исповеди, – пообещал Василий Сергеевич. – Есть вещи, о которых мне говорить неприятно, но я расскажу и об этом. Мне нужно, чтобы вы составили обо мне как можно более точное впечатление. Знаете, я очень обрадовался, узнав, что именно вы вышли пояти мою душу. Потом, что у нас есть одно несомненно общее – дзюудзюцу с его древней мудростью. Эту мудрость ценил и уважал даже столь высокодуховный человек, как отец Николай, а это дорогого стоит. Кстати, из постыдных тайн укажу, что я, несмотря на политику партии в этом вопросе, человек верующий. Думаю, со временем отношения Церкви и государства установятся. Можете и это внести в протокол, если хотите.
Виктор Афанасьевич отрицательно покачал головой:
– Во-первых, протоколов я не веду, а во-вторых… Это не важно, но я не советую вам признаваться в чем-то подобном кому-то еще. Кому-то стороннему. В особенности в Москве.
– А вы? – спросил Ощепков. – Вы не считаете, значит, себя сторонним? Так оно и есть: ни вы мне не сторонний, ни я вам. Черт его знает, куда эта кривая вывезет, но мне бы хотелось, чтобы вы стали мне другом.
Он как-то странно повел плечом, словно сбрасывая воображаемый гусарский ментик.
– Я, говорят, болтлив; давайте пустим это в конструктивное русло. Итак, история Василия Сергеевича Ощепкова, рассказанная им самим.
* * *
– Вы можете решить, что я пытаюсь вызывать у вас жалость, – начал Ощепков, опершись локтями на стол и подавшись вперед, навстречу Спиридонову, – но я лишь говорю то, что есть. Я стал сиротой задолго до того, как умерли мои родители. Пожалуй, с рождения на свет, а то и раньше. Чужие мне по крови люди в моей судьбе принимали намного большее участие, чем те, кого считают родными. Свой среди чужих, чужой среди своих… звучит мелодраматично, но, по сути, очень верно. Прежде чем я расскажу о тех, кто сделал меня тем, кем я есть сейчас, я расскажу о тех, кто произвел меня на этот свет. В конце концов, считается, что все мы – совокупность наших родителей, не так ли?
Могу биться об заклад: первое, что неприятно вас поразило в моей биографии, это то, что я – сын каторжницы от ссыльнопоселенца. – Ощепков горько улыбнулся: – Это вы еще и половины правды не знаете. Давайте начнем с моей покойной матушки. Вы любите свою мать?
– Какой же человек не любит мать? – пожал плечами Спиридонов. – Кем надо быть, чтобы маму-то не любить?
– Извергом, – кивнул Ощепков. – Я видел таких немало. Напомню, я рос на острове извергов. Потому то, что я любил свою мать, посторонним казалось как минимум странным. В моем детском окружении родителей не любил никто. Ребенок на Сахалине не благословение, а проклятие. Нигде не делают столько абортов, нигде не убивают столько младенцев, как там. За этим никто не следит, ребенок на Сахалине появляется не в родильной палате – настоящее «рождение» происходит в церкви, во время крестин. Дожить до этого – уже огромная удача, если в таких условиях можно вообще говорить о какой-то удаче.
Мне повезло, но отнюдь не благодаря той женщине, которая произвела меня на свет. Если бы не отец (который, кстати, сам вовсе не рад был моему появлению), она с легкостью выскребла бы меня из своего лона, а если бы это по каким-то причинам не удалось – размозжила бы мне камнем голову в одной из бухточек острова, замотала бы вместе с этим камушком в пеленку и швырнула с сопки в океан.
Ощепков вздохнул. Спиридонов смотрел ему в глаза – они были отстраненными, словно он видел далекий, канувший в прошлое, довоенный Сахалин…
– Иногда я представляю себе Конец света, – продолжал Ощепков. – Когда море отдаст своих мертвецов – боже, сколько тогда младенцев восстанут из сахалинского прибоя! Наверно, армия мальчиков и девочек, родители, матери которых решили, что жить им незачем. Причем некоторые из них поступали, как им казалось, из любви – дескать, зачем ребенку жить да мучиться на каторге? Странное милосердие, вы не находите? Но они были убеждены, что поступают так из любви к своим отпрыскам, когда клещами абортмахера или подходящим булыжником уничтожали будущее своих крошек. Но мою мать в этом обвинить нельзя: если бы она убила меня в утробе или после рождения, она сделала бы это вовсе не из любви ко мне.
Спиридонов остановил Ощепкова жестом руки:
– Погодите, Василий Сергеевич, – сказал он почти умоляюще. – Я верю, что вы говорите то, что считаете истиной, но не сгущаете ли вы краски? Мне, простите, сложно поверить в то, что на свете может существовать чудовище, способное ненавидеть своего ребенка. Я, конечно, по роду службы – порой я участвую, знаете ли, в оперативных мероприятиях московского ОГПУ) – сталкивался с женщинами, убивавшими своих детей – в помутнении рассудка от нищеты или по другой какой причине, но чтобы в здравом уме, в трезвом рассудке…
– Именно что в здравом уме и трезвом рассудке, – твердо сказал Ощепков. – Но о ненависти я не говорил. Для того чтобы ненавидеть, Виктор Афанасьевич, для начала нужно любить. А она меня никогда не любила, оттого и ненависти ко мне у нее не было. Я был лишь досадной помехой. А уж как она умела устранять помехи…
Я ношу фамилию Ощепков, и это фамилия моей матери. Родилась она тридцатого ноября тысяча восемьсот пятьдесят первого года в деревне Ощепково Воробьевской волости Оханского уезда Пермского края, в семье купца второй гильдии Семена Никаноровича Ощепкова. Дед мой был из тех крепостных крестьян, которые, получив вольную, словно сжатая дотоле пружина, распрямились и устремились от крепостного бесправия к преуспеянию. Неуемная энергия, стальная воля, природная сметливость и хватка волчьего капкана – вот что такое характер моего деда. К чести его могу сказать, что он никогда не «шел по головам» и поступал с людьми как минимум справедливо, хоть и порой сурово. Довольно быстро он добился успеха на торговом поприще, став купцом сначала второй гильдии, а затем и первой. Возможно, вам мой рассказ покажется маловероятным, но…
– Отчего же, – перебил его Спиридонов, – мне такие люди хорошо знакомы.
– Дайте угадаю… Вы и сами из купеческого сословия? – ребячливо улыбнулся Ощепков. – Не переживайте, дальше меня это не пойдет. Все это в прошлом, пусть там и остается. Ох… право, мне не хочется все это рассказывать, я словно раздеваюсь перед вами, чтобы показать свои многочисленные язвы и струпья. Но эти язвы давно зажили. Просто вам следует все это знать, чтобы лучше меня понимать. Я не слишком обязываю вас, предлагая свою историю?
– Бросьте, – отмахнулся Спиридонов, – мне ваш подход по душе. Чем больше я буду знать, тем справедливее будет мое мнение…
Про себя же Спиридонов подумал, что подобная откровенность сработала бы против Ощепкова, разоткровенничайся он вот так же в Москве. Не слишком ли легко он доверился сейчас постороннему человеку? И это бывший разведчик? Да еще такой, который сохранил свое положение во время крушения подполья? Не мало ли для такой откровенности их совпадения на почве занятий японской борьбой?
Спиридонов ни за что б не поверил в такое, если бы не Ощепков. Прикусив кончик ручки, он посмотрел на собеседника. То, как человек смотрит, может сказать о многом.
Ощепков смотрел на него прямо, не пряча взгляда, но и без вызова, честно. Одно из двух – или он лжец, каких свет не видывал… или не от мира сего. Не от мира сего…
Значит, от мира дзюудзюцу?
– …так что рассказывайте дальше, будьте добры, – мягко попросил он. – Даю вам честное пролетарское, что не стану никому пересказывать все, что здесь услышу. Ничего, кроме своих выводов, которые сделаю после. Идет?
– Тогда продолжу, – кивнул Ощепков. – Жена моего деда, бабка моя, была дивно красивой. Женихов у нее было не счесть, и всем им она предпочла моего деда, хотя тогда он не был богат и успешен, да и внешне был вполне зауряден. Моя бабушка оценила его волевые качества; она была уверена, что Семен Никанорович многого добьется в жизни, и не ошиблась… вот только ей это не помогло. Через несколько месяцев после рождения дочери моя бабушка заболела и, несмотря на все старания мужа, умерла, оставив его с грудной дочерью на руках.
Какой это было трагедией для моего деда, можно было судить по тому, что он так и не женился во второй раз, хотя, пожелай он, ему было бы из чего выбирать, и выбор был бы непрост. Не знаю, знакомы ли вам такие чувства – когда человека невозможно заменить кем-то другим, когда в мире становится пусто, холодно и темно после его ухода… Это мало кто пережил…
«Вот я пережил», – подумал про себя Спиридонов. Однако его мысль, должно быть, как-то отразилась у него на лице: Ощепков запнулся и внимательно посмотрел на него. Потом продолжил:
– …но мне кажется, что вы понимаете, о чем я. Так вот, всю свою любовь дед перенес на мою мать. Он растил ее, по его же словам, «как маленькую барыню». Мать моя ни в чем не знала отказа. Никакой работы ей не поручали, хотя дед, даже нанимая на работу сотни батраков ежегодно, сам не гнушался любого труда. Вы, наверно, решите, что он просто избаловал мою матушку. Отчасти да, но лишь отчасти. Внешностью моя матушка пошла в бабку, характером – скорее в отца, если бы не одно «но».
О Семене Никаноровиче по сей день говорят, что он был справедливым человеком, и это при том, что его уже тридцать с лишним лет нет на белом свете; моя матушка же знала лишь один незыблемый принцип: «я хочу». Дед долго закрывал глаза на ее своеволие, но конфликт между его принципиальной справедливостью и ее твердокаменной беспринципностью был им словно на роду написан.
Когда моя матушка подросла, отец решил позаботиться о ее будущем. Как истый домостроевец, он не доверял деловым качествам женщины и не собирался оставлять ей свое состояние. Но и оставить ее без гроша, конечно, тоже не собирался. Подбирать ей мужа он начал очень давно и нашел, как ему казалось, идеального. Юноша энергичный, сметливый, но бедный казался ему наилучшим претендентом в мужья для своей дочери. К будущему зятю Семен Никанорович относился как к родному сыну – он научил его всему, поставил на ноги, вывел в люди и, в конце, сделал своим торговым товарищем[1].
Дед, в общем, хорошо разбирался в людях, и в Герасиме Фомиче не ошибся: тот не только искренне полюбил своего благодетеля, но и оказался наделенным деловой хваткой. В ранге товарища он стабильно приносил предприятию деда немалые барыши и в конце концов стал бы не менее успешным, чем дед, если не более. Когда подошло время, дед объявил любимой дочке, что решил выдать ее замуж за Герасима…
* * *
Ощепков откинулся назад и хрустнул пальцами:
– Однако зря мы не взяли чего-то выпить, хотя бы нарзану, что ли. Никогда еще так много не говорил, а ведь история только начинается.
– Можно прерваться и поискать чего-нибудь… – неуверенно предложил Спиридонов. – Но вы так складно рассказываете… Даже не хочется отвлекаться. Вы выдержите без нарзана?
– Мне и самому не хочется прерываться, – согласился Ощепков. – Продолжим, пожалуй… Да, мой дед хорошо разбирался в людях. Это не сработало только в отношении моей матери. Она словно находилась в «слепом пятне» у него – он в упор не видел, какая она растет, на какой дорожке стоит. Он был уверен, что ее обрадует его выбор. Герасим Фомич был хорош собой, его родного брата, например, забрали по жребию в драгуны, и сам Герасим Фомич ему ни в чем не уступал ни статью, ни этакой мужественной красотой.
– Постойте! – Спиридонов подался вперед, утвердив на столешницу локти, как до этого сидел напротив него Ощепков. – Почему Герасим Фомич? Разве это не ваш отец? Тогда почему вы не Герасимович, а Сергеевич?
Уже задавая вопрос, Спиридонов вспомнил, что отец Ощепкова ему своей фамилии не дал и что фамилия его была Плисак. Но скорректировать вопрос не успел.
– Он не мой отец, – улыбнулся Василий Сергеевич. – Мой отец совсем другой человек, о нем я еще расскажу вам позже. Герасим Фомич – первый и единственный законный муж моей матушки, как видите, дед своего добился. Но для этого ему пришлось постараться изрядно. Вскоре сыграли свадьбу.
Но я не зря говорил, что характером матушка была вся в отца своего: дед мой не без усилий согнул ее, но долго согнутой оставаться она не могла. А распрямившись, способна была… Трудно и вымолвить, на что способна была моя мать.
В ночь со второго на третье сентября тысяча восемьсот восемьдесят третьего года в Оханске Пермского края случился пожар. Горел дом купца Герасима Ощепкова-Выдрина (муж моей матери взял фамилию тестя из уважения к тому и с полного его благоволения). Пожар потушили всем миром, но хозяина дома спасти не удалось: он угорел. Та же судьба едва не постигла и его дочь, Агафью Герасимовну, девочку спасли только чудом. Мать мою обнаружили лишь к вечеру следующего дня; она бродила в окрестностях городка, накинув на ночную сорочку зипун, и казалась совершенно убитой. Из ее сбивчивых объяснений выяснили, что, увидев огонь, она перепугалась и бросилась вон из дома куда глаза глядят. Пришла в себя поутру и поняла, что близкие ее погибли. От этого-де едва не помутилась рассудком.
Бедную вдову жалели, жалели вдвойне оттого, что ее муж в городке имел репутацию самую добрую. Она же весьма убедительно продолжала разыгрывать из себя убитую горем. Все закончилось по весне, когда в городок из Санкт-Петербурга, где зимовал, устраивая торговые дела, вернулся мой дед.
Я не знаю всех подробностей той истории. Что заставило деда подозревать свою дочь в столь ужасном преступлении, как покушение на жизнь собственных мужа и дочери, но он ее заподозрил и в конечном счете вывел на чистую воду. Вроде бы даже сам свидетельствовал против нее в суде, хотя тут я не уверен. Матушка до последнего разыгрывала из себя невинную жертву. Вину свою она так и не признала, и процесс над ней едва не развалился, да одно неопровержимое свидетельство положило край этому трагифарсу. Дед нашел где-то любовника моей матушки, афериста-разночинца, который, собственно, и толкнул ее на преступление, да и к тому соучаствовал. Под угрозой понести наказание единолично тот запел соловьем, потому отделался легко, чего не скажешь о моей матушке. Общество Оханска чувствовало себя словно оплеванным, и естественно, что его мнение развернулось на сто восемьдесят градусов…
– Простите, – прервал его Спиридонов. – Я, конечно, злоупотребляю вашим гостеприимством…
– Да ради бога, – спохватился Ощепков. – Я на вас как ушаты воды выливаю… Представляю себе, как это выглядит со стороны, так что спрашивайте, не стесняйтесь.
– Нет, я о другом… – Спиридонов прокашлялся. – Э-э-э… могу я закурить? Простите великодушно…
– Вот еще проблема! – улыбнулся, в свою очередь, Ощепков. – Да курите, курите. Могли бы не спрашивать. Я ж понимаю…
– Но вы-то не курите… – Спиридонов с облегчением полез достать пачку. – Я вам неудобства создаю своим дымом, чего там.
– Ну, я ж не в футляре живу, – пожал плечами Ощепков. – Нельзя навязывать свои правила, даже если они нам самим кажутся справедливыми и благородными. Впредь, пожалуйста, не спрашивайте о таком, лады?
– Лады, – кивнул Спиридонов, закуривая.
* * *
– В марте восемьдесят четвертого моей матери вынесли приговор, – продолжил Ощепков. – Он был суров, но судей можно понять: они сочувствовали «бедной вдове», а та водила их за нос, играя на человеческих чувствах. Лишение всех прав состояния и семнадцать с половиной лет каторжных работ на пермских заводах. Поняв, что отпираться больше нет смысла, мать спокойно выслушала приговор. Она и всегда была хладнокровна, даже тогда, когда поняла, что сама жизнь вынесла ей свой вердикт… и в процессе приведения оного в исполнение тоже лишь сильно кусала губы. Она ведь от рака умерла… чувствовала страшные боли, но я лишь несколько раз слышал от нее стон, а плачущей ее не видал вовсе. Словно она была высечена из кремня, ей-богу.
Но, возможно, ее спокойствие зиждилось не только на этом – дело в том, что она вовсе не собиралась капитулировать, о нет! Между пермскими заводами и Оханском пара сотен верст, которые ей предстояло преодолеть частью на перекладных под конвоем, частью по чугунке. Она никогда не говорила мне о том, когда именно она, как сама выражалась, сорвалась с крючка, где и с кем провела следующие два года, как и чем жила как беглянка. Думаю, без ее женских чар не обошлось. Но ровно на годовщину оханского пожара ее вольница закончилась – в Камышлове Пермской губернии ее и еще нескольких подозрительных элементов, оказавшихся такими же жиганами, как она, но мастью пожиже, обложили в брошенном доме у кладбища. У банды было оружие, и они отстреливались, пока патроны не кончились, но таковое помогает только в бульварных романах. Жандармы выждали, пока фрондеры расстреляют патроны, после чего всех повязали. У матушки и тут оказался любовник, какой-то фертик из благородных с полной головой декаданса и амбициями Желябова, ну а матушка была при нем вроде Софьи Перовской. Впрочем, судопроизводство по всем вели раздельно. На сей раз приговор был предельным – шестьдесят ударов плетью и пятнадцать лет к тем семнадцати с половиной. Да не на пермских заводах, а на Сахалине. И ей еще повезло: уж не знаю, что там на них «висело», но фертика приговорили к повешению, потом, правда, из нечеловеческой жестокости царских сатрапов, помиловали и заменили на пожизненное в одиночном содержании.
Спиридонов задумчиво затушил докуренную папиросу в импровизированной пепельнице, под которую приспособил жестяной коробок, вытряхнув из него спички.
Ощепков помолчал, затем спросил:
– Вы представляете себе, что такое шестьдесят плетей? – Спиридонов кивнул. – Я думаю, судьи просто хотели убить ее, но женщинам в Российской империи практически никогда не выносили смертных приговоров. Они плохо знали мою матушку! Возможно, кремню бывает больно, но плетью его не убьешь. Она выжила и, кстати, потом сама не гнушалась пускать в ход плетку. Что мне довелось опробовать на себе, слава богу, хоть сил у нее было не так чтобы очень. А когда она пришла в себя, то под строжайшим конвоем была препровождена в Одессу, откуда ходили пароходные рейсы, возившие каторжан к острову, населенному извергами и отребьем.
Глава 2 Оборотень
Ощепков еще помолчал. Видимо, вспоминать все это было для него не так-то просто. Виктор Афанасьевич хотел достать еще папиросу, но передумал. Не стоит эксплуатировать законы гостеприимства – гостю позволено все. Но от хозяина не укрылось его желание.
– Виктор Афанасьевич, я же сказал: курите, не стесняйтесь, – улыбнулся Ощепков. – История моя долгая и тяжелая, неудивительно, что вам хочется ее разрядить.
– Надо бы повременить, конечно, – отвечал Спиридонов, но стал доставать папиросу.
– Не считаю нужным ограничивать чью-то свободу, – прокомментировал Ощепков. – Для меня это не пустые рассуждения. Я попал на каторгу не за какие-то преступления, я родился в тюрьме и цену свободы знаю. Конечно, каторга – это не то чтобы тюрьма, но и до свободы ей – как от Перми до Корсаковского поста. – Он посмотрел в глаза прикуривающему Спиридонову и продолжил: – Итак, про матушку свою я вам уже рассказал, теперь немного расскажу об отце и других людях, принимавших участие в моей судьбе. Мой отец родом из малороссийских мещан, и, как его отец, дед и прадед столярничали, вот и он был обучен на столяра. Обыватель часто путает столяров с плотниками; это все равно что путать солдат с офицерами. Плотник выполняет куда более простую и грубую работу; столяр же – маэстро деревообработки. Мой отец в этом отношении был по-настоящему талантливым человеком. Я бы сказал, что в некотором роде его можно было бы назвать «художником по дереву». Если будете в Александровске, не приведи господь, конечно, просто пройдитесь по улицам, особенно по Большой, Малой, Гаванной и Кирпичной, а главное – обязательно зайдите в церковь Покрова Богородицы. Увидите там иконостас… он будто возносится к небу, как пламя свечи, а из дерева. Этот иконостас – как деревянная молитва Богу, и его от пола до креста с ангелами сделал мой отец. И сделал не из ливанского кедра, не из мореного дуба или красного дерева, а из тех досок, что были под рукой, – от ящиков, от бочек, от старых рыбачьих лодок…
В его доме всегда пахло смолой, креозотом и еще какой-то гадостью, а в большой комнате у печки в ночвах – это род корыта, только побольше, сшитого из досок, а не долбленого – отмокало от пропитки несколько собранных им досок, которые кому-то другому показались непригодными. Но какие из них потом получались вещи!
Отец был слегка «не от мира сего», и это-то привело его на каторгу. С детства он дружил с белоцерковским поповичем, Емельяном Владко. Сами знаете, как у нас до революции было: если твой отец поп, то и тебе прямая дорога в священники, не по закону, так по обычаю. Емельян Евдокимович Владко учился в семинарии в Киеве, где, на свою и моего отца голову, вступил в некое «Братство тарасовцев». Вы, наверно, слыхали об украинском национализме? Вот весь он вышел из этого «Братства», которое, однако, уже в девяностом году вынуждено было прекратить существование. Русская охранка свое дело знала: среди тарасовцев, конечно же, были ее агенты, быстро выяснившие, что за «Братством» стоит галицкая «Украинская радикальная партия», которую, в свою очередь, организовала австро-венгерская разведка. Лоскутная монархия была не прочь пришить себе еще один славянский лоскуток, а заодно ослабить Россию, на которую угнетаемые австрийцами славянские подданные Габсбургов возлагали надежды на свое освобождение. С этой целью и был придуман украинский миф, но царские слуги быстро поняли, что к чему, и шайку-лейку разогнали; наиболее одиозных скрутили, иных выслали, иных припугнули…
В один прекрасный вечер в дом Владко, у которого как раз гостил мой отец, пришел один из членов «Братства», некто Свирчевский, родом из Винницы. Ни мой отец, ни его приятель подвоха не ожидали, но приход Свирчевского оказался для них переломом в судьбе. Их однопартиец оказался поручиком контрразведки Российской империи. Впрочем, пришел он не за тем, чтобы арестовать двоих горе-фрондеров.
Ипполит Викторович Свирчевский в двух словах объяснил молодым людям, на чью мельницу те со своим юношеским энтузиазмом лили воду. Я сам хорошо был знаком со Свирчевским, конечно, значительно позже. Человек предельно ясного рассудка, с умением убеждать. Вероятно, таким он был с того еще времени, во всяком случае, моего отца и его товарища он переубедил.
Увы, оба горячих молодых человека успели вляпаться в непотребное дело малороссийского сепаратизма по уши; а может, Свирчевский сознательно сгущал краски. Мой отец и Емельян Владко сами сдались охранке, признали себя виноватыми в участии в антиправительственном заговоре и получили довольно мягкие приговоры – не каторгу, а всего лишь высылку на Сахалин. Сами понимаете: высылка от каторги отличается примерно так, как насморк от туберкулеза. На месте оба устроились хорошо – Владко, будучи лишенным прав состояния (и к тому же не доучившийся в семинарии), стал церковным старостой, а мой отец… на Сахалине и так мастеровые на вес золота, а уж столяры так и подавно. Вообще говоря, устроился он просто замечательно во всех отношениях – был «своим» и для «угрей»[2], и для политических, при этом был вхож в дома, если можно так выразиться, сахалинской «белой кости», конечно, с подачи Свирчевского. Всем было хорошо – «вольняшка»[3] колоднику лепший друг, а уж такой, как мой батя, с которым губернатор за одним столом куру ел, – так и подавно. А Свирчевский через папку и его приятеля Владко получал исчерпывающе точную информацию о настроениях и планах колодников. Благодать…
Свирчевский перевелся на Дальний Восток после разгрома тарасовцев, да там и остался; здесь можно было быстро подниматься по карьерной лестнице, да и не только. Насколько я знаю, для Свирчевского разведка была делом всей его жизни. Надвигалась война с Японией, и если среди обывателей царили шапкозакидательские настроения, то профессионалы прекрасно понимали, что Россия, как говорят шахматисты, попала в цугцванг[4]. Для разведки отнюдь не было секретом то, что к войне Японию подталкивает Англия, и не просто подталкивает, но буквально фарширует военными займами, на которые снабжает английского же производства техническими новинками. Очень в духе англосаксонской политики – загребать жар чужими руками, попутно подсаживая сателлита на долговой крючок, да еще и имея за это барыши в виде военных заказов… да что я вам рассказываю!
Ощепков слегка потянулся и хрустнул костяшками пальцев, потом сказал весело:
– Виктор Афанасьевич, у вас папироска истлела, а вы и тяги не сделали!
– Просто вы замечательный рассказчик, – отвечал Спиридонов, доставая еще папироску.
– Noblesse oblige, – пожал плечами Ощепков, – сейчас поймете почему. Так вот, у России, Виктор Афанасьевич, в этой ситуации было два варианта – плохой и очень плохой. Плохой состоял в том, что Россия могла проиграть Японии. Порт-Артур, как вам известно наверняка получше, чем мне, был крепостью только на бумаге, первая тихоокеанская эскадра была объективно слабее японского флота, и усилить ее не было ровно никакой возможности. Но, можно сказать, нам повезло.
– Почему? – удивился Спиридонов и подумал при этом, что Ощепков говорил точь-в-точь как Фудзиюки.
– Потому что, если бы мы победили, Англия совершенно определенно начала бы войну против нас, а все остальные не преминули бы к ней присоединиться. Назревала вторая Крымская война, но тут уж одним Севастополем дело бы не ограничилось – это была бы Первая мировая на десять лет раньше, но с одним отличием: все страны и Антанты, и Тройственного союза единым фронтом выступили бы против нас. Представляете?
Спиридонов кивнул, вспомнив новониколаевского чиновника, некогда бывшего его попутчиком до Москвы, и его фантасмагорию об англо-французской эскадре, бившей Рожественского. Кстати, когда он пересказал этот анекдот Сашке Егорову, тот отнесся к нему со странной серьезностью, сказав, что если поискать, то можно даже найти несколько фактов, подобную версию подтверждающих. Например, то, что как раз в году Цусимы английский Дальневосточный флот, по странному стечению обстоятельств, потерял целых два броненосца, как сообщалось, в навигационных авариях.
– Чтобы не допустить усиления России, – продолжал между тем Ощепков, – а если получится – и себе что-нибудь урвать от бескрайних наших просторов. Вот так, в каждой победе есть начаток будущего поражения, в каждом поражении – семя грядущей победы.
И опять Спиридонов подметил, что Ощепков цитирует Фудзиюки.
– Но и в том, и в другом случае выходило, – вел речь Ощепков, – что Япония становилась для нас врагом – всерьез и надолго. Можно сколько угодно благодушничать, будучи политиком, но армейская профессия такой роскоши, как благодушие, не допускает. Военный человек обязан быть параноиком, обязан готовиться к войне и видеть врага в каждом государстве, даже том, с которым отношения складываются самым наилучшим образом. Да что я вам объясняю… Вы ж сами кадровый офицер и, по идее, так же относитесь и ко мне. Симпатичен я вам или неприятен, не суть важно, все равно вы вынесете свое суждение именно как профессионал.
– Вы явно переоцениваете мою злонамеренность, – пробурчал Спиридонов. – Вам не кажется, что мы отклоняемся от темы?
Ощепков мгновенно переключился:
– Так вот. Ипполит Викторович Свирчевский нашел в Забайкальском округе единомышленников; свою работу они начали еще задолго до начала войны, однако их труд долгое время прозябал втуне – Генштаб относился к их теоретическим построениям несерьезно и прислушиваться начал только после падения Артура. Печально: начни они раньше, итог войны мог бы быть совершенно иным… а мог и не быть. Но другой наверняка была бы моя судьба.
К моменту прибытия моего отца на Сахалин у Ипполита Свирчевского столь далеко идущих планов еще не было, но какие-то наметки, вероятно, уже были. Во всяком случае, он очень грамотно выткал свою агентурную сеть, с минимумом ресурсов и максимальной эффективностью, и мой отец играл в этом не последнюю роль. За это он имел ангела-хранителя в погонах штабс-капитана – Свирчевский перевелся с экстренным повышением в чине, – а в его лице – всего Российского государства. Я думаю, мой отец на Сахалине обрел свое счастье – достаток, уважение и даже любовь женщины, о которой он мог бы только мечтать в той, прежней жизни.
Хотя любовь – это, должно быть, слишком сильно сказано. Не сомневаюсь, что мать не любила его ни минуты. Я иногда задумываюсь: а любила ли она хоть кого-то? От этих мыслей мне становится страшно: я не могу утвердительно ответить на этот вопрос, а ведь что такое человек, который не способен любить? Это даже не инвалид, не безумец, я не знаю, можно ли вообще подобное существо назвать человеком, – но это моя мать, и я ее люблю. Люблю, не получив от нее толики материнской заботы и ласки…
Ощепков замолчал, его взгляд стал отстраненным. Затем голос его, когда он заговорил, зазвучал глуше:
– Я, возможно, скажу нечто банальное, Виктор Афанасьевич, но для меня это отнюдь не банально. Это моя жизнь, моя судьба. Я пережил и выстрадал это, потому смею утверждать: есть вещи, которые мы не выбираем, но любим. Мать, Родина – все это дается нам свыше. Мы никак не влияем на то, каковы они будут. Твоя мать может быть лишенной способности любить извергиней, твоя Родина может задыхаться от косности и узколобости бюрократии или терять разум в пароксизмах и конвульсиях Гражданской войны, а ты все равно любишь их не потому, что они хороши для тебя, а вопреки тому, чем они для тебя плохи…
Ощепков опять сделал паузу. Его кадык вздрогнул, словно он проглотил что-то, плохо пережевав. Глаза его посветлели и казались прозрачными. Смотрел он куда-то мимо Спиридонова, хотя у того за спиной не было ничего, кроме дощатой стены выгородки, где Ощепков оборудовал себе кабинетик.
– Я был с ней, когда она умирала, – выговорил он наконец. – Умирала она долго. Какими бы ни были ее грехи, она начала расплачиваться за них еще при жизни. Рак пожирал ее. Бывшая прежде воплощением здоровья, красавицей с белозубой улыбкой и озорным блеском в глазах, она таяла, как свечка во время пасхальной службы. Жизнь покидала ее, а вместо жизни приходила боль.
Я видел, как болезнь смиряет людей, но ее она не смирила. Она ругалась, доходя до богохульства, но не от того, что хотела похулить Бога, до Бога ей никогда не было дела. Она, как ослепленный воин, беспорядочно разила всех вокруг – отца, дочь, мужа, моего отца, меня, себя… Она не умоляла о том, чтобы боль прекратилась, она ее проклинала. Она не просила Бога исцелить ее – она крыла и Бога, и свою болезнь, и тех, кто пытался если не вылечить ее, то хотя бы облегчить ее страдания. Морфия на Сахалине, конечно, достать было невозможно, но мой отец достал его для нее, за что она обругала его, что достал мало. Но и морфий ей не сильно помогал, и она все равно вертелась на кровати, ругаясь сквозь стиснутые зубы и не зная покоя.
Я думал, что когда она ослабнет, то станет другой, но нет. Я надеялся, что, почувствовав близкую смерть, она покается. Она отказалась от исповеди, а последними ее словами были проклятия… проклятия…
– Вы плачете… – Спиридонов заметил у Ощепкова на глазах слезы. – Простите, что заставил вас переживать это вновь.
– Не впервой, – отмахнулся Ощепков с кривоватой улыбкой. – Вы думаете, мне нужен повод, чтобы это вспомнить? Порой, знаете, находит… Пустое. Ладно, вернемся к моей истории.
Когда мой отец сошелся с моей матерью, это, конечно, не было семьей: лишенная прав состояния, моя матушка с точки зрения закона была мертва, а значит, и замуж выйти не могла. Брак с мертвецом с юридической точки зрения – нонсенс. Отец, конечно, женился бы на ней и, возможно, добился бы того, чтобы ей хотя бы разрешили определить право состояния, – не сам, так с помощью Свирчевского… Но он ничего не решал в их союзе, а мать была категорически против. Она настояла на том, чтобы их сожительство было блудным; кажется, она испытывала какое-то извращенное наслаждение, нарушая нормы морали. В общем, своим эпатажным поведением она и оттолкнула от себя отца. Но зачат я был им, Сергеем Захаровичем Плисаком. Даже внешне наше с ним сходство бросалось в глаза. А кроме того, я, представьте, умею столярничать, не так, как отец, но вот эти стены своими руками сделал. И стул, на котором вы сидите, тоже.
Спиридонов машинально бросил взгляд сначала на плотно пригнанные друг к другу доски выгородки (щели между досками можно было заметить, лишь присмотревшись), затем – на крепкий, добротно сработанный стул и кивнул.
– Узнав о беременности, мать попыталась прервать ее, – продолжил Ощепков, – но лишь попала в лазарет – видимо, я оказался ну очень живучим и еще более упрямым, чем она. В лазарете ее навестил Ипполит Свирчевский. Я хорошо знаю характер моей матери и уверен в том, что она не боялась ни Бога, ни черта, ни государя императора; но Ипполит Викторович Свирчевский оказался, вероятно, пострашнее всех троих. После его визита мать не делала больше ни одной попытки избавиться от меня, зато о том, что, если бы она могла, она бы меня удушила, утопила, расчленила и так далее и тому подобное, я слыхал едва ли не с самых пеленок. Однажды я протянул ей топор и сказал: «Ну так давай начинай, раз ты меня так не любишь».
Она схватила топор, и я даже подумал – сейчас возьмет и раскроит мне череп… потом вдруг побледнела как полотно, словно призрака увидала… хотя какое там, призрак бы ее так не напугал, и отбросила топор, так что он расколол дверной косяк.
«Ненавижу, – прошипела она тихо, по-змеиному (она голос никогда не повышала, а говорила так, словно плевалась словами), – чтоб ты сдох, сучий сын, чтоб тебя чума забрала, ненавижу… но убить не могу. Радуйся, ублюдок».
Вот такие были для меня материнские ласки. А я все равно ее люблю, странно, правда? Но я могу объяснить: видите ли, Виктор Афанасьевич, мне ее жаль было.
Спиридонов остановил на Ощепкове взгляд.
Тот словно того и ожидал:
– Да, жалко. Легко жалеть тех, кого все жалеют. Кого явно жалко. Слепых, кривых, одноруких, одноногих, безруких, безногих… увечных, убогих. А вот тех, кто по своей жизни вроде и жалости-то не заслуживает, кто несчастен, но лишь по собственной глупости – поди пожалей таковых! Поди пожалей того, кто чуму тебе на голову призывает, кто доброго слова для тебя не находит даже тогда, когда ты его мочу из-под него убираешь. А ведь они тоже калеки. Без рук, без ног, с искалеченным телом жить тяжко, а с искалеченной душой – втрое, понимаете?
Откровенно говоря, Спиридонов не понимал, о чем и сказал напрямую:
– Увы, нет. Не понимаю.
Ощепков вздохнул:
– Ну, тогда считайте, что я ее жалею потому, что она моя мать. Какая ни есть.
* * *
– Итак, у меня тоже был могущественный ангел-хранитель: штабс-капитан Свирчевский, – продолжил Ощепков. – Родился я аккурат на Рождество девяносто второго. В Малороссии, на родине моего отца, считают, что под Рождество рождаются оборотни, так что в какой-то мере моя судьба была предсказана уже самой датой появления на свет. Крестили меня в недостроенном на тот момент храме Покрова Богородицы, том самом, где и иконостас, и престолы, и все-все деревянное, вплоть до порога и наличника, было сделано руками моего отца. Крестными были Георгий Павлович Смирнов, старший писарь Управления войска Сахалина, и Пелагея Яковлевна Иванова, дочь надворного советника Якова Лукича, начальника таможни Александровского поста. Крестил сам сахалинский благочинный. Вот послушает это кто-то знакомый с сахалинским бытом, да и решит – прямо крестины сахалинского принца! – Ощепков невесело улыбнулся. – Настоящим моим крестным был, конечно, штабс-капитан Свирчевский. Вы как человек военный можете себе представить, какой властью был облечен мой патрон, собравший под не законченным еще куполом Покрова Богородицы звезды местного бомонда, чтобы крестить сына пусть и заметного, но все-таки обычного обывателя, прижитого им от какой-то там каторжанки!
Не спешите умиляться. Ипполит Викторович вовсе не был бескорыстным меценатом. Он действовал с далеким прицелом, и я был не единственным его «крестником». И все-таки я был баловнем судьбы, если можно так сказать. Да, я не знал ни материнской любви, ни отцовской. Почему? Знаете, от любви до ненависти один шаг. Когда терпение моего отца иссякло и он порвал с моей матерью окончательно, у него не сразу, но постепенно, открылись глаза на все ее выходки, которые он мужественно терпел два года с лишком. Из его стыда и унижения родилась жгучая ненависть. К моей матери он стал относиться будто к болотной гадюке – со страхом, с отвращением. А во мне видел не только свои, но и ее черты. Нет, меня он ни разу не попрекнул ничем, однако и с распростертыми объятиями ко мне не бросался. Так что очень я удивился, узнав, что завещание оформил он на меня.
Любви родителей я не знал, но для Сахалина это скорее правило, чем исключение. Дети на Сахалине не благословение, но проклятие – кажется, это даже Чехов заметил, Антон Павлович. Все мы, сахалинские дети, были сорной травой на обочине, и до появления Свирчевского и иже с ним выбор будущего у нас был небогат: у мальчиков – или бутылка, или кистень и большая дорога, а чаще то и другое; у девочек же не оставалось никакого иного выхода, кроме как пополнить армию гордых владелиц «желтого билета». Ситуация слегка изменилась к лучшему с прибытием в восьмидесятом иеромонаха Ираклия, но в целом подобное положение сохранялось до тех пор, пока не появился Ипполит Викторович Свирчевский со своим проектом, похожим более на прожект.
Зато, в отличие от других сахалинских детей, у меня были крестные, да не абы кто, а из местной знати. Я был вхож в дома Смирновых и Ивановых, и они, казалось, таким крестником не брезговали, а я из кожи вон лез, чтобы соответствовать, несмотря на язвительные комментарии матушки. У Ивановых я подружился с другим их крестником, Трофимом, у них же мы с Трофимом и сыном Пелагеи Яковлевны, Сашкой, стали брать частные уроки у японца Ямаширо Фукурю, преподававшего сначала основы математики, геометрии и естествознания, а затем как-то незаметно ставшего учить нас японскому языку, обычаям и даже тому, что он сам называл «гимнастикой для здоровья тела». Так я познакомился с основами дзюудзюцу.
* * *
– Вы никогда не думали над тем, насколько человек свободен в своих поступках? – спросил Ощепков, глядя, как Спиридонов, отложив ручку, которой делал пометки в своем блокнотике, подкуривает очередную папироску. – Я уже говорил, что я человек верующий, хотя особо набожным меня не назовешь. Но я с детства чувствовал, что меня словно кто-то ведет за руку, только вот куда? Не на бойню ли, не к ужасному ли концу? Позже я решил, что это чувство возникло у меня потому, что с малых лет меня опекал штабс-капитан Свирчевский, но вот уж пятнадцать лет, как он пропал без вести – а все та же невидимая рука ведет меня… куда-то. Раньше, во всяком случае, все было проще. Я знал, что у меня есть крестные, есть опекуны – дядя Емельян и друг отца (и еще один узелок паутины штабс-капитана) Василий Петрович Костров, преподаватель Новомихайловского реального училища, куда попасть мечтали многие, поскольку это был тет-де-пон, за которым начинался мостик на Большую землю…
Вот только мало у кого из сахалинских детей был такой шанс, а мне вот повезло, хотя никакое, конечно, это не везение, а лишь забота моего ангела в погонах. В конце концов я в этом училище и оказался, учебу оплатили в складчину крестные и опекуны. Отец умер, когда мне было только десять. Я не сильно горевал, поскольку совершенно его не знал. На то, что я могу получить наследство, я и не рассчитывал. Даже если бы я тогда знал, что отец составил завещание в мою пользу, все равно это мне мало что давало. Я же числился незаконнорожденным, и прямая воля покойного в мою пользу еще ничего не значила. Мне еще предстояло доказать имперским бюрократам, что я имею право быть субъектом наследования, а это было не так-то просто, и не единожды, увы, в таких глухих концах нашей необъятной страны имущество покойного отходило в казну, несмотря на безупречно составленное завещание.
А я ведь даже не знал о завещании и лишь в одном был точно уверен – до восемнадцати лет обо мне позаботятся опекуны, а там – живи, как знаешь. Средства мне выделялись по минимуму, но и на эти средства покушались, правда, в этом случае не чиновники. Мать третий год болела, плотно сидела на морфии, а он то и дело заканчивался. На этой волне она требовала, чтобы я все полученное от опекунов отдавал ей. Но мои опекуны, Костров и Владко, прекрасно понимали это, понимали и то, что родной матери я противостоять не могу, – вот и засунули меня от греха подальше, в реальное училище, где и оденут, и накормят, и напоят, а на руки средства давали только в крайний обрез.
Да только матушку-то не бросишь! И я крутился ужом – учился, да и работал, подрабатывал, где мог. Разгрузить кавасаки[5], помочь сладить забор, выкопать могилу – я тут как тут. Постепенно я прибился поближе к порту, так как работы там было не в пример больше, и чаще стал общаться с японцами, совершенствуя свой язык. Вскоре я довольно недурно говорил по-японски.
В этих заданных обстоятельствах учился я неплохо, но не блестяще, пока жива была матушка. Через два года та избавила меня от забот о себе, отдав Богу душу. В материальном плане мне от этого легче не стало, в отличие от моих опекунов. Меня как круглого сироту перевели на казенный кошт, жить я стал в общем жительстве при школе, так как дальнейшая оплата жилья, которое мы с матушкой занимали, была опекунами сочтена нецелесообразной. Смешная ситуация – в Александровске мне по завещанию принадлежали, не считая отцовского, два доходных дома отца, но я об этом не знал и жил в казенной казарме; мне причиталась неплохая сумма сбережений, но я пребывал в нужде, хоть особенно этой нуждой не тяготился. Странно, матушка часто пугала меня, что выгонит на улицу, что я сдохну под забором, но, будучи фактически вышвырнутым, пусть и очень мягко, не имея в своей собственности ровным счетом ничего, ведь даже одежда моя была казенной, я не чувствовал себя каким-то ущемленным. Грех, конечно, так говорить, но с уходом матери у меня возникло такое облегчение, словно тяжесть сбросил с плеч.
Иногда я думал, почему мои опекуны, люди не злые и не корыстолюбивые, поступали со мной так. Мне кажется, меня просто не хотели баловать. В юности легко приобретать дурные наклонности, а у меня еще и наследственность была сомнительная. Это первая из причин. Но есть вторая…
Спиридонов подумал, что Ощепков слишком снисходителен к своим опекунам. Ведь совершенно понятно, что те его «обували», это ясно, как божий день. Но Ощепкову о своих выводах он говорить не стал, сделав мысленную пометку. Он твердо знал про себя одну вещь: по тому, как человек судит о других, можно узнать его самого. Если человек быстр на обвинения, скорее всего, его самого есть в чем обвинить. Тогда как чистые сердцем люди больше стараются оправдать ближнего. Так что Ощепков, не зная об этом, заработал от Спиридонова плюс к своей репутации.
Он откинулся на спинку стула и коротко помечтал:
– Вот бы сейчас чайку… Вообще-то, – воодушевился он было, – внизу есть примус, вода и чай, только с сахаром негусто.
– Давайте подождем окончания тренировки, – тоном нетерпения наступил на его «мечту» Спиридонов. – Вы сказали, что есть еще одна причина…
– И вам не терпится узнать какая, – озорно поддакнул Ощепков. – Она банальна: меня буквально выпихивали с Сахалина. Но выход с Острова Сволоты был только один. В объятия штабс-капитана Свирчевского.
Я говорил вам, что у меня был друг, Трофим Юркевич? Да вы наверняка это знаете. Трофим для ОГПУ человек известный. Он старше меня на два года, и мы с ним крепко сдружились. А потому я по-настоящему ощутил себя одиноким, когда Трофим с Сахалина исчез. В один прекрасный день мне сказали, что они с братом отбыли восвояси, а куда – не объяснили. Я терялся в догадках и чувствовал себя по-настоящему одиноким и брошенным. В свободное время я забегал в гости к старику Фукурю, все так же жившему в Александровске. Он и приоткрыл мне завесу тайны о судьбе моего друга, да только я ему не поверил. По его словам, Трофим с братом решили поступить в токийскую семинарию. Я бы подумал, что старик надо мной насмехается, но юмор и Фукурю были несовместимы, как тьма и полярный день.
Однако я ему все равно не поверил… Я даже не представлял себе, что в Японии есть семинария. Оказалось, есть. Вот тогда я и сам задумался – а не махнуть ли мне в Японию? На Сахалине мне делать нечего, на Большой земле меня никто не ждет. Какая разница, где жить? И я стал еще прилежнее учить японский и больше практиковаться; в придачу я начал посещать старого иеромонаха Ираклия, чтобы узнать, что нужно, чтобы стать священником.
Ощепков коротко хохотнул:
– Я тогда всерьез об этом думал, правда. Мне, Виктор Афанасьевич, выбирать было не из чего. Если можно стать священником – почему нет? А потом, в один из зимних дней, конечно, без предупреждения, вернулся Трофим. Уж я и обрадовался!
Вернулся он, кстати, изменившимся до неузнаваемости. Вместо неотесанного сахалинского пацана передо мной предстал благородного вида юноша. Впрочем, внутренне Трофим не изменился ни на йоту, и наша дружба никуда не делась. Потому, когда я спросил его о причинах произошедших в нем перемен, он ответил с серьезным видом:
– Я, брат, в попы собрался. – После чего не выдержал и расхохотался.
– Ну, а серьезно? – не унимался я. – Я, может, сам не прочь принять сан.
Благо я над этим уже раздумывал. А Фукурю-то, выходит, мне не соврал! Чудны дела твои, Господи! Где Трофим Юркевич, а где священный сан. Правда, мне легче было представить себе котика[6] в японской военной форме, чем Трошку в рясе и с епитрахилью.
– Шутишь, – сказал Трофим задумчиво. – А если не шутишь…
– То что? – спросил я. – Возьмешь меня с собой?
– Эх, брат, – ответил Трофим. – Все не так просто, как кажется. А ты действительно мечтаешь исповедовать, причащать и отпевать?
– Не так чтобы очень, – честно сказал я, – но, чтобы отсюда удрать, я готов не то что в попы – в кочегары на пароход. Серьезно – смотрю на заходящие в наш порт суда и думаю: может, рвануть отсюда куда-нибудь в теплые страны? Меня пока вроде к Сахалину гвоздями не прибили…
Трофим в мгновение ока посерьезнел:
– Тогда тебе надо пообщаться кой с кем. Ты с Ипполитом Викторовичем знаком? Со Свирчевским?
– Нет, – ответил я. – И понятия не имею, о ком ты.
– Странно, а он о тебе постоянно справляется, – удивился Трофим. – Они с батюшкой твоим покойным давние знакомцы.
– Тогда, пожалуй, он моего отца знает получше меня самого, – ответил я. – Сам знаешь, старик любой из своих досок больше внимания уделял, чем мне. Я ведь даже фамилию ношу матушкину, а не его.
Трофим вздохнул: мои семейные перипетии ему были известны, он даже от матушки моей успел получить пару раз трепку, когда та еще пребывала во здравии.
– Как бы то ни было, пообщаться с Ипполитом Викторовичем тебе стоит, – перевел он разговор на другую тему. – Это он мне Японию сосватал. А тебе так и сам Бог велел. Что тебе здесь прозябать?
– Ну да, – ответил я. – Кадилом махать всяко лучше.
– Кадилом, дружок, машут дьяки, – усмехнулся Троша. – Ты ровно не православный. Вот что, я к тебе завтра забегу, скажу, как тебе с Ипполитом Викторовичем стакнуться, лады?
– Путем, – ответил я и стал ждать…
* * *
Снизу послышался шум. Спиридонов насторожился, и Ощепков это заметил:
– Не обращайте внимания, это ребята на занятия собираются. Небось Ярошенко с Федоровым первые пришли. Они здесь на железке механиками работают, идти им всего ничего.
– Так, может, пока прервемся? – предложил Спиридонов.
– Непременно, но минут через десять, – ответил Ощепков. – Пусть соберутся пока. А вы покурите, в зале я строго-настрого это запретил. Хоть вы и гость и правила на вас не распространяются, но…
– Ну что вы, – остановил его Спиридонов, доставая очередную папироску. – Вы абсолютно правы, у меня никаких претензий, я и без того вам благодарен. Порядок есть порядок. Так что там дальше произошло?
Фигура штабс-капитана Свирчевского очень заинтересовала Спиридонова. Следует его проверить, сделал он для себя мысленную отметку. Кто таков? На чьей стороне в Гражданскую воевал? Случайно не колчаковец ли?
Ощепков словно читал его мысли:
– Вас небось заинтересовала личность моего «ангела»? Я расскажу вам о нем все, что знаю. Хотя бы потому, что, не будь в моей жизни Свирчевского, я не был бы тем, кем стал. Виктор Афанасьевич, вы смотрите на меня и видите человека, кажущегося простым и бесхитростным, как крестьянин Пермского края, взятый непосредственно от сохи; но вы немного знакомы с моей биографией, а потому наверняка относитесь ко мне с подозрением. Не спорьте, вы меня этим нисколько не задеваете, – добавил он, видя, что Спиридонов готов ему возразить. – Вы думаете, в чем же подвох, вы подозреваете наличие у меня какого-то «второго дна», шкафа, набитого скелетами…
Мой секрет, Виктор Афанасьевич, в том, что я как раз такой, каким вы меня видите. У меня нет второго дна, все на поверхности. Я предельно откровенен с вами и ничего не скрываю. Знаете почему? Все просто: тот, кто скрывает, дает повод искать. У меня все на поверхности, и тот, кто захочет что-то найти, ничего не найдет, кроме этого. И этой хитрости, если ее можно так назвать, научил меня штабс-капитан Свирчевский.
Я рожден для дзюудо; полагаю, вы тоже. Ипполит Викторович родился, чтобы быть разведчиком. В его личности воедино и неразрывно сплелись качества на первый взгляд противоположные – патриотизм и авантюризм, честность и лукавство, верность и предприимчивость, педантичная серьезность и артистизм. Скажете, такого не бывает? Возможно, данное сочетание качеств встречается однажды на биллион, но мне оно попалось, воплотившись в Свирчевском. Это был необычный человек…
Мы встретились с ним в одном из александровских трактиров. На острове питейные заведения закрывались с заходом солнца… по крайней мере, официально. Мы встретились после закрытия. Свет в зале почти был погашен, горела лишь одна керосинка на столе у Свирчевского. В полутьме я его увидел впервые.
Невысокий, рябой, рыжевато-русый, но уже седеющий, отчего казался пегим. У него были невыразительные серо-голубые глаза, впрочем, цвет их сильно зависел от освещения. Днем они казались голубыми, ночью – серыми, как тень.
Вы бы ни за что не узнали его в толпе. Я был сильно удивлен, узнав, сколько у него было женщин. Удивлен я был потому, что был молод. Потом, когда подрос, понял, почему по-другому и быть не могло. Свирчевский был не просто человеком – сила его личности поражала, но не подавляла, как это часто бывает.
– Вы говорите о нем в прошедшем времени, – заметил Спиридонов. – Почему? Он умер?
– Вероятнее всего, да, – ответил Ощепков. – Но я не удивлюсь, если нет. Я потерял его след с началом Великой войны. Видите ли, у Ипполита Викторовича некогда была мечта. Он, служащий контрразведки, видел, как легко германцы и австрияки развивают на территории Империи свои агентурные сети. А как иначе? Посмотрите списки офицеров Российской империи: каждая третья фамилия – либо немец, либо остзеец, что и того хуже. Молодой и горячий тогда еще поручик Свирчевский задумал создать такие же сети в обоих наших «дружественных» сопредельных государствах. Увы, идея попала не в те руки. Говорят, Витте, ознакомившись с прожектом Свирчевского, был вне себя от ярости. Что вы хотите? Активный западник, да к тому же остзейский немец. Даже хорошо, по-моему, что эти территории нам не принадлежат более – сколько с этими остзейцами было проблем!
– Однако немало остзейцев верно служили Империи! – возразил Спиридонов.
Ощепков с ним согласился:
– А я и не спорю. Но это только часть, а другая часть спала и видела новый Ливонский орден. Как бы то ни было, Свирчевского по личному указанию Витте отправили туда, куда Макар телят не гонял: на Сахалин. Официально – во имя сбережения его жизни. По сути – чтобы не донимал дурными идеями.
Однако Ипполит Викторович был не из тех людей, кого таким назначением можно было выбить из колеи. На новом месте он с новыми силами приступил к решению новой задачи и вскоре, как паук, опутал своими сетями каторжный мир. Имея на этом поприще несомненные успехи, он, однако, не отказывался и от других своих прожектов. Свирчевский был дальновидным человеком, впрочем, о том, что рано или поздно Россию и Японию столкнут друг с другом, на Дальнем Востоке не догадывался разве слепой или блаженный. Тут Ипполит Викторович и стал обращать внимание начальства на состояние дел в отношении разведки и контрразведки Приморья и Забайкальского края…
Снизу раздался смех – смеялись несколько молодых людей. Ощепков улыбнулся, словно и сам услышал ту шутку, над которой хохотали его подопечные.
– Ах, как не хочется прерываться, – проговорил он с досадой. – Но надо. Ребята собрались, ждут.
Спиридонов встал и сказал с не меньшей досадой:
– Ну вот… на самом интересном месте.
Ощепков энергично кивнул:
– Ладно. Подождут еще немного, с них не убудет, а я вам доскажу, как впервые встретил Свирчевского. Он сидел за столом, одетый по-простому, как любой сахалинский мастеровой, и тасовал колоду карт. Не здороваясь, он сказал: «Вася, хорошо, что ты пришел. Давай, я тебе погадаю?»
И протянул мне колоду, предложив снять. Я помимо воли сдвинул часть колоды, и он продолжал тасовать, пока я садился. Тем временем молчаливый халдей принес и поставил передо мной тарелку щей с мясом. С учетом того, как я питался на казенных харчах, это было настоящей роскошью. Поймите, мне было тогда двенадцать то ли тринадцать лет. Точно не скажу, с цифрами у меня плохо, так что даже записывать приходится…
Спиридонов вспомнил некоторые отчеты, которые присылал агент ДД… Либо Ощепков лукавил, что маловероятно, либо ему стоило огромного труда их составлять, а ведь эти отчеты, несомненно, были точнее некуда. Ощепков даже ухитрился передать Ревкому данные японского крейсера «Хирадо», заходившего в Корсаков, со всеми футами, милями и лошадиными силами.
– В общем, от такого дара небес я отказаться не мог и стал наворачивать щи с жадностью дорвавшихся до рябчиков потомков Авраама. Свирчевский тасовал карты не глядя, а смотрел на меня и улыбался при этом. Когда я вытер плошку куском хлеба (вся трапеза у меня больше пяти минут и не заняла), он сказал:
– Ну что ж, подкрепился? Хорошо, теперь раскину я на тебя колоду.
И вытащил червонного короля.
– Вот ты, молодой, красивый. И было у тебя в жизни… – он положил поверх «моей карты» три штуки веером – король пик, дама пик, десятка той же масти, – сплошное вот это.
Я кивнул: карты действительно прекрасно описывали мое прошлое. Свирчевский глянул на меня и сказал:
– Но теперь все по-другому, поскольку появился у тебя на пути…
Сверху над моими картами лег трефовый король. Казенный человек, погонник. Кто ж на Сахалине этого не знает? А Ипполит Викторович продолжил:
– И есть у тебя, милый мой, два варианта. Первый вот.
Справа легли три карты. Трефовый валет – казенные хлопоты; пиковая восьмерка – тревоги, опасности и – червонный туз, успех в делах.
Свирчевский внимательно взглянул на меня, понял, что я расшифровал его сдачу, и положил слева тоже три карты – шестерки пик, треф и бубей.
– А это второй, – ответил он. – И какой ты выберешь?
Три шестерки. Три дороги – казенная, денежная да напрасная. Конечно, никакое это было не гадание, я же не шестилетний, чтобы этого не понимать? И послание читалось вполне явственно: или я иду служить на казенную службу, опасную, но в итоге сулящую мне успех, или никто мне ничего не должен, и вся моя жизнь будет сплошной беготней за достатком, спокойствием, устроенностью.
– Да тут и дурак выберет, – сказал я. – Киньте еще карту на правую сторону.
Свирчевский сдал. В сдаче оказалась трефовая десятка, деньги. Если бы я и сомневался в том, что он мне хотел сказать, теперь мне все было предельно ясно.
– Мне нужно будет поехать в Японию? – уточнил я.
Свирчевский кивнул:
– Понимаю, что ты в попы не метишь. Насильно в рясу тебя никто не обрядит. Тебе в Японии нужно будет стать не попом, Вася.
– А кем же? – уточнил я на всякий случай.
– Оборотнем, – серьезно сказал Ипполит Викторович, чуть подавшись вперед. – Как я, но более «узкой профили», как говорят штабисты. Будешь обращаться из русского в японца, но не по воле фазы луны, а по велению штаба Забайкальского военного округа.
– Да смогу ли? – усомнился я.
– Сможешь, Вася, – улыбнулся Свирчевский. – Парень ты головатый, и даром, что ли, я тебя всю жизнь готовил к этому?
Должно быть, я уставился на него, как буддийский монах на живого Будду, потому что он опять улыбнулся:
– Да я за тобой с рождения слежу почище, чем ангел-хранитель. И крестных тебе ладных сосватал, и опекунов, и папеньку твоего уговорил завещание на тебя оформить, не говоря уж о том, что маменьку застращал, чтоб она тебе голову ненароком не отбила, с нее сталось бы, царство ей небесное. Да и в реальное училище я тебя приткнул. Думал, будешь мастеровым, как-то пропихну тебя поюжнее Корсакова. Но тут, брат, оказия случилась: есть у нас в Японии свой человек, у него и поучишься. Хоть поп, а в люди выведет, соль земли. Он тебя дальше и распределит, придумает, как из тебя японца сделать. Он воду в кровь превращает, русского в японца ему обратить – раз плюнуть!
Глаза Свирчевского смеялись, я же был сбит с толку. Я все-таки был простой сахалинский нахаленок и к таким политесам непривычный. И, сказать честно…
Ощепков потупился:
– Свирчевский, наверно, и Вельзевула бы завербовал шпионить в аду на благо Царя-батюшки. Жаль, такой человек пропал! Он один десятка стоил, если не сотни. Уж я-то знаю.
Затем махнул рукой и встал:
– Идемте, что ли, а то ребята нас, поди, заждались. А как закончим – расскажу вам о Кодокане, вам ведь не терпится?
Спиридонов кивнул и, вставая, спросил:
– А что ж с ним стало-то, Василий Сергеевич? Со Свирчевским.
Ощепков остановился у дверей и обернулся к Спиридонову:
– Говорю же, наверняка сгинул… Знаете, Виктор Афанасьевич, вот я – разведчик. Видал я многих иностранцев – японцев, китайцев, англичан, американцев, французов… Беседовал с ними накоротке, доверительно, и вот что скажу вам: нет у нас там друзей. В лучшем случае не враги, хотя те же янки с семнадцатого по девятнадцатый ухитрились свои фактории от Берингова пролива до Колымы расставить, а все поют, мол-де, Россия для них друг и брат, а Советская – так и подавно![7] Покуда у России есть ее бескрайние просторы, покуда недра скрывают несметные богатства, не будет у нас друзей за границей. Но главная наша угроза отнюдь не из-за рубежа. Главный наш враг не в Польше, Германии, Британии или Америке.
Главный наш враг, Виктор Афанасьевич, это наш домашний, взросший на нашей земле чинуша, бюрократ и хапуга. С внешним врагом русский народ всегда справится, а вот внутренний в разы опаснее. Такие, как Витте, Безобразов, Стессель, – вот кто самые страшные наши враги. Не видящие дальше своего кармана, рассматривающие свое место как некую вотчину для собственного обогащения. Я не призываю никого быть бессребрениками! Конечно, человек должен думать и о своей семье, да и о себе не грех.
Однако есть те, кто понимает, что страна, в которой ты живешь, – это твой дом, твой, твоей семьи, твоих детей. А значит, делая ее лучше, ты в конечном счете заботишься и о своих близких, и о себе самом. Вот такие люди и должны быть у власти, более того: не только у власти, этого мало! На каждом месте, от дворницкой до Кремля!
Но, к сожалению, есть те, кому жадность и зависть застят глаза и помутняют рассудок, лишая возможности жить по здравому смыслу. И эти люди, получив любую толику власти, стремятся урвать, нахапать, выжать все соки из того, до чего дотянулись их загребущие руки, а до дела им дела нет! И чем больше таких у руля, тем больше у наших друзей по ту сторону границы соблазна попытаться урвать кусочек наших богатств – потому что от слабого руководства, недальновидного и думающего лишь о сиюминутном своем, страна слабеет. Если бы не эти ничтожные эгоисты, мы бы никогда не проиграли в Русско-японской войне, да что там – никакой революции в стране не было бы вовсе.
Вы были в Порт-Артуре, вы видели, что представляет собой крепость. А почему? А потому, что у наместника без многомиллионных выплат «за комиссию» ничего не решалось. А когда жареный петух клюнул, отбиваться приходилось берданками и картечницами. И в Великую поначалу было то же, да Государь-то уже немного поопытнее был. Взял этих подколодных рвачей в ежовые рукавицы, вот они его и убрали, когда ясно стало, что война вот-вот закончится, а по итогам многим может перепасть на орехи…
Спиридонов не мог с ним не согласиться – в душе; высказывать подобные мысли вслух он не решился бы. Все-таки хоть он и занимался в ОГПУ только подготовкой кадров, но слепым отнюдь не был и прекрасно понимал, что за такие мысли можно было легко угодить не то что в края, где солнце по полгода не заходит, но и куда подальше. Например, туда, где, по слухам, человек, распятый некогда вниз головой, ныне работает кем-то вроде привратника.
– И какое это отношение имеет к Свирчевскому? – спросил он.
– Самое непосредственное, – ответил Ощепков, словно очнувшись и пропуская его за дверь. – Как началась Великая война и стало ясно, что в России работает целая сеть германо-австрийской агентуры, кто-то в Петербурге вспомнил про Свирчевского и его прожекты. Ему дали генеральское звание и отправили на запад с предписанием реализовать задуманное, то есть ни много ни мало развернуть прямо во время войны агентурную сеть у врага в тылу. А заодно и повыловить агентов противника в нашем. В общем, догнать паровоз и отремонтировать ему крейцкопф[8] на ходу, с выражением напевая при этом «Боже, Царя храни». Сами понимаете, чем это могло закончиться, так что, полагаю, по Ипполиту Викторовичу впору заказывать панихиду. Даже с учетом его невероятного везения.
Пока Ощепков произносил все это, они со Спиридоновым спустились в зал, где их ожидали около двух десятков разновозрастных молодых людей.
– Пока на этом прервемся, – сказал Ощепков, – а после тренировки я расскажу вам о Кодокане. Так даже лучше, нагляднее, так сказать. А вот и мои ребята, знакомьтесь.
Глава 3 Соединение веры и причастия
Собравшиеся в зале были в подавляющем большинстве молодыми людьми; насколько Спиридонов мог судить, самому старшему среди них было не больше тридцати – тридцати двух лет, а самый младший еще не носил усов. Ощепков представил его, а затем по очереди представил ему своих учеников. Звал он их по именам и после знакомства давал короткие указания, с которыми ученики тут же шли на татами. У одного из юношей он осмотрел кисть, пошевелил пальцы, после чего удовлетворенно кивнул и отправил тренироваться.
Спиридонов слушал Ощепкова, наблюдая за его подопечными. Признаться, он был несколько разочарован: он слышал от Фудзиюки, как тренируются в Кодокане, и ожидал увидеть что-то больше похожее на ритуал. Вместо этого у него перед глазами предстало нечто наподобие его собственной системы: всю первую половину занятий ученики Ощепкова занимались самоподготовкой – сначала силовой, с включением элементов на реакцию и растяжку, затем – специальной, с отработкой элементов базовых движений. Ощепков уделял больше внимания именно элементам, порой «разбирая» прием на составляющие и отрабатывая каждую. Для неспециалиста все происходившее на татами показалось бы бессмысленной суетой, мельтешением, но Спиридонову давало обширный материал для анализа.
Он тут же отметил, что Ощепков тоже не подгоняет воспитанников под японские каноны, а разработал для них варианты оригинальных приемов, учитывающих физические отличия европейца от азиата. Но Василий Сергеевич, кажется, шагнул еще дальше: его бойцы выполняли одни и те же приемы немного по-разному, однако Спиридонов не мог бы сказать, что они выполняют их неправильно. Нет, они просто делали захваты с учетом собственных параметров и, как выяснилось впоследствии, параметров соперника.
Когда все разошлись по своим местам, Спиридонов тихонько спросил у Ощепкова:
– Вы разве не только эркаэмовцев тренируете?
– Что вы, конечно нет! – Ощепков отвечал, не глядя на Спиридонова: он смотрел за ребятами. – Всех желающих. Это осоавиахимовская группа, одна из двух. Здесь, кстати, из милиции только двое.
– Что так? – удивился Спиридонов.
Ощепков пожал плечами:
– Должно быть, из меня никудышний организатор. Я так и не смог заинтересовать губуполномоченного программой подготовки кадров. Несмотря на рекомендации с Дальнего Востока. Товарищ Соловьянов считает, что все это баловство. По-моему, он и ко мне относится с подозрением.
Что, кстати, было чистой правдой – помянутый Соловьянов давал Ощепкову характеристики не то чтобы нелестные, но и от сочувственных весьма далекие. С другой стороны, «специалист-японист» в Губуправлении ОГПУ Новосибирска был нужен примерно как санки в джунглях Амазонки.
– Вам бы следовало по этому поводу обратиться в Управление по делам Сибири и Дальнего Востока, – возмутился Спиридонов. С его точки зрения, Соловьянов допустил явную недальновидность, пожалуй, даже халатность.
Ощепков махнул рукой:
– А зачем? Пока бумага пойдет по инстанциям, пока обратно… сменят Соловьянова, поставят еще кого-то, тому еще поди докажи. Трофимов, не надо так резко, мягче! Не дрова рубишь!
– Так что ж, по-вашему, ничего и не делать? – Подобный подход к делу Спиридонова не радовал. Он вообще остро реагировал на чью-то непрофессиональность, люди «не на своем месте» его раздражали. – Сами только что говорили правильные слова о бюрократах…
– В том-то и дело, что Евгений Сергеевич не бюрократ, – возразил Ощепков. – Но на подъем тяжел и к новшествам относится настороженно. К чему портить человеку жизнь? А делать, так я делаю… Простите.
Он подошел к татами:
– Чапкин, Грязнов, довольно. Отрабатываете в паре яма араси[9] и харай госи[10] поочередно.
Двое юношей постарше (и из наиболее обученных, что заметил Спиридонов) немедленно прервали свои упражнения, коротко поклонились тренеру, вызвав у Спиридонова воспоминания о Фудзиюки, после чего стали друг против друга и вновь поклонились – друг другу. Спиридонов ими залюбовался – видно было, что ребята хорошо подготовлены.
– Мои лучшие, – подтвердил Ощепков. – В этой группе, конечно. Грязнов, кстати, эркаэмовец, а Чапкин в ремесленном учится, а работает на станции обходчиком.
– Учится, работает… когда он все успевает? – невольно удивился Спиридонов.
– Хорошая организация, – кивнул Ощепков. – От природы, даром что из беспризорников.
Он отвел взгляд от татами, отвернувшись от Спиридонова, и сказал тихо:
– Самородок, а ночует то на вокзале, то здесь… У меня ночевал, пока у жены туберкулез не открылся… – Ощепков потупился. – Дома своего нет, говорит, с шести лет мыкается. Занесла его нелегкая в наши края, а родом-то откуда-то с юга, то ли малоросс, то ли из донских краев, он и сам уж и не упомнит…
Виктор Афанасьевич хотел было что-то сказать Ощепкову, но тут же забыл, глядя, как беспризорник, ухватив напарника из милиции за пояс, делает переднюю подсечку. Работа была выполнена безукоризненно – его напарник, несомненно, знал о намерениях своего противника, но ничего сделать не смог. И тем не менее Ощепкову что-то не понравилось:
– Витя, кисть не заламывай, не ровен час, связку потянешь. Ну-ка, еще раз. Олег, не стой соляным столбом, по тебе видно, куда ты уходить собрался! Дзюудо – это вам не уличная драка, здесь думать надо. Дериглазов, Шимонович, о-сото макомэ[11] и ути макомэ[12] последовательно. Потом меняемся партнерами. Геращенко, тренируй сокуто-атэ[13].
– Чего? – переспросил бритый под Котовского Геращенко.
– Удар ребром стопы, – спокойно пояснил Ощепков, и Геращенко кивнул.
– Я бы все приемы переименовал, – задумчиво сказал Ощепков. – Только пока не знаю как, слишком длинно получается.
– Я пришел к тому же выводу, – сообщил Спиридонов. – Увы, бывают прекрасные бойцы, но с памятью девицы на выданье.
– А у меня и неграмотные в группах есть, – кивнул Ощепков. – Вам-то с эркаэмовцами проще, а у меня осоавиахимовцы, с бору по сосенке. Пока они все эти премудрости выучат…
– Ничего, переедете в Москву, подберем вам толковых ребят, – пообещал Спиридонов.
Ощепков глянул на него долгим взглядом, нахмурившись:
– Нет уж, Виктор Афанасьевич. Я не из тех, кто ищет легкие пути, потому что…
Раздался громкий звук падения чего-то тяжелого и сдавленный полувскрик-полустон. Спиридонов еще и не сориентировался, а Ощепков был уже на татами. Спиридонов не сразу понял, что произошло, как Ощепков броском через бедро отправил одного ученика на пол и наклонился ко второму. Тот пытался встать. Ощепков осторожно его уложил обратно, пройдясь пальцами по макушке и темечку, спустившись затем к шее. После этого приобнял парня за плечи и помог встать.
Остальные ученики, оставив занятия, окружили Ощепкова и товарищей (второй парень, брошенный Ощепковым через бедро, тем временем осторожно поднялся на одно колено, но дальше пока не вставал – вероятно, голова закружилась). Когда первый ученик встал, Ощепков, не меняясь в лице, помог встать и второму.
А затем приказал всем сесть. Группа села по-японски, на пятки. Сел и Ощепков. Спиридонов решил, что ему одному стоять как-то неловко, и тоже присел по-японски, подумав, что не сиживал так уже два десятка лет с лишком. А также о том, что так и не научился толком, потому что это, черт возьми, очень неудобно.
– Витя, – обратился Ощепков к участникам разыгравшегося на татами действа, – я что-то говорил об отработке силовых захватов?
К удивлению Спиридонова, ответил тот парень, которому Ощепков помогал встать первому:
– Нет, учитель, но…
– У тебя не получалось сделать переднюю подсечку, – мягко сказал Ощепков. – Я понимаю, Витя, но я не просто так ставлю тебя с Васей. Вася опытнее, но, главное, хладнокровнее тебя.
При этом Ощепков бросил быстрый взгляд на «опытного» Васю. Тот потупился и даже, кажется, слегка покраснел.
– Я понимаю, Витя, что с Васей тебе справиться нелегко. Но, во-первых, жизнь никогда не интересуется, легко тебе или нет, когда сводит нас с каким-нибудь противником, а во-вторых, если я подбираю тебе такого противника, значит, я верю, что ты способен справиться. Хотя, кажется, ты решил сделать все, чтобы я в этом разуверился.
А вот Витя точно покраснел, да как! Словно его густо намазали свекольным соком ото лба до ключицы.
– Зачем мы здесь? – спросил Ощепков, обводя взглядом собравшихся. – Чтобы научиться драться? Неужели вы думаете, что умение драться решит все ваши проблемы? Это глупо. Но дзюудо может сделать для вас намного больше – не только драться научить. Жить научить.
В зале было тихо, как в полночь на кладбище.
– Здесь вы учитесь преодолевать препятствия, переносить трудности, бороться. Рано или поздно вы должны понять, что ваш соперник – не враг, более того, он ваш самый близкий друг. Потому что именно он помогает вам перебороть и победить главного врага – себя самого.
Все наши неудачи происходят из того, что мы чересчур любим себя. Но когда-то великий воин далекой Японии, Миямото Симмэн[14], сказал великие слова. Лучшим воином является тот, кто чувствует себя мертвым. Мертвому ничего не надо, мертвый ничего не боится. Заходя на татами, мы умираем, умираем для внешнего мира и его чувств. Вы снимаете обувь, входя в этот зал, но этого мало. Вы должны снимать там же свой гнев, свое тщеславие и самолюбие.
Спиридонов посмотрел на свои сапоги и почувствовал, что краснеет. И Ощепков, и его ученики на татами были босыми. Как и когда снял обувь Ощепков, Спиридонов не заметил, а ученики, должно быть, разувались сразу на входе в зал; ботинки, накрытые оборками, сапоги с торчащими из них портянками и даже пара лаптей из серой бересты лежали у самого входа в помещение.
– Потому тот, кто разгневался, тот, кто пожелал во что бы то ни стало победить соперника, уже проиграл, – продолжил Ощепков, а Спиридонов представлял себе заваливающиеся на борт под огнем эскадры Того пылающие броненосцы Рожественского и тихонько кивал. – Победа не в том, чтобы непременно выбить дух из противника, победа в том, чтобы ни один противник никогда не мог выбить дух из тебя! Для того и нужны соревнования. Встречаясь с равно сильным, мы становимся сильнее, встречаясь с равно умелым, мы учимся новому, а победы в этой схватке нужны лишь для того, чтобы захотелось вновь и вновь повторять бой. На этом белом квадрате нет врагов! Здесь никто никому ничего не доказывает, никто никого не побеждает и не принуждает. Это место, где вы причащаетесь умению и способности защитить сами себя и друг друга.
«Он думает, что они поймут все это?» – задал себе вопрос Спиридонов. Он смотрел на простые лица ребят из группы Ощепкова, и они казались ему слишком уж примитивными для того, чтобы усвоить такую науку. Кроме разве что некоторых – эркаэмовца Грязнова, беспризорника Чапкина, Васи и еще парочки. А вот тезка Спиридонова, попытавшийся выполнить силовой захват и рухнувший при этом на татами, внешне был чистой воды уркаганом, да еще и с внешностью дикого черкеса. Зато Спиридонов не считал, что Витя был так уж и не прав, пытаясь любой ценой опрокинуть Васю. Точнее, это желание было ему по-человечески понятно.
Но в целом со словами Ощепкова он был согласен. Поняли их его ученики или нет, Спиридонов сказать не мог, но думал, что вряд ли. Какое-то время было тихо, затем уркаган Витя сказал негромко, но в тишине зала слышно было хорошо:
– Учитель, откуда нам знать, как это? Мы учились драться на улице, там физиопопия совсем другая…
– Философия, – поправил его Ощепков, улыбнувшись. – Но вообще-то ты прав, Витя.
Он кашлянул, возможно, специально, привлекая внимание к своим словам:
– Одной из важнейших задач нашей школы как раз и является задача отучить вас драться… точнее, не только драться – а жить по-уличному. Помните, как на самом первом занятии я просил вас, каждого, запомнить нечто важное?
Ребята закивали, а Спиридонов поймал себя на мысли, что Ощепков будто его цитирует! А поскольку в телепатию он не верил, оставалось предположить лишь одно – они мыслили сходным образом! Неожиданно это оказалось очень приятно – знать, что кто-то мыслит так же, как ты. Что у тебя есть единомышленник. Соратник.
– А что? – спросил Ощепков.
Первым ответил спиридоновский тезка:
– Никогда не бить первым.
– Вы уже много занимались и многое узнали, – сказал Ощепков. – Вы поняли, почему я просил вас об этом?
Стало тихо; никто не решался ответить первым. Наконец заговорил все тот же Витя:
– Мы должны использовать силу врага… против него самого, правильно?
– Отчасти, – ответил Ощепков. – Не просто силу. Человек или даже целое государство, решившее напасть на кого-то, сразу становится слабее. Такова человеческая природа. Такие вещи, как справедливость, заложены в нее, намертво пришиты к ней. Нападающий, конечно, знает, что не прав, а кто прав – тот и сильнее. Потому в нашей борьбе мы должны руководствоваться принципами справедливости.
Вот как просто! Ощепков понятными словами высказал то, что он чувствовал, что пытался донести до учеников. Спиридонов все сильнее ощущал какое-то родство с ним, словно неожиданно нашел брата, с которым был разлучен в малом детстве. Они понимали друг друга без слов, они жили по законам иного мира, общего для них и чужого для других.
– Василий Сергеевич, – мягко сказал он, – иногда проще один раз показать, чем много раз рассказать. Давайте мы с вами проведем показательный поединок, дабы у ребят не сложилось какое-то толстовское понимание нашей системы. Пусть они увидят, что даже самое серьезное противостояние можно проводить без злости и желания победить противника любой ценой. А потом я еще им несколько слов от себя скажу, уговор?
* * *
Такой противник у Спиридонова был впервые.
Фудзиюки Токицукадзэ его явно превосходил; все остальные – и его ученики, и соперники – столь же явно уступали ему.
Теперь он впервые встретился с равным. И не просто с равным.
До поединка, там, в мире за белым квадратом, у Спиридонова были какие-то рассуждения, оценки, сомнения. На татами все было иначе; и он еще раз ощутил, насколько на татами все внешнее внезапно становится абсолютно не важным, раскрывается иной мир, живущий по законам, отличным от законов внешнего мира, и они – он и Ощепков, что самое восхитительное, – стали в этом мире своими и были как братья.
Да, здесь, на татами, один из них победит другого, но кто кого – это не важно. Противостояние и любые оценки теряли на белом квадрате значимость. Единственная ценность этого мира была не в борьбе. Борьба была средством, не целью. Целью был Путь.
Кодоканское название дзюудо[15] более точно, чем дзюудзюцу, это действительно Путь, а не техника. Путь, каким ты идешь, путь твоей жизни. И Спиридонов и Ощепков – спутники на этом Пути. Это был Путь каждого – и их общий Путь.
Здесь, на белом квадрате татами, ничто не замутняло кристальной чистоты мира. В сиянии их Пути все становилось простым и ясным. Спиридонов понял, что и он, и Ощепков оттягивали этот вожделенный для них обоих момент совпадения. Они были птицами в небе дзюудо, но каждый, до времени, боялся взлететь. Но боялся не за себя. Боялся разочароваться в спутнике. Свет дзюудо открывал, кто есть кто. В этом свете Спиридонов увидел, что Ощепков такой же, как он, и вздохнул с облегчением. И Ощепков испытывал те же чувства к нему.
После поединков с учениками Спиридонов мог четко прокомментировать весь их ход и выполнение каждого элемента; здесь же процесс боя нельзя было расчленить, все приемы перетекали один в другой, подобно движению воды в реке. Дзюудо перестало быть чередой элементов, оно стало живым. Удары, захваты, подсечки составили единый, непрерывный, нераздельный процесс, «мягкий путь».
Спиридонов не видел ничего подобного ранее, зная о возможности такого лишь со слов Фудзиюки; Ощепков, очевидно, видел, вероятно, в Кодокане, потому не удивился. Впрочем, не удивлялся и Спиридонов. Они не просто боролись – они участвовали в ритуале, в некоем священнодействии. Они были адептами, но не культа, а этой борьбы.
На белом квадрате татами в Новосибирске сошлись две стихии. Спиридонов был стремителен, словно пламя, Ощепков – плавен, словно вода. Они быстро, почти сразу же, осознали, что не надо ждать ошибки другого, и демонстрировали наблюдающим за ними ученикам дотоле невиданный ими, активно-атакующий и при том мягкий стиль дзюудзюцу. Они парировали толчки, уходили из захватов, избегали бросков друг друга. Возможно, человеку, далекому от их мира, подобная тактика не показалась бы зрелищной, но каждый, кто мало-мальски причастен к этому миру, не мог бы не застыть в изумлении и благоговении. Танец пламени и воды, он завораживал.
Лишь наивный или далекий от спорта человек может считать, что спорт – это только соединение силы, выносливости и воли к победе. Любой спорт – и групповые игры, и индивидуальные состязания предполагает определенные интеллектуальные способности, выработку сложной стратегии и тактики состязания. Любая борьба требует этого в двойной мере, а такая сложная, как дзюудзюцу, где действия противника используются против него самого, требует еще более развитого интеллекта. Ощепков и Спиридонов применяли друг против друга приемы не как Бог на душу положит, а выстраивали осмысленные комбинации на основании защитных действий противника – генерала и рядового в одном лице. Стиль Ощепкова отличался от классического кодоканского дзюудо примерно так же, как спиридоновский. Было видно, что он непрерывно его совершенствует, приспосабливает к своим параметрам. Будь на месте Спиридонова японец, владеющий классическим дзюудзюцу, он, вероятно, очень скоро оказался бы на татами. Однако Спиридонов, как и Ощепков, уходил от канонов сообразно своим особенностям и потому не только успешно парировал приемы противника, но и подсознательно предугадывал его аналогичные действия.
Тем не менее их поединок был чистым дзюудзюцу.
Вопрос был в том, кто первый выйдет за ее рамки. Первым оказался Ощепков. Его захват с последующим броском был не то чтобы совсем необычным, но неожиданным. Спиридонову едва-едва удалось его сблокировать, но стало ясно – исход поединка решат только такие приемы. В дзюудо японского образца противники были в равной степени мастерства, да и в его творческом развитии тоже.
И вот теперь, вполне в соответствии с сутью древнего символа «инь-ян», противники стали искать слабые места друг друга. Напряжение возрастало, но ни один из борцов не мог одолеть другого. Было ясно, что победит тот, кто первый успеет застать противника врасплох, и первому это удалось Спиридонову.
Это было что-то вроде тэ гурума[16], но с боковым захватом той же рукой, через которую шел бросок. Хотя и в этом случае исход был не определен до последнего мгновения. Спиридонову хоть и удалось застать Ощепкова врасплох, но тот не оставлял ему возможности переломить ситуацию в свою пользу и провести ути мата сукаси[17] или самому бросить Спиридонова в сэойнагэ[18]. Он продолжал сопротивляться и в воздухе и, лишь коснувшись татами, признал неизбежное.
Все длилось едва ли секунду, но она была крещендо их поединка. Победил Спиридонов, однако победа его была победой над равным, и в другом случае победить мог Ощепков. Спиридонов понимал это, равно как и его противник.
Ощепков исходом поединка тем не менее не был недоволен, хотя, пружинисто вскочив на ноги, обвел учеников таким взглядом, словно только что одержал победу.
– Вот так выглядит настоящее дзюудо! – с торжеством провозгласил он. Борьба как таковая воодушевила его, и победа противника не убавила в нем воодушевления. – Теперь, я думаю, каждый из вас понял, к каким вершинам мастерства следует стремиться. – Он повернул голову к Спиридонову: – Виктор Афанасьевич, смею вас заверить, на высший дан в Кодокане вы бы сдали в любую минуту. Но, кажется, вы хотели что-то сказать ребятам?
Спиридонов, откровенно говоря, уж и не помнил, о чем намеревался говорить с ними. Поединок изменил все. Мир после него стал другим, а слова…
Какие слова имеют значение по сравнению с тем, что произошло на белом квадрате?
Спиридонов кашлянул, мозговым усилием фокусируя мысли.
– Я знаю вашего учителя меньше суток, – уверенно начал он в тишине. – И он тоже сегодня видел меня впервые. Но на татами я чувствовал себя так, словно знаком с ним давным-давно. Поскольку мы следуем по одному Пути. Нас объединяет Путь дзюудо. Этот Путь делает всех нас, включая и вас тоже, одной семьей. Мы причастны к одной великой тайне.
А потому меж нами нет и не может быть никакой вражды. Мы побеждаем не для того, чтобы поставить кому-то ногу на грудь, не для того, чтобы любой ценой вырвать победу. Мы побеждаем, чтобы учиться. И потому кланяемся друг другу до и после боя.
Открою вам один секрет – гнев очень плохой советчик. Гнев называют страстью, и, как всякая страсть, он застилает глаза, туманит разум, а значит – делает нас слабее. Даже в поединке с настоящим врагом не давайте волю гневу и ярости. Феликс Эдмундович Дзержинский говорил, что у чекиста должны быть чистые руки, горячее сердце и холодная голова. Вы, будущие чекисты…
Ощепков тихонько ткнул Спиридонова локтем в бок, что-де увлекся… Спиридонов спохватился. Среди подопечных Ощепкова чекистов нет, только два эркаэмовца…
– …эркаэмовцы, – быстро нашелся он, – красноармейцы… достойные граждане нашей Родины, обязательно должны помнить об этом!
Ответили ему аплодисментами.
* * *
Попрощавшись с учениками, они прихватили снизу тяжелый от керосина закопченный примус, чайник с водой, вероятно, заставший еще Колчака, но по-прежнему хорохорящийся надраенным медным бочком, пару кружек, початую пачку чая неизвестной нэпмановской мануфактуры и сомнительного качества, а также немного рафинада, до которого Ощепков, как оказалось, тоже был охоч, и вернулись в его «кабинет».
– Вот оказия, мы спички забыли, – подосадовал Ощепков, когда примус водрузили на стол. – Погодите, я…
– У меня есть, – остановил его Спиридонов, указывая на кучку спичек на столе и обращенный им ранее в пепельницу коробок. – Можно, кстати, я закурю?
– Виктор Афанасьевич, я же просил вас, без церемоний, – ответил Ощепков, занявшись розжигом примуса. – Замечательную вы речь сказали, очень точную… Кстати, вы обещали назвать мне имя своего учителя.
Виктор Афанасьевич не помнил, когда он успел это пообещать, но не стал спорить.
– Вряд ли оно что-то вам скажет…
– Ошибаетесь, – улыбнулся Ощепков, водружая чайник на неустойчивую крестовину примуса. – Хотя я, пожалуй, и так догадался. Думаю, в дзюудо вас занес благоприятный ветер.
– Вы знаете Фудзиюки?! – оживился Спиридонов.
Ощепков вздохнул.
– К сожалению, я знал его не так хорошо, как хотелось бы. Но достаточно хорошо, чтобы он дал мне направление на Путь, по которому я иду. Виктор Афанасьевич, у вас никогда не было такого, чтобы в какой-то картине был некий изъян, а затем вы узнавали нечто, и картина становилась полной?
Спиридонов машинально кивнул. И пожал плечами – а у кого не бывало такого?
– Я долго не мог понять, что держит убежденного буддиста Фудзиюки в семинарии у Николая. Он никому не говорил, что у него был русский ученик. Но так уж вышло, что в Кодокан я попал благодаря ему. Впрочем, обо всем по порядку.
* * *
Синеватое пламя танцевало под почерневшим донышком чайника, который и не думал закипать.
– Знаете, вы второй человек, которому я столь подробно рассказываю свою историю, – сообщил Ощепков, садясь за стол. – Первой, конечно, была моя жена.
– Первая или вторая? – уточнил Спиридонов.
Ощепков взглянул на него с недоумением, а потом улыбнулся:
– Конечно, Машенька. У меня никакой другой жены и не было. После объясню почему. Так вот, вы второй человек, который узнает все, от начала и до конца. В принципе, мне нечего скрывать, просто нет охоты говорить. Люди очень часто все истолковывают неверно и особенно стремятся осуждать. Вы же, я надеюсь, поймете. В конце концов, мы с вами происходим из разных сословных состояний, из разных миров, но наши пути сошлись в один, Путь дзюудо. Потому меня ничуть не удивляет, что именно Фудзиюки был вашим учителем.
Так вот, по договоренности со Свирчевским я отправился в Японию, устроившись на каботажник палубным матросом на один рейс. Драить палубу, подтягивать швартовы да грузить уголь с беседки[19] в угольную яму – невелика премудрость для сахалинского пацаненка. Так же самостоятельно я добрался и до семинарии.
– Почему так? – спросил Спиридонов.
– Ох… сложный вопрос, но попытаюсь ответить. Я вам уже рассказывал, что Свирчевский долго и безуспешно пытался утвердить свой проект в канцеляриях Империи. Параллельно с этим он готовил базу – из беспризорников, каторжных детей, сирот. Он хотел отправлять своих агентов в ремесленные училища Японии, но без высочайшего повеления не мог этого делать, а оного все не было и не было, и даже наоборот: незадолго до войны из канцелярии наместника Свирчевскому пришел прямой запрет на любую враждебную деятельность в отношении Японии. Тщетно Ипполит Викторович пытался доказать, что у России нет союзников, кроме тех, что она сама себе образует. Едва не поплатился званием, говорил, что приказ об отправлении его в отставку до срока зачеркнули японские миноносцы, атаковавшие корабли на рейде Порт-Артура. Он, знаете, любил эффекты и гиперболы…
Ощепков помолчал, глядя на перепляс язычков пламени под чайником. Спиридонов задумчиво вертел в пальцах пачку «Кино», пообтертую и помятую.
– Война изменила все, – продолжил Ощепков. – Хотя могла и ничего не изменить, поскольку генералитет наш в то время страдал просто поразительной близорукостью. Впрочем, это и неудивительно в свете вскрывшихся в Империалистическую войну фактов…
– Каких? – насторожился Спиридонов.
Ощепков посмотрел на него удивленно:
– Ну как же… это еще царская контрразведка установила. В пятнадцатом, если мне память не отшибло, или в шестнадцатом. Распутин жив был еще. Вскрыли тогда целую сеть в Генеральном штабе и Ставке. За хорошие деньги фактически на кайзера работали, хотя кайзер там не последней инстанцией был, деньги из-за океана капали. Всех не успели вычистить, они государя раньше достали. А, ну какое это имеет значение? – отмахнулся Ощепков. – Я о другом сейчас: в общем, генералов наших, как котят, приходилось носом тыкать в факты совершенно очевидные. Но тут, к счастью для Свирчевского, произошло нечто, что изменило отношение Куропаткина и компании к «прожектам» штабс-капитана. Мне кажется или чайник парит уже?
– Кажется, – улыбнулся Спиридонов.
– Жаль, – ответил Ощепков. – Пить хочется.
– Скоро уж, – успокоил его Спиридонов. – Так что за оказия-то случилась?
Ощепков улыбнулся:
– Артурцы, славные ребята, в Волчьих горах японца отловили. Казачьим разъездом, взяли врасплох. Но одного нашего тот все-таки уложил, зато другой его утихомирил, да еще и не насмерть, а так, чтоб допросить можно было. Не слыхали про такой случай?
Спиридонов вспомнил сосредоточенное лицо Гаева, готовящегося к прыжку через полуразрушенную стену фанзы, вспомнил штык его берданки, покрытый его же кровью.
– Должно быть, это случилось после моего пленения, – сказал он глухо, думая о том, что Ощепков, черт возьми, прав и их пути действительно непостижимым образом связаны. – Казаки вообще молодцы, смелые, решительные, словно у каждого обойма запасных жизней.
– Говорят, это в самом начале было, – удивился Ощепков. – Едва ли не сразу после начала блокады. Как бы то ни было, японец остался жив, и его даже сумели переправить в Харбин и сдать тамошней контрразведке, которую как раз возглавил не абы кто, а новоиспеченный генерал Данилов.
– Толку-то от него, – возразил Спиридонов. – В Артуре человека, сносно по-японски говорящего, днем с огнем не сыскать было…
– Вот именно, – подмигнул Ощепков. – Да только наш японец прекрасно говорил на русском и на китайском. Выяснилось это в Артуре еще – казак, что его поймал, предварительно угостил его пулей в спину, к вечеру у него горячка началась.
– У казака? – уточнил Спиридонов с каменным лицом.
Ощепков глянул на него непонимающе:
– У японца, конечно… тьфу, пропасть, вы шутите! Совсем как японец! – Ощепков рассмеялся так заразительно, что заставил усмехнуться и Спиридонова. – Я-то думал, что вы не умеете!
– Тогда мы квиты, – просветлел лицом Спиридонов. – И что ж он вам там напел?
– Поначалу молчал, как карп из императорского пруда в Бейджине, да только в багаже у него нашли русские документы, а еще бумагу, кисти и тушь. Вскоре стало ясно – пленный получал донесения от агентов и переводил их на японский с русского и китайского.
Документов было много, и написаны они были разными людьми, так что еще до признательных показаний японца, данных им под давлением неопровержимых доказательств, стало ясно – в российском тылу действует разветвленная шпионская сеть. Но самое интересное было дальше – выяснилось, что японское правительство для подготовки своих связных использовало русскую семинарию в Токио. – Ощепков вздохнул и добавил: – Как правило, тут начинается непонимание, поэтому сразу объясню – в семинарии не готовили агентов. Только связных, так называемых «драгоманов», бесполезных без наличия сети конечных агентов. Говорю потому, что слишком велик соблазн ставить отцу Николаю в вину действия против России. Бедный святитель! Ото всех-то ему доставалось при жизни: от японцев – за то, что русский, от русских – за то, что учит японцев.
– А он, по-вашему, был не в курсе происходящего? – спросил Спиридонов с показным равнодушием.
– Ну, он же не слепой был, – улыбнулся Ощепков. – Конечно, все знал. Но у него была совсем другая задача, ее он и решал. Знаете, не завтра, не через десять лет, может, и не через сто, но дерево, посаженное отцом Николаем, вырастет. Разрушить отношения и начать вражду очень легко. Нет ничего проще. А вот выстроить отношения, наладить доверие – намного сложнее.
– Доверие – материя слишком тонкая, – отвечал Спиридонов. – У России еще Порт-Артур не зажил.
– Он не зажил еще у вас, Виктор Афанасьевич, – все так же улыбаясь, сказал Ощепков. – И тем не менее вашим учителем был японец. Довольно пока, давайте я вам все-таки доскажу, как я попал в Японию, а то так мы и до полуночи досидимся, а меня все-таки жена ждет.
Спиридонова толкнуло в грудь чувство неловкости. Действительно, он отрывал Ощепкова от больной супруги, которая, как и все больные, нуждалась не только в уходе, но и в том, чтобы рядом был кто-то близкий.
– Да-да… не будем растягивать… Так что там с японцем? – торопливо спросил он.
– После того как он раскололся, Свирчевский передал Генштабу целый пакет документов – с материалами, которые нашли у японца, с протоколами его допросов и, конечно, его собственными выводами. И тут ситуация развернулась на сто восемьдесят градусов…
Ощепков снял с примуса закипевший чайник, закрутил вентиль, погасив синевато-зеленоватое пламя, и стал наливать кипяток Спиридонову в кружку, куда тот уже сыпанул заварки.
– Помните строчку: «Храни нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь»? Так вот… Те, кто раньше ставил Свирчевскому палки в колеса, внезапно оказались наибольшими радетелями его талантливых проектов. Каждая сволочь, именуемая по уставу высокоблагородием, подавала реляцию, что именно она неоднократно настаивала на серьезном рассмотрении этих проектов! Да и Бог бы с ним, тем более что Ипполит Викторович никогда не был тщеславен и за дело болел больше, чем за звезды на погонах да ордена в петлицах. Вот только эти самые сволочи, сумевшие забраться по табельной лестнице выше Свирчевского, начинали мнить, что они куда лучше понимают в его идеях. И «творчески дополнять» оные своими никому даром не нужными инициативами. Впрочем, пока бюрократический локомотив разворачивался, война успела закончиться и в Портсмуте подписали мир. Однако локомотив уже развернулся и двигался в нужном Свирчевскому направлении, рискуя догнать его и раздавить.
Ипполит Викторович, между прочим, на все это обращал категорически мало внимания. Даже тогда, когда ему еще никто ничего не разрешал, он с настойчивостью одержимого проводил в жизнь свой проект. Еще до войны ему удалось связаться с отцом Николаем и сосватать ему двух казачат – Романовского и Легасова, из своих воспитанников. К сожалению, ничего путного из этого не вышло, началась война, и домой ребята вернулись только в шестом… и сразу попали в объятия штабс-капитана, став дополнительными козырями в его игре. Романовского и Легасова приняли на ура, и они сразу же показали свою полезность настолько, что местное начальство, уступив Свирчевскому при поддержке тяжелой артиллерии в виде генерала Данилова, отрядило первого в Японию к владыке Николаю.
Сложные, прямо скажем, были у них переговоры: Свирчевский просил принять в семинарию хотя бы десяток парней из России. Отец Николай резко возражал: дескать, его задача – готовить православное духовенство для японского народа, а не шпионов для Генштаба. Если японцы о чем-то таком пронюхают, то миссии конец, а это означает, что целая страна погрузится во мрак неверия. Как будто мало нам войны между нашими народами!
Свирчевский, будучи прямым от природы и никаких авторитетов не признававший, даже поскандалил с отцом Николаем, дескать, японских шпионов готовить ему не зазорно. На что тот спокойно ответил, что одним ножом можно и хлеб резать, и человека, так виноват ли кузнец, если изготовленным им ножом кого-то зарежут? Он не учил никого воевать против России; наоборот, большинство его питомцев не видели в России врага, чем вызывали дикое раздражение у японских националистов. Он даже дал Свирчевскому целый тюк газет, в которых на него и всю Русскую миссию писали пакости. На что Свирчевский резонно заметил, что, если бы он умел читать по-японски, у него не было бы повода тревожить владыку своими проектами. Отец Николай не отступал и пересказал многое из того, что печаталось, не выбирая притом выражений и не смягчая острых углов. Пока он это делал, Свирчевского осенило.
Ощепков остановил повествование, задумчиво глядя на кипяток в своей кружке – заварку он в нее, в отличие от Спиридонова, не положил.
– Видите ли, я думаю, что, если бы Ипполит Викторович занялся дзюудо, он намного бы опередил и меня, и вас, – продолжил он, аккуратно выливая кипяток обратно в чайник. – У него был такой же склад ума, но куда лучшая реакция и огромная воля к победе. А еще он умел заражать своими идеями. Когда владыка закончил цитировать тактичную японскую прессу, Ипполит Викторович заявил, что, вообще-то, это идеальное прикрытие.
– Владыка, – сказал он, – я говорил с Романовским и Легасовым, и оба они отзываются и о вас, и о школе крайне хорошо. Это непорядок.
Признаться, Свирчевский сумел изрядно удивить отца Николая, который вполне нормально бы воспринял даже появление в своей келье Ангела Господня. Он попросил его не церемониться с учениками, которых он будет присылать. Требовать, чтобы те ходили только в японском платье, ели только японскую еду, говорили даже между собой по-японски, а главное – при малейших обстоятельствах карать самым жестоким образом. В общем, когда я обо всем этом узнал, я был тоже поражен – это была на редкость удачная операция прикрытия, идеально выстроенная и реализованная.
– Вам не кажется удивительным, что я так захваливаю Свирчевского? – спросил Ощепков, наконец положив себе в кружку заварки и залив ее слегка остывшим уже кипятком. Спиридонов отрицательно покачал головой, отхлебнул из кружки и поморщился: чай был неслащеный, словно у Дзержинского.
Ощепков заметил гримасу Спиридонова и пододвинул к нему жестяночку с рафинадом:
– Тоже любите сладкое? Берите сколько душе угодно, я и сам сластена. Сахар – пища мозга; я, бывает, возьму рафинадину и посасываю, ровно леденец.
– Так почему мне это должно показаться странным? – спросил Спиридонов, скромно положив себе два кубика желтовато-коричневатого сахара.
Ощепков взял сразу три.
– Добавляйте, сахар здесь не особенно сладкий, хоть и свекольный, да из местной свеклы, не шибко сахаристой. Климат такой…
Почему, спрашиваете? – вернулся он к делам былым. – Потому что я участвовал в этой операции, и это ко мне штабс-капитан просил относиться так, как я описал. Впрочем, в моей жизни это был далеко не последний подобный случай, и на фоне всего остального в миссии ко мне относились весьма даже мягко. По сравнению с родным домом и теплом материнской любви… – Ощепков мягко улыбнулся. – Так что, отправляя меня в Японию, Свирчевский отправлял меня отнюдь не на курорт. К его чести, скажу – он меня предупредил, что легко не будет. Но сказал лишь: «Дерзай, казак, в атаманы выйдешь!» Пришлось дерзать…
Глава 4 Такой жесткий «мягкий путь»
– Не стану описывать все те трудности, с какими столкнулся Свирчевский в процессе реализации своего плана, – продолжил Ощепков, пока Спиридонов, подсластивший свой чай, пил его небольшими глотками – чай еще не успел остыть. – Скажу лишь, что из первой группы семинаристов лишь шестеро были «его людьми», остальные были навязаны различного уровня чинушами.
Ощепков улыбнулся:
– Я не зря сказал, что из Ипполита Викторовича вышел бы превосходный дзюудоку. Уж как он умел использовать даже, казалось бы, несомненные препятствия в своей работе! Шестеро «засланных казачков» обеспечили ему нужный уровень шума вокруг русских в миссии, и этот шум усыпил бдительность наших японских друзей. Для пущего эффекту Свирчевский окольными путями заманил к владыке одну лишенную тормозов даму – эмансипэ, сотрудничавшую с рядом либеральных изданий. Вам знаком этот типаж? Нет ничего омерзительнее наших борцов за либеральные ценности. В них абсолютная беспринципность органически сочетается с самой паскудной продажностью. Они низвергают величие лишь по той простой причине, что сами являются архиничтожествами. Они стремятся все светлое сделать серым, все яркое – сбросить во мглу, они радуются клопу, найденному на шелковых простынях, и готовы расцеловать грязь, если грязь на иконе. Им ровным счетом все равно, на что плевать – на портрет Государя или на революционное красное знамя, лишь бы это было нечто, что символизирует величие их Родины. Величие Родины их бесит больше всего, ведь в великой стране они становятся незаметными и незначительными. Потому таковые посылали поздравительные адреса микадо по случаю Цусимского боя и приветствовали войска Антанты, оккупировавшие Советское Приморье.
«Ох и непросто с таким языком будет в Москве Ощепкову! Опасно даже… – подумал тут Спиридонов, прихлебывая из кружки, – а в Питере и подавно…» Потому, отставив кружку и доставая пачку «Кино», сказал:
– Василий Сергеевич, еще раз хочу предупредить вас. Я буду ходатайствовать о переводе вас в Москву; более того, насколько возможно, я попытаюсь ускорить этот процесс, ибо, как вы понимаете, он займет время…
Это решение он принял еще на татами, но все равно следил за реакцией визави. Ему очень не хотелось бы увидеть сейчас торжество, триумф. Это могло бы бросить тень на только-только прояснившийся в его глазах образ, это могло бы разрушить их нарождающееся взаимопонимание. Он ожидал от нового друга предельной откровенности, но и сам готов был быть с ним откровенен.
Он очень не хотел, чтобы эти ожидания не оправдались, и пока Ощепков его не подводил. Не подвел и на этот раз: никакого триумфа, никакого торжества в его взгляде не было, только облегчение.
– Но я вас искренне прошу: никогда больше так не откровенничайте с незнакомыми людьми! Это опасно, и не только для вас. Если ваша жизнь и ваше благополучие вам не дороги, подумайте обо мне.
На самом деле Спиридонову было как раз плевать на свою судьбу, но он полагал, что Ощепков как человек с открытой и немного детской душой не станет рисковать благополучием другого человека.
Ощепков поспешил его успокоить:
– Да что вы, Виктор Афанасьевич, мне ведь не пять лет! Хотя я и в пять лет не был таким наивным. Не думайте, что я столь же откровенен с каждым встречным и поперечным!
Он отхлебнул чаю, отставил кружку и улыбнулся обезоруживающей улыбкой:
– Просто вы мне не чужой.
Спиридонов был удивлен, но виду не подал. Тщетно: Ощепков понял, что удивил собеседника, и заулыбался еще приязненнее.
– Помните то чувство, что появилось у вас незадолго до нашего поединка? Когда вы поняли, что сейчас выйдете со мной на татами? Чувство причастности одному миру, чувство единения. Обнимем друг друга и будем говорить, братие… Впрочем, вы же не верите в Бога. Но может ли быть объятие более крепкое, чем между единоверцами?
Спиридонов задумчиво кивнул. Это не было откровением, но ему было приятно услышать подтверждение того, что дотоле он понял интуитивно.
– А я понял это еще раньше, – продолжал Ощепков, – на вокзале, когда увидел вас, стоя под липой. У вас все выдает причастность к миру дзюудо – и взгляд, и движения. Но никто этого не замечает, как и во мне, кроме своих. А некоторые могут заметить еще до того, как ты вообще узнаешь, что существует «мягкий путь»…
* * *
Спиридонов вспомнил Фудзиюки и вздохнул. А Ощепков продолжил:
– Мы с вами, Виктор Афанасьевич, что ни поворот в рассказе, то отвлекаемся, заметили? Эдак я и до рассвета не уложусь со своей сагой. Жена тревожится уже, поди…
– Так, может быть, перенесем на завтра? – с готовностью предложил Спиридонов.
– Да нет, пожалуй, доскажу, только вкратце, – потер ладони Ощепков. – И спасибо вам.
– За что это? – не понял Спиридонов.
– За то, что решили за меня ходатайствовать, – серьезно ответил Ощепков.
– Полноте, я еще ничего не сделал, – открестился от благодарности Спиридонов. – Да и сами вот говорите, мы из одного мира с вами. Возможно, вы поняли это раньше, но я тоже понял.
– Я знаю, – ответил Ощепков. – Итак, я оказался в семинарии, но не в составе русской группы, а как бы сам по себе. Дело в том, что Свирчевский возлагал на меня особые надежды. Сам того не зная, я все свое детство «проходил особую подготовку». Ценнейшим элементом этой подготовки было то, что я был совершенно одинок на этом свете. Свирчевский предусмотрительно удалил от меня всех, к кому я мог бы привязаться, – кроме моих друзей по играм, тоже участвовавших в его программе. Вам это, возможно, покажется чудовищным, но мое детство, моя дружба с Трошей, обучение у Фукурю – все это было подготовкой. Яслями разведчика, как изволил выражаться штабс-капитан. Потому я и прибыл один, инкогнито с Сахалина, с виду – несчастный сирота, который просто ищет место под солнцем. Свирчевский понимал, что его группу японцы будут плотно опекать, а на меня и внимания не обратят. Что им сирота, не имеющий отношения к Военному ведомству?
О том, что мое обучение будет суровым, Свирчевский меня предупредил, но, видимо, владыка суровость понимал как-то по-своему. Я не слышал от него ни единого выговора за весь период моего обучения; порой меня даже хвалили, и не только приватно. Но поблажек мне никаких не делали, да я их и не требовал.
С другой стороны, я был прилежен, даже и намного прилежнее, чем в реальном училище. Дело в том, что штабс-капитан, не пугая, не угрожая, сумел разъяснить мне, что без протекции Военного ведомства я никто и звать меня никак. И потом – в семинарии у меня были одежда, еда, крыша над головой и относительное спокойствие, во всяком случае, по сравнению с моим пребыванием в доме матери. С чего мне желать большего? С чего мне быть недовольным?
Мне были симпатичны строгие японские учителя вроде отца Иоанна Сэнума, преподававшего нам, между прочим, и русский язык. Другие русские ученики Ивана Акимовича не любили и считали его слишком уж строгим, а мне нравилось, что он говорит по-русски почти так же чисто, как коренной русак (хотя иногда и путая буквы «р» и «л»). Общаясь с ним, хотелось так же научиться говорить по-японски, и не только мне; такое желание не обошло даже тех, кто его не любил.
Многие из русских мальчиков были недовольны бытом – едой, одеждой, тем, что учиться приходилось, сидя по-японски, на пятках. Вы же знаете, как это непросто, а для молодого человека, в ком силы бурлят, тем более. А тот же Сэнума внимательно за этим следил, отсюда и нелюбовь. Он говорил, что сидение на пятках развивает христианскую добродетель, но мы не могли уразуметь какую; наконец Троша спросил об этом у отца Николая. Тот улыбнулся:
– Конечно же, смирение. Но не думайте, что это нужно вам только как истинно православным. Настоящим мужчинам смирение и терпение также необходимы. Недаром у казаков есть поговорка: «Терпи, казак, атаманом будешь».
Нас при этом разговоре было несколько, причем большинство из русской группы происходили из казаков Войска Забайкальского, так что слова владыки им пришлись по душе, и с того момента мы даже стали соревноваться, кто дольше высидит на пятках. Так, незаметно, под мудрым руководством владыки мы все больше становились своими в Японии.
К концу обучения мне уже доверяли сопровождать по Токио приезжавших к владыке визитеров. Говорят, я неплохо с этим справлялся, да я и сам вскорости понял, что японцы не относятся ко мне как к гайцзыну, несмотря даже на мою вполне европейскую внешность. Мне это казалось чудом, и это чудо сотворили преподаватели семинарии.
Я старался быть прилежным, старался не подводить отца Николая и удерживал других от необдуманных поступков, но это накладывало определенные обязательства. Любая власть, хоть и такая маленькая, как была у меня над моими товарищами, неизменно возлагает на тебя бремя ответственности, и, если ты можешь сказать другу, чтобы он не приставал к кому-то, ты должен уметь защитить его, если кто-то лезет к нему.
Это произошло на втором курсе. Должен сказать, у нас в семинарии преподавали дзюудзюцу, но только базовые, в основном подготовительные элементы. Тот же Фукурю давал нам больше знаний. Но тогда каждый раз, разуваясь перед татами, я чувствовал, что лишь приоткрываю вуаль, за которой скрывается целый мир.
Дзюудзюцу преподавал нам один японец. Русские ребята его любили, поскольку он, в отличие от остальных учителей, не особенно за нами следил, не нагружал так, как наших японских товарищей, а позволял баловаться и говорить между собой по-русски. Мне это было не по душе. Мне казалось, что учитель нарочно не дает нам заглянуть за вуаль, словно цербер, стоящий на страже неведомого и наверняка прекрасного мира. Простите мне цветистость слога, но иначе трудно передать то, что я чувствовал… А то, что я тогда чувствовал, во многом определяло то, что я делал. Я внимательно следил за японскими учениками и однажды попытался повторить одну из сисэй[20], в результате чего не удержал равновесия и сел на пятую точку, рассмешив японских учеников и заработав от учителя эпитет «бака гайцзын»[21]. Когда же я попытался спросить у учителя, что я сделал не так, тот ответил мне просто: «Родился».
Потому учителя дзюудзюцу я невзлюбил – в отличие от самой дзюудзюцу; я по-прежнему втихаря пытался копировать движения однокашников. Прямо скажу, получалось плохо. Так было до момента, пока в школу не прибыл новый учитель.
* * *
Случилось это на второй год моего обучения, летом восьмого. Я уже прекрасно понимал по-японски и довольно бегло говорил, но, вероятно, прежний учитель об этом не подозревал. Иначе, наверное, он бы не стал откровенничать со своим преемником… а может быть, стал бы. Возможно, ему просто было все равно.
Новый учитель поразил меня худобой и землистым цветом лица. Признаюсь честно – с первого раза он не так чтобы мне не понравился, он меня просто-напросто напугал. В детстве сказок мне не рассказывали, но про Кощея Бессмертного я слышал. Так вот, он показался мне похожим на этого сказочного Кощея. Как же я ошибался в отношении этого человека!
Спиридонов тем временем достал из пачки очередную папиросу и нервно заломал «козью ногу»:
– Если вы о Фудзиюки Токицукадзэ, – вставил он и поерзал на стуле; Ощепков кивнул, – тогда это, должно быть, полный тезка моего учителя. Кого-кого, а Кощея он точно не напоминал.
– Люди меняются, – с грустью чуть развел руками Ощепков, – и часто не по своей воле. Фудзиюки был очень болен. Он ведь был врачом и практиковал переливания крови, правильно?
Спиридонов подтвердил это, вспомнив, как сам давал кровь японскому солдату:
– Фудзиюки в этом отношении был новатор. В Японии он был одним из первых, кто это делал.
– Через переливание крови он и заразился желтухой, – добавил Ощепков все так же грустно. – Великие гуманисты часто приносят жизнь на алтарь своего гуманизма. Ваш учитель и был таким. Доброта не покидала его до последнего вздоха. Мы еще говорим – самоотверженность…
Спиридонов понял все почти сразу, но принял только сейчас. Отвернувшись, он тихо спросил с интонацией утверждения:
– Он умер?
Ощепков кивнул:
– Да. В тысяча девятьсот одиннадцатом году, в стенах семинарии, перед Рождеством[22]. Когда я узнал, у меня все оборвалось внутри, и мне не надо было никакого Кодокана, никакого дзюудо. Я, Виктор Афанасьевич, редко плакал, даже и в детстве, но тогда я заплакал.
Спиридонов почувствовал, что на глаза его набегают слезы. Он вспомнил Фудзиюки, сильного – и действительно очень доброго…
Он вспомнил, как Фудзиюки его обихаживал, пока он метался в горячке. Вспомнил пачку французских папирос, впервые оставленную им для него на столике, и то, как доктор забирал у него из рук чашку с саке… Вспомнил, как он ограждал его от глупостей с украденным револьвером…
Вспомнил, как Фудзиюки отвел его к Акэбоно и тоже пытался предостеречь от неверных шагов. И как сам помог потом их совершать, когда велел Акэбоно перевязать пояс так, как не положено юдзё.
Как всегда, пытался научить, предостеречь, защитить… Спиридонов остро ощутил горечь утраты и пустоту…
– Вы плачете, – сочувственно уронил Ощепков.
– Да, представьте, – пробормотал Спиридонов, не стесняясь проявления чувств. Что поделать, такой уж сегодня день. – Он обещал приехать ко мне в Россию, и я долго ждал его, а потом война… революция… смерть…
– Кого? – уточнил Ощепков.
Спиридонов, слегка замявшись, сказал:
– Ра… Распутина.
Ощепков явно почувствовал фальшь, но кивнул. Возможно, он решил, что речь идет о Николае Втором. Похоже, Ощепков к последнему из русских царей был расположен. Спиридонов же… Спиридонов относился к гражданину Романову как к Богу, то есть задвинул его куда-то на антресоль своей памяти. Ну, был такой царь. А потом его свергли.
– Сочувствую вам, – тем не менее ответил Ощепков без всякой иронии. – Терять близкого человека… даже страшно подумать. Потому-то я и рвусь так в Москву. Я не хочу потерять жену свою, понимаете?! – добавил он с неожиданным жаром.
Спиридонов кивнул. О да, он понимал! Но иногда наше «хочу – не хочу» никого не интересует, например ту же судьбу, уммеи, в честь которой назван его любимый захват. Иной раз судьба отрывает тебя от земли, бросая колесом через руку, и в полете, еще сопротивляясь импульсу, оторвавшему тебя от земли, ты понимаешь, что упадешь.
Ты понимаешь, что потеряешь.
Ощепков мог потерять. А Спиридонов уже терял. Вся его жизнь была чередой потерь. Акэбоно, родители, Родина, Клавушка, а теперь еще и учитель… Вокруг него пеплом рассыпалась реальность, и он оставался один…
С какой-то новой и обостренной ясностью Спиридонов вдруг наполнился чувством, что должен непременно помочь Ощепкову. Слезы высохли сами собой.
– Для меня это большая потеря, – сказал он сухо. – Я догадывался, что он не приехал потому, что не смог. А зная Фудзиюки, мог представить себе только одну причину, которая могла его остановить. Но предполагать – это одно, а знать – совсем другое. Иногда лучше не знать.
– Хорошо, я больше не… – начал было Ощепков.
Но Спиридонов жестом остановил его:
– Нет… И не думайте о чем-то умалчивать. Я должен все знать. Насколько я понимаю, Фудзиюки успел сыграть в вашей жизни определенную роль?
Ощепков кивнул и продолжил.
* * *
– Я начал рассказывать вам про прибытие вашего учителя, да не закончил. Прибыл он раньше, а представили нам его на одном из занятий, в первые дни сентября. Сентябрь в Токио, как правило, теплый, и занимались мы во дворе. В тот день все было как-то чинно-парадно – нас построили, вышли учителя, старый представил Фудзиюки-сэнсэй[23], поклонились, потом нас посадили на землю, и прежний учитель стал вызывать учеников, чтобы они показали, что умеют. Естественно, начал с любимчиков, первым из которых был Каминага. Учитель им гордился очень, но по спокойному лицу Фудзиюки-сэнсэй не было ясно, произвел ли Каминага на него впечатление. Выступили и другие. Фудзиюки-сама хранил спокойствие и напоминал статую Будды своей неподвижностью. Я уж думал, он так и просидит все занятие, но, когда выступал увалень Манабе, Фудзиюки наклонился к нашему учителю и что-то сказал.
Как известно, японцы умеют сохранять спокойствие; увидеть японца разгневанным или расстроенным не так просто, но я мог поставить в заклад свои единственные на то время ботинки, дар Свирчевского, что Фудзиюки сказал нашему учителю что-то тому неприятное, не столько про Манабе, сколько про стиль обучения. Затем, когда наш учитель хотел вызвать еще кого-то, Фудзиюки-сэнсэй жестом остановил его и сказал довольно внятно:
– Почему вы не показываете мне успехи ваших русских учеников?
Учитель не счел нужным понижать голос и ответил, слегка приподняв подбородок:
– Не вижу смысла учить чему-то рюси. Они не способны к искусству дзюудзюцу.
– А вы способны их научить? – ровным тоном спросил Фудзиюки.
Наш учитель вскочил на ноги:
– Не меньше, чем вы, Фудзиюки-сама. Были бы вы здоровы…
– Считайте, что я здоров, – ответил Фудзиюки, поклонился моему учителю и сказал: – Аси гурума[24] – пожалуй, самый простой из бросков аси вадза[25]. Его можно блокировать сразу несколькими способами…
Ощепков замолчал на секунду, Спиридонов терпеливо ждал продолжения.
– …и я ожидал, что ваш способный учитель продемонстрирует нам хоть один из них, – подытожил Фудзиюки, когда мой учитель оказался на татами, – но он, вероятно, был не в настроении или сильно жалел бедного старого Фудзиюки.
Спиридонов вспомнил свое знаменитое падение в ночь после Цусимы и кивнул, заметив, что улыбается. Да, Фудзиюки был именно таким. Невозмутимо спокойным, вежливым тайфуном…
Ощепков продолжал:
– Он помог моему учителю встать. Тот выглядел ошарашенно, но, к чести сказать, не стал ничего предпринимать, только сказал: «Фудзиюки-сэнсэй имеет высший дан Кодокана, и мне стыдно, что я хвалился своими способностями в присутствии такого мастера».
Фудзиюки улыбался и молчал, глядя на нас. А потом указал на меня и поманил рукой:
– Подойди, мальчик.
Я встал, подошел, поклонился… Он велел мне встать в позицию. Я встал, хоть и с определенным трудом, да и вышло у меня это не столь красиво, как у других, не говоря уж о Каминаге.
– Неплохо, – сказал Фудзиюки. – Но надо поработать над устойчивостью. Стоя так, вы раскрываетесь для любого захвата под колени, особенно если учесть, что ваши соперники будут всегда ниже ростом.
– Фудзиюки-сама, но ведь он стоит совсем не так, как положено! – возмутился мой учитель.
– Возможно, Кано-сэнсэй и не одобрил бы такое, – согласился с ним Фудзиюки, – но мальчик – европеец, и его позиции будут отличаться от наших. У него тело устроено несколько иначе. Впрочем, – обратился он ко мне, – вам придется научиться устойчиво стоять и в японских позициях. Если, конечно, вы хотите постигать дзюудо дальше.
Я закивал так энергично, что едва действительно не потерял равновесие.
– Фудзиюки-сама, при всем моем уважении к вашим сединам… – зашипел мой учитель.
– Оставьте, дорогой друг, – прервал его Фудзиюки. – Какое там уважение, вы корежите значение этого слова почище любого гайцзына. Вы пришли в дом Никорай, едите его хлеб и берете его иены, чтобы покупать рис и нори для своей семьи, но без уважения относитесь к детям своего благодетеля, считая их хуже своих детей. Где бы вы были, кобура-дзюудоку[26], если бы не милость Никораи-сама, кому, кроме этого босатсу[27], нужны вы с вашими обширными знаниями – вашему Дзигоро Кано? Отправив вас сюда, он выразил свое отношение к вам. И вы это знаете.
– Вы говорите, как гайцзын, – сквозь зубы процедил мой учитель.
– Зато в сердце у меня Нихон, – ответил Фудзиюки. – А не пустая надменность.
И вновь обратился ко мне:
– Если хочешь учиться у меня, приходи и скажи друзьям. Но приготовься к насмешкам, у тебя не сразу все получится.
Фудзиюки не знал моей истории. Что мне насмешки?.. С моей-то закалкой… Виктор Афанасьевич, хотите еще чайку?
* * *
Спиридонов задумчиво посмотрел на свою кружку. Она была пуста, только чаинки на дне сложились в невнятный узор. Он не запомнил, как выпил чай, и не помнил, как докурил папиросу. Во всяком случае, ему опять хотелось курить.
– Не откажусь, – кивнул он, пододвигая кружку ближе к Ощепкову. Тот как раз положил заварку в свою, насыпал и собеседнику.
– Надеюсь, с этой кружкой я и закончу, – издал он короткий смешок. – А потом провожу вас, чтобы Машенька лишнего не волновалась.
– До чего же все-таки странно, – продолжил он свой рассказ. – Горячковскую, мадемуазель эмансипэ, тоже звали Марией. Одно имя – и совершенно разные люди. Она прибыла в семинарию в одно время с Фудзиюки, но бывала наездами. Очень неприятная женщина, хоть и красивая. Она и говорила как-то отрывисто, словно вот-вот сорвется в истерику, но глаза всегда оставались холодными, как снега Фудзи…
Это произошло в начале октября. Я уже два месяца занимался у Фудзиюки. Успехи мои были… средними, прямо скажем, но мое упрямство помножилось на веру Фудзиюки в мои способности, и кое-чему я научился. Наставнику моему стало хуже, но он не подавал виду; болезнь иссушила его, однако кожа не натянулась на кости, а стала дряблой, холодной. И он по-прежнему был силен, быстр и… не знаю, очень живой какой-то. И его не покидал всегдашний оптимизм.
Фудзиюки много времени проводил с отцом Николаем, отцом Иоанном Сэнума и профессором Позднеевым, также у нас преподававшим. Последний тоже очень пострадал от мадемуазель эмансипэ и даже обращался к владыке за советом. Владыка же оставался невозмутимым и тогда, когда сам оказался под ударом, и лишь потом я узнал, что о визите Горячковской он был оповещен заранее, а сам визит был лишь операцией прикрытия, при полном неведении мадемуазель эмансипэ.
В тот октябрьский день на вечернем перерыве занятий я зачем-то ушел из общей залы, уж и не припомню зачем. В коридоре, ведущем в спальни, я заметил нескольких учеников. Двое из них были нашими, из третьего списка. Еще двое – Каминага и здоровяк Манабе.
Японцы жестко вышучивали наших, даже не так – они заставляли их говорить гадости на себя самих. Судя по состоянию их кимоно (казенных и довольно плохоньких, в отличие от кимоно японцев), оба мальчика уже побывали на полу.
Я подошел медленно, поклонился по уставу и спросил, не стыдно ли им задирать маленьких. Мне посоветовали идти своей дорогой, заявив, что все русские – ленивые и тупые, проигравшие умным японцам при Цусиме. По идее, этот наскок должен был вывести меня из себя, но я сказал лишь, что у России не было таких верных друзей, как Англия, готовых дать под хороший процент любую сумму. Я не сам такой умный был, вы не подумайте. Это мне Свирчевский подсказал. Так прямо и сказал: ежели станут пенять на Цусиму, попеняй им, что Англия в долг ссуживала.
Эффект превзошел все ожидания. Как оказалось позже, у Манабе отец был торговцем, поднявшимся на снабжении флота и в момент разорившимся после окончания боевых действий, когда микадо стал сокращать расходы, в том числе и на флот. Этого я из себя вывел; он бросился на меня и оказался на полу, когда я применил то, что называется кутики таоси[28]. Тогда, правда, я и слова такого не знал, интуитивно сработал.
Его напарник оказался серьезнее. Он тут же заявил, что на него у меня сил не хватит, а потом добавил еще кое-что о моих родственниках, преимущественно о матери. Мне на это было плевать: в действительности мать моя была еще хуже. Но все-таки в бой мы вступили. Конечно, Камигава был опытнее и тренированнее, так что вскоре я в полной мере испытал все прелести хадака-дзимы[29]. Но только враг мой напрасно торжествовал. Угадайте, почему?
– Вы уже знали, что такое сэой отоси?[30] – улыбнулся Спиридонов. Этому броску Фудзиюки научил его в самую первую очередь.
Ощепков кивнул:
– Да, вы правы, так все и было, а поскольку в список достоинств Камигавы отнюдь не входили богатырские габариты, кувыркнулся он знатно, едва не врезав встающему с полу Манабе. Тот, от греха подальше, предпочел улечься на пол.
«Где-то я это уже видел», – подумал Спиридонов, вспомнив госпиталь и то, как Фудзиюки бросил все тем же приемом сэой отоси здоровенного, как сумоист, бугая так, что его гэта едва не зашибла второго опасного противника.
– Вся наша карусель закончилась прибытием Ивана Акимыча в компании Фудзиюки, – продолжил Ощепков. – Увидев разгневанного Сэнума, я уж и решил, что мне влетит по первое число, да прогадал. Сэнума подхватил обоих еще не очухавшихся семинаристов и потащил их к отцу Николаю, а я остался с Фудзиюки.
Он словно и не заметил происходящего, но из его дальнейших слов я понял, что все он видел.
– Знаете, Васа, – сказал он, – если бы вы твердо не решили стать священником, я бы очень советовал вам заняться дзюудо. Я мало видел тех, кто столь же хорошо приспособлен к нему, а среди европейцев и подавно, хотя исключения, конечно, бывают…
Он расфокусированным взглядом посмотрел мимо меня, вдоль коридора; сейчас я думаю, он вспоминал вас. У меня такое впечатление, что Фудзиюки не просто так обращал внимание на русских учеников. Он тоже по вас скучал, Виктор Афанасьевич, хотя это, конечно, очень слабое утешение, я понимаю…
Спиридонов кивнул.
– Я ответил ему, что вовсе не собираюсь быть священником, по крайней мере не настолько серьезно решил, чтобы не думать о каких-то других вариантах.
– Так что если вы согласитесь быть моим сэнсэем… – сказал я, но он отрицательно покачал головой:
– Нет. Я бы вас взял, Васа, но вы сейчас говорите с умирающим. Моя печень разлагается, отравляя кровь и медленно пожирая меня изнутри. Думаю, я заразился чем-то при переливании крови. Во Франции считают, что так может передаваться желтуха. Так что мне осталось недолго, намного меньше, чем хотелось бы. В моем ян растет инь, и скоро его чернота зальет все светлое. У вас будет другой учитель.
Он посмотрел мне в глаза и улыбнулся:
– Вы не боитесь трудностей. Вы слышали что-нибудь о Кодокане?
Да, о Кодокане я слышал. Попасть туда мечтали многие. Я кивнул.
– Думаю, нелишне вас предупредить, что Кодокан вам покажется адом, – сказал Фудзиюки, употребив французское le enfer, но я понял. – Там вам будут не рады. Здесь вы все-таки у своих под надзором, а в Кодокане могут покушаться и на вашу жизнь.
И вновь посмотрел вдоль коридора, отстраненно. На сей раз я не мог предположить почему. И не понял, почему ответил ему, что это меня не пугает.
Ощепков поймал взгляд Спиридонова:
– Скажите, а у вас бывает, что вы говорите что-то до того, как понимаете смысл сказанного?
Спиридонов отрицательно покачал головой.
– А вот у меня в тот раз было именно так, – задумчиво произнес Ощепков. – Ума не приложу, зачем я тогда это сказал.
* * *
– Однако эта история имела неожиданное и очень неприятное продолжение, – продолжил Ощепков. – Оказывается, свидетельницей происшествия была та самая мадемуазель эмансипэ. Она как раз была у владыки, выпрашивая очередную подачку (мадемуазель неплохо устроилась в Японии, третируя своих земляков и выбивая с них деньги на свои непонятные нужды), когда туда примчались мальчишки, на которых напали Камигава с Манабе. Владыка, конечно, ситуацию в момент разрешил, но при этом Сэнума не преминул упомянуть, что Камигава с Манабе тоже получили свое от русского ученика (к счастью, он моего имени не назвал). Отец Николай выговорил и Сэнуме, такое бывало с ним редко, но самое плохое, что Горячковская все это видела и мотала на ус. Спустя самое короткое время либеральная пресса России вылила на миссию ушаты грязи. Расстроены были все – и Сэнума, и преосвященный Сергий, и добрейший Позднеев, вообще, по-моему, не раз доведенный до слез этой энергичной и дурно воспитанной дамой, и лишь один владыка хранил совершеннейшее спокойствие и даже пытался удержать отца Сергия, когда тот вознамерился дать опровержение, но тщетно. Опровержение было дано и, кажется, возымело обратное действие – для русской либеральной прессы отец Николай стал удобной мишенью на долгие годы. Он сносил это с поразительным терпением. Однажды я услышал от него фразу: «Благословляйте проклинающих вас, а вдвойне – если вам откроется, что это вам же на пользу». Произнес он ее с улыбкой, и лишь потом, после общения со Свирчевским, я понял, к чему была эта фраза. Появление Горячковской было одной из составляющих «операции прикрытия», и владыка об этом, конечно же, знал.
Впрочем, от этого несправедливые обвинения в его адрес не стали менее несправедливыми и менее обидными, но отец Николай был настоящим учеником Христовым. Когда его ударяли по правой щеке, он подставлял левую и этим повергал противников к своим ногам. Вы, конечно, знаете историю ронина Савабэ, пришедшего убить «развратителя нравов Никораи» – и ставшего первым священником-японцем? Увы, но владыка не принадлежал нашему миру, он еще при жизни казался гостем из мира горнего. Ему было чуждо все, что волновало Генштаб, контрразведку и лично подполковника (уже подполковника) Свирчевского. Иначе у нас в Японии был бы агент, в одиночку способный заменить целую агентурную сеть.
– Вы им восхищаетесь? – глядя на Ощепкова исподлобья, спросил Спиридонов.
– Им нельзя не восхищаться, как нельзя не восхищаться красотой рассвета, например, – пылко ответил Ощепков. – Как невозможно не восхититься панорамой гор Камчатки. Он сам – лучшая из христианских проповедей, и Японии с ним очень повезло. Я верю, что насажденное им вырастет, вырастет, несмотря на все проблемы, какие были между Россией и Японией, и все, какие еще последуют. А отношения между нашими народами еще очень долго будут сложными, и мне очень жаль, что это так. Япония – прекрасная страна, и японцы – прекрасные люди. Да вы и сами знаете…
Я говорю и утверждаю это, хотя и прошел через Кодокан. Знаете, после скандала с Горячковской я думал, что мне не судьба туда попасть. Через некоторое время я стал невольным свидетелем разговора Сэнума с Фудзиюки. Когда наступила зима, Фудзиюки стало настолько плохо, что нам прислали (по его рекомендации) другого учителя дзюудзюцу, а сам Фудзиюки лежал в своей спальне, называемой в миссии кельей. Я же вызвался приносить ему все необходимое, пищу и воду.
– Спасибо вам! – с жаром откликнулся Спиридонов.
– Не за что, – рассеянно ответил Ощепков и по-доброму усмехнулся: – Фудзиюки успел к себе многих расположить, так что этим не только я занимался. Да и не ел он почти. Сколько принесу, столько и обратно уносить приходилось. Но самое интересное, что ему со временем стало получше, иногда он садился и писал что-то в дневник. А однажды вечером, после вечерних занятий, я зашел к нему справиться, не нужно ли чего, и застал у него Сэнуму. Точнее, не так. Я лишь подходил к его келье, как услышал голос Сэнумы:
– Вы понимаете, что такое отправить русского в Кодокан?
– Понимаю, – спокойно отвечал Фудзиюки, – но думаю, что эти ребята справятся.
– Справятся с чем? – не уступал Сэнума. – Конечно, если вы говорите о дзюудзюцу, тут вам виднее, но есть еще кое-что: в Японии к русским сейчас относятся очень плохо, а в Кодокане подавно.
– Вы мне это рассказываете? – невозмутимо возразил Фудзиюки. – Отец Иоанн, я с этим не просто столкнулся, сами знаете. В том-то и дело. Дзюудо – это прежде всего преодоление. Борьба. И не с противником на татами, главный враг дзюудоку – он сам. Его лень, его себялюбие, все то, что вы, христиане, зовете страстями. Меня удивило, что наши идеологии столь близки, в вашем восточном христианстве я нашел все то, чем живет дзюудо.
– Фудзиюки-сама, все это прекрасно, но не много ли мы требуем от простых детей? – возразил ему Сэнума. – Само по себе обучение у Дзигоро тяжелое, а с учетом предвзятости учителя оно станет и вовсе невыносимым. Ребят могут даже убить, бывали такие случаи…
– Бывали, Сэнума-сан, – согласился Фудзиюки. – Но вы не знаете Кано Дзигоро так, как знаю его я. Он благородный и по-своему достойный человек. Убить для него не означает победить, более того – это, скорее, означает расписаться в бессилии. Он хочет вышвырнуть, выдавить, растоптать и унизить того, кто ему не по душе, но не убить. Мальчики это вынесут, Васа – без сомнения. А к тому моменту, когда старый лис поймет, что перед ним – медведь, способный сломать ему хребет, Васа уже будет для него неуязвим.
– Но для чего?! – недоумевал Сэнума.
– Для него самого, – спокойно пояснил Фудзиюки. – Если сейчас не дать ему возможности, он проживет несчастным всю жизнь. Поймите, Сэнума-сан, нет человека более несчастного, как тот, кто мог осуществить мечту, но не сумел.
– А у вас есть мечта? – спросил Сэнума. Вернее, он спросил немного по-другому, но я не знаю, как поточнее передать его вопрос. «Может, это потому, что вы тоже о чем-то мечтаете?» – вот приблизительно так.
И Фудзиюки согласился:
– Да. Я мечтаю, чтобы высший дан дзюудо получил рюси.
– Но почему? – Сэнума был сильно обескуражен.
– Во-первых, это нужно Японии не меньше, чем России. Это нужно дзюудо – чем раньше мы поймем, что можем проиграть на своем поле, тем лучше. Если этого не случится – увидите, и десяти лет не пройдет, как дзюудоку других стран, западных стран, загонят нас в угол. А еще у меня есть своя причина, личная, но о ней я вам, простите, не скажу…
Ощепков замолчал, отхлебнул чаю и задумчиво посмотрел на Спиридонова.
– Я тогда, конечно, не понял, что это была за причина, но был заинтригован, – продолжил он через секунду. – И вот прошла пара десятков лет, и я узнал ответ. Он говорил о вас, Виктор Афанасьевич!
– Обо мне? – Спиридонов беспокойно вытащил из пачки последнюю папиросу. Благо у него была еще одна, непочатая. – Почему же вы так решили?
– Потому что это все объясняет! – веско ответил Ощепков. – Посудите сами. Ваш учитель хотел, чтобы вы получили высший дан в Кодокане. Возможно, он хотел вас найти, но не смог. Чувствуя, что его время уходит, он решил отправить к Дзигоро Кано меня. Для нас, европейцев, логика не совсем понятная, но только не для японцев. В его понимании я был представителем вашего, Виктор Афанасьевич, клана…
Сказав это, Ощепков опустошил кружку до дна. Спиридонов молча курил, запивая дым остывшим чаем, и думал о странной связи судеб. О пленном японце, который открыл для сироты с Сахалина двери Кодокана, и о пленном русском, который стал для японского дзюудоку-сэнсэй так дорог, что тот мечтал увидеть его в высшем дане дзюудо. Ощепков ему не мешал переваривать то, что он услышал.
– Василий Сергеевич, – наконец раздумчиво проговорил Спиридонов. – Мне все-таки кажется, вы преувеличиваете. У Фудзиюки был наметанный глаз. Он просто разглядел ваш безусловный талант, а поскольку сам не мог обучать вас, то скрепя сердце решил отрядить в Кодокан. Все закономерно, так что…
– Виктор Афанасьевич, спасибо, конечно, за ваше великодушие, но нам нет нужды спорить об этом сейчас, – перебил его Ощепков с улыбкой. – У меня есть идея получше!
– Что за идея? – Спиридонов отер ладонью лицо, словно стирая с него воспоминания о днях, проведенных в японском госпитале с Фудзиюки, и пошевелился на стуле.
– Я знаю одного человека, – сообщил Ощепков. – Фудзиюки оставил ему дневник. Свой дневник. Я отпишу ему, и он передаст его мне. Вот из дневника вы все и узнаете. Уверен – у вас есть право его прочитать.
Он встал из-за стола, показывая этим, что им пора закругляться.
– Вы чай допили? Предлагаю закончить бдение, а по дороге я расскажу вам все остальное, идет?
Услыхав про дневник, Спиридонов внутренне встрепенулся. Вправе ли он читать эти записи? Они могут быть очень личными. Да и, собственно, сможет ли он прочитать текст, написанный по-японски? Не больно-то он в этом силен…
Словно угадав его мысли, Ощепков сказал:
– Дневник я видел, даже в руках держал. Фудзиюки вел его на каком-то невразумительном языке. Я не знаю такого. Похож на испанский… или там португальский… но больше, если честно, на тарабарщину! Возможно, вы сможете разобраться, что это за язык такой…
– Фудзиюки прекрасно говорил на французском… Не французский ли? – предположил Спиридонов.
– Это не французский, определенно, – ответил Ощепков, прибирая на столе после их нехитрого застолья. – Кстати, там, на обложке, и надпись имеется: «Я надеюсь, что мой дневник попадет к тому, кто помнит этот язык. К сожалению, здесь нет ни пословиц, ни поговорок»… э, а вы ведь, кажется, поняли…
Спиридонов действительно понял. Он был поражен. Так, значит, Фудзиюки и впрямь хотел, чтобы он прочитал его записи! А еще это означало, что есть причина, почему он не хотел, чтобы дневник достался кому-то еще.
– Дневник в Японии? – быстро спросил он. Ощепков кивнул. – И вы в самом деле можете добыть его мне?
– Постараюсь, – пообещал Ощепков.
– Вы меня очень обяжете… – Спиридонов в два глотка допил чай и встал. – И довольно об этом пока. Идемте, а по дороге расскажете мне про Кодокан.
– Само собой, – кивнул Ощепков и, прихватив в карман два кубика рафинаду, заговорщически подмигнул Спиридонову.
Глава 5 Ангел Пергамской церкви
– По понятным причинам, к Фудзиюки в тот вечер я не пошел, – продолжил рассказ Ощепков, когда они со Спиридоновым вышли за дверь. – Ни на следующий день, ни позже Фудзиюки со мной на эту тему не заговаривал. Казалось, он шел на поправку и вскоре начал приходить на наши занятия, которые на время его болезни стал вести один из его учеников, Окамото Ёсиро. Окамото служил сугэдейским полицейским… Сугэдей – это район Токио, холм, на котором стояла миссия. Он был хорошим бойцом, Окамото Ёсиро… но как наставник оставлял желать лучшего.
Мы все, конечно, втихаря ждали, что Фудзиюки вернется к нам, но тот был очень слаб. По мере сил он старался бывать на занятиях Окамото, но сам тренировал лишь нескольких ребят, более способных. Так прошел еще год.
В конце десятого – начале одиннадцатого года Фудзиюки, казалось, совсем подлечился и занимался с нами значительно больше, но настроение у него было видно, что неважнецкое. А в мае одиннадцатого он получил какой-то пакет из посольства, из нашего. Содержимое пакета мне неизвестно, но Фудзиюки оно явно опечалило.
Через несколько дней он собрался и отбыл в Кодокан. Это недалеко, как вам должно быть известно. Между Кодоканом и миссией не более каких-нибудь четырех с гаком верст. Ну, может, пять. Но для Фудзиюки и это было серьезное расстояние, да и не в этом, собственно, дело…
Вернулся Фудзиюки неделю спустя, и сразу стало заметно, что болезнь вернулась к нему если не в полной мере, то ощутимо. И все-таки он выглядел умиротворенным. Перво-наперво навестил отца Николая и пробыл у него довольно долго. За то время, что он был у владыки, туда же вызвали Сэнуму, затем секретарь миссии отправился на телеграф. Когда он вернулся, все разошлись. С учениками Фудзиюки в тот день встречаться не стал, сразу удалился к себе и, вероятно, забылся усталым сном.
Через день в миссию прибыл Дмитрий Матвеевич Позднеев, и переговоры возобновились в составе «те же и вновь прибывший». Что-то они решили, и Фудзиюки пришел к нам на вечерние занятия. Но никого не тренировал, просто смотрел, как мы занимаемся с Окамото. Вид у него был изможденный, он осунулся и будто постарел на несколько лет.
Фудзиюки и следующим днем пришел к нам на занятия и был какой-то отстраненный, хотя и внимательный, как всегда. Пришло лето, и он вновь слег. С той поры ему становилось только хуже. На одной из последних тренировок, на которой он у нас был, он спросил меня, поехал ли бы я в Кодокан учиться, представься мне такая возможность.
Я жадно ответил, что да, затем, спохватившись, добавил, что мне не нужно было бы никакого Кодокана, если бы он выздоровел и продолжил нас тренировать. Он покивал:
– Если бы… Если бы я мог сам, я бы не стал бросать вас в пасть голодной акуле или прыгнул бы с вами. Может случиться так, что ваше желание сбудется. Будьте готовы.
В начале октября Фудзиюки стало настолько плохо, что он дней десять не появлялся на людях. В двадцатых числах, если быть точным, то двадцать пятого, поутру, меня вызвали к владыке Николаю. В его крохотном кабинете собрались помимо него профессор Позднеев, Сэнума, Окамото, Фудзиюки и трое старшекурсников – Трофим Попилев, Емеля Родионов и Ваня Попович. Всех троих я хорошо знал, поскольку Фудзиюки тоже обращал на них дополнительное внимание.
Взрослые сели, мы остались стоять. Первым заговорил Окамото. Он сказал, что мы хорошо показали себя в дзюудзюцу и Фудзиюки считает, что у нас есть талант. А как известно, талант следует отдавать в рост туда, где он принесет больше прибыли. Фудзиюки рекомендовал направить нас в школу Кодокан для дальнейшего обучения.
Окамото предупредил нас, что учиться в Кодокане нам будет не просто тяжело, а и опасно. Обучение борьбе дзюудо, более специализированной по сравнению с дзюудзюцу, само по себе небезопасно. К тому же ректор Кодокана, Дзигоро Кано, предвзято относится к иностранцам вообще, а к русским в особенности. Потому он нарочно будет ставить нас в непереносимые условия, сводить в поединках с опасными противниками и как минимум закроет глаза, если кто-то из его учеников захочет разобраться с нами за пределами татами. Тут Вася Попович дал задний ход, сказав, что и так устал от того, что к японцам относятся лучше, чем к русским, «ровно мы не люди». Его отпустили на занятия, и мы из учеников остались втроем. Следом за Окамотой выступил Фудзиюки. Его лицо посерело, но глаза горели живостью. Он подтвердил, что все, что мы тут услышали, – чистая правда, и еще больше напустил на нас страху.
– Знайте, – негромким голосом говорил он, – в Кодокане учатся те, кто воевал против России в минувшую войну. Учатся братья и сыновья тех, кто с той войны не вернулся. Каждый из них уверен, что рюси – враг, и двух мнений здесь быть не может. И потому вас будут ставить в поединки с ними целенаправленно, чтобы отработать самые жестокие приемы. С рюси можно не церемониться. Весь арсенал дзюудо используют против вас, но после каждого поединка вы должны будете поблагодарить за науку, даже если каждый вдох будет отдаваться в вас болью. – Мы слушали, затаив дыхание, это было как отеческое напутствие. – Я надеюсь, что мне удалось немного вас научить. В самом начале сильно давить на вас не будут, своим недавним визитом я выхлопотал вам немного времени, чтобы вы обжились там, освоились… Так что проведите это время с пользой. Заботьтесь друг о друге и помните, что права на ошибку у вас нет. Если вы сломаетесь, вас добьют. Запомните это. – Он помолчал, переводя дыхание. Мы тихо ждали, что он скажет еще. И он сказал: – Вам будет очень тяжело, но я верю в то, что вы, русские, сможете и в этих условиях доказать, что не хуже японцев. Чем выше цена, заплаченная за победу, тем больше радость победы. Не забывайте и об этом.
Затем говорил владыка:
– Я никого не неволю, – сказал он. – Потому подумайте хорошенько, прежде чем принять решение.
Емеля сказал, что подумает, а мы с Трофимом (очень странно, но среди моих друзей Трофимов оказалось несколько) сразу же согласились. По разным причинам: я был влюблен в дзюудо, а Трофим, как сам потом мне признался, просто хотел вырваться из семинарии – скучные, на его взгляд, уроки и жесткие правила ему порядком-де надоели.
Вечером в спальне мы втроем много говорили о предстоящей учебе. Трофим не верил, что дела обстоят так, как живописали нам наши преподаватели. Сгущают, мол, краски для пущей важности! С нами ведь тоже учились японцы, в том числе сироты, потерявшие родителей на той войне, но с памятного случая в восьмом никаких притеснений с их стороны мы не знали, и даже косых взглядов в нашу сторону не было.
Я возражал ему, больше веря словам Фудзиюки, и призывал к осторожности, но я был младше его на два года. Трофим относился ко мне, как к младшему брату, с заботой, но несерьезно, увы. Во всяком случае, наше решение было твердым, и на следующее утро вместо занятий мы отправились в Кодокан. Знаете, Виктор Афанасьевич…
– Погодите, – остановил его Спиридонов, замедлив шаг. Они были уже на улице.
– Хотите уточнить что-то? – поймал его взгляд Ощепков.
– Да нет. – Спиридонов достал новую пачку папирос. – Хочу закурить… Продолжайте, пожалуйста.
– Видите ли, мне очень жалко Трофима! Хорошим парнем он был и всю нашу учебу в Кодокане, как мог, защищал нас с Емелькой. Принимал на себя все удары, и тем, чего я достиг, я обязан ему.
Спиридонов глубоко затянулся и выпустил облачко дыма.
– Вот как? А что с ним случилось, с Трофимом?
– Сейчас расскажу…
* * *
– В Кодокан мы двинулись третьего дня после того собрания. Сопровождал нас Фудзиюки, откуда и сил набралось… Мы прошли пешком до станции Мансэйбаси, и там меня поразил новенький памятник. Статный такой военный на постаменте высоком… простите великодушно, Виктор Афанасьевич, изрядно на вас похож.
Спиридонов хмыкнул:
– Очень сомневаюсь, что японцы воздвигли мне памятник.
– Да нет, конечно… Это капитан Такэо Хиросэ, командовавший одним из брандеров, который…
– Можете не пересказывать мне эту историю, – подхватил Спиридонов. – Я присутствовал при захоронении его тела. В Порт-Артуре. Почему-то мне запомнилось, что у него были прекрасные ботинки, при том, что не было головы… Я еще подумал – вроде флотский офицер, а в ботинках…
– Захоронении? – удивился Ощепков. – Мне говорили, что «русские варвары» растерзали его тело и скормили собакам. Собственно, не совсем так – мне угрожали, что поступят со мной так же, как рюси с их героем.
– Мы захоронили тело этого бедного малого с воинскими почестями, – сказал Спиридонов. – До войны он учился и жил в России… нашлись те, кто его опознал…
Ощепков кивнул:
– Ну, это не единственная ложь, какую мне довелось услышать о «русских варварах». Я и тогда-то не поверил… Вы знали, что Такэо Хиросэ учился в Кодокане?
– Нет, – ответил Спиридонов. – Я вообще о нем ничего не знаю.
Ощепков задумчиво посмотрел куда-то вдаль:
– Если бы мертвые умели говорить… Мне кажется, он немного не так относился к русским, как считают сами японцы. Он переводил Пушкина, читал Гоголя. Как вы считаете, такой человек мог считать нас варварами?
– Не знаю, – вздохнул Спиридонов. – Никогда не думал об этом.
– Я думаю, что не мог, – уверенно сказал Ощепков. – Я купил тогда копеечную брошюрку про этого Такэо, но она оказалась совсем бесполезной, такая агитка… В Кодокане я узнал больше, но не намного… ох, ладно, я что-то отвлекся. А все потому, что Дзигоро Кано оказался большим фанатом своего ученика и даже содействовал его обожествлению. Есть у японцев такая традиция. А мы можем вспомнить Георгиевский зал в Кремле…
– Или «святые мощи», – не упустил вставить Спиридонов. – Прав был Фудзиюки, все народы между собой похожи. Боюсь, мы с вами раньше до гостиницы дойдем, чем до Кодокана.
– Намек понял, – хохотнул Ощепков. – До Кодокана мы доехали на релейке – небольшом поезде из паровой дрезины и прицепного вагончика, что-то вроде трамвая, но грязное и пыльное донельзя. Нас провели в большой зал. Весь пол был устелен соломенными циновками. На циновках занимали места мальчики и юноши в кимоно. Фудзиюки указал нам наши циновки и сказал:
– Запомните, любое ваше движение могут расценить как неуважение к оратору. Если Кано-сэнсэю, который сейчас скажет вам речь, покажется, что вы невнимательны – не видать вам Кодокана, как своего… того, что сзади на голове. К вам внимание будет особое, не подведите меня.
Мы заверили его, что не подведем. Сели на циновки и стали ждать. Вскоре появился Дзигоро Кано. Я совершенно не ожидал, что он окажется таким. Он мало походил на японца, скорее на прусского офицера с картинки, с поправкой на расу, конечно. Он оглядел зал, задержал на нас взгляд, не меняясь в лице, и начал разговор.
Говорил он долго и витиевато, постоянно цитируя Басе и других поэтов. Смысл его речи вкратце состоял в том, что дзюудо – это дар богов японскому народу. Дзюудо дается не каждому, а лишь тому, кто всего себя без остатка посвятил пути воина и готов отдать семь жизней за страну. Но дзюудо – это не только борьба. Дзюудо божественно, это дух японской нации, и понять его, постигнуть премудрости его не сможет никакой презренный гайдзын, как не сможет он постигнуть величие мудрости синто, чьи боги проявляются через стихии.
Глядя прямо на нас, он рассказывал, что, когда русские варвары угрожали древней земле Нихон…
Спиридонов фыркнул. Ощепков понял его:
– За что купил, за то и продаю. Я не призываю воспринимать эту чушь всерьез. Так вот, когда мы угрожали древней земле Нихон и собрали могучий флот, сама Япония встала на защиту, ведь корабли, разгромившие флот с именами русских богов…
Спиридонов фыркнул еще раз:
– Императора Александра? Или князя Суворова? Я уж не говорю про «Орел»…
– Теперь вы меня с мысли сбиваете, – улыбнулся его шутке Ощепков. – Так вот, корабли эти носили священные для всякого японца имена Асахи, Шикишима, Фудзи…[31]
– Угу, а Яшима[32], которая под Артуром отправилась в гости к древнеримскому богу Нептуну, но без возврата. Тоже ведь священное название, – хмыкнул Ощепков, но тут же урезонил себя: – Все, молчу… но, мне кажется, этот Кано – просто пустой, напыщенный индюк.
– Я, как правило, воздерживаюсь от подобных оценок, – спокойно сказал Ощепков, – однако в этой ситуации не могу с вами не согласиться.
И продолжил:
– Когда Дзигоро говорил все это, то смотрел на нас. Должно быть, пытался как-то задеть наши чувства. Тщетно: мы сидели неподвижно, словно бронзовые будды. Не знаю, как остальные, но я думал только о том, как бы не шелохнуться, не выдать нараставшую боль, судорогой сводившую мышцы от шеи до пяток. Сидеть-то на пятках я привык, но не так долго! Кано-сэнсэй уж больно был велеречив в тот день.
В какой-то момент я вспомнил один из первых уроков отца Иоанна Сэнумы.
– Знаю, что вам, рюси, трудно сидеть по-японски, на пятках, – говорил он. – Но Христу куда труднее было висеть прибитым к кресту под палящим солнцем, правда? В народе говорят: Христос терпел и нам велел. Уметь терпеть – значит становиться сильнее, крепче, но еще и значит – приближаться к Богу. А когда совсем невмоготу, к Нему и обратитесь. Повторяйте про себя Иисусову молитву: Господи Иисусе Христе, помилуй мя, грешного. Господь всегда нас слышит, а в страдании Он особенно скор на помощь.
И я начал про себя повторять эту молитву, стараясь не отвлекать свое внимание, сосредотачиваясь на этих простых словах. Господи Иисусе! Мне больно, но Тебе на Кресте было больнее. Ты знаешь, как тягостно, когда больно. Помилуй мя!
Через некоторое время я перестал чувствовать боль. Перестал ощущать свое тело. Я даже не слышал, что бубнит Дзигоро Кано. А потом пытка прекратилась. Стало тихо. Кано смотрел на нас.
– Сегодня среди нас есть трое новеньких, – сказал он. – Это особые новенькие. Они рюси. Эти гайцзын думают обучиться высокому искусству дзюудо.
Со всех сторон послышался смех. Я продолжал повторять «Господи Иисусе».
– Их привел к нам великий дзюудоку, Фудзиюки-сэнсэй, – продолжил Дзигоро совершенно серьезно, но я уже порядком прожил среди японцев, чтобы отметить иронию в его словах. – Тот, кто так любит гайцзын, бака и шийо кинши[33]. Что ж, мудрость Фудзиюки-сама нам известна. Возможно, и эти рюси станут дзюудоку, когда меня обнимет моя дочь, зачатая лучом луны на стебле бамбука.
Вновь раздался дружный смех, а затем – спокойный голос Фудзиюки:
– Должно быть, Кано-сэнсэй из небожителей, если ему удается так производить дочерей на свет. Или у него по-другому не получается? Не мне судить, я не привык общаться со столь мудрыми людьми, так хорошо цитирующими пословицы простонародья.
Раздалось несколько смешков, но они быстро утихли. Кано бросил быстрый взгляд на Фудзиюки, и я понял, что такое «убийственный взгляд». Если бы взглядом можно было убить, то Фудзиюки тут же пал бы бездыханным. Затем Дзигоро Кано поклонился ему:
– Рад видеть вас в добром здравии, Фудзиюки-сама!
– Должно быть, вы приносите за меня обильные жертвы Аматэрасу, – ответил Фудзиюки. – Иначе откуда у меня столько здоровья? Во всяком случае, я рад, что вы так радушно приняли моих учеников и согласились обучать их. Пожалуй, я об этом составлю хокку на досуге.
Кано опять посмотрел на Фудзиюки испепеляющим взглядом, потом сказал:
– Рад приветствовать всех новеньких в Кодокане. Можете идти.
Мы поклонились, не вставая, но Дзигоро Кано, не обратив на это внимания, быстро удалился. Когда он ушел, ученики стали вставать с татами. Я тоже попробовал – и едва не чебурахнулся – ноги не слушались. Я позавидовал проворству, с каким другие ученики покинули татами… Впрочем, пока Кано говорил, они и не сидели столь неподвижно, как мы…
Я бы и правда завалился набок, да мне помог встать Фудзиюки.
– Ты молодец, – шепнул он мне на ухо. – Но дальше будет труднее.
В его компании мы вернулись в миссию, и, проходя мимо памятника Такэо, я совсем не по-христиански подумал, что, кажется, голову оторвало совсем не тому японцу.
* * *
Ощепков остановился, поскольку остановился Спиридонов, который как раз заламывал «козью ногу» очередной папиросе. Увидев, что Ощепков остановился, Спиридонов кивнул – дескать, продолжайте, пожалуйста.
– Знаете, в чем была главная ошибка Дзигоро Кано? – продолжил Ощепков. – В излишнем уповании на собственные домыслы. Он мог бы сломать нас раз и навсегда, сразу же отдав нас на растерзание своим самым сильным бойцам. Или даже не самым сильным, а средним. Но он не мог этого сделать, ведь это означало бы показать, что мы чего-то стоим, а, по его мнению, мы не стоили ничего.
Потому он сводил нас с пусть и более выученными и опытными, но примерно равными нам бойцами, а к этому мы были готовы. На их стороне были знание, подготовка, выучка. На нашей – сила и отчаяние. Время от времени нас били, но не настолько, чтобы выбить. Точнее, выбили они только Емелю – после перелома обеих рук в поединке он окончательно выбыл из игры, а затем и вовсе ушел из семинарии. И мы с Трошей остались вдвоем против целого Кодокана.
Это было тяжело. Причем за пределами татами это почти не ощущалось, но на татами мы выходили, словно укротители в клетку опасного дикого зверя. Нас не щадили. На нас стремились отработать самые опасные приемы. Мы же не могли отвечать тем же, иначе нас вполне могли вытолкать из Кодокана взашей.
Но мы дрались – и побеждали, а когда проигрывали, все равно становились сильнее, набирались так необходимого нам опыта. Но легче не становилось. Каждая наша победа была ступенькой к следующему бою с более опасным противником. Троша как старший стремился меня защитить, вызывал огонь на себя. Пожалуй, он больше был достоин высшего дана, чем я. Но…
После смерти Фудзиюки мы с ребятами будто осиротели. И сразу почувствовали, что даже столь тонкой защиты, как его авторитет (конечно, Фудзиюки считали странным, чужим, но он был мастер – дзюудоку высочайшего уровня, и с этим сам Дзигоро Кано поспорить не мог), у нас больше нет. Когда я узнал о его смерти, мне хотелось забиться в угол и плакать. А надо было драться – и я дрался. Моральное третирование нас японцами меня не тревожило. Троша же, кажется, сильно переживал. Некогда весельчак и балагур, жадный до жизни во всех ее проявлениях… Ведь это он показал мне мир за яркими фасадами Токио – с опиумными курильнями, игорными домами и веселыми девицами. С ним я впервые побывал в веселом квартале Ёсивара. Меня этот мир не притянул к себе, но ради доступных японочек мы с Трошей туда наведывались – в семнадцать лет плоть своего требует. Но, поскольку денег ни у него, ни у меня толком не было, такие наши развлечения были ну очень редкими. Зато я узнал, что кроется за фасадами древней культуры. Дно общества везде одинаково…
При упоминании квартала развлечений у Спиридонова сжалось сердце.
– Простите, – не удержался он, – а вы в своих походах не встречали ли девицу по имени Акэбоно?
Ощепков наморщил высокий лоб, вспоминая:
– Акэбоно? Нет, таковой не припомню. Акэбоно – это по-японски рассвет, а те звались в честь облаков, дождей, течений…
Он коротко взглянул на Спиридонова:
– А откуда вы…
– Да оттуда же. Я тоже не сорокалетним родился.
Ощепков хлопнул себя по лбу:
– В Талиенване же был бордель. Фудзиюки его упоминал…
– По какому поводу?
– Да все в том же разговоре, с Сэнумой…
– Не могли бы вы поподробнее? – попросил Спиридонов.
– Да что там подробнее… – замялся Ощепков. – Я из той части разговора мало что понял. Сэнума усомнился, что русские могут выдержать обучение в Кодокане. Фудзиюки сказал ему, что бывает еще и не такое – мог бы он представить себе, например, что ойран, обученная токо но хиги, так полюбит гайцзына, что повяжет белый пояс?
Спиридонов остановился. Громы небесные! Фудзиюки говорил об Акэбоно…
– Что было дальше? – спросил он каким-то не своим, чужим голосом.
– Вы о Кодокане? – уточнил Ощепков. – Или?..
– Или, – кивнул Спиридонов.
– Да ничего, – пожал плечами Ощепков. – Сэнума сказал, что не верит в такое, скорее Фудзи прибежит к океану на востоке. А Фудзиюки ответил, что сам видел это и даже был… вот проклятье, запамятовал, какое ж он слово-то употребил? Что-то вроде помощник, только звучит по-другому… В общем, он эту ойран знал в лицо и сам тому был свидетель. На что Сэнума уточнил, не тот ли это бордель, где Фудзиюки звали босатсу, и тот подтвердил. Сэнума лишь сказал: «Чудны дела Твои, Господи» – и они вернулись к обсуждению Кодокана…
Спиридонов ничего не ответил. Расспрашивать дальше ему не хотелось. Но Ощепков и так все понял.
– Уж простите, – сказал он с обезоруживающей простотой, – но этот гайцзын был не вы ли?
Первым порывом Спиридонова было соврать, но он тут же понял, что не может. Ощепков выворачивал перед ним душу – так мог ли он, Спиридонов, лукавить перед ним?
Он молча кивнул и отвернулся, чувствуя, как в уголках глаз защипало. Что такого было в том белом поясе, который он завязал на Акэбоно? Может, так в Японии дают обет безбрачия? Фудзиюки был впечатлен этой жертвой… Может быть, об этом что-то есть в его дневнике?
– Продолжайте, – попросил он, пытаясь скрыть свое смятение. И Ощепков продолжил.
* * *
– Так вот, внезапно Троша стал терять свою завсегдашнюю веселость, в его глазах я видел какую-то обреченность. Словно он знал, чем это все закончится…
Знаете, Виктор Афанасьевич, вот вы назвали Кано напыщенным индюком. Отчасти это так, но нельзя отрицать и его достоинств. Он фактически в одиночку создал дзюудо. Он очень хорошо наладил обучение в школе. И главное, хоть он и страстно желал нам с Трошей и Емелей зла, он выполнял свой долг. Он не преграждал нам путь к знаниям и умениям, он лишь делал его невероятно трудным. Да, он не хотел, чтобы мы закончили Кодокан.
Но Дзигоро Кано от всей души любит свою страну. Да, это слепая любовь фанатика, но она искренняя. Идет от самого сердца. Не стоит забывать, что, попав в Кодокан, мы оказались в святая святых японской разведки и контрразведки. И, несмотря на изначальную общую неприязнь к нам, смогли завязать хорошие отношения со многими из тех, кто потом должен был работать против нас. Мы внедрились в эту систему, и даже если бы нас сломали, свою задачу… вернее, задачу Свирчевского, мы выполнили. Наше подполье было во многом неуязвимо именно благодаря тем связям, которые появились у меня в Кодокане. Я, кстати, подметил кое-что любопытное – чем лучшим был боец, тем меньше неприязни он к тебе испытывал на татами. Это то, чему я все время пытаюсь научить своих учеников. На татами нет врага, есть соперник, и соперник он лишь на время поединка.
Знаете, Виктор Афанасьевич, иной раз я мечтаю… Хорошо бы, чтобы люди противостояли друг другу только на татами. Представьте себе: вместо войн – спортивные поединки, самая страшная травма – перелом ребра или сотрясение мозга, а после состязаний…
– Вы мечтатель, Василий Сергеевич, – улыбнулся, не поворачивая лица, Спиридонов. – Чтобы ваша система работала, сначала придется устранить классовое неравенство… и поголовно обучить всех дзюудзюцу.
– Иногда мне кажется, что, если бы каждый знал дзюудзюцу, мы бы к тому и пришли, – тихо сказал Ощепков.
– Нет, – грустно ответил ему Спиридонов, вспоминая Гаева и быстрые удары штыком. – Василий Сергеевич, человек придумал топор, чтобы валить деревья, но скольких старушек-процентщиц с тех пор зарубили? Ни одно человеческое изобретение не защищено от извращенного применения.
– Но дзюудо – не просто изобретение! – упрямо возразил Ощепков. – Дзюудо – это система, это философия, дзюудо…
– Вы сами сказали, что Такэо Хиросэ учился в Кодокане, – перебил его Спиридонов. – И читал Пушкина и Гоголя. Это не помешало ему вести пароход, набитый взрывчаткой, к нашим броненосцам, набитым людьми[34]. À la guerre comme à la guerre, и никакая дзюудзюцу здесь не спасет. Но отчасти я с вами все-таки соглашусь: определенно лучше было бы, чтобы поединки между людьми происходили только на татами и только по правилам.
Он остановился на тротуаре, чтобы достать папиросу. С места их остановки было видно крыльцо «Октябрьской», гостиницы Спиридонова. Ощепков, ожидая, пока он закурит, задумчиво проговорил:
– Вы правы, Виктор Афанасьевич. Вы правы, а я опять все идеализирую. Давайте я расскажу вам о Троше?
Спиридонов кивнул.
– Я только что хвалил Кано, но его достоинства отнюдь не перечеркивают его недостатков. Слепая любовь порождает слепую ненависть, а слепая ненависть – нечеловеческую жестокость. Дзигоро Кано слепо любит Японию и столь же слепо ненавидит Россию. Он, конечно, не хотел, чтобы мы получили дан мастерства, и сделал для этого все.
В финальных испытаниях против Троши вышел Иошидори Ямада. Среди японцев встречаются порой настоящие исполины. Как правило, они идут в сумо, но Ямада пошел в дзюудо. Возможно, потому, что при всех своих габаритах он был проворен, как молния. Впрочем, Троша тоже был крупным парнем и сильным притом. Меньше, чем Ямада, но раз на спор подкову разогнул, правда японскую, да и стертую напрочь, но поди ж ты, не каждый сможет. В общем, перед боем Троша не беспокоился. Но едва они зашли на татами, я сразу понял, что что-то не так. Не могу сказать почему. К ненависти японцев мы уже привыкли тогда. Ямада нас, конечно, ненавидел, он был из любимчиков Дзигоро.
Бились они долго, силы были равны. Когда Троша оказался на полу, я не сильно обеспокоился, думал, он дождется захвата и бросит противника. Но Ямада захватил его уммэй-джимэ, и я с ужасом понял, что у Троши просто не хватит сил его сбросить. Он попытался было… но лучше бы не пытался – от его движения захват только усилился, перейдя в удушение, а потом Ямада, конечно, отпустил руку, высвобождая Трошу из захвата, но было поздно. Дыхание так и не восстановилось, хоть Трошу и пытались реанимировать, вполне честно. Через час с лишком он умер.
В тот вечер меня вызвали к отцу Николаю. Был весь коллектив педагогов во главе с Сэнума, был Позднеев и даже посол был. Владыка сказал мне, что они решили не посылать меня больше в Кодокан. Очевидно, что Дзигоро Кано не собирается давать рюси дан и скорее убьет еще и меня, чем изменит свое решение. Окамото заявил, что по японскому законодательству ни Дзигоро, ни даже Ямаду нельзя привлечь за убийство. Технически то, что произошло, могло быть не более чем несчастным случаем, пострадавшему тут же оказали помощь, а доказать, что помощь оказывалась ненадлежащим способом, мы не можем.
– В этих обстоятельствах, – сказал наконец владыка, – мы не имеем права допустить повторения трагедии и просим, чтобы вы более не посещали Кодокан.
Однако к тому моменту семинарию я уже окончил и оставался при миссии исключительно ради Кодокана. Потому я кашлянул, в горле вдруг запершило, и сказал тихо, но твердо, что все понимаю, но все-таки хочу получить дан.
Меня стали наперебой отговаривать. Говорили, что этого никогда не случится. Что Кано скорее задушит меня поясом, чем мне этот пояс отдаст. Но я стоял на своем. И не только потому, что хотел получить дан. Прежде всего я хотел отомстить.
В конце концов они отступили, но отец Николай попросил всех оставить нас с ним наедине. Все разошлись, бросая на меня сочувственные взгляды. Когда мы остались одни, владыка сказал:
– Вася, прежде, чем ты уйдешь, хочу напомнить тебе слова Христа: «Мне отмщение, и Аз воздам».
Знаете, Виктор Афанасьевич, после смерти Троши у меня наступил самый глубокий кризис веры за всю мою жизнь. И я спросил владыку, жестко, пожалуй, и грубо: почему Христос не сберег Трошу? Почему не испепелил на месте язычника – Ямаду?
– А почему Он не спас Себя Самого? – спросил отец Николай. – Почему не испепелил распинавших Его? Не ради ли сотника, исповедавшего Его при кресте, и жены Пилата, прославленной в лике святых?
– У Христа был Крест… – неуверенно сказал я.
– А у тебя есть свой, – ответил мне владыка. – И у Троши тоже свой Крест. Потому что нет любви более той, когда кто-то отдает жизнь свою за други своя…
И я вдруг вспомнил один из семинарских вечеров и Трошу, рассказывающего мне:
– Я уж и так просился, чтобы меня на войну взяли! А тятька мне все: сиди, мал ишшо, убьют-де меня, Тихона, Савку, Володьку – кто за бабами присмотрит? Девять годков-то мне было. И что толку? И с японцем не повоевал, и ближних схоронили: тятьку, Тихона, Савку да Володьку в Маньчжурии, а мамку с сестрами – как после войны в зиму напасть какая-то на станицу зашла. Полсела перемерло, я и сам захворал, да сдюжил.
– Неужто ты и смерти не боишься? – спросил я его, а он так хитро прищурился и отвечает:
– Раньше, брат, боялся, а с тех пор, как бабу попробовал, так и не боюсь. А что еще нужно казаку? Судьба у нас такая, где враг на Русь кинется, там все по полям могилки казачьи…
И тогда я принял решение…
* * *
– Мне кажется, я бессовестно вас использую, – сказал Спиридонов. – Но мне хочется узнать, чем все закончилось. Может, мне стоит провести вас до дому?
– А вы дорогу обратно найдете, в чужом-то городе? – улыбнулся Ощепков. – Нет уж, я доскажу, и вы пойдете. Да и живу я недалеко, а осталось-то всего ничего. Видите лавочку? Давайте присядем, что ли?
Спиридонов кивнул и сказал, подходя к лавочке:
– Надеюсь, вы не отказались от мести?
– Отказался, – ответил Ощепков. – Но что менял мой отказ? Мне предстояло защищать свой дан, и я был уверен, что против меня выставят тоже Иошидори Ямаду. Если у Троши против него были шансы, то у меня их было куда меньше. На первый взгляд.
Видите ли, учился я прилежно не только в семинарии и Кодокане. Я старался максимально узнать жизнь в Японии. Узнать, как живут и чем дышат японцы. Я жадно, как губка, впитывал все, что мог узнать. Вам знакомо имя Хаясидзаки Сигэнобу?
Спиридонов отрицательно покачал головой.
– Это один из древних учителей фехтования, создатель школы иайдо. Всю его родню убил один из мастеров фехтования, и юноша поклялся отомстить, убив его в честном бою. Но его противник был лучшим фехтовальщиком Ямагата, если не всего Нихона, а сам Хаясидзаки был всего лишь юношей. Поняв, что никакими тренировками он не сможет достичь того, чтобы превосходить врага в умении, Хаясидзаки сосредоточился на одном-единственном движении – извлечении меча из ножен. В итоге он убил врага еще до того, как тот успел обнажить свой меч.
– И чем вам помогла эта история? – удивился Спиридонов.
– До моего испытания оставалась неделя. На следующее утро я набил большой парусиновый кранец мокрым песком – вес куля получился примерно равным весу Ямады – и приступил к тренировке. Мне всего лишь надо было выполнить любой бросок через себя до того, как Иошидори применит уммэй-джимэ, и сделать это так, чтобы уммэй-джимэ мог применить я сам.
Как вы понимаете, мне это удалось. Вы знаете, что такое уммэй-джимэ: попытка высвободиться из этого захвата ведет к дальнейшему удушению, и чем больше противник пытается, тем больше приближается к смерти. Я видел, как жизнь уходит из глаз Ямады, я понимал, что эта жизнь сейчас примкнула к моим пальцам, к сгибу локтевого сустава…
И когда борьба уступила место принятию своего уммэй, я отпустил захват. Ему не понадобились реанимационные действия – Ямада был все еще в сознании, лишь ослаб настолько, что не мог встать сам. Но это был еще не конец.
На церемонии посвящения присутствовала пресса. Обычно эта церемония очень праздничная, но на этот раз было впечатление, что кого-то хоронят. Никакой радости, никакого веселья, хотя посвящали не только меня. К тому же в зале было много белого в оформлении. Белый в Японии – цвет траура, как у нас черный. Меня посвящали четвертым, последним, и сделать это решил сам Дзигоро Кано. Настоящий дзюудоку – едва я его увидел, как сразу понял: он не сдался. Такой не сдастся никогда.
Он обвил поясом мою шею и начал стягивать. Медленно, словно бразильская анаконда, и столь же сильно. Но я знал, что так и будет, и… Вас Фудзиюки учил этому?
– Конечно учил, – кивнул Спиридонов. – Напрячь мышцы шеи, втянуть кадык, дышать через нос, и коротко, по маленькому вдоху… да только выходило у меня плохо, я же курю, через минуту кашлять начинал, а потом у меня в горле такой вкус оставался, будто я пепельницу с окурками проглотил.
Ощепков улыбнулся, но без злорадства:
– Незабываемые, должно быть, ощущения… Как хорошо, что я не курю.
Я стоял и ждал, когда он отпустит, а он старался натянуть все сильнее, сильнее. А я не давал ему этого сделать. Это тоже была борьба, без бросков и подсечек, но борьба. У меня темнело в глазах, вскоре перед глазами заплясали сверкающие точки…
А потом я услышал, или мне показалось, тихий голос, обращенный к Дзигоро Кано:
– Вы слишком долго тянете, Кано-сэнсэй. Это же ритуал, а не убийство, а вы учитель, а не палач! Не позорьте свое имя, отпустите. Он достоин.
Голос мне показался похожим на голос Фудзиюки. Может, конечно, почудилось. Но Дзигоро Кано отпустил и с нескрываемым сожалением объявил меня дзюудоку.
* * *
– Однако же за друга своего вы не отомстили, – задумчиво проговорил Спиридонов.
– Я – нет, – согласился Ощепков. – Но есть некто, кто отомстил.
– Кто же?
– Вы в него не верите, – улыбнулся Ощепков.
– Самоуспокоение… – пробормотал Спиридонов. – Всего лишь самоуспокоение. «Его Боженька наказал…»
– Смотря что считать наказанием, – ответил Ощепков. – Конечно, мне достаточно было бы подождать несколько секунд, чтобы Ямада был мертв – но что мне или Троше до его смерти? Вернет это жизнь Троше? Нет.
Но такое решение кое-что все-таки изменило, Виктор Афанасьевич. Вы, конечно, не знаете, но Иошидори Ямада с восемнадцатого по двадцать пятый был заместителем начальника контрразведки группы войск в Маньчжурии. Он был на короткой ноге с военным губернатором Приморья, японским, вестимо. А еще – он был другом дзюудоку и кинопрокатчика Ощепкова.
– Другом? – удивился Спиридонов.
– Он сумел стать мне другом, – подтвердил Ощепков. – Он нашел в себе силы признать свою неправоту. Он, самурай и сын самурая, пришел ко мне с катаной и белой повязкой на лбу и сказал, что сожалеет о смерти моего друга. Что понимает, что поступил дурно, и готов смыть свою вину кровью, если я велю ему.
Я велел ему жить и делать карьеру. Так я и подружился с молодым и перспективным офицером японского Генштаба. Знаете, это неочевидно, но благодаря этой дружбе очень много Трофимов, Тихонов, Савок, Володек, их отцов, матерей, сестер не погибли, а остались живы. Я думаю, что Троша был бы доволен. А теперь, простите, но будем прощаться. Договорим уж завтра, хорошо?
– Хорошо, – покладисто принял предложенный план Спиридонов и крепко пожал протянутую Ощепковым руку.
Он думал о белой повязке на лбу Иошидори Ямагата, о зале Кодокана, оформленном в белых тонах…
И о белом поясе, который он повязал ниже маленьких холмиков груди Акэбоно.
Глава 6 Розы на снегу
Мерный стук колес убаюкивал.
Спиридонов открыл пачку папирос, вытащил одну и медленно повертел в пальцах.
На откидном столике перед ним лежал почти исписанный его разборчивым каллиграфическим почерком блокнот и стопка листов с почти законченной рукописью книги. Почти – потому что ему хотелось еще немного добавить из увиденного в Новосибирске.
Ощепков не возражал – хотя бы потому, что Спиридонов показал ему рукопись, и они несколько часов кряду просидели, разбирая ее. Ощепков то и дело хлопал себя по лбу с видом Архимеда, только что покинувшего ванну и едва не поскользнувшегося на мраморном полу. Многое из того, что Виктор Афанасьевич внес в Систему, было для него откровением, долгожданным откровением от Спиридонова.
Но и сам Виктор Афанасьевич не меньше почерпнул у Ощепкова, наблюдая за занятиями его групп. Тот, работая независимо от него, во многом получил те же результаты, что и он; в других местах их находки дополняли друг друга столь удачно, что они тут же не преминули на практике «обкатать» некоторые из них.
Познакомился Виктор Афанасьевич и с женой Ощепкова – невысокой миловидной дамой, некогда округлых форм, но сильно исхудавшей от изнуряющей ее болезни. Мария была спокойной, несколько застенчивой и очень деликатной женщиной, свою болезнь переносила стоически и не жаловалась.
Виктор Афанасьевич видел, как Ощепков нежен с женой, и понимал, что у него сильные и серьезные чувства к ней; это добавило ему решимости ходатайствовать об удовлетворении просьбы Василия Сергеевича и прибавило решимости во всем ему содействовать. Но его все еще интересовал тот вопрос, что не давал ему покоя на пути в Новосибирск; теперь же, увидав искреннюю любовь Ощепкова к жене, он был сбит с толку еще более. Впрочем, загадка разрешилась проще простого…
– Видите ли, Виктор Афанасьевич, – пояснил Ощепков, – с начала Великой войны японцы весьма неохотно пускали к себе одиноких и холостых русских, каковым был я в те годы. Жители Дальневосточного края, не желая оказаться на Западном фронте, уходили кто в Китай, кто в Японию. Микадо же, как верный союзник России, препятствовал подобной миграции… поскольку чем больше русских мужчин погибнет на Западе, тем меньше вероятность того, что после войны победившая и укрепившаяся Россия (в возможность поражения никто не верил, тем более в Японии; это у нас Русско-японскую войну считают неудачной для России, Япония же – не столь однозначного мнения[35]) предъявит счет к пересмотру итогов предыдущих спорных отношений. А возвращать России Курилы и Сахалин с их углем и богатейшими рыбными промыслами очень не хотелось.
А вот женатых мужчин пускали – дескать, раз женат, то никуда не денется, вернется на Родину. Вот только прямолинейные японцы не учли русской смекалки. Так многие, в том числе и я, обзавелись женами, которых видели один раз в жизни. Я даже развод получил по телеграфу, естественно, выплатив отступное и оплатив все расходы.
А Машенька меня сразу взяла в плен. Она была из русской семьи, оставшейся в Харбине, когда тот вместе со всей Маньчжурией отошел под Японский протекторат. Родители ее были людьми крайне непрактичными, как, впрочем, и сама Машенька. К моменту нашего знакомства они были бедны, словно церковные мыши, зато папенька числился почетным гражданином Харбина, и это право японская администрация вполне подтвердила. К тому же Машенька появилась на свет нежданно-негаданно, когда ее родители уж и не чаяли.
В общем, меня сразило то, каким хрупким цветком она была. Словно роза посреди снежных заносов. Сейчас еще яркая, но любой мало-мальский мороз убьет. Вот я и решил ее взять за себя, и не прогадал. Она для меня – огонек в очаге: и светит, и согревает… и кормит. Готовит она изрядно, особенно печет. Как пойдет на поправку – приглашаю на пироги. Единожды отведав, будете к нам по дням захаживать.
Спиридонов только улыбался. К мучному, да и вообще к еде особой страсти у него не было, а вот мысль, что к Ощепковым можно будет заходить в гости, радовала. Может показаться странным, но у Виктора Афанасьевича не промелькнуло и капли той ревности, какая порой возникает у людей, обделенных счастьем, к счастливым людям. А Ощепков со своей Марией был счастлив даже с учетом ее болезни. И она с ним тоже, даром что очень сильно была больна.
За три дня, что он провел в Новосибирске, Спиридонов прояснил для себя все возникшие у него вопросы. И одно понял определенно: показывать блокнот с записями не следует никому. Даже интеллигентному товарищу Менжинскому. Ибо профессия сыщика меняет человека, и вовсе не к лучшему, а в истории и воззрениях Ощепкова было много такого, чего не надо бы афишировать. Ему на ум пришел рассказанный кем-то в его присутствии анекдот про то, как балерину Большого театра принимали в партию. У нее спросили: что будет, когда наступит коммунизм. Она простодушно ответила: у всех всего будет вдоволь – еды, одежды, мехов, бриллиантов… как при царе.
Как бы то ни было, Виктор Афанасьевич решил подробности их бесед оставить за рамками дела, а для этого следовало написать рапорт. В бездушной канцелярщине Виктор Афанасьевич был не силен, а потому на рапорт бумаги извел едва ли не больше, чем на свою книгу.
В Москву он возвращался все так же, прицепным вагоном к курьерскому. На сей раз попутчиками его были несколько армейских чинов, ехавших откуда-то из Забайкалья. На Спиридонова они внимания обращали ровно столько же, сколько на проносящиеся за окном пейзажи (от которых отгородились бордовой занавесочкой). Все время от Новосибирска до Москвы (и, как подозревал Спиридонов, от места посадки до Новосибирска тоже) эти товарищи с кубарями разных цветов (автобронетанковый, артиллерийский, военно-воздушный и химический, определил Спиридонов) посвятили игре в карты, распитию крепких напитков и щедро сдабриваемым крепким словцом байкам об армейском быте. Тем не менее вели они себя довольно культурно, вызывающих выпадов не допускали: вдрызг не напивались, выяснения отношений не устраивали, а главное – не приставали к соседу, и им не мешал запах табака из его купе, сами дымили больше.
В Москву Виктор Афанасьевич прибыл рано утром и, не заезжая домой, отправился к Менжинскому на Лубянку. Бывшее здание страхового общества «Россия» встретило его непривычной настороженной тишиной, и Виктор Афанасьевич было испугался – не случилось ли чего. Но ничего плохого не случилось. Менжинский был у себя в кабинете, кроме него там был его первый зам, Генрих Ягода. С ним Спиридонов встречался редко и особенно близко не был знаком, да и, откровенно говоря, не хотел. Ягода производил на него неприятное впечатление.
Виктор Афанасьевич вызвался было подождать, но Менжинский велел входить и докладывать.
– Мы с Генрихом Григорьевичем тут до вечера засидимся, так что давайте уж без церемоний, – сказал он. – Кстати, Генрих Григорьевич, не выпить ли нам чаю? С той вашей пастилой? Генрих Григорьевич привез от среднеазиатских товарищей пастилы, знает, что я сладкое люблю. Да и вы, Виктор Афанасьевич, попробуйте.
Отказываться Спиридонов не стал. Пока он пил чай с пастилой, которая ему не понравилась – горчила и имела странный привкус, Менжинский прочитал его доклад.
– Что ж, – сказал он, – рапорт на перевод его в Москву у меня лежит, надо давать «добро».
Ягода навострил ушки:
– Кого куда переводим? Вячеслав Рудольфович, кадрами в Управлении занимаюсь я, не забыли?
Пока Менжинский вводил Ягоду в курс дела, Спиридонов с отвращением доел пастилу и допил чай. Хотелось курить, чтобы перебить неприятный вкус сладкого лакомства.
Ягода неожиданно уперся рогом: нет в штате места, и баста. И так внештатных развелось, ни плюнуть, ни пройти.
– Вас, Виктор Афанасьевич, это не касается, мы без вашего чух-чух как без рук, – поспешно добавил он, глядя на пытавшегося возразить Спиридонова.
– Это называется система Сам, – отчеканил тот. – Никаких «чух-чух». И все-таки товарища надо выручать.
С этим согласились все и стали думать, как выручать товарища Ощепкова.
Наконец Менжинского осенило:
– Вот что, товарищи. У нас подготовка по системе товарища Спиридонова есть, а в РККА нет. А РККА, думаете, она не нужна? Вот что, я поговорю с наркомом, а вы, Виктор Афанасьевич, поезжайте к комфронта Егорову. Как я знаю, вы с ним накоротке.
– Куда, в Белоруссию? – опешил Спиридонов.
– Да что вы, нет, конечно, – отмахнулся Менжинский. – Он сейчас как раз в Москве, приехал на конгресс Коминтерна, кажется, точнее не знаю. Пусть он поработает с Климентом Ефремовичем, а я со своей стороны… но быстрых результатов не обещаю.
– Почему? – снова удивился Спиридонов.
– Виктор Афанасьевич, ты, кроме своей системы, хоть что-нибудь замечаешь? – улыбнулся Менжинский. – У нас Шестой конгресс Коминтерна – это раз. Не успели от троцкистов избавиться…
Ягода приподнял бровь и хмыкнул.
– Я ж говорю, не успели еще, – уточнил Менжинский. – Недобитых вылавливаем. И тут на тебе, новая напасть – Рыков с Бухариным. Люди просто с ума сходят. Кто-то следующим будет – вы, я, Генрих Григорьевич?
– Я точно нет, – угрюмо сказал Ягода. – Я линию партии поддерживаю целиком.
– А тут еще в Польше правительство поменялось, и в Китае чуть не переворот. А японцы под шумок взяли Нанкин…
– Не Нанкин, а Шаньдун, – поправил Ягода.
– Циндао то бишь… – Спиридонов потер подбородок. – Ой, плохо это…
Менжинский вскинул на Спиридонова непонимающий взгляд:
– Тебе-то что до Циндао?
– Прошлый раз они через десять лет поперли на нас, – напомнил ему Спиридонов. – Как бы и сейчас чего не вышло…
Но короткая политинформация от Менжинского натолкнула его на одну идею.
* * *
– Ну, брат, и дела, – задумчиво протянул Сашка Егоров. – Ну ты и жук, а с виду такой тихоня. Сидишь себе в своем «Динамо», и не видно, и не слышно тебя, а стоит один раз нос показать…
Они сидели в комнате Егорова на улице Воровского, бывшая – Спиридонов шутил: «в девичестве» – Поварская. Квартира выглядела необжитой, мебель почти вся стояла в чехлах, расчехлены были лишь кожаный диван и два стула. В углу стоял большой кожаный чемодан, на нем лежал видавший виды планшет. Окна комнаты были распахнуты настежь. За ними шел дождь и то и дело ворчал далекий гром. От грозы в комнате было свежо, не мешал даже сильный табачный дух – курили оба.
– Что такое? – не понял Егорова Спиридонов. – Не темни.
– Все такое, – отмахнулся Егоров, разливая по стаканам чистую, как слеза, водку. Спиридонов пил мало, зато комфронта прикладывался будь здоров, и полбутылки они уже успели уговорить. Спиридонову это не нравилось – раньше такой тяги к горячительному за Сашкой не наблюдалось. Впрочем, Виктор Афанасьевич списывал это на то, что Сашка в Москве жил бобылем, оставив супругу с дочерью от первого брака в Белоруссии, потому и ушел в отрыв, а тут еще и повод есть – встреча со старым другом. – Ты видишь, что в стране делается? Правая рука не ведает, что делает левая. Откуда у нас в верхах и грызня пошла – сначала Троцкий, теперь вот и Рыков с Бухариным…
– Мне до этого политеса нет дела, – отвечал Спиридонов, пригубив рюмку. Егоров свою опустошил залпом. – Я служу Союзу Советских Социалистических Республик. Да и тебе, по-хорошему, тоже ни к чему все это.
– Как будто я сам хочу этого! – В голосе Егорова Спиридонов уловил нотку злости. – Втягивают, брат… да шут с ними со всеми. Я про другое. Держись-ка за стул крепче, чего скажу.
– Ну? – Спиридонов совету не последовал, лишь подался вперед, самую малость.
– Ипполит Викторович Свирчевский твой у меня служит замначальника контрразведки, – перейдя на не очень тихий шепот, сообщил Егоров. – Старый уже, но голова крепко варит, а главное – какие у него связи! И на Западе, и на Востоке. В Беларуси он мне помог границу перекрыть и все белопольские банды зачистить. Да и к Сунь Ятсену я его с собой возил, он в Забайкалье до войны служил… Кому я рассказываю?
– Мне и до Свирчевского никакого нет дела, – повторил Спиридонов. – Мне бы Ощепкова пристроить.
– Да я уж и понял, – вздохнул Егоров. – Не боись, я с Климентом Ефремовичем переговорю, даст он «добро». Нынче же… нет, завтра, на Коминтерне.
– Моя тебе благодарность! – У Спиридонова от души отлегло. – Не забудь только.
– Обижаешь… – Егоров посмотрел на него долгим взглядом. – Слушай, а давай провернем рокировочку – ты ко мне пойдешь, а твоего Ощепкова мы Менжинскому сосватаем? Как?
Спиридонов отрицательно покачал головой:
– Не пойдет, дружище. ОГПУ готовить сподручнее мне, а тебе Ощепков подойдет больше. Я все-таки строю сложный комплекс, для спецов, а у Ощепкова система проста, аккурат для РККА.
– Жаль, – с сожалением развел руками Егоров. – Скучаю я по тебе. Ты у меня с молодой нашей поры один и остался. Иногда такая тоска берет, хоть на стенку лезь. Если бы не Галчонок, не знаю, как бы и вынес…
– Саша, – спросил Спиридонов, – тут про тебя одну байку травят… что ты в двадцатом сотню военспецов в баржу посадил и посреди Волги баржу ту утопил?..
Виктор Афанасьевич ждал, что Егоров все опровергнет, но тот внезапно кивнул:
– Только не в двадцатом, а в восемнадцатом, и не сотню, а тридцать шесть. На десять больше, чем бакинских комиссаров, и на четыре человека меньше, чем мучеников севастийских. – Спиридонов поджал губы, но Егоров подхватил тему: – Был там такой кадр примазавшийся, Носович.
– Носович, говоришь… – В голосе Спиридонова звучало что-то недоброе.
Егоров потупился:
– Да, ты прав. Толя Носович. Доверял я ему, как брату родному, а он гнидой такой оказался… Дал деру, да еще и документы секретные прихватил. Могла и моя голова полететь, я ж тоже бывший полковник, да и друг Толин. Коба меня прикрыл, поверил, что я ни при чем. Но сказал – от штаба Носовича избавиться, и чтобы быстро. Пришлось…
Спиридонов молчал. И думал: а знает ли он Сашку Егорова, своего друга? Такого Егорова он определенно не знал.
– Мы их постреляли сначала, – словно оправдываясь, добавил Егоров. – Живьем никого не топили, не верь.
Спиридонов пожал плечами, нахмурился:
– По законам военного времени. Ну что ж, что было, то в прошлом. Давай дальше жить, что ли.
– Точно не хочешь в штат ко мне? – оживился Егоров. – Меня в начальники Генерального штаба прочат… Витя! Могли ли мы с тобой вообразить…
– Нет, не могли, – ответил Спиридонов, имея в виду свое. Могло ли когда-нибудь прийти ему в голову, что Сашка Егоров сможет запросто пустить в расход таких же ребят, как и он, – военспецов… Стрелять по пленным…
– Ты подумай, – продолжал Егоров. – Знаешь, сейчас время такое… Как стану начштаба, я тебе любые кубари нарисую, только скажи.
– В «Динамо» мне в самый раз, – сдержанно ответил ему Спиридонов, допивая из рюмки. – А то, что будешь начштаба, – хорошо. Будешь в Москве, может, и видеться чаще будем. У меня, Саша, ты тоже один остался. Совсем один. У тебя Галчонок твой есть, а у меня…
– Так найди себе кого-нибудь, – деятельно подсказал Егоров. – Чего одному вековать? Понимаю, конечно, не отболело у тебя, любил ты сильно Клавушку свою…
Спиридонов сжал губы. Отчего-то ему было неприятно, что разговор зашел о его покойной жене. А Егоров вел линию:
– Не хочешь серьезно, никто не заставляет. В той же Москве девочку без обязательств всегда можно было найти, а сейчас так и подавно…
Спиридонов встал. Водка чуть кружила голову, хоть и выпил он меньше Сашки, сильно не налегал.
– Не могу я так, Саша, – сказал он с болью в голосе. Каким бы ни был Егоров, он был у Спиридонова единственным другом. Единственным, кому он доверял. – Я ежели люблю, так всерьез. И знаешь, кажется, любовь моя одни неприятности приносит тем, кого я люблю. Пожалуй, мне любить и вовсе противопоказано…
– Зря ты так… – Егоров понурил голову. – Нельзя человеку без любви. Без любви человек словно мертвый…
– А я тебе говорил, что я уже умер? – невесело улыбнулся Спиридонов. – Еще восемь лет тому назад говорил, помнишь?
И тут почему-то Спиридонов некстати вспомнил, как Ощепков цитировал… Ми… – он подзабыл имя японца – Миньямото? А, не важно.
А важно то, что Спиридонов действительно чувствовал себя мертвым. Может быть, оттого и был лучшим бойцом на просторах Родины?
* * *
Возвратившись в Москву, Спиридонов погрузился в дела – тренировки, работа над методической книжицей… но при всем том не забывал об Ощепкове, хоть от Москвы до Новосибирска километры и километры и контролировать ситуацию трудно. Но он привык отвечать за свои слова, и прежде всего – перед самим собой. И потому помнил о данном им обещании.
Казалось, все шло хорошо: Ворошилов перевод одобрил и даже выдвинул встречную идею – если у ОГПУ есть свое спортивное общество, то РККА, естественно, следует иметь свое. В разговоре со Спиридоновым он так и сказал:
– Физподготовка в армии – это главное. И относиться к ней нужно серьезно! Сколько бы будущую войну ни называли «войной моторов», все-таки без человека-солдата она не обойдется. И, конечно, рукопашный бой, поставленный на научную основу, как у вас с товарищем Щепкиным…
– Ощепковым, – поправил его Спиридонов.
– Да, Ощепковым… Он не из Пермского ли края?.. Так вот, рукопашный бой – это основа навыков солдата.
Климент Ефремович Спиридонова прекрасно помнил; как-то случилось, он и Буденный проспорили ему с Менжинским стол в ресторане. Было это на показательных выступлениях учеников Спиридонова из первой динамовской группы.
Выступления проходили в помещении цирка. Подопечные Спиридонова демонстрировали самые зрелищные броски и подсечки, рассчитанные на сугубо внешний эффект трюки с перебиванием досок и кирпичей пополам. Неожиданно наркомвоенмор – громко так! – заявил, что все это, безусловно, веселый цирк, но на практике ни к чему.
Менжинский с ним не согласился. Завязался спор, к Ворошилову примкнул Буденный и подстегнул Спиридонова:
– Что ж вы молчите, Виктор Афанасьевич? Защищайте свою дзюудзюцу!
– Я на словах переубеждать не умею, – заявил Спиридонов. – Но вы, товарищ нарком, сказали, что все это бесполезно против штыка и шашки? Давайте проверим: выставьте четырех своих людей при оружии против меня одного. И посмотрим.
– Четыре-ех?.. – протянул Ворошилов. Буденный задумчиво крутил ус.
– Можете больше, – ровным голосом предложил Спиридонов, – да они мешать только друг другу будут.
– Ого… Казак! – только и сказал Ворошилов и повернулся к Буденному: – Сенька, ну-ка, кликни двух своих, да вели, чтобы шашки наголо. А я двух своих против него выставлю, раз он такой храбрый. Вот что, Слава, – кивнул он Менжинскому, – если этот твой товарищ справится – мы с Семен Михалычем вас в ресторане кормим и поим. А ежели нет – уж не обессудь, вы нас.
– Скажите только своим, чтобы они не стеснялись, а били по-настоящему, – попросил Спиридонов. – Чтобы потом никаких претензий, что, мол, они понарошку, то-сё…
– Да уж не сомневайтесь… – хохотнул Ворошилов.
Спиридонову хватило тогда трех минут. Красноармейцы не поняли, как оказались без сознания на ринге в компании красного кавалериста. Со вторым кавалеристом, однако, вышла заминка: Спиридонов лишил его сабли, но тот ужом выдернулся из захвата, оставив Спиридонову в трофей гимнастерку с оборвавшимися пуговицами, и выхватил наган.
– Стой, дура! – заорал на него Буденный, но поздно. Раздался выстрел, за ним еще, еще…
«Чик-чик» – вращался барабан, но выстрелов не было. Все семь пуль прошли мимо, хотя с расстояния в пять метров не попасть, казалось, было попросту невозможно. Спиридонов подошел к конармейцу и отнял у него бесполезное оружие.
– Давненько я в ресторане не был, – сказал он, нагибаясь над одним из красноармейцев и легким движением приводя его в чувство. Второй красноармеец пришел в себя сам и попытался встать. Конармеец тоже пришел в себя и сидел на арене, обхватив руками голову.
Ворошилов и Буденный в растерянности глядели друг на друга.
– Твои кавалеристы стрелять-то умеют? Или только шашками рубиться? – прошипел военмор.
– Стрелял он хорошо, – ответил Спиридонов вместо Буденного. – Один раз едва меня не задел, вот… – И он поднял руку: в подмышке гимнастерки слева виднелись две дырочки – входное и выходное отверстия.
Но тогда единственным исходом спиридоновской инициативы стал только оплаченный двумя героями Гражданской войны сытный обед. Теперь же все было серьезно.
– Да только справится ли ваш этот… Ще… как его, беса…
– Ощепков, – подсказал Спиридонов. – Справится. Климент Ефремович, если уж я не сомневаюсь, то вам и подавно не резон.
– Ну что ж… один спор я вам проиграл, во второй раз спорить не буду, – согласился с ним Ворошилов. – Везите сюда своего Ощепкова…
* * *
В послереволюционные годы, когда в авангарде «революционного строительства» были столь компетентные в государственных вопросах люди, как Дыбенко, Коллонтай и Полупанов, советская власть решила вовсе отказаться от бюрократии. Однако быстро стало ясно, что отмена делопроизводства влечет за собой хаос и полный паралич государственной машины. Пришлось возвращать чиновников, предварительно одев их вместо сюртуков в кожаные куртки с алым бантом цвета пролетарской крови в петлицах. Тем не менее бюрократ, хоть бы и одетый в комиссарский кожаный лапсердак, бюрократом и остается; более того, новая бюрократия, лишенная преемственности со старой, с истинно бюрократическим энтузиазмом принялась изобретать велосипед в виде типовых документов, циркуляров и форм «с новым рабоче-крестьянским содержанием». В итоге конец периода НЭПа и начало индустриализации совпали с невероятным умножением бюрократии. Она, как грибы на трухлявом пне, обильными наростами покрыла все сферы государственной жизни.
И вот, кажется, все уже хорошо – принято решение, и Ощепков может собирать вещи… но стоп! Для начала он должен быть снят со всех видов довольствия (предоставив документы о том, что он на этом довольствии состоит… или не состоит, в зависимости от того, состоит или не состоит он на довольствии). Затем ему следует подписать все обходные листы. Потом снять с этого всего копии и представить в надзорные органы. Те передадут их вышестоящим инстанциям. Инстанции дадут «добро»… или не дадут.
По приезде в Москву Ощепкова ожидала все та же рутина, но с поправкой на большую громоздкость всесоюзного бюрократического аппарата. Да и бог бы с ним, в Москве уж можно этим всем заниматься сколько угодно, но, как оказалось, уехать из Новосибирска тоже не так-то просто. Особенно человеку семейному, особенно с учетом того, что жена его – почти лежачая, а ряд процедур в органах власти непременно требуют присутствия лично…
А тем временем наступила осень, холодная и промозглая. В Новосибирске царили затяжные дожди и пронизывающие до костей ветра. Но такие мелочи, как погода или состояние здоровья соискателя, никогда и нигде не интересуют чиновника. У него своя работа, он вовсе не обязан… и так далее, плюс к тому советский чиновник пролетарского происхождения совершал свой труд под девизом «Мы не рабы, рабы не мы», а потому удобство народа для слуг того же народа всегда занимало самое последнее место.
Так что все то, что произошло далее, вовсе не удивительно. Удивительно другое – то, что Мария Ощепкова продержалась достаточно долго. Три месяца она стоически сносила визиты по разным советским учреждениям, сидела в очередях, где чихали, кашляли и сморкались здоровые, но подхватившие простуду граждане, и даже если ей было тяжело, не жаловалась и не роптала.
И оставалась, если можно так выразиться, здоровой. С учетом имеющегося туберкулеза.
И вот, когда все формальности, казалось, были улажены и оставалось всего ничего до переезда; когда можно было собирать вещи, да что там можно – нужно, поскольку на освобождение казенной жилплощади давалось им две недели; когда Спиридонов уже выбил койку в туббольнице имени Снегирева, на Собачьей площадке, рядом с консерваторией Глиера, и комнату в общежитии завода Авиахима, – случилась беда.
Будь Мария Ощепкова в здравии, она, вероятно, и не заметила бы этой простуды, но туберкулез подточил ее силы, так что жила она одной силой воли. Ее жизнь висела на волоске, и достаточно было самого легкого прикосновения, чтобы этот волосок оборвался.
* * *
Спиридонов соскочил с подножки поезда еще до полной его остановки. Вещей у него с собой не было, зато во внутреннем кармане пальто лежал пакет с магической формулой легендарного Реввоенсовета – «аллюр, три креста». «Подателю сего все органы партийного, советского, красноармейского и красногвардейского руководства, все органы учета и контроля, все организации транспорта и связи должны оказать максимальное содействие в масштабах компетенции» – гласила бумага в пакете.
Всю полноту обеспеченной этой бумагой власти надо было употребить для спасения жены Ощепкова. Всю дорогу от Москвы до Новосибирска Спиридонов ломал голову, что и как он может сделать. Против него работали огромные пространства страны и погода, порой останавливавшая состав снежной переметой, но он очень надеялся, что успеет…
Хотя бы на этот раз.
Не для себя – для Ощепкова.
Но, увидев его – все под тою же липой, так приятно пахнувшей в тот памятный его приезд, а ныне с голыми ветками, на которых кое-где налип снег, – Спиридонов понял, что не успел.
Вид у Ощепкова был ровно такой, как полгода назад, но его глаза изменились. В них, в глубине, за зрачками, застыла немая боль.
– Все, – сказал он, не здороваясь. – Можно было не приезжать…
Голос Ощепкова звучал глухо.
– Идемте, – сказал Спиридонов, и Ощепков покорно побрел за ним. Они дошли до площади, где стояли, кутаясь в башлыки, промерзшие извозчики. Один подошел к ним.
– Куда едем, товарищи? – спросил он. Ощепков молчал.
Спиридонов ответил вместо него:
– Домой. Знаете, куда?
Извозчик кивнул, и они пошли за ним.
По дороге молчали. Увидев магазин губпотребсоюза, Спиридонов велел остановиться. Вспомнив Фудзиюки, он купил бутылку «Казёнки», две пачки папирос, буханку-кирпич и пахнущую клейстером ливерную колбасу производства потребкооперации. Затем поехали дальше.
Ощепков жил в небольшом частном доме – вероятно, некогда флигеле богатого дома. Теперь это было общежитие. Флигелек был совсем маленький, кроме сеней в нем была лишь одна комната, половину которой занимала печка. И в комнате, и в сенях было очень чисто. Спиридонов усадил Ощепкова за стол, нарезал колбасу и хлеб, нашел пару стаканов…
Ощепков сидел неподвижно.
За весь вечер они обменялись едва дюжиной слов.
– У вас было такое, чтобы что-то случалось – и стало темно?.. – отстраненным голосом уронил Ощепков. – Будто в комнате без окон погасили лампу?
– Было, – ответил ему Спиридонов.
– И как… как вы пережили это?
– Тренировался.
Они опять долго молчали, потом Ощепков все тем же голосом поделился:
– Машенька очень хотела, чтобы у нас был ребенок… да вот не вышло.
Спиридонов подумал, как важно, должно быть, для Ощепкова то, что он ему говорит – и как пусто и бессмысленно это звучит. Потому только кивнул. Он понимал боль Ощепкова. И чувствовал ту же боль когда-то. Раньше. Наверно, совсем в другой жизни.
Ощепков выпил и вытер губы рукавом. Спиридонов закурил.
– Я опять холост и одинок, – сказал Ощепков, а Спиридонов ждал, когда он заплачет. Неправда, что настоящие мужчины не плачут. Бывают случаи, когда плачут даже бронзовые барельефы.
Но Ощепков так и не заплакал, лишь повторил:
– Холост и одинок…
* * *
После полуночи Ощепков заснул, а Спиридонов просидел без сна до утра. Утром они перекусили тем, что осталось, не разговаривая.
– Пойдем… к ней? – только и прозвучала одна фраза из уст Ощепкова.
Спиридонов кивнул. Идти оказалось недалеко, каких-нибудь два квартала. Кладбище было новым, но уютным – с молодым березняком и новой же деревянной церквушкой, выкрашенной в синее и голубое – цвета Богородицы. В церкви шла служба. Когда дьяк хорошим баритоном завел «миром Господу помолимся», Ощепков остановился и торопливо перекрестился. Затем повел Спиридонова дальше.
Они подошли к новым могилам: снег здесь был перемешан с грязью и глиной, и казалось, что земля покрыта запекшейся кровью. Ощепков остановился у припорошенной снежком свежей могилы, на которой уже успели поставить выкрашенную в белое деревянную пирамидку со звездой.
– Виктор Афанасьевич, – начал Ощепков, когда они постояли у могильного холмика. – Вы уж меня простите, но никуда я не поеду отсюда. Зачем?
– А зачем вам здесь оставаться? – мягко возразил Спиридонов. – Мучить себя? Вы закончили свои дела, попрощались со всеми. Уезжайте. Уезжайте подальше, Василий Сергеевич.
Ощепков поднял глаза. Спиридонов отметил, что в глазу у него лопнул сосудик.
– А как же она? – тихо спросил он. – Как я ее оставлю?
– Вы ее не оставите, – ответил ему Спиридонов. – Где бы вы ни были, она будет с вами. В вашем сердце. В вашей памяти.
Ощепков долго смотрел на него. Затем медленно кивнул, но как-то неуверенно, и тогда Спиридонов добавил:
– Просто спросите себя: хотела ли бы она, чтобы вы остались с ней здесь. На могиле. Или хотела бы, чтобы вы шли дальше? Вы говорили, она хотела, чтобы у вас были дети? Тогда исполните ее желание!
– Как? – Ощепков отпрянул. – Виктор Афанасьевич, как вас понимать?
– Вы можете подготовить хороших бойцов. Это и будут ваши дети! Моя жена мне так и сказала, когда у нас не…
И осекся, чувствуя, что на глаза наворачиваются слезы.
– Так, значит, вы тоже… – пробормотал Ощепков.
Спиридонов положил руку ему на плечо:
– Да. И довольно об этом.
Ощепков кивнул, сгреб с могильного холмика горсть земли, скатал в шарик, сунул другую руку в карман пальто и, достав небольшой платочек с оборочками, явно дамский, осторожно завернул в него землю и, взглянув в глаза Спиридонову, твердо сказал:
– Тогда идем на вокзал.
– А… зайти за вещами? – напомнил ему Спиридонов.
– Что вещи… Все, что мне нужно, у меня с собой. И, знаете, я боюсь. Боюсь, что не смогу уйти, если сейчас…
Он замолчал, не закончив. Но Спиридонов все понял.
– Хорошо. Идем на вокзал.
Сколько раз впоследствии Спиридонов пожалеет об этом решении!
Глава 7 Проклятые дни
1933
До чего странными бывают капризы этой дамы – Судьбы!
Зал боевых искусств общества «Динамо» перебрался в отремонтированное здание Московского общества любителей лайт-тенниса, закрытого в восемнадцатом. Это место на Петровке было Спиридонову хорошо известно: в этом здании он в семнадцатом открыл свои курсы, попутно возглавив осиротевший и вскоре почивший в бозе бывший Императорский яхт-клуб, располагавшийся на близлежащих озерах… на которых они с Клавушкой не раз катались на коньках.
Раньше такое обилие воспоминаний, связанных с этим местом, заставило бы Спиридонова обходить его десятой дорогой (что он и делал долгое время, отказываясь переводить в помещения вновь открывшихся кортов свои курсы), но после второй поездки в Новосибирск что-то у него в душе поменялось. Теперь он не боялся того, что скрывает его память, и, когда накатывали воспоминания, предавался им лишь с толикой грусти.
Он вышел на крыльцо и потянулся к карману френча за папиросами. И тут же опустил клапан – на крыльцо высыпали его ученики. В их присутствии Спиридонов старался не курить.
Будущие милиционеры веселой гурьбой скатились со ступенек. На учителя они не обращали внимания. Спиридонов невольно ими залюбовался: крепкие, ладные, а уж на татами какие молодцы!
– Ну пока, ребята, – зычно попрощался самый высокий из парней, пожимая руки всем остальным. У него были голубые глаза и пшеничного цвета кучерявый чуб, родом он был откуда-то с юга Курской области. – Побегу я.
– Коль, а ты куда это так быстро? – спросил другой, смуглый, как цыган, парень, родом из Краснодарского края.
– Куда-куда, на кудыкину гору, – отмахнулся Коля, улыбаясь. – Побегу это ГТО сдавать, вторую ступень.
– Да на кой оно тебе? – удивился «цыган» (звали его Руслан). – Без значка, что ли, непонятно, что ты и к труду, и к обороне готов?
Николай смутился:
– Да… это. Я ж говорил… В общем, Маруська заклевала: у всех, говорит, значки, а у тебя что? Я-де знаю, что ты у меня самый лучший, но и перед подругами похвастать охота.
Парни загоготали, конфузя Кольку. Спиридонов почувствовал раздражение: Николай в этой группе был первым бойцом, а из-за какой-то вздорной девицы должен бежать сдавать бессмысленные нормативы. Ради какого-то там значка…
– Вьет из тебя веревки твоя Марусенция, – продолжал цеплять Николая Руслан. – Так, глядишь, она тебя и на планерное поле затащит…
– Тьфу на тебя, тетеря, – с досадой отвечал Николай. – У меня уже три прыжка, скоро пятерку себе повешу. А про Маруську еще слово скажешь, я тебя в следующий раз так изломаю, сам Виктор Афанасьевич не разогнет.
Спиридонов деликатно кашлянул. Ребята, как по команде, обернулись к нему.
– Я лично не вижу ничего плохого ни в сдаче норм ГТО, ни в прыжках с парашютом, – спокойно, с улыбкой, проговорил Спиридонов. – Если, конечно, не в ущерб нашим занятиям. Честно говоря, я уверен, каждый из вас с легкостью сдаст эти самые нормативы. А девочки – они такие, падкие на все блестящее, ровно сороки.
Ребята несмело заулыбались. Но Спиридонов подмигнул, и молодежь вновь с удовольствием зашлась хохотом. И все-таки он испытывал нечто вроде изжоги, только не в желудке, а в душе. На то были свои причины…
* * *
Когда ребята разошлись, Спиридонов достал вожделенную папиросу и закурил. Теперь он курил не «Кино», а более дорогой и более легкий «Люкс». Все бы ничего, но «Люксом» Виктор Афанасьевич не накуривался, потому дымил даже больше, чем раньше.
Покурив, Спиридонов сошел с крыльца и задумчиво побрел в сторону Петровки, но, не пройдя и сотни шагов, остановился, развернулся и вернулся к крыльцу. Здесь стояло несколько автомобилей, среди которых ничем не выделялся самый обычный «ГАЗ-А». Этот автомобиль числился за обществом «Динамо», но был предоставлен Спиридонову в личное распоряжение по инициативе товарища Ягоды. Надо сказать, по инициативе товарища Ягоды в жизни Спиридонова произошли довольно большие изменения.
Началось все с того, что первый зам Менжинского неожиданно нагрянул к нему на тренировку в компании Молчанова и одного из первых учеников Спиридонова, Коли Власика. Спиридонов визиту начальства не удивился, спокойно завершил тренировку и вышел к высшему руководству ОГПУ.
– Виктор Афанасьевич, у меня к вам, собственно, два вопроса, – с порога начал Генрих Григорьевич Ягода. – Где бы мы могли спокойно поговорить, на свежем воздухе, например?
Спиридонов предложил выйти к прудам. Была осень. Стремительно теряющее жар солнце золотило воду, на ее поверхности плавали опавшие листья. Дорожка вдоль пруда, впрочем, была тщательно очищена от листвы.
– Вячеслав Рудольфович совсем плох, – тихо сказал Ягода. – Почти не встает, а врачи только руками разводят. Так уж получилось, что фактически я руковожу всеми делами Управления. Вот Политбюро и решило, что, пока Вячеслав Рудольфович не поправится, я буду исполнять его обязанности временно.
Шедший немного позади Власик угрюмо кивнул.
– Даже и не знаю, что сказать, – ответил Спиридонов. – Поздравлять в этой ситуации считаю неуместным, но отмечу, что вы – единственный, кто с этим справится.
Теперь кивнул Ягода:
– Хорошо, давайте сразу к делу. Мы считаем, что систему подготовки кадров по вашей методике следует расширять. В нашем ведомстве грядут большие перемены по причинам, о которых я скажу позже. Уже точно известно, что нас преобразовывают в наркомат.
– Давно пора, – кивнул Спиридонов. Он не был идеалистом и прекрасно понимал, что от идеалистической концепции, заключающейся в том, что рост сознания масс со временем сделает Государственное политическое управление ненужным, следует отказаться как можно скорее. Виктор Афанасьевич не вникал в тонкости исторического материализма, но от своих учеников знал положение дел в обществе. Преступлений и преступников меньше, увы, не становилось. Штаты РККМ все увеличивались, и содержать такую структуру вне контроля специализированного наркомата было, конечно, непростительным благодушием.
– Кроме того, есть договоренность, что все искусственные ограничения на расширение штатов наших структур будут сняты. Это означает, что нам необходимо будет больше подготовленных бойцов, – продолжил Ягода.
– Надо будет больше – подготовим больше, – пожал плечами Спиридонов. – Могу предложить отозвать из милицейских структур нескольких наиболее способных учеников, и я быстро подготовлю из них инструкторов.
– Вот-вот, – подхватил Ягода. – Более того, Виктор Афанасьевич, мы бы хотели, чтобы вы помимо общей подготовки создали и специальные курсы подготовки инструкторов. А мы в этом вам всемерно поспособствуем.
– Не вижу никаких препятствий к этому, – ответил Спиридонов. – Но мне нужно будет дня два-три на то, чтобы выработать соответствующие учебные планы.
– Замечательно! – ответил Ягода. – Сосредоточьтесь, пожалуйста, на этой работе. Если вам что-то будет необходимо…
– Я представлю вам список тех, кого хотелось бы видеть в первой группе, – ответил Спиридонов. – Передам на́рочно, завтра к двенадцати ноль-ноль. А больше пока ничего.
– Конечно же, мы позаботимся об улучшении ваших социально-бытовых условий, – пообещал Ягода.
– Это лишнее, – ответил Спиридонов. – Я живу один, и мне всего хватает. Но вы говорили, что у вас ко мне два дела…
Ягода на мгновение отвернулся, глядя на попытки вороны на лету отнять у чайки выловленную ею рыбешку. В конце концов чайка рыбку упустила, но и ворона осталась ни с чем.
– В процессе подготовки к нашему разговору, – сказал Ягода, оборачиваясь к Спиридонову, – мы ознакомились с существующей альтернативой вашей системе – активно развиваемой и пропагандируемой в Рабоче-Крестьянской Красной Армии и структурах Всеобщего воинского обучения системой дзюудо.
– Моя система также построена на основе дзюудо, – кивнул Спиридонов, – и является ее дальнейшим развитием. Вы имеете в виду систему Ощепкова?
– Да, – подтвердил Ягода. – Возможно, вы не знаете, но у этой системы есть свои активные сторонники, прежде всего в Наркомате военных и морских дел. Они пытались навязать ее нам и, возможно, не оставят свои попытки в будущем. Однако, проанализировав обе системы, мы пришли к выводу, что ваш вариант более подходит для наших целей…
– …потому что более рассчитан на углубленную и специализированную подготовку, чем система Ощепкова, – закончил его мысль Спиридонов. – Я с вами полностью согласен.
– Видите ли, Виктор Афанасьевич… – Ягода заложил руки за спину. По странному совпадению, при этом Власик и Молчанов стали заметно отставать. – Есть мнение, что существование двух подобных систем нецелесообразно, если не сказать больше…
– Это заблуждение, – сухо сказал Спиридонов. – Теоретически можно валить лес лучковой пилой, но двуручная пила больше пригодна для этих целей. Вместе с тем этой пилой практически невозможно распустить полено на шалевочную доску, с чем лучковая пила справляется быстро и эффективно. У каждого инструмента должно быть свое применение.
– Похоже, вы правы, – улыбнулся Ягода. – Но тогда встает другой вопрос: целесообразно ли иметь двух лесорубов, если один из них хорошо справляется и с двуручной, и с лучковой пилой?
– Целесообразно, – ответил Спиридонов. – Лучше пусть каждый из этих лесорубов сосредоточится на своем процессе. Кто-то валит лес, кто-то распускает его на доски. Тем более что Василий Сергеевич Ощепков – действительно профессионал хорошего уровня. Я бы сказал – лучший из возможных. У него…
Не договорив, Спиридонов осекся: как раз сейчас Япония оккупировала Маньчжурию, и в советской прессе поднялась настоящая антияпонская волна. Уместно ли будет упоминание о Кодокане?
– …второй дан по этому дзюудо, – произнес за него Ягода. – В том-то и дело, Виктор Афанасьевич…
Он подошел ближе и взял Спиридонова под руку. Спиридонов внутренне поморщился: подобное панибратство, даже исходящее от непосредственного начальства, ему претило.
– Мы начинаем с подозрением относиться к тому, простите, болоту, которое у нас на Дальнем Востоке, – сообщил Ягода доверительным тоном. – Скажу откровенно: сейчас мы работаем над раскрытием шпионско-террористической организации, работающей в пользу Японии. Число фигурантов впечатляющее – сто тридцать восемь партийных и государственных служащих. Сто тридцать восемь! – и Ягода воздел руки к небу так, словно число «сто тридцать восемь» обладало для него каким-то особым, каббалистическим смыслом.
Спиридонов молчал. Как будто в первый раз. Троцкистско-зиновьевский заговор помасштабнее будет. Но Ягода продолжил:
– И, я думаю, это еще не конец. Сейчас мы перетрясаем личные дела всего дальневосточного партгосактива. Работы – непочатый край. И в ходе этой работы всплыло дело Ощепкова.
Спиридонову разговор активно не нравился. С недавних пор ему вообще не хотелось вспоминать об Ощепкове. Однако же он сказал:
– Свое мнение об Ощепкове я изложил в рапорте, который, если мне не изменяет память, я подавал Менжинскому в вашем присутствии, Генрих Григорьевич.
Ягода наморщил лоб:
– Ах да, припоминаю… И вы не изменили свою точку зрения об этом человеке?
– Нет, – ответил Спиридонов. Он и кривил душой, и нет: все то, что он указал в рапорте, он готов был подписать еще раз.
Другое дело, что сам Василий Сергеевич его разочаровал. Но, по мнению Виктора Афанасьевича, это уже не имело никакого значения.
– Видите ли, – продолжал Ягода, – Ощепков – кадровый разведчик, начинавший работу еще до Октябрьской революции…
– Мне это хорошо известно, – проговорил Спиридонов. – Сам Ощепков рассказал мне всю свою биографию без утайки, и…
– Он не просто разведчик, – добавил Ягода, – а очень хороший и, замечу, чрезвычайно удачливый.
– У него своя метода, – кивнул Спиридонов. – Но Василий Сергеевич не по своей вине был провален и теперь сосредоточился на других вопросах.
– Провален ли? – подхватил Ягода. – Вы, Виктор Афанасьевич, простите, но мне все это кажется подозрительным…
– А мне нет, – заупрямился Спиридонов. – Я уверен, здесь копать без толку. И вам не советую.
– А мы все-таки покопаем… – Ягода жестом подозвал Молчанова и Власика. – Георгий Андреевич, как мы и говорили, у Виктора Афанасьевича теперь прибавится работы. Позаботьтесь о том, чтобы он имел все необходимое, как мы договаривались.
– Так точно, – ответил Молчанов.
Когда Ягода с Молчановым ушли, Власик несколько задержался. Он был одним из первых учеников Спиридонова, еще при Дзержинском, а теперь командовал охраной Сталина.
– Вы, Виктор Афанасьевич, уж не спорьте с ними, – посоветовал он Спиридонову. – Горячие они головы, совсем не так, как Дзержинский завещал. Но люди хорошие, за дело болеют…
– Чересчур болеют, по-моему, – вздохнул Спиридонов. – А ты, Коль, меня совсем забыл. Заработался?
– Не то слово, Виктор Афанасьевич! – ответил Власик. – С этими троцкистско-зиновьевско-каменевскими заговорщиками головы не поднимешь. А кроме них и другие есть.
– А все же будет минутка, навести меня, – посоветовал Спиридонов. – Я если в Москве, то или на «Динамо», на Петровке, или у себя в общежитии…
Власик потупился:
– Я думал, вам Генрих Георгиевич сказал… Вам квартиру выделили на Пресне. Напротив райсовета.
– Вот еще! – возмутился Спиридонов. – На кой ляд мне, холостяку, квартира? Отдали бы какому-нибудь ветерану Гражданской войны, инвалиду, семейному! Мало, что ли, по углам народу ютится? Вот что, Коль: квартиру я не приму, так им и передай. Мне и комнаты хватает…
* * *
Квартиру Спиридонову выделили небольшую, лишь немногим больше, чем его комната. Из крохотной неосвещаемой прихожей (лампочку строители почему-то не сделали, так что показания с висевшего тут же электросчетчика надо было снимать при свете керосиновой лампы) вели три двери – в небольшой санузел с душем, маленькую кухню со стрельчатым окном и комнату, чуть побольше его прежней, но раза в два меньше гостиной Сашки Егорова. Зато в комнате был эркер с тремя большими окнами, который Спиридонов, естественно, приспособил для курения. Так что по вечерам случайные прохожие могли видеть сидящего на подоконнике новоиспеченного майора госбезопасности с цигаркой в зубах. Впрочем, новое звание Спиридонова было весьма условным, поскольку должностные обязанности были у него специфическими.
Кроме квартиры к званию прилагались «ГАЗ-А» с изрядным пробегом и «личный помощник» из штата РКМ. Против последнего, как правило, невозмутимый Спиридонов возражал даже активнее, чем против квартиры, но когда не менее невозмутимый Молчанов привел к нему «личного помощника», сменил гнев на милость. Или на жалость?
Личным помощником оказалась юная эркаэмовка по имени Варя. Лет Варе от роду было чуть больше двадцати, и носила она аристократическую польскую фамилию… почти аристократическую и почти польскую. Потому что польские шляхтичи все-таки были Потоцкими, а Варя по документам звалась Потоцких – выходит, происхождения была сугубо крестьянского.
Кроме происхождения, ничего крестьянского в Варе не было. Она была худа, как щепочка, с фигуркой подростка, не понаслышке знакомого с голодом. Руки тонкие, как веточки, пальцы хрупкие, словно фарфоровые – но только на вид. При всей худобе Варя была крепкой, энергичной и сильной.
Миловидности в ее лице было мало, скорее острыми чертами она напоминала какого-нибудь зверька вроде куницы. Выделялись лишь огромные зеленовато-голубые глаза. И все-таки Спиридонов не мог отделаться от мысли, что Варя кого-то ему напоминает. Глазами, улыбкой, жестами…
Характер у Вари был тихий, но твердый. С Виктором Афанасьевичем она никогда не спорила, но все его попытки устранить ее от ведения его холостяцкого хозяйства решительно пресекала. А через какое-то время Спиридонов поймал себя на ощущении, что с Варей ему намного комфортнее, чем без нее. Теперь ему не приходилось искать среди ночи курево – в загашнике у Вари всегда была припасена пачка «Люкса». К тому же она замечательно готовила.
Однако Спиридонов почти сразу заметил, что Варя недоедает. Выяснилось, что питается она в столовой для рядового состава, один раз в сутки. Не то чтобы там плохо кормили, но столовская еда в сравнении со столом майора госбезопасности сильно напоминала бесплатную раздачу пищи нуждающимся. Особенно с учетом того, что на волне коллективизации случались дикие недоборы продовольственного снабжения, вызвавшие рецидив военного коммунизма в виде продотрядов. Природа, словно ей дали такую команду, тут же подстроила неурожайное лето, затем второе – и привет, карточная система.
В столовке кормили все хуже, карточек выдавали в обрез. Варя об этом Спиридонову, естественно, и слова не проронила, Виктор Афанасьевич узнал о таком положении вещей от ребят, которых тренировал. Тогда не терпящим возражения тоном он принудил Варю обедать с ним вместе, благо она все равно готовила столько, сколько он не съедал. Варя предложение восприняла с достоинством, но отказываться не стала.
Потом выяснилось, что она часто не успевала вовремя вернуться в общежитие, особенно когда у Спиридонова тренировки затягивались (а это было скорее правило, нежели исключение). Спиридонов попытался договориться с администратором общежития, подключил даже Молчанова, но нет на свете такой силы, которая могла бы поколебать железобетонную веру советского вахтера в должностную инструкцию. Ягоду Спиридонов по этому поводу тревожить не стал, махнул рукой и купил в ближайшем магазине потребкооперации раскладушку для Вари. Раскладушку поставили на кухне, ибо та была всецело Вариной вотчиной – с тех пор как Спиридонов обзавелся «личным помощником», на кухню он не заходил.
Короче говоря, это оказалось очень удобно, несмотря на то что Спиридонов отнюдь не вчера родился и прекрасно понимал, что его темноволосое веснушчатое чудо с наивными глазами доброго щенка, вероятно, шпионит за ним. На это ему было ровным счетом плевать: грехов за ним никаких не водилось, к пьянству и разврату он склонен не был, в шпионских заговорах участия тем более не принимал и общался только со своими учениками да еще с Сашей Егоровым и Колей Власиком, и то очень редко.
Раньше еще с Ощепковым общался, но это было до появления Вари.
* * *
Загнав машину в гараж, Спиридонов вышел во двор и кликнул завгара:
– Михалыч, ты где?
– Где-где, отошел по нужде, – с характерным оканьем донеслось из-за угла означенного строения, и из неширокого проема, отделявшего новый гараж от более старых сарайчиков, вышел завгар. Это был крупный пожилой мужчина с рыхлым лицом. Был май, тепло, но одет он был в старую красноармейскую шинель с вылинявшими «разговорами». Только трехлинейки да буденовки не хватало для полноты образа, но завгарам оружие не полагалось, хотя буденовка у Михалыча была. В Гражданскую он служил в Первой конной, но не летел на врага в лихих атаках, а работал на походной кузне. Там же и механике обучился, когда в распоряжении командира полка оказался трофейный немецкий рыдван неизвестного производителя. Затем был ранен и перешел на более спокойную работу в АБТУ. Михалыч был уже в летах, но без дела сидеть не любил и, встретив как-то Спиридонова, с которым познакомился в автобронетанковом управлении, при параде, сиречь, с кубарями, попросил пристроить его куда-нибудь, ну хоть сторожем. Спиридонов пристроил – заведующим гаражом в собственный двор: у жильцов его дома было несколько автомобилей, таких же как и у него самого.
– Закурить-то не будет, Виктор Афанасьевич? – спросил Михалыч, подходя к Спиридонову и принимая от него связку с двумя ключами – от машины и от гаража. Еще на связке была жестяная бирочка с номером госрегистрации машины. – А то я махры с собой не взял, да и ваши, сказать по правде, вкуснее.
– Куда ж я без папирос? – улыбнулся Спиридонов, протягивая Михалычу пачку. Тот утащил три папиросы, две пристроил за ухом, одну привычным жестом заломил в «козью ногу». Спиридонов составил ему компанию.
– И то правда, – ответил Михалыч, подкуривая от видавшей виды, как и все его имущество, фронтовой зажигалки из патрона от трехлинейки. – Как завели себе Варюшку в хозяйстве, без папирос уж не ходите. Она и сегодня выскакивала до потребкооперации. Купила хлеба, молока да курева две пачки. Хотел у нее одолжиться, да она на меня шикнула, ровно кошка, мол, не было таких указаний. Огонь, а не девка!
– Я ей скажу, чтоб не обижала тебя в следующий раз, – пообещал Спиридонов, попыхивая цигаркой.
– А вы рано сегодня, – заметил Михалыч, стряхивая пепел в траву. – Я вот думал, опять до одиннадцати ждать придется. Газетками запасся, – Михалыч продемонстрировал Спиридонову «Правду» с оторванной половиной первой страницы. На уцелевшей части товарищ Сталин пожимал руку своему тезке Уншлихту в окружении улыбающихся товарищей, включая Ягоду, Молчанова и Власика. – Ну что… пригодилась.
Спиридонов кивнул, улыбаясь, и подумал, что последнее время в газетах стало намного больше товарища Сталина. Конечно, генеральный секретарь ЦК ВКП (б)… но раньше он как-то не выходил на первые места, все держался немного позади.
– И все-таки она хорошая у вас… – Михалыч выпустил дым.
– Кто? – не понял Спиридонов, отвлекшись. – Машина?
– Тьфу на вас, Виктор Афанасьевич, – сплюнул в сторону Михалыч. – Какая машина? Варька ваша.
– Какая она моя? – усмехнулся уголком рта Спиридонов. – Она эркаэмовская. По штату, говорят, положен личный помощник.
– Ага, то-то она на вас так глядит, как монашки на отца нашего Серафима, прости, господи, – улыбнулся в густые усы Михалыч. – Ну, или ровно как котенок с помойки на крынку сметаны…
– Скажешь еще… А больше никого не было? – поспешил Спиридонов перевести разговор в безопасное русло.
– Окромя почтаря, никого чужого, – ответил Михалыч, но хитро улыбаться не перестал. – Заходил еще точильщик ножей, покрутился, поорал… Никто к нему не вышел, и он ушел восвояси. Непонятно, чего хотел? Ведь не выходной же. Это каким надо быть тунеядцем, чтобы здоровому мужику с точилкой по дворам шляться, ровно в НЭП? Хочешь работать – иди на завод или электростанцию, я так понимаю? У нас же теперь… – Михалыч поднял вверх почти докуренную папиросу, – ин-дус-три-али-за-ция!
Спиридонов вспомнил хлебосольного проводника в поезде, везшем его в Новосибирск. Тот говорил так же, с таким же жестом.
– Михалыч, так говоришь, мо… – Спиридонов, разбежавшись сказать «моя», быстро поправился: – Варька курева-то купила?
– А то, – ответил завгар. – Две пачки в явоське несла, как бог свят.
– Михалыч, ну стыд же, позор, – мирно пожурил его Спиридонов, доставая из нагрудного кармана пачку. – Воевал же, смерть видел, в Первой конной у Буденного был. Какой еще бог? Никакого бога нет.
– Нету-у? – с нарочитым изумлением в голосе протянул Михалыч. – А куды же он подевался?
– Тьфу на тебя, – процитировал Михалыча Спиридонов, впрочем, не сплевывая. И протянул пачку папирос завгару: – На, держи. Раз у меня дома есть.
– Спасибо, конечно, – степенно ответил Михалыч, пряча пачку под шинель. – Мне еще до утра сидеть, пока не сменят, а я без курева. Правда, коли вы приехали, я гараж закрою, почитаю малость еще да спать залягу.
– Хороших снов, – пожелал Спиридонов и поспешил домой.
* * *
Открыв хорошо смазанный замок своим ключом, Спиридонов вошел в квартиру. Удивившись, почему его не встречает Варя, разулся. За полгода он успел привыкнуть к тому, что, приходя домой, застает ее в коридоре едва не по стойке «смирно». «Может, ждала да заснула? – предположил Спиридонов. – Не буду тогда ее будить, погожу, как проснется».
Потому, не заглянув на кухню, где могла спать Варя, он сразу же прошел в комнату.
Варя сидела в эркере. На ней была только полотняная ночная сорочка. Водрузив на подоконник зеркало, обычно висевшее у двери, Варя расчесывала волосы не новым уже костяным гребешком, мурлыкая под нос «Мы красные кавалеристы». Спиридонов на краткий миг залюбовался ею – с распущенными волосами он ее видел впервые, обычно она убирала их под косынку. Вообще говоря, сначала Варя щеголяла перед ним исключительно в эркаэмовской форме, но постепенно стала носить одежду попроще – то сарафан, то ситцевое платье, то блузку с юбкой из бумазеи.
Собственно, этим ее гардероб и ограничивался. Было еще убогонькое пальтишко на рыбьем меху да фартук, и все.
Волосы у Вари оказались недлинными, но густыми и притом очень черными. Когда она сидела вполоборота, то еще больше кого-то напоминала ему, но только кого – он убей, не мог сообразить. Послушав про то, что «с нами Ворошилов – первый красный офицер», Виктор Афанасьевич решил все-таки обратить на себя внимание и деликатно кашлянул.
Варя взвизгнула и, едва не опрокинув на пол зеркало, прикрылась от него спинкой стула, свободной рукой нашаривая на подоконнике сарафан. Впрочем, испуг ее моментально прошел:
– Виктор Афанасьевич… вы так тихо ходите! Простите, не могли бы вы отвернуться?
Спиридонов кивнул и вышел из комнаты – удалился мыть руки с дороги. Когда он вернулся, Варя в сарафане, с косынкой на голове уже накрывала на стол. Зеркало висело на прежнем месте.
«И как она только успела?» – удивился Спиридонов.
– Варя, дайте мне папиросы, пожалуйста, – попросил он.
– Вы бы сначала поели, – укоризненно ответила Варя, доставая откуда-то пачку. – Табак вкус перебьет. Я вам рассольник сварила…
Спиридонов вздохнул и сел за стол, спрятав папиросы в карман галифе. Неизвестно почему, но перечить Варе ему не хотелось. Варя села напротив. Себе она налила половину от спиридоновской порции. Все попытки его настоять, чтобы она наливала или накладывала себе столько же, сколько ему, натыкались на железобетонное: «Я столько не съем, а у вас нагрузки».
Рассольник был действительно вкусным, так что какое-то время Спиридонов уделил трапезе. Затем спросил:
– Что нового? Кто-нибудь звонил?
– Никак нет, – ответила Варя. – Приходил поштарь, принес открытое письмо.
– И что ж ты мне его не даешь?
– Как поедите, дам, – невозмутимо ответила Варя. – Открытое письмо не телеграмма, ничего срочного в нем быть не может.
– Ишь, умная какая, – проворчал Спиридонов, бодро орудуя ложкой. – Что там?
– Откуда мне знать? – ответила Варя, слегка краснея. Со стороны это было не слишком заметно, но не для Спиридонова. У него был наметанный глаз дзюудоку, и такие нюансы он подмечал. – Я чужие переписки не читаю, мне без надобности.
– Варь, – улыбнулся ей Спиридонов, пытаясь сформулировать некую мысль. Не сформулировав, он ограничился этим «Варь». Дескать, «ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь».
– Вроде приглашение какое-то, – ответила Варя, потупившись. – Я, правда, не вчитывалась, так, краем глаза…
– От кого? – нажал Спиридонов.
– От Ощепкова от какого-то, – вздохнув, ответила Варя, теперь заметно краснея. – Я сама из Пермского края, вот, знакомая, выходит, фамилия.
– Так, – Виктор Афанасьевич откинулся на спинку стула. – Ты доешь, а потом дай-ка мне эту открытку.
Но Варя уже, отложив ложку, вскочила и, опрометью выскочив в прихожую, вернулась с открытым письмом.
На открытке был изображен танк «Т-24», рядом с которым стройный танкист обнимал столь же стройную девушку в сарафане и красной косынке, чем-то напоминавшую Варю. Стоящая рядом белокурая девчушка в коротком алом платьице и сандаликах протягивала мужчине букет ромашек. Эта милитаристическая пастораль была несколько подпорчена размашистым штемпелем с надписью «Адресат выбыл, письмо перенаправлено по адресу…» со вписанным от руки красными чернилами новым адресом Спиридонова.
Полюбовавшись идиллической картинкой нового советского образца, Спиридонов перевернул открытку. Правая часть листа была заполнена аккуратным мелким почерком и содержала его прежний адрес и новый адрес Ощепкова. Адрес был ему незнаком, судя по всему – какая-то коммуналка на Страстной площади, но Спиридонов не помнил, чтобы там были какие-либо ведомственные общежития.
В левой части, озаглавленной «для письма», знакомым полуразборчивым почерком Ощепкова было написано:
«Дорогой друг!
Приглашаю тебя в гости по случаю радостного события в моей жизни – бракосочетания с моей дорогой Аннушкой! Наша регистрация состоится двадцать второго мая в Краснопресненском отделении регистрации актов гражданского состояния. Письмо отправляю заранее, потому что очень хочу, чтобы ты уделил минутку для того, чтобы порадоваться вместе со мной. С самыми лучшими пожеланиями – Вася».
Спиридонов посмурнел, и Варя это заметила:
– Что случилось, Виктор Афанасьевич? Плохие новости?
«Тебе-то какое дело?!» – с раздражением подумал Спиридонов, но вслух сказал другое:
– Отчего же? Наоборот, хорошие. Друг женится.
Виктор Афанасьевич смотрел Варе в глаза, и ему казалось, что он читает в них ее мысли: «Отчего же вы тогда расстроились?»
– Варя, – мягко сказал Виктор Афанасьевич, – спасибо за обед. Сегодня я пришел раньше, и вы можете быть свободны. Проведите этот вечер так, как считаете нужным. Должно быть, вы соскучились по общежитию, по подругам…
В ее глазах (Виктор Афанасьевич машинально отметил, что у нее длинные пушистые ресницы, лишь чуть темнее, чем брови, которые немного темнее ее русых волос) сочувствие сменилось испугом, причины которого были неясны.
– Нет… – тихо ответила Варя. – Не соскучилась. У меня нет… Я плохо схожусь с людьми. У меня нет там таких подруг.
– Жаль, – ответил ей Спиридонов. – Тогда сходите в кино или на танцы. В динамовском клубе сегодня танцы, там много будет молодых ребят. Переночуйте в общежитии, а затем возвращайтесь.
Ее глаза мягко блеснули.
– Виктор Афанасьевич, – сдавленно проговорила она, – за что вы так меня? Вы недовольны моей работой? Или вам стряпня моя не по нраву?
– С чего ты взяла? – Спиридонов опешил. – Даже наоборот, Варенька, мне все по душе, не сомневайся!
– Тогда зачем вы меня гоните? – тихонько воскликнула Варя. – Я так вам мешаю? Если вы хотите побыть один, только скажите, я закроюсь на кухне – ведь кухня-то вам не нужна? – и буду там сидеть тихо, как мышка в кошачьем подвале, правда-правда. Но я не хочу ни в кино, ни на танцы, ни в общежитие!
И Спиридонов понял, что Варя плачет. Слезы не катились у нее по щекам, лишь глаза поблескивали так, как никогда до того.
– Вас кто-то обидел? – участливо спросил он. – Если кто-то что-то сделал плохое вам, если в общежитии с вами дурно обращались, вы только скажите, и он будет иметь дело со мной…
– Нет-нет, что вы! – с горячностью воспротивилась Варя. – Никто меня не обидел. Просто…
Она встала и чуть отступила назад.
– Я же из беспризорниц, Виктор Афанасьевич. С пяти лет по монастырям, приютам, детдомам… Сначала ничего было, а потом, как советская власть стала на ноги… Физически легче стало, голод прекратился, уверенность появилась, что не придется опять куда-то мыкаться. А в душе только хуже. Я же в обычную школу ходила, и так горько – у всех детей есть семья, есть дом, а у меня…
Спиридонов хотел что-то сказать, но она не дала:
– А тут у меня впервые появилось что-то вроде своего дома, понимаете? Конечно, никакой он не мой, я это умом понимаю… а вот чувствую другое. И никуда идти не хочу…
Она сделала шаг вперед, еще один и внезапно опустилась на колени у стула, на котором сидел Спиридонов, схватила и сжала его ладонь:
– Не гоните меня, пожалуйста. Не лишайте этого… этой… слово такое мудреное, чем фокусник в цирке занимается?
– Иллюзии? – спросил ошарашенный Спиридонов. В этот миг Варя показалась ему еще более знакомой, какой-то родной, близкой… Он почувствовал странную, тягучую боль в сердце.
– Ага, вот ее как раз, – быстро кивнула Варя, глядя на него большими, блестящими от слез глазами.
Спиридонов встал, осторожно взял ее за плечи и поставил на ноги:
– Ну что вы, Варенька… раз такое-то дело, конечно, оставайтесь. Но я все-таки настоятельно советую вам как-то выбираться и в кино, и на танцы. Не беспокойтесь раз уж вы считаете эту квартиру своим домом, никуда он от вас не убежит, не сомневайтесь.
– Правда? – спросила она совсем по-детски и шмыгнула.
– Варя, у вас и ключ от него есть, – улыбнулся Спиридонов. – Вы его на шее носите заместо крестика. Вот, а значит, вы можете всегда и выйти, и войти. И остаться.
– Виктор Афанасьевич, я… – быстро начала она – и примолкла, вновь лишь слегка покраснев. – Так я останусь?
– Да оставайтесь, говорю же, – усмехнулся Спиридонов. – Только уж не запирайтесь в кухне совсем. Надеюсь, если мне чаю захочется, вы мне воду на примусе разогреете?
Тут уж Варя покраснела от души:
– Да я… да что угодно…
– Ну, а раз что угодно, то давайте прямо сейчас и почаевничаем. Или лучше сделайте мне кофе, а? Есть у нас кофе-то?
– Да еще фунта полтора, – просияв, торопливо отчиталась Варя. – Я сейчас, мигом…
И метнулась из комнаты в кухню.
* * *
Варя улетела разжигать примус, а Спиридонов остался сидеть, полон глубоких дум.
Свадьба Ощепкова назначена на следующий вторник. Но хочет ли он присутствовать на этом празднике? Может быть, проигнорировать пригласительную открытку, сделать вид, что ему ее не доставили?..
Ощепков… Ощепков…
Как-то не все нравилось Спиридонову в делах, связанных у него с коллегой и протеже.
Ощепков проявлял себя весьма активно: преподавал в Институте физкультуры, готовил для РКК инструкторов по рукопашному бою и разрабатывал для них методическую брошюру…
Собственно, с методички все и началось. Не имея возможности встретиться с ним, Василий Сергеевич передал Спиридонову методичку с нарочным, одним из своих учеников, звали его вроде Толей, фамилию Спиридонов забыл. Методичку он прочитал… точнее, начал читать, но после первых же вводных страниц не выдержал, достал авторучку и стал красными чернилами черкать в брошюрке, записывая на полях замечания. Ему не нравилось все.
Через кого-то из своих учеников Спиридонов отослал методичку обратно. Спустя некоторое время они с Ощепковым встретились на межведомственных состязаниях, где спиридоновцы, конечно же, победили со счетом четыре-один. Но Ощепков казался довольным:
– Ну что, – подходя к нему и протягивая для приветствия руку, проговорил он, – видишь, работает моя методика!
– Во-первых, не особенно она и работает… – сдержанно уронил Спиридонов, пожимая протянутую ему ладонь. И как раз в этот момент его ученик уложил ощепковца на татами, но Спиридонов был зол – тот самый ощепковец… Харлампиев, вот как его фамилия, перед тем уверенно справился с одним из его учеников, Яшей Громовым. По злой иронии судьбы, брат Яши, Ванька, как раз и отнес Ощепкову злосчастную методичку, а так как Ванька и Яша, хоть и были погодками, похожи были, как двойняшки, Спиридонов – возможно, совершенно безосновательно – подозревал, что Ощепков неспроста выставил лучшего своего ученика против Яшки (Ванька в соревнованиях не участвовал, ибо его забрал к себе в ведомство Власик). – А во-вторых… – Спиридонов потер переносицу. – Вася, ты и правда считаешь, что красноармейцам надо давать знания в таком объеме?
– Конечно, – уверенно ответил Ощепков. – Послушай, наши уже бьются с японцами[36], а впереди, может, и большая война. Япония давно облизывается на Маньчжурию, потому…
– Вася, к чему эта политинформация? – остановил его Спиридонов.
– Витя, у японцев в армии полно солдат, знающих дзюудо, а дзюудзюцу входит в программу подготовки каждого японского пехотинца![37] – с жаром не соглашался Ощепков.
– И что же, они каждого солдата готовят, как в Кодокане? – хитро прищурившись, процедил Спиридонов.
– Нет, – честно признал Ощепков. – Точнее, не знаю я… Но думаю, что рядовой состав проходит по сокращенной программе…
– Вот и ты давай сокращенную программу! – сорвался Спиридонов. – Бойцам, кроме рукопашного боя, есть чему учиться – из винтовки стрелять, окопы рыть, с танкосамоходами бороться…
– Да, – заулыбался Ощепков. – Вот и я о том! Слушай, вот что я придумал – чтобы не забивать обучение солдата полным курсом рукопашного боя, надо его готовить еще тогда, когда он призывник!
Спиридонов опешил:
– Когда-когда?..
– Чем раньше, тем лучше, – довольный тем, что он придумал, ответил Ощепков. – В идеале еще с пионэрии.
Спиридонов потер гладко выбритый подбородок:
– Ты в себе, Вася?.. По улицам иногда ходишь? Шпану московскую видел? Это им ты дзюудо хочешь дать?
– Да я и сам-то шпана, – улыбаясь, напомнил Ощепков. – И, если бы не дзюудо, кем бы я был?
«Оно и видно», – подумал Спиридонов, но вслух ничего не сказал. Не нашелся. И не успел – к ним подошли внезапно нагрянувшие армейцы во главе с маршалом Буденным. Стало не до споров о роли дзюудо в воспитании молодого поколения…
Глава 8 Хлеб, соль и вино
В ту ночь Виктор Афанасьевич спал тревожно. Может быть, ночная гроза, случившаяся после жаркого весеннего дня, и напоенный электричеством влажный воздух не способствовали безмятежному сну, кто знает? Проснулся Виктор Афанасьевич от ощущения прохладного прикосновения ко лбу и не сразу сообразил, что происходит. Оказывается, это Варя, легонько присев сбоку к нему на постель, коснулась его горячего, покрытого испариной лба холодной ладошкой.
– Кажись, у вас жар, – в беспокойстве прошептала она в сумраке подступающего рассвета. – Вам бы температуру смерить…
– Вот еще, – недовольным и хриплым со сна голосом пробурчал Спиридонов, моргая и протирая глаза, – да у меня и градусника-то нет. А ты как здесь?
– Из коридора услышала, как вы вскрикнули, – виновато ответила Варя, и он почувствовал смущение в ее голосе. – У вас и вправду жар, может, сбегаю в лазарет? Я мигом…
– Чай, не сыпняк и не чахотка, – отмахнулся от ее предложения Спиридонов. – А вот чайку горяченького я бы выпил. – Раскинув в стороны руки, он потянулся. – Не сообразишь?
– Конечно, сейчас… – оживилась Варя. Она встала, и Спиридонов заметил в неясной мгле, что она в давешней ночной сорочке, лишь плечи укутаны в серый истертый платок, сейчас он был на ее плечах просто темным. А еще, пока она говорила в тесной близости от него, он заметил, что Варя дрожит.
– Стой! – остановил он ее, и Варя, уже в дверях, замерла. – Ты сама-то здорова?
– Да здорова, здорова я, – сконфуженно зачастила она. – А то, что дрожь берет, так это от страха. С детства боюсь темноты и ночной грозы. Только вы уж не сказывайте никому, засмеют…
– Эх ты!.. – со вздохом проворчал Спиридонов, откидывая одеяло и вставая с кровати, Варя на этот момент отвернулась. – Нашла чего бояться, трусишка! Пошли тогда уж вместе чай-то готовить…
И они вдвоем ступили в темный коридор, а оттуда прошли на полутемную кухню. Пока он искал на стене выключатель (Спиридонов так редко заходил в кухню, что успевал забыть, с какой он стороны от двери), Варя успела запустить примус и уже набирала в чайник воды.
– Как же ты ночью в коридор-то выходишь? – спросил Спиридонов, когда чайник был поставлен на примус. – Там же и днем-то темно.
– Как-как… вот так… – негромко ответила Варя и замолчала, не договорив.
– Так, может, тебе и правда в общежитии своем ночевать? – простодушно спросил Спиридонов. – Там свет горит круглосуточно.
– Виктор Афанасьевич, – откликнулась Варя с тоской, – что ж вы меня от себя все экивоками гоните, будто мне без вас где-то лучше будет? Коли я вам мешаю тут по ночам, то я уйду, не сомневайтесь… Но так тогда и скажите: хочу-де ночевать один, придешь утром готовить и убираться.
– Ну ты так круто-то не бери… – дружески возразил ей Спиридонов. – И давай условимся: никуда я тебя не гоню. Но все-таки я никак в толк не возьму, отчего ты так не хочешь привыкать к общежитию? Там, как ни крути, веселее! Обижают тебя там, что ли? Если да, только скажи…
– Да кто ж меня там обидит? – наконец-то улыбнулась Варя. – Все знают, у кого я горничной… простите, помощником. В общежитии каждый чих далеко разносится.
– Вот как… – задумчиво протянул Спиридонов.
Варя, стоя в круге света у стола с примусом, обернула к нему лицо:
– Виктор Афанасьевич, – тихо проговорила она, и в чертах ее проступила мольба. Свет от лампочки падал на нее так, что плечи, укрытые стареньким серым платком, смотрелись как сложенные крылья нездешней птицы с шелковым поблескивающим оперением. Он даже на секунду залюбовался этим внезапным видением. – Вы уж меня простите, – говорила дальше Варя, и он помотал головой, освобождаясь от наваждения, – но мне бы дзюудзюуцуу вашему обучиться…
Название борьбы Варя произнесла неверно, но вмиг посуровел Спиридонов не от того. А Варя торопливо продолжила:
– У нас об этом каждый мальчишка мечтает! На тех, кто с вами-то занимается, смотрят ровно как на богов каких… Да набор у вас ограничен, а лишь киньте клич – все запишутся, и парни, и девчата. Я хоть и девчонка, а и то хочу… очень!
– Занятия самообороной – дело не женское, – сухо произнес Спиридонов. – Да и здорового мужика заломить силенок у вас не хватит, а станете болевой прием проводить – только разозлите его. Лучшая защита для женщины – это мужчина.
– Да где ж его взять-то, того мужчину, – вздохнула Варя, пошевелив плечами-крыльями, отчего они тут же превратились в щуплые косточки беззащитной девчонки.
– Хороших парней, Варюшка, полно, – с назидательной уверенностью ответил ей Спиридонов. – С вашими-то… данными… на мужское невнимание грех жаловаться. Да и, если что, у вас я есть.
Варя зацепила Спиридонова долгим взглядом и быстро-быстро сказала:
– Да кабы вы всегда были, на кой ляд мне какой-то еще мужчина б сдался?
И отвернулась к примусу.
А Спиридонов поймал себя на странной какой-то растерянности, охватившей его. Что это она, о чем?
В чувство его привел холод в ступнях, и Спиридонов понял, что стоит босым на ледяном плиточном полу.
– Варюш, – вкрадчиво попросил он, – вы бы тапочки, что ли, надели, не ровен час – так и застудиться недолго…
Варя сняла закипающий чайник с примуса и послушно отошла в коридор обуть комнатные чувяки.
* * *
Они пили чай с рафинадом, и Виктор Афанасьевич рассказывал Варе о чаепитиях у Дзержинского. Варя слушала, едва не разинув рот. Для нее это было чудом, ведь Спиридонов был знаком с настоящими небожителями – Дзержинским, Егоровым, Ворошиловым, Буденным (про цирковую историю Виктор Афанасьевич, сам не заметив как, тоже ей рассказал).
– А Сталина вы знаете? – спросила она с горящим взором.
Виктор Афанасьевич врать не стал:
– Нет, не довелось. С Орджоникидзе виделись, с Калининым несколько раз, с Молотовым… а с Кобой не довелось.
Спиридонов самую малость лукавил: сам со Сталиным он не встречался, но его охраной командовал один из первых его учеников. Власик. Он же впечатлил некогда в цирке Буденного, лихо разбросав троих атакующих его крупных первогодков из бывших краснофлотцев. Сталин потом несколько раз звонил Спиридонову по конкретным вопросам. Его разговор был лаконичен, только по делу, и Виктору Афанасьевичу это скорее импонировало.
– А Троцкого? – едва не заговорщическим шепотом спросила Варя. Спиридонов покачал головой. Ни с Троцким, ни с Зиновьевым, ни с Каменевым он не был знаком, как, впрочем, и с Лениным. Ленина он видел, только когда его хоронили (и, кстати, один из звонков Сталина касался охраны Мавзолея вождя).
– Да вы же… вы… – восхищенно и с придыханием роняла при каждом имени Варя, затрудняясь выразить словами свое благоговение. – Хотите еще чаю? – с неожиданным вдохновением вопросила она, и за этим вопросом Спиридонов уловил так взбудоражившую ее сумятицу чувств.
– Не откажусь, – с удовольствием кивнул он и улыбнулся ей, дивясь между тем, сколь это, оказывается, умиротворяющее занятие – вот так чаевничать с милой девушкой, которая не стесняется быть с ним искренней и открытой. – Вот что, Варюшка, вы сегодня купите что-нибудь в булочной. – Он был с ней то на «ты», то на «вы». «Ты» срывалось у него при разговоре о чем-то личном, а «вы» он предпочитал, когда просил ее о чем-то в круге ее официальных обязанностей. – Баранки еще продают?
– Продают, куда ж они денутся… – ответно разулыбалась Варя. – Пока Москва стоит, будут и баранки…
Она вдруг погрустнела, и это не укрылось от Спиридонова. Но спросить отчего, он не успел: Варя сама ему о том поведала.
– Вот вы рассказывали тут, как чай у Дзержинского пили вприглядку, – начала она. – А я вспомнила, как в голодное-то время чай мы пили… из лебеды… Чай, правда, одно название, сладко-горькая такая водица… допьешь и сидишь, травку жуешь, она малость сладкая делается, если зажевать хорошо. А хлеб мы пекли из коры, желудей да очистков картофельных…
– Ты не из Поволжья? – спросил Спиридонов. Сам он голода почти никогда не чувствовал, даже после усиленных тренировок. Странный феномен, но не уникальный – Ощепков раз говорил, что у него ровно то же.
Вспомнив Ощепкова, Спиридонов опять помрачнел, но Варя сначала этого не заметила:
– Из Пермского края я, – уточнила она. – Да ведь в начале-то двадцатых голод по всей стране был, а кое-где и потом задержался. Да что там, в прошлом-позапрошлом году весь юг голодал – все то же Поволжье, Степь, Южная Сибирь, Новороссия с Малороссией. Жуть какой недород был, даже здесь многие с голоду пухли, а уж на юге-то народ мер как мухи.
Спиридонов отстраненно кивнул.
А Варя все рассуждала:
– Это все троцкисты с их коллективизацией! Вот правда, заставь дурака Богу молиться – вся морда в крови. Хорошо хоть наш товарищ Сталин хвост им прищемил.
Спиридонов опять уныло кивнул, и Варя наконец заметила его уныние:
– Что это вы, Виктор Афанасьевич, загрустили? Куплю я вам баранок, самых лучших, с маком или с сезамом, как больше любите?
– С маком, – машинально ответил Спиридонов. Новомодную выпечку с семенами сезама, ранее известного москвичам только по сказке про Аладдина, он не любил, а баранки с маком пахли его вятским детством и вкус имели его же. Затем, спохватившись, добавил: – Что вы, Варенька, я не загрустил, просто задумался.
– Страсть как знать охота, о чем, – вздохнула она.
И Спиридонов не счел нужным таиться:
– Во вторник друг на свадьбу вот пригласил, а что подарить – ума не приложу…
– Вот еще загвоздка, – улыбнулась Варя. Зубы у нее были мелкие и остренькие, но улыбка милая. – Вся-то и недолга: купите в мосхозторге комплект постельного белья с одеялом. Если не жалко, еще и пару подушек, с пером. Всем подаркам подарок – постели в каждом хозяйстве сгодятся. Говорю вам как женщина.
Спиридонов задумался:
– А ты уверена?
– Честное комсомольское! – ответила Варя, словно под козырек взяла.
Спиридонов с непонятным ему умилением опять улыбнулся:
– Эк, намешала грешное с праведным. Ну что ж, послушаю твоего совета.
– Хотите, я сама вам куплю? – не скрывая радости, вызвалась Варя.
Спиридонов пожал плечами. Почему бы и нет?
* * *
Отменив часть занятий, во вторник, как было означено, Спиридонов пришел по указанному в открытке адресу точно в назначенное время. Он попал в коммуналку в бывшем доходном доме, вроде того, в каком некогда жил он сам. Точнее, этот дом был побогаче, и квартиры в нем были побольше, что советская власть полностью нивелировала, превратив их в коммунальные, а самые большие комнаты разделив глинобитными стеночками. Рустованный первый этаж, белые колонны, обрамлявшие ряды балконов, кованая решетка в подворотне – все говорило о том, что в этом доме квартировали люди небедные – штабс-офицеры, купцы и чиновники. Теперь, конечно, контингент был другой, о чем явственно свидетельствовало, например, состояние подворотни, доведенной здешним деклассированным элементом до состояния, сравнимого с конюшней заштатного полка.
Комната Ощепкова, видимо, некогда была гостиной. Когда Спиридонов входил, четверо молодцов во главе с женихом, одетым в простые брюки с подтяжками и белую рубаху, выволакивали из нее здоровенный гардероб, вероятно, времен Александра III. Спиридонов, обрадованный тем, что гости потихоньку уже собираются, быстро поздоровался и включился в работу. Помощниками Ощепкова оказались знакомый Спиридонову Анатолий Харлампиев, молодой Николай Галковский, помощник Ощепкова по институту, с которым Спиридонов был также знаком, и мужчина возраста Спиридонова, представившийся ему как товарищ Щеголев. Четвертым был молодой крепыш по фамилии Волков – они с Харлампиевым вдвоем удерживали одну часть гардероба, тогда как другую Ощепков, Спиридонов, Галковский и Щеголев понесли вчетвером. Пока тащили шкаф, подошли еще два ученика Ощепкова, молодые парни, армянин Сагателян и рыжеватый русский с простой фамилией Сидоров. С их помощью гардероб водрузили вдоль стены в коридоре довольно быстро.
– Крепкая у нас молодежь, а? – полувопросил, полувосхитился Ощепков, обнимая Виктора Афанасьевича, когда незнакомые пока Спиридонову соучастники водружения гардероба были представлены. – Давненько не видел тебя и очень рад! Отчего не заходишь?
– Дел прорва, – почти не соврал Спиридонов, попытавшись вручить Ощепкову аккуратно запакованный крупный пакет с комплектом белья, одеялом и двумя подушками. – Ну, как говорится, совет да любовь…
– Погоди, подарок потом, давай я тебя с женой и дочерью познакомлю, что ли, – широко улыбался Ощепков, словно никакой размолвки между ними и не было. – Потом посидим, выпьем. Знаю, что ты не любитель, но ведь и свадьба не каждый день, правда?
Они прошли в комнату – для гостиной в прежние годы она подходила, но сейчас в ней размещалась квартира, так что пространства не казалось много. Спиридонова поразило обилие книг, причем большинство из них было о боевых искусствах. Книги были везде – в многочисленных стеллажного вида полках вдоль одной стены, на двух кроватях, стоявших в разных концах комнаты, на широком подоконнике и на полу. Виктор Афанасьевич не был бы удивлен, узнай он, что и в вынесенном гардеробе тоже упрятаны книги.
Ощепков тем временем, весь светясь, познакомил Спиридонова с, как он выразился, своими девочками:
– Это моя Аннушка, Анна Ивановна, – представил он высокую немолодую женщину с хорошей осанкой и аристократическими чертами лица, приобнимая ее.
– А это наша дочь Дина, – добавил он, погладив по головке девочку с немного восточной внешностью, но при этом похожую на Анну Ивановну. Девочка была, как говорили в то время, «пионэрского возраста» (в дореволюционных понятиях это называлось «отроковица»).
Представленные особы слегка поклонились ему, чуть старомодно. Спиридонов, в свою очередь, почтительно наклонился к руке Анны Ивановны, чем несколько ее удивил.
– Мы еще кого-то ждем, Вася? – спросила Анна Ивановна. – Или можно накрывать стол?
– Можно, моя радость, – ответил Ощепков, а Спиридонов, ощутив почему-то некое неприятное чувство, отвлекся на книги. Одна из тех, на которые упал его взгляд, была на французском и посвящена была некой «древнеегипетской» борьбе. Спиридонов в существовании подобной борьбы сомневался, но книжку не упустил пролистать: оказалось, древние египтяне неплохо знали дзюудзюцу и английский бокс.
– Вот, брат, разбираюсь, – прокомментировал Ощепков, подойдя сзади. – На японском и английском я и так читать умел, немецкий выучил, конечно, только как читатель. Сейчас штудирую французский.
– Чтобы читать, как допотопные египтяне соединили в одной упряжке английский бокс и дзюудзюцу? – съязвил Спиридонов.
Ощепков счел иронию за шутку и рассмеялся:
– Ага. В этой книге как раз это самое ценное. Мы с ребятами делаем синтетическую[38] систему борьбы, вроде как у тебя. Вот и смотрим, как далеко другие продвинулись в таком направлении.
Спиридонов с раздражением понял, что считает подобный подход правильным. Он и сам занимался чем-то вроде, но не по книгам – среди его учеников были и те, кто до революции учился по системам Лебедева и Солоневича, и те, кто обучался боевым приемам у союзников по Антанте или даже у противников, и борцы со всех концов СССР, обогатившие самоз приемами различных видов национальных единоборств: татарской кереш, армянской кох, азербайджанской гюлеш, да и взявшие что-то от старорусских – на ремнях, на поясах… Виктор Афанасьевич скрепя сердце одобрил подход Ощепкова и похвалил его учеников. Василий Сергеевич не скрывал несказанного своего удовольствия. А там и Анна Ивановна пригласила всех садиться за стол.
На столе вызывающих разносолов не было – цены на продукты кусались, однако нельзя сказать, чтобы угощение было скудным. На закуску были из домашних заготовок огурчики, помидоры, что-то армянское, принесенное Сагателяном, кильки в томате, сельдь иваси, нарезанная по-дореволюционному, с чешуей, сыр и гвоздь программы – колбасное ассорти из докторской, ливерной и ветчинно-рубленой, сервированное не хуже, чем до революции на дворянском банкете. Из основных блюд были печеная курочка, довольно крупная, студень, к которому Виктор Афанасьевич не прикоснулся – он и до революции его не любил, зато остальные уплетали за обе щеки, и отварной картофель с укропом и маслом. Откровенно говоря, готовила Анна Ивановна (с помощью Диночки, не преминул отметить Ощепков; было видно, что в приемном ребенке он души не чает) отменно, хоть, по мнению Спиридонова, не так вдохновенно, как Варя.
Пили московскую водку – все, за исключением Анны Ивановны, которая пила какое-то вино, также принесенное Сагателяном, и Диночки, которая налегала на компот. Спиридонов в тот вечер все-таки выпил, не так много, но от выпитого настроение его заметно ухудшилось. Тем более что в комнате не курили, так что Спиридонову под непонимающие взгляды ощепковских учеников – а как же дыхательные упражнения? – приходилось то и дело выскакивать в темный коридор коммуналки, чтобы посмалить там.
После поздравлений и вручений подарков (спиридоновский оказался самым богатым и оцененным по достоинству, во всяком случае молодой женой) застольные беседы ожидаемо сползли к боевым искусствам вообще и дзюудо в частности. Мнение Спиридонова молодежь выслушивала с нескрываемым благоговением, но это Спиридонова утешало мало – слишком часто всплывала тема массовой подготовки и ненавистного Спиридонову ГТО. Когда раздражение грозило выплеснуться через край, он просто выходил на очередной перекур (тем более что как человек малопьющий он старался не захмелеть).
Сидя в полутьме на деревянной скамье у сосланного сюда, в коридор, гардероба (отсутствие лампочек в подобных местах случайностью не было, а было результатом концепции бережливости – разумеется, пролетарской), он думал о том, насколько все странно. В этом кругу его почитают за гуру. К его мнению прислушиваются больше, чем к мнению виновника торжества. А поди ж ты, все вокруг его тут раздражает. Почему?
Спиридонов и сразу-то, получив свадебное приглашение, не пришел от него в восторг. А сейчас, увидев своими глазами преуспевшего на личном фронте приятеля, усугубил свое раздражение. Ему казалось странным и неестественным, что его друг вот так запросто женится вновь, когда еще и пяти лет не прошло со смерти его прежней жены. Потеряв любимую, он не моргнув глазом обзавелся другой, а ведь как убивался! Спиридонов помнит его, каким он был в первые дни и месяцы после трагедии. А сейчас распинается перед Аннушкой, будто никакой Машеньки у него отродясь не бывало. А ведь он, Спиридонов, так отстаивал его интересы, боролся за него – отчасти, кстати, именно потому, что его впечатлила история любви мужчины к хрупкой, как зимняя роза, Машеньке!
Все это, на взгляд Спиридонова, изрядно попахивало лицемерием. Его не покидало досадное чувство, что его попросту за нос водили. Это было весьма неприятно, при том что сам Виктор Афанасьевич был красивым мужчиной в самом расцвете лет; ему женщины откровенно симпатизировали, а некоторые даже, в духе пролетарской честности, откровенно намекали на то, что были бы не прочь провести с ним промежуток времени от нескольких часов до всей оставшейся жизни, но Виктор Афанасьевич был с ними вежливо холоден – «холодный как лед», приходило ему на ум, как лед, который по весне продавали у Кузнецкого моста для домашних ледников.
Нет, в отношении физиологии Спиридонов был абсолютно здоров, да и как могло быть иначе? Он активно занимался борьбой и держал себя в прекрасной физической форме, вот только много курил. Организм его был вполне молод и, как ему и положено, реагировал на определенные вещи – например, близость Вареньки его ощутимо волновала, особенно с учетом появившейся у нее в последнее время тенденции представать перед ним, как выражались некогда, неглиже. Но он и думать не думал предать память Клавушки. Переступить через нее он не мог.
И потому осуждал Ощепкова. Осуждал он его, конечно, огульно, не зная всех деталей этой истории. Такое в заводе у человечества: мы торопимся выносить суждения, особенно обвинительные. Словно кто-то назначил нас быть прокурорами, словно мы право такое имеем. Но человек не знает и знать не может, что творится в душе другого, он и в своей-то подчас разобраться не в силах. Насколько же глупо притом осуждать других! Нелепо и глупо. Конечно, если речь об откровенном предательстве… Но даже и в этом случае категоричность – мера излишняя. А что касается других вещей… Не судите, да не судимы будете – а почему? А потому, что тот, кто судит, того судить будут в той же мере и той же меркой. И если ты не умеешь прощать – как сможешь просить о прощении? И если ты осудил кого-то за что-то – как будешь смотреться в зеркало, когда сделаешь то же самое, в чем ты его осудил?
* * *
Выходя очередной раз к гардеробу, Спиридонов случайно услышал диалог из кухни (она в этом доме была не в пример другим кухням в коммунальных квартирах большая) – разговор двух соседок, пожилых женщин. Обе были на ухо туговаты, отчего им казалось, что они секретничают, но их секреты были прекрасно слышны на другом конце коридора (тоже немаленького).
– Да и гадать тут нечего, – говорила одна, – он же босота, безродыш, даром что красный командир. И чем это он командовал, еще следует выяснить. Ему от Аньки только жилплощадь-то и нужна, зря, что ли, с прицепом он ее взял?
Спиридонов смекнул: сплетничают об Ощепкове. Какая еще другая «Анька с прицепом» могла быть в этой квартире? И Ощепков как сотрудник Главмобупра РККА как раз носил красноармейскую командирскую форму, по старому – штабс-офицера. Слова старухи разозлили Виктора Афанасьевича, несмотря на все его нелестные мысли в адрес Ощепкова. Он, едва не чеканя шаг, зашел на кухню, перепугав своим появлением сплетниц, и строго поставил обеим на вид: пусть уважаемые дамы примут к сведению – болтун-де находка для шпиона, а осуждать заслуженных людей почти граничит с предательством. Почетный значок ОГПУ (еще с пятеркой вместо десятки, что повышало его ценность в разы), который Спиридонов носил даже тогда, когда был, как он на старый манер выражался, в партикулярном платье[39], подействовал на старушек-подружек, которые еще на коронации последнего царя высматривали себе кавалеров, как ушат холодной воды. Залебезив, они поспешили ретироваться по своим комнатушкам, а Виктор Афанасьевич, исполнив долг, сел на лавку у стола, закопченного, как кочегарка броненосца «Князь Суворов» у Цусимы, закурил новую папиросу и задумался.
Там его и нашел новобрачный, вырвавшийся из-за праздничного стола, обеспокоившись долгим исчезновением старого друга.
– Все смалишь? – бухнулся Ощепков на лавку рядом со Спиридоновым. Он был слегка навеселе, но не пьян. – Черт, Витя, нам бы поговорить надо, да то я занят, то тебя на месте не застанешь…
– О чем поговорить? – хмуро осведомился Спиридонов.
– Что ты скажешь про наше новое начинание? – весело спросил Ощепков. – Система ГТО называется. В курсе, поди?
– Да кто ж не в курсе, – по-прежнему хмуро отвечал Спиридонов, подумав: «Тоже мне, система…» – Вся страна в курсе, от Москвы до самых до окраин…
– И как тебе? – хотел знать Ощепков. – По-моему, так здорово все выходит! То, о чем я мечтал, и поддержано на уровне Совнаркома! Массовая система физической подготовки для молодежи, в том числе по самообороне в одежде!
– Массовая? – недобро прищурился Спиридонов. – Насколько массовая?
– По всему Союзу! – гордо молвил Ощепков и повторил: – От Москвы до самых до окраин…
– И до самых последних подворотен, да? – жестко подхватил Спиридонов. – До Дорогомиловской станции[40] и Ермаковской ночлежки?[41]
– Ты чего? – не понял металла в голосе друга Ощепков. – Какая ночлежка, о чем ты?
– О том, – шумно вздохнул Спиридонов, – о чем я не раз говорил тебе. Сразу видно, что ты на бирже труда сроду не был. Смотри, как бы с вашей ГТО тебе потом не пришлось по вечерам жену с работы встречать, для безопасности.
Ощепков его понял по-своему. Даже самых умных людей алкоголь не делает более рассудительными, а уж такого обманщика, как зеленый змий, еще поди поищи. Должно быть, Василий Сергеевич решил, что Спиридонов намекает ему на то, что это он выбил ему в Москве теплое местечко. Неудивительно, если учесть недавний разговор двух подружек на кухне.
Когда народ теряет нравственные ориентиры, в нем начинают расцветать и плодиться самые низменные чувства. Кто-то из историков задал (совершенно по другому поводу) вопрос – откуда взялось три миллиона доносов. Три миллиона их было, больше ли, меньше, не важно, а важно то, что на этот вопрос есть ответ – из зависти.
Как и всякая страсть (имеется в виду страсть в старинном смысле этого слова, та, к которой применяли эпитет «греховная»), зависть глупа. Завидуют не только очень богатым людям, завидуют просто своим соседям, бомжи завидуют другим бомжам, у которых на помойке более обжитое место. Так что не стоит недооценивать зависть – благодаря ей произошло большинство чудовищных преступлений, переворотов и революций…
Завистливому человеку на самом деле хочется даже не иметь то, что имеет тот, кому он завидует. Иногда это просто невозможно, например, если завидуют чьему-то таланту или физической красоте. Завистнику подсознательно хочется, чтобы у другого тоже не было того, чего нет у него.
Неудивительно, что люди с чистым сердцем наиболее уязвимы от таких вот завистников. Вероятно, Василий Сергеевич с переездом в Москву вдоволь от них натерпелся и решил, что Спиридонов его попрекает тем, что он «выбился в люди». Если бы Ощепков не был слегка навеселе, возможно, он бы понял, что дело вовсе не в этом…
Но он не понял, а потому потупился и сказал:
– Вот как, значит… теперь ты меня биржей труда попрекать будешь? Не знал, что тебе моя благодарность так важна, но, если ты настаиваешь…
– Какая еще благодарность? – Спиридонов, в свою очередь и по тем же причинам, не уловил ход мыслей Ощепкова. – При чем здесь благодарность? Я пытаюсь втемяшить тебе – нельзя преподавать систему кому ни попадя! Что, у нас коммунизм уже наступил? Вокруг еще несознательного элемента столько…
– А с чего же ему быть сознательным, – тихо, но упрямо, спросил Ощепков, – если ему податься некуда? Вся дорога – от ночлежки до Каланчовки[42] с заходом в рюмочную. А мы ему даем альтернативу! Понимаешь? Сам же говорил – единоборства делают человека ответственнее и благороднее.
– Это если у него… – Виктор Афанасьевич хотел возразить, но не мог сформулировать мысль. – Это если есть с чем работать. А если душа давно в той же рюмочной в заклад заложена?
– Так ведь мы работаем не с контингентом ночлежек, – горячо возразил Ощепков. – Тех к нам калачом не заманишь. Мы работаем с молодежью! Пойми! Раньше им одна дорога была – на ту же биржу, а с помощью ГТО…
– Ага, – ёрнически усмехнулся Спиридонов, сминая в пальцах мундштук давным-давно докуренной папиросы. – Конечно, ГТО из шпанюка сделает сознательного гражданина!
– А вот и сделает! – с азартом воскликнул Ощепков, но тут же вновь стал привычно кротким и, заглянув в глаза Спиридонову, сделал свой мягкий выпад: – Ну и что плохого в том, что мы делаем подростков сильнее, выносливее, здоровее? Им же в армию потом идти! Так лучше, если…
– Лучше. – Спиридонов встал с лавки и похлопал Ощепкова по плечу. Его злость внезапно исчезла по причинам столь же непонятным, как появилась. – Может, и лучше… Говоришь, в Совнаркоме одобрили?
Ощепков кивнул.
– Ну, раз в Совнаркоме… – задумчиво уронил Спиридонов и, не закончив фразы, вздохнул: – Пойду я, брат. Что-то у меня голова разболелась, знаешь же, не люблю я водки.
– Зато смалишь, как пароход, – с тихой укоризной ответил Ощепков, глядя, как Спиридонов подкуривает в дверях кухни очередную папиросу. – Бросал бы ты это, только здоровье гробишь.
– Кому какое дело до моего здоровья? – огрызнулся Спиридонов, но через секунду смягчился: – Ты извини, брат, я правда пойду. Будь счастлив! Как говорится, совет да любовь.
– И тебе того же, – невпопад ввернул Ощепков, но, по счастью, Спиридонов не заметил его оплошности. Он старательно гнал от себя мысль, что ошибся в Ощепкове, однако мешало воодушевление того относительно ГТО и злорадная фраза, брошенная беззубой старухой своей столь же дряхлой товарке…
* * *
До дома Спиридонов решил пройти пешком по Большой Дмитровке. Он любил ночную Москву, но редко когда мог по ней прогуляться – свободного времени у него было категорически мало. Сейчас же он просто не мог отказать себе в удовольствии, да и была потребность выветрить алкоголь и охладить голову.
Но не успел он в приятном своем предвкушении начать путь, как из-за ограды темного Страстного парка наперерез ему вышли трое. Это были почти подростки, лет шестнадцати-восемнадцати. Спиридонов не сразу обратил на них внимание – мало ли кто по ночам гуляет? Но один из них окликнул его:
– Гражданин хороший, папиросочкой не угостите? А то так есть хочется, что и заночевать негде.
Товарищи балагура сдержанно загоготали.
Спиридонов тоже улыбнулся:
– Отчего же, угощу, – дружелюбно ответил он, доставая из галифе пачку «Люкса» и разглядывая парней. Одеты они были приблизительно одинаково – серые толстовки, серые парусиновые штаны (у одного с большой заплатой на бедре), серые дерюжные картузы. На ногах у двоих – стоптанные квадратные ботинки, помнящие, если судить по заношенности, штурмовые ночи Спасска и волочаевские дни, у заводилы – лаковые штиблеты, некогда щегольские, а ныне пришедшие в не лучшее здравие – левый откровенно просил каши, так что в дыре просматривались босые пальцы.
Зато Виктор Афанасьевич с удивлением заметил у него значок ГТО третьей степени. Пока он доставал папиросы, заводила что-то шепнул корешам.
Но Спиридонов услышал:
– «Московской» тянет, тепленький… и «Люкс» духачит, надо мочить лебедя.
Виктор Афанасьевич обучал эркаэмовцев едва не со времен основания этой почтенной организации, а в былые годы практиковался с учениками, разгоняя воровские малины, и смысл сказанного, и обстановку уловил мгновенно. Но как ни в чем не бывало поплотнее запахнулся в пиджак, скрывая значок ОГПУ.
– А нет ли у тебя, дядя, чего поосновательнее, вроде фантиков с портретом Ильича? – полез по нарастающей заводила. – А то ты, я вижу, отдохнул уже, а нас-то трое, и нам тоже бы отдохнуть…
Пока он все это лепил, двое его напарников обходили Спиридонова справа и слева. «Ровно волки на охоте», – подумалось Спиридонову. На слове «бы» подпевалы бросились вперед… и в следующее мгновение улеглись на брусчатке, качественно об нее приложившись. Поскольку Виктор Афанасьевич был не на татами, он не особенно заботился о сохранности бренных тел нападавших, а столкновение человеческой физиономии с брусчаткой вызывает характерные нарушения здоровья в виде разбитого лба, носа, губ…
Шпанюки приложились отменно, обильно обрызгав галифе Спиридонову кровушкой. Один совсем отключился, другой откатился на бок, стеная, и прикрыл руками лицо. По его пальцам струилась кровь.
– Ну вот, вымазали мне красивые новые синие галифе, – укоризненно проворчал Спиридонов, распахивая пиджак, под которым на кармане рубахи-френча взблеснул значок НКВД. – А еще нормы ГТО сдаешь.
– Да я тебя сейчас на ремни порежу, мусор! – взвизгнул заводила, как от ожога, и выхватил откуда-то выкидной нож, уже не называвшийся навахой, но еще не ставший финкой. Впрочем, порезать он успел только себе пальцы – Спиридонов точным приемом заломил ему руку назад.
– Ночь-то какая хорошая, – лирически проворковал он, удерживая в полусогнутом положении вооруженного ножом задиру. – Пойдем-ка пройдемся тут неподалеку…
– Куд… куд… кудку… тьфу… куда? – заикаясь, завыл урка.
– В отделение, куда ж еще. – Не выпуская задержанного, Виктор Афанасьевич двумя пальцами поднял с земли нож и сунул в карман пацану. – Это пока ты поноси, мне без надобности. Да не трусь ты. В отделении быстро разберутся, где тебе лучше будет постигать науку пролетарской сознательности – в Мордлаге или еще где…
– Дяденька, не губите!!! – на высоких октавах запричитал хулиган. – Я ж молодой совсем, мне на крытку попасть – это ж совсем пропасть…
– А вот об этом надо было раньше думать, – назидательно заключил Спиридонов. – Кстати, заодно и разберемся, откуда у тебя значок. Поскольку знак ГТО – советская символика, носить его кому ни попадя запрещено законом. Так что, если ты нормы не сдавал, то тут, брат, светит тебе что похуже, чем два-три года перевоспитания несознательного элемента.
– Сдавал, крест на пузе, сдавал! – истерически заблажил шпанюк. – Мамкой клянусь! У нас в клубе нормы принимают, все хотят значок получить! Со значком-то бабы на тебя лучше глядят! Вот только не больно просто сдать-то его, холера!.. Ну отпусти ты меня… Я больше не буду!!!
– Идем-идем, «больше не буду»… – почти ласково, словно родной батька сынка журит за незначительную провинность, проговорил Спиридонов. – Скоро выясним, на законных основаниях бабы на тебя лучше глядели или же нет…
Глава 9 Прикосновенье
1934
Остановив машину у гаража, Спиридонов пошел открывать гаражные ворота. На скрип петель вышел Михалыч, кутаясь в неизменную шинель – снимал он ее только тогда, когда наступало календарное лето.
– Виктор Афанасьевич, здравия желаю, – поздоровался он. Михалыч здоровался всякий раз, как видел Спиридонова, даром, что это могло быть три раза на дню.
– И тебе, Михалыч, не хворать, – ответил Спиридонов, садясь за руль. Он загнал машину в гараж, вышел из нее и привычно передал ключи завгару. – Будет время, загляни под капот моему коню. Что-то постукивает, а что – ума не приложу.
– Да, верно, палец, – тоном знатока отозвался Михалыч. – Гляну, конечно. Штука неприятная, не ровен час, клин поймать. А вы откуда так рано?
– С кладбища, – невесело отвечал Спиридонов.
– Что, опять? Вы ж в том еще году все уладили…
– Да нет, я с Красной площади, – усмехнувшись, уточнил Спиридонов. – Ты ж газеты читаешь, не знал, что ли, что сегодня Менжинского хоронили?
Со дня свадьбы Ощепкова прошел год. За это время Виктор Афанасьевич ни разу его не видел, но слышал о нем постоянно. Ощепков развил бурную деятельность: кроме работы в ЦСКА и Институте физического воспитания он еще курировал спортивное общество «Авиахим». Ощепков рос, но нельзя сказать, что Спиридонов при том умалялся.
Просто у Виктора Афанасьевича год выдался действительно тяжелым, и Михалыч знал почему. Собственно, он-то невзначай и сообщил Спиридонову, что Дорогомиловские кладбища – еврейское и купеческое – власти Москвы решили снести, а кладбищенское место застроить. У Спиридонова все внутри оборвалось – застроить место, где нашли покой его родители, тесть с тещей и, самое главное, Клавушка?
Он бросился в горисполком, чтобы решить вопрос перезахоронения, но наткнулся на уйму препятствий. Во-первых, пробиться к нужному начальнику было очень сложно – тысячи граждан ежедневно «висели на аппарате», осаждая чиновников своими проблемами. Когда же Спиридонов все же пробился, выяснилось, что «перед советскими законами все граждане равны, и вопрос об эксгумации и перезахоронении будет решаться общим порядком».
Что означало «общим порядком» в Советской России, обросшей Аппаратом, как старый осокорь омелой? Это значило, что «вопрос должен пройти все инстанции согласования». И все бы ничего, но снос кладбищ, в отличие от куда менее физически трудоемкого вопроса согласования, шел с завидным опережением сроков…
Ситуация осложнялась нежеланием Спиридонова обращаться за помощью к своему вышестоящему начальству. Он вполне мог заручиться поддержкой того же Ягоды или Власика, не говоря уж о Сашке Егорове, который окончательно перебрался в Москву, поскольку начальник штаба РККА, которым его назначили не так давно, не может сидеть в Белорусском военном округе. Но Виктор Афанасьевич был щепетилен и полагал, что не имеет никакого права отвлекать этих людей своими личными нуждами. А должность самого Спиридонова на московское городское начальство впечатления не производила, как и значок отличника ВЧК – ОГПУ. Мало ли отличников? Много в столице таких же значков. Вот был бы он главным майором госбезопасности, тогда бы и поговорили. А так у нас в очереди люди и поважнее стоят, даже делегаты съезда. Вы, товарищ Семенов… простите, Спиридонов, не делегат? Так становитесь в очередь!
Виктор Афанасьевич проваландался все лето и половину осени, тщетно обивая пороги и ругая, когда тихо, а когда в голос, родную бюрократию. Он, непобедимый на ринге, был против них абсолютно бессилен – не применять же болевой захват против женщины, дающей ему отпор на канцелярском плацдарме?
Наконец в один из дождливых октябрьских дней дело сдвинулось с мертвой точки, причем неожиданно. Виктору Афанасьевичу позвонили домой (персональный телефон ему провели по личному распоряжению Ягоды) и сообщили, что, если он желает перезахоронить своих родственников, ему могут выделить один участок на Ваганьковском кладбище. На вопрос, как можно перенести пять захоронений в одну могилу, ему резонно ответили, что в наше время и не такое возможно, в одной могиле могут покоиться два десятка человек. Если по коммуналкам ютятся живые, то мертвым с их запросами и подавно легко потесниться, особенно если Совнарком так велел. И вообще, ему для этого выделят бригаду опытных могильщиков, так с какой стати ему быть недовольным?
Спиридонов спорить не стал и выходные провел меж двух кладбищ, наблюдая процесс перезахоронения. Откровенно говоря, он чувствовал нечто, чему не мог подобрать названия – не страх, скорее какое-то оцепенение. Он боялся увидеть останки дорогих ему людей, как говорится в одном из православных канонов, в виде бесславном и безобразном. Но обошлось. Гробы до революции умели делать на совесть, так что и двадцатилетнее пребывание в земле им не особенно повредило. Хотя все равно – при виде Клавушкиного гроба, который он сам когда-то бережно опустил в мерзлую землю, Спиридонова стала бить крупная дрожь. У него возникло желание приоткрыть лишь слегка покосившуюся крышку и посмотреть… Еще раз увидеть незабвенные, любимые черты. Умом он понимал, что черты эти не сохранились до настоящего дня, обратившись в прах, но сердце сжималось и ныло, пока гроб не опустили рядом с родительскими гробами в кузов обращенного в катафалк старенького «АМО». Могила на Ваганьковском уже была вырыта. Гробы пришлось ставить в три яруса, Клавушкин оказался на самом верху. И вновь Спиридонов бросал землю на его крышку, и вновь договаривался об установке памятника – старые надгробия пришлось оставить на Дорогомиловском, откуда их, дабы прекрасный мрамор и доломит не пропадали зря, брали на облицовку набережной Москвы-реки.
В тот вечер Спиридонов пришел домой поздно, и Варя сразу же поняла, что с ним творится что-то неладное. Его бил озноб, начался жар. Варя вызвала врача. Тот осмотрел Спиридонова, покачал головой и сказал, что нужна госпитализация.
В больницу Виктор Афанасьевич, несмотря на все ухудшающееся самочувствие, ехать наотрез отказался, и врач, разведя руками, дал Варе инструкции и ушел. Варя умчалась в аптеку, а Спиридонов, чувствуя себя все хуже, позвонил дежурному по обществу «Динамо» и дал распоряжения на случай своего продолжительного отсутствия. «Или смерти», – добавил он про себя.
Когда Варя вернулась, Спиридонов попытался отправить ее в общежитие, аргументируя свою настойчивость тем, что он мог на кладбище подхватить какую-нибудь инфекцию, ведь там и тифозных хоронили, и туберкулезных, и каких угодно. Ехать в общежитие Варя снова не захотела, а Виктора Афанасьевича спор окончательно ослабил, и он, махнув рукой, рухнул на диван и отвернулся к стенке.
Варя же, сноровисто сшив себе ватно-марлевую повязку, принялась его обихаживать. На следующее утро отсутствие Спиридонова на рабочем месте и его ночные инструкции вызвали в «Динамо» изрядную панику. К Виктору Афанасьевичу на квартиру нагрянул целый консилиум, а к дому подогнали новенький «ЗИС-5» с подвижной инфекционной лабораторией в кузове.
Однако после тщательного обследования впавшего в полубессознательное состояние Спиридонова (со взятием проб крови и горловой мокроты) следов инфекции обнаружено не было, и консилиум пришел к выводу, что сразившая его загадочная болезнь – отголосок перенесенной контузии и нервного напряжения последних недель. Ему назначили консервативное лечение, а Варе, к ее вящей радости, предписали не только не покидать больного, но и находиться при нем неотлучно.
Вплоть до самых Октябрьских праздников Виктор Афанасьевич был настолько слаб, что нуждался в помощи даже для естественного обихода, и Варя неизменно была рядом. И только когда по Красной площади, сияя кумачом и портретами членов Политбюро, шла праздничная демонстрация, Виктор Афанасьевич впервые смог подняться с дивана и с Вариной помощью доплестись до санузла. До Нового года он был все еще слаб, но Варя всеми силами старалась поставить его на ноги.
За несколько дней до праздника Виктор Афанасьевич, казалось, почувствовал себя лучше, добрался до эркера и, открыв настежь окно, закурил. Варя выругала его за «такую неумную выходку»: курить-де, если уж такая нужда, можно и в постели, а в эркере холодно и сквозняк – еще, мол, простудитесь. И как в воду глядела – едва она отлучилась, чтобы купить к празднику елку (традиция наряжать елку к Новому году вернулась в Москву, и Варя, втайне от Виктора Афанасьевича, решила купить появившиеся в магазинах потребкооперации алые елочные шары с кремлевскими башнями, членами Политбюро, самолетами, танками и так далее), как, вернувшись, застала Спиридонова с жаром и усилившимся кашлем. Елку они все-таки нарядили, Спиридонов упрямо отказывался возвращаться в постель, но хитрая Варя сторговала за эту помощь то, что она напоит его лечебным чаем и сделает ему на спину водочный компресс. Водки в доме не было, зато было полбутылки армянского коньяка, вторая половина пошла в чай. Вероятно, благородный напиток оказался не столь действенным для лечебных целей, нежели родная сивуха, – на следующий день Спиридонова буквально сгибало пополам от надрывного, лающего кашля. Пришедший врач констатировал воспаление легких, судя по всему, ураганно распространяющееся. От госпитализации Спиридонов вновь отказался, и Варя опять приняла на себя роль патронажной сестры при нем.
Время от времени Спиридонов в жару вспоминал Акэбоно. Возможно, Варины прикосновения чем-то напоминали ему ее. Тогда больной начинал бредить, притом по-французски.
Ни одна жалоба ни разу не сорвалась с ее губ. Наоборот, было видно, что ухаживать за этим строптивым упрямцем доставляет ей неподдельное удовольствие. Она даже несколько расцвела, и Спиридонов в полубреду похвалил ее. От комплимента Варя зарделась, как обычно бывало, когда он не скупился на доброе слово в ее адрес. А это происходило все чаще, ибо Спиридонов видел ее усилия и не мог не оценить девичьего стоицизма.
Видел – и в глубине души не понимал зачем. Зачем она это делает? Кто он ей? Обслуживающий персонал? Персональный наблюдатель? Он не мог сбросить со счетов и такой вариант… Конечно, можно предположить, что у нее к нему какие-то чувства, вон как она похорошела, пока ухаживает за ним, немощным и болезным, разрази ее гром, эту болезнь… Но он вдвое старше ее, его жизнь клонится к вечеру, а у нее только-только наступает рассвет. Какие могут быть соприкосновения у ранней весны с поздней осенью? Что меж ними общего?
Спиридонов дал себе зарок поговорить с Варей об этом, как только окрепнет, и строго-настрого запретить ей и думать «о чем-то таком», если вдруг окажется, что она и впрямь что-то испытывает к нему. Чушь какая! Гробить жизнь на человека, который ей годится в отцы?! Он непременно внесет ясность в их отношения…
Однако для этого нужно было хотя бы выздороветь, а это была непростая задача. Несмотря на все усилия Вари, подкрепленные солидной поддержкой лечебно-санитарного управления Кремля, воспаление легких словно заключило с прежней спиридоновской хворью союзнический договор. Едва на одном фронте наблюдалось облегчение, второй фронт активизировался, вновь укладывая Спиридонова, увы, не на татами, а на диван. А как только эта болезнь несколько отступала – начинался рецидив по первому направлению. Так продолжалось весь январь и почти весь февраль; первые признаки выздоровления появились только ко дню Советской Армии, а окончательно о выздоровлении можно было сказать с уверенностью лишь ближе ко дню рождения вождя мирового пролетариата.
Справедливости ради, врачи по секрету поведали перепуганной Варюшке, что не были до конца уверены, что больной поправится, а если совсем начистоту – думали, что болезнь его доконает. Если бы не природная выносливость организма, физическая закалка и преданность Варюшки, так бы оно и случилось, но не случилось. Выдюжил Спиридонов.
Едва став на ноги, он поспешил в «Динамо», посетил несколько тренировок разных групп и в целом остался довольным. После чего опять слег на недельку с кашлем, но это были сущие мелочи, как говорят медики, остаточные явления. Варя делала ему согревающие компрессы, смазывала люголем воспаленное горло, рисовала на спине йодную сетку, ставила банки, сетуя на то, что спина у него как камень, поила теплым молоком с медом и коньяком, от которого Спиридонов плевался, но стоически терпел экзекуции. А Варя молча сносила приступы спиридоновских откровений во время бреда: да, откровений! – она не обманывалась в этом, хоть часто язык был чужой, не русский. Варя отнюдь не была ребенком и многое узнала за эти недели и месяцы о Спиридонове. Но виду не подала.
Наконец он окреп настолько, что вернулся к работе. К тому моменту он напрочь забыл о своем обещании поговорить с Варей. Не до того было – оказывается, в Совнаркоме появилась идея провести межведомственные соревнования по рукопашной борьбе, в которых воспитанники Спиридонова должны были показать свое превосходство над питомцами Ощепкова (из общества ЦСКА) и Харлампиева, поставленного Ощепковым во главе общества «Авиахим». Спиридонов помнил предыдущие межведомственные соревнования и горел желанием на этот раз победить вчистую. Его система была лучше.
А вдобавок к тому в его ведомстве тоже назревали перемены…
* * *
– Земля ему пухом, – помянул Менжинского Михалыч. – Все мы смертны…
Спиридонов тем временем достал пачку папирос и протянул ее завгару:
– Угощайся, опять небось без курева сидишь?
– Нет, сегодня при своих, – степенно отказался Михалыч. – Но пару штук возьму, ваши люки всяко лучше моей махорки…
Они закурили, подкурив каждый от своей зажигалки.
Выпустив дым, Михалыч сказал:
– Слыхал я, вас теперь в наркомат переделают.
– Вроде того, – кивнул Спиридонов.
– Кубарей-то прибавится? – Михалыч пыхнул дымком.
Спиридонов пожал плечами:
– Да зачем они мне?
Он вспомнил, как когда-то сам поставил крест на военной карьере, когда решил жениться на Клаве. Эх, Клавушка… Воспоминания о ней были столь же свежи, как раньше, но прежней боли не причиняли.
– Ну как? – удивился Михалыч. – Все в начальство хотят. Больше кубарей – сытнее жизнь.
– Где много кубарей, там много печалей, – ответил Спиридонов задумчиво. – Михалыч, ну чего мне не хватает? Все-то у меня есть.
– Ну… это… – Михалыч потупился, потом сообщил невпопад: – Ваша-то вчера уходила… Долгенько ее не было, почитай часа полтора, вернулась, правда, аккурат за полчаса до вашего возвращения.
Спиридонов снова пожал плечами, но какое-то неприятное чувство все-таки ощутил. После затяжки сдавленно заболело в левом боку, в легком – после болезни эта боль время от времени давала о себе знать.
– Дело молодое, ей, наверно, хочется в кино или на танцы…
– Вот и сводили бы, – хитро прищурился Михалыч. – В кино или на танцы.
– Михалыч, у меня со временем совсем швах, – вздохнул Спиридонов. – Да и сам подумай, ну что мне на танцах-то делать? Так, как я умею, никто уж и не танцует. Пусть она сама.
Михалыч отвел взгляд и затянулся. Папиросу он держал не так, как Спиридонов, а по-другому – большим и указательным пальцами. Виктор Афанасьевич пробовал так и нашел, что этот способ удобнее, например, во время дождя или при сильном ветре. Но сам держал, как привык.
– Упустите вы ее, Виктор Афанасьевич, – проговорил Михалыч едва не в сторону. – Ей-богу, ведь упустите.
– Да ну тебя, – отмахнулся от него Спиридонов. – Что ты заладил, «упустите – упустите», как будто у нее ко мне действительно что-то…
– Да, то-то она у вас всю зиму торчала безвылазно, пока вы болели, – ответил Михалыч. – За врачами да за лекарствами бегала, день ли, ночь, снег ли, дождь. Стала как тень, едва свет не пропускает, думаю, и есть-то забывала, на ветру шаталась…
Спиридонов почувствовал раздражение:
– Вот что, Михалыч… не лез бы ты в мою личную жизнь!
– Не лез бы, – кивнул Михалыч, кажется, довольный резким ответом. – Не делали бы вы глупостей, так оно мне и без надобности, а так… – Он затушил папиросу о заскорузлую мозолистую ладонь, предварительно на нее плюнув, и как итог подвел: – Жалко мне ее, пичужку. Больше, пожалуй, чем других. Вижу я, что сердечко у нее на месте, а вы это сердечко нежное, девичье своей черствостью, ровно по коже рашпилем…[43]
– Ты сам-то в нее не влюбился, часом? – с недоброй иронией спросил Спиридонов.
Михалыч досадливо махнул на него ладонью:
– Да куда, в мои года! А будь я помоложе, ей-же-ей, увел бы ее у вас…
* * *
Зайдя домой, Виктор Афанасьевич нарочито громко прикрыл двери. Стараясь производить как можно больше шума, но не так, чтобы вызвать подозрения, разулся, прошел помыть руки и лишь потом зашел в комнату.
Варя накрывала на стол. Из кастрюли она разливала по тарелкам овощной суп с курицей. На «ее» стуле лежало полотенце, в которое кастрюля, вероятно, была до этого завернута, чтобы суп сохранился теплым.
Заметив появление Спиридонова, Варя приветливо поздоровалась и продолжила свое занятие. Виктор Афанасьевич сел за стол. Пока он поднимался по лестнице, у него вновь появилось желание поговорить с Варей по душам, но когда он погрузился в атмосферу домашней идиллии, решимость эта тут же пропала.
Он, конечно, понимал, что разговор необходим; с другой стороны, он боялся обидеть Варю. Потому, отдав должное ее супу, спросил:
– Что нового?
– Вам звонил товарищ Ягода, – ответила Варя.
– И ты молчишь? – не скрыл легкой укоризны Спиридонов.
– Он сказал, что дело несрочное, – рассудительно ответила Варя. – Просил предупредить, что собирается на днях наведаться к вам в клуб. Разговор есть.
– Завтра? – уточнил Спиридонов.
– На следующей неделе, – ответила Варя. – Он пока принимает дела, но сказал, что быстро с этим закончит. Он-де и так в курсе дел.
– Ну да, ну да… – задумчиво сказал Спиридонов, обгладывая куриную ножку. Действительно, последние два года Управлением руководил скорее Ягода, чем Менжинский, хотя Вячеслав Рудольфович и стремился, насколько ему позволяло слабеющее здоровье, быть в курсе всего. – Варя, ответьте мне на один вопрос.
– Да, Виктор Афанасьевич? – Варя подняла глаза от тарелки. Она редко смотрела вот так на него, но когда он к ней обращался, всегда смотрела ему прямо в глаза.
– Вы бы хотели пойти со мной куда-нибудь? – спросил Спиридонов, не отводя взгляда.
Не надо было быть экспертом в области физиогномистики, чтобы понять – она безмерно обрадовалась.
– Конечно, куда угодно! – быстро и порывисто ответила Варя, словно он мог передумать и пойти на попятную. – Вам нужно куда-то пойти?
– Нет, – ответил Спиридонов, и на ее лице на миг появилось разочарование, – не нужно, но ничто и не мешает. Знаете, наверное, все-таки неправильно совсем никуда не выбираться. Тем более вам в вашем возрасте. И, раз уж вы без меня не хотите, я и подумал, а не составить ли мне вам компанию?
Казалось, Варя вот-вот воспарит над стулом, как буддийские монахи, о которых писал в своих новеллах Николай Рерих. Она даже подалась вперед, а ее грудь соблазнительно вздымалась под шифоновой блузкой. Только сейчас Виктор Афанасьевич всерьез обратил на нее внимание, отметив, что она, хоть и невелика, имеет довольно приятную форму. Впрочем, он решительно пресек фривольные мысли.
– Куда угодно, – повторила она и замерла, словно боясь, что все сказанное ей послышалось. Или вправду боялась, что он передумает.
– А куда вы хотите? – спросил Спиридонов. – В кино, в театр, просто по парку прогуляться?
Постепенно у него созревал план: он начнет водить ее на прогулки, когда у него будет свободное время, и на одной из таких прогулок, когда у нее будет полегче настроение, и заведет с ней разговор. Так проще, наверно.
– Я бы хотела в театр, – тихо сказала Варя. – Никогда не была в театре. Должно быть, это очень красиво?
– Сто лет не был в театре, – согласился Спиридонов. – Давайте попробуем попасть в Большой.
Обычно серьезная Варя, как ребенок, захлопала в ладоши:
– Давайте!
– Тогда сейчас доедим, и бегите прихорашивайтесь! – улыбнулся ей Спиридонов.
– А я уже доела, – обрадованно доложила Варя. – Ага, побегу, а вы кушайте. Я только вам котлетку вот с рисом еще положу и компоту налью…
– Этак я растолстею, – пробурчал Спиридонов. Но оба знали, что с его образом жизни полнота ему не грозит.
* * *
Поев, Виктор Афанасьевич в ожидании Вари занял привычное место в эркере – покурить и обдумать, как он начнет разговор. Откровенно говоря, он не знал, с чего начать. Было очень важно не обидеть Варю, не сделать ей больно. И важно, чтобы она жила полноценной жизнью, не тратя ее на глупости вроде пустой влюбленности в пожилого бобыля.
«Как бы это обставить поделикатнее, – упорно мозговал Спиридонов, – ну не должна молодая девчонка-бутончик сохнуть по старику, не должна! Я приложу все усилия и отважу ее от себя…» И тут, почти как наяву, услышал мысленно голос Фудзиюки: «Хотите рассмешить Будду, расскажите ему о своих планах…»
Вспомнив учителя, Спиридонов открыл ящик стоящего здесь же столика, за которым он обычно сидел, когда курил. Столик он нашел во дворе неподалеку, возле полуразрушенного ветхого дома. Даже странно, что этот предмет былой роскоши не пустили в период разрухи на топливо – небольшой овальный стол на высоких ножках с выдвижным ящичком был совершенно не нужен в хозяйстве. Судя по клеткам на столешнице, столик предназначался для игры в шахматы, но ни самих фигур, ни футляра для них в ящичке не было, хотя нашлась пара потертых керенок и несколько дореволюционных монет.
Теперь Спиридонов хранил в ящичке шахматного стола заветную коробочку для бенто, старый блокнотик с «интервью» Ощепкова и еще кое-что. Книжицу в обложке из странного серого материала – это была акулья кожа, но Спиридонов об этом не подозревал – ему передал Ощепков, когда приехал в Москву. Уж как она к нему попала, Спиридонов не имел представления. Ему было лишь известно, что как агент Ощепков был провален, причем не по своей вине. Виновато было его начальство, не сумевшее обеспечить ему должное конспиративное прикрытие, так что в Новосибирске он был опознан японским резидентом – работником посольства, когда в красноармейской форме со своими учениками зашел после тренировки в ресторан. Тем не менее какие-то связи с японской резидентурой он, вероятно, сохранил, поскольку по возвращении в Москву передал ему эту самую обещанную книжицу.
Дневник Фудзиюки Токицукадзе.
Дневник, как и предполагал Спиридонов, был написан на языке, придуманном польским окулистом, – на эсперанто. Удивительный язык, который, по идее, должен был быть интуитивно понятен любому европейцу, но по ознакомлении только вызывал раздражение. Вероятно, потому-то Фудзиюки и вел на нем свой дневник – чтобы никто не мог в нем до конца разобраться. Никто, кроме того, кто знал, на каком языке он написан.
Никто, кроме Спиридонова.
Написанный на эсперанто дневник содержал два отдельных документа на двух разных языках. Первый документ был, правда, и не документ вовсе – а белый журавлик из бумаги, в Японии такие называются оригами. А в журавлике внутри была записочка на французском. Адресована она была Спиридонову и написана не Фудзиюки…
* * *
Оказывается, она не только прекрасно разговаривала по-французски, но и умела писать, пусть с ошибками, Спиридонов не замечал их.
«Мой тигр, мой судзукадзэ, ветер, принесший в мою жизнь столько радости, столько счастья – и столько боли! Пришло мое время уходить в Темную башню, но я не хочу оставлять тебя в неведении, хотя Фудзиюки-сама убеждает меня не разбивать твое сердце и не говорить тебе о том, что я сделаю. А я не могу не рассказать тебе, что ты значишь для меня, мой господин.
Я родилась девятого дня месяца хачигацу пятого года Мэйдзи[44]; выходит, сейчас мне тридцать три года, и я старше тебя на девять лет. С детства я мечтала стать тайю, и, к моему несчастью, мечта сбылась. Лучше бы я не знала тебя, мой богоподобный гайцзын! Лучше бы умерла от голода или холода! О нет, что же я говорю, какие страшные вещи! Не знать тебя было бы хуже вечного проклятия!
У всего есть цена, и у моей мечты тоже. Мы, юдзё, не принадлежим себе. Мы – собственность нашего борделя, а бордель – собственность его господина. Но и это не все – сам господин и его жизнь принадлежат своему даймё, а тот – «божественному Тенно», да проклянет его имя Небо, земля и преисподняя!
Когда-то Муцухито-сам настежь распахнул двери Японии. Когда-то караюки были гордостью Нихона. Мы спали с белыми богами (хотя я видела лишь одного белого бога, того, кого я зову Викторо-сан) и сами казались небожителями.
Теперь же над Микаса дуют злые ветра; из гордости мы превратились в позор. Из небожителей – в подстилки грязных гайцзын. Прости, что говорю тебе это, я лишь повторяю то, что говорят эти проклятые души.
Господин мой! Мне предписано вернуться в Японию и никогда не покидать пределов Ёситвара[45]. Авторитет Фудзиюки-сама, увы, ничто для проклятого Мэйдзи-Тэнно. Мне все равно, что он ведет род свой от Аматэрасу! Я не приемлю богов, которые столь жестоки, и мне бы хотелось вспороть грязный живот того, кого называют божественным несправедливым Тэнно. Но у меня нет и не может быть такой возможности. И не осталось больше сил и даже слез.
Единственное, что у меня осталось, – это моя душа. Та душа, которую своим тигриным взором разглядел во мне тот бог, которому я поклоняюсь теперь. Эта душа принадлежит тебе, мой господин, и тебе отдаю я ее вместе с этим журавликом.
Я не могла бежать с тобою, хоть Фудзиюки-сама и предлагал мне это. За кражу собственности божественного Тэнно, каковой я являюсь по законом Нихон, тебе бы полагалась смертная казнь, и никто не посмотрел бы, что ты гайцзын. Но они не знают, что я – не их собственность. Я принадлежу тебе одному, мой тигр.
У тебя большое сердце, и я попрошу тебя об одном: не плачь, узнав, что я умерла. В моей жизни осталось мало веры, но та, что осталась, стала намного сильнее. Я верю, что расстаемся мы не насовсем. Я верю, что смогу к тебе вернуться. Рядом с тобой, у тебя на руках я готова пережить семь смертей, а тебе – отдать семь жизней[46]. Поэтому сейчас я улыбаюсь. Моя кровь прольется для тебя, мой господин, – и мы встретимся снова под ясным небом твоей прекрасной страны, где я буду принадлежать только тебе, и никто никогда не разлучит нас.
Я написала хокку для тебя:
В другое время года Я вернусь к тебе оттуда Где спят влюбленные души[47].Писано в городе Талиенвань, девятого кугацу тридцать восьмого года проклятого Мэйдзи[48].
Подписано Акэбоно, урожденной Сэйери Эйко».* * *
– Виктор Афанасьевич, вы не заснули ненароком?
Спиридонов вздрогнул от прикосновения. Он не заметил, как подошла Варя. Дневник Фудзиюки он до сих пор так и не начал читать. Но дело было вовсе не в языке.
Всякий раз, когда он брал в руки книжицу, он видел выглядывающего из-под обложки бумажного журавлика с запиской. Записку он не перечитывал больше ни разу. Он помнил ее наизусть…
– Да нет, – ответил он. – Просто задумался.
– А что это за книжечка у вас? – Варя осторожно, вопросительно взглянув на него «Можно?», потянула из его руки дневник Фудзиюки. Спиридонов отреагировал не сразу, невольно залюбовавшись ею.
На ней было простенькое ситцевое платьице и дешевенькие белые туфельки, волосы убраны в косу и подвязаны цветными лентами, но до чего же она была хороша! И ее не портили ни острые черты лица, ни так и прилипшая к ней худоба.
– Дневник моего учителя, – сказал Спиридонов, давая ей возможность взять дневник в руки.
– А на каком это языке? – спросила Варя, приоткрыв книжицу. – Вроде немецкий. Я иностранных языков не знаю, так что не могу понять.
– На польском, – соврал Спиридонов. В конце концов, Дзержинский и Менжинский были поляками, равно как и создатель эсперанто. Правда, сейчас Польша была для Советской России, пожалуй, врагом номер один.
Журавлик выскользнул из дневника и плавно упал на столешницу. У Вари перехватило дух:
– Ой, какой… Я будто его уже где-то видела… Как странно…
Кончиками пальцев она бережно взяла оригами.
– Вы меня простите, Виктор Афанасьевич… – Спиридонов заметил странный блеск в ее глазах, будто она собиралась заплакать. – Он такой печальный… и пахнет «Красной Москвой».
– Чем-чем? – удивился Спиридонов.
– Духи есть такие, «Красная Москва» называются, – кротко улыбнулась Варя. – Говорят, их жена Молотова придумала! Они такие… такие… – Она не нашла нужного слова. – Дорогие вот только очень…
Спиридонов бережно взял журавлика и принюхался. Запах он узнал сразу – это были Клавушкины духи. До сих пор он не замечал на журавлике этого запаха. Но почему…
Тьфу ты… Спиридонова осенило. Конечно, никакой мистики: ведь дневник с журавликом лежали в том же ящике стола, где хранилась коробочка для бенто. А в ней – Клавушкина рукавичка. Вот запах и перешел.
Спиридонов вернул журавлика на прежнее место.
– А где можно купить ее, эту «Красную Москву»? – спросил он.
– В ГУМе, – ответила Варя. – И на Арбате, а еще…
Она осеклась и с подозрением посмотрела на Спиридонова:
– А вам зачем?
– Тебе подарю, – озорно хмыкнул Спиридонов. – Раз уж они тебе так по душе.
Варя зарделась, словно мак:
– Ну что вы! Это же очень дорого!
– Разговорчики! – в шутку приструнил ее Спиридонов, повысив голос до «командного». – Куда мне деньги девать, бобылю? А у тебя и так радостей в жизни немного. «Человек создан для счастья, как птица для полета» – кто сказал?
– Горький? – неуверенно предположила Варя.
– Короленко, – поправил ее Спиридонов. – И чему вас только в школе милиции учат!
Он открыл ящик и положил книжицу поверх блокнотика. Потом закрыл ящик на ключ – тот, кто выкинул столик, не только не вынул из него деньги (теперь, правда, совершенно бесполезные), но и оставил в замке ключик. Очень кстати.
Варя оживилась:
– Виктор Афанасьевич, спасибо вам. Я про эти духи мечтаю…
«Ну ребенок, сущий ребенок», – подумал про нее Спиридонов, но вслух ничего не сказал.
– Я, наверное, много болтаю, – спохватилась вдруг Варя. – Но мне все так интересно!
– И что же тебе интересно? – быстро ухватился за эту реплику Спиридонов.
– Что это за ткань на обложке? – сразу же спросила Варя. К Спиридонову вернулось спокойствие. В конце концов, это же Варя, та Варя, которая всеми силами вытаскивала его с того света!
– Понятия не имею, – честно признался он. – Мой учитель был японцем, значит, что-то японское.
– Японец писал на польском? – не поверила Варя.
– Он был очень образованным и полжизни прожил в Европе, – стал объяснять Спиридонов. – Он даже учился во Франции, в Сорбонне.
– Расскажите мне эту историю! – У Вари загорелись глаза.
– Не сейчас, – ответил Спиридонов, отходя к зеркалу причесаться. Волосы почему-то не хотели ложиться ровно. – История длинная.
– А что за коробочка? – продолжала допытываться Варя.
– Японская, для завтрака, – ответил Спиридонов. – У меня там револьвер.
Об остальном содержимом коробочки он умолчал.
– Здорово! – восхитилась Варя. – А что за блокнотик?
– Много вопросов задаешь, пичужка, – засмеялся Спиридонов, обернувшись к ней и взяв ее лицо двумя пальцами за подбородок. – Посмотри, как у меня волосы лежат, а то в этом зеркале все кажется, что криво…
– Это потому, что зеркало в темной части комнаты, – ответила Варя и, осмелившись, поправила ему непослушную прядь. – Давайте его в эркер перевесим?
– А оно там не закоптится? – всерьез обеспокоился Спиридонов. – От курева моего?
– А вы бы курили поменьше, – с простодушным кокетством не упустила своего Варя и рассмеялась, продемонстрировав остренькие зубки.
* * *
В Большом театре давали «Саломею» Рихарда Штрауса.
Для Вари, никогда не видевшей музыкальных спектаклей, эта драма из библейских времен действительно была как волшебная сказка – прекрасные декорации, ослепительные костюмы и голоса, создающие чарующе-напряженное действие. Сказка непонятная – опера была на немецком, но Спиридонов, видя интерес в глазах Вари, взялся переводить ей, обнаружив, кстати, что изрядно подзабыл немецкий.
Однако изначальную библейскую историю он знал, потому там, где не мог перевести, вспоминал и додумывал. Музыкальная драма на Варю подействовала удивительным образом: очень оживленная в начале, она становилась все задумчивее и грустнее, а в конце едва не заплакала, во всяком случае, глаза ее подозрительно заблестели. Спиридонов не стал спрашивать, что с ней, было и так понятно, да к тому же он заметил Колю Власика с молодой женой, поздоровался – и поспешил увести Варю прочь. Во избежание ненужных вопросов, да той и самой хотелось на свежий воздух.
Они решили прогуляться пешком и пошли по Малой Дмитровке. Сначала молчали, затем стали обсуждать оперу. На удивление, Варя, без знания языка и библейской истории, только со слов Спиридонова, поняла гораздо больше, чем можно было бы ожидать. Хотя герои оперы у нее никак не ассоциировались с библейскими персонажами.
– Жаль его, конечно, – рассуждала Варя. – Но ее мне тоже жаль.
– Почему? – не утерпев, спросил Спиридонов. Он хотел слышать, что она скажет. Любому, наверное, жаль эту юную, прекрасную деву, пусть она и Саломея… Но ему было интересно мнение Вари.
Через минуту он пожалел об этом.
– Потому что любить без взаимности, без надежды быть вместе – это так больно, – ответила Варя, и боль, о которой она говорила, отразилась в ее глазах ярче, чем свет электрических фонарей. – Она не заслужила этого! Она была молодая, прекрасная, она все бы пожертвовала для него. Что ему стоило дать ей хоть немного места в своей жизни? Пусть не жены, не любовницы, пусть просто…
«Помощницы?» – неловко добавил мысленно Спиридонов и испугался.
– Он думал, что это его осквернит. Он был пророком… – сказал он вслух.
– Она б не посмела, – с жаром возразила Варя. – Она бы берегла его святость всеми силами, на какие была способна! Да и может ли любовь осквернить? Христос не прогнал пришедшую к нему блудницу, почему же этот прогнал? Может ли любовь осквернять?
– А может ли любовь убивать? – тихо спросил Спиридонов.
Варя ответила ему не сразу:
– Она, должно быть, сошла с ума… – тихо сказала она. – От горя разум-то и потеряла. Хорошо, что ее убили. Она не могла бы жить с этим, это было бы невыносимо!
Спиридонов ничего не сказал. Они пересекали Страстную площадь, и он машинально нашел глазами окно Ощепковых. Окно было темным, но это ничего не значило.
«Зря я повел ее в театр», – подумал Спиридонов. В этот момент он понял кое-что, в чем не хотел себе признаваться. Понял, что после этой проклятой оперы просто не сможет отстранить ее от себя.
Ты можешь не верить в Бога, но у Бога могут быть на тебя другие планы. Внезапно Спиридонов спинным мозгом почувствовал, что все не случайно, что все события жизни, словно ступеньки лестницы, куда-то ведущей, составляют единое целое. Вот только куда ведет его эта лестница?
Ему стало страшно. Страстной парк был темен, на темных небесах в слабом свете тонкого серпика убывающей луны облака казались черными, словно кляксы. Кажется, это почувствовала и Варя. Она прижалась к Спиридонову всем телом и прошептала:
– Мне страшно. Словно вот-вот случится что-нибудь нехорошее.
Спиридонов хотел было успокоить ее, хотел сказать, что с ним ей бояться нечего…
Но не успел. Из кустов вышла группка шпаны. Как в прошлый раз, когда он шел здесь поздним вечером. Будто ждали его с тех пор! Варя ойкнула, но не стала ни прятаться, ни убегать. Наоборот, она словно обрела силу, выпрямилась и быстро шепнула Спиридонову:
– Будем драться?
Но Спиридонов лишь улыбнулся и ответил совершенно спокойно:
– Драться не будем. Будем бить.
В одном из парней он узнал заводилу, попросившего в тот вечер у него закурить для затравки. Парень оказался учащимся школы рабочей молодежи и действительно сдал нормы ГТО, потому ограничился в отделении РКМ только предупреждением. Не надо и говорить, что Спиридонова он хорошо запомнил с тех пор.
– Какая встреча! – широко улыбаясь, приветствовал его Спиридонов. – Ну что, Пашка, все шило из афедрона не вытащишь? Или решил, что на свободе тебе гулять не хочется, а хочется поработать на благо Родины в исправительно-трудовой колонии?
– Да что вы, товарищ Спиридонов, – ответил Пашка, отступая назад. – Нешто и погулять ночью нельзя? Идите себе спокойненько, а если кто пристанет, так вы только свистните – мы тут как тут.
– Вот что наука животворящая делает! – откликнулся Спиридонов. – Ну, гуляйте, гуляйте, дело молодое… но смотри, прознаю, что сегодня ночью кого обидели…
– Да кого мы обидим? – Битый Пашка сделал вид невинный, как у овечки на пасторальном рисунке буржуазного художника. – Мы же прогрессивная молодежь, надежда партии и правительства. Да, ребята?
Должно быть, Пашка все-таки был неплохим организатором – его присные с недоумением на рожах послушно закивали, словно китайские болванчики. Спиридонов достал папиросу и демонстративно подкурил. Выпустил дым, посмотрел на шпанюков…
– Вы еще здесь? А я думал, ушли уже…
Ответом ему был дружный топот убегающих босяков. Спиридонов затянулся еще раз – и довольно засмеялся. А затем увидел, что на него смотрит Варя.
И как она смотрит.
Что-то щелкнуло у него в голове, и он сказал:
– Варюшка, скажи мне, только честно: ты едва не расплакалась потому, что оперу приняла так близко к сердцу? Или потому, что боишься, что я погоню тебя, как Иоанн Саломею?
– Да… – прошептала она. – Второе.
Спиридонов обнял ее за плечи, притиснул лицом к груди…
– Ты это оставь, понятно? Не брошу я тебя.
Она кивнула, а Спиридонов внезапно почувствовал запах, исходящий от ее волос. Слабый, едва ощутимый, но такой знакомый.
Запах тех самых духов, которые он обещал ей купить.
Он посмотрел на темное окно Ощепкова. Теперь он его понимал. Не стоило его осуждать… Вот сам теперь на его месте… Эх… Торопимся мы осуждать других, а сами… Да, он был потрясен тем, что чувствовал, но какая-то его часть, все сильнее заявляющая о себе с каждой минутой, приветствовала происходящие в нем перемены.
Между ним и Варей все еще была тонкая стенка, но она на глазах истончалась, как лед на Москве-реке в ночь ледохода. И он ничего не мог сделать для того, чтобы эта стенка не истаяла окончательно. А по правде – и не хотел.
Лестница продолжала подъем. Или спуск.
– Пойдем домой, – наконец сказал Спиридонов. – Что-то холодно стало на улице. А до дому еще далеко.
Глава 10 Танец Саломеи
Виктор Афанасьевич проводил дневную тренировку. Он только успел уложить на татами ученика, показывая вариант броска через спину после захвата сзади, как увидел Власика, скромно стоявшего у входа в зал.
Быстро раздав задания, Виктор Афанасьевич покинул татами и, не обуваясь, подошел к бывшему ученику и заключил его в объятия.
– Ты ко мне просто так или по делу? – спросил он, поздоровавшись.
– По делу, – ответил Власик. – У вас сегодня еще занятия есть?
– Вечерняя группа, – ответил Спиридонов, присаживаясь на скамейку и обуваясь. – А что?
– Отменить никак нельзя? – спросил Власик. – К вам нарком собирался, хочет посидеть, назначение отметить.
– Какой нарком? – не понял Спиридонов. – Чье назначение?
– Новый нарком, – весело сказал Власик. – Нарком внутренних дел Ягода, знаете такого?
– Первый раз слышу, – в тон ему ответил Спиридонов. – Назначили все же Генриха Григорьевича?
– Да еще позавчера, неужто не слышали? – удивился Власик. – У вас же сплошные огэпэушники тренируются…
– Верно, слухи до меня давно доходили, – кивнул Спиридонов. – То-то я смотрю, все так оживились, переговариваются о чем-то в раздевалке.
Честно говоря, последние три дня Виктор Афанасьевич был несколько оторван от реальности и больше углублен в себя. Он все еще переживал то, что произошло. Впрочем, ничего особенного пока не произошло: все оставалось по-прежнему, но в их с Варей отношениях возникла какая-то… Он не знал, как назвать. Словно они были объединены некой тайной, общим секретом…
Внешне все оставалось по-прежнему, но уже с другим чувством Спиридонов возвращался домой. Теперь это действительно был дом, а не место для сна и работы над бумагами, как раньше. И Варя… у него язык не поворачивался назвать ее помощницей. Возможно, их отношения приближались к тем, что связывали старых большевиков с их боевыми подругами. И даже когда Варя в который раз сказала, что с удовольствием бы выучилась его борьбе, он не стал ее отговаривать, что-де борьба не женское дело, а впервые задумался, не набрать ли ему еще и женскую группу.
В рядах РККМ и ОГПУ женщин было немало. И рисковали они подчас не меньше мужчин. Может быть, им тоже следовало бы дать в руки оружие, которое он давал мужчинам? Может быть, они даже больше в этом нуждаются? Для применения приемов самоза вовсе не обязательно быть крепким мужчиной. Как и в дзюудо, обороняющийся здесь использует силу того, кто на него нападает. Не это ли нужно женщинам, если на них нападают?..
А пока он сдержал обещание и купил Варе флакончик «Красной Москвы». Он вез духи домой и то и дело доставал из кармана френча красную с золотым изящно-геометрическим рисунком коробочку, чтобы понюхать. Это был запах его воспоминаний, запах Клавушки и Акэбоно. А теперь еще и запах Вари.
Власик понимающе подмигнул ему:
– Кажется, я понимаю, почему вы это выпустили из виду, – заговорщически приглушив голос, сказал он. – Я ж вас в театре видел, с одной весьма милой особой. Кстати, почему вы нас не познакомили?
– Да чего там… скажешь тоже, – отмахнулся Спиридонов, но в душе его слова Власика отозвались теплой волной. – Это помощница моя, Варя.
– Ага, вижу я, какая помощница, – весело хохотнул Власик. – То-то у вас и голос меняется, как вы ее по имени называете…
– Коля, будешь много разговаривать – я тебя сейчас на татами вытащу да и выбью из тебя дух, – пригрозил Спиридонов, отворачивая лицо. – Я хоть и болезный еще, а дух из тебя, прости, легко вышибу. Или не веришь?
– Верю, – вздохнул Власик. – Мой шеф несколько раз уж закидывал, что неплохо было бы и вас в штат взять. Вы бы подумали, Виктор Афанасьевич. Если согласитесь – я место вам свое уступлю!
– Да на кой оно мне, – задумчиво отозвался Спиридонов, а затем, словно приняв некоторое решение, добавил: – Коль, у меня к тебе личная просьбочка будет, не уважишь?
– Вы ж знаете, Виктор Афанасьевич, для вас что угодно…
– Варю мне главк сосватал… Думаю, не только как помощницу. Мне-то скрывать нечего, я по этому поводу не менжуюсь. Да вот недолга: кого-то она мне напоминает, а кого, не пойму. Можешь про нее по максимуму все разузнать? Сам я к кадровикам не пойду, а тебе как раз вполне.
– Не извольте беспокоиться, Виктор Афанасьевич, – посерьезнев, ответил Власик. – Сделаем. Только, думается мне, тут не только тот интерес, что она вам «кого-то напоминает».
– Не только, – проворчал Спиридонов. – Доволен? Ну и хватит об этом. Когда Генрих Григорьевич нагрянуть-то собирался?
– Да они с Молчановым уже выехали, – ответил Власик. – Только сначала собирались заехать в «Советский», прихватить чего-нибудь из закуски.
– Какой еще «Советский»? – не включился сперва Спиридонов, жестом подзывая Ваню и Яшу, чтобы дать указания. Ваня, подойдя, поздоровался с Власиком, который не так давно был его непосредственным шефом. Теперь Ваня готовился у Спиридонова стать одним из его инструкторов.
– При старом режиме этот гастроном звали «Яром», – со смешком напомнил Власик, поздоровавшись с братьями. – Генрих Григорьевич на свежем воздухе хочет посидеть, не то бы он вас в ресторан затащил. У вас здесь есть какое-нибудь укромное место?
Спиридонов кивнул (как раз закончилось благоустройство территории у прудов, ставших «Водно-моторной станцией Динамо», и на набережной появилось несколько беседок – точнее, были они там и раньше, еще со времен Императорского яхт-клуба, но за годы военного коммунизма и НЭПа пришли в запустение; сейчас их привели в порядок) – и стал давать подопечным инструкции по тренировке вечерней группы.
* * *
Ягода с Молчановым подъехали примерно через полчаса; с ними был водитель Ягоды, который нес пару корзинок со снедью и бутылками.
– Да тут хватит роту накормить и напоить, – заметил Спиридонов, показывавший дорогу.
– М-да… нельзя тебе, Виктор Афанасьевич, роту доверять, – заметил Ягода. – Они у тебя с голоду перемрут.
Ягода был в хорошем расположении духа, несмотря даже на то, что у «Советского»-«Яра» их подрезал двухэтажный автобус, едва не спровоцировав столкновение.
– Когда он увидел, кого подрезал, я думал, его удар хватит, – со смехом рассказывал новоназначенный нарком. – Особенно с учетом того, что у него как раз газетка лежала с моим портретом и сообщением о назначении.
Они расположились в беседке, выпили по маленькой, закусили, и лишь тогда Ягода перешел к делу:
– У нас, Виктор Афанасьевич, как всегда – планов громадье, – сообщил он. – В стране пора навести революционный порядок, ну и стройки индустриализации требуют рабочей силы. Ты, может, и не знаешь, но мы создаем войска наркомата.
– Это как? – не понял его Спиридонов. – Со своим народом воевать?
– Да что ты такое удумал, – поморщился Ягода. – Не с народом, а с внутренним врагом. Эх, Виктор Афанасьевич, доложу я тебе: не так страшен враг внешний, как страшен внутренний. Они и Вячеслава Рудольфовича в могилу свели скоропостижно, да и на меня покушаются. В общем, – резюмировал он, – кадровая работа пойдет по всем фронтам: и подготовка специалистов по охране партгосактива, и в войсках энкавэдэ тоже. Расширять будем твое хозяйство.
– Еще расширять? – не сдержал удивления Спиридонов. – И так двести кружков по динамовским клубам, без учета специализированных секций по округам.
– А надо больше, – не терпящим возражения тоном подхватил Ягода. – Начнем вот с чего: придется тебе поездить с инспекциями по культурно-спортивным объектам наркомата.
– Зачем? – Спиридонов стал очень серьезным.
– Чтобы привести все к единообразию, – терпеливо стал объяснять Ягода. – В секциях и кружках борьбы наркомата все должны заниматься исключительно по твоей системе. Поскольку она самая лучшая, и это не только мое мнение. Так считают в Политбюро, – и Ягода бросил быстрый взгляд на Власика. Тот кивнул.
«Значит, Сталин», – сообразил Спиридонов, но на всякий случай решил прояснить все до конца:
– А разве сейчас не так?
– Нет, – ответил за Ягоду Молчанов. – Увы, но у нас в ведомстве в этом вопросе царит полный разброд. Кто в лес, кто по дрова: учат и по Лебедеву, и по Солоневичу, и по Ощепкову, и по Ознобишину…
– Ну, с Ознобишиным мы, положим, разобрались, – заметил Ягода и фыркнул: – Клоун, а туда же. Я вот о чем хотел поговорить… погоди, только выпьем, между первой и второй муха пролететь не должна.
Наливал Молчанов; наливал всем по полной, и все, кроме Спиридонова, выпивали.
– Чего-то ты слабо пьешь, – заметил Ягода, закусывая форшмаком. – Кстати, вот какая досада: в «Яре»-то рыбный день сегодня. Что за напасть! Даже и для наркома нет у них мяса! Не положено, говорят. Кому не положено, наркому?
– Не пойму, на что вы жалуетесь, – возразил ему Власик, с аппетитом поедавший запеченную осетрину. – Рыба-то, чай, не тюлька в томате, да и готовят они ее хорошо.
Спиридонов смотрел и думал. Как-то уж очень быстро «слуги народа» от народа все более отдаляются, даже подальше от него нынче стоят, чем былое дворянство. И года не прошло, как в стране отменили карточки, а им уж и рыба не мясо. А ведь в неурожайные годы в Российской империи царская семья переходила на постное в скоромное время, питаясь пустыми щами да кашей с сушеной треской. И государь, которого они называют теперь Николай Кровавый, во время Великой войны сам с наследником питался по солдатской норме. А тут форшмак «слуге народа» в горло не лезет…
Вслух, понятно, он всего этого говорить не стал.
– Что задумался? – Ягода заметил, что Спиридонов несколько отстранен. После второй рюмки глаза его нездорово поблескивали.
– Не пью, потому что еще от болезни не отошел, – вздохнул Спиридонов. – Да и не любитель я. В здоровом теле здоровый дух, как там у древних сказано…
– Да-да… здоровый… держи карман шире… смалишь, как труба паровозная, – не упустил упрекнуть Ягода. – Кстати, если курить охота, не стесняйся, смали. Мы ж на вольном воздухе…
Заладили что один, что другой… Спиридонов мысленно чертыхнулся, но стесняться не стал и с наслаждением закурил, глубоко затянувшись. Власик последовал его примеру, к ним присоединился Молчанов. Ягода с аппетитом уничтожал неугодный ему форшмак.
Покончив с ним, нарком дал команду Молчанову, и тот разлил по третьей и подновил Спиридонову.
– Теперь вот что, – сказал нарком, вытирая салфеткой жирные губы. – У нас тут всесоюзные состязания на носу…
Спиридонов мотнул головой и лаконично отреагировал, выпустив в сторону дым:
– Подготовка в самом разгаре.
– Хорошо, – сыто кивнул Ягода. – Но ты увари умной своей головой – «Динамо» должно быть впереди всех. Соревнования – это не только спорт. Так мы всему Союзу покажем: с НКВД шутки шутить не стоит, надерем, как котят.
– А с кем шутить стоит? – наивно спросил Спиридонов.
– А это уж тебе самому виднее, – загадочно ответил Ягода. – Конкурентами-то кого считаешь?
– Столичный ЦСКА, – начал перечислять Спиридонов, – и «Авиахим», но они зеленые еще. На Дальневостоке неплохая команда, но нам не чета.
– А краснофлотцы? – быстро спросил Ягода.
– Нет, – уверенно отвечал Спиридонов. – Это не их профиль. На Черноморском команда плохонькая, на Балтике была крепкая, да вся вышла.
– То есть основное сражение будет между тобой и Ощепковым? – бросив на него взгляд исподлобья, уточнил Ягода.
– И Харлампиевым, – согласно кивнул Спиридонов. – Хотя не думаю, что авиахимовцы чем-то удивят в этот раз. Команда, повторю, крепкая, но молодая совсем.
Нарком задумчиво постучал пальцами по столу. Молчанов отодвинул бутылку, в которой оставалось еще немного водки, и поспешил откупорить новую.
– Продукт переводишь, – подал голос Власик.
– Ты, что ли, приметы не знаешь? – зябко поежился тот.
– Ты ж коммунист, какие приметы, – подзуживал Власик, но Молчанов, откупорив бутылку, стал разливать по стопкам, не отвечая.
– Вот как раз об Ощепкове мне и хотелось бы поговорить, – сказал вдруг Ягода.
* * *
Спиридонов непонимающе посмотрел на наркома:
– Кажется, мы об этом уже говорили. Ничего больше добавить я не смогу.
– Виктор Афанасьевич, – вкрадчиво начал Ягода, – знаете, что мне больше всего не нравится в моей профессии? Стрелять. Правда, сам-то я не стреляю. И приговоров не выношу. Однако подвести под расстрельную статью очень даже могу. А не люблю. В старину говорили: мертвые сраму не имут. Добавлю, мертвый угля не нарубит. Но, знаете ли, иногда этого просто не избежать. В смысле, высшей и исключительной меры наказания. Особенно в отношении вредителей.
Он положил на колени портфель, который до того поставил на пол, прислонив к ножке стула, и стал возиться с ремешками-застежками.
– С врагами все просто, – продолжал он пространную речь, расстегивая замочки. – Лицом к стенке и пулю в затылок, тут ясно, что заслужили. А с вредителями не так. Вредитель на словах всем сердцем за новый мир, да и не только, увы, на словах. Он верит в то, что делает хорошо. И гадит при этом. Верит и гадит, верит – и вредит хуже любого диверсанта. И бьет, собака, в самое больное место – по индустриализации, по развивающемуся, растущему организму государства рабочих и крестьян.
Наконец он откинул клапан и достал из портфеля несколько листов бумаги.
– Так вот, Виктор Афанасьевич, ваш Ощепков – самый что ни на есть вредитель. Вот, казалось бы, какое нужное дело – комплекс ГТО, но что говорит Ощепков?
И он стал зачитывать:
«Разве не плохо было бы, если бы все, от мала до велика, овладели нашей системой самообороны? Я мечтаю, чтобы ее проходили в школах на уроках физического воспитания. Чтобы подростки, вместо того чтобы хулиганить, устраивали поединки – в клубах, во дворах, на пустырях».
Спиридонов не мог не узнать манеру Ощепкова, образ его мыслей. Все это было ему ох как знакомо.
– И что здесь плохого? – невозмутимо спросил он. Он, разумеется, понимал, что именно плохо в этих высказываниях, но сейчас ему ни в коем случае нельзя было соглашаться с Ягодой. В пролетарской стране вредительство было куда более опасным преступлением, нежели любой криминал. Кража, убийство, изнасилование – преступления против личности; плохо, но можно списать на несознательность. Вредительство – преступление против общества. А это уже не плохо, это просто недопустимо. – Несколько идеалистично, конечно, но…
– Вы послушайте дальше, – продолжил Ягода.
И зачитал:
«И зачем органам рабоче-крестьянской милиции что-то кроме общепринятой системы? Ведь они сражаются не с народом, а с его отщепенцами, отбросами. Вряд ли можно встретить преступника со значком ГТО на груди…»
– Можно, – невольно вырвалось у Спиридонова. – И перевоспитать такого можно как раз только в том случае, если у государства есть что-то посильнее. Доказано на практике.
Ягода расплылся в довольной улыбке:
– Вот видите…
– Что я вижу? – спохватился Спиридонов. – Да, Ощепков неправ, и что с того? Это только его мысли, и они ими останутся. Пусть себе балуется, занимается своим ГТО, развивает дзюудо. Это необходимо. С новобранцами, занимавшимися по системе Ощепкова, работать проще, чем с «уличными», из которых улицу приходится выбивать… С этим Ощепков справляется. Валит лес, а я его на доску распускаю.
– Виктор Афанасьевич, – терпеливо вздохнул Ягода. – Я и не говорю, что ощепковская система совсем бесполезна, что вы… Я о другом. Иногда случается, что человек, создавший что-то полезное, зацикливается на этом, перестает играть прогрессивную роль, превращается в ретрограда. И тогда он становится в деле помехой, а помеху следует устранять…
Ягода встал и стал с бумагами в руках прохаживаться туда-сюда. Поскольку Спиридонов и прочие как раз опять закурили, возможно, он просто так спасался от дыма. Портфель он небрежно оставил открытым на лавке.
– Не хотите сами заняться работой в системе РККА и ГТО – не страшно. Поставьте туда кого-то из своих инструкторов. Да бы хоть и ощепковских, у него есть перспективные кадры вроде Харлампиева, Волкова…
– Ощепков лучше, – упрямо возразил Спиридонов.
Ягода остановился и посмотрел на него со странной улыбкой, почти сочувственной:
– Вы его так защищаете!.. Интересно, стал бы он защищать так же – вас?
– Да, – без колебаний ответил ему Спиридонов. – Мир боевых искусств – это братство. Особое братство. Каждый готов прийти друг другу на помощь и поддержать…
Ягода молча достал из пачки бумажку и протянул ее Спиридонову:
– А ну, почитайте-ка вот…
* * *
Это был листок бюварной бумаги, исписанный простым карандашом тесными строчками. Текста было много, на обеих сторонах листка, так что читать пришлось долго. Послание представляло собой классический донос на Ощепкова, и Спиридонов быстро определил вдохновенного автора: составляла его либо та самая сплетница-соседка, с которой он имел сомнительное удовольствие познакомиться год назад на свадьбе Ощепкова, либо ее приятельница, с кем общительная старая дама упоенно обсуждала мотивы женитьбы Ощепкова. Определил отчасти по стилю и смыслу изложенного, отчасти – по неуловимому аромату пудры, весьма характерному и запомнившемуся ему как раз по тому вечеру. После контузии обоняние его обострилось настолько, что теперь он мог с уверенностью опознать человека по оставленному им запаху. Даже и курил он так много теперь в том числе для того, чтобы заглушить поток воспринимаемых нюхом запахов…
«Контрреволюционер Ощепков», значилось в пахучем доносе, дескать, женился на Анне Ивановне Казембек, мещанского происхождения, исключительно с мелкобуржуазными целями въехать в принадлежащую ей комнату бывшей ее же квартиры, а сейчас-де ходатайствует о расширении жилплощади для их семьи, хотя сам живет в комнате только втроем с женой и дочерью. С соседями обращается вызывающе грубо (это Ощепков-то! Спиридонов, прочитав это, еле сдержал себя, чтобы тут же не возмутиться), не считает их за людей. К советской власти враждебен и наедине с женой позволяет себе критиковать «неразбериху и чехарду в политике: сегодня одно, завтра другое».
Но особенно враждебно «контрреволюционер Ощепков» относится к ОГПУ в лице «ответственного работника Спиридонова», которого в личных разговорах поносит, утверждая, что его подход к воспитанию совслужащих – костный и имеет признаки формализма!
То, что Спиридонов сейчас прочитал, наполнило его ощущением такой мерзости, словно он, отпив чаю, обнаружил на дне стакана дохлого таракана.
На миг он вообразил, что все это правда. Неужели Вася Ощепков, которого он, Спиридонов, перетащил в Москву, чью жену пытался спасти, мог такое сказать? Ощепков всегда говорит то, что думает. В нем нет ни на йоту лукавства. Возможно, когда-нибудь сгоряча он именно так и сказал, например, жене, а их подслушали…
– …и вот тут, Виктор Афанасьевич, мы подходим к главному вопросу, – жестко ответил на его мысли Ягода, присев за стол и жадно глядя на Спиридонова. – Видите ли, вредительствовать можно по-разному. Можно быть убежденным контрреволюционером, а можно – вредителем по недомыслию. Мне деятельность Ощепкова кажется как раз прекрасным примером второго. Вы утверждаете, что он компетентен, он же – критикует вашу методику, которую мы признаем объективно лучшей.
Ягода нервно побарабанил пальцами по столу.
– Спрошу прямо: не лучше ли вредителя Ощепкова… просто… убрать?
Спиридонов поднял взгляд от бумаги и взглянул наркому в глаза:
– В каком это смысле… убрать?
– В самом простом, – нарком вытянул руку, изобразив, что держит наган, и имитировал спуск курка. – Девять грамм целительного свинца излечивают все – и вредительство, и измену.
– Ну нет, – ответил Спиридонов твердо и медленно. – Такое решение считаю неправильным.
Ягода тяжело вздохнул:
– И это после того, что он вот так говорит о вас?
– Я не склонен верить слухам и сплетням, – подобрался весь Спиридонов, – и предпочитаю, чтобы решение о преимуществе той или иной школы единоборств принималось на основе результатов соревнований. Возможно, ему следует поставить на вид, что его подход неверен, но убирать…
Видя разочарование на лице наркома, Виктор Афанасьевич пояснил:
– Генрих Григорьевич, партия и правительство поставили перед нами по-настоящему грандиозную задачу. Страна живет во враждебном ей окружении, и вопрос подготовки максимального количества бойцов актуален, как никогда. Но, как выражался покойный товарищ Менжинский, на этой жатве слишком мало делателей. Неразумно избавляться от одного из них, очень талантливого, как бы мы ни относились к плодам его труда.
Ягода молчал и изучающе смотрел на Спиридонова. Тот не отводил взгляда. Наконец нарком протянул руку, отобрал у него злополучный, пахнущий пудрой донос, аккуратно свернул его вчетверо и сунул в портфель вместе с другими бумагами.
– Что ж… В ваших словах есть резон, – сухо подвел он итог. – Хорошо, отложим пока этот вопрос, хотя мое революционное чутье меня ни разу не подводило. Попомните мое слово – с этим Ощепковым еще будут проблемы.
Он откинулся на спинку скамейки.
– Утомился я… ох, не легка ты, шапка Мономаха… Георгий Андреевич, налейте-ка нам…
Молчанов налил, и Спиридонов впервые осушил свою рюмку до дна.
* * *
У каждого человека бывают минуты слабости, хоть у самого сильного. Крепкая с виду стальная балка железнодорожного моста, пропускающего многотонные составы, испытывает усталостные напряжения. Внешне она остается такой же надежной, как и раньше, но эти усталостные напряжения постепенно разрушают ее изнутри, и через какое-то время, если балку вовремя не заменить, она разрушается, а вместе с ней разрушается и вся конструкция.
Конечно, человек – не балка, не мост, но тем хуже. Сильный человек, стойко переносящий удары судьбы, испытывает те же усталостные напряжения. Эмоции, которые слабый человек выплескивает на окружающих, у сильного накапливаются внутри. Потому пышущие здоровьем, крепкие физически, не старые еще мужчины так часто умирают в расцвете лет от инфаркта или инсульта, потому некоторые, о ком никто из знакомых не скажет ничего дурного, порой срываются, хватают охотничьи ружья и идут охотиться на своих обидчиков, фигурально.
По той же причине одаренные люди зачастую скатываются к нравственному разложению, пьянству, наркотикам. Но никакие стимуляторы никогда не решают проблем, чаще они их только усугубляют.
Но тяжелее всего сильные люди воспринимают предательство или то, что им кажется таковым. По-настоящему сильные люди не предают, предательство – всегда оружие слабого. В спину бьют тогда, когда страшно ударить в лицо. Если ты привык встречать врага лицом к лицу, удар в спину для тебя вдвойне опасен.
Спиридонов понимал: Ощепков на прямое предательство не способен. Возможно, в сердцах он мог сказать о нем что-то нелицеприятное, тут же подхваченное бдительными старушками.
Однако жестокая несправедливость слов Ощепкова сразила его наповал, и в голове его неотвязно крутились фразы из цидулки Ягоды: «излишне косный»… «имеет признаки формализма»…
Проводив гостей, Спиридонов кинулся в душевую спортклуба, где принял контрастный душ. Он чувствовал себя слегка захмелевшим и хотел избавиться от этого хмеля, к тому же очень хотелось смыть с себя налет какой-то вдруг налипшей на него гадости. Увы, ни того ни другого он не добился. Не помогла и прогулка до дома пешком. По дороге он думал и думал, все с тою же замутненной спиртным головой и тем же чувством гадливости. Очевидно ведь: доносчицы легко могли обвинить в квартирной корысти Ощепкова как поводе для женитьбы, но не придумали же они ход с «формализмом»! Значит, Ощепков действительно что-то такое сказал, пусть и сгоряча. Сгоряча тоже говорят то, что доподлинно и искренне думают…
Придя домой, он застал Варю в эркере со стопкой бумаги – она что-то пыталась из нее мастерить. Спохватилась Варя только тогда, когда он вошел в комнату. Обычно, приходя раньше, он старался производить какой-нибудь естественный шум, чтобы ненароком не смутить Варю, но в тот день забыл, однако смутил ее не тем, что застал в ночной сорочке.
– Ой, а я еще не готовила ничего, – вскочив на ноги при его появлении, всплеснула руками Варя. – Не ждала вас еще… Думала, вы позже будете, у вас же вечерняя группа сегодня, а я хотела, чтобы потом горяченького… – засуетилась она.
– Ничего страшного, я пообедал, – ответил Спиридонов задумчиво. – А вот кофе бы выпил…
– Сейчас, Виктор Афанасьевич, сейчас… Это я мигом…
И она скрылась в кухне. А Спиридонов уселся в эркере и закурил, перебирая оставленные Варей скомканные листики. На душе у него кошки скребли. Конечно, они с Ощепковым давно не общались и сильно разошлись во взглядах на единоборства, но…
Что было бы, если б их поменяли местами? Стал бы Ощепков перед Ягодой выгораживать «костного формалиста» Спиридонова?
Разумеется, вряд ли Ощепков, окажись тот на его месте, согласился бы с предложением «убрать» его, Спиридонова. Это было совершеннейшей чушью и дичью… Мало ли, что человек мог в запале высказать дома жене… Но не перед лицом жизни и смерти. Сам он тоже критиковал ощепковские методики и в выражениях не стеснялся. Даже на трезвую голову.
Он почесал в затылке. Сумятица в мозгу мешала правильно оценить ситуацию. В нем боролись обида и здравый смысл. Тем и страшен алкоголь, что «раскрепощает» – высвобождает то, что мы сдерживаем. Все то, что называют страстью, пороком. И если человек обидчив, то в состоянии самого легкого опьянения он становится еще обидчивее, если горд – еще заносчивее, если агрессивен – еще агрессивнее. Отсюда и все преступления, совершаемые «по пьяной лавочке». До преступления Спиридонову было весьма далеко, а вот до того, чтобы воспринять нечто безобидное как смертельное оскорбление, небольшого количества выпитого вполне хватило.
Варя вошла тихо, неся поднос с кофейником, чашками и сахарницей, полной кубиков рафинада. Она знала, что с кофе Спиридонов не ест ничего, потому не предлагала ему ничего к кофе. Она чувствовала, что ему понадобится ее компания, потому чашек на подносе было две.
Потихоньку она села напротив, осторожно поставив поднос на столик. Спиридонов поднял на нее взгляд. Его глаза были красноваты – лопнула пара сосудиков.
– Вы чем-то расстроены, – констатировала Варя. Спиридонов кивнул. – Может, немножечко коньяку в кофе?
Спиридонов снова кивнул. Варя отошла к шифоньеру, служившему книжным шкафом, сервантом и баром, и принесла бутылку молдавского коньяка из «оздоровительных» запасов. Пока он болел, его подопечные, да и просто знакомцы наносили ему «для поправки» немало спиртного, а поскольку ученики у него были со всего Союза, в шифоньере стояла внушительная батарея грузинских, крымских и армянских вин, армянских и молдавских коньяков, не говоря уж о водках, наливках и настойках. Куда все это богатство девать, Спиридонов положительно не имел представления.
Варя разлила кофе по чашечкам, добавила по чайной ложке коньяка, положила себе кубик рафинаду. Спиридонов положил три.
– Я могу чем-то помочь? – спросила Варя просто, пробуя кофе.
– Вы мне уже помогли, – ответил ей Спиридонов. – Вы вообще мне так помогли…
Он пригубил кофе, чуть скривившись, отставил чашку и, достав очередную папироску, неожиданно для себя сказал:
– Без вас, Варенька, я был бы совсем одинок…
– Что вы такое говорите! – всполошилась Варя. – У вас ведь и друзья, и ученики… да и женщины на вас засматриваются, – тихо добавила она.
Спиридонов последнюю фразу пропустил мимо ушей.
– Друзья, – невесело улыбнулся он. – Тоже мне, друзья. Делаешь человеку добро, а потом, оказывается, ты косный формалист!..
Варя побледнела. Губы ее задрожали:
– Это что же… это такое сказали про вас?
На улице стало смеркаться, хотя было еще светло. Западный ветер, как и предсказывало Центральное бюро погоды, притащил откуда-то тучи. В общем, погода начала соответствовать настроению Спиридонова.
Он кивнул:
– Ага. И человек, которому я ничего не сделал дурного, только и того, что не соглашался с некоторыми его безумными идеями…
Варя протянула руку и несмело коснулась его. У нее была небольшая ладошка («совсем как у Клавушки») и неровные, обкусанные ногти, хотя он ни разу не замечал, чтобы она их грызла. Бледная и веснушчатая Варина кожа на фоне его – загорелой до цвета молочного шоколада – казалась слегка желтоватой.
– У вас большое сердце, – пробормотала Варя. – Вы слишком много прощаете.
Он хотел возразить ей, но затем согласно кивнул. Зачем прикидываться? Так и есть – он слишком много прощает. Излишне он снисходительный…
Он погладил ее пальцы, очень быстро и машинально, взял чашку с кофе и отпил глоток.
– Знаете что, – предложил он, – давайте-ка сходим куда-нибудь. Например, в ресторан. К «Яру».
У Вари загорелись глаза, но, как на грех, в этот момент по окну застучали первые капли дождя.
– Ну вот… – разочарованно уронил Спиридонов. – В кои-то веки захотел сводить девушку в ресторан… Вам, должно быть, со мной совсем скучно.
– Ну что вы! – горячо возразила Варя. – Ни в коем случае! И не надо мне никаких ресторанов. Довольно и того, что вы дома. Хотите, я могу сама что-нибудь сообразить? Не хуже получится, чем в ресторане!
– Да не надо уж беспокоиться… Просто попьем кофе. Или коньяку. Хотите коньяку?
Варя смущенно кивнула. Ему не пришло в голову, что, предложи он ей цикуты, выпила бы с улыбкой на устах.
– Я сейчас… У нас там еще кусочек сыру есть, и колбаски советской немного, и хлеба…
– Только побыстрей возвращайтесь, – напутствовал ее Спиридонов, с неохотой выпуская девичью руку, которая непонятно каким образом задержалась в его ладони.
* * *
Дождь превратился в грозу. На улице стало темнее, появились дальние молниевые зарницы, которые приближались, гром грохотал все сильнее. Спиридонов помнил, что Варя боится грозы, поэтому они переместились из эркера на диван, забрав с собой столик с нехитрой снедью. Они сидели на маленьком диванчике (к слову, лежа Спиридонов на нем не вмещался) очень близко друг к другу, почти прижавшись.
– Ну что, все еще страшно? – спросил Спиридонов, и Варя смущенно призналась, что да, ей страшно.
Тогда он неловко обнял ее:
– Не бойся.
Вечер получился долгим. Спиридонов рассказал Варе все про Ощепкова. Про их первую встречу, когда он поверил, что встретил единомышленника, про последующие разочарования. С Ощепкова разговор перешел на него; он давно обещал Варе рассказать о себе, но случай представился только сейчас. Конечно, он не рассказывал ей всего, только в общих чертах, но и этого было довольно.
– Вы столько пережили, – проникновенно сказала Варя, не высвобождаясь из-под его руки, а с каждым раскатом грома прижимаясь к нему теснее. – И почему-то совершенно не хотите стать счастливым. А я уверена, что не затем человек приходит на землю, чтобы только мучиться. Оставьте это попам с их юдолью скорби. Человек рожден для счастья, как птица для полета!
«Где-то я это уже слышал…» – подумал Спиридонов. Странное дело, в Вариной речи проскакивали книжные фразы – видимо, она усваивала их намеренно, однако звучали они абсолютно к месту, без нарочитости.
В этот момент ему показалось, что единственный человек на земле, который его понимает, это прильнувшая к нему Варя, едва уловимо пахнущая «Красной Москвой». Он сказал ей, что совсем не знает о ней ничего. Та смутилась, она искренне полагала, что Виктор Афанасьевич ознакомился с ее личным делом. Он отрицательно покачал головой, тогда она сама рассказала – об отце, сгинувшем где-то в полесских болотах в самом начале Империалистической в окруженной армии Самсонова, о матери, в одиночку вытягивавшей восьмерых детей, о вечном чувстве голода, только усилившемся в период военного коммунизма. Ее семья ничего не могла дать продразверстке, но от этого было не легче. Однажды Варя проснулась от запаха дыма. В доме был пожар, вероятно, ослабевшая от голода мать не сумела уследить за огнем. Она пыталась растормошить мать, братьев, сестер, но те, видно, успели уже наглотаться дыму, спали они на полу[49], и лишь Варя – выше их, на печи, потому угар дошел до нее не сразу. Чувствуя, что вот-вот потеряет сознание, Варя из последних сил выбежала на улицу и потом смотрела, как ее дом обращается в груду тлеющих углей…
После смерти родни Варя отправилась в Москву в надежде, что в городе найдется хоть какое-то пропитание. Она мыкалась по монастырям, ночлежкам и приютам, пока не оказалась в коммуне девочек-беспризорниц имени Клары Цеткин.
О своих злоключениях Варя рассказывала спокойно, лишь в моментах, когда умирал кто-то из близких, ее голос едва заметно дрожал. Жестокий век ломал ее так и эдак; но одни люди от ударов становятся сильнее, другие гибнут. Варя выстояла, а значит, оказалась сильнее, но для Виктора Афанасьевича эта ситуация все равно выглядела неправильной. Быть сильным, переносить тяготы – это удел мужчин. Женщины созданы совсем для другого.
В какой-то момент он ощутил особенно остро, насколько одинокой была эта хрупкая девушка, насколько холодным к ней и безрадостным был окружающий ее мир. В его душе появилась какая-то неизвестная ему нежность, почти родительские чувства к Варе. Но она ожидала от него не этого. День плавно перешел в вечер, и на подсвеченное закатом и огнями небо высыпали первые, самые яркие звезды. Варя оказалась в его объятиях, но на том все и закончилось: возможно, всему виной был алкоголь, к которому она тоже была непривычна, возможно – физическая или эмоциональная усталость, но она просто заснула, тихо, как засыпают дети, устав от игры. Спиридонов дождался, пока она заснет крепче, и аккуратно уложил ее на диванчике.
Он вышел в эркер, глядя на дождь, подсвечиваемый зарницами молний, и закурил – он не курил уже часа три, не меньше. Хмель выветрился, голова была ясная, как ставшее ясным ночное московское небо. Куря, он передумал о многом. О Варе, полусонно признавшейся ему в своей любви, которую он не мог и не вправе был разделить; об Ощепкове, которого он защищал, хоть тот и злословил у него за спиной; о самом себе, безупречном внешне, но внутри наполненном далеко не безупречными чувствами.
Он, к своему стыду, понял, что не желал добра Васе Ощепкову и не хотел, чтобы тот его превзошел. И не только потому, что не разделял его подход к обучению самообороне – он слишком долго привык считать дзюудо, самоз и все, что с ними связано, безраздельно своим.
Он не мог ответить на чувства Вари, чтобы не порочить Клавиной памяти; он пытался относиться к Варе как к ребенку, прекрасно понимая при том, что она его интересует не только как человек, но и как женщина. Конечно, в этом он никогда никому не признается. Тайны он не просто хранил, он хоронил их и воздвигал сверху надгробия помассивнее, дабы тайны, не дай бог, не вышли наружу, но сам-то он знал про них и помнил каждую пришедшую к нему предательскую мысль: а почему бы и нет?
Почему не сделать Варю своею любовницей? А то и женой, сейчас с этим просто. Вон милиционер Окороков сколько раз женился, и никто ему словечка не сказал кривого.
Почему бы не проучить наглого Васю Ощепкова? Ведь он презлейшим заплатил за предоброе! Разве не искренне старался он, Спиридонов, спасти его больную жену, которая ему оказалась, видимо, не больно-то и нужна? Разве мешал ему в его продвижении по служебной лестнице, разве ставил палки в колеса, разве вмешивался в процесс его преподавания? Что в результате? «Излишне косный», «имеет признаки формализма»… Кто б говорил! Тот, кто, по простоте, которая, как в народе говорят, хуже воровства, стремится дать навыки боевого искусства всем этим михеевым, заравняевым, сафоновым, былинкиным, плотницыным![50] Молодежь он готовить собрался! А он знает ее, молодежь эту? Он думает, что вся молодежь такая, как те тщательно подобранные ребята, которые изучают единоборства у него в секции?
Но он, Спиридонов, знает, как на самом деле выглядит лицо московской шпаны. Он знал, какими глазами смотрит эта шпана на советского гражданина. Заравняев сделал себе стальную перчатку с лезвиями, куда более опасную, чем нож или кастет. Иванов – Поросятник раз зарезал мужчину только лишь потому, что тот был в очках. При этом оставив сиротами четырех детей, старшему из которых было шесть. Когда вдову этого бедолаги полгода спустя обокрал в трамвае какой-то щипач, она повесилась. И что, Заравняев да Поросятник – это те, кто «готов к труду и обороне»?
Проснувшаяся и тихо, как луна над Москвой-рекой, вышедшая на балкон Варя прижалась к его спине грудью, обняв руками. Было прохладно, она вся дрожала. Спиридонов обернулся и обнял ее, прижав к себе. Еще не превратившаяся в мегаполис, еще сохраняющая часть старой провинциальности Москва спала, и здесь, на Пресне, было тихо, словно весь мир погрузился в сон.
Кожа у Вари была прохладной и гладкой, как у Акэбоно, и тонкий, теплый запах, такой знакомый, тоже отчасти принадлежал ей. А отчасти – Клавушке. Сам не понимая, как это произошло, Спиридонов слегка коснулся губами прохладной девичьей щеки. Варина кожа была сладковата, напомнив ему вкус белил из рисовой муки, долго остававшийся у него на губах после визита в Талиенвань.
Акэбоно, Клавушка, Варя… совсем разные, но как они были похожи одна на другую!
Три женских образа слились для него в одну безымянную, хрупкую женскую фигурку, похожую на фарфоровую статуэтку, и будто струна, туго натянутая в его душе, лопнула с тихим звоном… Осторожно, словно Варя действительно была из фарфора, он подхватил ее на руки и скрылся в темноте комнаты.
Глава 11 Захват судьбы
1935
Многие люди не совершают плохих поступков, потому что боятся. Кто-то боится кары небесной, кто-то кармического ответа, кто-то потери общественного положения, кто-то возможной мести от пострадавших. Человек кажется нам добрым, а на деле он просто трус.
Парадоксально, но по-настоящему страшно совсем не то, чего обычно боятся все. Самое страшное – возмездие не наступает сразу после того, как человек в чем-то преступил божественную, кармическую или человеческую правду. Возмездие медлит, чтобы настигнуть внезапно, когда его не ждут. Потому никто не может уверенно утверждать, что оно существует, что несчастья происходят с людьми именно благодаря… точнее сказать, в результате их же поступков. Так это или нет – каждый волен сам решать для себя.
После того как мы, заглушив голос совести, поступаем предосудительно, небеса не разверзаются и земля не проваливается у нас под ногами. Жизнь продолжается, мир на первый взгляд остается таким же, каким он был. Вот только изменились мы сами. Цветная сказка ушла, ее место заняла серая, будничная быль. Быль, с которой теперь придется жить всю жизнь.
Спиридонов остался самим собой – честным, принципиальным, ответственным и надежным. Он по-прежнему носил на пальце простенькое серебряное кольцо с именами его и Клавы на внутренней стороне. Но теперь в его жизни была и Варя. Она ничего у него не требовала и не просила, ничего от него не ждала. Ей было достаточно быть рядом с ним. Хватало той молчаливой нежности, которую он ей дарил.
Виктор Афанасьевич не изменился – или почти не изменился. Возможно, кто-то внимательный и заметил бы в нем перемены – другой взгляд, другие интонации в голосе… – но никого не нашлось.
На первых межведомственных соревнованиях по «вольной борьбе без оружия», как окончательно это стало называться, спиридоновцы одержали уверенную победу. И это несмотря на то, что с августа Спиридонов появлялся в клубе спорадически – часто уезжал в командировки то в один конец страны, то в другой. Иногда брал с собой Варю, официально она помогала ему в работе над очередной брошюрой по самозу. Неофициально же…
Это было очень романтично – мчащийся с высокой скоростью куда-то курьерский поезд, практически всегда пустой прицепной пассажирский вагон с ненавязчивыми проводниками, пролетающие за окном незнакомые пейзажи… долгие разговоры, чтение книг, чай с чем-то сладким и нежные, но жаркие объятия перед сном. Она была почти вдвое моложе его, и они любили друг друга так, словно в последний раз, словно их каждый миг могли разлучить. Их любовь имела какой-то преступный оттенок, хотя общество не осудило бы их, наоборот. Но что-то было такое, что заставляло их оглядываться, прежде чем упасть друг другу в объятия…
В странствиях Спиридонов много работал – не только подгонял чужие программы под свою методику, но и обогащал ее увиденными у других приемами. За новаторство он никого не ругал, но просил ему сообщать о находках, продолжая совершенствовать комплекс. Даже в самом начале эта работа дала ощутимые результаты, выбив самый сильный козырь из рук противников – самоз оказался не таким уж косным; те, кто им занимался, могли удивить противников.
После окончания межведомственных соревнований Спиридонов на радостях пообещал Варе, что начнет ее тренировать. Более того – он принял решение создать специальную женскую группу сначала у себя на тренировочной базе, а затем распространить эту практику на все динамовские клубы.
Чтобы не тянуть кота за хвост, Спиридонов записался на прием к Ягоде. В тот же вечер Генрих Григорьевич позвонил ему сам:
– Ты там у меня на завтра записан, – сообщил он так, словно Спиридонов того не знал. – Хорошо, а то я уж хотел за тобой посылать…
– По какому поводу? – поспешил уточнить Спиридонов.
– Есть повод, – уклончиво ответил Ягода. – В общем, подходи, буду тебя ждать.
* * *
Зима еще не наступила, но с неба уже сыпал мелкий снежок.
Спиридонов скучал в приемной Ягоды, вспоминая все, что было связано с этим местом. В основном вспоминались чаепития – пустой чай с Дзержинским, сладкий чай то с вареньем, то с пастилой у Менжинского. Странно, но после таких угощений у Спиридонова всегда начинался какой-то подъем сил, какая-то бодрость…
Дверь открылась, и на пороге появился Власик с папочкой под мышкой. Он тепло поздоровался с учителем:
– Виктор Афанасьевич! Жаль, не знал, что вы сюда собираетесь…
– Я экспромтом, – ответил Спиридонов. – А ты здесь какими судьбами?
– Плохими, – честно ответил Власик. – Боюсь, на моего покушаться намерены троцкисты недобитые. У Генриха Георгиевича есть информация, что троцкистское подполье думает ухлопать кого-то из ЦК. Кого – не знают, потому всех поставили в известность. Эх, думаю, до Нового года некогда будет спину разогнуть.
– Плохо, – посочувствовал Спиридонов. – Но за твоего я спокоен. Не думаю, что на него кто-то будет покушаться, у него охрана самая лучшая.
– Спасибо на добром слове, – просиял Власик. – А я вам информацию-то накопал, что вы просили.
Спиридонов внутренне сжался, стараясь внешне оставаться спокойным.
– И что там?
– Понятия не имею, – пожал плечами Власик. – Я не смотрел. И нарочного с такой папкой послать вам некого. Вы могли бы подскочить к «Астории», завтра, скажем?
– Не знаю еще, – честно сказал Спиридонов. – Посмотрим, как сложится разговор с Генрихом Григорьевичем. Позвони мне, лады?
– Уговор, – ответил Власик, и они попрощались.
В кабинете Ягоды, кроме его хозяина, никого не было. Пока Спиридонов ждал, за окнами повалил мягкий мокрый снег. Ягода стоял у окна и смотрел на снегопад. На столе не было ничего, кроме одинокого полупустого стакана в подстаканнике.
– Скажи мне, Виктор Афанасьевич, – елейным тоном начал нарком, и Виктор Афанасьевич сразу почувствовал неладное, – что отличает верного ленинца от врага народа?
– Ну вы и вопросы задаете, Генрих Григорьевич, – недоуменно ответил Спиридонов. – А чем гвоздь отличается от партсобрания?
– Уточню, – сказал Ягода, возвращаясь за стол, – какие качества врага народа отличают его от верного ленинца?
Подумав, Спиридонов ответил:
– Полагаю, основной чертой поведения врага народа является ненависть к советской власти.
– А зима – это время года, когда холодно и снег, – вздохнул нарком. – Хотя снег вот пошел, а до зимы еще два дня…
Он отхлебнул чаю из стакана и поморщился.
– Лана, будьте добры, сообразите нам с товарищем чаю. Тот, что вы сделали, уж простыл совсем, – попросил он.
Тут же, словно призрак, в дверях возникла юная девушка с подносом. На подносе парили две чашки, рафинад в широкой хрустальной сахарнице. Традиция поить гостя чаем сохранялась, несмотря на то что Чрезвычайная комиссия, довольно долго пробыв управлением, выросла в наркомат.
– Запомните, Виктор Афанасьевич, – сказал Ягода, накладывая рафинад себе в чай и размешивая ложечкой, – основными качествами врага народа являются его подлость, коварство и готовность к предательству.
– Логично, – согласился с ним Спиридонов, отхлебнув чаю, чтобы скрыть замешательство. Он не понимал, к чему клонит нарком. Хорошо, что чай успел подсластить.
Ягода вздохнул и вытащил из стопки бумаг на столе газету «Рабоче-крестьянская милиция» с портретом Сталина, пожимающего руку наркому связи товарищу Рыкову на первой странице. Впрочем, ему нужна была фотография на последней странице газеты. С фотографии на Спиридонова, блаженно улыбаясь, смотрел наголо бритый Вася Ощепков в окружении восхищенно глядящих на него милиционеров. За их спинами виднелась часть транспаранта с каким-то лозунгом о мировой революции.
– Почитаешь статью или лучше я перескажу? – спросил Ягода.
– Перескажите, если вас не затруднит… – Спиридонов напрягся.
– Вкратце так… – Нарком сложил газетку вчетверо. – Твой дорогой друг Ощепков решил, что подготовки красноармейцев ему мало. Он провел у себя инструкторские курсы, на которых присутствовал некий Александр Рубанчик из Ростова-на-Дону, милиционер. Тот был так восхищен, что договорился с руководителем Центральной высшей школы милиции, где проходил курсы повышения квалификации, чтобы тот… Ощепков наш… провел там показательные выступления. Ощепков упрашивать себя не заставил, прибыл со всем своим армейским кагалом.
Неожиданно Ягода хряснул кулаком по столу, так что чашки подпрыгнули, звякнув о подстаканники.
– Разрази его гром, это просто похабщина! – вырвалось у него злобное. – Такое впечатление, что у нас нет своей системы подготовки! Давно пора распространять самоз и среди курсантов ОГПУ, в массовом порядке! Конечно, после принятия ими присяги, – спешно добавил он, глядя на недобро прищурившегося Спиридонова. – Виктор Афанасьевич, вы как хотите, но я считаю, что это попросту возмутительно…
Спиридонов был с ним согласен.
– …и думаю, что этого выскочку все-таки стоит окоротить… Как вам будет угодно, а я дал указания товарищу Лившицу, чтобы он разобрался, что это за гусь.
Спиридонов почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. Кто его знает, что это за Лившиц, сам Виктор Афанасьевич с ним не сталкивался, а в ОГПУ… то есть НКВД, по слухам, работали отнюдь не одни ангелы с крылышками. А если быть точным, согласно слухам, среди чекистов немало таких, кому просто нравится властвовать над чужой жизнью и смертью. Дай им волю – они и на Христа нароют расстрельную статью…
И самое страшное – Спиридонову иной раз казалось, что и Ягода из их числа.
– Генрих Григорьевич… – Он кашлянул, уткнув губы в кулак. – Прошу вас, не рубите с плеча. Ощепков, возможно, не сознавал, что идет на нарушение революционной субординации. Он увлекающийся, мечтательный, одержим идеей внедрения навыков самообороны в массы. Мне кажется, в его действиях нет злого умысла…
– Да что ж ты за человек такой! – вспылил нарком. – Тоже блаженный, что ли, как твой Ощепков? Спиридонов, времена изменились, революции блаженные не нужны. Мы в окружении врага, нам нужны суровые, беспощадные солдаты, беспощадные прежде всего к себе!
– К себе – да, – ответил ему Спиридонов спокойно. – А к другим? О каком пролетарском товариществе можно говорить, если мы в каждом чихе будем видеть уклонизм, а в каждом товарище – потенциального врага народа?
– И что ты предлагаешь? – тихо спросил Ягода. – Оставить все как есть? Пусть он вместо тебя готовит милицейские кадры, так, что ли? А тебя тогда куда, в Наркомат связи к товарищу Рыкову?[51]
– Я сам выговорю ему, – твердо пообещал Спиридонов. – Лично поставлю на вид. Полагаю, этого будет достаточно, а до того времени попрошу вас, Генрих Григорьевич, никаких действий против Ощепкова не принимать. Снять с человека голову легко, а вот пришить на место…
– Не так легко, как ты думаешь, – перебил его Ягода. – А если он упрется рогом?
Спиридонов задумался. Такой риск, конечно, существовал. Ну что ж, он приложит все силы, чтобы этого не случилось.
– Тогда вам и карты в руки, товарищ нарком, – ответил он.
Ягода устало откинулся в кресле:
– Ну и пес с тобой. Давай уж, выговаривай, но, если я хоть полслова еще про этого Ощепкова услышу, я его из «маузера» пристрелю! Понял?
– Так точно, товарищ нарком! – браво отвечал Спиридонов.
– Итогами межведомственных соревнований я доволен… – Ягода стал успокаиваться. – Иначе твой Ощепков до нашей встречи и не дожил бы, а если бы и дожил, все равно бы ты меня не уломал, гуманист. Но не забывай, Виктор Афанасьевич, что в следующем году у нас опять будут межведомственные соревнования по самообороне, сам знаешь. Будут армейцы, краснофлотцы, авиахимовцы, железнодорожники… команд будет еще больше. И они весь этот год будут готовиться.
– Знаю, товарищ нарком, – кивнул Спиридонов. – Готовлю ребят с того момента, как закончились эти. По семь потов за тренировку сгоняю.
– Что ты заладил, «товарищ нарком» да «товарищ нарком», – проворчал Ягода. – Ты у меня смотри – твои ребята всегда должны быть самыми лучшими. Чтобы ни у кого вопросов не возникло, чья система сильнее, понял?
– Так точно, Генрих Григорьевич…
* * *
Тем же вечером Спиридонов позвонил в Ивановский монастырь, где располагалась Центральная высшая школа милиции, непосредственно ее начальнику майору Аударину.
– Вольдемар Матвеевич, вас беспокоит майор госбезопасности Спиридонов, – сказал он ровным тоном.
Голос его собеседника был встревоженным:
– Добрый день, Виктор Афанасьевич. Мне звонили уже… от наркома.
– Вот что, Вольдемар Матвеевич, – неторопливо проговорил Спиридонов. – Я считаю, нам следует обсудить проблему в узком кругу. Не хотелось бы выносить сор из избы, да и с нашей стороны есть большая недоработка в том, что вам своевременно не дали нашу, чекистскую программу подготовки. Я завтра подъеду к вам в школу, а вы, будьте любезны, свяжитесь с вашим Ощепковым и обеспечьте его прибытие по месту.
Майор прокашлялся:
– Виктор Афанасьевич, разрешите обратиться?
– Обращайтесь, – разрешил Спиридонов.
– Понимаете, ситуация возникла по моему недосмотру, и мне не хотелось бы…
– Если вы насчет Ощепкова беспокоитесь, то ему ничего не угрожает, – сухо ответил Спиридонов. – Он хороший специалист, а его система вполне пригодна для первоначальной подготовки неквалифицированных кадров. Но рабоче-крестьянская милиция нуждается в чем-то большем, чем ГТО. Вы меня поняли, товарищ?
– Так точно, – ответил Аударин, и они распрощались.
Спиридонов положил трубку на рычаги, но спокойствия в душе не ощутил. Предстоял серьезный разговор. Да что греха таить – предстоял настоящий поединок. Ощепков мог не согласиться с его доводами. У него могли быть свои аргументы. Ощепков не понимал, что Москва – это не Кодокан. Что нельзя идти против Системы. Не его системы. Против той Системы, что в мучительных судорогах рождалась из послереволюционного хаоса.
Варя подошла тихонечко и осторожно обняла его за плечи:
– У вас опять проблемы?
Она, как и Клавушка, называла его только на «вы», и порой Спиридонову казалось, что, дай ей волю, она звала бы его своим господином, как Акэбоно. Она ничуть не изменила манеры своего с ним общения после того, как между ними произошла близость. Словно это не давало ей никаких прав на него. Словно она по-прежнему была не больше, чем его помощником. Причем у нее, как и у Клавушки, и как до того у Акэбоно, не было в этом даже тени раболепия. Только преданность и любовь.
– Есть немного, – ответил Спиридонов. – Завтра придется ехать в Ивановский монастырь.
О том, какое заведение размещается в бывшей обители, знала вся Москва. А Варюшка, как оказалось, знала и того больше.
– Там не так давно ваш приятель осел, – сказала она. – Ведет «общедоступные курсы самообороны для курсантов». И девушек, кстати, принимает.
Спиридонов вспомнил, что так и не согласовал с Ягодой идею женских курсов. Впрочем, это не страшно. Успеется.
– Знаю, – ответил он. – Опять он перешел мне дорогу, а я его выгораживаю!
– Зачем? – с детской непосредственностью откликнулась Варя. – Вот пусть бы и набивал свои шишки самостоятельно.
Она обошла его стул и присела на корточки рядом. Варя часто сидела так, когда он работал, обосновавшись в эркере. Она говорила, что ей так удобнее, чем на стуле.
Спиридонов вздохнул:
– Если бы дело было в одних только шишках! Он ведь и лоб расшибить может.
Варя серьезно на него посмотрела:
– И пусть бы, – сказала она тихо. – И не жаль.
– Да как ты можешь! – возмутился Спиридонов. Впервые за все время Варя сказала что-то абсолютно для него неприемлемое.
– Да просто, – ответила Варя. – Что вы видели от него хорошего? Все у вас проблемы только с ним. Вы его выгораживаете, а он вам то и дело подгаживает.
– Он не нарочно, – вступился за Ощепкова Спиридонов. – От незнания лишь.
– А ругал он вас тоже от незнания? – спросила Варя. – Виктор Афанасьевич, порой люди только кажутся добрыми и хорошими. Порой они снаружи белые, а внутри черные, как сажа.
– Не Ощепков, – убежденно сказал Спиридонов. – Я в это не верю.
Варя пожала плечами:
– Вы-то его лучше знаете… Сготовить вам чаю? Или кофе? Или покушать?
Ее голос стал серым, что бюварная бумага.
Подчиняясь неожиданному порыву, он обнял Варю и привлек к себе:
– Не сердись на меня… Я не хочу тебя обижать. Больше всего на свете я хочу, чтобы у тебя было все хорошо.
– Вы меня не обидели, – ответила Варя, и голос ее прозвучал как-то жалобно. – Я за вас переживаю, понимаете? Если с вами что-то случится, я… я… Если вас не будет, то и меня не будет, Виктор Афанасьевич.
* * *
В назначенное время Спиридонов приехал в Ивановский монастырь. Настроение у него было, прямо скажем, негодное, но не столько из-за художеств Ощепкова, сколько из-за Вариных переживаний. Удивительно, но за такое короткое время его помощница заняла в его жизни столь важное место, что ее печаль печалила и самого Спиридонова.
Встречал его начальник школы. И было видно, что он волнуется. Да, Аударин был не на шутку встревожен. Можно даже сказать – был в панике. Как сотрудник НКВД он имел хорошее представление о субординации и понимал, что майор Спиридонов и майор Аударин, при абсолютном тождестве званий, различаются примерно как ферзь и пешка.
– Виктор Афанасьевич, это всецело моя недоработка, – виновато повторил он. – Я и не знал об утвержденных планах централизованной подготовки по самообороне. Года полтора тому назад я обращался в главк с рапортом… о предоставлении мне плана занятий… но ответственный работник дал резолюцию, что каждый руководитель имеет право сам выбирать соответствующий учебный план, а потому, когда товарищ Рубанчик…
– С самоуправством гражданина Рубанчика мы разберемся, – остановил его Спиридонов, – а вот не подскажете ли мне фамилию того уполномоченного, что резолюцию вынес?
– Конечно! – Аударин заметно обрадовался, смекнув, что свой недосмотр можно спихнуть на кого-то другого. – Как закончите, пройдем ко мне в кабинет, и я подниму документы…
Спиридонов поспешил осадить его:
– Однако вопрос о вашей халатности не снимается. Моя система принята в НКВД в качестве базовой, и это не только доводилось до сведения нижестоящих организаций многочисленными циркулярами, но и об этом неоднократно писалось в ведомственных изданиях. Вам достаточно было хотя бы обратиться в «Динамо»…
Аударин побледнел, затем залился нездоровым румянцем:
– Ва… Ви… товарищ майор, но этих циркуляров в день по десятку приходит! И половина касается процесса подготовки кадров! Партия и правительство уделяют этому вопросу повышенное внимание, а…
– А вы – недостаточное, – отрезал Спиридонов. – Считайте, что получили выговор без занесения. Я знаком со многими из ваших выпускников и ценю работу вашего учреждения. Потому уверен, что вы исправите свою оплошность и все это не будет иметь последствий. Надеюсь, вы смогли договориться о присутствии здесь Ощепкова?
– Так точно! – ответил Аударин. По его лбу катились бисеринки пота. – Он попросил провести последнюю тренировку. Сейчас он с учениками в зале.
– Вот и отлично, – подвел итог Спиридонов, – проведите меня туда.
* * *
Увидев Спиридонова, Ощепков прервал объяснения двум курсантам и, хлопнув их по плечам, устремился ему навстречу.
– Витя, рад тебя видеть! – Он протянул Спиридонову руку. Тому очень хотелось пожать ее, но он демонстративно скрестил руки за спиной. Он должен быть строгим, не поддаваться ощепковскому обаянию.
– Василий Сергеевич, – мягко проговорил он, – мы профессионалы. Я прекрасно вас понимаю. Вы целиком отдаетесь работе и не обращаете внимания на то, что считаете мелочами. Но я вынужден поставить вам на вид: у ОГПУ есть собственный, утвержденный план подготовки специалистов, и подготовку следует проводить в соответствии с ним.
Вид у Ощепкова стал детски обиженным, вид ребенка, столкнувшегося с вопиющей несправедливостью. Отчего-то у Спиридонова защемило сердце. В Васином взгляде было что-то такое, что не могло оставить никого равнодушным, даже странно. Зря он, конечно, не подал Васе руки. Сыграл большого начальника, стратег ошпаренный…
– Витя, мы уже говорили с тобой об этом, – ответил Ощепков растерянно. – Конечно, я не хотел бы тебе мешать, но ведь РККМ…
– …является частью ОГПУ, – хмуро договорил за него Спиридонов. – То есть, разумеется, НКВД. Вася, мы только выстраиваем нашу систему подготовки… Управление расширили до наркомата, работы непочатый край.
– Вот я ж и хотел помочь! – с горячностью воскликнул Ощепков. – Сам понимаешь, у меня работы не меньше, но если мы не станем помогать друг другу…
Спиридонов вздохнул:
– Василий Сергеевич, вы и так мне помогли, – проговорил он с оттенком иронии, все еще сохраняя начальственный тон. – Ваше ГТО делает молодежь более подготовленной. Увы, не только к труду и обороне. Вы не понимаете, что бойцам Красной милиции нужны более специальные знания и умения?
– Это еще зачем? – Ощепков знал, но принял свою тактику разговора.
– Чтобы они могли справиться с хулиганами, сдавшими нормы твоего ГТО, – Спиридонов сказал, как хлестнул. – Вася, я тебе говорил, чем это закончится? Прогуляйся ночью возле своего дома на Страстной площади…
– Я переехал… – невпопад сообщил Ощепков. – Нам дали сдвоенную комнату.
– Рад за тебя, – пробормотал Спиридонов. – Так вот, в этом парке меня попыталась ограбить шпана. И один из них уже успел сдать на третью степень.
– Подготовка по дзюудо начинается со второй, – уточнил Ощепков.
– Да какая разница! – взорвался Спиридонов. – Как же ты не поймешь…
– А вот так, – ответил Ощепков спокойно. – Может, Витя, я просто глупый. От природы такой упертый болван. А?.. Но знаешь, я думаю, что тот, кто по-настоящему посвятит себя дзюудо, не станет хулиганить на улицах. И я думаю, что никакие «специальные системы» тут не нужны. А нужны энтузиасты, те, кто посвящает себя дзюудо без остатка. И границы эти – искусственные, – Ощепков показал на стену спортзала, некогда бывшего трапезной; под слоем небрежной побелки все еще можно было разглядеть лики святых, – границы эти тоже совсем ни к чему. Как многого бы мы достигли, если бы работали вместе! Если бы СНК не спускало НКО циркуляры о недопустимости того-то и того-то в системе подготовки бойцов РККА, твои циркуляры, Витя.
– Первый раз о них слышу, – честно признался Спиридонов.
Но Ощепков не останавливался:
– Ведь мы делаем одно дело! И ты, и я – мы создаем наше, российское дзюудо! Как и завещал нам наш с тобой общий учитель.
Упоминание Фудзиюки больно кольнуло Спиридонова.
* * *
Спиридонов прочитал дневник – не без труда, на это у него ушло три года. Зато он обрел ответы на все свои вопросы. Фудзиюки действительно пытался приехать в Россию, но после Русско-японской войны для японца визит в «побежденную» страну стал делом весьма затруднительным. Он вернулся в Кодокан, но в Кодокане ему были совсем не рады. Дзигоро Кано ожидал «возвращения блудного сына» – в покаянном рубище, с признанием собственной неправоты. Но Фудзиюки вернулся как триумфатор.
«Моя правота доказана на практике, – писал он. – Я не говорил этого Викторо-сан, только намекнул. Сказал, что у него будут свои ученики. Не сказал только сколько.
В Библии, которую я сейчас читаю в прекрасном переводе Никорай-сама, есть история про Авраама-сама, угодившего Богу. Бог сказал: потомство твое будет многочисленно, как звезды в небе. У моего ученика будет столько же учеников; придет время, и они заполнят небосвод и засияют ярко, ярче, чем звезды Кодокана!»
На страницах дневника Спиридонов знакомился с совершенно другим Фудзиюки, с Фудзиюки, которого он не знал. Он знал реалиста, почти циника, знал уставшего, пожилого искателя истины, не нашедшего того, что он искал всю жизнь. Фудзиюки из дневника был молодым, пламенным, мечтающим и, кажется, молодел с каждым годом. С каждым выпавшим на его долю испытанием.
Фудзиюки не сдавался, какие бы препятствия перед ним ни возникали. Его друг и ученик Окамото рассказал ему про «русский дом», дом Николая. Сказал, что там преподают дзюудзюцу, но преподаватель свои обязанности исполняет абы как. Фудзиюки загорелся желанием попасть в Никорай-до. Тогда он уже был болен желтухой.
В доме Николая Фудзиюки, по его словам, нашел то, что искал.
«Я как ловец жемчужин, видевший на дне самую прекрасную раковину; я готов задержать дыхание до разрыва легких, лишь бы заполучить ту жемчужину, что она скрывает», – писал он. Он проводит долгие часы в беседах с владыкой Николаем и другими наставниками школы. Вначале он считает их истину лишь частью большей, всеобъемлющей истины, русской истиной; он приводит такие параллели: православие – это русская истина, а его ученик, Викторо-сан, должен создать «русский путь борьбы», русское дзюудо. Но в православном мировосприятии он находит так много общего с той философией, которая, по его пониманию, лежит в основе «мягкого пути», что со временем начинает сомневаться, действительно ли это лишь часть великой истины – или все-таки вся великая истина, пусть увиденная с русской колокольни. Чтобы понять это, он сосредотачивается на тренировке русских учеников.
«Я хочу русского, православного мальчика сделать дзюудоку, – пишет Фудзиюки. – Хочу увидеть православное дзюудо. Уже не просто русское, а именно православное. Однажды я уже оказался прав. Не ошибусь ли на этот раз?»
Болезнь начинает медленно отступать, и Фудзиюки не может понять причин этого; все, что он знает о своей болезни, свидетельствует о том, что ему должно становиться хуже. И он делает сам себе анализы, даже берет пробы печени с помощью иглы из китового уса, чтобы понять, что происходит в его организме.
Результаты проб его удивили. В его организме не оказалось инфекций. Печень разрушается по другой причине. Вскоре он ее выясняет: в организм попало некое постороннее вещество, по косвенным признакам сходное с ядом фугу. Но Фудзиюки не ел фугу очень давно, он не может вспомнить, когда это было в последний раз, однако после того случая он остался здоров. Значит?
Значит, кто-то его травил. А затем бросил. Почему? Если его хотели убить – почему не довели начатое до конца? Возможно, целью было совсем не убийство?
Спиридонов знал, что острый ум Фудзиюки найдет разгадку. Сам он не мог нащупать ее, хотя, говорят, со стороны виднее. Но Фудзиюки все-таки эту разгадку нашел – его просто хотели выдавить из Кодокана. Убрать. Убить. Но, когда он уехал сам, решили не продолжать отравление. Незачем. Пусть себе учит бака гайцзынов усеченной версии дзюудо. Такова, видимо, была логика Дзигоро Кано.
Фудзиюки прекрасно понимал, что не сможет ничего никому доказать. А обвинить кого-то без доказательств означало потерять лицо, что было никак не возможно. И тогда он решил отомстить Кано иначе. У него не было времени дожидаться, когда взойдет посеянное им семя, когда Спиридонов сделает свое «русское дзюудо». Но, к счастью, у него был запасной вариант – его новые русские ученики, особенно один, делавший особенно выразительные успехи, но не понимавший этого из особой врожденной скромности. Вася Ощепков.
Об Ощепкове Фудзиюки отзывался почти с тою же теплотой, с какой писал о нем, Спиридонове:
«Он вернется в свою холодную северную страну, и их будет двое. Сколько звезд они зажгут! Об одном я молю Силы Света – чтобы никогда они не поссорились друг с другом, не стали считать друг друга врагами. Пусть они лучше вовсе не узнают друг друга, лишь бы не было между ними распрей. Пусть все их возможное противостояние будет только лишь на татами и всегда заканчивается поклоном уважения».
Читать эти слова Спиридонову было отчего-то неловко. Но не из-за хвалебных слов в адрес Ощепкова. У него возникало чувство, что он в чем-то подвел Учителя…
* * *
Фудзиюки долго сомневался, стоит ли посылать русских мальчиков в Кодокан.
«Я научил их многому, но этого мало, чтобы противостоять всей школе, – писал он в дневнике. – Но без Кодокана все, что я делал, лишено смысла. Им нужны поединки с другими дзюудоку. Но Дзигоро Кано не даст им равных партнеров. Он постарается сразу подавить их. Выбить из них желание учиться дальше или попросту уничтожить».
Фудзиюки даже скорбит о своем учителе:
«Боже, какой великий ум и какой ограниченный! Я могу его понять, когда думаю, как он, в рамках представлений японской нации. Но дзюудо и его философия больше, намного больше, чем маленькая Япония. И Россия для дзюудо может дать самую плодородную почву!»
Несмотря на отказ ему во въездной визе, Фудзиюки с теплотой отзывается о родине Спиридонова и Ощепкова. Рассуждая о России, он пишет о судьбах мира: «Россия – это мир в миниатюре. Она не единственная страна, где живут люди разных рас, разных национальностей и вероисповеданий, но единственная, где одна раса не доминирует над остальными. Если мечте гуманистов суждено сбыться и человечество объединится, то только по образу России, и именно с России начнется такое объединение. Потому что в России создана единственная дееспособная концепция гармоничного сосуществования абсолютно разных людей».
Спиридонов был удивлен, насколько его учитель полюбил его Родину. Вдвойне он удивился причине такой любви:
«Этому научил меня мой ученик, Викторо-сан. Он не кричал о своем патриотизме. Его любовь к Отчизне была безмолвна, но притом абсолютно истинна».
Уже умирающий, Фудзиюки писал, что очень хотел бы перед смертью хоть раз увидеть своего сына – так Учитель назвал его в первый и последний раз…
Фудзиюки постепенно все больше склонялся к православию:
«Нет отдельной японской или русской правды, правда одна для всего человечества. Если разобраться, Будда учил тому же, что и Христос. Но, в отличие от Будды, Христос не только учил – ради своей Правды он пошел на мучительную смерть. Красивые слова и добрые дела сами по себе ничто, они лишь тогда имеют цену, когда ты жизнь готов отдать за них». И Фудзиюки не просто писал это – он подтвердил это на деле.
* * *
«Если бы у них было немного времени, чтобы окрепнуть!» – писал он о своих учениках и постепенно приходил к мысли, которую и выразил незадолго до того, как отвезти ребят в Кодокан:
«Им нужно время, и я дам им это время. Дзигоро Кано думает, что загнал меня в тупик; я загоню в тупик его самого. Пока я буду рядом, он не сможет ничего сделать моим детям. А у меня хватит сил, чтобы быть рядом достаточно долго, чтобы они перестали во мне нуждаться».
Прочитав эти слова, Спиридонов похолодел. Выходит, Фудзиюки пожертвовал собой, чтобы Ощепков мог довести до конца свое обучение в Кодокане? Учитель знал, что каждый визит в Кодокан – это порция яда в его организм…
«Яд можно дать десятками способов, – писал Фудзиюки. – Не обязательно в пище, от которой я не могу отказаться. В сакэ, в воде, чтобы омыть руки, в полотенцах, чтобы вытереть лицо. Ядом можно смазать ладонь и дотронуться до меня – сильный яд способен проникнуть через одежду и кожу…»
…и все-таки шел на смерть, чтобы выиграть немного времени – для кого?
Для Ощепкова.
То есть Ощепков отчасти был виноват в смерти Учителя, констатировал Спиридонов. Читать Фудзиюки ему было тяжко, но вовсе не потому, что тот писал на эсперанто. С языком Спиридонов освоился быстро. Тяжко ему было, ибо до хруста в пальцах хотелось оказаться рядом с Учителем, помочь ему. Хотелось выйти с Учителем на белый квадрат в Кодокане, бросить вызов заносчивому Дзигоро Кано. Швырнуть его на татами, зажать в уммэй-джимэ и смотреть, как его жизнь уходит из него вместе с непоколебимой уверенностью в превосходстве японцев как нации.
А потом отпустить его, чтобы он жадно хватал воздух немеющими губами. Но Спиридонов – русский. Это не значит, что он лучше японца – или наоборот. Это значит, что в нашем характере есть одна роковая черта – сострадание, сочувствие к слабым, к побежденным, к несчастным. К инвалидам, дуракам, иностранцам, как говорил Дзигоро Кано.
Фудзиюки сохранял ясность мысли до последнего вздоха. Как врач он скрупулезно записывал все симптомы разрушения печени и отравления организма. Он писал о своей боли так, словно это была не его, а чужая боль. Он описывал слабость, тошноту, обмороки так, словно наблюдал их со стороны. В последние дни боль не отпускала его. Она, казалось, проникала во все суставы и жилы, забиралась в каждую клеточку организма.
Но не о боли и не о страданиях думал Фудзиюки, умирая. Он думал о том, достаточно ли сделал он для Ощепкова. О том, достаточно ли сделал для Спиридонова. Он думал о них и на смертном одре.
В последний день своей жизни он решил креститься и объяснил это желание так:
«Если Бог Викторо и Васы есть, возможно, то, что я сделал, Ему будет угодно. А еще, если Викторо или Васа, скорее Васа, захочет помолиться за своего Учителя, он будет молиться не за язычника, а за христианина».
Девятнадцатого декабря Фудзиюки Токицукадзэ был крещен владыкой Николаем. Согласно празднику того дня, он был наречен Николаем. В тот же вечер его соборовали. Об этом Фудзиюки уже не писал: кто-то вложил в дневник короткую записку, написанную хорошим каллиграфическим почерком на русском языке. По свидетельству этого неизвестного, перед смертью Фудзиюки прошептал несколько фраз. Фразы были библейскими. Незадолго до полуночи он сказал: «Зачем ты меня оставил?» – но не со скорбью, отмечал очевидец, а с грустью. Ближе к полуночи прошептал: «Прости им. Всем им прости». Говорил он это все по-японски. Это были не единственные его слова, но все, которые смог разобрать бывший рядом с ним человек. Пополуночи Фудзиюки сказал: «Любите…» – а перед рассветом: «Ну, наконец-то…»
Умер Фудзиюки Токицукадзэ около двух часов следующего дня.
* * *
Фудзиюки шел на смерть лишь для того, чтобы Ощепков получил свой пояс. И для того, чтобы он стал Спиридонову другом, соратником, товарищем. А Ощепков с его идеализмом предал его идею. Так думал Спиридонов.
Какую страшную власть имеет над человеком гнев! Он превращает разумное существо в настоящее чудовище. Под влиянием гнева мы готовы на все, лишь бы сделать больно тому, на кого он направлен. Солгать – запросто; разгласить чужую тайну – пожалуйста! Лишь бы объект нашей ненависти испытал как можно более сильную боль.
Кто же мы, если так поступаем? Достойны ли мы того, чтобы называться людьми? Есть ли на свете мыло, которое может отмыть от такой грязи, которой мы добровольно вымазываемся, поливая грязью другого?
– Не говори мне об Учителе, – сказал Спиридонов. – Не тебе о нем говорить. Без него ты никогда не стал бы дзюудоку. Он заплатил за это слишком большую цену.
– Я знаю, – покорно ответил Ощепков. – Я очень обязан ему. И тебе, Витя, очень обязан. Вы сделали меня тем, кем я стал. Так зачем же ты мне мешаешь? Почему все время останавливаешь?
– Потому что ты сам того захотел! – вспылил Спиридонов. – Надо было тебе раздавать дар кому попало?
– А для чего он тогда нужен? Ведь и Фудзиюки, по твоим словам, раздавал свой дар. Если бы он думал, как ты – ни ты, ни я здесь бы не стояли… – Лицо Ощепкова порозовело.
– Фудзиюки не давал свои знания кому попало! – повторил Спиридонов.
– Да-да, только русскому пленному и русскому же беспризорнику, сыну каторжницы, – ответил Ощепков с улыбкой. – Витя, с точки зрения его круга мы были самыми настоящими отбросами – гайцзын, бака и шийо кинши.
На миг Спиридонов понял, что в словах Ощепкова есть смысл. Но гнев владел им, и это понимание было слишком слабым средством, чтобы его погасить.
– Раздавая дар, ты его разбазариваешь! – почти выкрикнул он.
– Раздавая дар, я его приумножаю, – спокойно возразил Ощепков. – Хочешь, покажу?
И он кивнул на татами. Спиридонову не надо было ничего объяснять, он присел и стал расшнуровывать ботинки.
Белый квадрат решит их спор. Любой спор дзюудоку можно решить только там, в их мире. В мире, который по-прежнему, несмотря ни на что, принадлежал и ему, и Ощепкову.
Это было правильно.
* * *
В дзюудо все решает не сила. И не умение. Конечно, более умелый боец победит менее обученного, но не обязательно будет так. Как ни странно, в дзюудо побеждает тот, кто имеет больше прав на победу.
Их силы были равны. Их знания, их умения, их навыки были равны. Равными были их воля к победе и преданность «мягкому пути». Должно было произойти еще что-то, чтобы нарушить это равновесие, чтобы один из них оказался на татами, доказав другому его правоту.
Это случилось к исходу сороковой минуты противоборства, за которым с замиранием сердца следил весь зал, куда, кажется, набилась вся школа – и курсанты, и преподаватели. Оторваться от происходящего было невозможно. Этот поединок был сагой о дзюудзюцу, балладой о борьбе, гимном самообороне. Симфонией противостояния.
И вот в этой симфонии наступило крещендо. От подсечки Ощепков кувыркнулся, упав на одно колено, и, прежде чем успел выпрямиться, оказался в болевом захвате. Уммэй-джимэ, захват судьбы. Спиридонов, пусть поздно, но вспомнил, чем закончился подобный сценарий без малого двадцать лет тому назад в Кодокане. Он даже почти успел принять меры. Почти.
Увы – его меры сработали против него же. Он сильно сопротивлялся, и оттого бросок оказался еще опаснее. Удар был почти таким же сильным, как после знаменитого броска Фудзиюки, но с тою лишь разницей, что Спиридонов был к нему готов. Превозмогая боль в ребрах, спине и голове, он перевернулся на бок, чтобы, оттолкнувшись от татами, вскочить на ноги. Сознание мутилось; с запозданием, но он понял, что может сам оказаться в уммэй-джимэ. И очень удивился, когда понял, что этого не произошло.
Он посмотрел на противника. Таким он Ощепкова еще не видел. Кожа его посерела, глаза словно потухли, губы же, наоборот, потемнели. С ним было что-то не так.
– Вася, что с тобой? – бросился он к Ощепкову. Это могла быть и уловка, его можно сейчас взять врасплох, но он не думал об этом, кожей ощущая: что-то не так. И черт с ним, если это уловка. Пес с ним, если в результате он окажется на татами.
Он едва успел подхватить Васю под руки. Бережно опустил на ковер и заорал не своим голосом:
– Доктора! Что вылупились, как бараны, врача, скорее!!!
Глава 12 … не бо врагом твоим тайну повем[52]
1936
У каждого человека есть тайны.
Такие, которыми не поделишься даже с самым близким человеком. Не потому, что не доверяешь ему, а совсем по другим причинам.
Хрупкая девушка, кутаясь в не по росту большую для нее плащ-накидку армейского образца, шла по улице. Был вечер. Бушевала гроза, молнии прорезали ночное небо, гром грохотал над головой, дождь лился с неба тяжелыми холодными каплями.
Девушка шла и едва не теряла от страха сознание. Она страшилась ночной темени, грозы и всполохов молний. Страшилась не просто так. Когда-то вот в такую же темную грозовую ночь в их избу ворвались вооруженные люди – стояла изба на отшибе в селе под Пензой.
Тогда девочке было тринадцать. Она была так напугана, что не понимала, о чем говорят ворвавшиеся к ним люди. Лишь годы спустя, вспоминая ту ночь, она поняла, что то был отряд продразверстки. Дом красивой вдовы сначала не привлекал их внимания. Ну какой у вдовы достаток? Но потом одна добрая душа шепнула, что вдова-то замужем за пусть и небогатым, однако купцом. Комиссар успел хорошенько угоститься у все той же «доброй души», сильно желавшей избежать раскулачивания. Вдову комиссар заприметил днем, прикинул и с «маузером» в руках и двумя такими же веселыми товарищами решил нагрянуть к ней в гости.
Тайник с двумя мешками муки, все их богатство, нашли почти сразу. Сокрытие хлеба – преступление перед советской властью. Но можно все решить полюбовно, намекнул комиссар, прикладываясь к бутылке. Сначала девочка не поняла, почему мать отказалась от такого щедрого предложения. Поняла много позже.
Не могла ее мать переступить память сгинувшего в пламени Империалистической войны мужа. Последние письма от него приходили из крепости Осовец. Потом Осовец пал, и письма приходить перестали. Потом матери сообщили, что он пропал без вести, вероятно, погиб. А она ждала. Ждала и верила.
И не могла уступить пьяному, потерявшему всякое человеческое обличье, вчерашнему оборванцу с пистолетом немецкой системы. Но женщины слабые, во всяком случае, слаба была мать этой девочки.
Они надругались над ней, все втроем, заливая все алкоголем. Похоть переросла в бешенство, и до сих пор, когда на улице гремит гроза, девочка закрывает глаза и видит, что они сделали с ее матерью, сестрами, даже братьями. Что едва не сделали с ней самой.
Она вырвалась, прокусив руку одному из державших ее солдат. Тот от неожиданности неловко извернулся, да так удачно, что пырнул штыком своего напарника в подбородок. Кровь плеснула на лицо девочки, на черные как смола волосы, но она не обращала на это внимания, стремясь вон из ада, бывшего ее домом. Раненый солдат выронил винтовку, от удара она выстрелила. Комиссар с перепугу начал палить по сторонам, но девочка была уже в темных сенях, а через миг – на улице, под колкими струями дождя, стегавшими ее через сорочку…
Волосы, куда брызнула кровь одного из насильников, поседели, и с тех пор девочка прятала седую прядь под волной других, черных. Как она выжила, как не сгинула в безумном мире, она и сама не знала. Но выжила и, добравшись до Москвы, поступила в школу РККМ.
Она хотела найти тех нелюдей, кто сотворил такое с ее семьей, и нашелся человек, кто ей это пообещал. Взамен она должна была помочь ему достичь его целей. Человек этот был слегка безумен и очень жесток, пожалуй, он чем-то напоминал тех зверей, отомстить которым она так мечтала. Но ей было все равно. Если для того, чтобы покарать чудовище, надо заключить сделку с другим, – пусть будет так!
А потом она встретила человека, которого полюбила. Почему так случилось? Почему ее избранником стал этот нелюдимый мужчина вдвое старше ее? Она не знала. Наверное, потому, что он был другой, не такой, как все. Остальные были запятнаны, несли на себе печать зверя, были подобны тем, кто ворвался к ним в дом. Она не могла смотреть на них без отвращения, даже на того, с кем заключила союз. Особенно на него.
А вот тот, кого полюбила ее душа, тот был другим. Казалось, он был соткан из света так же, как другие – из тьмы. Она доверяла ему, рядом с ним она чувствовала невероятный, необъяснимый, ни с чем не сравнимый покой. Даже в грозу.
Она была дочерью своей матери, а потому полюбила со страстью, на какую только была способна. Если бы ему потребовалось, она разрезала бы свою грудь и отдала ему свое сердце. Если бы он пожелал – она голыми руками убила бы его врагов.
Ведь первое, чему научилась девочка, – это убивать. С ней всегда был «маузер», то самое оружие дьявола, и она отлично владела им. Она еще в ту грозовую ночь поняла, что это такое – оружие, и при первой возможности, скитаясь от деревни к деревне и от села к селу, сумела стащить «маузер» у пьяного продотрядовца.
Полуголодные старушки и дрожащие от страха монашенки делились скудным своим пропитанием с угрюмым грязным ребенком, одетым в какое-то рубище, и не знали, что это дитя ворует патроны, чтобы учиться стрелять. «Маузер» был очень тяжелым, и сначала она не могла удержать его и перед выстрелом опирала на поваленное дерево; потом, со временем, стала держать, сначала двумя руками, затем и одной. Она сама изготавливала себе мишени, вспоминая, как мать делала пугало, чтобы вороны не склевали скудный их урожай. Отдача больно била ей в руку, так что порой она не могла потом согнуть пальцы. Сколько раз она после выстрела мимо роняла оружие! Но продолжала тренироваться, когда удавалось добыть патроны. Как-то ей повезло, и она через дыру в стене вытащила целый ящик с обоймами для оружия дьявола. Ящик был не просто тяжел, он был неподъемен, однако чудом она сумела его дотащить до своего логова (жила она в овраге у кладбища, выходя лишь по ночам или тогда, когда от голода совсем было невмоготу). После этого ее учеба пошла веселее, благо на выстрелы никто не обращал внимания. На окраине Перми в те годы стреляли часто.
Все это она вспоминала урывками и не всегда могла бы сказать, что было раньше, а что позже. В конце концов, научившись стрелять, она стала искать тех, кого хотела покарать. Впрочем, одного кара настигла еще в ночь ее бегства – удар штыка оказался для него смертельным, перебив какой-то важный сосуд, и он скончался на месте. Его труп вместе с обезображенными трупами ее матери, братьев и сестер двое нелюдей заперли в хате, а хату подожгли.
И эти двое продолжали жить, но судьба позволила им уйти от расплаты. И девочка стала искать. Эти поиски и привели ее в Москву, свели с дьяволом, с которым она заключила сделку.
Ее дьявол был безумен, но при этом чертовски умен. И ее дьявол в кожанке исполнял свои обещания – он отдал ей обоих, одного за одним, и она совершила над ними свой приговор в пустынном месте, где в глубоком овраге на берегу Москвы-реки еще виднелись следы заброшенной каменоломни. Она выпустила в каждого по пять пуль, в руки, ноги и в главное орудие преступления, а потом с интересом наблюдала за их смертью. Теперь они с дьяволом были повязаны этой кровью.
Это дьявол направил ее к тому человеку, которого она полюбила. Дьявол хотел сделать ее любимого пешкой в своей игре, принести его в жертву, чтобы побить более сильную фигуру. Какое-то время она разрывалась между любовью и верностью, но затем нашла выход. Ведь в жертву можно принести кого-то другого! Она узнала, как это осуществить, и рассказала об этом дьяволу. Он ее похвалил и сказал, что, если она все сделает правильно, он не причинит вреда ни ее любимому, ни ей, но если у нее ничего не получится…
Ей все удалось, и теперь она желала избавиться от его власти. И он это понимал. Ему нужно было достигнуть главной своей цели, и она в этом ему поможет. Как только это случится, как только дьявол получит то, что хочет, – она станет свободна. Она будет вольна остаться с тем, кого любит, с тем, кто стал первым и единственным ее мужчиной. И дьявол будет охранять их покой, пока он и они живы. Потому что понимает – она совсем не наивная дурочка и нашла способ подстраховаться.
Они никогда об этом не говорили, но она знала, что для дьявола уничтожить ее – пара пустяков. А он знал, что, уничтожив ее, он подвергнет себя риску. Если черепаха везет по морю на спине змею, она не станет сбрасывать ее в пучину – чтобы змея не укусила ее. Но и змея не станет кусать черепаху, которая может ее сбросить.
Она не доверяла никому, но этому некрасивому, маленькому, худому мужчине с внешностью настолько не запоминающейся, что она казалась всегда разной, верила. Он доказал ей, что ему можно верить. И вовсе не потому, что был честен, – наоборот. Предательство было его второе имя. Но даже предателям можно верить тогда, когда им выгодно не обманывать. Только всегда надо быть начеку.
Девочка была начеку, и дьявол знал это. У них были честные отношения.
Она всегда была честной. Кроме моментов, касавшихся ее тайн.
* * *
Она вошла в ветхий невзрачный дом в одном из безлюдных дворов Каретного переулка, стряхнула и свернула плащ-накидку, поднялась по скрипучей лестнице на второй этаж и постучала в дверь, мутно-белым пятном выделявшуюся на темной стене. В подъезде было темно и тихо – почти все квартиры дома были расселены, ибо здание грозило вот-вот обрушиться. Тишину нарушал только шум дождя да стук капель, попадавших внутрь сквозь прорехи в крыше. Дверь открылась не сразу, хотя человек по другую сторону ждал ее. Темный силуэт пропустил ее вперед, в комнату, освещенную керосиновой лампой. В комнате не было ничего лишнего – только стол, два стула и вешалка с черным плащом на ней. Девушка повесила свою плащ-накидку рядом и, присев на стул, машинально стала поправлять влажные волосы.
Мужчина, впустивший ее, стоял в тени у двери и смотрел на нее, словно бы любовался.
Затем сказал тихим голосом:
– Варюшка, рад тебя видеть в добром здравии. Тебя давно не было, я уж думал, ты приболела.
– Не могла вырваться, Николай Иванович, – ровным тоном ответила Варя. – Вы же сами сказали – встречаться будем по вечерам, а куда я вечером-то уйду?
– Да уж… – Мужчина отошел от двери и присел на второй стул. – Время сейчас тяжелое… – Он помолчал секунду. – А я, знаешь ли, аж заскучал…
– Скажете такое, – потупилась Варя.
– Я имею в виду, заскучал по результатам, – внес ясность мужчина. – Сколько ты с ним уже? Почитай, три года. И каковы результаты?
– Вам грех жаловаться. Я со своими задачами по мере возможности справляюсь. Вашу теорию я подтвердила… – стала перечислять Варя, оправдываясь.
– На словах, – все так же тихо ответил мужчина. – Все только на словах, а слова к делу не подошьешь.
– Начнем с того, что это не просто слова. Это обвинение, грозящее вашему противнику смертью. Сами-то вы добились не большего…
– Сам я ничего и не делаю, – спокойно ответил мужчина. – Мое время наступит тогда, когда из ваших результатов можно будет сплести сеть для Иуды[53].
– Результаты есть! – Варя склонила голову.
– Это не результаты, – ответил ей Николай Иванович. – Я хочу чего-то, что можно потрогать руками, чего-то…
Пока он говорил, Варя запустила руку в пазуху блузки и достала оттуда пожелтевший блокнот. Положив его на стол, она сказала:
– Трогайте.
Большой рот мужчины расплылся в довольной улыбке, отчего на щеках появились глубокие мимические морщины. Он жадно схватил блокнот и стал его листать. Варя смотрела на него и думала, что с этого расстояния она точно не промахнется. Она могла проделать аккуратную дырочку в том месте, где, как она знала, Николай Иванович носит орден Боевого Красного Знамени. Но сможет ли она тогда выйти отсюда живой? А если даже да, не займет ли место сговорчивого дьявола – дьявол, с которым не удастся договориться?
Наконец мужчина захлопнул блокнот и шутовским жестом приложил его к губам:
– Со времен, когда Моисей начал сочинять свое Пятикнижие, история не знала более интересного чтива, – торжественно проговорил он. – Варя, беру свои слова обратно, вы молодец.
– Надеюсь, больше ко мне никаких просьб не будет? – полувопросительно произнесла Варя. – Я свою часть уговора выполнила. Теперь ваша очередь.
– Право, мне жаль, что наше сотрудничество так быстро закончилось, – ответил ей человек-дьявол. – Еще одно: кроме блокнота была некая книжица, которую Ощепков некогда передал Спиридонову. Где она?
– Ее нет, – ответила Варя, глядя собеседнику в переносицу. Голос ее был абсолютно спокоен. – Спиридонов сжег ее в печи, когда поругался с Ощепковым.
– Жаль, очень жаль, – вздохнул Николай Иванович. – Очень жаль… Не знаете, что это была за книжица?
– Записи его бывшего учителя, по дзюудо. Японца какого-то, но он умер еще до революции.
– Вы в этом уверены? – напрягся Николай Иванович.
– Последняя запись датировалась, кажется, четырнадцатым годом. Спиридонов ее мне показывал.
– Тогда да, нам она бесполезна. Ой, как говорится в одном карточном анекдоте, и так слава богу. Идите, не смею вас задерживать.
Варя, скрывая торопливость движений, встала и потянулась за плащ-накидкой.
– Вы ведь и сейчас не снимаете меня с прицела? – неожиданно спросил Николай Иванович.
– Да, – спокойно ответила ему Варя.
Мужчина тихо рассмеялся:
– Но вы боитесь. И правильно делаете. Впрочем, можете не бояться. Я не трону ни вас, ни вашего Спиридонова. Незачем. В жизни важен один-единственный закон – закон целесообразности. Уничтожать вас, делать вам больно… зачем? Что мне это даст?
Варя промолчала. Накинув плащ-накидку, она поспешила к выходу, оставляя на память о себе лишь аромат «Красной Москвы», духов, которые подарил ей любимый.
– С вами было приятно работать, – с легкой насмешкой бросил ей в спину дьявол.
* * *
На вокзал, теперь уже окончательно и бесповоротно ставший Казанским, поезд прибыл рано утром.
Дождливая погода, удручавшая Москву всю первую декаду сентября, отступала; небо хмурилось, но ливня с грозой, как вчера, не ожидалось. О непогоде, случившейся накануне, свидетельствовали лишь многочисленные лужи и серые пятна влаги на стенах домов.
Едва Спиридонов сошел с поезда, его внимание привлек необычный черный автомобиль, стоявший прямо на перроне. Сначала Спиридонов подумал, что это какой-то американец из кремлевского гаража, но, присмотревшись, решил, что этот дорожный крейсер больше напоминает щегольскую «эмку»-переростка.
Пока Виктор Афанасьевич рассматривал чудо автомобильной техники, дверь машины открылась, и из салона выбрался Власик. Спиридонов устремился к нему и с ходу обнял ученика.
– А я по вашу душу, – объявил Власик, распахивая перед Спиридоновым дверь салона. – Решил побыть таксистом для своего учителя, раз уж выпало в кои-то веки свободное время.
– Не стоило беспокоиться, – улыбнулся Виктор Афанасьевич. – Или тебе хочется обновкой похвастаться? Что за агрегат?
– Не без того, – ответил Власик, усаживаясь рядом со Спиридоновым. – Сменил колеса, заодно и обкатываю на предмет пригодности для перевозки начальственных афедронов. Новая модель, «ЗИС-101», пойдет в серию к Седьмому ноября, если опять какие-то вредители не сыщутся.
– Не много ли в стране вредителей развелось? – спросил Спиридонов, доставая из френча почти опустошенную пачку «Люкса». – Курить-то можно в твоем дормезе?
– Курите, конечно, тут и пепельница есть, на двери вот, – исполнял роль гостеприимного хозяина Власик. – Да, вредителей много, и добро бы только их…
Власик вздохнул и достал из кармана в переднем сиденье свои папиросы – картонную пачку явских «Герцеговина Флор»:
– Угоститесь или свои покурите?
– Да я уж свои, – ответил Спиридонов. «Герцеговину» он не любил, с ней у него были связаны неприятные воспоминания.
– Как знаете, – ответил Власик, закуривая. Только сейчас Спиридонов заметил, что от водителя их отделяет перегородка из толстого стекла. – Виктор Афанасьевич, я к вам с новостями.
– Плохими или хорошими? – насторожился тот.
– Кому как, – пожал плечами Власик. – В общем, Генриха Григорьевича решено перевести в Наркомат связи.
Спиридонов понимающе кивнул:
– И за что же? Мало сажал?
– Мало стрелял, – жестко ответил Власик. – Знаете, что на Хозяина было покушение?
– Откуда ж мне знать? – пожал плечами Спиридонов. – В газетах ничего не сообщали об этом.
– Покушались хитро, – продолжил Власик, сделав ударение на последнем слоге. – Добавляли понемногу яд в еду. Причем даже не яд, а препарат, нормализующий кровяное давление, ну или наоборот.
Спиридонов вспомнил Фудзиюки. Все-таки люди везде одинаковы, и преступления тоже.
– Кто? – спросил он. – Троцкисты?
– Хуже, – покачал головой Власик. – На этот раз правые уклонисты. Да еще и разведка японская оказалась замешана.
Спиридонов сразу метнулся мыслью к Ощепкову. Вася уже отошел от приступа и продолжал тренировать армейцев, но врачи категорически запрещали ему волноваться. А если к нему по этому поводу нагрянут? Новая метла по-новому метет.
Внешне же он отреагировал спокойно:
– Я думал, Генрих Григорьевич эту нечисть вымел поганой метлой.
– В том-то и дело, – вздохнул Власик, – мел-мел, да не вымел, и хуже того: сам оказался замазан по самую макушку.
Он открыл пепельницу на двери и стряхнул в нее пепел. Спиридонов эту операцию проделал уже дважды.
– Короче говоря, третьего дня на дачу к Сталину нагрянули Дагин с Аграновым…
– Дагин – это начальник охраны Кремля, что ли? – уточнил Спиридонов. Власик кивнул. Спиридонов помнил Дагина, тот был упрямым учеником и всегда стремился ударить противника быстро, чтобы тот не успел сосредоточиться.
Кто такой Агранов, Власик пояснять не стал, незачем было – новый первый зам Ягоды, пришедший на смену отодвинутому по какой-то причине Молчанову, был хорошо известен обоим.
– Вот, и они проговорили с Хозяином часа четыре. Документы ему какие-то показывали, с собой целый талмуд притащили. После, как они ушли, Хозяин был не в себе. Позвонил Молотову, Калинину, еще кому-то. Даже Ворошилову, по-моему, звонил. В общем, вчера у него было большое совещание, на котором было принято решение Ягоду от дальнейшей работы в НКВД отстранить.
– И кто же вместо него? – спросил Спиридонов. Его это не то чтобы сильно интересовало, но когда твое начальство меняется, в любом случае интересуешься. – Агранов?
– А вот это самое интересное, – ответил Власик. – Не он. Агранов там, похоже, на вторых ролях, а заправляет всем Ежов.
– Ага, так вот откуда ноги растут, – протянул Спиридонов. – Недаром говорят, он дело Кирова себе забрал.
– А дело по покушению на Хозяина вел изначально! – Власик скривился. – Тихушник. Он и на меня бочку катил, но Сам ему быстро указал красную линию. Иосиф Виссарионович хоть и любит повторять, что незаменимых людей нет, но прекрасно знает, что есть. И вы, кстати, в их числе, Виктор Афанасьевич.
Власик посмотрел Спиридонову прямо в глаза:
– Смех и грех, но вам повезло больше других. Хозяин не любит, когда у него кто-то не под контролем. Если сам человек незаменим, то у него есть близкие, родня, и на карандаш ставятся они. А вы один как перст. И вам ничего не сделаешь, и близких ваших не прижмешь.
– Да ладно, – отмахнулся Спиридонов. – Ну какой я незаменимый? Не будет меня, останется Ощепков.
– Он не то, – ответил Власик. – Я вам больше скажу: это не просто мое мнение, это мнение товарища Сталина. У вас, Виктор Афанасьевич, джокер в рукаве. Хозяин мало к кому так благоволит; вы, я, Шапошников, Микоян, Мехлис, пара ваших учеников: Гриша Каннер, Голованов, Пеструха, да и все, пожалуй. Может, еще Лаврентий.
– Какой еще Лаврентий? – Спиридонов стряхнул критически удлинившийся столбик пепла.
– Берия, – ответил Власик. Спиридонов кивнул, а Власик продолжил: – К чему это я… Просто хотел предупредить про Ежова. Вы его хорошо знаете?
– Вообще не знаю, – честно признался ему Спиридонов.
– Страшный он человек, – сказал Власик. Машина тем временем, заехав во двор Спиридонова, остановилась. Из гаража вышел заспанный Михалыч и уставился на лимузин с таким видом, будто во вверенный ему двор спустился на колеснице пророк Илия. – По-настоящему страшный. Если ему руки развязать, он такого натворит – прятаться негде будет. Как там у Алексея Толстого? «По горам над реками города займутся, и година лютая будет мне сестрой…»
– Даже так?
Власик кивнул.
– Ну и на кой такого на наркомат?
– А Хозяин сделать ничего не может, – пожал плечами Власик. – Сталин – это не вся партия, есть еще Каганович, Маленков, тот же Молотов, Калинин, да и Анастас… Пока всех под себя подомнешь! А Ежов это знает и загнал Хозяина в цугцванг своими разоблачениями. В принципе, все они понимают, с кем имеют дело. Сталин с Молотовым думали уж и Агранова поставить, мол, я не я и лошадь не моя, да тот сам отказался, он Ежова боится пуще огня. Честное слово, дьявол, не человек.
– Черт! – выругался Спиридонов. – Что же будет-то?
– Да что будет… – угрюмо пробурчал Власик. – Помните красный террор? Ну вот, а теперь второй акт, пока мы ему компромата полные карманы не набьем да сменщика не подготовим. Но пару лет он покуражится. Потому, Виктор Афанасьевич, вы тоже будьте начеку. Если что – прямо мне звоните или хоть Хозяину, если меня не будет. И вот еще что…
Он наклонился ближе к Спиридонову:
– Очень вам советую: не сближайтесь ни с кем. Ни сейчас, ни впредь. Если не хотите, чтобы этот человек пострадал только от того, что вам близок. Время сейчас такое, прямо скажем. Сучье время.
Где-то Спиридонов это уже слышал.
– Коля, скажи мне только одно, – негромко попросил он. – А будет в этой стране не сучье время? Ну хоть когда-нибудь?
– Надеюсь, – вздохнул Власик. – У нас с Машенькой детей быть не может, врачи приговор вынесли, а вот у сестры у моей уже четверо. Души в них не чаю. Приезжаю к ним, смотрю и думаю – ну, пусть не нам, так хоть бы им пожить по-человечески…
* * *
Некоторое время они молчали, затем Власик сказал:
– Ах да, насчет вашей помощницы. В общем, так: в главке ее личного дела нет, запропастилось куда-то. Там с делами такая чехарда, сам черт ногу сломит. Но я поспрашивал по смежным организациям и кое-что выяснил…
Он достал тоненькую папочку:
– Понятовских Варвара Дементьевна, родом из села Березовка Пермского края. Из зажиточной крестьянской семьи. Родилась десятого сентября тысяча девятьсот пятого года…
– По старому стилю? – уточнил Спиридонов. Почему-то эта цифра его, что называется, кольнула.
– По новому, – ответил Власик. – Кто ж сейчас по старому-то считает? Короче говоря, через шесть дней после Портсмутского мира. Отец погиб в Империалистическую, мать и другие дети – в результате несчастного случая в восемнадцатом. Дом сгорел, спаслась только Варя. Думаю, это вам все известно, ведь так?
Спиридонов кивнул. Варя рассказывала правду, но он в этом и не сомневался.
– Во всем этом есть только два интересных момента. Во-первых, история с пожаром какая-то темная. В то время в селе был отряд продразверстки, и в пожаре погиб один из бойцов того продотряда. Говорят, пытался спасти детей. Я в это верю с трудом, зная, какие фортели выкидывали эти отряды… А во-вторых… – Власик посмотрел на Спиридонова: – Девичья фамилия матери Вари – Тесликова. Ее отцом был пермский мещанин Тесликов, матерью – некая Агафья Выдрина, купеческого сословия. Тесликовы унаследовали довольно-таки крупное состояние, однако щедро жертвовали на благотворительность, кроме того, мать Вари была восьмой из одиннадцати детей в семье. Что до мещанина Тесликова, то, видимо, у него не было коммерческой жилки. В купцы он не вышел. Может, и к лучшему.
– Не вижу здесь ничего необычного, – потер переносицу Спиридонов, соображая, что к чему.
– Необычное в том, от кого Агафья Выдрина получила свое состояние! – загадочно пояснил Власик.
– И от кого же? – развернулся к нему Спиридонов. – От государя императора Александра III?
– Да полно вам, – коротко улыбнувшись, отмахнулся Власик. – От купца второй гильдии Семена Никаноровича Ощепкова. Своего деда.
Глава 13 …и к злодеям сопричтен
1937
Первый звоночек для Спиридонова прозвучал еще в декабре тридцать шестого года, когда он узнал о назначении заместителем нового наркома Ежова и начальником ПСК «Динамо» товарища Фриновского. Фриновский был тем самым чиновником, на которого в свое время указал ему майор Аударин. Виктор Афанасьевич, не спускавший подобных вещей, тут же написал рапорт на имя наркома внутренних дел, в котором обращал внимание на преступную халатность товарища Фриновского в отношении подготовки кадров. Выяснилось, что «преступная халатность» была принципиальной позицией Фриновского, но после разговора с Ягодой, тогда еще наркомом внутренних дел, Фриновский от этой позиции отступил, по крайней мере на время.
Но Ягоду сменил Ежов, а в конце марта ставший наркомом связи Генрих Григорьевич был арестован, и это, казалось, развязало Фриновскому руки. Через несколько дней на собрании Центрального совета пролетарского спортивного клуба «Динамо» он выступил с речью о неуклонно возрастающей роли комплекса ГТО в военно-патриотической подготовке кадров. После чего с гневом, хотя и анонимно, обрушился на тех «несознательных личностей из числа недобитых военспецов, бывших лакеев царского режима», которые сдерживают продвижение комплекса в структуру Наркомата внутренних дел. Спиридонов все понял и тут же, на заседании, написал заявление с просьбой уволить его по собственному желанию.
На следующий день его впервые вызвал к себе Ежов.
Спиридонов прибыл к назначенному времени в давно знакомый ему кабинет, помнивший еще Железного Феликса. Он понимал, что разговор будет не из приятных, к тому же Варенька почему-то очень переживала из-за этого.
– Все говорят о людях, которых сначала вызывают на Лубянку, а потом они пропадают, – сказала она, и взгляд ее был тревожным.
– Пустое это, – отмахнулся Спиридонов, – уж я-то не пропаду.
– Ваши слова, да богу в уши, – очень серьезно ответила ему Варя, а он снова некстати вспомнил, что она – внучатая племянница Ощепкова. Который одним фактом своего существования постоянно портил ему жизнь, но за которого Спиридонов был готов, если потребуется, драться.
Окна в бывшем кабинете Менжинского были задернуты плотными шторами так, что в помещении царил полумрак. На столе перед наркомом стоял поднос с чайником, чашками, розеткой рафинада и вазой на длинной ножке – с какими-то сладостями.
– А, Виктор Афанасьевич, – заулыбался при виде его Ежов. – Ждал вас, а вы не заходите. Пришлось посылать за вами. Проходите, садитесь, чаю попьем. Или чего покрепче? Ах да, вы же не любите алкоголь.
Под эту тираду Спиридонов прошел и сел за стол. Ежов, как радушный хозяин, тут же стал самолично наливать ему чай.
– Угощайтесь вот цукатами, – предложил он. – Теперь это безопасно.
– А когда-то было опасно? – машинально уточнил Спиридонов, глядя на новенький портрет Сталина за спиной наркома. Сталин сидел за столом и что-то писал при свете лампы с зеленым нэповским абажуром – при свете такой же лампы работал и Спиридонов.
– А вы не знаете? – удивился Ежов, наливая чаю себе. – Ведь Генрих наш Георгиевич смешной чудак был – он Менжинского угощал сладостями все время, да не простыми, а с интересом: в них добавляли вещества, которые возбуждали кровоток. А у Вячеслава Рудольфовича, сами знаете, какое сердце было. То-то ему все хуже становилось, и врачебный догляд был не впрок…
Спиридонову вновь вспомнился Фудзиюки. Похоже? И да, и нет. Фудзиюки знал, на что шел. А Менжинский, судя по всему, оставался в полном неведении.
– До меня дошли слухи, что не так давно кто-то покушался на Сталина, – проговорил Спиридонов, отхлебнув чаю. – Думаю, не ошибусь, если предположу, что почерк обоих преступлений схож.
– А вы мне нравитесь! – восхитился Ежов. – Вы в шахматы не играете случайно?
Спиридонов отрицательно покачал головой.
– Жаль, очень жаль, – с искренним сожалением ответил Ежов. – Не могу найти противника по себе. До мастеров не дотягиваю, любители не дотягивают до меня… Выпьете что-нибудь? Ах да, простите… Так по какому поводу вы хотели меня видеть?
– По поводу нового руководства «Динамо», – ответил Спиридонов. – Николай Иванович, мне кажется…
– Вам вовсе не кажется, Виктор Афанасьевич… Вы абсолютно правы: мой заместитель не сможет построить работу общества столь же безупречно, как предыдущее руководство. Именно в этом и заключается логика его назначения. Хотите курить? Закуривайте, здесь сердечников нет.
Если это была шутка, то Спиридонову она не понравилась.
– Тогда зачем же ставить на руководство человека, возможно, компетентного в других вопросах, но не в этом? – спросил он, доставая папиросы.
– Спортивные общества наркоматов предназначены для популяризации, с одной стороны, закалки и физического воспитания населения, а с другой – деятельности самого наркомата, – пояснил Ежов. – Мы идем к людям с определенным сообщением. И каково же оно у «Динамо»? Как сказал товарищ Сталин, милиция – это часть советского народа, плоть от плоти и кровь от крови пролетариата и трудового крестьянства. Так?
Спиридонов кивнул. Спорить со Сталиным было, выражаясь словами Ленина, архиглупо и архисамонадеянно. К тому же с высказанной мыслью он не мог не согласиться.
– А что мы видим в динамовских секциях самообороны под вашим руководством? – продолжил Ежов. – Ваши питомцы серьезно превосходят всех остальных, не давая им конкуренции, не мотивируя расти над собой. Потому что, сколько бы ты ни занимался, тебя все равно уложит на татами Федя из «Динамо».
– По-моему, как раз поражение – наилучшая мотивация! – быстро парировал Спиридонов. – И какой же это спорт получается? Мы таким образом попираем саму идею спортивного движения…
– Знаете, Виктор Афанасьевич, за что революционеры со стажем недолюбливают «старых спецов»? – спросил Ежов, прищурившись. – За только что продемонстрированную вами узость мышления. В одной из докладных записок моему предшественнику вы дали определение своей системы: отличная от всего известного в прошлом, рабоче-крестьянская борьба. Но что мешает вам схожим образом взглянуть и на спорт в целом?
Спиридонов устремил на него вопросительный взгляд.
– Как и любое массовое явление, – продолжил Ежов, – спорт строится по принципам общества, его породившего. Базовый принцип капиталистического общества – конкуренция. Человек человеку волк. Потому капиталистический спорт действительно предусматривает жестокую, бескомпромиссную конкурентную борьбу, в которой для достижения преимущества все средства хороши.
Он встал, прошелся. Спиридонов слушал, всем видом своим демонстрируя внимательное осознание того, что он слышит.
– Наш, пролетарский, спорт отражает принципы того общества, которое мы строим, общества бесклассового, в котором конкуренция уступает место сотрудничеству. Потому мы значительно больше внимания уделяем групповым, массовым, командным видам спорта. В советском спорте нет места кастам, прослойкам и тому подобному, и вечное лидерство «Динамо» не устраивает ни нас, аппарат НКВД, ни Совнарком в целом, ни тем более партию.
Пару секунд помолчав, Ежов кашлянул и закончил пространную речь:
– А если говорить еще проще – мы формируем новое лицо сил охраны правопорядка. В милиционере гражданин не должен видеть старорежимного сатрапа-полицейского. Нет! Милиционер – это простой советский парень, каких у нас в Союзе миллионы. Его можно уложить на лопатки на… Как у вас этот белый квадрат называется?..
– Татами, – подсказал Спиридонов.
– На татами, – кивнул Ежов. – Но горе тому, кто встанет у него на пути, преступив закон. Вы меня поняли?
– Понял, – кивнул Спиридонов.
– И что вы поняли? – спросил Ежов.
– Что мне действительно нечего делать в «Динамо» при таком подходе, – ответил ему Спиридонов. – Уж лучше я сосредоточусь на том, что умею делать лучше других – на специальной подготовке работников наркомата.
– Конечно, мне бы хотелось услышать другой ответ, – с некоторой грустью сказал нарком. – Но в целом вы правы. Впрочем, прошу не считать наш разговор оконченным: через некоторое время я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Но, увы, не сейчас.
– Что ж, я подожду, – сдержанно вздохнул Спиридонов. – Разрешите идти?
* * *
Выходя из здания на Лубянке, Спиридонов чувствовал себя так, словно слишком туго завязал галстук, а теперь не может его развязать. Ежов говорил очень складно, но был неправ, хотя сформулировать возражения Спиридонов пока затруднялся.
Был бы на его месте Фудзиюки или хотя бы Ощепков…
Ощепков…
Неожиданно мысли Спиридонова переметнулись на Васю. Что у них за отношения? Соперничество? Да. У них разное видение путей развития их борьбы. Но делает ли это обоих непримиримыми конкурентами, готовыми воспользоваться для достижения целей любыми средствами? Нет.
В Кодокане есть традиция – при получении дана кандидата на этот экзамен душат его же поясом. Душат серьезно, часто – до потери экзаменующимся сознания. Ни Спиридонов, ни Ощепков не перенесли эту традицию в свою систему борьбы. И конечно, каждый из них мечтал положить другого на татами и зажать в уммэй-джиме, но ни один не желал «поставить ногу на грудь» другому. Ни один не стал бы держать этот захват дольше, чем полагается на победный зачет.
Их борьба, их конкуренция не предусматривала неразборчивости в средствах. Они всеми силами стремились отнять победу, но никогда не стали бы делать это любой ценой. И уж точно не стали бы устранять конкурента ради вожделенного первого места на пьедестале.
Спиридонов внезапно понял, что ему было бы очень просто убрать Ощепкова. Достаточно было показать ему тот блокнот, что хранился в «курительном» столике. И все! – там бы накопалось на то, что сейчас в НКВД называют «делом». Ощепкову в этом отношении было бы труднее, но он тоже мог много раз попытаться убрать его, но не предпринял ни единой попытки. Лишь несколько сказанных сгоряча слов и, возможно, непредумышленная попытка «влезть не на свою территорию». И только!
Но разве сам Спиридонов всегда следил за тем, что он говорит в адрес Ощепкова? Не поступал ли он точно так же, называя его «не разбирающимся в людях идеалистом», «пустым фантазером», человеком, чья простота хуже воровства? Да стоит ли вообще обращать внимание на слово, вырвавшееся в сердцах? Не лучше ли забыть, простить, не заметить?
Ему до зуда захотелось увидеть Ощепкова. Сказать ему, что… Сказать, что он доверяет ему, что видит в нем такого же дзюудоку, как он сам. Что считает его другом, если не братом. И крепко, по-мужски, обнять.
«Так я и сделаю», – решил Спиридонов. Увы, на сегодня была запланирована еще одна тренировка, которую из-за визита к Ежову пришлось отложить на более позднее время. То есть он в любом случае не успеет.
«Ничего, – подумал он, – за ночь Ощепков никуда не денется. А с утра, чуть свет, поеду к нему. Только блокнот уничтожу сначала. Сожгу к песьей бабушке в печке, от греха подальше…»
Спиридонов отправился на тренировку, не зная, что вновь рассмешил Будду и под его зловещий смех инь стал густо заливать ян своей чернотой…
* * *
Когда тренировка закончилась, был уже одиннадцатый час. Курсанты гурьбой ушли в раздевалку, Спиридонов тоже собирался переодеться, как вдруг в зал влетел запыхавшийся Харлампиев. Спиридонов шагнул ему навстречу:
– Толя, что случилось?
– Василь Сергеевича забрали! – выпалил Харлампиев.
– Кто забрал? – тупо переспросил Спиридонов, хотя все понял. Кто мог забрать Ощепкова? Ответ был один: «тройка» НКВД. – По какой причине?
– НКВД, – ответил Харлампиев. – Говорят, он японский шпион. Что за чушь?!
– Тихо, Толя… – Спиридонов старался казаться спокойным. – Сейчас все выясним. Вот что, я сейчас на Лубянку, а ты – к нему домой. Успокой жену и… – Он наклонился к уху Харлампиева и сказал тихо-тихо: – Постарайся забрать всю литературу на иностранном. И все бумаги. Надо – возьми кого-нибудь из своих. Ты уверен, что на квартире не было обыска?
– Ни в чем я не уверен, – ответил Харлампиев. – Телефона у них нет, заехать к ним я не успел…
– Ну, тогда ноги в руки и вперед, – скомандовал Спиридонов, на ходу переодеваясь. Занятия он вел в затрапезной гимнастерке и старых парусиновых брюках.
Не ехать же в этом тряпье к наркому?
Он подумал, что стоило бы, наверное, позвонить Варе и дать распоряжение насчет блокнота, но решил не отвлекаться. Сейчас важнее было попасть к Ежову. Как говорил Фудзиюки, сорняк проблемы надо выдергивать, захватив ближе к корню.
* * *
Ежов, казалось, даже обрадовался его появлению:
– Ба, Виктор Афанасьевич! А я хотел за вами только завтра послать. Я-то работаю допоздна, а у вас наверняка режим, распорядок дня…
В кабинете явственно пахло водкой, да и глаза у наркома были маслеными.
– Немедленно освободите Ощепкова! – с порога начал Спиридонов.
Стоявший возле стола нарком неторопливо уселся на стул.
– Вот даже как… Простите, но не могу. Ощепков арестован решением «тройки» как японский шпион, я вам больше скажу – он ключевая фигура в деле харбинцев, которые…
– На каком основании? – перебил его Спиридонов. – Вы в своем ли уме? Ощепков – шпион японцев? Тогда памятник Карлу Марксу – шпион марсиан!
– На основании ваших же свидетельских показаний, Виктор Афанасьевич. – Ежов ухмыльнулся хищной, злорадной улыбкой; в его руках появился очень хорошо знакомый Спиридонову желтый блокнотик; от блокнотика исходил едва уловимый аромат «Красной Москвы», такой знакомый, такой родной… – Если вам интересно, в протоколе допроса Ощепков написал следующее: «Все факты, изложенные Спиридоновым Виктором Афанасьевичем, сформулированы с моих слов без искажений». Перед этим он внимательно просмотрел блокнот, более того, мы даже не применяли к нему обычных мер физического воздействия. Так что признание было абсолютно добровольным.
– И что такого криминального вы нашли в этом блокноте? – спросил Спиридонов, стараясь сохранять душевное равновесие. Он-то прекрасно знал, что найти в блокноте можно было очень многое – от тирады про «внутреннего врага» вплоть до…
Ежов распахнул блокнот и продемонстрировал Спиридонову страничку.
– Вот здесь, – показал он, – Ощепков признается в многолетней работе на японского разведчика Иошидори Ямаду.
– Не работал он на Ямаду! – возмутился Спиридонов, подаваясь вперед, будто он стремился напасть на Ежова. – Наоборот, тот использовал его в своих целях ради сохранения подполья…
– Это он вам так сказал, – усмехнулся Ежов. – Мне же видится другая картина – подполье существовало с ведома японской контрразведки и лишь до тех пор, пока политика властей ДВР их устраивала. Когда же японцы решили установить в Приморье оккупационный режим, подполье было моментально и немедленно провалено, и лишь Ощепков продолжал работу – поскольку был двурушником.
– Это ваши досужие домыслы, – процедил Спиридонов. – И вообще, верните мне мой блокнот.
– Не верну, – насмешливо хохотнул Ежов. – Здесь столько всего интересного! Например, видно, что не только Ощепков, но и все его «коллеги» изначально были представителями разведывательной организации, созданной царской охранкой. Фактически на этом материале мы и выстроили обвинительное заключение по делу харбинцев. Но и это еще не все. Как бы это ни казалось странным, но благодаря вашему блокноту мы получили неопровержимые данные о сотрудничестве разведок императорской Японии и панской Польши!
– Вы бредите?! Нет там такого! – Спиридонов едва сдерживался, чтобы не сорваться на крик.
– Ну как же, – победно улыбался Ежов, вновь демонстрируя ему страничку, – вот здесь Ощепков признает многолетнюю работу на недавно разоблаченного агента польской дефензивы царского полковника Свирчевского. Этот оборотень много лет умело маскировался под совслужащего, и если бы не бдительность его сына…
– Ощепков даже не знал, что Свирчевский жив! – взвился Спиридонов.
– …до приезда в Москву, – спокойно закончил Ежов, не слушая Спиридонова. – Где вы сами свели его с маршалом Егоровым. Который, в свою очередь, опрометчиво ввел разоблаченного польского агента Свирчевского в свой ближний круг. Ну, с гражданином маршалом мы пока разбираемся. У Иосифа Виссарионовича есть мнение, что Егоров невиновен, просто Свирчевский оказался очень умелым агентом под прикрытием.
– Николай Иваныч, а вам не кажется, что все это абсолютно притянуто за уши? – попытался возразить Спиридонов.
Но Ежов ответил ему:
– Нет, не кажется. Вы, Виктор Афанасьевич, верно, думаете, что разбираетесь в людях, недаром же, по некоторым сведениям, считаете Ощепкова идеалистом, пустым фантазером, человеком, чья простота хуже воровства…
Об этом Спиридонов говорил только одному живому человеку – Варе. На мгновение ему показалось, что он стоит на краю бездны и эта бездна наполнена его заблуждениями. Словно некая пелена спала с его глаз: он увидел, что, предав память Клавушки, доверившись Варе, он совершил невероятное зло, которое может привести к гибели невинного человека. Как царь Ирод, он дал слишком много власти Саломее и теперь вынужден с ужасом глядеть на голову Иоанна Крестителя, которого так хотел спасти и которого при этом абсолютно не понимал…
– …но вы, товарищ Спиридонов, не менее наивны, чем он. Я вам больше скажу – у меня огромное желание просто взять и бросить вас к нему в камеру. Вы два сапога пара. Кто вы есть, гражданин Спиридонов? Потомственный купец… Не думайте, НКВД все знает… Вы весьма неуклюже пытались скрыть, что вы бывший штабс-капитан царской армии, политически неопределившийся приспособленец… личность во всех отношениях отрицательная… Если бы не ваше дзюудо, необходимое нашему наркомату… Увы, я не стану вас арестовывать – по двум причинам. Во-первых, товарищ Сталин считает вас полезным кадром; во-вторых – вы будете смеяться, но я обещал вашей Варе, что, если она даст мне это, – Ежов потряс блокнотиком, – ни она, ни вы не пострадаете. Я держу свои обещания – потому что, если я не стану этого делать, никто больше мне не доверится. Слухами, знаете ли, земля полнится…
– Какой же вы мозгляк, товарищ нарком, – с презрением скривил рот Спиридонов. – Мне кажется, вы и в малейшей степени не соответствуете занимаемой должности. Ну что ж, и на вас найдется управа. Я немедленно расскажу товарищу Сталину о ваших художествах, и вы за это поплатитесь!
Спиридонов не слишком надеялся, что его угроза произведет впечатление на Ежова, однако ж произвела, да какое! Нарком затрясся не то от гнева, не то от страха.
– Похоже, вы меня не поняли, гражданин майор госбезопасности… – Он поднялся из-за стола. – Когда я сказал, что выполняю свои обещания, я не имел в виду, что делаю это вопреки здравому смыслу. Кажется, мне все-таки придется арестовать вас.
Вероятно, вставая, Ежов нажал на скрытую кнопку электрического звонка, поскольку в кабинет тихо вошли три бойца НКВД, комод[54] и двое рядовых.
– Арестуйте товарища, – мирно, почти по-домашнему, попросил Ежов. – Отведите в четвертую камеру внутренней, где с утра хлоркой мыли. Пусть посидит, подумает…
– Кого арестовать, Виктора Афанасьевича? – неожиданно спросил один из рядовых. Спиридонов обернулся и посмотрел на пришедших за ним. Все трое были ему знакомы. Всех троих он обучал.
– Разговорчики! – прикрикнул Ежов. – Кому сказано, арестовать…
– Я тебя сейчас так арестую, товарищ нарком, мама родная не узнает, – медленно выговорил все тот же рядовой, крупный лысый мужик, чем-то похожий на Котовского.
Ежов побледнел:
– Да что вы себе позволяете!
Комод повернул голову к Спиридонову:
– Товарищ инструктор, а давайте мы его сейчас шлепнем тут потихонечку? Очевидно же, вредитель, враг народа, хоть и нарком…
Третий боец, худой и угрюмый, как Кощей, но, как помнилось Спиридонову, на татами самый из этих троих опасный, достал из кармана свинчатку и многозначительно подбросил ее на ладони.
– Ну что вы, товарищи, – урезонил ребят Спиридонов. – Не горячитесь. Надо соблюдать совзаконность. Пока партия доверяет товарищу Ежову руководить наркоматом, мы должны в той же мере доверять ему и считать его нашим старшим товарищем, не теряя, однако, революционной бдительности. Просто работа у него нервная, сорваться недолго, – Спиридонов выразительно повел носом (для его чувствительного обоняния легкий запах водки в кабинете был неприятен) и подмигнул. Бойцы заулыбались.
– Я пойду, Николай Иваныч… – Спиридонов перевел взгляд на Ежова. – У меня еще дел полно. Надо договориться о встрече с товарищем Сталиным. Мой вам совет – поступите так, как я вам говорю. И еще…
Он подошел ближе, и нарком Ежов, чьим именем пугали не только младенцев, съёжился, словно пытаясь сжаться в точку. Спиридонов с презрением посмотрел на него и впервые за долгие годы сказал без своей привычной тактичности:
– Вы не только мозгляк, но и в спорте вообще и в борьбе в частности ни хрена не разбираетесь. Спорт без конкуренции – ничто, но конкуренция бывает разная. Бывает честная конкуренция, борьба без ненависти. Таким и должен быть советский спорт – с одной стороны, конкурентным и бескомпромиссным и одновременно честным и взаимно уважительным. Я верю, что когда-нибудь таким он и будет. Эх, смельчак… не бойся, руки об тебя пачкать мне нет резона. Сегодня победил ты, но в каждом поражении есть начало победы, хотя тебе с твоими куриными мозгами этого не понять… – Сказав так, Спиридонов, четко, по-военному, развернувшись на каблуках, вышел, сопровождаемый восхищенными взглядами бойцов НКВД.
* * *
Из приемной наркома Спиридонов по ЗАСу[55] через кремлевский коммутатор позвонил Власику:
– Коль, мне срочно нужно видеть Хозяина… – Спиридонов, возможно, и был «оторванным от реальности спецом», но режим работы генерального секретаря ему был хорошо известен. – Есть возможность?
– Сам сейчас на совещании, – сказал Власик. – Освободится часа через полтора. Я вышлю машину. Вы, я вижу, на Лубянке? Может, сразу осназовцев подбросить?[56]
– Да-да, и пару «Т-35»[57], пожалуйста. – Несмотря на общую трагичность ситуации, Спиридонов нашел в себе силы улыбнуться. – Нет, ничего такого, но подумай, нельзя ли к тебе в штат пристроить трех энкавэдэшников?
– Кого? – спросил Власик.
– Гареева, Кислицкого и Усманова, – по памяти назвал Спиридонов.
– Кислицкого не знаю, – ответил Власик, – но, коли вы за них ручаетесь, пристроим. А что случилось?
– Товарищ нарком вспылили и желали меня арестовать, – ровным голосом сообщил Спиридонов. – Конечно, ничего у него не вышло, но, боюсь, с ребят шкуру он спустит.
– Ого! – отозвался Власик. – Как нарком? Не сильно физию почистили? Узнать еще можно или нужно новую личную карточку заполнять?
– За кого ты меня принимаешь, за троцкиста? – вздохнул Спиридонов. – Я совслужащих не бью, особенно по постным дням. Но вообще, Коль, ситуация паршивая. Так что к Сталину мне нужно чем быстрее, тем лучше.
– Так куда машину присылать? – уточнил Власик.
– Я сейчас домой заскочу… Туда и присылай.
* * *
Варя ждала его на пороге.
– Слава богу! – вырвалось у нее. – Я так боялась…
– Чего? – спросил Спиридонов нейтрально.
– Знаете, что в стране творится сейчас? – продолжила она с тревогой, но Спиридонов слушал ее, думая о другом. О том, может ли он осуждать ее за этот невероятный поступок, почти предательство.
Наверно, нет. Когда он увидел ее, когда вдохнул запах ее волос, его решимость куда-то исчезла. В том, что случилось, виноват был только он сам. Это он хранил опасный блокнот, это он позволил мелким, недостойным чувствам разорвать его дружбу с Ощепковым. Перекладывать свою вину на хрупкие Варины плечи было недостойно, не по-мужски.
– Да-да, – сказал он. – Людей хватают прямо на улицах. Слышал о таком. Но ведь к нам-то это не относится, правда?
И он внимательно посмотрел ей в глаза. Она не отвела взгляда:
– А все равно береженого Бог бережет.
– Как-то вы слишком много стали говорить о Боге, Варюшка, – заметил он ей, переходя на «вы». Варя промолчала, и тогда он продолжил: – Мне надо будет кой-куда отъехать еще. Вот вам ключ от столика, принесите, пожалуйста, мой старый блокнот.
Где-то в глубине души у него жила надежда, что все это ошибка, что Варя тут ни при чем. Если бы она попыталась сыграть непонимание, он бы поверил ей, точнее, сделал бы вид, что поверил. Его блокнот в руках Ежова пах не просто духами. Он пах Варей. Даже не так – он пах его любовью к ней…
Она не стала отпираться. Она никогда ему не лгала и сразу поняла, что он знает…
– У меня не было другого выхода, – тихо сказала она. – Иначе они забрали бы вас…
– И вас не смущает, что они приговорили к смерти ни в чем не повинного человека? – так же тихо спросил Спиридонов.
– Нет! – Она вскинула голову, и ее глаза блеснули в полумраке коридорчика. – Я сделала это для того, чтобы с вами ничего не случилось. И сделала бы это опять. Я и сама бы пошла под пулю, и любого под нее толкнула, лишь бы вы были живы. Наверно, меня тоже следует раздавить, как мокрицу[58], да?
Спиридонов заметил слезы, текущие у нее по щекам.
– Не мне вас судить, – ответил он. – Если с Ощепковым что-то случится, прежде всего это будет моя вина. И я этого себе никогда не прощу.
В парадном открылась дверь.
– Я сейчас поеду и попытаюсь все исправить, – сказал Спиридонов. – Ложитесь, пожалуйста, спать. Не знаю, когда я вернусь.
– Но вы вернетесь? – спросила она. Спиридонов кивнул и вышел на площадку. По лестнице навстречу ему поднимался водитель Власика.
* * *
Камера внутренней тюрьмы на Лубянке была небольшой, примерно три на четыре метра. Изначально она была рассчитана на четырех человек, но сейчас на нарах ютились двенадцать. За стенами тюрьмы стоял октябрь, но в камере было душно и жарко. Если бы кто-то задержался на этих нарах на месяц, то узнал бы, что с наступлением морозов жару моментально сменяет адский холод.
Но больше двух-трех дней в камере внутренней тюрьмы никто не задерживался.
От таких же перенаселенных камер Бутырской тюрьмы и Матросской тишины внутренняя тюрьма Лубянки выгодно отличалась контингентом. Здесь не было блатных и уркаганов – только «политические», как правило, уже хорошенько «попрессованные» следаками. Потому, когда дверь скрипнула, чтобы впустить нового узника, заключенные не бросились на него, как голодные волки, более того – многие на него вообще не среагировали. Кто-то, обессиленный и измученный, спал, кто-то просто ушел в себя, лишь двое или трое без особого интереса взглянули на собрата по несчастью, и лишь один откликнулся на его появление.
Этот небезразличный заключенный был пожилым мужчиной с жидкой бородой и залысинами. Опущенные уголки больших глаз и слегка вьющиеся волосы придавали ему сходство со спаниелем. Впрочем, один глаз мужчины заплыл, а перебинтованные кровоточащей тряпкой пальцы правой руки не сгибались.
Мужчина насколько мог быстро подбежал к новенькому и подставил ему плечо.
– Кто вы? – спросил он. – Что с вами?
– Сердце, – выдавил из себя вновь прибывший, опускаясь при помощи мужчины на жесткие нары. – Василием меня зовут.
– Васенька, ты посиди, – сказал мужчина, – постарайся отдышаться. Я попробую доктора позвать.
Василий кивнул. Мужчина подошел к двери и стукнул по ним слабыми руками. Маленькое зарешеченное окошко приоткрылось.
– Кто балаганит?! – прорычал голос из-за двери. – А, ты, поп. Ну чего надо? Принести епитрахиль?
– Тут человеку плохо, – сказал мужчина, бывший, вероятно, священником. – Сердце у него.
– Хорошо, а стучал-то чего? – спросили из-за двери.
– Доктора бы ему надо… – упавшим голосом попросил священник.
За дверью заржали:
– Ща, вот консилиум соберем.
– Но он умереть может! – возмутился священник.
– Да и пусть подыхает, вот и вся недолга, – лениво ответили из-за двери. – Одним врагом народа будет меньше…
– Что ж вы за люди такие… – прошептал священник. – Неужели вас не мать родила?!
– Когда мать меня рожала, вся губерния дрожала, и с родильного покоя мамка сразу же сбежала, – продекламировали из-за двери. – Вот что, поп, еще раз нас потревожишь – и помощь врача понадобится тебе. Уварил?
Окошко захлопнулось.
Священник устало вернулся на нары.
– Не могу я помочь вам, не врач я. И в камере нет врача.
Василий шумно, со свистом дышал. Сначала казалось, что он не слышит священника, но потом он тихо сказал:
– Вы священник?
– Да, – ответил мужчина, – протоиерей Зосима, к вашим услугам.
– Приготовьте меня, – попросил Василий еле слышно. – Можете?
У отца Зосимы не было ничего, что нужно: ни облачения, ни Святых Даров, ни наперсного креста… ни времени, ни силы – только одно. Единое на потребу.
– Да, – твердо сказал он. – Подождите, не умирайте, пожалуйста, я сейчас.
Отец Зосима полез дальше по нарам, расталкивая лежащих и о чем-то их спрашивая. Вернулся он с мятой жестяной кружкой, на дне которой было немного воды, и найденным в шконке заплесневелым и погрызенным куском сухаря. Службу он помнил наизусть и ни разу не сбился.
Василий шумно дышал, кожа его побледнела до серости, губы казались черными полосками, чернота залегла вокруг глаз. Отец Зосима в какой-то момент понял, что плачет. Он выслушал исповедь, очень короткую – у новенького не было сил на подробности.
После причастия заплесневелым, засохшим хлебом и затхлой водой причащенный посмотрел на священника:
– Жаль, не увидеть мне ни Маши, ни детей… ни друзей.
– Я передам им, что вы поминали их. Если смогу, – пообещал священник.
Василий посмотрел на него гаснущим, но все еще ясным взором:
– Вы сможете. У вас вода становится кровью Христовой. Пусть скажут Вите, что я знаю… он поймет.
– Я передам, – повторил священник, держа заключенного Василия за руку. Вскоре он понял, что пульса под его пальцами нет.
* * *
Неброское приземистое здание стояло в еловом лесу. Всматриваясь в темноту за окном, когда машина задержалась у небольшого домика охраны, Спиридонов увидел только лес и ровную, как стрела, новую дорогу, скудно освещенную редкими фонарями. Заехав на территорию, машина, чуть прокатившись, остановилась на площадке рядом с невзрачным строением.
Во дворе его встречал Власик. Спиридонов впервые видел его в форме и впервые, несмотря на неяркое освещение, заметил седину у него на висках.
– Идемте, я проведу вас, – сказал Власик, пожав ему руку. Спиридонов пошел за ним. «Так Данте шел за Вергилием», – стукнуло ему в голову. Окружавший их полумрак дополнял ассоциацию с прогулкой по кругам ада.
Через веранду и крохотный тамбур они попали в просторную прихожую, облицованную светлым деревом. Простая вешалка во всю стену, ростовое зеркало и несколько тумбочек составляли всю ее обстановку.
– Подождите здесь, – лаконично уронил Власик. – Я узнаю у Хозяина, можно ли…
Спиридонов кивнул, и Власик исчез за дверями слева, оставив посетителя разглядывать замысловатый узор на ковре. Этот ковер, пожалуй, был единственным предметом роскоши в доме, все остальное было стандартным: люстры, ковровые дорожки – все, как в любом советском учреждении…
Дверь беззвучно открылась, и на пороге появился Власик.
– Проходите, Виктор Афанасьевич, – пригласил он и посторонился.
Спиридонов вошел в просторный, по-спартански скупо обставленный кабинет. Кабинет Менжинского в сравнении с этим смотрелся богаче. Сталин сидел за большим канцелярским столом с зеленым сукном, на стуле с высокой спинкой. Сидел вполоборота к вошедшему и был занят тем, что набивал трубку.
– Проходите, Виктор Афанасьевич, – неторопливо проговорил он с небольшим грузинским акцентом. – Закуривайте, я слыхал, вы заядлый курильщик.
Закурить Спиридонову было просто необходимо. Такого нервного напряжения он не испытывал никогда в жизни. Доставая из кармана пачку, он заметил, что у него дрожат руки.
– Иосиф Виссарионович, я к вам по очень срочному делу… – начал было он, стараясь сохранять ровный, спокойный тон.
– Вы по поводу Ощепкова, – сказал Сталин, раскуривая трубку. – Вынужден вас огорчить: мне бы очень хотелось помочь вам, но я не могу.
Он повернул лицо к Спиридонову и передвинул пепельницу в его направлении.
– Сядьте, Виктор Афанасьевич, и выслушайте меня.
Спиридонов был настроен сражаться, идти в этой борьбе до конца, но после слов Сталина послушно сел и приготовился слушать. Нет, от борьбы он не отказался. Просто решил, что, узнав аргументы вождя, лучше найдет слова, чтобы его убедить.
– Обывателю кажется, – заговорил генеральный секретарь, – что Сталин всемогущий. Если Сталин повелит, все сразу же побегут исполнять. Хорошо, что есть такое мнение – когда в народе разброд и приказы сверху исполняют с оглядкой, толку не будет. Как в воинской части, где нет абсолютного доверия командиру.
Он помолчал, Спиридонов ждал, что он будет говорить дальше.
– А Сталин не может решать все за всех. Сталин сам подчиняется нормам советской законности, Конституции, партийной дисциплины. Вы думаете, мне неизвестны художества Ежова, его выходки? Мне известно куда больше, чем вам. Вы думаете, Ежов – опьяневший от крови и власти маньяк, которому нравится мучить и убивать? Отчасти да, это так. Но у Ежова куда более далеко идущие планы. Он пытается захватить под себя максимально много власти, чтобы потом заграбастать ее целиком. Какое место в планах Ежова занимает товарищ Сталин? Место мишени. Коля спит и видит, как задушит меня подушкой или еще что-нибудь в этом роде. Спросите: так почему товарищ Сталин не снимет Ежова, не укоротит ему руки? Потому что еще не время.
Он еще помолчал. Спиридонов набрался терпения.
– Виктор Афанасьевич, в нашей партии Ежовых много. Коля просто самый удачливый. Но когда начинаешь рубить головы этой гидры, на месте одной вырастают три. Какой же выход? А выход простой. Пусть эти головы перегрызутся между собой…
Он улыбнулся в усы.
– Да, при этом погибнут люди. В том числе совершенно невинные, как этот ваш Ощепков. Мне очень жаль каждого. Где это возможно, я не утверждаю приговоры, смягчаю их, даже подписываю помилование.
– Почему же вы не хотите этого сделать для Ощепкова? – не удержался Спиридонов.
– Повторяю, Виктор Афанасьевич, это не в моей власти, – ответил Сталин. – Власть очень странная штука… Пока ее нет у тебя, она вожделенная, как прекраснейшая из женщин. Но когда ты ее получаешь, если у тебя есть хотя бы огрызок души, ты понимаешь, что попал в ад. Ты вынужден делать то, чего не хочешь, вершить чьи-то судьбы, судьбы людей, групп, целых народов. И ты видишь, что твои решения не всегда справедливы. Точнее, не так. Они справедливы в общем, но в частности почти всегда кому-то незаслуженно причиняют боль. Но самое страшное даже не в этом.
– А в чем? – одними губами спросил Спиридонов, но Сталин услышал.
– Отвечу… Страшно то, что власть человека не может быть абсолютной. Всегда есть то, что вне твоего контроля, что тебе неподвластно. Твои подчиненные совершают ошибки или же преступления, но вина – на тебе. Если осел, за которым плохо следили, взбесится и убьет человека, осла, конечно, тоже убьют, но судить-то будут хозяина. И найдутся, уже находятся, в белоэмигрантской среде например, те, кто скажет: товарищ Сталин маньяк. Товарищ Сталин виновен в массовых казнях, как они говорят, репрэссиях… А товарищ Сталин не знает, чем им возразить, хотя с приходом к власти всеми силами старается остановить то, что наворотили его соратники. А ему еще и палки суют в колеса.
Он пыхнул трубкой и медленно выпустил облачко пахучего дыма. Больше вопросов ему Спиридонов не задавал.
– Простите, я отклонился от темы, – заговорил вождь через минуту. – Но закончу мысль… Власть человека никогда не может быть абсолютной. Есть кое-что, что не в нашей и ни в чьей власти. Саркома легкого, например. Девушка, случайно разлившая масло на трамвайной остановке… или больное сердце.
Спиридонов похолодел. Страшная догадка вспыхнула у него в мозгу.
– Когда? – спросил он.
– Сегодня ночью, – ответил Сталин. – Сразу после допроса. К нему не применяли физических мер воздействия. Его боялись, хотя он не выказывал сопротивления. Видно, само обвинение стало для него потрясением. И он с ним не справился. Он действительно был невиновен.
Спиридонов не находил слов. Сталин со вниманием посмотрел на него:
– Я мог бы сразу сказать вам об этом, едва вы вошли. Не пытайтесь отомстить и искать справедливость, вы лишь себя погубите. Можете не сомневаться, Ежову ничего не сойдет с рук, но его час еще не пробил. Мы позаботимся о вдове и дочери Ощепкова; его работу завершит кто-то из его учеников, допустим Харламов.
– Харлампиев, – глядя в одну точку перед собой, поправил вождя Спиридонов.
Сталин кивнул:
– Передайте вдове, что тело ей выдадут на Лубянке. И вот что, Виктор Афанасьевич…
Он вытряхнул трубку о край пепельницы, встал и заложил руки за спину.
– У всего есть цена. Цена власти – она в том, что те грехи, которые отпускают простому гражданину, превращаются в чудовищные преступления, если их совершает вождь. Обыватель быстро забывает хорошее, а плохое запоминает надолго. Потому я не прошу прощения. Я понимаю, да, его смерть – это моя вина, и знаю, что эту вину нельзя простить. Но я просто хотел бы, чтоб вы меня поняли. А теперь можете идти.
Спиридонов встал и посмотрел в глаза Сталину:
– Вы неправы, Иосиф Виссарионович, – сказал он. – Я не позволю вам взять на себя эту ответственность целиком. Прежде всего в том, что случилось, виновен я сам.
– Это еще почему?.. – спросил Сталин непонятным каким-то тоном – удивления, несогласия, любопытства…
– Потому что он мне доверял. А я по своей неосмотрительности глупо подвел его… Вы берете на себя власть над огромной страной, но страна – это много людей, и у каждого – своя власть, то есть ответственность. За Ощепкова отвечал я. И его гибель – это моя вина. Но не ваша. Если позволите…
Он достал еще одну папиросу. Сталин дал знак, что готов его слушать, и, подойдя к столу, потянулся за трубкой.
– В Японии есть легенда. Как-то раз странствующий ронин пришел в деревню и узнал, что деревней правит дракон. Решив избавить людей от чудовища, он вызвал дракона на бой. Растроганные жители предложили ему свое селение в дар, и самурай согласился. На следующее утро он проснулся драконом.
– Очень мудрая сказка, – отреагировал Сталин, выпустив дым. Дым пах почти ненавистной Спиридонову «Герцеговиной Флор». Это был запах папирос, которые он курил, когда умирала Клава. У него не было возможности купить себе курево, он не мог оставить жену одну, но в загашнике у него нашлось несколько коробок «Герцеговины». С тех пор этот запах стал для Спиридонова знаком утраты.
И его персональный ад пах сейчас этой «Герцеговиной».
– В Японии к драконам отношение двоякое, – продолжил он. – Они могут быть символами разрушительных слепых стихий природы, бедствий и катастроф, а могут знаменовать собой благоденствие и преуспеяние. Знаете, почему я принял сторону красных? Потому что белое движение не несло в себе никакой конструктивной идеи, тогда как у красных была пусть и недостижимая, но мечта: всеобщее благоденствие. Наверное, людям нужен дракон, но каждый дракон может выбрать, каким ему быть. Я вижу, что выбрали вы.
Спиридонов умолк. Молчал и Сталин. Наконец вождь сказал:
– Идите, товарищ Спиридонов. Время позднее, это я привык ночью работать… Но хочу поблагодарить вас за ваши слова. Мне со всех сторон поют дифирамбы, сжимая нож за спиной, и лишь вы, человек, которому я причинил горе, нашли действительно хорошие слова для меня. Я этого не забуду. А вас попрошу найти в себе силы жить дальше.
– Не беспокойтесь, товарищ Сталин, – ответил вождю Спиридонов. – Сил у меня достаточно.
* * *
Домой Спиридонов вернулся лишь на рассвете. В квартире было тихо. Он осторожно вошел в комнату – и замер.
Варя сидела на стуле, навалившись грудью на стол. Ее волосы прикрывали лицо и руки. Перед ней стояла открытая коробочка для бенто. Револьвер лежал на полу.
Впрочем, оцепенение сразу же отпустило его. Варины плечи слегка приподымались и опускались в такт дыханию: она была жива. Спиридонов зашел в эркер, поднял револьвер и положил его в карман галифе.
Рядом с коробочкой на столе стоял бумажный журавлик. Почти такой же, как оставила ему Акэбоно. Почти такой же – но не такой.
В журавлике была записка:
«Виктор Афанасьевич!
Я знаю, что Вы никогда не простите мне то, что я сделала. У Вас большое сердце, и в нем есть место для сострадания, даже и после того, сколько Вам довелось пережить. В Ваших глазах я совершила большое зло. Даже если Вы по великодушию своему и простите меня, то никогда больше не будете смотреть на меня так, как смотрели совсем недавно. Потому я решила не жить. Мне не нужна жизнь без Вас. Но я хочу, чтобы Вы знали – даже если бы у меня, как у кошки, было семь жизней, я отдала бы их Вам. Простите меня…»
На этом письмо обрывалось.
Он думал. Думал о том, кого видели в нем Акэбоно, Клава и Варя, если так его полюбили? Ведь он никого не смог защитить – ни Фудзиюки, ни Акэбоно, ни Клавушку… А сейчас не защитил и Ощепкова…
И тут его озарила мысль. Пусть так. Он не смог их всех спасти. Но разве это причина, чтоб больше и не пытаться?.. Вот Варя. Она жива, но ее жизнь в его руках. Ее-то спасти он может! Должен. Обязан.
Он осторожно притронулся к Вариному плечу.
Она мгновенно проснулась. И, подняв на Спиридонова взгляд красных от слез глаз, спросила:
– Вы меня от себя отошлете?
– И куда вы пойдете? – Спиридонов взъерошил ей волосы. – Нет, Варя. Я не буду вас никуда отсылать. Ни из квартиры, ни из жизни, ни из сердца. Хватит сломанных судеб! В сучьи времена главное – самому не стать сукой, вы уж простите меня за грубое слово.
Варя, схватив его за руку, уткнулась лицом в рукав его френча и разрыдалась. Спиридонов стал гладить ее по волосам:
– Не плачьте… У каждого из нас есть что-то на совести. Что толку, если мы с этим умрем? Не лучше ли жить? У живого остается надежда; у мертвого ничего нет. А вы еще так молоды… Не плачьте.
Он говорил ей что-то еще, но понимал – конечно, все это правда. Но никто никогда не снимет с его совести груза. С ним и придется доживать жизнь. Он словно боль в груди, оставшаяся после болезни: он к ней притерпелся, и она осталась в нем напоминанием о том, что за жизнь надо бороться.
Он взял лицо Вари в свои ладони, заглянул ей в глаза:
– Вы писали, что отдали бы за меня семь жизней. Не стоит. Жизнь надо беречь.
Варя покорно кивнула, но в ее глазах читалось непонимание. А у Спиридонова опять заболело в груди. Но это было не самое плохое.
Теперь боль будет не только в его теле, но и в душе. Только и всего.
Послесловие
Судьбы у людей разные.
Есть люди, которым при жизни ставят памятники и посвящают песни, снимают о них фильмы, но пройдет не так много лет, и история смоет их имена со своих скрижалей, как дождь смывает с мостовой пыль и мусор.
А есть такие, чьи имена втаптывают в грязь, но они все равно восходят и сияют, словно звезды, погасить которые люди не властны.
Наверно, все проще, чем кажется, ведь о человеке свидетельствуют его дела. Если человек всю жизнь старался лишь для себя, топча окружающих, то единственное, что останется после него, это могила. Могила, которую не станут настойчиво разыскивать спустя много лет.
Если же он жил для дела, то дело переживет его и будет ему самым лучшим памятником.
Самым лучшим памятником Спиридонову, Ощепкову и многим другим, таким как Волков и Харлампиев, Галковский и Сагателян, стало то, чему они посвятили свою жизнь. Самбо.
Ни Спиридонов, ни Ощепков не знали этого слова, хотя Спиридонов был к нему близок. Окончательно самбо сформировали их ученики, прежде всего Харлампиев и Волков.
Но не будь Спиридонова или Ощепкова – не было бы и самбо. И пока на белый квадрат татами будут восходить молодые бойцы, эти имена будут жить, память о них не умрет.
Произведение, которое вы прочитали, – художественное, это роман, а не документальная книга, и, конечно же, ее сюжет может отличаться от того, как все было. Слишком много документов утеряно, давным-давно ушли из жизни свидетели тех событий. Но в работе над книгой я старался максимально учитывать все, что было написано до меня, и как можно достовернее описать то, как могли происходить события. Если я в чем-то ошибся, если какой-то факт из жизни моих героев прошел мимо моего внимания – прошу меня простить и не судить строго.
Главное, в чем я уверен: пора прекратить бесплодные поиски того, «кто матери-истории более ценен», и уж точно пора прекратить инсинуации на тему о якобы чуть ли не смертельном противостоянии этих героев. У Спиридонова с Ощепковым было взаимное непонимание, порою их отношения можно было назвать напряженными, но и только. Это просто «древний спор славян промеж собой», неизбежный творческий конфликт двух энтузиастов своего дела. Никакой ненависти и вражды между Спиридоновым и Ощепковым быть не могло, ведь, как сказал Пушкин, «гений и злодейство – две вещи несовместные». А гениями в своем роде были оба.
Хотелось бы поставить точку в споре, кто больше сделал для системы самбо. Это пустой и глупый спор. Каждый сделал все, что мог, каждый выложился на все сто процентов и внес свой неоценимый вклад. Давайте просто помнить каждое имя, заслуживающее того, чтобы его помнили.
И пусть всегда, покуда жив род человеческий, на белом квадрате татами продолжается мирное противостояние – самбо. Не ради подчинения себе противника, а ради победы над собой и самосовершенствования.
Москва, 2016КОНЕЦ
От автора
Мне представляется памятник.
Хорошо бы стоял он в Новосибирске, на берегу Оби. Он может быть без постамента – даже лучше, если он будет располагаться на небольшой квадратной площадке, татами. Два борца в одинаковых кимоно приготовились к схватке.
Один – высокий, худощавый, очень серьезный. Он наблюдает за соперником, оценивая, чего от него можно ожидать и как это лучше использовать в поединке. Он готовится к бою, но не испытывает ни ненависти, ни желания во что бы то ни стало сразить противника, повергнуть или унизить. Нет, схватка для него – нечто другое. Он подходит к ней профессионально: поединок – это работа, искусство, заполняющее всю жизнь.
Другой кажется расслабленным, но впечатление это обманчиво. Он ниже ростом, коренастый. У него простое, открытое лицо, невинный взгляд и мягкая улыбка, словно поединок для него – некое развлечение, вроде игры. Но эта игра – как песня для птицы. Птицы поют не для веселья, их песня – это их жизнь, и точно так же поединок для нашего героя – жизнь: не работа, не искусство, а сама жизнь.
Кто победит в схватке и будет ли в ней победитель – не важно. Важно то, чтобы этот поединок никогда не заканчивался. Важно, чтобы эти люди постоянно смотрели в глаза друг другу в предвкушении начала священнодействия, которому оба они посвятили жизнь и в котором – по-разному – были самыми великими и абсолютно равными.
Есть сражения, в которых само сражение важнее победы.
* * *
Что это за памятник? Что он символизирует и кого представляет? Конечно, прежде всего – это памятник двум незаурядным людям. Двум Мастерам, создателям системы самбо.
Я пишу о двоих, хотя многие уверены: самбо разработал один человек. О том, кто был автором этой системы, есть несколько мнений, однако было бы несправедливо выделять заслуги одного, умаляя при этом усилия другого. Оба поровну внесли свою лепту в становление этой борьбы, да и не только они, но и их ученики, последователи. Вспоминая Спиридонова и Ощепкова, мы не отрицаем заслуг и множества других людей – например, столь известных мастеров, как Харлампиев или Волков.
Все эти люди внесли в разработку самбо неоценимый вклад, и это закономерно. Так и должно было быть. Система самбо не могла быть создана кем-то одним; это плод коллективного творчества, и факт этот делает ее столь всеобъемлющей, поистине интернациональной. И не важно, что взгляды Спиридонова и Ощепкова на то, какой должна быть новая борьба, порой кардинально не совпадали – от этого самбо стало лишь лучше. Универсальнее, разнообразнее, эффективнее.
Упоминать одного, не упоминая другого, или обелять одного за счет другого недопустимо. Да, отношения Спиридонова и Ощепкова не всегда были хорошими. Были меж ними размолвки. Серьезные. И что с того? Эти ссоры и их причины унес поток времени; смерть смирила всех, земля приняла обоих. История обоим даровала лавровые венки победителей…
Разные народы мира слагают очень похожие легенды – одна из таких легенд рассказывает нам о том, что, когда человек появляется на свет Божий, его ангел зажигает в небесах свечу, которая гаснет только со смертью этого человека. Эти свечи люди называют звездами.
Судьбы людские действительно напоминают звезды, сияющие нам с небес.
А какие-то из звезд люди зовут путеводными – потому что руководствуются ими в своих путях шествия.
Судьбы отдельных людей тоже можно назвать путеводными. Они вдохновляют, ведут за собой, они могут предрешить выбор нами жизненного пути. Но, увы, немногие люди помнят названия всех звезд, даже тех, которые служат им путеводными.
Наши герои тоже забыты. И незаслуженно. Их имена знают лишь редкие энтузиасты, а о том, какими в жизни были создатели самбо, известно совсем единицам. И совершенно напрасно: оба этих человека, тот и другой – достойные примеры для подражания. Очень разные, ни в чем не похожие, местами противоположные по характеру, но в равной мере великие.
Памятники им уже воздвигли. Одному – в Москве, на месте захоронения, другому – во Владивостоке. Но, думаю, этого мало. Ибо памятники ставятся не только людям, есть у них и другое значение.
Когда мы подходим к Красной площади в Москве, нас встречает у Исторического музея и Иверской часовни конный памятник маршалу Жукову. Конечно, это памятник великому полководцу, одному из главнейших архитекторов Победы. Но, глядя на строгие черты маршала, мы видим намного больше. Перед нами возникают и героическая оборона Киева, и не покорившийся врагу Ленинград, и пылающая земля Курска, и Рейхстаг, над которым развевается наше знамя Победы.
А входя на Красную площадь, мы видим изумительное творение рук человеческих – собор Василия Блаженного, словно явившийся к нам из сказки. А перед собором – застывшие в бронзе фигуры двух могучих мужчин, Минина и Пожарского… Это не просто памятник – это героико-эпическая поэма. Фигуры воплощают характеры Дмитрия Михайловича Минина и Кузьмы Захарьевича Пожарского, историю их взаимоотношений и роль в прекращении Смуты. Увековечивая двух великих в истории России людей, памятник символизирует намного большее – единение народа России и ее власти под эгидой Церкви в лице незаслуженно убранного в 1917 году с постамента третьего героя победы над Смутой, патриарха Гермогена, чья фигура теперь воздвигнута в Александровском саду в том виде, в каком она должна была стоять позади фигур Гражданина и Князя.
Памятник Минину и Пожарскому напоминает всему русскому народу, как он не склонился перед агрессором, в едином порыве поднялся против врага. Напоминает о том, что есть в России по-настоящему великие люди, чьи имена вписаны в ее историю.
* * *
Есть у России «друзья», которых хлебом не корми, но дай посеять среди нас раздор. Желательно, конечно, политический – разделить на удельные княжества, ну а коли не получается, так хотя бы на враждующие между собой социальные группы, ведь, как известно со времен Древнего Рима, divide, et impera. С достойной лучшего применения настойчивостью эти «доброхоты» настраивают нас друг против друга – верующих против неверующих, славян против азиатов, горожан против сельских жителей, служащих против рабочих, женщин против мужчин, многодетных матерей против чайлдфри и так далее… Попытки эти ведутся не одно столетие, но приводят лишь к кратковременным, хотя оттого не менее трагическим и кровавым последствиям.
Говорят, у русских нет национальной идеи, но это не так. Идея эта есть, но она так проста, что ее не замечают и воспринимают как само собой разумеющееся. Идею России очень просто сформулировал, не ставя нарочно себе такой цели, в одна тысяча девятьсот девяностых русский поэт и рок-музыкант Костя Кинчев.
«Мы вместе».
Соборность, союз нерушимый, единство народа перед лицом любой агрессии – вот это и есть та самая идея, которой живет, дышит и будет дышать и жить Россия, прожив так от Владимира Крестителя доныне, и в будущем; и в этом отношении борьба самбо – целиком и полностью русская. Я говорю «русская», понимая под русскими все народы России, и не важно, какого цвета их кожа или как выглядит храм, куда они заходят вознести Богу молитвы. Как сказал другой великий русский человек, генерал Маргелов, враг не будет смотреть, какой у нас цвет кожи и разрез глаз, для него мы все русские. Тем более наши заклятые «друзья» не станут спрашивать, ходит ли их противник в православный храм, мечеть или синагогу, за кого он голосует… Современные войны не так ведутся – бомба уничтожает все вокруг, и от ее разрыва никакие убеждения не спасут.
Поэтому русское, наше – это то, что нас объединяет. И система самбо – русская, абсолютно русская по своей сути, хоть в основе ее лежит дзюудзюцу, пришедшая из Японии, куда попала она из Китая. Но двое русских создали самбо и дали этой борьбе русскую душу, и теперь борьба тоже служит единству народа, история которого полна заблуждений, преодолений и великих побед.
* * *
Я литератор. Возводить монументы из бронзы или мрамора я не умею, пишу книги. Но и книга может быть памятником – служить для сохранения памяти, и если книгу будут читать, она будет не худшим напоминанием о яркой личности, нежели бронзовый монумент.
Книга дает возможность воссоздать жизнь человека, достойного того, чтобы его помнили поколения, помнили его мысли, чувства, сомнения и решающие поступки.
Знакомясь с живым героем, мы понимаем, что он был таким же человеком, как каждый из нас, не лишенным слабостей, не избегшим ошибок, но сумевшим сделать правильный выбор.
Имена Спиридонова и Ощепкова были потеряны для нескольких поколений. Сегодня в нашей стране, к счастью, есть живейший интерес к боевым искусствам вообще и к русскому самбо в частности, но когда спрашиваешь даже у людей, посвятивших свою жизнь этому искусству, кто такой Спиридонов или кто такой Ощепков, с удивлением узнаешь, что далеко не всем знакомы эти фамилии.
Василий Сергеевич Ощепков и Виктор Афанасьевич Спиридонов в числе первых стояли у истоков создания русского самбо. Эта борьба – не просто набор приемов, применяемых в рукопашном бою. Как и всякое боевое искусство, самбо имеет свою философию, как и во всяком боевом искусстве (карате, тхэквондо, капоэйре), в самбо отражается национальный характер русского человека. Это отличие и является стержнем самбо – искусства, собравшего и слившего в единую, стройную систему приемы как исконно русских единоборств, так и национальных боевых систем самых малых народов нашей многонациональной страны.
Начиная работу над книгой о создателях самбо, я столкнулся с тем, как мало информации есть о людях, благодаря которым появилась эта борьба, в каких исторических обстоятельствах, на фоне каких событий внутри страны и за ее пределами. Словно имена этих незаурядных и выдающихся личностей кто-то насильно стер из исторической памяти, обезличив, лишив их индивидуальности.
Обезличивание прошлого, когда роль личности сводится на нет, – характерная черта тоталитаризма. Это и произошло со Спиридоновым и Ощепковым – их имена от души постарались забыть настолько, что даже могила Спиридонова на долгое время была потеряна и обнаружена энтузиастами только недавно. Ощепкову повезло еще меньше: как жертва ежовщины, он был похоронен в безымянной могиле, место которой вряд ли когда-нибудь будет установлено.
Да, оба моих героя удостоились монументов в бронзе. Да и книги про них пишут – вспомним замечательное исследование Александра Куланова «В тени восходящего солнца», в котором Ощепкову посвящена почти треть повествования. Но того и другого мало, равно как и моя книга не закроет тему. Надо говорить об этих людях, вспоминать их, о них рассказывать тем, кто делает первые шаги на татами.
У великих людей недостатки лишь подчеркивают величие.
Читатель, помни: у каждого из нас есть шанс стать героем. У каждого – и у тебя – есть возможность совершить что-то не обязательно великое, но что-то важное – для тебя и других. И, конечно, каждый способен, даже когда весь мир вокруг рушится, а впереди, кажется, нет ничего, кроме безнадежности и пустоты, найти свою точку опоры и двигаться дальше – к победе: над обстоятельствами, над собой. Как это смогли Ощепков и Спиридонов, захваченные делом, которому они бескорыстно служили.
Для этого и нужны монументы. Да, я не умею делать статуи из бронзы и мрамора. Я пишу книги.
И это хорошо.
Примечания
1
Младший партнер купца, в отличие от приказчика, имеющий право самостоятельно, от своего имени, заключать сделки в определенном объеме.
(обратно)2
Угорь – осужденный по уголовной статье (жарг., устар.).
(обратно)3
Ссыльнопоселенец и иное лицо, имеющее доступ в исправительное учреждение и не являющееся при этом ни заключенным, ни персоналом исправительного учреждения.
(обратно)4
Zugzwang (нем.), «принуждение к ходу» – положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.
(обратно)5
Тип небольшого рыболовного или каботажного японского суденышка, «родом» из одноименного японского порта.
(обратно)6
Имеется в виду морской котик – разновидность ушастых тюленей. Раньше в изобилии водились в Охотском море и на Тихоокеанском побережье, подвергались варварскому промыслу, ныне занесены в Красную книгу, охраняются государством.
(обратно)7
В 1920–1930 годах США оказывали Советской России обширную военно-техническую помощь; так, известные автомобили марки «ГАЗ-А» и «ГАЗ-АА» производились по лицензии корпорации «Форд», а завод был построен со значительным участием американских специалистов, и это только наиболее известный пример.
(обратно)8
Деталь паровоза, передающая движение от поршня колесам, постоянно перемещается в процессе движения паровоза.
(обратно)9
«Буря в горах» – передний подхват под обе ноги с захватом за рукав и одноименный отворот – прием в дзюдо, входящий в раздел бросков, группу бросков из стойки, класс бросков, для проведения которых в основном используются руки.
(обратно)10
Подхват под обе ноги (бросок через поясницу сметающим движением ноги).
(обратно)11
Отхват с захватом руки под плечо, «наматыванием» на себя противника и падением на бок.
(обратно)12
Бросок с захватом руки под плечо изнутри, «наматыванием» на себя противника и падением на бок.
(обратно)13
Удар внешним ребром стопы.
(обратно)14
Японский ронин, лучший фехтовальщик в истории как минимум Японии. Основоположник самурайской школы боя на двух мечах, автор «Книги пяти колец» – философского трактата о военном искусстве. Более известен по имени провинции, из которой происходил, как Миямото Мусуаси.
(обратно)15
Мягкий путь.
(обратно)16
«Колесо через руку», боковой переворот.
(обратно)17
Контрприем от подхвата изнутри с выведением соперника из равновесия скручиванием.
(обратно)18
«Бросок со взваливанием противника на спину» (бросок через плечо).
(обратно)19
Здесь – специальное приспособление в виде закрепленного за четыре угла куска сетки или ткани для подачи на судно пакетированных грузов (мешки, тюки, рулоны и проч.); поднималось и перемещалось краном (стрелой).
(обратно)20
Базовая стойка в дзюдо.
(обратно)21
Глупый иностранец (яп. вульг.), уничижительное прозвище иностранцев, прежде всего европейцев, в Японии.
(обратно)22
По старому стилю Рождество было не в начале года, а в самом конце.
(обратно)23
Личное окончание, которое в Японии употребляют в отношении прославленных учителей, врачей, деятелей науки.
(обратно)24
«Колесо через ногу», вариант передней подножки (или подхвата под обе ноги), когда атакующая нога не касается поверхности татами.
(обратно)25
Броски, для проведения которых используются в основном ноги.
(обратно)26
Плохой мастер дзюдо (унич.).
(обратно)27
Святой человек в буддизме.
(обратно)28
«Падение трухлявого дерева» – бросок захватом снаружи за разноименный подколенный сгиб (или просто бросок за ногу). Довольно простой прием для японца, но для Ощепкова в то время представлявший определенную сложность с учетом его европейского телосложения и того, что противник был крупнее.
(обратно)29
«Удушение в голом виде» – удушение предплечьями со стороны головы без захвата одежды противника.
(обратно)30
Бросок через спину с блокировкой ног атакуемого (опрокидывание после взваливания соперника на спину), передняя подножка с захватом руки на плечо с колен.
(обратно)31
Восходящее солнце, символ Японии; поэтическое название Японии; священная японская гора – соответственно.
(обратно)32
Еще одно поэтическое название Японии.
(обратно)33
Иностранцев, дураков и инвалидов (яп.).
(обратно)34
Технически Спиридонов заблуждается – брандер «Такэно» не был предназначен для подрыва в гавани, он должен был лишь перегородить фарватер, чтобы не допустить выхода из нее русских кораблей. Фактически, по многим причинам, эффект от этого все равно предусматривал гибель и увечья для многих защитников Порт-Артура, и блокада 1-й эскадры в гавани, хоть это и не очевидно, была даже опаснее лобовой атаки брандера на любой из броненосцев (особенно с учетом того, что подобное вообще было трудновыполнимой задачей в начале ХХ века).
(обратно)35
Командовавший осадой Порт-Артура генерал Ноги Марэсукэ, например, хотел сделать сэпукку по результатам кампании, и лишь прямой запрет Муцухито его остановил. По смерти последнего Ноги с женой тем не менее покончили с собой – из-за Порт-Артура.
(обратно)36
Официально в 1932–1933 годах РККА не участвовала ни в каких сражениях с японской армией, неофициально – советские военнослужащие в качестве инструкторов («играющих тренеров») обучали армию Гоминьдана.
(обратно)37
Данный факт относится к категории достоверных, то есть об этом имеется ряд свидетельств, но нет официального документального подтверждения.
(обратно)38
Здесь: соединяющая разнородные элементы.
(обратно)39
То есть в штатском, гражданском, цивильном.
(обратно)40
Место сбора московской шпаны.
(обратно)41
Место обитания наиболее криминализированной части московского деклассированного элемента (страшнее была только знаменитая Хитровка).
(обратно)42
Биржа труда на Каланчовской площади (недалеко от Ермаковской ночлежки).
(обратно)43
Напильник с самой крупной насечкой для грубых работ.
(обратно)44
Начало августа 1873 года.
(обратно)45
«Тростниковое поле», или «Веселое поле», «Район красных фонарей» в Токио.
(обратно)46
Акэбоно цитирует вышеупомянутого капитана Такэо: «Хотелось бы родиться семь раз, чтобы отдать все жизни за Японию. Решившись умереть, я тверд духом. Ожидаю успеха и улыбаюсь, поднимаясь на борт».
(обратно)47
При переводе правило 5–7–5 не соблюдено.
(обратно)48
27.08/09.09.1905 года.
(обратно)49
Длинная деревянная лавка у печи.
(обратно)50
Известные московские хулиганы 1920–1930-х годов, не останавливавшиеся перед убийством.
(обратно)51
Назначение в Наркомат связи было знаковым в карьере советского чиновника: следующим неизбежным этапом такой «карьеры» становился арест.
(обратно)52
Из молитвы к Причастию, отсылка к евангельской истории о предательстве Иудой Христа (церк.-слав.).
(обратно)53
Настоящая фамилия Ягоды – Иехуда; это еврейское имя, в русском языке транскрибируемое как «Иуда».
(обратно)54
Искаженное комотд, командир отделения (жарг.).
(обратно)55
Закрытая аппаратура связи; оборудование особо секретной связи.
(обратно)56
Официально между 1925 и 1939 годами ОСНАЗ не существовал, но, по некоторым сведениям, сохранялся в структуре ЦК и личном ведении Сталина. Курировал его будущий министр госбезопасности Абакумов.
(обратно)57
Одиозный многобашенный тяжелый танк, единственный в мире танк, вооруженный тремя пушками и семью пулеметами в пяти башнях.
(обратно)58
В финале оперы «Саломея» главную героиню по приказу Ирода давят щитами.
(обратно)




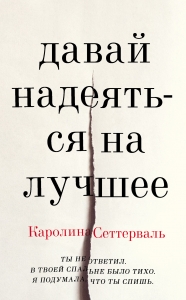





Комментарии к книге «Белый квадрат. Захват судьбы», Олег Юрьевич Рой
Всего 0 комментариев