Владимир Новодворский Сегодня и вчера, позавчера и послезавтра
Счастье – это когда любишь человека, любящего тебя, не за то, что он любит тебя, не за то, какой, и не за то, что в нём, и что у него, а за то, что он есть в этом Мире и Бог дал радость его встретить и разделить с ним самое важное, что у тебя есть – Жизнь.
Быть собой – трудно…, встать на место другого – трудно…, боимся – осудят, накажут, разлюбят…, предпочитаем жизнь со страхом жизни с собою…, себя надо любить, а за страх прятаться…, прятаться учили, а любить – нет, кого-то – да, а себя – нет…, тогда – полюби страх, открой дверь и отпусти его, и найдёшь себя…
Можно остановить поезд, машину, человека, но попробуйте остановить мысль, попробуйте поймать паузу, поймать то, из-за чего она рождается, попробуйте… и мир Ваш.
Когда наконец понимаешь…, что жизнь только начинается…, она заканчивается…, так учит ценить…, понимать…, радоваться…, как только она начинается…
Персонаж, родившийся вчера,
продолженья требует сегодня,
то, что поглотила тьма,
возникает в отражении снова,
заставляя все тащить со дна
в послезавтра из позавчера.
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
© Владимир Новодворский, 2016
© Super Издательство, 2016
1
По истечении лет начинаешь тонуть во времени. Скорости света и звука служат камертоном скорости жизни, быстротечность которой поражает в конце и забавляет в начале. Морскую рыбку, наблюдающую за жизнью в аквариуме из полиэтиленового мешка с водой, смертельно пугает не разлука с прекрасным подводным миром, а изоляция, неопределенность, отсутствие скорости. При потере скорости остро ощущаешь уходящее время и приходящее одиночество. Попытка придать себе ускорение рождает тревогу, она выхватывает наугад дремлющие мысли, разгоняет их и отпускает в свободное плавание. Они набирают силу, ощущают собственную значимость, сталкиваются, теряют уверенность и ориентацию, создают хаос. Спасаешься бегством, цепляешься за людей, за знания, тратишь деньги. Ищешь вокзал, перрон, видишь уходящий поезд, увозящий твое время, прыгаешь на подножку, срываешься, впиваешься кончиками пальцев в ступеньки последнего вагона, ноги скачут по лестнице из шпал, пытаясь найти опору, тормозишь, падаешь, пыль прячет реальность, ссадины просят внимания, глаза находят стрелки часов, двигаются с ними, круг превращается в спираль, затягивая в воронку пространства времени, наступает пауза, безвременье, границы прошлого и будущего размываются, появляется настоящее, все больше и больше расширяя пространство вокруг себя, освобождаясь от зависимостей, тянущихся из прошлого, и желаний пребывать в будущем.
2
Проснулся от крика. В ушах звенело. Вокруг нарастал гул. Тревога и дрожь в теле при абсолютной ясности головы – реакция на первую команду, разорвавшую жизнь на «до» и «после». Дневальный, разделивший ночь с одинокой тумбочкой, стоявшей, в отличие от него, на четырех ножках в коридоре затаившей дыхание казармы, разрывает горло накопившейся невысказанностью, утонувшей в море приказов, унижений, обвинений. Два слова «Рота, подъем!» – как последний крик о помощи.
Вырвавшийся на волю звук проникает в нервные окончания, вызывая ощущение насилия и тошноты. Ресницы с веками ринулись к бровям, а ноги к сапогам. Пальцы не слушаются, скользят по блестящим пуговицам. Ноги, руки, голенища и рукава сплелись, как старые друзья. Фактор страха и время, пульсирующее в висках, обрученное с пульсом, делают движения нелепыми.
Заводные солдатики, танцующие под уставшую пластинку, вдруг замерли. Замечаю, как гидра зеленой формы старательно принялась за поглощение одного из важнейших отличительных признаков его величества Человека – индивидуальности. Когда хотят унизить, в первую очередь лишают признаков личности – армия, тюрьма и коммунизм прекрасные иллюстрации данному наблюдению. От тебя остается нос и уши, глаза – в плену перемен, рот – на замке. В воздухе очередной разряд молнии.
– Форма одежды «номер два» подразумевает голый торс, – выстрелил сержант.
Расстегиваем пуговицы, которые только что с трудом залезли в петли.
– Живот в себя, грудь колесом, – звучит очередной приказ.
Корректировка фигуры производится крепкими руками «стариков» – солдат, прослуживших в роте почетного караула год. Завершающих службу «дедов» практически не видели. Мы находились в карантине, они готовились к празднику, выделяясь подогнанной по фигуре и украшенной аксельбантами формой и генеральскими фуражками с кокардами, похожими на заморские ладьи. Глаза их светились, всматриваясь вдаль, выше уровня погон и бетонных заборов, а наши метались и, не обнаружив опоры, падали вниз на уровень сапог.
Утренняя поверка сопровождается робким «я» на фоне упрямого «МЫ».
– Бегом марш, – очередная команда, и «мы» спрыгиваем по лестнице, пересекаем расчерченные дорожки, сливаемся с лесными тропинками и оврагами.
С каждым движением портянки предательски сползают с ноги, сдавливая пальцы, нарастает нестерпимая боль. Пятка входит в прямой контакт с кирзовым сапогом, а я в прямой конфликт со «стариком». Сознание пытается понять, почему нельзя остановиться, ноги не могут понять, почему я этого не делаю. Он не может понять, почему стою, а не бегу, и ему глубоко наплевать на то, что я могу или не могу понять.
– Возвращаемся на плац для спецподготовки, – рявкает он.
Новые испытания обеспечены, не знаю, какие, но его глаза вызывают неприятные предчувствия.
Проблемы с бегом настигли еще человек десять. Нас собрали на стадионе. В центре расположилось облысевшее футбольное поле. Беговые дорожки хранят следы бесчисленных разрушительных забегов. Трибуны, выкрашенные во всепобеждающий зеленый цвет, отражают общее настроение замкнутости в безликости. Изучение местности происходит недолго, следует приказ:
– Гусиным шагом, марш!
Час спустя ноги не двигаются, во рту сухо, как в пустыне. С трудом различаю что-либо в метре от себя, брови, защищавшие глаза от струек пота во время охоты, видимо, в процессе эволюции поредели. Гаревая дорожка поглотила литры соленой воды – подобно облаку, мы выпали в осадок. Усталость и напряжение повисли в воздухе, утонувшем в пыли.
Коля Попадюк из Донецка простонал:
– Нэ можу…
Уверен, что все испытывали такие же ощущения, но молча тянули свою воинскую лямку, как бурлаки. Николаю пошли навстречу. В его руках появилась нераспечатанная пачка печенья, которую он должен был съесть в течение следующего круга. У меня уже давно горло просило помощи, но сама мысль что-либо съесть вызывала рвотный рефлекс.
Я встал, не зная почему. С одной стороны не мог, с другой не хотел в этом дальше участвовать.
– Ты тоже хочешь печенья? – спросил один из «стариков».
3
Шестнадцать лет отделяют от окончания изнурительной войны. Много и мало, страна оживала, лечила раны. Поля сражений и лагеря унесли и исковеркали миллионы душ. Уцелевшие по крохам создавали условия собственного бытия, участвуя в гигантской программе модернизации страны. Молодых людей, прошедших огонь войны и пепел очагов, не пугали трудности нового этапа. Они учились, женились, рожали и воспитывали детей.
Отец окончил военно-морское училище и женился на маме, первокурснице Ленинградского Медицинского института. Ютились с родителями в одной комнате. Затем собрали скромные пожитки и отправились колесить по воинским частям. В результате школы менялись, как перчатки. Первый класс казался мне бесконечным. Четыре школы в трех городах – Севастополь, Минск, Ленинград. Жили в военных городках.
Братьев и сестер не было. С ранних лет просил хоть кого-нибудь. Готов был продать самую ценную вещь – автомобиль, настоящий с педалями, колесами, сигналом, – чтобы добавить недостающих, по словам родителей, денег.
В Минске в школу возил специальный автобус. Вставать приходилось в шесть утра. Зимой первое, что я делал с закрытыми глазами, это включал приемник «Мир» и с надеждой ждал голоса диктора, сообщавшего, что температура ниже минус двадцати пяти градусов и следует воздержаться от посещения детьми школы. Ожидания оправдывались редко, перед глазами возникали желтые огоньки, скрывающиеся за стеклянной шкалой приемника. Волшебный экран сглаживал переход из мира снов в реальность, представляя любимых героев: Элли, Дровосека, ужасного Гудвина и деревянных солдат Урфина Джюса. Они увлекали за собой в сказочную страну, наполняя комнату светом.
Двухэтажное общежитие, где нашей семье предоставили комнату, находилось в глухом лесу. Деревья смотрели на меня, покачивая огромными зелеными головами, их превосходство прижимало к земле. Завораживал шум танковой дороги, вздыбленной постоянными учениями. Мир вливался через глаза, уши, нос, рот новыми картинками, звуками, запахами. Иногда запах жареного гуся, проникавший через щели из нашей комнаты, сводил с ума холостяков. Иногда мама сводила с ума кого-то – так считал папа, а то, что она была очень красивая и юная, непохожая ни на мать, ни на жену, – так считали все. Страсти накалялись и бурлили.
Внести свежие впечатления в повседневную жизнь помогли новые друзья, жившие в Минске. На выходные с радостью выбирались из военного городка, часто оставались у них на ночь. Брали машину напрокат, это был «москвич»-фургон – событие, в эмоциональном плане ни с чем не сравнимое. Автомобиль это всегда свобода, а для несвободного человека – свобода в квадрате. Сзади укладывали матрас, и мы с дочерью друзей клубком катались в ограниченном кузовом автомобиля пространстве.
Косы и улыбки, банты и смех, тепло и радость. Одноклассники жили далеко и не стали близкими, она тоже жила далеко, но была близка. Девочка, я понял, может приносить праздник, но не понял, почему. Утром родители провожали до остановки рейсового автобуса. Передо мной стояла задача не уснуть, вовремя выйти и пересесть на школьный автобус. Иногда я не справлялся со сном, и водитель или кондуктор заботливо выгружали меня. Лампочки автобуса сменялись уличной темнотой, с которой дружил заблудившийся ветер. Щеки и нос начинали гореть.
Первая взрослая зима. Шесть лет, время принимать решения. Школьный автобус или сломался, или уехал, и я выбирал. Лесная дорога, говорила: «Ты один, никому не нужен. Захочу – напугаю, захочу – отпущу». Мысли встревожено бегали, я сжимался и шел, оставляя замысловатые следы на снегу. Дистанция в несколько километров заканчивалась сном у двери в класс. Китайское пальто на меху имело капюшон, за который учительница втаскивала меня, приговаривая:
– Лучше спи здесь.
Чувствовал себя неловко, частые опоздания чередовались с пропусками по болезни. Ангина навещала горло, и мне делали неприятные уколы в гланды. Решил, как только приеду к бабушке, сам пойду их удалять.
4
Родился я на Подоле. В святом крещении назван Георгием. Отец мой Георгий, сын Георгия, из потомственных священников.
Отец напутствовал меня, что праотцы наши держались святого Евангелия и верили учению Христа Спасителя, что все дела земные нам зачтутся и суд будет, божий суд, и всем по делам будет, и что ты как раб божий молиться должен и просить у бога наставления на путь истинный, на дела добрые, да уничижать в себе все страсти людские. Слова эти, как музыка, они в меня входят, а чтоб понять-то, так нет, чтоб объяснить кому, так тоже нет, и слушать снова хочу, чтоб уяснить, и не знаю, как. Чувствую, внутри что-то просит, и как голодное оно, говорят, душа это, может и душа, ее не спрашивал, как отдельно-то от меня она, и как обратиться-то к ней – не знаю, но, что есть она, так это верно.
Помню, молился я у иконы Пресвятой Богородицы, просил помощи, в школу идти, а отцу пятнадцати рублей не сыскать. Унижаться, просить, а помещики, они процентов просят, с урожая долю отдай, тяжело это отцу, а мне помочь нечем, а учиться хочу. В окончание молитвы проговорил про себя: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь».
Читал с крестным знамением и поясным поклоном, идти собрался, а не могу – и не то, что ноги не идут, а как в груди что-то горит. Смотрю, свечей на подсвечнике много, от них жар, думаю и снова идти пробую – а на месте стою. Чувствую, будто на затылке рука чья-то и тянет к иконе. Подсвечник-то я обошел, но жар в груди остался, а рука та невидимая к иконе с образом Богоматери мою голову притянула, я губами коснулся и поцеловал, и тут все исчезло, как не было ничего, и жар пропал, но легкость пришла, такая, что шел, как подпрыгивал. Так догадался, что когда не понять, не дойти умом-то, тебе и показывают, что вот оно есть, и по вере тебе будет. А если что не понимал – к отцу за объяснением, и спросил однажды:
– А как оно, если раб я, рабы-то, ты говорил, они не свободные и прав-то никаких нет, то как можно дела какие светлые делать?
Отец посмотрел на меня, его обычное спокойствие, сменилось озабоченностью и суровостью, но говорил он даже как-то особенно ласково.
– Ты не пред человеком раб, на то тебе указанье Божье, что ты только Богу служишь, и нет на земле других властителей душе твоей. Иисус спустился на землю для спасения души человека, человека грешного, в страстях погрязшего.
Я внимательно слушал отца, но, как он ответит, так вопросов еще более:
– А как Бог спустился, и люди не заметили этого? Он же Бог!
– Да, чтоб принять страдания наши, в обличии человека и снизошел. Вот как бы ты решился превратиться, к примеру, в муравья, чтобы помочь им в их жизни разобраться, что праведно, а что нет.
Я задумался. Муравьем бы не хотел быть – и наступить на него случайно любой вправе, да и птица какая клюнет:
– Нет, не хотел бы муравьем.
Отец улыбнулся.
– Да, жизнь свою другим отдать, и так, чтоб не жалеть и в радости пребывать, не каждому дано. Вот тебе дорогу осветить закон Божий и поможет. Учись, к утренней службе не просыпай, в молитве будь искренен.
Так я ответы искал, но не часто. Семья большая, нас, детей, было пятеро, и больше бы было, да болезни троих унесли. Сколько помню, мама все беременная ходила, набожная, добрая, ничего не просила, в еде себе отказывала, все откладывала на потом, а «потом» не случилось, потом-то и умерла, мне восьмой минул. За братьев моих и сестер молилась и в монастырь ходила, километров пять то будет, как воротится, так все повторяла:
– Прибегаю под покровительство всемогущей руки Божией и защиту Пренепорочныя Его Матери, Владычицы нашей Богородицы, – и крестилась так быстро, словно крестики вязала и глазами быстро моргала.
Грусть в ней была, а как ушла, света в доме стало меньше. Всё забота была, а как отец один, так совсем тоскливо. Жили-то мы по законам святой церкви, перед едой молились, во время еды молчали. Хлеб почитали особо, как дар божий. Посты, они целый год один другой сменяют. Так и жили, постом да молитвой, сыто особо не было, но и голодать не приходилось, слава тебе господи.
5
Перед глазами проносится разговор с командиром части, состоявшийся после моего прибытия. Такой чести был удостоен по ряду причин. Отец, морской офицер, позвонил брату, полковнику безопасности, а тот позвонил главному военкому Москвы, генерал-полковнику, который позвонил главному военкому Ленинграда, генерал-майору, и дальше по цепочке. В двадцать один год я получил галочки в графах «высшее образование», «женат» и «член КПСС».
Подполковник Плотников, лет тридцати пяти, холеный, знающий себе цену, четко ориентированный в пространстве карьерного роста, хорошо поставленным голосом давал наставления:
– Вы из военной семьи с хорошими традициями, – говорил он, растягивая слова, заполняя паузу мерным постукиванием аккуратно заточенного карандаша. – В роту почетного караула отбираются самые достойные. Вы будете принимать участие во встречах руководителей государств, правительственных делегаций, открывать парады. Руководят ротой первоклассные офицеры.
Последовала пауза, в течение которой он продефилировал вдоль стены с огромными портретами Брежнева и Устинова. Последняя звезда Героя Советского Союза не уместилась на груди Леонида Ильича и наполовину повисла в воздухе. Лицо министра обороны, преданного соратника, согревается лучами света генсека, щеки приобрели пугающую красноту. Приказом об увеличении срока службы для лиц с высшим образованием он удачно подчеркнул свои демократические принципы и мое недоверие к людям с подобными лицами.
– Вы столкнетесь с большими нагрузками, – продолжал полковник размеренно и монотонно, как хронограф, – не все их выдерживают. В армии учат преодолевать себя. Поддержание высокого уровня боевой и политической подготовки невозможно без тренировок, без адаптации к экстремальным условиям.
Пристально посмотрел на меня, взвешивая продолжать или остановиться, видимо, что-то сдерживало его. Издалека ведя разговор к четко обозначенной теме, он прощупывал почву. Меня тревожил вопрос, что такое важное следует донести до рядового солдата, без году неделя в армии? Казалось, полковник заинтересовался чем-то находившимся вне кабинета, его спина молча наблюдала за мной, обратная же сторона выбрасывала в воздух слова, и они облачками повисали в разделявшем нас пространстве.
– Имеются данные, заслуживающие внимания. Так, например, информация о неуставных отношениях. Если вы столкнетесь с подобными явлениями, немедленно проинформируйте меня лично. – Он выплеснул свою мысль, посмотрел на мою реакцию и добавил как-то по-семейному: – Будут вопросы, заходите, не стесняйтесь.
Наши глаза встретились, информация прошла по видеоканалу. После завершения передачи, он переключился на другие дела. Прозвучала дежурная фраза, находящаяся за рамками его размышлений:
– Вы свободны, следуйте в расположение роты.
За все время я не проронил ни слова. В конце разговора сказал:
– Есть, – и вышел из кабинета.
6
Спустя полгода мы вернулись в Ленинград. Родители мыкались по съемным площадям. Моя жизнь обрела спокойный ритм при погружении в семейный уют бабушки Доры и дедушки Вани. Коммуналка, занимавшая первый этаж особняка на углу Литейного и Петра Лаврова, являла парадоксальную несовместимость венецианских окон, мраморных подоконников, лифта красного дерева – и убогой обстановки комнат и мест общего пользования. У нас в комнате стояли кровать, диван, круглый стол, комод, трюмо и китайская ширма, которая отделяла мое спальное место от крошечного телевизора с огромной линзой, «повышавшей качество изображения». Пытаясь перехитрить Дору, перед сном я тщательно устанавливал ширму, совмещая просветы между панелями с расположением телевизора, но сыскной опыт бабушки всегда приводил к провалу моих операций.
В довершение всего меня принялись откармливать. Выход, казалось, нашелся: круглый стол имел внутренние полости и оказался отличным складом для котлет. Но вскоре запах меня выдал, и умело направляемая бабушкой швабра неоднократно вошла в контакт с различными частями моего тела. Вошедший дедушка, будучи сотрудником НКВД, после недолгого увещевания меня и бабушки, достал револьвер, и сразу наступил мир. У него не было сына, а две дочери, одна из которых моя мама, не дали реализовать мужские чувства. Его любовь всегда была со мной.
В одной из комнат жила девочка, имени которой я уже не помню, но ее присутствие в моей памяти сохранилось как первое ощущение неизвестности на пути познания. Был банный день. В комнату вошел Иван Павлович. Дед и в старости отличался военной выправкой и приковывал женские взоры. Розовые щеки и сеточка, сдерживающая непослушные седые пряди, сигнализировали, что пришла моя очередь мыться.
Дрова мирно потрескивали, ванная комната исходила теплом и паром. Неожиданно дверь открылась. Почему она вошла? Зачем я предложил ей раздеться и разделся сам? Она стояла у двери, безмолвно шевеля губами, вспышки пламени отражались на ее теле и гасли, теплый воздух рвался вверх, раскачивая волосы. Медленно приближаясь, уткнулся лбом в дверь. Пространство, разделявшее нас, не смогло препятствовать тонким струйкам воздуха, разлетевшимся по всему телу. На фоне обжигающего жара печи, тепло, возникшее от прикосновения детских тел, было ласковым. Тревога и страх выбрались из глубин сознания и нависли карающим мечом над неосознанным стремлением к древу познания. Мы быстро оделись, и она также внезапно вышла, как и вошла. Откуда берется чувство страха, ощущение границ дозволенного? Неужели наказание Адама и Евы оказалось столь ужасно, что ощущение вины и раскаяния передается через тысячелетия?
Уровень информированности населения по вопросам сексуальной жизни соответствовал принципам железного занавеса. В одной комнате жили родители со своими детьми, у которых имелись уже свои дети. И в этих условиях исполнение супружеских обязанностей, видимо, должно было соответствовать духу выполнения планов пятилеток и семилеток строительства социализма как в отдельно взятой стране, так и в отдельно взятой семье.
7
Родители назвали Иваном. Живем мы на селе – большое такое село, и церковь у нас красивая, купола издали видно. Железная дорога ещё, поезда ходят, и пассажирский и товарняки, иной раз паровоз загудит, испугаешься и оцепенеешь, а он дымом накроет, и не знаешь, куда бежать. Хата наша недалеко от вокзала у больших тополей прибилась, мазанкой зовется, потому как из глины, а крыша соломенная. Печь внутри белая, жаркая, дрова любит сухие, а какой хлеб печет – и румяный, и пахнет так, что сил нет. Семья у нас большая, брата два старших и сестры две, одна сводная. Нынче я в доме, теперь так случилось, и привык – то мастерю, то на баяне учусь. Раньше отец всякую работу наказывал, то подошву поправить, то каблук, то набойки поменять. Шить новую обувь не особливо доверял, боялся, спорчу, а я втихую пробовал – все ж навык нужный, на хлеб всегда будет, задник и подносок уже зробыть можу, и голенище справить. Мать поехала в соседнюю деревню за знахаркой, та недавно поселилась, говорят, излечила многих.
Мне пятнадцать, а с шести или семи, точно и не помню, ходить не могу, так ползаю. Случилось это в день Христова Рождества. В доме было празднично. На полу рогожки положены, печь трещала, как и мороз на улице все хрустело, снегу намело с аршин – дорожки чистили, так весь забор завалили, все в сугробах. Говорили, коль ласточки после Успенья улетели, так зима холодной будет – так оно и вышло. Под скатерть положили сено, потому как когда Господь родился, его положили в ясли на сено. В баночках стояли пучки колосьев пшеницы и овса, не знаю, почему, но так принято. Мама справила кутью из пшеницы с медом, а до этого постились, больше всякие запасы из погреба доставали, то огурцы соленые, то капусту квашенную, ну, картошку, конечно. Иногда селедку покупали, а уж за радость леща и сома, у нас на Десне они водятся. Все свиней забивали – погрузят их, как дрова, на телегу, и везут в город на ярмарку. Потом вернутся, всякого красного товара, ситца навезут, звезды на елку, как золотые, рядом индюшки лежат, сбитня за одну копейку можно напиться – и греет, и сладкий. Ребята от дома к дому бегали, рождение Христа славили, что-то про царя Ирода пели, а заканчивали «У хозяев ничто не просим, а чего накладут, не бросим». Мама их угощала взваром из чернослива и подавала кутью. Мне хотелось с ними по домам походить, но отец строго наказал сидеть дома; он какой-то заказ срочный доделывал, вроде сапоги нашему батюшке справлял, уже давно должен был закончить, да что-то все не ладилось у него. Мама говорила, что не сесть ему, по его душу сначала бражка плачет, а потом и водку друзья сыщут. Мне казалось, отцу все нипочем, все говорили, что хоть и зовут его Павел, а как Петр первый – такой же огромный, почти три аршина. Отец Георгий обратился к брату отца Степану, подсобить с сапогами – отец-то в церковь редко ходил. Зато балагур известный, полсела друзей, как баян в огромные ручищи его попадет, так оживает и идет в пляс, а пальцы на руке отца прямо преображаются, становятся мягкими быстрыми, не уследишь за ними. Дядя Семен зашел, из сеней уже был слышен его громыхающий голос:
– Софья Григорьевна, до первой звезды дождались, теперь давай кутью знаменитую твою справим, да и ко всенощной отправимся.
Когда он в дверях появился, то за воротником тулупа виднелись только усы в сосульках, на бровях иней и щеки ярко красные.
– Мы уж собраны, Коля и Пашка на улице дожидаются, а Павла ты поспеши. Он тут за твой заказ взялся, для батюшки который, и весь не свой, – шепотом ответила мама. Она у нас такая маленькая, хрупкая, но сильная, и пальцем указала, где отец сидит.
– Павел, выходь. Брось ты это, я отцу Георгию объяснил, что задержка получилась, но скоро закончишь, как сможешь. Давай уже пойдем, все вместе. – Дядя Семен говорил сидя на скамье напротив печи, расстегнув пуговицы на тулупе и медленно отведывая кутью.
– Семен, моих возьми с собой, дочери еще малые. Софья проверь, чтоб спали, я с Ванькой после подойду.
Я сразу насторожился, валенки уже надел, но спорить не стал, знал, что доброго не будет.
– Ваня, пойдете, теплее одевайся, мороз к ночи еще сильнее. Павел, – сказала она, глядя в сторону отца, он так и не вышел, – ну, уж ты сильно не задерживайся, нехорошо как-то.
Мама немного помолчала и, не дождавшись ответа, отворила дверь в сени, пропустила вперед дядю Семена и напоследок сказала:
– Ну ладно, сам смотри.
Я сел у окна и смотрел через маленький прозрачный кусочек стекла на сверкающие огоньки на снегу, на черные тополя. Они, как мертвые, вытянулись в ряд, и на их вершинах где-то прятались вороны. Днем птицы воровали еду, даже у злобного Полкана и то кусок утащили, всё через хитрость: одна у него перед носом гоголем ходит, а как он эту наглость не выдерживает и на нее бросается, так другая тут как тут – и нет куска, а обед-то был праздничный, когда свинью рубили, псу всякие остатки перепадали. Дверь, как у нас часто бывало. отворилась без стука, вошли друзья отца – щуплый такой с выпученными глазами еврей Сима и цыган Чирикло, его еще звали Соловей, пел красиво – заслушаешься, и борода у него необычная, черная как смоль, вся мелким бесом.
– Миро дэвэл, что за грусть такая, а? Не грусти, чаворо, – сказал он, смеясь, и резко приподняв меня, прокрутил вокруг себя, затем аккуратно опустил на ноги. – Батька-та твой где будет?
Отец вышел им навстречу, они, как обычно обнялись, приветствуя друг друга.
– Я смотрю, мы вовремя, – сказал Сима, ставя на стол бутылку водки.
– Ты говорил, вы тоже празднуете Рождество, – заметил отец, садясь за стол.
– Мы отмечаем праздник Хануку, – вежливо ответил Сима.
– И что это за праздник такой? – спросил отец, расставляя стаканы.
– Может, мы пойдем? Поздно уже, – спросил я.
Так бывало, этот разговор мог затянуться на долго.
– Сам знаю, когда идти, тебя не спрошу, – сухо ответил отец.
Я с расстройства вскочил со скамьи, где сидел у окна, и направился в спальню. Отец резко поймал меня за руку, раздался неприятный звук, упала бутылка с водкой. Наступила тишина.
– Идите к Семенычу, я подойду, – сказал отец, надвигаясь с места и продолжая держать меня за руку.
– Да ты не расстраивайся Павел, – Чирикло попытался перевести разговор в шутку.
Отец поднял на него глаза – этого было достаточно, чтобы они быстро собрались и вышли. Он вытащил меня на улицу и резким взмахом забросил на сугроб, покрывавший забор у калитки.
– Сиди на сугробе и молись, пока не посинеешь или пока не ворочусь, – велел он, глядя на меня ледяными черными глазами, и, не заходя в дом, направился в сторону Семеныча, они там часто собирались.
«Хорошо, – подумал я, – что валенки надеты». Сел на корточки, весь свернулся калачиком, так вроде теплее. Дым из трубы вьется и вроде как греет. Пальцы рук первые стали коченеть, я их тер, но все одно леденеют. Я их засунул в валенки, сидеть неудобно, но пальцы стали отходить. Зазвенели колокола, в холодном воздухе, казалось, они бьют прямо по голове, такой шел гул, они прямо-таки гудели, как паровоз, но нежно, мелодично. Доносились голоса, то сильней, то совсем тихо.
– Христос родился, славите… Христос родился, славите…
Я закрыл глаза и стал повторять про себя: «Христос родился, славите…»
Чем больше я повторял, тем дальше удалялся от своего снежного места наказания к ярким звездам. Они переливались разными цветами, и я пытался понять какая из них первая, та, необычная звезда. Они звали улететь к ним, притягивали звездными дорогами. В этот момент я почувствовал, что качусь, а затем холод, который пробежал внутрь меня по спине. Я открыл глаза, и увидел, что скатился со снежной кучи и лежу навзничь. Снова сел на корточки и заплакал, мне стало страшно: я никому не нужен, если замерзну, никто не заметит. Я дополз до стены дома, но не стал открывать дверь. Я уже не боялся ослушаться отца, но не знал, как молиться до посинения. Решил, что буду сидеть, пока меня не заберут. Силы медленно покидали, и я засыпал, во сне я видел елку, на ней была огромная звезда, она освещала все вокруг, я сидел на руках у отца, а мама накрывала стол, а братья и сестры прыгали вокруг нас и веселились, они бегали по потолку и не падали, а отец отпустил меня, и я полетел вверх выше и выше, а они стали удаляться, махать мне руками и кричать, чтобы я остался…
Я почувствовал, как меня тянут куда-то и приоткрыл глаза.
Вокруг метались люди, мама причитала:
– Сынок, сынок…
По мне бегали иголочки и кололи все сильнее и сильнее. Тело чем-то растирали, наверное, водкой, пахло неприятно. Я что-то пил горячее, сладкое, наверное, с медом, но может быть, и водка была. Потом меня всего трясло, я покрылся капельками пота, казалось, холод тяжело выходит из меня. Всю ночь меня крутило, как на жерновах. Говорят, я бредил, уснул только утром, а когда проснулся и захотел встать, сходить до ветру – выпил я много всего, – то не смог, ноги не слушались. Сначала все думали, отлежусь, пройдет. Доктора нашего Василия Илларионовича приглашали, он со своей трубочкой долго слушал меня, постоянно приговаривал:
– Как же, милок, тебя угораздило?
Прописал лекарства и наведывался время от времени, но все реже и реже. Мама ходила в церковь все молилась за меня, но ничего не менялось. Я привыкал к своей новой жизни – все-таки я остался жить. Мать не могла простить отцу случившееся со мной, хотя я толком ничего и не рассказал. Отец делал вид, что ничего не произошло, но сторонился меня, а я, потеряв возможность ходить, стал сильнее и не только в руках, которые сделались основными помощниками, чтобы двигаться, и перестал бояться отца. Страх ушел от меня – может, потому, что я перестал бояться смерти.
8
Умение слушать передалось от мамы. Подруги часто искали поддержку в ее глазах, наполненных светом искренности и сопричастности.
Воспоминания не дали ответ на извечный вопрос – что делать? Вперившиеся в меня глаза нагло улыбались. Напряженность нарастала, ситуацию разрядил сержант Кирилов, вернувшийся с ротой после кросса. Последовал приказ:
– Стать в строй!
– Вечером с тобой разберемся, – прозвучало мне вслед сухо и с хрипотцой.
Утренняя зарядка продолжалась, но мысли катились к вечеру. Через полчаса начались водные процедуры. Под ледяной водой лезвие бритвы отказывается брить и приходится скоблить, кожа приобретает нездоровый румянец. В зеркале незнакомое лицо, красные ввалившиеся глаза. Кто-то рассыпал зубной порошок и пытается его убрать. Брызги воды и выбрасываемый легкими воздух создают впечатление мустангов на водопое, встревоженных возможным нападением. Раковин не хватает, локти резво находят своих братьев, щетка летает во рту, временами разворачивая голову. Вафельное полотенце легко впитывает воду с гладкой поверхности головы. Стараюсь быстро добраться до своей тумбочки, чтобы убрать бритвенные принадлежности, с трудом удерживаюсь на ногах – сапоги скользят по красной мастике, оставляя извилистые следы. Продвижению мешает активное перемещение товарищей во всех направлениях, все одновременно одеваются, приводят в порядок форму, натирают бляхи. В спешке нитка не попадает в игольное ушко, что уж говорить о воротничке, который топорщится и не желает иметь ровный край. Старослужащие используют всякие хитрости – складывают ткань в несколько слоев, прокладывают кусочек проволоки, но «лимон» должен выглядеть соответственно его статусу.
Попытка заправить кровать должным образом не увенчалась успехом.
– Это тебе не «карантин», – заметил Коля Суворов, похожий на Буратино. – Выжмут из нас все соки, если мы конечно позволим.
– Успокойся, мы даже не знаем, где можно сидеть, где стоять, ничего пока не понимаем, нужно время. Привыкнем, и все образуется. Подразделение особое, свои правила, вникай в тонкости, – ответил я достаточно тихо, чтобы разговор не привлек внимания.
Если театр начинается с гардероба, то подразделение с казармы. Кровати стоят в один ярус, подчеркивая привилегированное положение. Матрас плотно обтягивается всем, что сверху. Роль пододеяльника исполняет вторая простыня. Последний слой пирога – одеяло, припудривается ровной белой полосой, шириной сантиметров двадцать. Но все это гроша ломаного не стоит, если не выполнены основные ритуальные действия, превращающие койку в произведение искусства. Данная цель достигается сложными манипуляциями: взбиваются, подобно тесту, боковые поверхности постели, формируется идеальная прямоугольная форма, оттеняются линии изгиба. Последним вензелем является подушка, взбитая, как сливки. Трудно поверить, что замученные ватные матрасы можно заставить построиться по стойке смирно. Следующий этап включает построение коек в ряды и шеренги. Заместитель командира взвода оценивает результаты, сравнивая их с прямолинейностью струи быка, писающего против ветра. Легким движением руки превращает наши произведения в руины. Меняются времена, правители, режимы, но в армии строили, строят и будут строить, причем всех и вся.
9
Невозможно заснуть или отключиться от беспокоящих мыслей, порожденных некими событиями или отсутствием оных. Попробуйте закрыть глаза (надеюсь, вы не стоите). Представьте, где находится центр вашего головного мозга, и направьте в эту точку взгляд. Начните диалог с самим собой, как с незнакомцем. Спросите, кто вы и откуда. Не торопитесь и не ждите быстрого ответа – многие тысячи лет цивилизации не пролили свет на истоки появления человека. На пути разделения собственных представлений о себе и представлений создателя о тебе лежит бесконечность. Разрешите себе прислушаться к себе, как к самому совершенному созданию из существующих на земле. Погружение в себя – непростой путь, так же как борьба с вредными привычками и вообще борьба с собой.
При этом стоит осознать, что как бы ум ни перелистывал страницы своих знаний и не компилировал их в новых сочетаниях, они не дают ответов на основные вопросы жизни, а при вырвавшихся на свободу эмоциях он не способен правильно ответить даже на простые вопросы. Это расстраивает, пока мы отождествляем себя с ним, и радует, когда понимаем, что «мы» это не он. И когда он понимает, что «мы» можем радоваться, когда он в замешательстве, он начинает прислушиваться и верить «нам». И когда вы почувствуете, что ваш ум вам шепчет, это уже победа – он уважает ваше мнение и хочет поделиться своим.
10
Улица большого города. Время около полудня. Сочетание высокой влажности и температуры для жителя Северной Венеции изнурительно. Подхожу к остановке такси, останавливается машина, женщина, стоящая впереди меня, обозначает поклон и пропускает вперед. Английский полицейский, чинно идущий на встречу, выглядит как почетный гражданин города. Рекламные вывески, мелькающие в окне такси, написаны с использованием латинского алфавита и иероглифов.
– I would like to visit the central beach,[1] – объясняю водителю в меру владения языком.
Долго едем по подземному туннелю, соединяющему два острова. На одном из них водопроводные и канализационные трубы висят с наружной части домов, бельё сушится на выброшенных из окон трапах. На другом теснятся фешенебельные отели, известные во всем мире, небоскребы с офисами финансовых акул в down town. Меняются не только дома, но и люди. Засеменили белые воротнички и бизнес-леди.
Выхожу из машины, оставив двадцать долларов. Песчаный пляж не отличается безупречной чистотой, огромные океанские суда стоят на рейде. Людей немного, купающихся единицы. Раздеваюсь, иду по обжигающему песку. Океан спокоен, но это не умаляет его скрытой мощи. Заплываю далеко – люблю воду, люблю чувствовать себя частью природы. По гороскопу я скорпион, знак, входящий в тригон воды. Движения дельфина, копируемые при плавании баттерфляем, вызывают прилив энергии и ощущение скорости. Недалеко от берега одиноко покачивается плавучий понтон. Заползаю на гладкие и теплые доски. Прекрасное место для смены белой кожи на коричневую. Глаза прищурены, прячутся от палящих лучей солнца, всматриваюсь в линию горизонта. Боковое зрение фиксирует появление над поверхностью воды темного треугольника. Спокойствие и расслабленность сменяются тревогой. Приподнимаюсь на локтях и сверлю взглядом водную гладь. Незнакомые вода, земля, люди и слова усугубляют внутренне беспокойство. Что китайцу может представляться нормой, для русского сознания ужас, леденящий душу, – и наоборот. Не укладывается в голове, как центральный пляж могут посещать акулы. Пытаюсь расстаться с чувством неопределенности, подобно рыбе в полиэтиленовом мешке. Считаю до ста. Всё спокойно. Суеты на берегу не наблюдается. Просто почудилось. Успокаиваю себя, ныряю, плыву с максимальной скоростью. Страх обжигает кожу, волнение сбивает дыхание – наконец-то берег! Выхожу из воды, стыдно за собственный беспричинный животный страх. Спрашиваю у проходящего мужчины:
– Is it central beach?[2]
Получив в ответ утвердительный кивок, интересуюсь:
– Why nobody swimming? [3]
– Yesterday a shark has bitten off a leg one of swimmers[4],– спокойно роняет он и бредет дальше.
Принадлежал этот треугольник акуле или тени пролетающей птицы? Может, ужас потерявшего ногу человека бродит призраком, предающим физическое ощущение пролившихся страданий? Быстро переодеваюсь, и покидаю пляж. Следы автомобильной катастрофы убирают с дороги, и машины мчатся по этому участку со стертой памятью. Это не кажется странным. Купание в воде, где так же отсутствуют следы вчерашней трагедии, представляется безумием. Вероятность повторного нападения акулы значительно ниже, чем возникновение аварии на том же месте, но страх пред дикой природой не поддается логике, ему не одна тысяча лет.
Утонув в такси, медленно пробивающемся сквозь пробки к отелю, не заметил, как стемнело. Открываю окно. На улицах оживленно. Появилось много столиков, днем их не было видно. Воздух насыщен кисло– сладкими запахами с соевой доминантой, тело становится липким и пропитанным пряностями. Переносные жаровни шумно шкворчат и потрескивают. Местные жители слетаются к ним, как мотыльки на огонек.
Прошу таксиста приостановиться. Выхожу из машины и иду на запах и шум. Мной движет вопрос: что так притягивает людей, вытаскивает из собственных квартир на улицу? Моему взору предстает малопривлекательная картина. В кипящем масле кувыркаются и подпрыгивают различные морские твари, в основном бесформенные, некоторые с зубами, хвостами и щупальцами. Аппетит пропал, хотя морепродукты люблю. Китайский культ еды поражает. Может быть, он переплелся с идеями коллективизма и английского колониализма. Садясь в машину, успокаиваю себя, что если бы они увидели запеченные свиные хвосты, уши, голяшки и языки, тоже не очень обрадовались бы, а для нас деликатес. Жалко, что мы не готовим на улицах городов, не уплетаем тут же, с пылу с жару, лишаем радости себя и окружающих. Конечно, часто бывает холодно, но мороженое-то мы едим зимой на улице и в одиночку.
11
Родители назвали Еленой. Родовое имение уютно спряталось среди лугов и лесов Подольской губернии. Мягкая изумрудная трава обнимала и укрывала от посторонних глаз. Покусывая стебельки цветов, я упивалась небом, становилась птицей, сливалась с ним и отражалась, как в зеркале. Чувствовала себя проводником любви земли и неба. Непременно молодой век обнимет и унесет в продолжение того, что я ощущаю своим, в чем смогу раствориться и напиться жизненной радостью. Голубая вода, что струится среди скалистых берегов Смотрича, шептала о завидной доле. Моя длинная коса требовала смирения и послушания, а волосы, вслед за душой, рвались на волю, переполняемые жизненной силой.
Эти сказочные места не случайно на протяжение веков переходили из рук в руки. Здешние земли воевали и Турция, и Литва, и Польша. Мама полька, ее род издавна живет на этих краях. Она рассказывала, что род наш старинный и будто предки наши, Радзивиллы, являются княжеским родом Великого княжества Литовского. На протяжение веков представители рода занимали высшие государственные и военные посты. Больше всего мне запомнилась из ее рассказов судьба знаменитой красавицы Барбары Радзивилл. Барбара получила блестящее образование, знала несколько языков. В юном возрасте она была выдана замуж за государственного канцлера, первого человека после короля, однако брак оказался скоротечным, супруг неожиданно умер. После нескольких лет траура брат Барбары знакомит ее с будущим королем Польши Зигмунтом Августом. Юная вдова была настолько хороша, что будущий король буквально потерял голову от любви к ней. И чувства эти были взаимными. В это время умирает старый король, и Зигмунт восходит на престол. Двор противился его союзу с Барбарой, но молодой монарх был непреклонен в своем решении. Они были очень счастливы. С ее появлением при дворе жизнь наполнилась новыми красками, стало много балов и праздников. Но королевское счастье продлилось недолго. Поговаривали, что Барбару отравили. Потеря была для Зигмунта настолько тяжела, что он даже прибегал к помощи магов в надежде вернуть любимую к жизни. История Зигмунта и Барбары напоминает историю Ромео и Джульетты, так сильна была их любовь. И по сей день живет легенда о призраке Барбары, прозванном Черной Дамой, наводящем ужас на посетителей Несвижского замка.
Мама требовала, чтобы я все запоминала и передала детям, дабы они гордились своими предками и были достойны их. Учила меня родному языку, его мелодике, говоря со мной по-польски с детства, пока папы не было дома. Я легко поддерживала разговор на разные темы, и ей это доставляло подлинное наслаждение. И мама, и папа также хорошо говорили по-французски – возможно, поэтому в гимназии отмечали у меня способности к языкам.
Мне кажется, маму терзало внутреннее раздвоение. Ее родители были католики, а она каждое воскресенье ходила в православную церковь, но дома я иногда слышала, как она молится по-польски. Я училась в гимназии, а, приготовив уроки, нянчила младшего брата. Отец любил меня, часто брал с собой в Каменецк-Подольский. Он считал меня красивой и требовал, чтобы я гордо несла голову, не горбилась. Благодаря отцовской настойчивости я, хоть и выделяюсь ростом среди сверстниц, могу похвастать безупречной осанкой.
Посещения городских ярмарок сопровождались покупками подарков и сладостей. Иногда вечером мы всей семьей отправлялись в театр, и каждый раз становился незабываемым событием. И не только потому, что все одевались красиво, как на праздник. Мысленно покидая кресло, я переносилась в иные времена и страны, щеголяла в безумных нарядах, речи персонажей застывали у меня на устах. После театра я, бывало, подолгу не могла придти в себя. Отец говорил, что я копия дяди Миши, который в отличие от дедушки, Петра Арцыбашева, солдата душой и телом, прекрасно рисовал и даже сделался писателем. У отца в библиотеке имелась его книга, но он не разрешал ее брать, мол, еще рано такие романы читать.
Как-то раз моя подруга по гимназии Софья, миниатюрная пышечка со вздернутым носиком, всегда осведомленная обо всех последних событиях, напустив на себя таинственный вид, сообщила мне:
– Мне думается, моя дорогая, тебе будет интересно знать, что некий господин имел смелость заметить, что щеки у тебя чрезмерно розовые.
Она сделала паузу, многозначительно посмотрела на меня, и я действительно почувствовала, как щеки начинают гореть. Довольная достигнутым результатом Соня продолжила:
– И что это говорит о том, что ты очень юна. Видимо, он хотел сказать, что ты совсем еще дитя. – Она снова замолчала и уставилась на меня в ожидании реакции.
Все это звучало нелепо, но, к сожалению, доля правды в словах «некоего господина» присутствовала. Я-то считала себя взрослой, но щеки часто предательски выдавали мои волнения. Поэтому я поинтересовалась:
– Соня, ты не могла бы разузнать, что с этим делают юные особы.
Она улыбнулась и пообещала непременно выяснить. Спустя некоторое время, Соня подбежала ко мне после занятий, держа в руке какую-то склянку, и таинственно прошептала:
– Вот это то, что ты просила.
Я не сразу поняла, что она имеет в виду.
– О чем ты?
Она схватила меня за руку и потащила на задний двор, где мы частенько уединялись. Когда мы остались вдвоем, Соня серьезно посмотрела на меня. Ее маленький носик от нетерпения вздернулся, придавая важность происходящему.
– Я все разузнала, ну, про щеки. Это было не так просто. Оказывается, светские дамы в Петербурге, знаменитые голубой кожей, пьют уксус. Я немного раздобыла его дома и принесла.
Перед моими глазами появилась прозрачная жидкость, она переливалась на солнце и казалась совершенно безобидной. Но эта кажущаяся безобидность меня несколько встревожила, и я спросила:
– А ты знаешь, сколько надо пить?
Софья почувствовала мои сомнения и с надулась.
– Можешь, конечно, вовсе не пить, но я вообще-то ради тебя старалась.
Мне не хотелось, чтобы она сочла меня трусихой.
– Хорошо, – сказала я, вынимая пробку, – давай попробуем. – Зажала на всякий случай нос и сделала один большой глоток.
Дыхание перехватило, горло сдавило чугунным обручем, я захрипела. Софья бросилась звать на помощь. Меня быстро доставили домой. Приехавшему доктору она наплела, будто уксуса я глотнула по ошибке, и мне долго промывали желудок. В бутылке оказалась крепкая эссенция, и выздоровление мое затянулось. Зато пошлый румянец покинул мои щеки навсегда.
12
Маршируем на завтрак. Штатный запевала выводит первые ноты песни, широко известной в исполнении Льва Лещенко «День победы, как он был от нас далек…»
Впервые я почувствовал какой-то положительный импульс. С одной стороны, ощущение голода, постоянно преследующее, было услышано, с другой, песня смягчила острые грани душевного беспорядка. Она уже спокойно лежала в архивах памяти – и вдруг абсолютно новое проникновение в потаенные закоулки душевной энергии, единственной территории свободы и независимости.
Столовая занимала второй этаж здания, похожего на нашу казарму, как брат-близнец. Отличительная особенность – запах, сочетание гуталина и мастики, вытеснил симбиоз кухни и хлорки, кровати заменили огромные столы с деревянными скамейками. Без пилотки и волос, зажатый с двух сторон ребятами из Сибири ростом под два метра, как и весь наш элитный взвод, передаю алюминиевую миску солдату на раздаче. Кроме пшенной каши распределяются яйца, сливочное масло и кусковой сахар, по две порции для солдат выше метра девяносто. Горячий чай, налитый в граненый стакан из алюминиевого чайника, хлеб с маслом и сахар вприкуску представляются верхом блаженства. Начался долгий процесс переоценки ценностей. За спиной раздался дружелюбный голос.
– Кто-нибудь хочет добавки?
Первый, проявивший заинтересованность по данному вопросу, получил в качестве презента котел с кашей, предназначенный для всего стола. Мое внимание заострилось на командире взвода лейтенанте Козыреве, инспектировавшего качество приготовленной пищи и организацию ее приема. Надо быть слепым, чтобы не увидеть сцену кормления, когда каша практически лезет из ушей. Офицер проявлял внимательность и строгость в вопросах, представлявшихся ему важными, следовательно, насилие элемент системы. Интересно существуют ли границы этого насилия, кто их устанавливает и контролирует? Действия старослужащих солдат, негласно поддержанные офицерским составом, вызвали тревогу, особенно в свете предстоящего вечернего разбора полетов. Предшествующий месяц нас как новобранцев держали в карантине. Это что-то вроде подготовительных курсов в институт. С той разницей, что на первом курсе остаются те, кто успешно сдал экзамены, в роте же – кто прошел проверку биографии и родственников, а также соответствует по внешним и физическим данным. Самое главное отличие – на первом курсе учатся только первокурсники, а в армии, независимо от срока службы, все варятся в одном котле. Тяжело было во время карантина привыкать к солдатской жизни, но моральный пресс был несоизмерим с выпавшими на нашу долю лишениями и нагрузками. Первые две недели утренних пробежек с голым торсом в начале весны привели мое недостаточно закаленное тело в медсанчасть. Первое ощущение – отключение напряжения. На огромной скорости тебя выбросило в пространство невесомости, предметы и тела плавно перемещаются, звук выключили, и только запах медикаментов приближает сознание к восприятию реальности. Основной причиной подобного восприятия рядовой армейской медсанчасти является отключение пресса головного мозга и как следствие наступление эйфории. Полное отсутствие прав, незнание правил, страх перед наказанием и ощущение его неизбежности загоняет человека в шкуру домашнего животного, купленного для забоя на Рождество. Физические нагрузки, ранние подъемы, скудное питание и даже замкнутое пространство не идут ни в какое сравнение с постоянной неопределенностью по отношению к предметам, людям и себе самому. «Если представилась возможность увидеть происходящее со стороны, не упусти ее, – подумал я, – необходимо искать пути адаптации к этой новой системе».
Напоминание о реальности пришло достаточно быстро. Лечение включало народную терапию, которую мне продемонстрировал ефрейтор медсанчасти Розман. Среднего роста, смазливый лицо, он немного картавил, и даже армейская стрижка не скрывала его вьющиеся черные волосы. Ничто не предвещало неприятностей, кроме его мокрых скользких глаз. Он взял ножницы, вату, спирт, зажигалку и соорудил небольшой факел. Длинный язык пламени сладострастно облизал внутренности стеклянной банки, температура разлилась по стенкам и достигла горлышка, в тот же момент впившегося в мою спину. Ощущение соприкосновения с раскаленной сковородой, смазанной маслом, которое собирается в воздушные пузырьки, проникающие через спину в центральную нервную систему, сопровождал запах паленого. При постановке следующей банки огонь, продолжавший свой жизненный путь вплоть до соприкосновения с кожей, раскрыл причину пережитых ощущений. Размеренные действия мучителя говорили о рутинности и обыденности данной процедуры. Вспомнились давно написанные строки:
Где вы родились люди?
Вроде бы на Земле.
И почему вы все судьи?
Дайте хоть раз обвиненье себе?
Я промолчал. Он ждал реакции. Садистская похоть требовала удовлетворения. Трудно не орать, но еще труднее не ответить. Он вышел, вернулся минут через десять. Шоу продолжалось, чувствовалось, кто-то наблюдал за происходящим. Легким размашистым движением фокусника банки отрывались от тела с залихватским «ух» или «эх».
– К тебе пришли, – сказал он, закончив процедуру.
В коридоре стоял еще один ефрейтор, крепкого телосложения с тяжелым упрямым взглядом.
– Мы знаем о тебе, что ты член партии, был у командира полка, – он говорил спокойно и членораздельно, – если думаешь, что тебе это поможет, то ошибаешься. Лучше не появляйся в роте. Кому-нибудь стукнешь, живым не уедешь.
Выслушать меня в его планы не входило. Армия, как полупроводник – все течет только в одну сторону. Первый неписаный закон – начальник всегда прав. Второй неписанный закон – если начальник не прав, читай первый неписаный закон.
13
Принцип необходимого и достаточного переносится на управление собственным телом. Мало кто интересуется тем, как работают его органы, пока не появляются нарушения. Это легко проиллюстрировать на примере покупки автомобиля. Привлекает внешний вид, мощность двигателя, экономичность, цена. Процесс же превращения тепловой энергии в механическую никого не волнует. Для движения достаточно нажимать на педали и крутить руль.
Человек создает на основании собственного опыта сложные конструкции с максимально простым управлением, надеясь с процессе их использования узнать, как и для чего создан он сам. Вспомните собственное детство, как вы выглядели и о чем думали, как говорили и что делали. Почувствуйте себя в этом маленьком человеке, где его место сейчас, что изменилось и почему. Представьте руки, пальцы, ногти как переход от большого к малому и пустоте. Кончик пальца – одно из окончаний нашей территории, но фактически излучаемое нами биополе продолжается за пределами, формируемыми нашим сознанием.
Когда-то вы мечтали стать актером или танцовщицей, футболистом или фигуристкой, но этого не случилось. Мечты на пути от ребенка к взрослому время уносит в прошлое, изменяя возможности и облик, но собственное сознание «я» неподвластно ни времени, ни скорости. Невидимые миру «я» неизменны, что позволяет предположить их неземное происхождение, ибо на земле все бренно.
14
Улица большого города. Время около полуночи. Стеклянная гладь высотного здания отеля устремлена к небу. Швейцар открывает дверь, в номер не хочется, поднимаюсь на пятнадцатый этаж. В бассейне никого нет. Он находится на открытой террасе. Создается впечатление, будто вода, прерывая гранитную гладь здания, соединяется с воздухом и устремляется вниз, соблазняя слиться в магическом водопаде. Подходит служащий отеля и информирует, что надвигается гроза, поэтому посещение бассейна опасно. Если есть желание, можно посетить сауну на девятнадцатом этаже. Благодарю за предложение, день как-то не складывается. Перед уходом уточняю, что вместе с массажем посещение обойдется пятьдесят долларов. Поднимаюсь на лифте, констатирую, что осталась последняя сотня, но отступать уже некуда.
Дверь открывается и меня радушно встречает стройная, черноволосая девушка, с большими раскосыми глазами. На ней маленькая клетчатая юбка. Приглашение следовать за ней на слух не воспринимается, но мерное покачивание юбки на узких бедрах предопределяет фарватер движения. Следование, к сожалению, прерывается, открывается новая дверь, где меня поджидают два китайца, похожие на борцов сумо. Стой они при входе, не вышел бы из лифта. Восточная хитрость плюс мудрость. В России сделали бы все наоборот. Лица, отмеченные достоинствами, не вызывающими желания к ним приблизиться, являются визитной карточкой баров, казино, ресторанов. Видимо, таким образом информируют посетителей, кто владельцы.
Двое в белых халатах мило улыбаются. Один заходит за спину и помогает снять рубашку, второй развязывает шнурки на полуботинках. Только в детстве самые близкие мне люди делали подобное, чувствую неудобство и стараюсь как-то участвовать в процессе. Носок уже в воздухе, не успеваю поставить ногу на мраморный пол, как теплое полотенце ложится под ступню. Если так раздевают мужчины, что на что способны женщины – китаянки, японки, тайки? С этими мыслями облачаюсь в мягкий белоснежный халат и следую за сопровождающим в холл, оборудованный удобными креслами. Две двери ведут в сауну и турецкую баню. От дальнейшего сопровождения отказываюсь – на адаптацию к избытку внимания требуется время. Захожу в сауну. Воздух, при достаточно высокой температуре, непривычно легкий. Дожидаюсь признаков глубокого прогрева и направляюсь в турецкую баню. Что делать и чего ждать, не знаю. Мраморные полы и скамейки, стены зеркальные. Снизу появляется пар и постепенно заполняет все пространство, очертания предметов и контуров расплываются. Влажный горячий воздух стучится во все двери и, не дожидаясь приглашения, просачивается сквозь оболочку тела. Пора бежать.
Смена почетного караула: двое в халатах вежливо откланиваются, девушка в юбке, подчеркивающей стройные ноги и изящную талию, уводит за собой в уютный бар. Несколько посетителей с удовольствием расслабляются. Плетеные кресла завалены подушками, плавно утопаю. Поза покорности и смирения у моих ног. Что бы это значило? Аккуратно устанавливает подставку, ноги повисают, укутанные в теплые полотенца. Учитывая ограниченность средств, отказываюсь от напитков. Бармен вежливо склоняет голову, но чай приносит. Надеюсь, это обязательная программа. Оказывается, пахнет не только кофе, аромату сродни вкус. Сахар убивает вкус чая, как пиво вкус шампанского.
Лучезарная улыбка и наклон головы символизируют приглашение к следующему этапу познания мира удовольствий при погружении в себя через расслабление. Узкий коридор, полумрак и манящий силуэт. Открывается дверь в помещение, напоминающее келью. В центре стоит большой стол, покрытый белой тканью. Его поверхность напоминает силуэт человека. Ловкие и быстрые руки миниатюрной китаянки снимают халат. Тепло пальцев проникает через ткань. Жестом предлагает занять пустующее белое пространство. Накрывает все тело горячими влажными полотенцами. Голова утоплена в специальную полость, перед глазами пол, промелькнули ноги. Желание закрыть глаза и воспринимать окружающий мир через ощущения побеждает любопытство. Тепло волнами прокатывается по спине, пальцы постепенно проникают в глубь мышечной ткани. Позвонки, как клавиши рояля, подчиняясь руке мастера, исполняют заданный танец. Одна из клавиш подвергается пристальному изучению, видимо фальшивит.
– Do you feel pain here?[5]– первый вопрос. Бегло добавляет несколько слов, которые не понимаю.
Напрягаться лень, отвечаю односложно:
– No, I don’t. [6]
Мгновение тишины – и глухой удар в области позвоночника, треск напоминает встречу корабля с рифом. Испуг вытесняет расслабленность, ожидая реакции тела на случившееся. Однако беспокойства нет, напротив, сеанс самопознания увлекает в неизвестность. Тепло перемещается к пальцам ног и рук, возникают потоки, образующие кольца в замкнутых контурах тела. Звучат слова, но до сознания не доходят. Прикосновение красноречивее слов, переворачиваюсь на спину. Разгадка происхождения молниеносного и сильного удара кажется невероятной. Девушка парила в воздухе сродни акробату под куполом цирка, используя закрепленную под потолком металлическую перекладину. Филигранная техника пальцев ног вместе с массой собственного тела мастера, помноженные на ускорение свободного падения, обеспечивали широкий спектр воздействий от легкого прикосновения до пронзительно-кинжального проникновения.
Пальцы блуждают по лицу, замирая в самых чувствительных точках. Плечи, грудь, живот объединяет единый круговорот тепла. Рука приближается к единственной части тела, до сих пор остававшейся без внимания, останавливается и выдерживает паузу.
– Rich Americans and Japans think that it has been included. What do your think about it?[7]– произносит спокойный мелодичный голос.
Заданный вопрос перемешал в голове русские и английские слова, японцев и американцев, богатых и бедных и собственные координаты в осях указанного пространства. Почувствовав мое замешательство, она улыбнулась, поклонилась и вышла.
15
Два года назад в Рождество отец напился и не вернулся домой. Его нашли замерзшим, спасать было поздно. Я всё думаю, почему он такой сильный и замерз, а я маленький, но выжил? Может, я больше люблю жизнь, или она больше любит меня? Этот вопрос навсегда во мне. Почему в Христово Рождество все произошло? Может, отец тем бога прогневал, что все пил и душу свою губил? Но он неприкаянный был, как баян: то развернет свою душу – и тогда веселью края нет, то как гармонь заброшенная – сидит сутулый, обувь мастерит, а жизни нет в нем, будто крылья ему отрубили, как свиные копытца на Рождество. Дядя Семен все подмечал, мол, королевство ему маловато разгуляться негде, а мама говорит, смирения у него не было.
Заскрипела калитка, послышались шаги, мамин голос в сенях. В хату вошла немолодая женщина, на голове платок повязан, немного горбится.
– Ну что, милок, будем тебя лечить, ворожить, на ноги ставить. Ты так и знай, сегодня и пойдешь, а хворь твою изгоним и в дом боле не пустим. – Говорила она, как слово к слову вязала, и такая в ней сила, уверенность была – я сразу почувствовал, не случайно она пришла, что-то произойдет важное.
– Братья, а, братья, вам дело будет – дров нанести, печь растопить так, чтоб огнем дышала. А ты, матушка, – обратилась она к маме, которая присела на скамейку и, как прилежная ученица, ждала указаний, – тестом займись. Софья Григорьевна, хлебов надо испечь и поболе дюжины, да такие, чтоб жаром дышали, а я помогать буду. Закваску неси и муку ржаную, немного медку понадобится.
Всё в доме задвигалось, все стали при деле, и как-то оно на добре было замешано – без принуждения, криков, все с охоткой старались. И мне тоже хотелось вместе с братьями бегать за дровами, раздувать огонь, подпрыгивать, чтоб он свои языки распускал, помогать маме тесто месить, приговаривая с любовью – хлеб заботу любит и поднимается оттого с радостью, – да в печь отправлять и ждать румяного.
– Пора перину на печь укладывать, Софья Григорьевна, покажи хлопцам, где взять. Две надобно, но сперва одну стелите.
По дому побежал запах теплого хлеба, но что-то в нем было необычное, какой-то густой, тягучий дух, может мед это, а может её приговоры. Она, пока хлеб пекся, все что-то бормотала – губы двигаются, а звуки невнятные, как мурлыкание, один за другой цепляются – не разобрать. А она увидела, что я прислушиваюсь, обернулась и говорит:
– Помни, хлеб всему голова – любовь положишь, и тебе обратно аукнется.
С печи раздался Пашкин голос:
– Тетя Марфа, перину разложили, дальше что делать?
– Рушники берите, чтоб руки не сжечь и тепло сберечь, и на перину хлеб укладывайте, как в постель. Второй периной – вот мы с матушкой Вам ее подаем – хлеб накрывайте, укутывайте его.
Пока братья с хлебом возились, она подошла ко мне, присела рядом, руки положила мне колени:
– Теперь Ваня твой черед. Мы поработали, теперь твоя очередь. Жарко будет, но ты терпи, впускай жар. Тогда холод в себя впустил – теперь на его место жар пойдет. И сам пойдешь. Холод через ноги выйдет, и ты ими командовать снова будешь: захочешь – побежишь, а захочешь – прыгать будешь. Ну, всё, родненький, полезай на печь.
Пашка с Колей помогли забраться.
– Теперь хлеб из-под перины вынимайте, а ты, Ваня, его место занимай. Одни глаза наружу оставь, все остальное укрой. А вы, покуда не слезли, подбейте перину ему под бока и с ног.
Вспотевший Пашка старательно толкал в бока, а Колька пыхтел у ног.
– Вот так, молодцы, гарные вы мои хлопчики, теперь слезайте.
Братья спрыгнули. Чувствую себя, как тесто в печи, что-то из меня выпекать будут? Тесто же тоже не ведает, что хлебом станет. Тело сопротивляется, стонет, ищет, где схорониться от сильного жара. Сердце колотится бешено, в ушах от него звенит. Пот ручьем стекает по телу, заливает глаза, но я не шевелюсь, сам в себе прячусь, чтоб не испугаться и сильным казаться. Вокруг сердца огонь мечется, дышать становится все тяжелее, хриплю, а не вдохнуть. Где-то в животе, кажется, появился холод, а снаружи его сжимает обхвативший все тело жар. Холодный комочек мечется, чувствую, надо его отпустить. Тело расплылось, как растаяло, и он распался на две части и покатился по ногам, задержался в ступнях, они как заледенели, а потом стали оттаивать. Я куда-то плыву, вокруг меня вращается печь, летают буханки хлеба, от них пар вьется… Братья на печке… Отец посмотрел на меня и пошел по дороге, и не идет, а плывет, медленно удаляется, но не шевелит ни руками, ни ногами…
Чувствую прохладу на лице, приоткрыл глаза, мама держит мокрое полотенце у меня на лбу.
– Как ты, сынок? – спрашивает тихо, а голос дрожит, вот-вот сорвется.
– Слабость какая-то, весь ватный, – говорю, а кажется, кто-то другой провалился в меня и изнутри говорит.
Пытаюсь подняться на локтях – потряхивает, как озноб побежал.
– Не торопись, – сказала сидевшая у моих ног женщина и, поглаживая ноги, пояснила: – Надобно телу в себя прийти и голове с ним познакомиться заново.
Лежу на печи и не понимаю, зачем я здесь, что происходит – как родился заново, только сразу большим.
– Ну, пора, Ваня, страх с холодом ушел, ты здоровеньким пришел. Слезай с печи, садись за стол, чай пить будем. Сахара тебе можно вдоволь и соли щепотку.
Она спустилась, за ней мама, я тоже слез. Они пошли к столу и сели на скамью. Я тоже пошел, но очень медленно, покачиваясь, ноги как не свои. Когда дошел до стола и сел, мама расплакалась и не могла остановиться.
16
Наступил тревожный для меня вечер первого дня пребывания в роте почетного караула после выздоровления. Прозвучала команда:
– Рота, отбой!
Сорок пять секунд на исполнение. Я быстро снял сапоги, положил на них портянки, гимнастерку на табуретку, сверху брюки, пилотку и ремень. Прыгнул под одеяло.
– Не умеем выполнять команду «отбой», будем учиться. Рота, подъем! – скомандовал сержант.
Так продолжалось примерно полчаса. Когда в очередной раз оделись и построились, заместители командиров взводов вывели из строя тех, кто должен к подъему выстирать и погладить форму. В избранные попали любители гусиного шага, каши, Попадюк и другие. Мою персону не обошли вниманием.
– День прошел! – крикнул кто-то из стариков.
– Лимоны, кричите «слава богу, живы», – поддержали другие.
Мы дружно прокричали. Оказалось недостаточно. Повторили раз десять.
– Старики, день прошел! – загремел тот же густой голос.
– Х… с ним! – с достоинством отозвались остальные.
Несколько человек встали со своих кроватей. «Начинается», – подумал я. Один из них прошел мимо моей кровати.
– Встать, – раздалось где-то недалеко.
Гул несколько глухих ударов вибрировал в воздухе на фоне гробовой тишины.
– Еще раз скажешь «нэ можу», будем воспитывать по ночам, – прозвучал знакомый бас.
Из сказанного угадывалось, что первый урок выпал на долю Попадюка.
Подошли к моей кровати. В темноте лица расплывались.
– Предупреждаем тебя в последний раз: будешь воду мутить, права качать – костей не соберешь.
Я уже слышал его в медсанчасти.
– Ладно, пошли спать. – Мне показалось, говорил младший сержант Егоров.
17
При прогнозировании будущего опираются на ретроспективу прошлого. Раскрытие генетического кода это путь изучения человеческого организма и его систем на клеточном уровне. Анализ судеб предшествующих поколений позволяет объяснить происходящее в собственной жизни, но не изменить ее. Переплетение богом данных уделов, уходящих корнями в тысячелетнюю историю цивилизации, реализуется в условиях современности на базе опыта ушедшего времени.
За сто лет проходит, в среднем, четыре поколения. Следовательно, за истекший век в матрицу добавилось 15 ячеек, включая тебя самого. Если предположить, что один человек – одна ячейка, сама по себе являющаяся матрицей, связанной паутиной переплетений душ, многократно приходивших в этот или другие миры, и если предположить, что все наши предки не имеют родственных связей между собой, то через 200 лет генеалогическое древо составило бы 256 человек, а через 500 лет число их превысило бы миллион. Однако, с учетом того, что на территории Руси в это время проживало не более 10 миллионов человек, линии наших родов в глубине веков сильно переплетены и связаны друг с другом, и практически четверть ныне живущих приходятся друг другу дальними родственниками. Одно из генеалогических древ, уходящее в глубь времен на 500 лет, насчитывает около 15 миллионов человек. Когда мы пытаемся понять причины происходящего с нами, выясняется, что проблемы, связанные с переживанием страхов, обид и чувства вины, имеют давние и глубокие общие корни.
Незримая вереница человеческих жизней, нашедших отражение в каждом живущем на Земле, пронизывает современность знанием древности и воссоединяет вселенский и земной разум.
18
Уже шесть лет как я в семинарии. Многое понял, многому научили, а поскольку из казеннокоштных, то есть, на полном казенном обеспечении, так и лишений не испытывал. Привилегия такая дана, потому как из церковной семьи – отцу за то спасибо и за слово доброе и за разумение, да и за то, что мне на мои личные расходы денег ссужал.
Всё шло спокойно, миром, а вот нынче как витает что-то, идет к переменам. Все надышались чем-то, словно набрали полные легкие воздуха и выдохнуть не можем, распирает, и всё спорим. Вчера обсуждали до ночи, голова тяжелая, до сих пор в ломоте. Помещение всё прокуренное, да и выпили уж и не помню, сколько, но не так, чтоб сильно, а все в споре. Каждый правоту свою гнет, да так, что не успокоиться, а вопрос-то какой – сразу не поймешь, а и поймешь, принять сложно. Имя Божье творит чудеса независимо от Бога или это монахи со слов иеромонаха Досифея переняли и за истину преподнесли? Чуть не подрались в сердцах, а Федор, ровно оратор какой, вскочил на стул и давай проповедовать:
– Имя Иисуса так неразрывно связано с Богом, что, можно сказать, оно и есть сам Бог!
Сухощавый проныра Еремей, злобно скорчив лицо свое прыщавое, стаскивал его за ноги, а Федор, отталкивая его, продолжал:
– Ибо как можно отделить имя от существа!
Еремей не отцеплялся и гнусавил:
– Возомнил себе! Родом ты незнатен, возрастом скуден, смыслом невежда и ничем не отличен от прочих простолюдинов, да и смирением не отмечен, а за суждения берешься, что и из семинарии, да прямиком в Сибирь.
Затянулся Федор, как паровоз, струю дыма в лицо Еремею выпустил и в тон ему проскрипел:
– Неужто на тебя жребий Божий пал, неужто ты умудрен и научен, чтоб истины тут глаголать.
Еремей вернулся в угол комнаты, где сторонники его сидели, силы набраться, и заорал:
– Вот такие, как ты, наслушаются, начитаются светских книжек, а потом воспримет каждый по делам своим! Потому как после Воскресения суд будет. Христову слову-то не следуете и в вечную погибель не верите, а будет! Без этой веры нет и истины! За свою душу не остерегаешься и чужие не щадишь. – Последние слова почти прохрипел, потом сел и тихо, как бы про себя: – Господь Бог Спаситель душ наших да избавит, сохранит и помилует нас.
Встал, перекрестился и, как с ним часто бывает, налил себе и залпом выпил.
Федор тоже выпил, рассказал, как ходил на закладку Преображенского мужского монастыря, и что обнаружили на том месте остатки церкви сгоревшей. А на табличке надпись «лето господне 7143», что по исчислению от Рождества Христова значит 1635 год. Опять встал во весь рост, кружкой о стол ударил, хорошо, уже пустой, и загремел:
– Вот, что важно: традиции на Руси беречь и дела предков почитать, а не тупо верить! И ты бы, Еремей, лучше просил, чтобы даровали духа разума, духа премудрости Божьими молитвами, а страха в тебе и так предостаточно.
С тем и разошлись, каждый со своим, но пара много выпустили, как без этого. Дух-то революционный летал повсюду, и среди улицы, и в семинарии – всё тряслось, и в нашей глуши тоже нетихо было, но сейчас всё успокоилось и утро пришло светлое.
Собираюсь на свидание, первая любовь, и такая дрожь по телу всему, как вспомню Варю, свою Варю, и как гуляем по садам, забредаем в березовые рощи, и птицы рассказывают, как любить надо, так нежно делятся – слов-то не разобрать, но понятно всё и до сердца добирается, а там их музыка гнездо вьет, и птенцы, их продолжение, жизнь новая.
Увидел её, когда в усадьбу ездили утреню служить. Все разошлись, а она замерла большие глаза смиренно опущены, и вся как не здесь, будто Ангелы над ней, и она с ними, душу её греют. После службы столы накрыли, она недалеко сидела, а я не мог глаз от неё оторвать, но и смотреть долго не мог, негоже. Потом показали нам парк, фонтан – скульптура красивая в центре, и вода из неё рассыпается. Потом пошли по аллеям – и дубовые, и березовые, красиво, просторы, с размахом всё. Девушки две направились к пруду, одна из них она. Меня ноги сами несли, да заплутал в кустах, стриженые они, но высокие. И вдруг оказались мы близко, и она одна у пруда, и я говорю, мол, красиво как, и она улыбнулась. Еще говорили, но недолго, пора было ехать, но уже случилось, произошло что-то, что не дает спать, дышать, думать. Мысли сбиваются, пытаешься их уразуметь, а сердце как заколотится, и они снова врассыпную, а на душе тепло.
Она поведала, что они с сестрой остались без родителей и уже давно живут в усадьбе. Граф долго добивался её сестры, жена его много лет нездорова, а он человек добрый и богатый. Сестра противилась, но все же он добился своего, и у них родился сын. Старший сын графа о том узнал, стал приезжать, кутить, Варю ударил, грубо приставал к горничным, кричал, мол, отцу дают, отчего же ему нет! Когда похождения мучителя вскрылись, граф не пожалел родную кровь, увезли барчука и в Сибирь сослали. Однако Варя уж натерпелась и сторонилась мужчин. Я уговаривал её облегчить душу, но она отмалчивалась. По обмолвкам только понял, что то ли слышала, как кричали те девушки, то ли рассказал кто.
Когда доводилось, гуляли допоздна, а то и заполночь. За руки держались, в глаза подолгу смотрели друг другу и молчали. В прошлый раз обнял её, и сердце так бешено заколотилось, что едва стоять мог. И она тряслась, как в ознобе, потом отпрянула – так расстались, хотели друг другу что-то сказать, да не смогли.
Минула неделя с той нашей встречи, зашел на рынок. Туда за покупками Семен из усадьбы ездит. Повозка у него лихая – сядешь, а она качается вся, да и конь хорош. Его повар за снедью на базар посылает и по хозяйству разное прихватить. Торговки его любят – и платит легко, и статный такой, одни усы чего стоят. Ходить с ним стыд сплошной – ту обнимет, другую ущипнет, – а веселый, никогда не видел его в печали, глаза горят, как подожгли. Быстро меня до усадьбы довез, все про лошадей рассказывал, мол, они как люди, с характером, и им нужна любовь, ласка. Научишься, говорит, коня объезжать, так и бабу, как кобылку, взнуздаешь, и хохочет, того и гляди, из повозки вывалится, а я и сказать не умею.
Спрыгнул с облучка, до усадьбы не доехав. Варя, как в первый раз, стояла у пруда. Подошел, горю весь, но словно Семен в спину толкает, смеется надо мной. Взял за руку, обернулась, пальцы теплые, легко ладонь сжали. Улыбнулась, ресницы затрепетали, как паутинку вяжут, глаза прячут.
– Георгий, я так рада вас видеть. Мне очень одиноко, душа просит встреч с вами, не знаю, как высказать, – она взяла мою руку в ладони и прижала к сердцу, – где-то здесь как стонет.
Тепло нежное с рук сбежало и растеклось по всем потаенным закоулочкам тела моего, потом разом в сердце ринулось, оно заколотилось бешено и унялось вдруг, словно обняли его, утешили, нежность пришла, стало легко и спокойно. Идем тропинками, известными каждым пеньком, кустом каждым нам и нам только. Меж деревьев петляем, они прячут нас, ветками касаются, будто хотят обнять, укрыть своей сенью. На полянку вышли, круглая такая, березы хороводом нас от мира отгородили, а мир от нас. Между нами как преграду сняли. Ветром теплым её ко мне, как волну к берегу, толкнуло. Обнял я Варю и прижал к себе. Она выдохнула тихонько и, как листок, прильнула ко мне – казалось, убери руки, и она улетит, подхваченная ветром. Сжал объятия еще сильнее. Целоваться-то не целовались, так, иногда щекой заденет щеку, нос, а тут губы коснулись её волос и как сами побежали, и с волос на лоб, на глаза, щеку, с одной на другую перебежали через мостик-носик её, вздернутый немного, и, наконец, встретились с её губами, дрожащими, горячими и влажными немного. Затрясло, будто кто нас схватил и в воздух поднял и душу вытрясти хочет. Целуемся, зубами ударяемся, раздеть её пытаюсь, а руки путаются, и только мешаю ей. Сам как змея из кожи вывернулся и увидел её грудь – белоснежная такая, и две бруснички на ней. Коснулись они меня, и мы рухнули, земля закружилась и к себе притянула. И вот мы на траве, я в волосы ей лицом уткнулся, а она вся мягкая и только вздрагивает, и то ли от неё такой жар, то ли сам горю. На руках приподнялся, колени медленно опустились между её ног, тела сами соединились в одно, жар вырвался, и нас в нем закружило. И напряжение безумное, словно тщишься прыгнуть выше неба, и затем как бы выстрел и наслаждение, и тепло струйками по всему телу. У Вари волосы мокрые, ко лбу прилипли, а глаза закрыты. Вроде и говорила мне что-то, да я не понял – мы как птицы были, всё в радость, и всё в одно сплелось.
Она глаза открыла, а в них испуг, и смотрит не на меня – в небо, далеко куда-то. Сам-то не понимаю, как случилось, пытаюсь поцеловать её, но она сама не своя и будто не чувствует. Сел, и она тоже, одеваться оба стали, застеснялись. Потом она колени поджала к груди, голову на них положила, глаза закрыла, и слезы – вроде и нет их, а щеки влажные… Опустился рядом, сам чуть не плачу, по волосам глажу, а они рассыпались и лицо прячут. Она волосы собрала, посмотрела на меня, как сердце ранила, и медленно встала. Я за ней, обратно идем, молчим. Не ждали, что случится это, и если втайне хотели, то признаться никак не могли и подумать даже, что может вот так, сразу. Шаги в голове отдаются – пора, должен, в ответе. И жениться теперь надобно, семнадцать минуло – уже взрослый, уже мужчина…
19
– Просыпайся, пора стираться, – прозвучало над ухом.
В отличие от крика дневального, данный способ пробуждения показался по-домашнему добрым, уважительным по отношению к моей личности и снам.
На краю кровати сидел Саша Герасименко, приглушенный свет из коридора отражался от его лица, очерчивая идеальную яйцевидную форму головы.
– Который час, – спросил я, пытаясь плавно выйти из состояния глубокого сна.
– Три часа пятнадцать минут, – проговорил он, едва открывая рот. Кажется, он что-то бережно в нём хранит, боясь выронить, оттого голос звучит тихо, звуки тянутся и, цепляясь друг за друга, тонут.
Приняв сидячее положение, я увидел силуэты ребят в трусах и сапогах тихо перемещающихся по казарме. Это было похоже на замедленную съемку в инфракрасном свете.
Натянув сапоги на босу ногу, подхватив форму и мыло, следую за Александром к умывальникам. Проходим мимо дневального, прислонившегося к тумбочке в неравной борьбе со сном.
Около умывальников кипит работа. Пропитанная потом и пылью форма приобрела новые водоотталкивающие свойства, проявляющиеся в нежелании входить во взаимодействие с мылом и холодной водой. Руки, пытаясь заменить стиральную доску, постепенно краснеют и начинают гореть. Временами пальцы проскальзывают по намыленной поверхности хлопка и врезаются в металлические пуговицы. Удаление мыла столь же длительная процедура, как и его нанесение.
В казарме не топят, и чтобы форма высохла, необходим сильный отжим в скоростной центрифуге. Саша берет штаны с одной стороны, я с противоположной, и начинаем вертеться, каждый вокруг своей оси, ныряя под руки, превращая одежду в канат. Метод оценили. Парные танцы на мокром кафельном полу в сапогах и трусах объединяли и вселяли надежду, что ты не один, что не каждый сам за себя, в все друг за друга. Глаза открываются, подавленность уходит.
Развесив форму на спинках кровати, я направился к гладильному столу. Утюг оказался один, поэтому пришлось записаться в длинный лист ожидания. Каждый предыдущий будит последующего. Почему-то вспомнились слова из песни Высоцкого:
«А каждый второй Тоже герой, В рай попадет Вслед за тобой…»Тишина и спокойствие приятно окутывали, медленно уводя в мир сновидений. Часть мозга, ответственная за сон, включается независимо от нашего сознания.
20
Улица большого города. Витрины магазинов залиты светом. Захожу в ночной бар. Весь интерьер задрапирован белой тканью, подсветка оттеняет складки, придавая пространству форму и объем. Столы прячутся под белыми скатертями, стулья укутаны в белые чехлы, официанты носят белые фартуки и манжеты. Люди сидят парами в глубине зала. Звучит знакомая мелодия Элтона Джона.
– Guten Abend[8],– говорит официант и кладет на стол меню.
На его доброжелательность отвечаю сдержанной улыбкой. Язык меню незнаком.
– Have you got an English menu?[9] – спрашиваю я, недоумевая, почему меня приняли за немца.
Официант утвердительно кивает и удаляется. По доносящимся обрывкам разговора барменов становится понятно, что они беседуют между собой на немецком. Содержание меню несколько обескураживает. Официант склоняется надо мной для получения заказа. Выбираю коктейль “Cool sex” из списка аналогичных названий. Мягкое кресло притупляет внимание, и не сразу бросается в глаза, что все сидящие пары состоят из мужчин. Одеты со вкусом, преобладает черно-белая гамма, облегающий силуэт подчеркивает фигуру, шарфы изящны, стрижки элегантны.
Официант, широко улыбаясь, приносит напиток в высоком красивом фужере. Из бокала торчат соломинка, зонтик и зеленая рыбка. Ощущается присутствие рома и тропического сока, прочие составляющие растворяются в моем незнании. Входят новые посетители. Двое мужчин, один высокий, с утонченными чертами лица, другой полный, с растерянными на подушках волосами. Проходят мимо меня. Рука толстого ложится на талию высокого, а затем медленно опускается на его ягодицы. Мое тело вскидывается со стула и выпрямляется. Быстро достаю из кошелька деньги, оставляю двадцать марок и выхожу.
Накрапывает дождь, но тепло. Уличные столики спрятались под зонтики. Из одного ресторанчика доносятся исполняемые под гитару песни Азнавура, посетители периодически взрываются аплодисментами. Проезжающие в двух метрах машины известных во всем мире марок не оставляют неприятного запаха отработанного газа, тихо шуршат покрышки, изредка прорывается рокот моторов.
– Странно, – подумал я вслух, – можно говорить по-русски и никто тебя не поймет.
– Вы из России? – обратился ко мне мужчина, сидящий за соседним столиком.
– Да, – вырвалось. Откуда эта подавленность в голосе?
– Вы простите меня за акцент. Мои родители покинули Россию с первой волной эмиграции. Всегда испытываю голод по общению на родном языке, – добавил он.
– Кто-то из моих родственников, насколько я знаю, тоже эмигрировал. Родной брат отца прадеда, заметный в ту пору писатель. Известность ему снискали романы «Санин» и «У последней черты». Однако Горький назвал «Санин» контрреволюционной книжкой – по тем временам, считай, приговор. Вдобавок навесили ярлык порнографического чтива. Кажется, он уехал в Варшаву. Его фамилия была Арцыбашев. Вам знакомо это имя?
– Да, да, конечно знакомо. Насколько я знаю, Михаил Петрович недолго прожил в эмиграции, года два или три, рано умер. Мне довелось прочесть его философские суждения о Чехове, Толстом. Много интересных мыслей. Важность индивидуума, отдельной личности, тайна внутреннего мира. Очень искренне и смело отстаивал свое видение людей, смысла жизни. После смерти Толстого, давая оценку его жизненного пути, будучи почитателем его таланта, обозначил некие границы парения гениев. Писал, что он молодец-то молодец, но среди овец. Его очень за это критиковали, но и сейчас есть, над чем задуматься, перечитывая эти строки.
– Я думал, как имя Михаила Петровича незаслуженно стерли, так почти никто о нем и не знает. Его книг в России практически не найти. Тем удивительней встретить за границей незнакомого человека, кто бы читал и заинтересовано обсуждал его произведения.
– Он был очень известен в начале двадцатого века. В сохранившейся библиотеке родителей мне довелось еще в раннем возрасте прочитать его записки, а позже и «Санина». Кажется странным, что Арцыбашева обвиняли в проповеди разврата. Неспособность разглядеть, какими сокровищами самых нежных и трепетных чувств пронизаны его произведения, можно объяснить только слепотой или откровенной предвзятостью. Его сравнения женщины с молодой красивой кобылицей кажутся сегодня невинными, а в то время вызывали негодование пуританской части общества. Извините, а вас не посещало желание писать? Возможно, это было бы интересно.
– Стихи писал, прозу – нет, и серьезно не задумывался на эту тему, – ответил я скорее себе самому. Никогда не задавался подобным вопросом.
– Извините, меня уже ждут. Приятно было увидеть потомка Арцыбашева и обменяться мнениями. Подумайте, правда! Начинания так увлекательны. Попробуете продолжить традиции. Дарования, бывает, передаются и через несколько поколений. – Он засмеялся и продолжил: – Вспомнил строки, когда-то взволновавшие меня: «Возбужденный ее мокрым и покорным телом, он целовал и мял ее». Поражало исключительное внимание к красоте и энергетике тела, что не свойственно классической русской литературе. Там, где Толстой и Достоевский заканчивали писать, Мопассан и Золя только начинали. Продолжите…
Он встал, поклонился и направился к выходу, взяв под руку изящную женщину в длинном плаще. Тень ее шляпы оттеняла точеные черты лица, а походка подчеркивала плавные линии бедер.
21
В гимназии наступили каникулы. Отец, как и обещал, повез меня погостить к дедушке. Путешествие на поезде представлялось увлекательным приключением – новые люди, станции шумные и пустынные, немыслимые шляпки, чемоданы, сундуки, бегущие колеса. Все это живет своей жизнью, вовлекая новых и отпуская старых пассажиров.
Поезд миновал Харьков, кондуктор объявил, что на следующей станции пересадка на Ахтырку. Мы сошли на перрон. Теплый ветер с полей нес душистый аромат, и радость переполняла меня. Ехать оставалось всего двадцать верст, но ждать поезда пришлось около пяти часов. Мы зашли в небольшой ресторанчик на вокзале. Там было достаточно шумно, люди сидели в основном парами, отдельные слова, фразы сливались в единый хор, словно пение сверчков. Между столиками шустро сновали официанты, казалось, они боятся опоздать. Каждая минута заполнялась новыми звуками, мне передавалось царящее в зале общее волнение, люди заняты собой, своими детьми, своими вещами, временами бросают быстрые взгляды в окна, ожидая появления поезда. В общий гул ворвался гудок приближающегося паровоза. Кто-то начал суетливо собираться, а кто-то настолько увлекся разговором, что не замечает происходящего. Папа рассчитался с официантом, который мило мне улыбнулся, убегая к следующему столику, и мы вышли на перрон. Теплый воздух от разгоряченного паровоза окутал меня. Мы зашли в свой вагон, я села у окна, поезд медленно тронулся, очертания станции стали удаляться, и все закружилось, запестрело калейдоскопом – и снова убаюкивающее постукивание колес уносит вдаль, в путь, который не может и не должен никогда закончиться.
На перроне нас встречал дедушка, как всегда, подтянутый. Безупречный мундир четко обозначал его положение в здешнем обществе – уездный начальник полиции. Папа говорил, эту должность дедушка получил после многолетней службы в гвардии. Гусары, гвардия, сражения – от этих слов веяло романтикой, приключениями. Полиция, жандармы – скука, но люди уважают. Мы валились с ног от усталости, но едва переступили порог, как бабушка усадила за стол, и глаза у нас разбежались. Меня особенно привлекало домашнее варенье, в первую голову сливовое. Дедушка с папой выпили за встречу и принялись горячо обсуждать отношения с Германией. Бабушка подхватила меня под руку и увела в уютную спальню на втором этаже, где я всегда у них жила. Я утонула в перинах и очнулась только утром. За завтраком дедушка сообщил, что неподалеку, в Доброславовке, снимает дачу папин брат и будет рад повидаться. Мне льстило, что известный писатель готов уделить мне время. Около полудня к дому на дрожках подъехал молодой офицер. Представился подпоручиком Вяземским. Бабушка радушно пригласила его за стол:
– Присаживайтесь, Володенька, выпейте чайку. Леночка, красавица наша, приходится мне внучкой, а Михаилу Петровичу племянницей. Как поедете, не торопитесь, по дороге монастырь нашей барышне покажите.
Нахлынула горячая волна смущения – все-таки незнакомый молодой офицер будет сопровождать меня в поездке. Я извинилась и выскользнула за дверь. У себя в спальне глянула в зеркало – румянец так и не появился. Мое отравление и стало основной причиной отправки на лето в Ахтырку – развеяться, согреться бабушкиным теплом. Я глубоко выдохнула, прилегла на свою «думочку» по имени Яся, которую всегда вожу с собой, успокоилась, собралась с духом и вернулась в гостиную.
Дрожки катили вдоль городского парка, разноцветные наряды дам украшали зеленые аллеи. Нежный аромат садов казался осязаемым и заполнял все пространство вокруг и между нами, но мне казалось, что я горю.
– Вы бывали прежде в здешних местах? – спросил он, устремив на меня голубые, словно два ручья, глаза. Под свежестью этого взгляда скованность моя растаяла.
– Да, мы раньше часто наведывались к деду с бабушкой всей семьей и с удовольствием вспоминаем об тех поездках. Давно хотела навестить их снова. А ваши родители тоже родом отсюда?
– Они живут в Петербурге, а меня временно откомандировали в Ахтырку.
– После столицы, наверное, скучаете? – спросила я, думая о балах, приемах, но уточнить не осмелилась.
В это время мы подъехали к бескрайнему разливу Ворсклы. В половодье невозможно понять, где начинаются и заканчиваются ее берега. В камышах покачивались стайкой прогулочные лодки. Володя спрыгнул с дрожек и подал мне руку.
– Трястись по мосткам не столь приятно, как прокатиться на лодке. Кроме того, монастырь с воды смотрится загадочным замком. Соглашайтесь.
Он медленно взмахивал веслами, зачерпывая воду и рассыпая ее гроздьями жемчужных брызг. Крохотные водовороты кружились в веселом танце и медленно исчезали. Бесконечные зеленые берега незаметно переходили в гладь полей или синеву лесов. Деревья тянули к воде гибкие ветви, ласково встречая и провожая гостей.
– Вы, наверное, мечтаете стать писательницей. У вас имеется достойный пример для подражания.
– Никогда не думала об этом. По правде говоря, я слышала, что Михаил Петрович вначале хотел стать художником, но сделался писателем. А меня влечет на сцену. Может, это безумие, но ничего не могу с собой поделать. Как, по-вашему?
У монастыря мы замедлили ход. Древняя обитель вросла в окружающие его холмы и почти скрылась в тени ласковых деревьев. Вдоль берега прогуливалась шумная компания студентов, они размахивали тужурками, пестрея яркими пятнами косовороток.
– Хотите прогуляться по монастырю, или направимся прямиком в Доброславовку? По пути можно завернуть на мельницу.
Мне не хотелось ни с кем делить наше уединение, поэтому я предпочла продолжить путешествие по воде.
22
– Вставай гладиться, – без акцента произнес кто-то из сослуживцев.
Пять утра. Утюг натужно ползет по мокрой одежде. Подъем через час. За мной еще несколько человек. Пришиваю воротничок на влажную форму. До подъема пятнадцать минут. Падаю на койку. Одно радует – дикий крик дневального не застанет меня спящим.
Выпрыгиваю из образовавшегося под одеялом теплого микроклимата. Плотно пеленаю ступни ног в портянки и аккуратно всовываю в сапоги. Стоим на улице, кому-то доставляет удовольствие в полусонном состоянии сделать несколько затяжек.
– Бегом марш! – бодро выкатывается команда из уст замкомвзвода Сергея Егорова, широкоплечего блондина с абсолютно невозмутимым лицом.
Сапоги стучат по асфальтированным дорожкам части, напоминая топот копыт молодых жеребцов.
Стараюсь не сбить дыхание из-за постоянных толчков бок о бок на узких тропинках. Десять километров с кирзовыми гирями на ногах предполагают наличие подготовки. После трети дистанции чувствую усталость, дыхание становится рваным. Рядом бежит Герасименко. Он мастер спорта, окончил Ленинградский институт физкультуры и спорта. Периодически поглядывает на меня, видимо, памятуя исход предыдущего забега.
– Старайся совмещать ритм бега и дыхания. Попробуй на счет: раз, два – вдох; три, четыре – выдох, – бурчит он, как истинный тренер.
Мне уже и левую ногу от правой отличить трудно, корни сосен то и дело ставят подножки. Никогда не любил бегать, отдавал предпочтение игровым видам спорта: волейболу, баскетболу и футболу. Лесной воздух помогает держаться, ветки деревьев дразнят, чередуя пощечины с нежным прикосновением. Выбегаем на берег озера. Рассвет подсвечивает кроны стройных корабельных сосен, отражающихся в гладкой воде, и палатки на другом берегу.
Доводилось до службы отдыхать в этих местах с веселой компанией сверстников. Озеро прозвали Медным – выходя из воды, приобретаешь красноватый оттенок. В голове пробежали приятные воспоминания, погружая из рваного сегодня в уютное вчера.
Чтобы жизнь медом не казалась, «старики» периодически ускоряют темп. Не успеваю смахивать бегущие по лицу струйки пота. Интересно было бы взвеситься до и после забега. Любимая бабушка Дора после очередного посещения врача с присущей ей мудростью заметила: «Не пойду больше к нему на прием. Русским языком объясняю: «Не писаю». А он мне: «Вы уже все выписали». Вот и я чувствую, что скоро потеть перестану.
Периодически кто-то падает, но быстро поднимается под ударами припасенных на этот случай палок. Пройденные километры не фиксируются, но многие за год службы выучили дистанцию наизусть. Чтобы не искать глазами заветный финиш, тупо смотрю под ноги, размеренный ритм убаюкивает сознание, и организм переходит в режим автоматического поддержания заданных функций.
Выводит из сомнамбулического состояния боль в ногах – портянки, видимо, сбились в носовую часть сапога и устраивают обструкцию пальцам. Начинаешь понимать страдания юных китаянок от ношения деревянных колодок, регламентирующих допустимый размер ноги. Дикая плата за удовлетворение кем-то установленных эстетических канонов. С проблемами женщин Востока приходится расстаться: в горло перестала поступать единственно доступная жидкость в виде слюны. Как раз на это время приходится финишный рывок. Появляются бетонные конструкции забора, ворота, булочная, фонарь (последние – в погостившем у Блока сознании).
Плац и командир роты дождались своих героев. Старший лейтенант Ермолин на личном примере демонстрирует, что и куда надо поднимать и поворачивать. Такое впечатление, будто он не в курсе, чем мы до этого занимались. Следующий этап включает упражнения на снарядах. Подъем переворотом десять раз подряд нереальная для меня задача. Осилив три раза, я тщетно напрягаю руки, пресс и дергаю ногами. Чувствую приближается спецподготовка. Вижу, двое солдат из числа старослужащих уже подходят. В теле застряло напряжение. Не обращая внимание на мою скукоженность, помогают повторить упражнение, подталкивая за спину. Еще два раза. Один из них Сергей, сухощавый, жизнерадостный, с умными глазами и правильными чертами лица, легко взлетает на перекладину и играючи делает двадцать переворотов, словно акробат на манеже. Красиво спрыгивает и, широко улыбаясь, ставит точку в своем выступлении:
– Учись, в этом тебе высшее образование не поможет.
– Спасибо, – только и успеваю сказать и вместе со всеми направляюсь в казарму.
Костя Силин, похожий на вопросительный знак большой любитель затянуться, успел забежать в курилку. Вернулся с изрядно раскрасневшимся лицом, бровь над левым глазом распухла. Не успели мы его расспросить, а он уже давал объяснения младшему сержанту Егорову. Подошли несколько «стариков». Выяснилось, что в курилке он столкнулся с танкистами. Мы видим их только на общем построении части, в основном это ребята из Средней Азии и Закавказья. По общему мнению, у них в подразделении самая изощренная дедовщина. Например, распространенный прием воспитания молодых солдат включает выполнение команды «смирно» и отдания чести настенному выключателю. Костя, как следовало из его объяснений, позволил себе сесть в присутствии сержанта, не уступил место, не отдал честь. Разговор быстро перешел на личности с упоминанием членов семьи.
– C-стройся!
Занимаю место правофлангового во второй шеренге. Первую оккупировал элитный «Огонек», лучшие представители роты. Торжественные церемонии у Вечного Огня на Пискаревском кладбище держатся на их широких плечах. С песней «День победы» маршируем в направлении столовой. Рота танкистов во главе с сержантским составом возвращается с завтрака. Расстояние между ротами с каждым шагом сокращается. Противостояние нарастает, уступать никто не хочет. Многое зависит в данный момент сержантов. Спасительной команды «стой!» нету. Сержант танкистов напрягся. Егоров приказывает первой шеренге перейти на парадный шаг, выполняемый перед Постом номер один: угол подъема ноги сто двадцать градусов. Порядки танкистов сметены. Сержант, выделяющийся щегольски расстегнутым воротничком и непомерно высокими каблуками, бросается наперерез Егорову. Подобно птице, он на мгновение взлетает и парит в воздухе, с трудом касаясь носками сапог земли. Сказанное им при этом воспроизвести трудно, да и значения оно уже не имело. Мы беспрепятственно проследовали в столовую, исполненные чувства собственного достоинства, которое так упорно душили в нас на протяжении всего пребывания в армии.
Завтрак прошел без инцидентов. Желающих получить добавку не нашлось. Мы вернулись в расположение роты. Чистка сапог. Когда два сапога рядом, сразу видна разница: у «старика» он лучше подогнан по ноге, не так потаскан, и каблук в два раза выше. То же распространяется и на форму. «Лимона» можно сразу отличить по мешковатому силуэту: перешивать гимнастерку разрешается только по истечении определенного срока службы. Расстегнутый воротничок для одних грубое нарушение, для других – норма. Сложная система неписанных армейских законов требует времени для усвоения.
23
Воспоминания, потрепанные временем обрывки ненаписанных страниц. Мы редко тревожим собственные архивы. Нам свойственно искать благодати в будущем, нежели наслаждаться погружением в прошлое. Жизнь так стремительна, а мы так ненасытны. Она так хороша, что может позволить себе не учитывать наше мнение, но не замечать ее красоту в повседневной суете – расточительное безумство. В этом смысле воспоминания не являются прожиганием времени, а помогают осознать его невесомую ценность.
Высокую степень достоверности при погружении в прошлое обеспечивает метод последовательного приближения. Сначала открываются крупные формы. Например, первая любовь. Главное здесь – ощущения, служащие проводником к персонажу, месту, событиям. Более глубокое погружение – воспроизведение конкретной встречи, обстоятельств, обстановки, запахов.
Люди часто пользуются воспоминаниями, рассказывая истории из жизни. Если слушать их регулярно, со временем они, как правило, начинают повторяться. Мы задействуем информацию, расположенную на расстоянии вытянутой руки, на верхней полке нашей памяти, часто протираемой от пыли. А ведь стоит покопаться, медленно погружаясь в толщу времени, расширяя арсенал событий, извлекая на свет всё новые старые переживания, образы, события.
Прошлое медленно оживает и наливается соком, как соски спящей женщины от едва заметных прикосновений. Великое таинство заключено в системе записи впечатлений, видео и аудио-рядов. Что оседает, а что пропадает безвозвратно? Кто цензор, стирающий и вычеркивающий незначимые, с его точки зрения, события, переживания, персонажей? Как связано наше будущее с забытым прошлым? Почему люди повторяют ошибки? Почему опыт прошлого не служит уроком на будущее? Может, мы должны быть открыты для страданий, высвечивающих истинные ценности? Дабы благие помыслы не растворялись в бесконечной череде соблазнов и страстей, идей на уровне нулей, нулей на тронах королей. Внутренне желание избавиться от лишнего бремени уравновешивается периодической перезагрузкой внешнего мира. Он неустанно напоминает о себе, подсказывая, как жить, чтобы выжить, и доказывая, что для выживания надо жить. Потеря ориентиров в ценностной системе координат искажает функции иммунной системы, и блуждающие метеориты несчастья прорывают защитную атмосферу сознания. Сегодня подсказано нам вчера, вчера приближает позавчера, и цепочка дней уходит в глубину веков к истокам истин, погребенным в толще тысячелетий.
24
Мы снова переехали. На этот раз в отдельную квартиру. Комната с выходом на балкон, сидячая ванна, напоминающая горшок ручкой внутрь, четырехметровая кухня. Когда папа ловил сбежавшего в очередной раз хомяка по имени Тихон, замеченного в попытках перегрызть папин любимый буксировочный трос, ноги отцовские располагались в прихожей, а остальная часть тела через комнату уходила в коридор до дальнего угла кухни.
Дом уютно притулился среди коллег-хрущевок по соседству со строительным комбинатом, сортировочной станцией и магазином «Юный техник», предлагавшим широкий выбор дешевых товаров – от гвоздей до некондиционных телевизоров. Зарплаты были мизерные, и потому своими руками пытались собрать все, что только можно, от мебели до телевизора.
Я выпал из гнезда бабушки Доры и дедушки Вани и из школы у кинотеатра «Спартак», славной своими традициями бывшей гимназии для мальчиков. Игры в «кис-кис-мяу», «бутылочку» и «ремешок» казались неотъемлемой частью школьной жизни. Они включали поцелуи через платок, вопросы наедине, почему-то опальный фиолетовый цвет и напускную таинственность, маскирующую отсутствие ясных представлений о сути происходящего.
Оставили следы первая влюбленность и первый опыт по защите чести и достоинства.
Новую страницу ощущений, вызываемых противоположным полом, приоткрыла Лена Шейхман. Карие глаза лучились озорством, бойкость и рассудительность в одиннадцать лет подавляли. Выбрав три вопроса наедине в одной из игр после занятий, полагалось зайти в парадную, что мы и сделали. Пока я мучительно собирался с духом, она предложила поцеловать ее, и я честно клюнул ее в щеку. Потом спросила:
– Хочешь посмотреть на мои трусики? – И не дожидаясь ответа, легким взмахом приподняла и так достаточно короткую пласированную юбку. – Интересно, что под трусиками? – спокойно продолжала она, глядя мне прямо в глаза.
Меня пробрал озноб, пришлось стиснуть зубы, чтоб не стучали.
– А вот мне неинтересно, потому что на уроке физкультуры, когда ты спускался по канату, все было видно. – И она с хохотом выскочила на улицу.
Лицо горело. Я перевел дыхание и последовал ее примеру. Две девочки крутили длинную скакалку. Лена высоко подпрыгивала, выполняя различные фигуры. При этом белые трусики периодически обнаруживали свое присутствие, и казалось странным, что мгновение назад они произвели эффект разорвавшейся бомбы.
Мы часто лазили по крышам и пробирались через черный ход в кино. Лена хорошо училась и при этом умудрялась гулять сколько угодно. Как-то в одиннадцать часов вечера раздался звонок в дверь. На беду ко мне как раз заехал с инспекцией папа, он и встретил Лену с подругой. В комнату он вернулся весьма озадаченный.
– Это твои одноклассницы? – Папа явно наделся получить отрицательный ответ.
Мое робкое «да» плохо уложилось в его версию.
– Странные девочки. Они были очень настойчивы. У меня сложилось впечатление, что ты регулярно прогуливаешься в такое время в их компании.
Уши горели, но делиться своими сердечными переживания никак не входило в мои планы.
– Случайно зашли. Не знаю, чего их принесло.
– Однако мне стоило немалых усилий, чтобы по обоюдному согласию перенести твое участие в прогулке. – Он хитро улыбнулся и, посмотрев на меня, добавил: – Кажется, мы вовремя собрались переезжать.
Душевные переживания того времени не ограничивались нежным противостоянием, составлявшим основу взаимоотношений мальчиков и девочек у нас в классе. Багаж отрицательных эмоций формировался под воздействием высокой, темноволосой старшеклассницы с отрешенным лицом и большеголовых второгодников. В первом случае – неожиданные толчки и подножки. Лежа на полу, я мучительно искал ответ в ее непроницаемых глазах – зачем? Или она не контролирует собственные конечности, думал я, или сумасшедшая. Неопределенность пугала. Во втором случае – плевки в лицо. Боль обиды заглушала следующие за плевками удары. Справиться одному с тройкой быков не представлялось возможным. Обращение за помощью к родителям вылилось в жесткий разговор и практические занятия по самообороне.
Долго ждать повода для применения новообретенных навыков не пришлось. Класс не успел разойтись на перемену, и меня окружили. Перед тем как плюнуть в лицо, жертву обычно затаскивали в угол. Важно оказалось сделать первый шаг. Удар, угодивший одному из второгодников в глаз, явился для них полной неожиданностью, но главное, стал знаком к общему восстанию. Вошедший в класс учитель с трудом усмирил разгулявшуюся стихию. В результате всем поставили кол за поведение, вызвали моих родителей, а второгодников перевели из нашего класса в другой. Символом протеста осталась в памяти худенькая девочка, вскочившая на парту с занесенной над врагом туфелькой. Остальное стерло время или мудрость Создателя, исходящего из принципа необходимого и достаточного.
25
Лодка уткнулась носом в камыши. Горячая ладонь поручика Вяземского послужила надежной опорой, и я, соскочив на берег, проследовала к поджидавшим нас дрожкам.
– Вы не устали?
Мелкие капельки воды у него на лбу прятались в тени козырька фуражки. Жарко, подумала я. А может, он тоже волнуется? Может, достать платок и смахнуть их? Нет, я сошла с ума – что он подумает?! Да, он ведь задал какой-то вопрос. Чего доброго, решит, что паузу выдерживаю, интересничаю.
– Извините, я задумалась и не расслышала.
– Ничего. Взгляните, дорога петляет, и уже показались крыши, скоро будем в Доброславовке.
Очертания хутора неспешно проступали на фоне бескрайних лугов. Ворскла теряла голову, ее воды неслись наперегонки с ветром, в котором сплетались ароматы цветов, дыхание полей, свежесть воды – незабываемый букет, дар ее величества Природы.
– Чувствуете этот ни с чем не сравнимый запах? В нем сила лесов и нежность полей.
– Служба притупляет остроту ощущений, но сегодня…
Приближение плотины сопровождается шумом, грохотом, рокотом. Мельничные колеса мельницы, словно огромные черные крылья, взлетают, поднимая гладкие пласты воды и разбрасывая их мириадами радужных капель.
– Я опять не расслышала вас – шум плотины проглатывает слова.
– Если их поглотил шум, значит, они не стоят того, чтобы повторять их в тишине.
Всего шесть верст разделяют хутор и Ахтырку, но мне кажется, будто мы совершаем кругосветное путешествие. А вот и станция назначения. У забора дачи, которую снимает Михаил Петрович, толпятся мужики.
– Они необычно одеты, красные сапоги.
– По выходным часто гуляют, нарядные, поют.
Мужики поздоровались, поклонились и проводили нас взглядом. На крыльце появился Михаил Петрович, черная косоворотка подчеркивала изящество его сухопарой фигуры. Он спустился к нам навстречу и обнял меня.
– Сударыня, вас не узнать. Девочки так стремительно превращаются в барышень. Глядя на вас, еще сильнее ощущаешь неумолимую быстротечность времени. Хочется так много успеть, и приходится торопиться.
Он вздохнул. Вспомнила, отец отмечал его неулыбчивость.
– Володя, рад вас видеть. Повезло вам со спутницей, очень повезло. Надеюсь, посидите со мной за чашкой чая? – Он распахнул дверь. – Проходите, располагайтесь.
Гостиная просторная, светлая, стены украшают картины, большой стол, в дальнем углу пышный диван и кресла, обтянутые золотистой тканью. Это как-то не вязалось с моим представлением о дачной обстановке. Михаил Петрович расположился на диване, мы устроились в креслах.
– Константин Петрович приехал вместе с вами?
– Да, папа остался в городе. Надеется вас увидеть. Бабушка просила передать приглашение вам и вашей супруге на ее знаменитые пельмени в субботу. Мне тоже не разрешили засиживаться, дабы не мешать вам работать.
– Глупости, Леночка. Пишу я, как правило, по ночам, днем же гуляю по березняку, катаюсь на лодке. Стараюсь подплыть как можно ближе к плотине – там такая мощь, что дух захватывает, а опасность притягательна. Вы, как мне помнится, натура мечтательная, стало быть, имеются некие устремления на будущее.
– Во время поездки мы с поручиком Вяземским обсуждали мои пристрастия. Меня влечет сцена.
– Михаил Петрович, – вступил в разговор Володя. Мне показалось, что за внешним спокойствием он с трудом прячет волнение. Он был очень молод, и румянец еще не покинул щеки, в отличие от моих. Он достал платок и несколько раз коснулся лба. – Я говорил Елене Константиновне, что у неё есть прекрасный пример для подражания. Сейчас для женщин модно писать.
– Володя, дорогой мой, в жизни нельзя подражать. Важно слушать и слышать себя самого. В каждом важна ценность личности, все эти революционные лозунги и идеи растворятся, а человек, с его переживаниями, исканиями, страданиями, если хотите, останется. Пройдемте на балкон, чай, думаю, уже подали.
Стол красиво накрыт – белоснежная кружевная скатерть, почти прозрачные фарфоровые чашки, высокие бронзовые подсвечники.
– Михаил Петрович, если не секрет, над чем вы сейчас работаете? – спросила я, стесняясь признаться, что отец считает чтение романов брата преждевременным для меня.
– Роман. «Женщина, стоящая посреди». Но название не окончательное.
Он надолго задумался. Отец говорил, это у него появилось после попытки свести счеты с жизнью. Однако дядя не показался мне замкнутым, я не утерпела:
– Не знаю, удобно ли задавать подобный вопрос, но, хотя бы в двух словах, расскажите, о чем роман?
– Я бы, конечно, предпочел, чтобы вы, дорогая моя, прочитали его. Правда, не уверен, что ваш отец благосклонен к моим писаниям. Но, если действительно в двух словах… Что может писатель в двух словах? Пытаюсь донести, что счастье заключается в том, чтобы жить полной жизнью, без преград и запретов. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос? Хотя вряд ли наше пуританское общество готово такое переварить.
Часы пробили шесть раз. Пора было собираться в обратный путь. Бабушка, наверняка уже беспокоится и станет браниться. а главное, чего доброго, запретит мне самостоятельные поездки в обществе Володи.
26
Звучит команда, приступаем к строевой подготовке.
Ежедневные десятикилометровые пробежки, зарядки, полосы препятствий – все это только подготовка к главному, искусству владения телом и оружием при несении караульной службы. Каждому выдан семизарядный карабин Симонова со спиленным бойком. Выстрелить из него невозможно. Исключение случайностей во время проведения торжественных церемоний просматривается во всем.
Отрабатываем команды «на плечо» и «к ноге». Cтою по стойке «смирно», карабин тоже стоит по стойке «смирно» рядом с правой ногой. Нас связывает правая рука, вытянутая вдоль туловища и фиксирующая карабин между большим и указательным пальцами.
Рота разделена на группы по десять человек каждая. Нашим обучением руководит замкомвзвода Егоров. Он стоит лицом к нам и показывает движения. По команде «На пле-» карабин приподнимается, далее следует «-чо!» – удар прикладом, карабин перемещается вдоль тела и фиксируется в положении, при котором плечо и предплечье составляют прямой угол в плоскости перпендикулярной плоскости тела на уровне груди. Кисть левой руки сжимает основание приклада на уровне талии, правая рука возвращается в исходное состояние.
В длину карабин со штыком примерно полтора метра, вес около семи килограммов, верхняя часть смещается вперед и удерживается в указанном положении. Левая рука немеет, тело столбенеет. Сжимая зубы, стараюсь не потерять контроль над собой и карабином. Избавление наступает после команды «К но-ге!», симметричной по исполнению к предыдущей.
Возникает следующая проблема – не уронить карабин. Отягчающие обстоятельства: левая рука практически не слушается, контролировать движения глазами запрещается. Удается поймать, но возникает дикая боль. Большой палец ноги принял на себя удар приклада. Палец медленно разбухает, занимая свободное пространство сапога. Боль притупляет восприятие нагрузок, которые продолжают нарастать, заставляя боль молчать.
После неоднократного повторения команд у кого– то падает карабин.
– Недопустимая ошибка, – тон Егорова усиливает значимость сказанного.
– Если почувствовал себя плохо, дай отмашку за спину, но не в момент прохождения делегации. Если видите, что кто-то падает, один подхватывает карабин, другой товарища. Если он стоял в первой шеренге, сосед из второй занимает его место. Все делается быстро и без шума, почетные гости ни чего не должны заметить. Есть вопросы?
Все молчали. По лицам стекали капли воды, дождь не являлся основанием для приостановки строевой подготовки.
– На пра-во! На пле-чо! Шагом марш!
Квадрат десять на десять, глаза в затылок товарища. Правая рука двигается одновременно с левой ногой, отрабатывая «питерскую» отмашку. В отличие от московской, она более широкая. Рука стремительно перемещается, фиксируясь на мгновение в крайних положениях.
– Тянем но-сок, держим линию. Но-гу выше. Фуфаев, я сказал, выше! Спину не гнем. Куда карабин положил?! Что это за отмашка?! Ногу ставим с у-даром. Не спать! Шестьдесят шагов в минуту. – Егоров каждое слово растягивает по слогам в такт командам.
Прекратив комментировать наши достижения, замком подзывает трех «стариков», те участвуют в строевой подготовке лишь формально. Один из них занялся персонально Костей. В результате за спиной у бедняги разместились целых три карабина: один вдоль позвоночника, второй – поперек на уровне лопаток, третий – на уровне поясницы. Вся эта конструкция удерживается за счет нехитрого переплетения с его руками. У одного из «стариков» появилась сабля, положенная по уставу офицерам роты почетного караула. После каждого подъема ноги острое лезвие застывает под голенью на определенной высоте от асфальта.
Сравнительный видеоряд, отражающий общую картину лошадиного труда с элементами изощренной дрессировки, не вызывает ни эмоций, ни протеста, ни сострадания – ровным счетом ничего, кроме безумной усталости и гула в голове и ногах от глухих ударов сапог о плац. Может быть, подобные условия делали из человека раба или воспитывали силу воли оставаться человеком.
– Стой! К но-ге! На спортплощадку марш! Нет растяжки – будем тренировать! – Очередная команда с соответствующим комментарием.
Не важно, что ждет дальше, – главное прекратить утюжить асфальт. Подошвы горят, ноги то деревянные, то ватные. Йога, балет, гимнастика предусматривают растяжку мышц. Мы тоже неплохо смотрелись бы в гимнастическом зале, у балетного станка или на циновке среди молчаливой красоты Гималаев. Но мы солдаты, нас не положено любить и уважать. Задача – за короткий срок вырубить по образчику винтик военной машины.
Подхожу к перекладине, установленной на высоте полутора метров. Забросить на нее ногу удается отнюдь не с первой попытки. Выпрямить ее еще сложнее – подгибается опорная нога. Подходит Сергей, взявший надо мной негласное шефство. На сей раз его улыбка несколько иронична.
– Постарайся встать прямо. – Замыкает руки на моем колене и тянет вниз.
Связки и мышцы сопротивляются, больно. Правая нога пытается согнуться, левая не желает разгибаться.
– Попробуй не думать о боли, расслабься. – Его слова, видимо, реакция на мое перекошенное лицо.
Сняв напряжение, а затем практически повиснув на ноге, Сергей наглядно иллюстрирует методику растяжки мышц, пройденную в свое время им самим. Больно – не то слово. Но и нога заметно выпрямляется, процесс пошел.
– Спасибо, что не оторвал. – Пытаюсь шутить.
– Ничего страшного, жить будешь, – парирует Сергей и уходит так же быстро, как подошел.
Очередная команда прошла, не затронув мои нервные окончания. Ощущение скрытой за внешней жесткостью доброты высветило невидимые прежде опоры в этом чужом, забытом богами пространстве.
27
Настоящее всегда ограничено, будущее, если и светлое, то не близкое, прошлое пусть и темное, но родное. Мы часто испытываем одиночество и устремляемся в разреженное пространство воспоминаний. Необходимо быть осторожным с архивными записями, вытаскивая их из лабиринта складских ячеек.
Очевидно, что системы памяти сохраняют предметы, события совсем не так, как нам представляется. Рецепторы зрения считывают информацию в виде неких снимков и сравнивают их с имеющимися в памяти. Стоит понять, что полка на ножках это стол, и мы моментально его идентифицируем. При этом важно, что его назначение – прием пищи. Да, столом можно ударить по голове, но эта связь не находится в прямой ассоциации. Пытаясь вернуться к каким-то событиям, но не зная, как использовать собственную систему памяти, мы пытаемся искать некие ассоциации, подсознательно догадываясь, что события хранятся отдельно от информации, отражающей время, а подробности лежат в каком-то другом месте или утеряны навсегда, потому что в тот момент мы не концентрировали на них внимание.
Временную шкалу можно представить в виде дороги с указателями крупных городов и незначительных населенных пунктов, аналогов важных и незначительных событий в жизни человечества, страны и своей собственной. Если пролистывать воспоминания очень быстро, запомнятся Ленинград и Москва, а Новгород, Тверь, Бологое останутся в забвении. Растворятся в бездне покинутого прошлого люди, переживания, разочарования и надежды.
Говорят, мы представляем собой то, что едим. Но ведь то, что мы едим, связано с тем, что мы помним о еде. Если человек все время голодал, то отпечатки памяти ассоциируют и мясо, и яблоко, и пирожное, как еду, которая утоляет голод. Если гадаешь, почему ты толстый, следует вернуться к отпечаткам памяти и разобраться в них. Не все, что утоляет голод, полезно, многое из этого яд. И если представить, что пирожное делают из дохлых крыс, а, судя по их составу, это недалеко от истины, то вскоре отпечаток, связанный с пирожным, претерпит изменения, и вы больше не позволите себе тратить на это деньги.
Порой воспоминание представляется в виде глиняного слепка, возникшего при первом впечатлении, например, от поцелуя девушки, то это только часть правды. Каждый новый поцелуй будет сравниваться с первым, но только в течение ограниченного времени. Понятийное расчленение окружающего мира дает нам возможность укладывать в ячейку памяти под кодом «поцелуй» все новый и новый опыт. Но если вам кажется, что сегодняшний поцелуй существует сам по себе и связан с эмоциями, вызываемыми конкретным человеком, то вы ошибаетесь. Ваша система кодирования, сравнивая его с предыдущими, может счесть его вообще ни чем не отличающимся. Допустим, дело происходит в ресторане. Вы слушаете признание любимого человека и впитываете каждое его слово, отгородившись от внешнего мира нахлынувшей волной эмоций, и вдруг за соседним столом кто-то произносит ваше имя. И тут выясняется, что признанием увлечено только одно ухо, а второе фильтрует прочие потоки информации, и как только появляется важный отпечаток, оно подает вам сигнал. Мы бесконечно сложная система, и если мы хотим понять, что происходит с нами сегодня, то следует разбираться с тем, что заложено в прошлом – и не только нашей жизни.
28
Началась Первая Мировая война. Отцу Елены предстояло в ближайшее время отправиться на фронт. Чувство патриотизма, ощущение скорой победы, летали между верстовыми столбиками великой империи. Две русские армии под руководством генералов Рузского и Брусилова в результате наступления захватили Львов. С обеих сторон в противостоянии с Австро-Венгерской коалицией участвовало около полутора миллионов человек – масштабы, свойственные задачам передела мира. Константин Арцыбашев, будучи представителем древнего, но обедневшего дворянского рода, воспитанный в лучших традициях долга перед отечеством, с нетерпением ожидал отправки на фронт, хотя зрение подводило. Он успокаивал жену и дочь, что продлится военная компания недолго и закончится наилучшим образом, тревожиться не о чем, но ему будет спокойнее, если они на некоторое время уедут в Ахтырку к его родителям. Он написал отцу, что отправляется в ближайшее время на фронт, беспокоится за семью, постарается уговорить жену и дочь на время переехать и просит под любым предлогом задержать их, пока ситуация не прояснится. Как показало время, которое часто смеется над людьми, ситуация прояснялась долгие четыре года. Константин тщательно скрывал опасения, что ситуация может пойти вовсе не так, как ожидается в обществе. Прямое противостояние с немецкой армией, очень хорошо подготовленной и вооруженной, грозило обернуться безумной бойней, о таком и размышлять было больно. К тому же линия фронта проходила совсем недалеко от Львова и Подольской губернии, где уютно пряталось поместье. И когда жена категорически отказалась оставлять усадьбу без присмотра – ведь он сам уверяет, что все скоро закончится, – Константин решил уговорить Леночку.
– Дорогая моя, тебе бы не помешало немного развеяться. Отдых не повредит твоим занятиям. И брат наверняка еще там, а тебе, если я не ошибаюсь, его общество представляется интересным.
Елена, конечно, с радостью не просто поехала – полетела бы туда, будь Володя. Но он написал, что срочно откомандирован на фронт, а она и так себе места не находила. Оказавшись там, где все напоминает о нем, не долго и вовсе сойти с ума. С мамой ей легче делить ожидание, мама умеет успокоить, вселить уверенность, что все будет хорошо. Можно вместе сходить в церковь, помолиться. Погруженная в свои переживания, Елена извинилась перед отцом, мол, она сейчас не готова к поездке, а без мамы тем более ехать не хотела бы. На этом обсуждение закончилось, но Константин Петрович не оставлял надежду уговорить своих дам.
Мама настояла, что пора сходить в церковь причаститься. Елена готовилась, постилась, читала молитвы, думала, в чем грешна, гадала, являются поцелуи с Володей грехом или нет. А вдруг ему приходится убивать? Но кто в этом повинен, и почему одни люди посылают убивать других? Ведь все люди одинаковы, откуда же берется ненависть? Вот это уже грех, и один грех порождает другой. Крещение избавляет от первородного греха, а потом люди сами вершат смертные грехи, и ничего не боятся.
Службу перед причастием вел молодой священник, Лена раньше его не видела. От него веяло неизъяснимой легкостью, а голос был глубокий и сильный, с трудом верилось, что молитвы читает человек – казалось, звучит орган. Она стояла сбоку от него и движений губ не видела, только чувствовала, как проходит звук.
Сначала пятидесятый псалом, потом тропари «Помилуй нас, Господи, помилуй нас»… Проводя по требнику чин таинства «Последование к исповеданию», Георгий волновался. На первой молитве он чувствовал, как дрожит голос, и только успокоился к концу стиха, когда включился какой-то внутренний запас «…ныне и присно, и во веки веков аминь» – звук пошел ровный, словно внутри раздувались меха. Он прочел вторую молитву и окончательно пришел в себя. Когда пришла пора класть епитрахиль на голову кающегося и благословлять его крестным перстосложением, Георгий увидел перед собой девушку. Она сразу напомнила ему Варю, и волнение снова охватило его. Он постарался успокоиться, прочел молитву.
Отец Викентий, как предписано, спросил:
– Как ваше имя, и что желаете исповедать перед Богом?
Елена, тоже волнуясь, перечислила, что иногда не постится, бывает, гневается, иногда завидует, забывает прочитать утреннюю или вечернюю молитву, порой боится. Потом замялась, развернула листок и прочитала, старалась быстро, но внятно все донести. На пункте с поцелуем замялась.
– Батюшка, я не знаю, как спросить… – И снова замолчала.
Отец Викентий задал наводящий вопрос своим бархатным голосом:
– Может, дела сердечные?
Она чуть вздрогнула и сразу согласилась:
– Да, батюшка, сердечные. – И опять молчок.
– Так любовь никак грехом не является. Может, уныние?
– Да, уныние, – подхватила Елена. – За человека переживаю, на войне он, – и само с уст сорвалось, – целовались мы. – И затихла совсем.
Покаяние свершилось, и как свидетель, ходатай перед Богом, отец Викентий помолился об отпущении грехов кающейся и прочел разрешительную молитву. Сомнений в искренности раскаяния не было, но Георгия беспокоило волнение, которое с новой силой возникло в нем при виде этой девушки (теперь он знал, что её зовут Еленой).
А Елене немного полегчало. Она поставила свечку Богородице, попросила заступничества, защиты для любимого и, скрестив руки на груди, погрузилась в Таинство Причащения, где под видом хлеба и вина вкушаемо Тело и Кровь Господа.
Когда они с матерью вернулись домой, девушка увидела нервно ходящего из угла в угол отца. Константин Петрович нервно теребил в руках небольшой лист бумаги. Елена, конечно, и помыслить не могла, что это письмо от дедушки с известием о гибели Володи. Ее горячо любимого Володи.
29
Девочки в составе внушительной делегации решили нанести официальный визит по месту моего проживания с целью получения документального подтверждения наличия у меня возлюбленной. Маленькая черно-белая фотография подверглась тщательному изучению, и последовали выводы – иначе, зачем было приходить. Заходить в квартиру инспекторы отказались, оценка происходила на лестничной площадке, тихо и по-деловому. На мою долю выпало отражать иронические взгляды отца и острые искорки из-под ресниц взволнованных одноклассниц. Не давала покоя мысль, почему вечно попадаю в дурацкие ситуации? Соврал бы, что нет фотографии, или отказался бы показывать. Но откуда ж я знал, что явится такая компания!
Когда это было? Сразу после переезда из центра в новостройки. Новая школа, значит, пятый класс, двенадцать лет. Приметы времени одежда и обувь. Помню цвета, с моделями сложнее. Правда, о каких моделях в то время могла идти речь? Все просто. Туфли, чулки, в основном коричнево-телесных оттенков. Школьная форма, украшенная беленькими воротничками, прячется под разношерстными пальто. Судя по цвету одежды, стояла осень или ранняя весна.
По завершении непродолжительного визита трепетной юности отец долго смеялся. Солнечные лучи радостно разбегались по комнате через окна восьмого этажа, разделяя его веселье. Точно, весна, осенью в это время пасмурно.
Привнесенный мной опыт проведения внеклассного времени одноклассники восприняли на ура. Мальчишки отнеслись достаточно ровно. У них давно сложились союзы, мирно сосуществовавшие друг с другом. Я, придерживаясь нейтралитета, сохранял хорошие отношения со всеми сторонами. Отсутствие родителей в дневные часы, наличие хомяка и прекрасный обзор с последнего этажа привлекали ребят в нашу квартиру.
Отец парковал первую собственную автомашину, «Москвич», около дома. Дворник, убирая территорию, вынужден был огибать это место. Вид нарождающейся частной собственности вызывал у него праведный гнев. Сверху было хорошо слышно размеренное шарканье его метлы и прерывистое чертыханье. Он заслужил почетный первый номер в списке объектов бомбометания. В качестве снарядов использовались сырые яйца и испорченные овощи. Однажды заглянул Козин, парень из соседнего дома, простодушный и прямой. Единственное, что в нем раздражало, неприятный запах изо рта, но если держаться на некотором расстоянии, проблема исчезала. Он легко согласился пройти испытание на выносливость. Снял рубашку, надел папин пиджак, и запущенный в рукав Тихон устремился к выходу из лабиринта. Не прошло и минуты, как Сергей носился по комнате, невнятно умоляя прекратить пытку, поскольку истерический смех исключал членораздельную речь. В конце концов он сбросил пиджак, и на пол выпали какие-то пакетики. Пока я ловил прекрасно выполнившего свою работу Тихона, Сергей произнес громко и отчетливо: «Презервативы».
Это загадочное слово иногда звучало в мальчишеских кругах. Известно было, что они резиновые, используются взрослыми, стоят четыре копейки и продаются в аптеках. Пока мы разрывали упаковку, с улицы донеслось знакомое шарканье и ругань дворника. Идея использования белой, непрозрачной оболочки пришла мгновенно. Сергей двумя руками поддерживал снизу наполняемый водой презерватив. Мне выпало регулировать напор воды из крана. Когда бесформенная емкость почти вышла из-под контроля, мы вынесли ее на балкон, прицелились и отправили в свободное падение. Эффект превысил все ожидания. Грохот от соприкосновения с асфальтом сопровождался водяными осколками, устремившимися во все стороны с огромной скоростью. Дворник накрыл голову руками и упал на колени, метла отлетела на несколько метров. Уж не ранило ли его? Мы присели на корточки и незаметно наблюдали за происходящим. Достаточно быстро объект нападения пришел в себя. Встал, огляделся по сторонам, оценил степень собственных повреждений, которые сводились к испугу и следам воды на одежде, и начал внимательно всматриваться в пространство над его головой. Через некоторое время раздался звонок в дверь. Мы не подавали признаков жизни. Звонок проверещал еще несколько раз, затем донеслось уже привычное чертыханье. После того, как хлопнула дверь лифта, я спрятал оставшиеся презервативы в карман пиджака, а Сергей отправился восвояси.
Как и следовало ожидать, дворник не оставил такой демарш без должного внимания и навестил родителей. Содержание разговора осталось мне неизвестно. В результате мне запретили переводить продукты и пугать дворника, а папе досталось за то, что он не умеет хранить презервативы.
Первое знакомство с предметом никак не могло навести на мысль, что презерватив следует использовать для защиты, ведь он показал себя незаменимым в нападении. Возможно, странные ощущения и обстоятельства первичного применения развили у меня в дальнейшем нелюбовь к использованию средства в качестве предохранителя, похожего на сдерживающий атаку ограничитель.
30
– Рядовой Радзиевский, – выкрикнул дневальный, когда после трех часов строевой входили в расположение роты.
– Я, – отозвался голос, похожий на мой.
– К командиру роты, срочно.
Эхо подхватило конец фразы, а я – не свои ноги (или свои, но уже не ноги), и в несколько прыжков оказался перед дверью с табличкой «Командир роты».
– Товарищ-старший-лейтенант-разрешите-войти, – протараторил я, постучав и приоткрыв дверь.
– Проходи, садись. – В тесноватом кабинете слова прозвучали приглушенно. – Завтра отчетно-выборное комсомольское собрание. Мы посоветовались и решили выдвинуть твою кандидатуру на пост секретаря. Опыт у тебя есть, в остальном поможем.
– Да, но я член КПСС, а не ВЛКСМ, разве это допускается?
– Первый Секретарь ЦК ВЛКСМ член партии, значит, допускается.
Его отличало от комвзводов умение спокойно и убедительно излагать свою позицию. Казалось, они временщики, а он здесь неслучайно и надолго.
– Если вопросов больше нет, свободен.
Я отдал честь, развернулся кругом и начал одновременное движение левой ногой и правой рукой – все как учили.
В расположении роты тихо. В центральной части казармы ровными рядами маячат бритые головы. Сажусь на последний ряд. Похоже, угодил с корабля на бал. Давно не видел у ребят веселых и расслабленных лиц. Лектор, круглолицый с залысинами капитан, энергично жестикулирует и вещает:
– Вы люди молодые, и ничто человеческое вам не чуждо. Кого-то дома ждет девушка или жена, и вы, конечно, скучаете. В том смысле, что правая рука помогает скучать гораздо лучше, чем левая. Это я шучу. Но мне хотелось бы предостеречь вас от куда более серьезных проступков.
Совсем недавно до суда дошло дело рядового Петухова. Находясь в увольнении, Петухов принял на грудь нормальное количество водки, забрался в огород, где на беду паслась коза, белая с серыми пятнами на спине. Не знаю уж, чем она ему так приглянулась, но окаянный рядовой вступил с козой в половую связь. Бабка, хозяйка козы, увидела такой срам и давай звать на помощь. Забрали добра молодца в милицию и возбудили уголовное дело по факту скотоложства. И это вам не шуточки, за подобные любовные связи запросто можно сесть за решетку на срок до трех лет. Незнание закона от ответственности не освобождает.
Более серьезное наказание ждет рядового Полапова, который сначала вступил в сексуальные отношения с телкой – имеется в виду молодая корова, а не то, что вы подумали, – а затем и с хозяйкой, уже давно бабушкой. Этот герой рискует получить десять лет строгого режима, а то и поболее.
В этот момент грянул сигнал тревоги. Несколько минут – и мы уже на плацу в полной боевой готовности. Замполит батальона, к которому приписана наша рота, объявил:
– Китай напал на дружественное суверенное государство Вьетнам. Идут ожесточенные бои. Агрессору удалось захватить значительные территории. Зафиксировано применение химического оружия. Природно-климатические условия в зоне конфликта во многом схожи с нашими. Мы должны быть готовы, в случае необходимости, оказать помощь братскому вьетнамскому народу. В связи со сказанным необходимо уделить особое внимание повышению боеготовности подразделений. В свете последних событий командирам подразделений усилить занятия по выработке навыков применения химической защиты…
– Рядовой Радзиевский, – прозвучало за спиной, – командир полка вызывает.
Мои глаза встретились с неизменно спокойным взглядом Егорова. Не успев обратиться, получил короткое:
– Выполняйте.
Торопливо следую за посыльным. Встречающимся на пути офицерам отдаю честь, при этом замедляю шаг, на что получаю быстрое ответное приветствие.
Мешковатому майору не до меня, он просто прошел мимо, занятый своими мыслями. А вот низкорослый капитан с заостренными чертами лица обязательно к чему-нибудь придерется, сразу видно по пристальному взгляду.
– Рядовой, как честь отдаете?! Пилотку поправьте!
Он видит меня первый и наверняка последний раз, но воспитанное системой желание дрючить стоящих на более низких ступенях неистребимо. Может не желание, а ответная реакция: если так поступают со мной, думается ему, то куда-то необходимо же это вылить, не домой же нести.
Поднимаемся на второй этаж, приближаемся к посту номер один – знамени полка, охраняемому двумя солдатами. Они застыли по стойке «смирно», правая рука фиксирует у ноги карабин. По их лицам видно, что стоят не первый час. Пока никого из начальства нет, вторая нога полусогнута. Посыльный открывает дверь и докладывает о моем прибытии.
Подполковник Плотников стоит у большого дубового стола с резными ножками. Рабочая поверхность обтянута кожей. Папки и отдельные документы в небольшом количестве аккуратно разложены по стопкам. Несколько телефонов, трубка одного из них в руке у Плотникова. Подполковник стоит лицом к окну, форма элегантно подчеркивает спортивное телосложение. В деталях улавливаются повадки щеголя. По слухам, уходит учиться в академию.
Попав в поле зрения, получаю молчаливое разрешение сесть. День наполнен неожиданными событиями, пытаюсь угадать продолжение. Размышления мои прерывает вопрос:
– Как проходит привыкание к армейской жизни? Есть ли притеснения со стороны старослужащих?
– К службе претензий нет, товарищ подполковник.
– Слышал, тебя собирались избрать секретарем комсомольской организации. Собрание было?
– Собрание назначено на завтра.
– Отлично, – оживился он. – Есть вопрос, который следует дополнительно рассмотреть на собрании. Вы как член партии должны понимать, что ситуация в вооруженном конфликте непростая. Наша страна не может официально послать вооруженные силы на помощь Вьетнаму. – Он сделал паузу вроде той, из первого разговора, а затем продолжил: – Добровольцев – может. Завтра мне нужны заявления в письменной форме. – Манера изложения и тон сомнений не оставляли – речь шла не о просьбе. – Надеюсь, Вам удастся объяснить сложившуюся международную ситуацию и повести комсомольцев за собой личным примером. Если вопросов нет, свободны. Завтра доложите результаты.
– Есть! – Я отдал честь и направился в расположение роты.
По сравнению с перспективой участия в военных действиях против Китая на территории Вьетнама прежние самые жуткие прогнозы представлялись в розовом цвете.
31
Копыта глухо врезаются в мягкий чернозем. Лучи солнца, касаясь крон деревьев, растворяются в лесной чаще. Отряд из десяти красноармейцев под моим командованием выполняет особое задание.
Уездный центр Мена переходил из рук в руки. Белые по железной дороге получали подкрепления из-за Десны. Эшелоны, перевозившие живую силу, оружие и боеприпасы хорошо охранялись. Прилегающая к участку железной дороги территория от реки до Мены была напичкана постами, засадами и контролировалась конными разъездами.
Родные места помогали под покровом сумерек через поляны и тропинки, минуя заставы, вести отряд к железнодорожному мосту. Стемнело. Продвигаться в темноте становилось опасно, бойцы и кони вымотались. «Рукой подать до родного села, где можно перекусить, немного поспать, а коль повезет, так и к Вальке наведаться», – подумал я и приказал спешиться.
– Хоронитесь здесь тихо, покамест не ворочусь, – распорядился я и добавил: – Ежели белых в деревне нет, заночуем.
– Не горячись, Вань, – по-товарищески увещевал Григорий, – а вдруг тебя поджидают, они ж тоже не дурни какие-нибудь, сыты уже твоими наскоками.
– Так я и не собираюсь на рожон лезть. Тишком гляну, что да как, и разом обратно, – настаивал я. Можно б отрубить, мол, не твое дело, но цыган боевой товарищ, да и в деревне, когда с соседскими за девок бились, не раз на выручку приходил.
– Тогда вместе пойдем, – насупился он, чувствуя что меня не переубедить.
– Ежели со мной что случится, ты за старшего. Рисковать вдвоем нельзя, каждый боец на счету. А передышка нужна, а то лошадей загоним.
На том и порешили.
Сливаясь с кустами и деревьями, добрался до крайних изб, что неподалеку от леса притаились. Улиц избегал, все огородами. У тетки Серафимы злющий Полкан, чуть за ногу не хватил. Еще когда яблоки таскали, беда с ним была: то штаны порвет, то картуз истреплет. Чумной, одно слово. А вот за этим сарайчиком и родной дом. Запахло мамкиными щами, картошкой печеной, ноги сами подпрыгнули, легко перемахнув через забор.
Окна закрыты ставнями. Раньше, когда батька был, редко запирали, а нынче не те времена, да и мать в доме одна. Стучать тихо – не услышит, наверняка на печи спит, только соседей встревожу. Да и кто его знает, что нынче в деревне делается. Через крыльцо лезть без пользы, дверь на оглоблю закрыта. Подхожу к сенцам, достаю шашку, просовываю меж косяком и створкой, медленно поднимаю тяжелый крючок и со скрипом открываю дверь. Вхожу, тихо притворяю дверь.
Под ногами что-то хрустнуло. Не похоже на мать, чтоб не прибрано было. Чиркаю спичку от себя – при мне Федька, сын соседский, чиркнул на себя, и сера горящая прямо в глаз. Орал жутко, потом, как разбойник, с повязкой черной ходил. Обиду затаил, дескать, спички негодные ему подал. Я потом под проходящий поезд чудом не упал – его проделки. Глаза поднимаю осмотреться – на меня штыки направлены, их белые держат. Рванулся назад, по затылку что-то тяжелое ударило, в голове заходило, закружилось, ноги соломинами подломились…
Темно, доносятся обрывки слов… Вода быстрыми ручейками бежит по лицу, тело ломит, над ухом кто-то орет. Приоткрываю глаза. За столом у окна на месте где раньше всегда сидел отец, до того как уехал на прииски и не вернулся, развалился офицер. Видно хорошо звезданули, не могу понять, какого чина будет.
– Очухался наконец? – полусонным голосом спросил он.
Получается, давно поджидали. Лицо заспанное, китель не застегнут, кобура с портупеей лежит на столе.
– Удивлен, Иван, нашему визиту? Не ждал гостей золотопогонных? Зря ты о нас плохого мнения. Видно, не научили твою лихую голову, что противника опасно недооценивать. Да, не хватает вам наших знаний, а нам вашей наглости. Контрразведка, к сожалению не та, что была при царской армии, но некоторые задачи решать способна. Тебя вот, кстати, поймали. Все очень просто, как по учебнику. Диверсионные операции, характеризуемые хорошим знанием местности и привлечением местного населения, как правило, проводятся при непосредственном участии аборигенов или долго проживавших на данной местности людей. Выяснить, кто подался в красные, дело несложное. Деревня твоя, как и вся Россия, расколота на части, недругов у тебя хватает.
Он замолчал, услышав шум за дверью. Раздался чей-то голос:
– Штабс-капитану Арцыбашеву срочно прибыть в штаб.
– Вынужден прервать нашу беседу, – сказал он, и повернулся к вестовому, – с рассветом доставьте его в штаб.
32
Улица большого города. Время около полудня. Жарко. Электронное табло информирует: температура воздуха плюс пятьдесят градусов. Не покидает ощущение сауны, из которой не выйти, и ноги сами приводят к телеге с горой лимонов. Худощавый индус разрезает их и пропускает через напоминающий мясорубку механизм. Отходы производства уже образовали огромную кучу, которые с удовольствием пережевывает корова. Она же перерабатывает их в лепешки, создавая тем самым рай для мух, которые, не в силах определиться, суетливо курсируют между результатами человечьей и коровьей переработки. Замкнутый природный цикл – не эстетичен, но совершенен. Понимаю, что даже острая жажда не заставит меня стать звеном этой цепочки.
Ловлю такси, принять душ в номере – заветная мечта. Останавливается машина черного цвета, ее создатели уже давно умерли. Водитель в скрюченном состоянии нависает над рулем. Называю отель, автомобиль кряхтит, но трогается. На перекрестке к машине бросаются люди: мужчина на костыле, кто-то без рук, женщина с ребенком, у которого из уха течет кровь, несколько детей, замотанных в тряпки со следами крови. Непонятно, как люди в таком состоянии передвигаются. Первое желание оказать первую помощь. Водитель останавливает меня и говорит:
– They just want money. [10]
– Actually? – удивился я. – But they’re all in blood.[11]
Не все было понятно из его объяснения. Смесь английского и хинди требует времени для восприятия.
Они немного актеры, и это не кровь – такой вывод следовал из его слов. Буйство попрошаек нарастает, они без остановки дубасят по стеклам. Окровавленные дети вниз головой маячат снаружи. Машины вдруг тронулись, и мы утонули в потоке. На следующих светофорах, вняв совету водителя, отпрянул от окна и разместился в центре заднего сидения. Такую бескомпромиссную борьбу за жизнь следует один раз увидеть, чтобы лучше осознать грань.
Останавливаемся на бензоколонке. Катаемся около двух часов – огромные пробки. Ноги затекли и не помещаются в тесном пространстве между спинкой водительского кресла и моим сиденьем. Открываю дверь, чтобы выйти и размяться. Поэтапно извлекаю тело наружу и обращаю внимание на скрытую газетой неровность под левым ботинком. Она начинает, к моему ужасу, двигаться. Оказывается, это прохожий решил отдохнуть. Не пьяный, конечно, не очень чистый, но это никого не удивляет, кроме меня.
Трудно привыкнуть к левостороннему движению, машины и пешеходы появляются не понятно, откуда и так же исчезают. Дурным тоном считается останавливаться на красный свет, если нет машин, зато звуковой сигнал – самый используемый элемент управления автомобилем. Слева через дорогу метрах в ста по диагонали появляется современное здание моей гостиницы. Водитель на перекрестке поворачивает налево, минует разделительное бетонное ограждение и плавно выезжает на встречную полосу, выбирая кратчайший путь. Желание выскочить сдерживает опытом извлечения себя через заднюю дверь – времени явно не хватит. Пять полос, каждая забита двигающимся навстречу транспортом. Пытаемся разъезжаться. Автомобили, словно корабли, касающиеся бортами на легкой волне у причала. Следы подобной манеры езды присутствуют на подавляющем числе двух, трех и четырех колесных образцов техники. Судя по реакции водителей, происходящее никого не удивляет. Начинаю понимать, что не столь важно, как, куда и каким образом ты двигаешься; главное оставлять возможность разъехаться, включая тротуары, обочины – любую пригодную для маневра территорию. В результате подобных действий в России либо произошла бы авария, либо, случись ее каким-то чудом избежать, водителя вынули бы из машины и отдубасили. Мы же доехали целыми и невредимыми. Интересно, откуда у наследников этой древней цивилизации такая терпимость друг к другу? Кто мудро стер жестокость из программы эмоций, учитывая огромное перенаселение в этих местах?
Поднимаюсь в номер, раздеваюсь и в душ. Видимо, не закрыл форточку – комары, возможно малярийные. Вода, струящаяся из крана, сомнительного цвета, беру бутылку минералки. Выключается свет. Рот с трудом воспринимает зубную пасту и щетку. Бреду, натыкаюсь, сажусь на край кровати, ложусь. Ноги на полу, руки вдоль тела, простыня пахнет сыростью. Комары зудят, отбиваюсь, лицу досталось, им нет. Включился свет, встаю, беру бутылку, плетусь в душ – напряжение и духота отступают.
Выхожу из номера. Иду в китайский ресторан. Дешево, вкусно, быстро. Сажусь в такси, медленно рожаю английские слова: «Отвезите в центр, место развлечений, где дискотеки, ночные бары, рестораны». Водитель смотрит на меня с некоторым недоумением, кивает, машина медленно набирает скорость. Силуэты зданий, напоминающих наши пятиэтажки, чередуются с пустынными пейзажами и сооружениями, пережившими свое время. Город быстро погрузился в темноту, сменив дневную суету на ленивую тишину. Машина, подпрыгивая, вписывается в поворот, фары вырывают из мрака кусок освещенного асфальта и булыжники на нем. Водитель бросает автомобиль в сторону – пронесло. Спрашиваю, что это значит. Водитель неторопливо покачивает руль, пытается включить нужную передачу и так же лениво поясняет:
– Дороги плохо освещены. Если машина ломается, оставлять ее на дороге без ограждения опасно, поэтому используют камни. Когда уезжают, забывают их убрать.
– Интересно, но мы могли разбиться.
– Бог всецело занят этой страной, на другие просто не хватает времени. Если он отвлечется, страна погибнет.
Останавливаемся на площади, проблемы с парковкой даже у такси. На фоне общего полумрака здание из белого камня и толпящиеся у входа люди щедро залиты светом. Оставляю водителю несколько рупий и выхожу. Доносятся звуки веселой танцевальной музыки. Молодые мужчины в белых рубашках толпятся у входа, словно стая чаек, ждущих окончания шторма. Двое служащих в униформе приветствуют меня наклоном головы и вежливо интересуются:
– Извините, с кем Вы пришли?
– Один, а какое это имеет значение? – отвечаю я, испытывая некоторую неловкость.
Странно, прямо как дома, вечно какие-то проблемы, чтобы пройти в ночное заведение. Нужен или блат, или каждому, кто попадется на пути, дать денег, которых нет.
– На дискотеку можно пройти только с девушкой, – спокойно объясняет один из служащих.
– Но я приехал из другой страны, где мне взять девушку? – пытаюсь убедительно возражать.
Без тени эмоций служащий продолжает разъяснять правила:
– Молодые люди, которые стоят у входа, тоже пришли без девушек. Они ждут, когда их пригласит девушка, которая придет без пары.
– Вы хотите сказать, что я должен стать в очереди и ждать, когда меня выберут? – Недоумение мое растет.
Если нашим девушкам рассказать, что есть страна, где молодые люди простаивают часами в ожидании, когда их выберут, чтобы просто пройти на дискотеку, они не поверят или начнется паломничество. Готовлюсь к новым открытиям.
– Вам не надо будет стоять в очереди. Если вы понравитесь девушке, она проведет вас. – Своим ответом он пытается успокоить меня или убедить в гуманности правил.
– Я хочу послушать музыку и посмотреть, как танцуют, вот и все, – продолжаю упорствовать.
В ответ молчание и маслянистые глаза, скорее спокойные, чем добрые, и скорее хитрые, чем умные. Представляю, что бы он услышал в России на подобные доводы. Начинаю терять самообладание. Прибегаю к апробированному в таких случаях приему – протягиваю деньги. Не берет. Странно, он не выглядит и наполовину от предлагаемой суммы. Он также спокойно решил продолжить свои объяснения, как плохому ученику:
– Все так говорят, что не будут прикасаться к чужим девушкам, а заканчивается драками, нам это не нужно. Приходите с девушкой и …
Дальше я слушать не стал.
33
Комсомольское собрание завтра в пятнадцать часов. Повестка дня, кроме отчета и выборов секретаря, дополнена сообщением о международном положении. Рядом с объявлением висит карта Индокитая. Флажками отмечены позиции китайских войск. Ханой находится в непосредственной близости от зоны боевых действий. Несколько ребят сбились в стайку и обсуждают, как долго смогут вьетнамцы отбивать массированные танковые атаки китайцев на подступах к столице. Не секрет, что основная задача полка в военное время заключается в уничтожении танков противника. Что следует говорить, когда нужны добровольцы для защиты интернациональных идеалов на далекой чужой земле? А добровольцам этим в среднем девятнадцать лет и навыки ведения боевых действий у них практически отсутствуют?
Сигнал химической атаки обрывает тяжелые раздумья. Грохот сапог заглушает сопутствующие вопросы и распоряжения. В одной руке СКС, в другой противогаз и ОЗК.[12] Выбегаем на место построения. Во время бега противогаз вытаскиваю из сумки и пытаюсь надеть одной рукой, получается плохо, мешает ОЗК. Останавливаемся, поправляю противогаз и развязываю ОЗК. Не могу дышать, забыл открыть заглушку на фильтре противогаза. Исправляю ситуацию. Дышу. Слышно, как воздух бежит по трубкам. Легкие работают, как кузнечные мехи, преодолевая непривычное сопротивление. Натягиваю резиновые чулки поверх кирзовых сапог. Длинная прочная тесьма повисает на шее – в детстве так подвешивали варежки. Резиновый халат с капюшоном после кропотливого соединения специальных зажимов превращается в комбинезон. Теперь длинные резиновые перчатки – и ощущения инопланетянина становятся реальными. Резиновая оболочка прерывает связь с окружающим миром. В этом состоянии гораздо лучше понимаешь рыбу в полиэтиленовом мешке с водой.
Около плаца разбита большая палатка. Звучит приказ ротного:
– Бегом марш!
Один за другим, приоткрывая штору, ныряем в палатку. Внутри полумрак, клубы дыма, дышать тяжело, все как в замедленной съемке. Кто-то падает на колени, пытается сорвать капюшон, хватаем за руки и волоком тащим из палатки. Даже при снятом противогазе Попадюка трудно узнать, глаза и щеки провалились, одни уши, отливающие синевой.
– Ничего страшного, – успокаивает лейтенант Звягин, – это учебный газ. А следующий раз может оказаться не учебный. Чтобы выжить, надо подружиться с противогазом.
Истинный офицер элитных войск, всегда подтянутый, четкий, излишне резкий. Звягин бросает взгляд на очнувшегося Попадюка и отдает очередную команду:
– Рота, стройся. Бегом, марш!
Знакомая лесная дорожка через запотевшие окуляры противогаза напоминает кусок пространства, выхваченный фонарем в темную ночь. Скорость бега ниже обычного, но ощущения сильнее. Впервые в жизни понимаю, что самое страшное голодание – кислородное. Лейтенант Звягин, бежит без противогаза с палкой в руке, отбивающей желание приоткрыть доступ воздуха.
– Противник на высотке справа, вперед, – глухо доносится его очередная команда.
Взбираемся по песчаному косогору между берез и сосен, кустов и муравейников к незримому противнику. Враг коварен, переметнулся на высотку слева. Как только на пути появляются сложные для преодоления уклоны, на их вершинах образуется противник, и мы атакуем. Атака сопровождается периодическими падениями, подъемами, снова падениями, ползаниями, подпрыгиваниями, но несмотря ни на что мы продвигаемся вперед.
Связь с окружающим миром условна. Нога плавает в воде, заполнившей сапог, тот ерзает в резиновом чулке, утонувшем в песке. Тело управлению не поддается, движение происходит по инерции, на силе воли или на какой-то другой энергии, подключение которой в обычных условиях невозможно. Команд не слышу, нахожусь в стае и живу по ее законам. Остановились. Снимаю ОЗК и противогаз. В каждой резиновой перчатке примерно по литру воды, в сапогах озеро.
Не помню ощущений при первом рождении, когда из воды попадаешь на воздух, но второе не забуду. Трудно переоценить ощущение свободного дыхания, когда воздух бесплатный, его много и он не является чьей-то собственностью, как и ты сам.
34
Родители в очередной раз переехали. Съехались с Дорой и Иваном. Разместились в уютной трехкомнатной квартире в Московском районе. Дом кирпичный, но на этом его сходство со сталинскими домами – красивыми фасадами, просторными хоромами – заканчивается. Я родился через год после смерти Сталина, мама ездила в Москву на похороны, плакала. Он ушел из жизни до моего рождения, но оставил тень, которая будет преследовать не только мое поколение. В соседнем подъезде жил известный актер Георгий Жженов. Время всеобщей уравниловки. Привилегией популярности являлась белая «Волга» со статуэткой оленя на капоте – вместо «Оскара» на рабочем столе, который, судя по нашей квартире, и поставить-то было бы некуда.
В первый день, выгуливая собаку, познакомился с коренастым и добродушным парнем. Дружба, как и любовь с первого взгляда, событие редкое, но тем и ценное. Мы учились в разных школах, но это не мешало нам совместно проводить все свободное и несвободное время. Собаки, кошки, попугай плюс родители и двое сыновей в небольшой трехкомнатной распашонке. В центре столовой бильярд с металлическими шарами, размером с лесной орех. Всем всегда хватало места, в том числе и мне, часто ночевавшему в этом доме. Трудно было привыкнуть к бьющему по голове в шесть утра гимну Советского Союза. Трансляционная сеть и доморощенный громкоговоритель использовались в качестве будильника, без перерыва на выходные. В рабочей семье гул заводских труб, так или иначе, врастает в быт.
Пес Шарик олицетворял простоту и радушие дома, сиамские кошки указывали на вероятность возникновения скандалов. Урок женского коварства преподнесла одна из них. Мурлыкание у ног, потягивание на коленях, несколько нежных касаний кончика носа шершавым язычком убаюкали мою бдительность. Мгновенно раскосые глаза стали стеклянными, место язычка заняли острые зубы, а невыразительный хвост распушился словно павлиний. Паузу, в течение которой ее неподвижные глаза изучали мои, зубы сжали нос, как мышь за кончик хвоста, могла позволить себе великая актриса или, как выяснилось, домашняя кошка, в которой живет самка, похожая на женщину, желающую стать великой актрисой.
Серега влился в меня, мою семью и мой класс. Девочка по имени Таня вызвала у него первое сильное чувство. На вечеринках их можно было застать неподвижно сидящими в уголке. Они странствовали в глубинах душ друг друга. Эти путешествия наполняла нежная печаль. Только им ведомо, что они сумели открыть, а что с миром отпустить. Известно лишь то, что Сергей после восьмого класса пошел в профессиональное училище по стопам отца, а Таня, окончив школу с отличием, в институт, она была из обычной еврейской семьи. Их судьбы ненадолго переплелись цветущими ветвями, но корнями не срослись. Мы слишком долго просто смотрели на жизнь, в то время как другие учились от нее брать. Татьяну взяли замуж, а Сергей так и не научился брать.
На проводах Серегиного старшего брата в армию ром перелили в винные бутылки. Первый тост, посвященный данному событию, по русской традиции предусматривал питие до дна. Попытка ускорить процесс перехода от замкнутости к раскованности привела к мгновенному опьянению девичьей половины. Ребята быстро нагнали оторвавшихся девчонок. Я к алкоголю относился сдержанно, и потому для меня празднование свелось к ношению тазиков, перемещению тел и выслушиванию исповедей. Попытка отыскать Сергея в интимном полумраке не увенчалась успехом. Пробравшись к выходу, я спустился на улицу. Теплый летний вечер, яркие звезды на небе бездонной синевы.
Я замыкаюсь в вечности, Идя по бесконечности, Впадаю в нереальности, А миражи в насущности Приносят нерешенности, Закутанные в сложности…Нечаянные строки подчеркнули абсурдность происходящего, но поисков не отменили. На улице Сереги тоже не было. Легко перепрыгивая через ступени и мусорные бачки, коварно притаившиеся на лестничных площадках, я оказался перед незапертой дверью, из которой недавно вышел. Вошел, услышал шорох, открыл стенной шкаф. Кроме вешалок с одеждой и полок с обувью, в нем обнаружились Серега и невысокая, худенькая девушка. Они стояли лицом к лицу, пытаясь раздеть или одеть друг друга. Вряд ли они что-то видели, но тепло, столь щедро выплеснутое ими в незначительный замкнутый объем шкафа, хлестнуло меня стыдной волной.
– Вовка! Как здорово, что ты здесь. Я тут совсем запутался. – Он говорил, медленно расставляя слова и выбрасывая мешающую одежду вместе с вешалками. – Пожалуйста, давай проводим Свету, не сердись.
Пытаясь найти Светину сумочку, захожу в комнату родителей. Молодой человек, стоя на коленях, целует полуобнаженную грудь лежащей на кровати девушки. Дама кончиками пальцев придерживает сползающую голову кавалера. Одно его колено расположилось в тазу, недавно принявшем отвергнутые ее организмом излишки алкоголя. Потому и съезжал. Со стороны монотонное повторение попыток подползти поближе казалось странным, однако участников происходящее полностью устраивало.
Сумочка нашлась, но потерялась девушка.
– Она все время утекает сквозь пальцы, – пожаловался Серега.
Меня пугали его затуманенные глаза, вялая речь, замедленные движения и кайф, испытываемый им от этого состояния. В подобном состоянии находилась и девушка Света, которая также неожиданно появилась вновь, поправляя измятую одежду и растрепанные волосы. Мы с Сережей проводили её до дома, причем мне приходилось контролировать движения обоих, а затем молча отправились в обратный путь, добрались до кровати и провалились в сон.
Наступило утро, угар ушел, а картинка осталась. Волшебная палочка рома продемонстрировала силу воздействия, многократно превышавшую наши собственные возможности по отключению внутренних ограничений и изменяющую восприятие внешнего мира с враждебного на дружелюбное.
35
Прошло несколько часов. Руки-ноги связаны. Во рту затычка с привкусом дерьма. Наконец донеслось ржание и топот. Всадников пять пожаловало. Отворили дверь в сарай, где я делил приют с оставшимися в хозяйстве курами. Развязали ноги и втащили в хату. Так и неймется им батькино место занять. Штабс-капитана сменил поручик.
– Планы изменились господин комиссар, – процедил он сквозь пожелтевшие от табака зубы, – визит в штаб отменяется. Твои красноперые соратники очень оживились, наверное, тебе решили подсобить. Поздно зашевелились. Может, Иван есть желание поделиться, чем намеревался порадовать в этот раз? Сколько с тобой красноармейцев, где они тебя поджидают?
Он замолчал, отпил из кружки и приказал, чтобы меня приподняли. Двое за руки подтащили к печке так, чтобы мог сидеть, и по ходу дела приложили сапогам, хорошо не по голове, а то бы опять сознание потерял.
– Ты, Иван, долго не думай, времени у меня мало. Мать свою пожалей. Неприятно видеть на старости лет, как сына расстреливают. В бога не веруешь, но хоть родителей-то почитаешь, а, Иван?
После этих слов встал и подошел ко мне вплотную. Лицо бледное, глаза как горошины по блюдцу катаются. Может, болен, и через это ненавидит всех?
– Ежели меж нами мужской разговор, – каждое слово вроде заталкиваю в уши и в глаза его лихорадочные всматриваюсь, – к чему мать впутывать? Ты по одну сторону, я по другую. Сегодня твоя взяла, завтра моя улица гуляет. Не балуй, не то аукнется тебе.
Последние слова захлебнулись в крови после увесистого удара по зубам.
– На вопросы отвечай! Не в твоем положении меня стращать, да и молод еще. Давайте мать. – Приказ был адресован двум солдатам, подпиравшим дверь в родительскую горницу.
Мать втащили и посадили на табуретку в углу комнаты, развязав закрывавшую рот повязку. Она смотрела на меня, как прежде, ласково и с любовью. Но привычные искорки потерялись в тонких ручейках слез, из уголков глаз устремившихся на бледные щеки. Ни единого слова, как на похоронах батьки, только слабый стон.
– Повторяю вопрос. Где ожидают бойцы, каково боевое задание? – Голос поручика перешел на высокие ноты и завизжал.
– Хотите, верьте, хотите, не верьте, а чистая правда: соскучился по дому, захотел домашней простокваши. Думал, загляну на часок другой, с мамкой повидаюсь и обратно. – Не знаю почему, но какое-то чувство подсказывало, что надо тянуть время. Последовало несколько ударов. Подняв голову, увидел, что мама лежит на полу.
– Выведите в лес и расстреляйте, чтобы в селе лишний шум не поднимать. Старуха и без того чувств лишилась. Терпеть все это не могу. – Последнюю фразу он пробурчал чертыхаясь.
На улице было свежо. Звезды яркими точками усеяли все небо. Лунный свет помогал различать очертания знакомых домов, гигантских тополей. Скоро начнет светать, хочется увидеть зарю. Пока живешь, все помнится в солнечных лучах. Наверное, сколько не живи, а всегда хочется еще маленько. Идем в ту же сторону, откуда я вечером пришел. Миновали последние хаты. Начинается тропинка, ведущая в лес, но для меня – в рай или в ад. Миновали небольшой овраг, остановились в молодом березняке.
– Хорош с тобой возиться, – негромкие слова конвоира эхом прокатились в ночном безмолвии.
Я обернулся. Две винтовки с черными дырами уставились на меня.
– Не впервой расстреливаете, мужики? – спросил, сам не знаю с чего.
– Ты, это, давай, отвернись, – прозвучало как просьба.
– Не хочу смерть спиной встречать, рассвет хочу увидеть.
В это время один из них набросил мне что-то на голову, и не стало ни солнца, ни луны. Холодно.
– Сейчас закат увидишь. – Слова слились с шумом выстрелов.
Странно, что мертвые не чувствуют боли, мысли где-то роятся. Григорий как живой явился предо мною.
– Ваня, бисов ты сын! Говорил тебе, не лезь в пекло! А тебе все неймется черт такой!
Он мне орал в ухо, крепко обнимал и хлопал по спине. За его спиной в первых лучах восходящего солнца распластались на земле тела двух конвоиров. Поодаль маячили хлопцы из моего отряда. Осознание того, что с жизнью расстался не я, медленно заполняло сознание.
– Мать с трудом в чувство привели, шашкой зубы разнимали. Она и сказала, что тебя в лес повели. Чудом поспели! Недаром бают, что ты заговоренный. Да очнись ты! Светает уже. Задание провалим – пеняй на себя, – продолжал Григорий тормошить меня, подсаживая в седло.
36
Комсомольское собрание начинается с отчета лейтенанта Звягина.
– Товарищи комсомольцы, за отчетный период…
Следует долгое перечисление проведенных собраний, отмеченных грамотами работ по оформлению Ленинской комнаты, принятых и выполненных пунктов соцобязательств.
– Есть ли вопросы к докладчику? – вступает председательствующий на собрании сержант Егоров.
Судя по гробовому молчанию, вопросов нет, или нет желания их задавать, или нет уверенности, что их кто-то услышит, а услышав, не обратит против тебя же. Простое решение – лучше промолчать. Трудно представить, что должно произойти, дабы состоялось искреннее обсуждение неуставных отношений. Они остались за бортом, как отсутствующие по взаимному умолчанию. Интересно, что хотел от меня командир полка? Выявить злостных нарушителей устава в лице старослужащих солдат? Но ведь только слепому не видно, что это система, и сто офицеры нуждаются в подобных методах, как родители, предпочитающие внушению и убеждению физические наказания. Так проще, и результат быстрее. Сержантам развязаны руки, только чтобы никто не видел, а офицеры, естественно, ни сном, ни духом ни о чем таком не ведают. Можно сказать, джентльменское соглашение. Дальше по цепочке идут «старики», которые реализуют доходчивые методы воспитания на практике, при этом объясняя молодым, дескать, нас так же дубасили, потом сами будете. Отлаженная годами схема, по сути, всех устраивает.
В прениях выступил сержант Сидоров, заместитель командира взвода, то есть, Звягина.
– Товарищи комсомольцы, за отчетный период…
Сидоров по всем статьям хороший сержант, у него открытое лицо, честные глаза. Пламенные речи не его стихия, и он монотонно по бумажке кратко повторяет выступление предыдущего оратора с упоминаниями личного примера и личного вклада секретаря. Заканчивает логичным выводом:
– Предлагаю работу секретаря комсомольской организации признать удовлетворительной.
Егоров оглашает результаты голосования.
– Единогласно принято оценить работу секретаря комсомольской организации удовлетворительно.
37
Унижение, терпение и смирение – неотъемлемые составляющие жизни русского человека на протяжении веков. Желание что-то изменить сходит на нет под воздействием памяти о пролитой крови, разбитых судьбах, сомнительных целях, оправдывавших бесконечные жертвы. Мы и так с трудом сидим в лодке, она очень большая, а нас мало, чтобы ею управлять. И постоянно кому-то неймется пустить нас ко дну, хотя мы и сами часто гребем в разные стороны, и ветер, который выбираем, не наполняет паруса, а сносит нас с палубы.
Нелюбовь к человеку со стороны государственной машины имеет глубокие корни. Гнуть Русь-матушку через колено – святое дело! Народ же – кровь России, вот он и должен досыта испить горькой водицы. То ли доброта бесконечная, спрятанная за образом суровым, то ли лень вековая, замешенная на удали небывалой, не дают судить по уму да по совести. Коли сами пути не сыщем, вечно басурманы заморские и прихвостни местные верховодить людьми русскими будут. Свободе русской на любви строиться к ближнему и далекому, доброму и злому, богатому и бедному, дабы душе русской раскрыться и жизнью стариков и старух не стыдиться. Лучше Тютчева не скажешь: «Умом Россию не понять…»
В чем тайна русской души? Где скрыто загадочное предназначение, объясняющее выпавшие страдания, великие достижения и жестокие разочарования?
Бердяев, перебирая струны русской души, считал, что «…государственное овладение необъятными русскими пространствами сопровождалось … подчинением всей жизни государственному интересу и подавлением свободных личных и общественных сил. Всегда было слабо у русских сознание личных прав… русская душа ушиблена ширью, она не видит границ, и эта безграничность не освобождает, а порабощает её… смирение русского человека стало его самосохранением»[13].
38
В пятнадцать лет я вполне соответствовал образу романтического подростка. Первые поэтические строки тому доказательство:
Я не каменный – потрогайте, Я кожаный, живой…Одноклассницы не случайно называли сынком, заигрывая на вечеринках: они не ощущали ответного проявления сексуальной активности в виде зажиманий в темных углах, танцев, рождающих фантазии, поцелуев, объясняющих предназначение языка. Женская доминанта в воспитании привила избыточное чувство страха перед ощущением возможного отказа и веру в интимные отношения только по любви.
Девушка, вызывавшая сердечные страдания, училась в десятом классе, а я был, по моим представлениям, слишком молод, еще только в девятом. Усугубляли и без того безнадежную ситуацию ее серьезные отношения с одноклассником. На этом фоне к проявлялись искренние дружеские чувства соученицам. Правда, следует отметить, что иногда гормоны брали верх над комплексами и идеалами, что неожиданным образом действовало не только на меня.
Отмечали очередной день рождения на квартире именинницы. После традиционного застолья уровень освещенности снизился, и все разбрелись, в зависимости от интересов. В нашей комнате пели под гитару при свечах, в соседней включили магнитофон, и все ринулись танцевать под сводящие с ума ритмы «Beаtles». Я сидел с закрытыми глазами, и тут возникло ощущение, что не я один. Протянул руку – волосы. Длинные, послушные. Пальцы заскользили вниз и коснулись выпуклой груди. Я замер, но рука продолжала очерчивать плавные границы и вскоре наткнулась на препятствие в виде маленьких круглых пуговиц. Я с трудом сдерживал дрожь, глаза открылись сами. Полумрак, трепещущие языки пламени тоже волнуются. Ира спокойно наблюдала за моими действиями. Я плавно расстегнул блузку, появился белоснежный лифчик. Мы часто завязывали их в узлы, прорываясь в раздевалку во время урока физкультуры. Но сейчас он был живой, а на самой вершине – чуткий к прикосновениям бугорок. Ребята рассказывали, что у лифчиков бывают разные застежки. Стесняясь неопытности, я проник пальцами под чашечкой, подхватил грудь снизу и попытался достать. Получалось плохо, мои неумелые действия грозили все испортить. Я догадался, что мешают бретельки, и медленно спустил их с плеч. Повторная попытка наградила меня двумя вырвавшимися на свободу розовыми сосками. Прямо как у Пушкина: «…темницы рухнут, и свобода…»
Послышались шаги, в комнату абсолютно не вовремя зашла Наташа и с умным видом спросила:
– Чем это вы тут занимаетесь?
– Уроки делаем, – ответила Ира, застегивая пуговицы.
– Интересный, однако, у вас предмет, – съязвила Наташа и, не дожидаясь, реакции вышла.
– Я так и не поняла, чего ты хотел, – сказала Ира и тоже удалилась.
«Действительно», – подумал я и тоже ушел.
39
Капли дождя падают в серое кругом и тонут в этом сером, сами становясь серыми. Люди вроде как и не люди, одинаковые, только номера разные, без имен – заключенный номер 8141. И возит этот номер деревянную тачку, камни, песок, снова камни, снова песок. Слякоть расползается, ноги вязнут, колесо крутится, колею накатывает. Смотрю на него и отвлекаюсь, не думаю. Оно словно накручивает мысли на себя, и они становятся растянутые и липкие от воды, как макароны, и теряют форму, цепляются, виснут, и не думаешь, и ничего не происходит, а происходит, так само по себе, а ты сам по себе, и самого-то и нет вовсе, сам-то, кажется, уже и вышел.
Опомнился в кровати. В ней сыро, как на улице. Тело уже не ноет, оно устало кричать, что гибнет. Оно же живое и просит пощады, а ты ему «потерпи, еще немного». А кругом многие номера поменялись, считай, каждый четвертый с телом уже расстался. И тоже страдали, мучились – как, Боже милостивый, такое допускаешь? А может, как отец про муравья спрашивал, хочу ли стать, готов ли стать? А я помню, что нет, не готов, а вот ведь стал. И муравей тянет на себе, и я тяну, но он-то сам тянет, сам считает, что надо, а меня никто не спрашивает, и как перестану, так и погибну. Наступят, думал в детстве, и наступили, и не хотел, а дали, испытание дали, и не по силам. Вижу, что гибну. И что грешен, вижу. Может, то за Варю? Смалодушничал, что из семинарии выгонят, да и жить не на что, а она забеременела. Что делать, не знали, старуха все давала хинин, сулему, яд такой с ртутью, вроде еще и порох с вином, но ничего не помогало. Денег, сколько было, дал на дорогу, уехала к родственнице, а что и как дальше, не знаю – ни с ней, ни с ребенком.
Семинарию я окончил и был направлен в Успенскую церковь, где и увидел Елену на Святом Причастии. Увидел и забыть не смог, она все приходила, за упокой свечи ставила, молилась, тяжело ей было. Встречались недолго, и дала согласие женой моей быть, родились у нас сын и дочь. Поместье у родителей Елены изъяли, пришлось своим хозяйством обзаводиться, а тут начались гонения. Начались-то они давно, но теперь как косой косили, повсеместно сельских священников арестовывали. Пришли из НКВД, предъявили ордер на обыск и арест. Как они написали, поп Радзиевский оказался виноват, что устраивал крестные ходы по селу с иконами без ведома сельского совета. Решали вину три человека, сидели меж собой разговаривали – что есть я, что нет. Что есть жизнь человека, и что не-жизнь? Не они давали её, а лишить могут, ничего не стоит. И защиты никакой – какая защита? Или расстреляют, мол, против власти был и агитировал, или сам на себя наговоришь, чтобы не мучаться.
Капитан по фамилии Иголкин все чихал, то ли табак нюхал, то ли простужен был. худой, лицо острое и при том свете, казалось, зеленоватое. Вызвал меня и говорит:
– Что, контра поповщина, и свидетели на тебя есть, и с кулаками в друзьях, мол, опора для села – всё есть, легко по первой категории пойдешь.
– И что означает эта первая категория, – спрашиваю, хотя уж понял, что все бесполезно.
А он через стол перевесился, наверное, чтобы я лучше его слышал:
– Расстрел, вот что. Но если дураком не будешь, то, может, десяткой отделаешься без права переписки.
Я уж и не знаю, что говорить.
– А что от меня-то зависит…?
– Признаешь, раскаешься, вот тогда постараюсь, так и по второй категории пойдешь, у меня тут есть еще местечко, смотри, пока не поздно, а то кто другой займет, а тогда уж не обессудь…
Он опять расчихался, аж зашелся, бумагу положил. Там вроде было, что я всё признал и хочу раскаяться – не помню уже, что писал, не верил, что жить буду… Он бумагу взял и как бы спустился ко мне, словно небезразлична ему жизнь моя, и говорит:
– Ты уж прости. У нас на вас, попов, разнарядка, сколько по первой, сколько по второй. Ты мне упрощаешь мое дело, и я тебе иду на встречу, ты хоть и поп. Понимаешь, время сейчас такое: ты – это все старое, а мы – все новое. Давай уж, расставайся со старым, тогда и жить сможешь, иначе зачистят… Ну, всё, иди.
Он сел за стол и закрыл папку, видимо, мою. Папка тоненькая, но я весь в ней, и на ней написали, что со мной делать.
Вот как он мне жизнь спас и на Беломорканал отправил. Вроде и жизни лишили, и радуешься, что еще дышишь, и веришь, а все же… Так много, Боже, хочу тебе поведать, народу здесь гибнет… Может, они и грешники все, но, помилуй, что же наказание такое суровое, что милости совсем нет и устроен ад на Земле. Суд уже здесь, а судят, Боже, прости меня грешного, сами грешники, руки по локоть в крови, и кто разбирает, виновен или нет? Придумали нам новое название, «каналармейцы», и перековывают, но даже гробов не полагается, хоронят как есть, а уж про отпевание и говорить нечего.
Гулкие шаги приближаются, каблуки глухо ударяют о дощатый пол барака. Над моим ухом гремит:
– Каналармеец номер 8141, встать!
Слезаю со второго яруса (спим по восемь человек), идем по бараку, выводят на улицу. Темно, свет разбросан одинокими точками. Они расплываются и дрожат, и я тоже начинаю дрожать. Если остановят, где света нет, то выстрелят. Страшно и хочется, как маленькому, попросить «не убивайте», а кого просить? Все глухие, только себя слышат. Таких, как они, тоже расстреливают, и не знаешь, кто и жить-то может спокойно, если любого могут расстрелять. Всем идея руководит, её не убить. А она убивает – в головы людские забралась и творит зло. Это людям наказание, что живут головой, а про душу позабыли. И во всем уныние, никто никому не верит и все подозревают друг друга. Света не видно, добра не видно. Верно, что власть уныния есть власть дьявола, и в том, что здесь все серое и темное, и в этом общем унынии и есть его власть. На небе звезд не видно, дождь по лицу слезами течет. Господи Царю, даруй мне зрети прегрешение мое и не осуждать брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Боже, очисти мя грешного, не могу света увидеть в темноте этой, ноги уже подкашиваются. Мука какая ждать выстрела! Не по силам испытания мучительны.
Остановились, свет впереди. Дверь открыли, входим. Ничего не слышу, уши как заложило, звенит, и озноб по телу. Коридоры, опять дверь, просторно, тихо. За столом человек в форме, лысый, совсем без волос, лицо тоже гладкое, кажется, улыбается, и говорит что-то, но тихо. До меня звуки долетают, но я ничего не понимаю. Лысый встает, подходит ко мне, показывает, чтобы сел на обтянутый кожей стул. Я, в лохмотьях, и сесть-то не могу, как одеревенел. А он усаживает, предлагает чай горячий, сахар, сушки. А у меня руки такого цвета, что стыдно чашку взять, и плакать хочется, не знаю, от чего. Может, это такая пытка, когда ждешь смерти, а тебя жалеют, чтобы потом снова убить? Чувствую, что не достоин всего этого, что не место мне здесь, душе больно.
– Да вы не стесняйтесь, пейте, разговор у нас будет долгий. Есть, что обсудить.
Эти слова дошли до меня. Он произнес их медленно, выговаривая каждую букву, и, закончив, продолжал двигать челюстями, будто шарики во рту катал.
– У вас, насколько я понимаю, имеется образование, вы изучали математику, правильно?
Он заложил руки за спину и, немного пританцовывая, принялся расхаживать по комнате. Сделал паузу, ожидая моей реакции. Я подтвердил:
– Да, в семинарии довелось изучать математику.
– Вот и отлично. Надеюсь у вас, Георгий Георгиевич, нет претензий к советской власти? Ваша перековка происходит успешно, иначе говоря, вы признаете справедливость наказания и со свойственным вам смирением принимаете его.
Заканчивая эту фразу, он сел на стул, прямо напротив меня, и взгляд его вонзился мне в тело. Я и не чувствовал его уже, тело своё, а тут сразу ощутил.
– Подписал и признание, и что согласен, еще там…
Говорил я медленно, отвык, и он перебил меня:
– Все это мы знаем, время прошло, ваше мнение сегодня нелишне будет услышать. – На этот раз он встал, красиво развернулся на каблуках и пошел от меня в противоположную сторону комнаты, показывая, что мой ответ мало его интересует.
– Нет у меня никаких и ни к кому претензий…
Он резко обернулся.
– Я про советскую власть спрашивал. – Он замолчал, глаза его снова жили во мне.
– И к советской власти тоже нет.
Не сводя с меня глаз, он несколько повысил голос:
– Тоже нет чего?
– Претензий нет. – Говорю, а по всему телу холод ползет. Не снаружи, внутри.
– Да, смотрю, по капле надо все вытягивать. – Он немного помолчал, а потом, монотонно выговаривая слова с железом в тоне, на одном дыхании произнес: – Вам представляется случай, скажем так, шанс изменить свою жизнь, иначе говоря, выжить. На момент вашего ареста ваша жена была беременна, и теперь вы отец еще одного сына, Юрием назван. У вас два сына и дочь. Так вот, если хотите к семье вернуться и поддерживать её, берите бумагу и пишите, что готовы выполнять любые общие работы, а также имеете определенные навыки в бухгалтерском учете и можете быть тем самым полезны для органов НКВД.
Ничего не связывалось у меня в голове, полная каша. Елена родила сына, и сердце ощутило жизнь, дыхание, родное что-то… и тут сразу накатывает нечто совсем из другого мира, этот учет и бред про работу в органах. Я посмотрел ему в глаза в надежде понять, что это все значит. Он пододвинул мне бумагу и ручку.
– Или вы пишете, или вы умрете – вопрос только времени, а оно у меня заканчивается. Ваша жена за вас ходатайствовала, это только между нами. Пишите скорее, иначе вам уже никто не поможет.
Не укладывается в голове… Что Елена просила, как, кого… Пока меня вели сюда, пережил ожидание выстрела в спину и холод внутри, приближение смерти. Вместо этого предлагают жизнь, за которую платить надо, и цена этой жизни – прожитая жизнь… Ради сохранения жизни и семьи… Боже милостивый, прости раба твоего, отринуть семью не под силу мне! Может, слаб я, может, веры мало, что хорошо будет с ними все – так мои силы здесь выпили. Живым не себя не числю – труп ходячий и тачку толкающий.
40
Выборы секретаря, заявленные вторым вопросом собрания, прошли в том же духе. Все единогласно поддержали мою кандидатуру, потому что ее выдвинули. Не уверен, что «стариков» это сильно обрадовало. Пока голосовали, я мучительно искал в голове правильную форму слова, означавшего выпавшее на мою долю нелепое воззвание к добровольческой миссии. И вдруг я понял, что убеждать и уговаривать никого не потребуется.
– Благодарю за оказанную честь. Будучи секретарем, постараюсь оправдать ваше доверие. Первым мое обращение к вам связано с событиями во Вьетнаме. Возможно, от нашей страны потребуется оказание вооруженной помощи. Тех, кто готов добровольцем отправиться во Вьетнам для оказания интернациональной помощи братскому народу, прошу написать заявления в свободной форме.
После собрания на столе лежали, заполненные разными мальчишескими почерками, заявления. Исключений не было. Последнее я написал сам. К командиру полка я направлялся, испытывая гордость за широту русской души, отравленную горечью от тупость военных чиновников, безответственно тративших жизни молодых ребят. Комполка на месте не оказалось, заявления с готовностью принял замполит.
Все происходит словно бы по умолчанию. Мы все время должны. Кто-то когда-то кому-то споет: «Если надо мы умрем, но вот только зачем?»
Герасименко прервал терзавшие меня думы:
– Через пятнадцать минут начинается футбольный матч на первенство полка.
Совсем вылетело из головы.
– Саша, кто выбирает состав?
– Рота участвует двумя составами. Одна команда из «стариков» и офицеров, вторая из нас. Тебя ребята избрали секретарем комсомольской организации, по совместительству будешь капитаном команды, – прозвучало как вопрос решенный и обсуждению не подлежащий.
Все собрались у футбольного поля, своеобразие коего легко объяснялось использованием вместо спортивной обуви кирзовых сапог. Желание постоять за свою честь в спортивном бою читалось невооруженным взглядом. Быстро договорились о расстановке. Играем вместе первый раз, поэтому начинаем с одним нападающим в моем лице. Толчки и угрозы сопровождают практически каждый игровой эпизод. Сапоги представляют собой грозное оружие – если не успеваешь убрать ногу, острая боль пронзает всё тело. Сталкиваюсь с лейтенантом Титовым, оба падаем, свистка не слышим.
– Ты молодец, хорошо играешь.
Доброжелательность удивила. Особенно на фоне тут же последовавшего толчка спину со словами:
– Добегаешься, секретарь.
Первый тайм закончился нулевой ничьей. Усталость давала себя знать, но желание победить только усилилось. Во втором тайме мы сумели активизироваться, подняли головы от мяча на поле, увидели партнеров и создали несколько опасных моментов.
Назревал гол, до конца матча оставались считанные минуты. Коля Суворов, как истинный полководец, изменил направление атаки, послав мяч на противоположный фланг Косте Фуфаеву. Того грубо снесли, свистка опять не последовало. В последнее мгновение Костя успел вытолкнуть мяч на свободное пространство. Мне удалось уйти от опекавшего меня защитника и выйти один на один с вратарем. Ворота казались достаточно большими, вратарь замешкался с выходом. Предвкушение забитого гола вызвало прилив адреналина. Я уже перенес вес с правой ноги на левую, чтобы спокойно ударить в свободный угол ворот, и в этот момент все планы смешала дикая боль в колене Заваливаясь набок, я все же успел левой ногой толкнуть мяч.
Все происходило в замедленной съемке: падение, движение скосившего меня защитника, прыжок вратаря, скольжение мяча мимо ворот, чей-то напряженный вздох и чей-то облегченный выдох. «Как важно, – подумал я, скрепя зубами, – сначала закончить дело, а потом уже радоваться». Тяжело расставаться с переживанием того, что не случилось. Встать не удалось, колено распухало на глазах, больно. В глазах соперников только сочувствие, равнодушных не было. Потом носилки и уже знакомая медсанчасть. Первый осмотр ничего не прояснил.
– Завтра в госпиталь на снимок и консультацию.
Явился Розман, по сравнению с первым знакомством, внимателен. Подобные люди не меняются – меняются обстоятельства, а они тонко чувствуют направление ветра и корректируют курс.
– «Старики» хотят с тобой поговорить, попозже зайдут, не ложись спать.
Выключил свет и вышел.
41
В школе проводился конкурс чтецов. Творческие мероприятия будили радость созидания. Комсомол действительно объединял молодежь, но не идеями, а походами, слетами, концертами, высокими кострами, горячими речами и нежными поцелуями при расставании. Время высоких идеалов стимулировало мои неосознанные устремления к таинственной гавани театрального искусства. Мамина жажда прекрасного, вырываясь на просторы, увлекала в водоворот культурной жизни города и меня. Встречи с искусством великих актеров и музыкантов оставляли ощущение сопричастности, величия паузы и бесконечности за пределами сказанного.
Мне выпало читать стихотворение Лермонтова. При чтении строчек: «Отворите мне темницу,// Дайте мне сиянье дня,// Черноглазую девицу,// Черногривого коня…» – голос претерпевал необъяснимую трансформацию. В моем легковесном теле словно раздувались органные мехи. Поток энергии, преобразованный в звук, гулом отражался от стен актового зала и вспыхивал в глазах неравнодушных. Я казался сам себе проводником чего-то свыше, словно художник, повторяющий движения невидимой руки. На вечере присутствовал режиссер комсомольского театра. Неожиданно, в первую очередь для себя, он пригласил меня на репетицию. Так я попал в труппу.
Ребята и девушки в возрасте от пятнадцати до двадцати лет собирались вечерами, учились сценическому движению и речи, вживались в образы и делились впечатлениями. Маленький принц Сент-Экзюпери и Ромео Шекспира – роли, которые одновременно и подарок, и испытание. Летом театр отправился на гастроли – Киров, Йошкар-Ола, Выборг. Силуэт отца медленно исчезал на перроне, в глазах щипало. Расставание с родительским теплом не ценишь днем, а ночью горестно рыдаешь.
Двое влюбленных, Петя, ударник популярной в те времена группы «Мифы», и Катя, искрометная, обаятельная, нежная девушка, взяли меня под крыло, словно брат и сестра. «Мы в ответе за тех, кого приручили», – слова Маленького принца, облетевшие мир, прибили наши сердца к неизвестной крошечной планете, где мы любили розу и за шипы тоже. Жили в студенческих общежитиях, школах, реже в гостиницах. Подъем в восемь утра и часовые занятия по сценическому движению. Звучит красиво, но пробуждение растяжками и нагрузками окрашивало утро в не самые радужные тона. Достаточно скудный завтрак, практически полуголодный образ жизни. Постоянная мечта о еде в сочетании с влюбленностью рождали атмосферу творчества. Сценическая речь, непрерывный треск скороговорок для улучшения артикуляции. Мы сокрушали трагизмом, скрипели иронией, визжали сатирой, учили роли, репетировали и снова учили. Играли. С трудом добирались до кровати, засыпали на полуслове.
Актерская жизнь, как пир во время чумы, как наркотик для больной души. Представители древних профессий лицедеев и проституток, за редким исключением, спят, где упали, и едят, что подадут. Извечный вопрос о получении роли чрез постель. Можно отказать и не спать, можно ждать и не встретить, можно согласиться и получить роль, сыграть, но никем не стать. Выбираешь не ты, выбирают тебя – и режиссер, и зритель, и это соль актерского бытия.
Родители иногда присылали деньги, мы устраивали сладкие вечера, ходили в мороженицы, и, как это бывает всегда, не зная меры, теряли голоса. Мы были безумны, молоды и красивы, бурлившая энергия сглаживала неровности и бросала на углы. Стихи Павла Когана: «Я с детства не любил овал,// Я с детства угол рисовал, – попадали в ритм пульса. Читая строки Эдуарда Багрицкого: «Боевые лошади уносили нас,// На широкой площади убивали нас», – я юным красноармейцем Иваном проносился под топот копыт, свист пуль и шашек – вдаль. Мы шли шеренгами в бой, вспыхивали красные прожектора, стреляла барабанная дробь, красная шелковая гладь вздымалась волнами и уносила жизни. Сцена казалась горячей от пролитой крови, гробовая тишина стояла в зале, на глазах у зрителей проступали слезы. Находясь в замкнутом пространстве, вдыхая один воздух, души сообщаются и обогащаются, впитывая выплеснувшуюся энергию.
Нас перевозили с места на место на небольших автобусах и грузовичках с открытым верхом вместе с матрасами и небогатым скарбом. Жизнь на колесах придавала дополнительное ощущение скорости. Струящиеся на ветру девичьи волосы, влюбленные глаза, обжигающие воздух и наготу, песни, непонятно почему застрявшие надолго в мозгу: «Он так же, как и ты, пришел из темноты,// Мы все туда уйдем, поджав хвосты».
На очередную просьбу выслать немного денег, отец отправил перевод с инструкцией по расходованию средств: «Купи билет и срочно возвращайся».
42
Двое суток пересадок и ожидания, страха, что на поезд нападут и ограбят. Еду просить за Георгия, детей оставила с мамой. Сейчас всем тяжело, в городах еще хуже – все по карточкам, но в деревнях неурожай. Троих детей растить очень тяжело, свое хозяйство, хоть и небольшое, требует ухода – лошадь, корова, немного земли. Дети, конечно, помогают, но они еще маленькие, а самой тяжело, опыта в этом немного, всегда нанимали кого-то в помощь.
Кто мог представить, что жизнь так повернется, что юность, наполненная предвкушением встречи с миром, ожидание радости от всего нового канет без следа. Начиная с войны, с гибели Володи, а потом и папы, (он воевал в армии Корнилова), всё покатилось практически без моего участия. Встреча с Георгием. Я тогда была, как в тумане. Он попросил моей руки, я согласилась. Больше никогда не бывать мне той девушкой, которая летала и, казалось, могла все на свете. Я уже давно только хожу, но, как учил папа, стараюсь не сгибать спину, шагать прямо, с высоко поднятой головой. Но не летать, нет. Крылья отпали с гибелью Володи. Было невыносимо больно, во мне что-то умерло, но надо жить, растить детей и сделать все, чтобы спасти Георгия. Он в опасности, не знаю, каково ему там, но наверняка безумно тяжело.
Дедушка написал, что перебрался в Париж, но жить трудно, и вообще всю эту эмиграцию терпеть не может и хочет домой, в свою родную Ахтырку. Мне он порекомендовал связаться с братом Володи, тот занимает высокий пост в НКВД. Родные братья, а какими разными дорогами пошли. Написала Володиному брату письмо, он ответил, что будет на строительстве канала, назначил встречу, был достаточно любезен.
Сорвалась практически без вещей, даже «думочку» не взяла. Раньше всегда брала ее с собой, на ней хорошо спится, но эта поездка особая. Всё меняется, многое понять трудно и странно. Как так получилось, что ничего нет? Всё нужно доставать, ничего не купить, нужны какие-то знакомства. выражение теперь есть такое, «по блату». А почему раньше все было, полки ломились? Люди-то те же – что с ними случилось? Пусть, я уже смирилась, мне особо ничего не надо, донашиваю свои вещи, хорошо, что почти не изменилась, хотя несколько седых волос увидела, вроде рано, а может и нет.
На перроне меня встречают, мужчина в кожаной куртке.
– Елена Константиновна, я правильно понимаю?
– Да, я Елена Константиновна, а вы от Павла Петровича Вяземского?
Он кивнул, взял мой саквояж, и провел до машины.
– Дорога не быстрая, да и дорогой назвать трудно, ухабина на колдобине. Если устали, покемарьте, так и не заметите, как доедем.
Меня действительно укачало, и этот непрекращающийся дождь, и прыгающие силуэты деревьев, и просторы, бесконечные просторы России, и вечная борьба. Я родилась на границе интересов и повторяю судьбу замка в Несвиже, который то разрушали, то отстраивали заново. То он обласкан Радзивиллами, едва ли не самым богатым родом в Европе, то опять брошен на растерзание; то между Швецией, Польшей и Россией, то между Наполеоновской Францией и Россией. Так и у меня в сердце Россия отца, а в крови Польша матери, и еще эта магия рода, эти двенадцать апостолов в человеческий рост, подаренные Папой Римским. Они хранились в замке и покровительствовали роду, а может, были его проклятьем.
Мы остановились. Шлагбаум, ограждения, колючая проволока, военные, проверяют документы. Всё нормально, нас пропускают, и сразу чувствуется замкнутый мир, даже дышится по-другому. И кажется, что здесь все одного цвета, всем правит страх. Лиц не видно, все смотрят в землю, а на земле лужи, перемешанные с глиной, землей. выходим из машины. Пытаюсь ставить ноги так, чтобы не утонуть в этой грязи. Заходим в здание. Здесь тоже охрана, тоже проверяют документы. Молодой офицер провожает до двери, открывает, вхожу. За столом сидит лысый мужчина и, не поднимая головы, что-то пишет.
– Павел Петрович, гражданка Арцыбашева, – доложил мой провожатый.
Дверь закрылась. Хозяин кабинета медленно поднял глаза.
– С приездом вас Елена Константиновна. Арцыбашева. Значит, сохранили девичью фамилию.
– Да, в память об отце.
Я продолжала стоять у входа, держа перед собой двумя руками маленький саквояж.
– Это что, весь багаж? Со слов Володи я представлял вас иначе, хотя понимаю, многое изменилось. – Он встал.
Странно. Братья, но Володя высокий, стройный, а этот ниже меня ростом, такой лоснистый, и весь перекатывается, как на шарнирах.
– Будем считать, что мы познакомились. Давайте ваш саквояж, присаживайтесь, – он указал жестом на отдельно стоящий столик, накрытый на две персоны, и продолжил: – Думаю, вы не успели позавтракать. Вот, чем богаты. Конечно, не Париж, но жить можно, – он улыбнулся, налил горячего кофе. – Вам со сливками. – Опять улыбнулся и показал на сахар.
– В Париже была еще девочкой, и уже не помню, как там завтракают. Кажется, ничего особенного, или просто не отложилось.
Он медленно прихлебывал кофе, наблюдая за мной. Мне было трудно бороться с искушением, я давно не видела таких продуктов.
– Может, ваш дедушка делится впечатлениями? Он ведь сейчас там.
Неприятное чувство пронзило меня, словно в моей жизни копошится кто-то чужой.
– Мы редко переписываемся, там тоже сейчас непросто.
Казалось, он не слушает, а читает меня.
– Конечно, кому сейчас легко. А как поживает ваша мама? Она, если не ошибаюсь, из Радзивиллов.
Похоже, чувство постороннего копошения не покинет меня, а будет только усиливаться, пока я здесь. Хорошо, если сумею до конца держать себя в руках. Папа учил считать про себя и не отвечать, пока полностью не овладеешь собой.
– Спасибо, все хорошо. Она осталась с детьми, мне не на кого больше положиться. Да, мама принадлежит к одной из ветвей древнего рода Радзивиллов. вы и так все знаете, зачем спрашиваете? – Я попыталась поймать его взгляд, но его больше интересовала форма моей груди, чем мои же слова.
– Отчего же, например, я ничего не знаю о судьбе двенадцати апостолов. А ведь очень интересно, вдруг вам что-нибудь известно. – Он опять улыбнулся, и мне снова показалось, будто он что-то катает во рту, пока молчит.
Павел Петрович встал и заходил по комнате.
– По рассказам, статуи предкам подарил Папа Римский, величиной они были в рост человека и исчезли при отступлении Наполеоновской армии. Когда замок в Несвиже в очередной раз восстанавливали, все подземелья обшарили, но ничего не нашли. Это еще в прошлом веке было.
– Вот видите, сколько интересного, как всё между собой связано! Многие ценности Радзивиллов хранятся в Ленинграде, в Эрмитаже. вы, кстати, не знакомы с Янушем Радзивиллом? Он член Сейма, кажется, у него много друзей в Германии. Мама же переписывается с родственниками?
Он снова сел напротив меня, видимо, это было важно для него.
– Нет, не знакома, мы живем уединенно, и довольно давно. Мама политикой не интересуется и никогда не интересовалась, а мне в Германии не доводилось бывать.
Он выслушал мой ответ и переместился за стол, засыпанный бумагами, папками.
– Пересядьте сюда, пожалуйста. – В голосе появились металлические нотки, а передо мной лег лист бумаги. – Пишите, что обязуетесь не разглашать содержание нашего разговора.
Я приехала просить о досрочном освобождении Георгия, но об это пока ни слова. Что всё это значит?
– Извините, Павел Петрович, я вам писала, что…
Он достаточно резко перебил меня:
– Я знаю. Пишите то, что я говорю.
Он диктовал, а я аккуратно укладывала буквы на чистый лист бумаги. Потом он забрал его у меня, прочёл и убрал в папку.
– Сейчас вы поедете с человеком, который вас привез. Вечером я заеду за вами, и мы продолжим наш разговор.
Меня проводили до машины. Мы выехали с окруженной заборами территории, снова тряска, ухабы. Что происходит, зачем я сюда приехала, куда меня везут? Добрались до небольшого города, остановились у какого-то здания, водитель проводил меня на второй этаж в скромную квартирку.
– За вами заедут через два часа, – проговорил он быстро и оставил меня одну.
Что все это значит? Сама принялась ходить из угла в угол. Всегда ненавидела неопределенность, а здесь ещё и мутно. Эти взгляды, эта манера разговаривать, а ты как подопытный кролик. Ужас, что люди создают такие заборы. Колючая проволока, недоверие, страх – звери… Нет, звери так не поступают, они не убивают тысячами, да еще себе подобных. А здесь убивают или сажают за решетку, чтобы иметь власть над другими, которые тоже боятся попасть за решетку. Жизнь, построенная на взаимном страхе. Хорошо, я живу так далеко от этого всего, но оно все равно коснулось моей семьи, никуда от него не спрятаться. Я свернулась калачиком на кровати и незаметно уснула, сказалась долгая дорога.
Разбудил стук в дверь. Подошла, спросила:
– Павел Петрович, это вы?
– Да, спускайтесь, жду вас в машине. Поедем, поужинаем.
Посмотрела на себя в зеркало: уставшая, а главное, потухшая. Ботинки все в грязи – потерла. Поправила волосы, да косу никуда не денешь.
Он стоял около машины, открыл дверь, пахло сигаретами.
– Извините, что накурено, много работы, не расслабиться.
Он молча вел машину, чувствовалось, что тоже напряжен. Остановились у здания с светящейся вывеской ресторана. Посетителей было немного. Нас встретили, проводили к столику в глубине зала, в нише, и задернули плотную занавеску.
– Здесь будет удобно говорить, Елена Константиновна. Позвольте называть вас Еленой… Как вы понимаете, то, о чем вы просите, предполагает весьма сложную процедуру, не буду даже рассказывать…
Из-за занавески появилось лицо. Павел Петрович прервался на полуслове и обратился к официанту, или это был метрдотель? А может, и то, и другое в одном лице, притом очень скользком.
– Ужин на двоих, полагаюсь на ваш выбор. И вино какое-нибудь приличное.
Человек поклонился и исчез.
Его глаза опять изучали меня. Он извлек из кармана фотографию – мою фотографию! Нет, это была Володина фотография, подаренная мной при нашей последней встрече. Он как чувствовал и попросил ее у меня на память. Держу карточку и чувствую, как он держал её, даже спустя пятнадцать лет она сохранила его тепло.
– Откуда она у вас?
– Она стояла у него на столе. Все думали, что война быстро и победоносно закончится. Давайте уже приступим к ужину и выпьем за встречу. Надеялся познакомиться с вами при иных обстоятельствах, но что делать, у жизни свое видение…
Сделав глоток, поставила фужер.
– Павел Петрович, если вы не против, давайте обсудим вопрос о досрочном освобождении Георгия. Я ради этого сюда приехала.
Курица на тарелке занимала его куда больше, чем мое замечание.
– Елена, думаю, вы понимаете, что наша встреча стала возможна исключительно из моего глубоко расположения к вам, желания лично познакомиться и оказать посильную помощь. Все завалено просьбами о спасении, у каждого своя трагедия, уместно будет сказать, что когда лес рубят, щепки летят.
Снова считаю про себя, мне трудно согласиться, что люди за этими заборами – щепки, что идёт естественный процесс. Но кого интересует мое мнение?
– Спасибо, что нашли время встретиться, я вам очень благодарна.
Он аккуратно сложил приборы на тарелку и благостно откинулся на спинку стула.
– Вы совсем не едите и не пьёте. Повар из Ленинграда, в «Метрополе» работал. Вот тоже занесло, но благодаря ему здесь хотя бы можно прилично поесть.
– Спасибо, мы теперь очень скромно питаемся, привыкла. Да и волнуюсь – мы все не можем перейти к интересующей меня теме.
Он вытер салфеткой рот, встал, наклонился ко мне.
– Здесь мы не сможем обсудить этот вопрос, он требует абсолютной конфиденциальности. Надеюсь, вы это понимаете. Если закончили, можем ехать.
Машина, повиляв по ночным улицам, остановилась у здания, где я оставила свой саквояж. Павел Петрович попросил ключ и открыл дверь. Мы зашли так тихо, словно прятались от кого-то.
– Свет не включайте, садитесь и слушайте. Есть один способ решить ваше дело. Вы подпишете, что с вами проведена определенная работа и вы готовы к сотрудничеству с нами. Вы оба образованные люди, мы подыщем вам работу, думаю, этим все и ограничится. Вряд ли вы понадобитесь для оперативных заданий, но зато сможете жить вместе. Подчеркиваю, жить. Среди так называемых каналармейцев гибнет более пятисот человек в день…
У меня зазвенело в ушах. Почему мне выпала такая дорога? За что мне все это?
– Не говоря уже обо мне, почему вы думаете, что Георгий согласится?
– Из его дела следует, что не имеет выраженных политических убеждений. А что до религиозных, так пусть себе верует. Уж лучше живому и с семьей, чем без гроба закапают. Доверьтесь мне, Елена, я знаю, что и как сделать. Но это не всё. У каждого есть свои слабости, и моя слабость это вы. Раз уж так случилось, эту ночь мы проведем вместе. Вы мне ночь, а я вам – жизнь мужа.
Даже считать про себя уже не могла. Наверное следовало догадаться, он так неотрывно смотрел на мою грудь… Но услышать подобное предложение, нет, не предложение, а ультиматум, из уст брата Володи…!
– Это подло, – вырвалось у меня.
Он стал медленно расстёгивать ремень.
– Я превышаю свои полномочия ради вас, рискую ради вас. Может, вам кажется, что цена слишком высока. Но эта ночь пройдет, и наступят новые, а жизнь мужа вам никто не вернет.
Он подошел вплотную и начал меня раздевать. Казалось, всё происходит не со мной, такого просто не могло быть. Что? Почему его сопящая голова у меня на плече? Почему капли его пота падают на мое тело? И вообще, мое ли это тело? Я его не чувствовала…
Уходя затемно, он сказал:
– Поезжайте домой, вас вызовут. Билеты на столе, машина за вами придет в восемь утра.
43
Дверь открылась. Вошли младший сержант Егоров и рядовой Смолин, он же Сергей.
– Как нога? – спросил Егоров, как всегда сухо, четко. В руках он что-то вертел, и дистанция, которую он всегда держал при разговоре с подчиненными, на этот раз не ощущалась. – Ходить можешь?
Вопрос задан был отнюдь не из учтивости, не в его это было стиле.
– Наложили лангету, опираться удается, но сгибается плохо. Завтра повезут в госпиталь. Думаю, ничего страшного. – Отвечать было неловко, будто я инвалид какой-то.
– Мы тут с ребятами посоветовались… – начал Сергей и продолжил после небольшой паузы: – Если спросят, как это произошло, не говори, что на футболе. Начнут выяснять, могут запретить проведение матчей, так уже бывало. Им это проще сделать, чем выдать какие-нибудь кеды.
– Ладно, скажу, что упал с лестницы, когда возвращались с зарядки, – предложил я первое, что пришло в голову.
– Ребята еще просили передать привет и чтобы быстрей выздоравливал.
– Играл ты здорово, скоро одной командой за роту сыграем, – добавил Сергей, и они вышли из палаты.
«Отторжение, – подумал я, – меняется на посвящение в члены «семьи» или, точнее, касты».
Около десяти утра ефрейтор Розман зашел в палату. Солнце грустило за облаками, а УАЗик – у входа в медсанчасть. Приходилось скакать на левой ноге, правая при попытке на нее наступить высекала искры из глаз. Кто-то подхватил меня под руку и помог забраться в машину. Широкую открытую улыбку Саши Герасименко трудно не узнать.
– Поправляйся! Ребята передают, что секретарю долго болеть нельзя, он должен быть в строю! – прокричал он вслед подпрыгивающему автомобилю с красным крестом на борту.
Странно наблюдать неоднократно политые потом дорожки из окна машины, как и палатки на озере во время утреннего кросса. Открываются ворота, машина набирает скорость и движется в направлении Ленинграда. Пестрые домики, юркие «Жигули», медлительные коровы. Цветастые кофточки и белые рубашки, серые юбки и брюки – как необычны они, эти женщины и мужчины. Километров за пятнадцать до города сворачиваем, местная дорога приводит к большим зеленым металлическим воротам.
Госпиталь живет своей медицинской жизнью. Больные в синих пижамах, офицеры и санитары в белых халатах, медсестры в ореоле мечты. Из приемного отделения попадаю в четырехместную палату. Седовласый подполковник внимательно осматривает ногу, просит пошевелить пальцами, размышляет вслух:
– На перелом не похоже, но ушиб серьезный, отправляйся-ка ты, голубчик, на рентген.
Появился санитар с костылями, показал, как их регулировать по росту. Новая встреча с данным снарядом легла на старый опыт и тайную печаль. Меньше всего хотелось снова на них застрять. Технику прыгания по лестницам восстановил, пока искал рентгеновский кабинет. Там меня уложили на стол и сделали снимки в двух проекциях.
– Свободен, – привычно прозвучало из уст военного врача.
Желание посмотреть снимки как-то улетучилось вместе со словом «свободен». В палате новенького дожидались с нескрываемым интересом.
– Откуда будешь? – спросил улыбчивый розовощекий парень с забинтованной ногой, восседавший в центре палаты на стуле.
– Из роты Почетного караула, – гордо ответил и подумал: «Вот ведь чисто русская черта – критиковать все, что происходит в стране, семье, роте, но за пределами объекта критики насмерть отстаивать его достоинства».
– Служишь, похоже, недавно, – подметил он.
– Весеннего призыва, по волосам заметно? – поинтересовался я с искренним любопытством. Компрометирующая «лимона» форма на мне отсутствовала.
– По глазам, – рассмеялся он. – Не обижайся, все приходят сначала замотанные. Обращал внимание, люди, когда с курорта возвращаются, у них глаза светятся? На голову ничего не давит – и результат на лицо. Здесь редкое сочетание наблюдается: командиров нет, медсестры есть, караулов нет, самоволки есть. Считай, тебе повезло.
– С родными видеться разрешают? – спросил я, представив долгожданную встречу с женой и родителями.
– А где они живут? – поинтересовался он.
– В Ленинграде, в центре, у Казанского собора.
Наш разговор прервали разносившие обед санитарки. Появление женщин возрождает в памяти ощущение заботы. Долгое время нещадно подавляемое, оно радостно выпрыгивает из закоулков души, и кажется, что вот сейчас к тебе прикоснутся ласковые и добрые руки, накроют стол, и блюда будут излучать чудесный аромат с привкусом любви. И ты тянешься к дивному видению, но рука упирается в деревянную тумбочку, задевая алюминиевые ложку с вилкой, и реальность разворачивают нахлынувшие воспоминания в обратный путь.
44
Опыт передвижения с дополнительной опорой мне довелось приобрести сразу после школы. Я тогда загремел на девять месяцев в санаторий и три из них проковылял на костылях. Молодые ребята и девушки надолго были прикованы к костылям, корсетам, аппарату Илизарова.
Сергей как-то навестил меня там вместе с пышногрудой блондинкой Верой. Маленький носик у нее соседствовал с большим ртом, украшенным красными спелыми губами, и большими карими глазами. Как говорится, есть, на что посмотреть, да почитать нечего.
Мы с ней несколько раз встречались еще до санатория. Ее старшая сестра, отвечая на телефонные звонки, завораживала пьянящим голосом и задаваемыми этим голосом вопросами.
– Я слышала, ты очень интересный мальчик. Наверное, тебя не научили, как надо вести себя с девушками, чтобы не ты им звонил, а они тебе телефон обрывали.
Следовало мое невнятное бормотание и очередная подколка с ее стороны:
– Вера говорила, вы целовались. Тебе нравится целоваться?
От ее молчания, ее дыхания кружилась голова.
– Думаю, да, – выдавил я. Слушать было приятнее, чем говорить.
– Поцелуй дразнит, но не утоляет жажду, – продолжала она, наматывая меня, как нитку на катушку, – мужчина и женщина освобождаются от условностей. Это как игра на рояле: нельзя держать одну ноту слишком долго, если ты, конечно, не гений. – Она снова взяла паузу.
Мне показалось, что она облизнула губы, выдох обжёг мое ухо, я судорожно ждал продолжения, как кролик перед удавом.
– Судя по реакции, опытным тебя не назовешь. Тогда слушай. Последовательно находи новые ноты на теле, кончиках волос, ресниц. Твои слуги – слова, воздух, пальцы, губы, язык. И не пыхти так. Потеряешь контроль над собой и ситуацией. Используй в качестве камертона каждый вздох и стон девушки. – Она замолчала, долетело эхо настойчивого звонка в дверь. – Извини, продолжим в другой раз.
Гудки постепенно развеивали наваждение. Желание встретиться с ней упиралось в страх. Она взрослая. Явлюсь, как ежик из тумана, добрый и светлый, собирай потом иголки.
Прилив воспоминаний на фоне некоторой ущербности больно ударил по самолюбию. Теория относительности в очередной раз получила явное подтверждение: ощущаешь себя здоровым на фоне больных – оказываешься больным на фоне абсолютно здоровых. Попросил Сергея впредь приезжать одного, без ансамбля.
45
Улица большого города. Время около полуночи. Душно. Медленно плетусь, переваривая особенности местных нравов. Ночная жизнь города выпрыгивает из темноты пучками света. Сладкие ароматы вытесняют дневную вонь автомобильных выхлопов. Стайка мужчин вьется у входа в здание. Возможно, очередная дискотека. Однако, парковка не забита и прекрасного пола тоже не видно. Есть касса, где свободно продаются билеты. Никто не задает вопросов. Показываю билет и прохожу в достаточно просторный зал, свет притушен, вдоль приподнятой сцены рядами расставлены столики, возвышающейся над общим уровнем. Сажусь за столик около возвышения, вокруг только мужчины. В памяти всплывает случайное посещение бара, но там говорили по-немецки, а здесь на хинди с примесью английских слов и фраз.
Звучит музыка, завлекающая в сети Востока, сцена выделена светом одинокого прожектора. Плавно покачивая бедрами, появляется танцовщица. Атласные ткани яркой расцветки скрывают очертания тела. Центром притяжения служит обнаженный живот, передающий скрытую энергию женщины через окно откровения. Огромный платок появляется в руках и волшебной мантией скрывает движения. Крылья расправляются, к танцу живота присоединяется большая грудь, покачивается и подпрыгивает. Это не столько танец, сколько упражнения по борьбе с земным притяжением. Кольцо платка смыкается, интригуя жаждущих продолжения зрителей. Танцовщица подходит к краю сцены и на некоторое время застывает, открыв взорам правой части зала нечто таинственное. Затем превращается в живую ткань и отступает в центр сцены. Аналогичное действие повторяется для зрителей центральной части зала, и, наконец, очередь доходит до нас. Густые черные вьющиеся волосы занимают центр композиции и таким образом завершают картину. Немая и неподвижная, ограниченная временем и пространством нагота, должна, но замыслу постановщиков, окончательно заворожить голодные мужские умы. Окружающие меня мужчины сидят неподвижно, только глаза живо реагируют на происходящее, сокращая расстояние между зримым и желаемым.
Танцовщица собирает вещи, удаляется за ширму, появляется в первичном одеянии, кланяется и под бурные аплодисменты спускается в зал. Коснувшись бедром стола, она останавливается и протягивает мне руку. Сосед в ответ на мой вопросительный взгляд одобрительно кивает. Пожимаю узкую ладонь. Напряжение неопределенности быстро развеивается, подобное она проделывает со всеми зрителями. Очевидно, данная часть выступления вызывает у посетителей самые незабываемые ощущения, ведь это фактически материализация желаний. Танец является только подготовкой к соприкосновению с женщиной.
46
Дверь резко отворилась, ворвавшийся поток воздуха тревожно коснулся Дориных волос, она обернулась Шинель, как и все остальное, всегда сидела на Иване безупречно. Даже свои буйные кудри он держал в узде, натягивая на них после бани специальную сетчатую шапочку.
– Быстро одевайся, мало времени. Ничего яркого, примечательного. – Тон означал приказ, подлежащий немедленному исполнению.
– Ваня, а что с Ниной? – Дора не успела продолжить повисший в воздухе вопрос.
Иван взял дочь на руки, поцеловал и, уже выходя из комнаты, быстро проговорил:
– Оставлю у Валентины. Жду в машине у подъезда, поторопись.
Дверь закрылась. Дора быстро переоделась, перебрав свой скудный гардероб. Все без труда умещалось на вешалках в ее отделении недавно купленного шкафа. Хорошо, что это им надо куда-то срочно ехать, а не за ними приехали, подумалось ей.
На улице мело. Снег облепил машину, щетки расчищали два небольших окошка, сквозь них виднелся огонек папиросы. Значит, за рулем Семен, он обычно одну за другой смолит и как-то неприятно их слюнявит и покусывает. Щелкнула дверца.
– Давай уже, залезай. – Иван резко втащил Дору внутрь, и автомобиль сорвался с места. Странно, что он сел сзади, а не как всегда, когда им доводилось выезжать куда-то вместе, на переднее сидение рядом с водителем. – Еедем на операцию, ничего опасного, не волнуйся. Никого под рукой не оказалось, а одному неправильно. Твое дело отвлекать внимание. Если что подозрительное заметишь, дай мне знать – положи ногу на ногу. Скорее всего, прячет у себя дома драгоценности, если конечно не сменил тайник. Но, думаю, успеем, наш визит для него большая неожиданность. Ты все поняла? – Иван говорил, больше с собой, чем с ней, размышляя вслух, и ответа не ждал.
Машина остановилась у небольшого дома. Они вышли, миновали проходной двор, пересекли улицу и нырнули в парадную. Лестница хорошо освещалась, стены украшала мозаика, за коваными решетками прятался лифт. Иван взял жену за руку, достал из кармана крошечный револьвер и прошептал.
– Убери в сумочку, на всякий случай.
На мгновение взгляд его сделался мягким и притягивающим, как магнит. Затем Иван резко развернулся и, не выпуская руки, потащил жену вверх по лестнице. Поднимались быстро и бесшумно, пролет за пролетом, Дора сбилась со счету, на какой этаж они взлетели. Остановились перед большой, увесистой дверью с золотой табличкой. От волнения прочитать фамилию владельца квартиры не удавалось. Звонок послушно выполнял свою роль, извещая хозяев о нашем визите, но Доре показалось, в его дребезге присутствовала тревожная нота.
– Кого вам угодно? – послышался за дверью мягкий мужской голос.
Иван встал сбоку, и по его взгляду Дора поняла, что отвечать следует ей:
– Извините, я приехала к родственникам, с Украины я, из-под Полтавы, да, видно, квартиры перепутала. Может, подскажете?
Мужчина довольно долго рассматривал в глазок вьющиеся темные волосы, выбившиеся из под платка, пока бежали по лестнице, карие глаза спокойно глядевшие на маленькое стеклышко в огромной двери, очертания лица, отмеченные красными яблоками на щеках и точеными скулами. Затем дверь приоткрылась, но осталась на цепочке. Появилось интеллигентное лицо средних лет. Роста он оказался невысокого, лучики света отражались от его лысины. Он удивленно смотрел на пистолет, который Иван приставил к его лбу.
– Открывайте, у нас ордер на обыск. – Иван говорил негромко, чтобы не напугать соседей, но достаточно убедительно, чтобы человек не задавал вопросов.
– Конечно-конечно, так бы сразу и сказали. – Хозяин снял цепочку и открыл дверь. – Не знаю уж, чем моя персона заслужила такое внимание и что вы собираетесь искать у рядового служащего, но если я могу чем-то помочь…
«Странно, – подумала Дора, – почему он решил, что мы пришли что-то искать?» Из прихожей перешли в просторную комнату. В центре красовался огромный стол с резными ногами, бронзовая многоярусная люстра над ним играла разноцветными огоньками в гранях хрусталиков. В буфете у стены за толстыми стеклами мерцали хрустальные фужеры на длинных тонких ножках. Особенно величественно выглядел графин с крышкой в виде короны.
– Присаживайтесь, скажите, что вас интересует, и я сам вам все покажу. – Мужчина говорил быстро, но очень вежливо, даже вкрадчиво.
Дора села около стола. Иван осмотрел комнату, перелистал книги в книжном шкафу, двинулся в другую комнату. Дора обратила внимание, что когда Иван удалялся от них, хозяин делался спокойнее. Он надел очки, но скорее, чтобы скрыть глаза, выдававшие его волнение.
Иван взял стоявшую на специальной подставке трость с инкрустацией на ручке и простучал в нескольких местах паркетный пол.
– Может, все-таки объясните, что ищете?
При этом хозяин достал носовой платок и принялся протирать стекла очков. Он явно пытался себя чем-то занять, чтобы отвлечься от происходящего.
Иван взял стул, бесшумно переставил его и уселся за стол напротив подозреваемого. Дора заметила, что тот снова разволновался, и положила ногу на ногу.
– У вас найдется ручка и чистый лист бумаги? – спросил Иван, пристально оглядывая комнату.
– Да, конечно. – Мужчина вышел в соседнюю комнату, повторяя: «Конечно есть, конечно есть…»
Иван потянул жену за плечо, она коснулась губами его уха и тихо доложила:
– Когда ты удаляешься из комнаты, он успокаивается. Особенно взволновался, когда ты сел за стол.
В это время хозяин вернулся, сел, приготовил бумагу и ручку.
– Вы предлагали нам помощь. – Иван говорил спокойно, сосредоточив свое внимание на собеседнике. – Составьте опись ценностей, которые вы храните у себя дома.
– Ценностей? Вы, наверное, шутите. Что вы имеете в виду? Не понимаю. Ну, например, люстра, она мне досталась от родителей, это писать? – Он снова достал носовой платок, вытер лоб, и опять затеребил очки.
– Если это единственная ценность, так и напишите, что других ценных вещей в квартире не имеется.
Пока мужчина выводил букву за буквой, Иван начал постукивать по столу. Чувствовалось, как каждый удар откликается в его пульсе.
– Извините, но ваши постукивания отвлекают меня. Вы же понимаете, ваш визит не самое приятное посещение, поэтому войдите в мое положение, я немного нервничаю. – Он дождался, пока Иван перестал стучать, и продолжил писать.
– Вы считаете, что люстра наиболее ценный предмет в вашей квартире? А почему не считаете нужным отметить обеденный стол явно ручной работы? – В вопросе Ивана чувствовался подвох.
– Здесь, извините, вся мебель хорошего качества. Если вам угодно, можно всю перечислить. – Когда хозяин произносил эти слова, у него начал подергиваться правый глаз.
– Действительно, очень необычный стол. У него на обратной стороне крючки, я коленкой задела. Неужели он раздвигается? – вставила Дора.
Хозяину вопрос явно не понравился, и она почувствовала на себе скользкий холодный взгляд. Кстати вспомнила о лежавшем в сумочке револьвере, но меньше всего мне хотелось применять на практике Ванины уроки по пользованию оружием.
– Давно не раздвигали, механизм сломан. Так и ни к чему, он и без того достаточно большой. Я написал, что вы просили, и если этого достаточно… – Глухо покашливая, он протянул листок Ивану.
– Ничего не хотите добавить? Вы рискуете существенно ухудшить своё положение. – С этими словами Иван начал снова бодро постукивать по столу.
– Я действительно не понимаю, о чем вы говорите. – Мужчина встал и как-то весь вытянулся. – Если хотите, покажу вам каждый закуток квартиры.
– Принесите нож. – Иван продолжал спокойно сидеть, постукивая по столу.
Хозяин принес столовый нож, кажется, даже серебряный.
– Мне нужен обычный кухонный нож.
На лице Ивана не дрогнул ни один мускул, но по легкому движению кожи на виске Дора поняла, что он волнуется.
На столе появился кухонный нож с деревянной ручкой, почти такой же, как у них дома. Иван встал.
– Помогите мне раздвинуть столешницу, – обратился он к хозяину, медленно сдвигая на себя свою половину.
Крышки со скрипом подались.
– Странно. Стол так давно, по вашим словам, не раскрывался, а пыли нет. – Иван говорил, не отрывая глаз от рук мужчины, чьи пальцы вцепились в деревянную панель и стали белыми, как Дорины кухонные полотенца.
Под верхними панелями обнаружились еще две. Иван взялся за них правой рукой, чтобы перевернуть, как это обычно делается, но те не сдвинулись с места.
– Я же вам говорил, механизм сломан, зря стараетесь. – Вместе со словами силы оставили хозяина, он медленно сполз на стул.
Иван провел рукой по краям верхних крышек, а затем по краям сложенных внутри панелей, воткнул кончик ножа в край одной из них и постучал по ручке. Лезвие пошло вниз. Он часто так делал дома, когда ремонтировал обувь, у них это в семье передавалось по наследству – мастера сапожного дела. А брат и вовсе начал шить обувь на заказ, открыл свое ателье.
Пока Иван разбирал стол, мужчина откинулся на спинку и закрыл лицо руками. Он тяжело дышал, но Дора поняла, что беспокоиться не о чем. Тот больше походил на воздушный шарик, после праздников забытый всеми, сдувшийся и валяющийся на полу. Наконец Иван вытащил встроенную полку и водрузил ее на стол. Она была плотно нафарширована драгоценностями. Глаза разбегались, ничего подобного Дора в жизни не видела. Бриллианты искрились так сильно, что и не разобрать, с чем они перемешаны. Иван подошел к телефону и затребовал у кого-то помощи для описи имущества. Скоро приехал незнакомый мужчина в кожаной куртке на меху, в очках и с папиросой в зубах. С ним поднялся и Семен. Иван вывел жену из комнаты – там стало как-то неприятно, словно кто-то умер.
– Поезжай домой, тебя отвезут, я буду поздно.
47
Больничная койка не самое уютное место, но располагает к размышлениям. Скорость резко падает, давая возможность оглянуться на минувшие события и прикоснуться к обозримому будущему. От необходимости же реагировать на происходящее в текущий момент ты временно избавлен.
Отношения со «стариками», как мне кажется, приобретают положительный вектор развития. Это связано или с последними событиями на футбольном поле, или с необычной историей Коли Пирогова.
Высокий, розовощекий, покладистый, открытый девятнадцатилетний парень впал в глубокую депрессию. Серые тона завладели его внутренним миром. Проявлялось это в виде безразличия, подавленности, какого-то надлома. Он не случайно попал в первый взвод роты почетного караула – недюжинные физические данные, добродушный характер, уравновешенность всегда позволяли ему внешне легко справляться с тяготами службы. Ребята, почуяв неладное, поочередно проявляли участия в виде дружеских шуток. Время шло, а состояние Николая если и менялось, то явно в худшую строну. На одном из перекуров, наткнувшись на его потухший взгляд, я присел рядом и рассказал о собственных переживаниях, вызванных разлукой с любимым человеком. Встречное откровение не заставило себя ждать. Коля показал мне письмо от друга. Несложно догадаться, что речь шла о неверности любимой девушки. Словесной поддержки мне показалось недостаточно, и пришло неожиданное решение.
– Коля, предлагаю действовать в рамках наших ограниченных, но существующих возможностей. Давай напишем письмо. Посмотрим на ее реакцию, постараемся выиграть время. Обращусь к командиру роты, если повезет, дадут краткосрочный отпуск.
Я говорил, чувствуя, как крепнет уверенность в собственных силах, но пока не представлял, как именно добиться желаемого результата. Нарушению элементарной субординации, а значит устава, противопоставлялась внутренняя убежденность в значимости непреложных ценностей добра, помощи близкому.
– Разве в армии для любви нет места? – Мой вопрос ответа не требовал.
– Ты правда готов пойти к командиру роты? – Он посмотрел на меня, может быть как на старшего брата, и попытался отговорить. – Может не надо? Не разрешит, а разговоры всякие пойдут. – Сомнения и неуверенность застыли в его глазах.
– Все получится, надо только очень сильно захотеть, поверь мне.
Присутствие человека не только сопереживающего, но и предложившего план действий в безвыходной, по его мнению, ситуации, вроде бы помогло Коле отыскать в заслонившем мир облаке страданий точку опоры и вынырнуть из болота одиночества. Расспросив о девушке, об их взаимоотношениях, я вспомнил отрывок стихотворения, написанного примерно в том же возрасте:
…И облака, как купола, Как бледно-голубая пелена, Нам не судить, как тела два, Укрывшись в скатерти кленового листа…Краткий перечень встреч, обрывки образа, давали какие-то очертания, отношений между молодыми людьми.
– Коля, прости, но трудно писать письмо, не понимая некоторых важных звеньев. Как я понял, вы встречались неоднократно, целовались. – Я помедлил. Глупо, но не нахожу слов задать простой вопрос. – У вас близкие отношения были?
– Да, были, – ответил он спокойно, не поднимая глаз.
– Я сам испытываю в разговоре с тобой на эту тему некую неловкость. Но мне важно понимать, с чем мы имеем дело – со страстью, глубокими переживаниями или с чем-то иным. Мне нужен импульс, понимаешь?
– Да, но я не знаю, что сказать.
– Это был твой первый опыт близкого общения с девушкой?
Он немного поерзал.
– Можно сказать, первый.
– Если я правильно понял, первый раз по любви.
– Да, до того с соседкой было. Она старше. Ну, зашел к ним в дом, никого не было, просила по хозяйству помочь, потом стол накрыла. Выпили немного, она и говорит, мол, ноги не держат, помоги до кровати добраться. Юбку не мог снять, она все смеялась, а потом сказала, что в юбке еще и лучше. – Коля замолчал, удивленный собственным откровением.
– Девушку, насколько я понял, зовут Катя. С ней все происходило как в сказке?
– Да, и правда, как в сказке.
– Хорошо, не буду больше тебя мучить.
Ночью я написал письмо к незнакомке:
– Воспоминания о тебе поглотили тело, разум, волю. Память не устает раз за разом воспроизводить образ, далекий и родной. Как нежною рукой ты с губ моих смахнула соль, и поцелуй горячий твой, и линию руки, и запах роз, летящий от волос. Ты помыслы мои с ума сведи и снова забери в леса неведомой любви, где капельки росы истомы вестники, а ветерок, как вздох. Чуть приоткрытый рот, и нежный кончик языка слегка касается меня. Горошина воды упала, со лба скатилась, росой ресницы окропила и растворилась в небесах. И к пальцам ног губами прикасаясь, я начинаю постигать невидимую связь в желаньях и грехах. Ты искушение судьбы, молю, не ядом – соком напои и километров пелену расплавь желаньем, я пойму, что разделяешь ты мою тоску.
Коле оставалось его переписать, указать имя девушки и отправить. Мне оставалось убедить командира роты в необходимости предоставления отпуска. Мы были почти ровесниками, однако, мое положение без году неделя на службе и слухи за спиной уверенности не прибавляли.
– Товарищ старший лейтенант, разрешите войти.
– Входите, рядовой Радзиевский. Слушаю вас.
– У рядового Пирогова личная трагедия, связанная с любимой девушкой. Прошу вас ему помочь, предоставив краткосрочный отпуск. Он свои проблемы утрясет, да и всей роте на душе легче станет. Все ж видят, как парень загибается.
– Говорить с ним пробовали? У вас, насколько я знаю, имеется аналогичный опыт.
– Многие его подбадривали. Я письмо написал его девушке.
Он едва не выронил планшет и недоверчиво переспросил:
– Письмо его девушке?
– Ну да, его девушке, но, естественно, за его подписью. Подобный ход позволит выиграть время, и если повезет, Коля эту паузу завершит личным визитом. Помогите, товарищ старший лейтенант.
– Это что-то новенькое. Ладно, попробую, но не обещаю. Идите.
– Слушаю! – Я резко развернулся, щелкнул каблуками и был таков.
Крылья, даже очень маленькие, при наличии веры уносят, как большие. Сработал принцип мужской солидарности, когда решения принимаются вопреки нормам и правилам, просто потому, что это кому-то нужно. Все ждали реакции. Личная трагедия одного человека нашла отклик у многих. Трудно поверить, но любовь товарища к неизвестной девушке сблизила всех, согрела своим теплом. В армии голод на любовь. В условиях замкнутости и черствости, граничащей с жестокостью, она доказывает свое великое предназначение. Привлечение женщин в современную армию не кажется безумием. Вместо лекций о сексуальных извращениях и мерах наказания за них давно пора обратиться к поискам душевной гармонии, уважению личности, традициям мировой культуры.
Неделю спустя Коля получил письмо.
– Прочитай сам, – попросил Николай и протянул конверт.
Девичий почерк, размашистые буквы плавно перетекают друг в друга. Волнение присутствует везде, даже между строк. Суть сводится к тому, что она сомневается в его авторстве, что просит извинить за молчание, и что встреча необходима, как воздух. Первые строки после долгого затишья и долетевшего стороной горького дыма измены принесли ее величество надежду, которая, к всеобщей радости, зажгла свет в Колиных глазах.
Прошло несколько дней. Оформили документы, и Николай отправился домой. Главное для всех уже случилось. Мы услышали чужую боль и вернули человеку надежду, а себе веру в то, что ничто человеческое нам не чуждо.
48
Отца как человека военного мое увлечение театром не радовало. После возвращения с летних гастролей состоялся мужской разговор.
– Посвятить свою жизнь служению профессии, которая несет мужчине, а главное его семье, нищенское существование, было бы большой ошибкой. И пока это в моих силах, я буду этому препятствовать. – При этих словах, глаза отца выражали скорее любовь, чем жесткость.
– Папа, в театре ни с чем не сравнимая атмосфера таинства, интересные люди, много познавательного.
– Сын, ты же понимаешь, я хочу как лучше. Может, тебе суждено подняться до театральных высот, но возможно, твоим уделом останутся вторые роли или массовка. И когда ты будешь мучиться, не зная, что ответить своей дочери на самые, казалось бы, простые ее просьбы, начнешь, ситуация оказаться уже безвыходной.
– Да, но мне сейчас трудно представить время, когда мне нужно будет думать о потребностях моей дочери, а вдруг у меня родится сын? – попытался я перевести разговор в менее серьезное русло.
– Мне тоже казалось, что я молод, все впереди, бездна времени. Но пока я так думал, оно неслось с бешеной скоростью, и выяснилось, что к сорока годам я не смог создать удобных условий для проживания семьи.
– Брось, папа, мы живем в хороших условиях. У нас прекрасная семья, бабушка и дедушка живут с нами.
– Наверное, не стоит тебе этого говорить, но она не такая хорошая, наша семья, как бы мне того хотелось. Когда мама тобой забеременела, мы жили в одной комнате с родителями, сейчас мы живем с ними в отдельной квартире и периодически спим с тобой на диване. И то, и другое признаки беды для семьи. Я морской офицер, с честью выполнявший свой воинский долг, должен был двадцать лет таскать семью по общежитиям и съемным квартирам. И теперь имею результат.
– Пап, да какой результат! Все иногда ссорятся.
Я видел, как волна внутренних переживаний накатывает на незажившие раны. Но не знал, что делать.
– Ладно, сейчас не об этом. Я тебе говорю, ошибка полагаться на то, что о тебе кто-нибудь позаботится, в том числе и государство. Особенно, если твоя деятельность целиком зависит от других людей. Будь независим, мечтай, но не забывай, что ты мужчина и за все отвечаешь ты.
– Хорошо, я сто раз обдумаю прежде, чем приму решение о выборе профессии. Скажи, что с нашей поездкой.
Он показал на стоящие в углу сумки, улыбнулся и предложил:
– Можешь попить чаю – бабушка наготовила в дорогу, любимых твоих московских пирожков – и поехали.
– А как же мама? – удивился я.
– Нам с тобой предстоит дальний переход, исключительно вдвоем.
Мы сели на машину с гордым именем «Победа» и отправились в Новый Афон. В сорок пятом году, когда Сталину показали первый автомобиль этой модели, он сказал: «Это маленькая «Победа», нам нужна большая «Победа». Память и время связали в одну цепь Новый Афон – Грузию – Сталина и «Победу».
Дорога была долгая. Машина всей тяжестью своей брони утюжила асфальт, а мы наслаждались проплывающими пейзажами, мерным покачиванием и теплым светом друг друга. Отец часто пел песни своей юности, создавая ни с чем не сравнимую атмосферу искреннего веселья: «Сова там филина ласкает,// Знать обманет, в жены не возьмет…» – и курил. Когда прикуривают, возникает специфический запах, и когда я его чувствую, в памяти всплывает та дорога. Сидим вдвоем, мотор мерно гудит, автомобиль сматывает черную ленту шоссе, и ничего не надо, кроме того, что есть.
Маленький городок на берегу Черного моря радушно принял нас. Остановились гостить в грузинской семье. Нам накрывали необъятные столы с неведомыми прежде яствами, и угощали безумной, судя по результатам, чачей. Отец делал все, чтобы компенсировать полуголодный период моей творческой жизни, негативно отразившийся, по его мнению, на растущем организме. Синие мешки под глазами и бледное тело выделяло Ленинградского школьника на фоне местных мальчишек.
Наша поездка носила еще и коммерческий подтекст. Платили офицерам негусто, поэтому отец всегда пытался на чем-нибудь подработать. Редко можно было увидеть его лежащим на диване перед телевизором или с газетой в руках. Исчирканные вдоль и поперек объявления по обмену жилья всегда были под рукой. И в снег, и в дождь свежий воздух толкучек притягивал его неуемную энергию. Благодаря математическому складу ума он придумывал различные цепочки по обмену жилья. Мечта о собственном автомобиле приобретала осязаемые очертания через вереницу чужих перепродаваемых машин.
За свои коммерческие увлечения отец легко мог лишиться офицерских погон. На частное предпринимательство государство повесило клеймо спекуляции, которая преследовалась по закону. Титаническим усилием мы перебирались из общежития в маленькую комнату, затем в большую, из одной в две, из коммуналки в квартиру. Примерно так же менялись машины. Сначала «Москвичи» от первого до седьмого, затем «Победа». Каждая из машин попадала к нам на последнем издыхании. Они горели, дымили, коптели, стреляли и вообще не хотели или трогаться, или останавливаться. Последнее отцово детище вызвало у грузин цоканье языком и вздохи вожделения, словно перед ними красавица с округлыми бедрами и большими голубыми глазами.
Однажды, спускаясь с гор после очередной вечеринки, отец душевно исполнял известную песню Высоцкого «Если друг оказался вдруг, и не друг и не враг, а так…», а его грузинский друг плясал и подпевал «ча-ча-ча». Спустилась темная, теплая южная ночь. Появившуюся под ногами теплую воду восприняли, как мелководную речку, которую легко перейти вброд. Оказалось, Черное море. Оно затаилось и молчало, нарочито подчеркивая людскую беспечность и глупость и неслучайность имени «Черное». Отец никогда не умел и не любил пить. Грузин любил пить, но не умел петь. Море любило себя и учило нас. Одиночество и сомнения в справедливости чужих убеждений, спотыкаясь, брели вместе со мной по древней булыжной мостовой. Вскоре мы уехали, свадьба почему-то не состоялась – или невеста была слишком хороша, или жених слишком плох, или наше желание еще раз разделить обаятельный аромат дороги заказало билеты в обе стороны.
49
Актовый зал заполонили выпускники школы, звучал вальс «Амурские волны», в центре кружили пары. Девичьи каблучки взлетали в воздух, описывали круг и снова касались паркета, юбки, как полураскрытые зонтики вращались вокруг ног. Юноши подхватывали партнерш, стараясь не дать им улететь, но и не опускали на землю. Мой Ваня выделялся статностью. Он стоял немного в стороне и разговаривал с директором школы. Тот одной рукой опирался на трость, второй дружески похлопывал бывшего ученика по плечу, слов было не разобрать, но наверняка говорил, какой Ваня орел, достойный представитель школы, образец для подражания.
Мне-то видно, какой он у меня красивый, ухоженный, гимнастерка на нем без единой морщинки, малиновый кант на воротнике аккуратно обвивал шею, осанка прямая, как на лошади гарцует, недаром в кавалерии служил. Девки местные, конечно, глаз с него не сводят. Хорошо, сегодня дело до баяна не дойдет, иначе домой не уведешь. Начнут вспоминать, как его здесь белые расстреливали, а потом «Ваня, сыграй, Ваня, сыграй», а мой же горячий, вспыхнет – не остановишь. Это он сейчас такой степенный, при погонах, не всякий осмелится подойти. Ну вот, и Гришка появился, чуб у него все такой же задорный… Да, эту парочку, лучше вместе не оставлять, как пойдут ворошить лихую юность да гражданскую войну и еще черт знает, что. Нервно тереблю бусы. Ваня их любит, они яркие и, как он говорит, хороши к моим карим глазам. Пробираюсь к нему, беру за локоть.
– Ваня, извини, нам пора. Веру еще покормить надо, она все-таки совсем еще маленькая, нельзя во всем на Нину полагаться.
Я говорила тихо, он вполоборота выслушал меня, немного склонив голову. Мы научились понимать друг друга, не привлекая внимания окружающих. Немного помолчал, отвел меня в сторону.
– Дора, я так долго не был на родине, меня здесь так по-доброму встречают… Гришка все ходит, мол, пора и друзьям время уделить. Ты иди, дом-то рядом, а я немного с ребятами побуду и приду, не беспокойся.
Я с трудом сдержала обиду – он будет тут гулять, а меня к детям отсылает. Хотя, правду сказать, отец он хороший. Для дочек последнее отдаст.
– Хорошо Ваня, но постарайся не поздно.
Я развернулась и пошла к дому. Стояла теплая украинская ночь, звезды висели в небе яркими лампочками, только очень далеко. Казалось, рукой до них подать, а потянешься – и конца дороги к ним не видно. Так и в жизни: вот он близко, а руку протянешь и не достать. И не потому, что далеко, а где-то в себе, в своем мире, и там его не тронь. Зато когда выйдет оттуда и обнимет, прижмет к себе, так можно и сгореть. Пойди, разберись в этой жизни, что тут твое, что тут близко.
Дверь закрыта на засов, стучу – тишина. Еще раз стучу, слышу легкие шаги, тапки по полу волочатся, большие.
– Кто там? Мам, это вы?
– Открывай, Нина, это я.
– А где папа? – спросила она, потирая глаза.
– Иди, ложись, папа скоро будет, если конечно не загуляет с друзьями. – Последняя фраза сама с губ сорвалась, не смогла сдержаться. Да и взрослая она у меня уже, старшая дочь, семь лет. С кем мне еще делиться своими переживаниями?
Верочка спала, Нина тоже рядом с ней пристроилась и уснула. Я забралась под перину, но она показалась мне какой-то тяжелой, неуютной. Сбросила ее с себя, и в ночной рубашке жарко, хоть иди и водой обливайся – вот до чего себя накрутила. Ваня пришел ночью, он умеет задвижку ножом открывать, тихо юркнул в кровать. Услышав щелканье замка, я успокоилась – вернулся. В котором часу, не помню, видно, и не просыпалась, так, в полузабытьи. Рядом, и хорошо.
Хозяйка дома, тетка Серафима, принесла парное молоко. Она всегда часов в пять утра с утренней дойки приходит.
– Слышь, Дора, как оно все устроено-то! Манька-то моя нынче как сбесилась, все меня хвостом по лицу. А я возьми да и привяжи ейный хвост к своей косе. Во, всё, что осталось от моей косы-то прежней, вот как от вашего дома сгоревшего – колодец одинокий. А и тому хозяин нужен, а то с тоски иссохнет.
Я взяла в руки теплый кувшин и собралась отнести его в комнату, но тут Серафима заплакала у меня за спиной, и я обернулась.
– Манька-то не случайно хвостом меня лупила, а когда я с ней как бы заодно, так успокоилась.
– С чего ж ты так расстроилась?
Она обняла меня, сильно прижала к груди, и как будто из глубины ее души голос тихо произнес:
– Война началась, вот с чего, девочка моя. Немец на нас напал.
Я тихо опустилась на пол и сидела. Ни сказать, ни пошевелиться, словно камень на шее повис и тянет к земле. Не подняться, и в сердце так защемило, будто я что-то потеряла, очень важное, и безвозвратно, а что, понять не могу. И силы меня покинули. Я же всегда, как огонь, у меня в руках все горит, а тут разом потухло.
В шесть утра почтальон принес «молнию».
– Срочно прибыть по месту расположения части.
50
– Давай поболтаем, утро торопить не будем, – предложил розовощекий. Звали его, как выяснилось, Виктор.
Свет в палате погас. Непривычно было просто лежать и глядеть в темноту. Сон после многочасовых строевых занятий настигал в любом положении, даже стоя. «Старики» шутили, что если лёг в шинели на цементный пол, подстелив свежую газету, и шрифт тебе не мешает, значит, все идет правильно. Казалось, промежуток времени между отбоем и подъемом кто-то постоянно вырезает. В госпитале открытие, что ночь существует, настроило на лирический лад.
– Какие имеются темы для обсуждения? – спросил я.
Собеседник заерзал в кровати, устраиваясь поудобнее.
– Девушка у тебя есть? – Тон его предполагал откровенность.
– Была девушка, – ответил я. И выдержав паузу, добавил: – Теперь жена.
– Здорово. А я вот мучаюсь, дождется или нет. Мы незадолго до начала службы познакомились. Она очень хорошая. Я не согласен, что, мол, все женщины б… Моя особенная. Гуляли долго, поцеловать боялся – вдруг обижу? Девчонки до этого уже были, но за душу не цепляли. А у тебя жена первая девушка?
– Нет, – отозвался я, и память пустилась разматывать нить ушедших эмоций.
– Первый раз запоминается на всю жизнь. – Витин голос выдавал внутреннее волнение. – Помнится, после первого курса поехали мы в стройотряд, а я опоздал с прибытием. Все уже разместились, накрыли столы и, судя по разгоряченным лицам, давно отмечать начали. Налили мне сразу штрафную в пол-литровую стеклянную банку. Пей до дня и все тут! А я с дороги, целый день во рту ни крошки не было. Выходим на улицу, вижу странную картину: окна в избах покосились, а сами дома вроде как прямо стоят. Ноги ватные, а голова светлая и легкая. Пришли на местную дискотеку. Ну, ты понимаешь, парни в белых рубашках, гвоздики в петлицах, к их девчонкам лучше и не приближайся. Кто-то из наших дернулся, местные сразу показали розочку – горлышко бутылки откололи и давай размахивать. С трудом растащили. Смотрю, две девчонки, вроде видел их в институте, одна блондинка, вторая брюнетка. Обе симпатичные. Тебе какие больше нравятся?
– Наверное, блондинки, – ответил я, – но почему, как этот выбор формируется, не знаю. Они ведь красят волосы, так что мы в этом случае выбираем цвет или обман. Говорят, брюнетки более сексуальны. А ты определился с пристрастиями?
– Тогда нравились блондинки, но выбрал брюнетку. Она была в очень короткой юбке, туфли на высокой платформе, танцевала вызывающе. Исходил из того, что такая девушка наверняка уже имела отношения с парнями, и мне будет, чему поучиться. Очевидно, лучше начинать с опытными женщинами. Инстинкты, конечно, хорошо, но знания лучше. Согласен со мной?
– Если люди любят, остальное получится само собой, – я высказал идею, которую заботливо посадили и усердно поливали, начиная с детства.
– Не знаю, – протянул он и посмотрел на меня, пытаясь найти ответ в темноте, но вместо него нащупать нить своей истории. – После танцев заблудились и оказались в поле. Повсюду стояли копны сена, мы забрались в одну из них. Оказалось, что она окончила третий курс, не помню, чего, но это не очень тогда интересовало. Дыхание помню, горячий воздух из ее рта. Самое время снять белье. Звезды остались снаружи, внутри темень, но, думаю, справлюсь.
Она не сопротивляется и среди этой соломы как-то очень тихо спрашивает: «У тебя девушки были до меня?» Ну, конечно, думаю, суечусь, как дурак, но не на исповеди же. «Разумеется. И не одна». Моя убежденность явно ее порадовала, и она откровенно поделилась со мной: «Хочу тебя предупредить, я девственница».
Черт, думаю, ну почему мне так не везет? Выглядела, как разбитная девчонка. Вот и верь своим ощущениям. Отступать, конечно, не собираюсь, но внешнюю уверенность подкрепить нечем. Раздвинул ее длинные ноги и понял, что от теории до практики не ближний путь, но понадеялся на инстинкты. Она тихо лежит, а я, как настоящий самец, не зная усталости, делаю, как мне кажется, необходимые движения. Не знаю, сколько прошло времени, весь взмок. Она тоже мокрая, но явно что-то не так. Алкоголь постепенно улетучивался. Стал вспоминать советы друзей. Вроде надо ее на что-то твердое положить, а тут кругом одно сено, и земля холодная. Надо сменить обстановку.
«Давай оденемся, уже все спят, в бараке устроимся поудобнее». Мой голос звучал уже не таким убедительно, но она покорно следовала моим предложениям. Она одевалась, а я про себя сокрушался, какое тяжелое испытание выпало на мою голову. Шли молча. Проходя мимо очередного стога сена, услышали в нем смех. Я еще удивился, что кому-то весело. Коридор встретил нас полумраком и тишиной. Она прижалась ко мне, и тепло быстро привело меня в чувство. Начали все сначала. Пол деревянный, твердый, коленям больно, но тут не до мелочей. Время шло, а результат всё тот же. Колени стер. Не знаю уже, куда податься. «Пойдем в комнату, ляжем на нормальную кровать». Слышал, на хорошем пружинном матрасе лучше как-то получается. Может, подбрасывать будет ее навстречу, а то лежит бревном, и ни туда, ни сюда. Прокрались в комнату, все спят, тихо забрались на мою кровать. Опять все по новой. Скрип пошел такой, что пришлось линять, пока никто не проснулся. «Я пойду, – говорит, – скоро рассвет. Надо часок-другой поспать, да и тело все болит». Поцеловала меня и побежала в сторону женского барака. А я, терзаемый горькими мыслями, двинулся следом и тайком провожал, пока она не скрылась за дверью. Тут я понял, что сильно болеть может не только голова. Идти было трудно – прямо хоть в холодный пруд ныряй.
Тяжело вздохнув, Виктор помолчал и продолжил:
– На следующий день мой однокурсник, провожавший блондинку, похвастался, какая ему досталась замечательная девушка. И умеет все, и большой рот ее вовсе даже не недостаток, вопреки моим утверждениям. Как же я проклинал свое неумение разбираться в женщинах! Наступил вечер, иду на свидание. Сомнения одолевают, но ведь если кому сказать, засмеют. Встретились у клуба. Она краше прежнего, легкое платье, а в руке пакет. «Что это у тебя?» А она смеется: «Одеяло». Мне тоже стало весело. Чего я, думаю, напрягаюсь? Она-то к этому спокойно относится. Опять пошли на поле, забрались в стог. Быстро разделись, она расстелила одеяло, стало как-то по-домашнему, только самовара не хватало. Я с новыми силами принялся проявлять свои боевые качества. Но хоть убейся – как об стену горох. А она такая: «Не расстраивайся». Обняла руками колени и положила на них голову. «Дело не в тебе, – говорит. – Я думала, мой первый парень был просто не опытным. А, похоже, это я дефектная».
И знаешь, странная штука. Груз неудач, сковывавший все тело, исчез, появилась нежность. Голова перестала командовать, физические упражнения уступили место нежным поцелуям, поглаживанию волос. Успокаивая ее, я и не заметил, как мы превратились в одно целое, и никакой матрас не понадобился. Соломенный домик передвигался вместе с нами по полю. Она вскрикнула несколько раз, мокрые волосы прилипали к лицу. А потом нас как от электрической розетки отключили, и оказалось, что все получилось.
– Почти готовое пособие по лишению девственности, – послышалось за спиной, – после таких рассказов трудно уснуть. Как ни странно, но дурной пример заразителен. Готов принять участие в конкурсе рассказчиков.
51
Мы опять переехали. Поселились недалеко от Казанского собора. Ветер с канала Грибоедова доносил гул Невского, грохот трамваев с Садовой затихал в колодце небольшого двора, нашпигованного маленькими окошками.
Встречая людей, не теряйте, Не замыкая мир, В души других вселяйте Скупость оконных дыр.За металлической решеткой несколько деревьев и снулых от пыли кустов. В центре стол и скамейка, их обитатели старушки и коты. Замкнутые пространства квартир дышали через небольшие окна. Люди вдыхали, вылетали из домов, попадали в замкнутые кабинеты и цеха и выдыхали, ожидая что-нибудь получить на рубли или отоварить талоны. И все бегом, потому что нельзя стоять, когда идешь, и нельзя кричать, когда плывешь, можно только верить и ждать, что завтра будет лучше, чем было вчера. Окна нашей квартиры, располагавшейся на первом этаже, грустно всматривались в асфальт, отражая лужи и силуэты прохожих и котов. Мы попали в зону их влияния, а они в зону нашего внимания. Брежневская эпоха с кухонными исповедями не распространялась на их жизнь. Они не изменились со времен знакомства с людьми. Глядя на них, можно понять, какими мы были или будем. Если мы оккупировали квартиры, то они подвалы и дворы. Если мы прячемся за фасадом благопристойности, то они ведут беспорядочную, развязную жизнь, наполненную потасовками и любовными похождениями.
Не знаю, кто кому подражает, но без борьбы за власть не обходится и у котов. Королем неприлично оравшей по весне шайки в нашем дворе являлся Василий. Чистокровный русак в серую полоску. Особые приметы: шрамы, следы бесчисленных драк, гордая походка и острый взгляд, признаки успеха и ума. Однажды ясным летним днем, греясь в лучах солнца и славы, Василий растянулся на столе – по сути, на троне. Ничто не предвещало беды, как вдруг на безоблачном небе возникла туча в виде огромного пушистого сибиряка. Наглое дефиле по чужой территории с гордо поднятым хвостом не могло оставить равнодушными местную элиту. Однако, друзья короля сделали вид, что ничего особенного не происходит – кстати, нам это тоже свойственно. Гость решил, что король голый, и прямиком направился в садик, вспрыгнул на скамейку, а оттуда на трон. Казалось, король потерял контроль над ситуацией, и вот-вот, в момент блаженного расслаблении, грянет трагическая развязка. Перед тем как нанести решающий удар, сибиряк еще и для пущего унижения посмотрел в глаза противнику. Что он в них увидел, трудно сказать, но возникла пауза, которая оказалась роковой. Передними лапами Василий схватил противника за холку и, используя задние, выполнил классический бросок через себя. Гость потерял время, положение в пространстве, а вместе с ними уверенность и гордость. Крики и оскорбительное мяуканье сопровождали его бегство. Василий не опустился до вразумления свиты, а улегся на троне в прежней позе, подчеркивая незначительность инцидента и собственную важность, что выгодно отличало его от наших королей.
Время показало, что представление о строгом разграничении наших миров ошибочно. Они пытаются перенять у нас то, что мы пытаемся усвоить от них. В нашей квартире внезапно прописалась принцесса. Благородное домашнее воспитание и незаурядные внешние данные отличали ее от уличных кошек. Мечта о собаке свелась к попыткам дрессировки имеющегося зверя. Затея потерпела провал, но один трюк мы демонстрировали: на угрожающее движение кулаком, ее высочество принимала боевую стойку и отбивала зубами чечетку. Когда дрессируешь женщину, тоже что-то получится, только вот не то, чего ждешь. Если результат соответствует поставленной задаче, значит, дрессируешь собаку. Кошкам нередко приписывают мистические свойства. При резком движении хвоста, как и при взмахе хлыста, пропадает ощущение законченности, кратности мер длины и мелькает призрак бесконечности. Невидимая нить нашей причастности к вечности возникает и исчезает, как след трассирующей пули или реактивного самолета.
Ранней весной нашей принцессе потребовался принц, из хорошей семьи. Мама долго искала достойную кандидатуру и в результате нашла. Кошки, как и женщины, странно себя ведут в этот период, пытаясь показать всем своим видом, что им это сто лет не надо. Ешьте своего кота сами, заявила она посредством шипения и выгибания спины и нанесения оскорбительных пощечин. Как известно, разногласия наедине разрешаются быстрее, и царственным особам предоставили необходимые условия. Пять часов спустя, вхожу в квартиру. Принца нет. Солнечные лучи редко гостили у нас, а если и случалось, то заглядывали в виде отраженного и преломленного света. Поэтому я не сразу заметил мокрые следы на линолеуме. Когда коты потеют, пот у них, в отличие от людей, выступает не на лбу, а на подушечках лап. Похоже, товарищ натерпелся, подумал я и пошел по следу. В туалете следы кончились. Отгоняя тяжелые мысли, заглянул в унитаз. Повторяя, как мантру, «не может быть», обследовал кухню, ванную и коридор. Увы, поиски ничем не увенчались. Переживания вызвали желание воспользоваться уборной по назначению. Процесс завершался дерганием ручки, которая висела на веревке, а веревка тянулась от бачка, прикрепленного к стене под потолком. Вода шумно ринулась вниз – вместе с протяжным «мя-а-ау». Солист, он же принц, обняв всеми лапами водопроводную трубу, висел под бачком, моля о пощаде.
На семейном совете решили не испытывать судьбу и отпустить жениха домой. Обсуждение проходило в присутствии кошки, но решение о прекращении отношений, как и о знакомстве, мы приняли самостоятельно. Как известно, женщина – что собака на сене, а кошка слушает да ест. Ныса (так звали принцессу) предстала перед отъезжающим принцем олицетворением покорности, и уже собравший вещи жених медленно поковылял за ее кокетливо исчезающей тенью. Теперь он стал хозяином положения. Дама была готова терпеть, пока не пройдет интерес. Мавр сделал свое дело и благополучно отчалил. Ныса играла роль страстной женщины, которую раздразнили и бросили. Остальные обитатели квартиры считали, что все уже случилось, и следует смиренно ждать котят.
Идею верности первому мужчине и вреда половых отношений во время беременности разделяли не все. Ночное время сопровождалось выступлением хора мальчиков под нашими окнами. Близко к тексту перевод припева можно выразить одной фразой: «а девочка созрела». Вид из окна напоминал оркестровую яму: ночь нарядила певцов во фраки, виднелись даже белые манишки. Блеск глаз не давал усомниться в точности перевода. Предложение удалиться воспринималось без энтузиазма. Затишье длилось недолго, тот же состав исполнителей занимал места в соответствии с партитурой. Продюсером, сценаристом и режиссером являлся Василий, наблюдавший за происходящим с почтительного расстояния. Прикрываясь показной независимостью, принцесса обманула доверие и через форточку вышла в люди. Насколько раз удавалось разглядеть в подвале четыре светящихся глаза. Василий не возражал против возвращения блудной дочки домой, короткая пауза никому не вредила. Дама являлась обратно к нему сытой и довольной – кому ж не понравится! История этой парочки прекрасный пример преодоления барьеров на пути страсти. Теплому и сытому быту, ухоженным и породистым кавалерам, воспитанию детей она предпочла короля подвалов и чердаков, который, в свою очередь, выбрал трудный путь покорения принцессы, разочаровав самостоятельных и в меру доступных дворовых кошек. Хороших девочек тянет к плохим парням. Родители выбирают хорошего, инстинкт самосохранения подсказывает «выбирай хорошего», а плоть шепчет «выбирай плохого».
52
Ваня уехал так быстро, что мы даже не успели решить, как быть мне с девочками. Казалось, война где-то далеко и скоро закончится. Днем Молотов заявил по радио, что «… теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, советским правительством дан нашим войскам приказ – отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины… Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Жизнь вроде бы не изменилась, но с каждой минутой наполнялась тревожным ожиданием, и где-то внутри раскачивался маятник неопределенности. Приходили противоречивые сообщения: с одной стороны, наша армия перешла в контрнаступление по всей линии фронта, форсировали Дунай и бомбят Бухарест, немцы несут большие потери, с другой, сообщалось о тяжелых боях в окрестностях Минска. С Ваней связаться не удавалось. Я понимала, что Гомель уже тоже бомбят. Медлить нельзя, а то вообще уехать не сможем.
Вошла Серафима.
– Дора, не знаю, как сказать, но немца тебе ждать здесь не надо. Иван твой мужик хороший, но здесь у многих на него за пазухой камешек припрятан. Враз тебя сдадут и рады будут, черные души, злые, Дора, и как его когда-то, тебя поставят к стенке. Жена коммуниста, офицера, да еще НКВД – готовый приговор. – Она принялась протирать стол и вдруг ударила по нему кулаком. Чашки жалобно зазвенели, словно прося меня что-то сделать. – Они же звери, эти фашисты проклятущие, детей не пожалеют.
Она раздула фитиль, тлевший всю неделю, с тех пор как уехал Ваня. Я все ждала чего-то, какого-то сигнала, звонка, но тут в голове словно взорвалось, и я осознала, что действовать надо сейчас, немедленно.
– Нина срочно собирай вещи, свои и Верины.
– Мама, а куда мы едем? – спросила дочка, теребя голубенькое платье.
– Возвращаемся в Ленинград. Надо торопиться, не задавай вопросов, просто быстро собирайся.
Через два часа мы уже стояли на перроне. С чемоданами, котомками, мешками с едой. Билетов не продавали, расписание отсутствовало. Когда будут пассажирские поезда и куда они пойдут, никто не знал.
– Дора, сейчас будет проходить товарняк, – торопливо прохрипела Серафима. – дежурный по вокзалу, Семен – ты его знаешь, да, рыжий такой, да черт с ним – сказал, что товарняк останавливаться не будет, идет до Бахмача, а там можно на Москву пересесть.
– Как товарняк? Я же с детьми, да на ходу, ты что говоришь?!
– Дора, он говорит, что Гомель немцы то ли заняли уже, то ли десант высадили. Надо уезжать, срочно. Да, на ходу, но поезд у станции ход сбавляет.
Раздался гудок надвигающегося паровоза.
– Нина, ты у меня взрослая, ничего не бойся. Я тебе помогу запрыгнуть в вагон и дам Веру. Крепко хватай ее и держи. Потом вещи побросаю, а затем сама. – Я говорила спокойно, но очень быстро, и чувствовала, как задыхаюсь, словно выброшенная на берег рыба.
Двери вагона оказались приоткрыты. Я схватила Нину под руки, резко подняла вверх и сделала несколько шагов, даже пыталась подпрыгнуть, стремясь поравняться с поездом и втолкнуть ее в вагон. Жар пробежал по телу, долго так не побежишь. Наверное, я недостаточно сильная, надо сжать зубы и терпеть. В этот момент из вагона протянули руки и подхватили Нину, мои руки вдруг стали легкими, как крылья. Я обернулась – за мной бежала Серафима с Верой на руках и вещами. Я подхватила младшую дочку и передала ее в те же руки, потом затолкнула чемодан и из последних сил закинула оставшиеся вещи. Мелькнула мысль, до чего же я дура, нет бы бросить, вечно, как ишак, тащу все на себе, того и гляди, дети без матери уедут. Мужчина в вагоне сжал мои руки, я изо всех сил оттолкнулась, а поезд уже набирал ход, и ноги повисли в воздухе. Платье надулось, как парашют, и колени плавно коснулись пола вагона. Всё. Позади уплывала картинка – станция и неподвижно сидящая на перроне Серафима. Здесь рядом стояла Нина, держа на руках Веру. Обладатель руки помощи оказался одет в офицерскую форму, судя по нарукавному знаку с крыльями, летчик. Я с трудом перевела дыхание.
– Спасибо вам огромное, товарищ офицер, вы нам очень помогли.
Вдруг подумалось, где же мой Ваня. Я как брошенная, мать-одиночка. Это новое чувство больно ранило меня.
– Вы смелая женщина, так и под колеса недолго угодить. – Он улыбался, потирая рукой нос. – Устраивайтесь здесь, у стены, удобнее будет, сено подложите.
Нина по-прежнему держала Веру. Когда ее буквально бросали в вагон, малышка еще спала, но теперь проснулась и намекала, что ее пора покормить. Мы сели, достали полотенце, заменившее скатерть, разложили хлеб, огурцы, помидоры. Следом масло, соль, яйца, которые Серафима, спасибо ей за все, успела в дорогу сварить, да, вот и сало.
– Товарищ офицер, присаживайтесь. Чем богаты, все второпях, но сало домашнее, вкусное.
– Спасибо. Давайте знакомиться, меня Николай зовут, а Вас? – Взгляд его веселых глаз пробежал по нашей троице.
– Я Нина, это моя младшая сестра Вера, а наш папа ждет нас в Ленинграде.
– Мой муж тоже военный, неделю назад отбыл в часть. – И что это я оправдываюсь, что у меня есть муж? Глупость какая-то! – Зовут меня Дора, по паспорту Дарья Сергеевна.
– Мне-то вас как называть, Дарья Сергеевна, – спросил он с оттенком официальной интонации.
– Дора, так и называйте. – Я улыбнулась и немного смутилась игривыми нотками в собственном голосе. Уже и забыла, что они у меня есть.
В вагоне стало прохладней, пошел сильный дождь. Пассажиров было человек двадцать, несколько женщин, дети только мои. Отдельно сидела группа военных, у них имелись винтовки. Николай спросил у соседей, не возражают ли они, если он закроет дверь, потом с грохотом покатил створку до упора. Затем достал из небольшого чемоданчика печенье и плитку шоколада и подсел к нам.
– Негоже в такой приятной компании и без сладостей.
Нина посмотрела на меня, взяла одно кругленькое печенье, намазала его маслом и потянулась за вторым, чтобы положить его сверху, как любила. Я остановила ее руку.
– Теперь война, надо привыкать себя ограничивать.
Она молча отложила печенье. Даже не знаю, почему эта фраза у меня вырвалась, но я вдруг почувствовала, что теперь, начиная с нашей посадки в поезд, все будет по-другому.
– Ну, ничего страшного не происходит, скоро все образуется. Не надо так уж себя ограничивать, – возразил наш помощник, подвигая пачку с печеньем поближе к Нине.
– Вы куда едете? – спросила, передавая ему кусочек сала с хлебом.
– В госпитале был. Пустяки, – заверил он, заметив мое удивление, ведь выглядел он молодым и крепким. – Неудачно упал с мотоцикла и сломал ногу, вот и вся история. Но теперь надо в Москву, чтобы до полетов допустили.
Вдруг раздался грохот, следом еще. Внутри меня забилась тревога, дети вздрогнули. Николай поймал мой обеспокоенный взгляд.
– Бомбы рвутся, возможно, авианалет. Постарайтесь пока на всякий случай прижаться к полу. Будем надеяться, все обойдется. – В его голосе слышалось напряжение, но самое присутствие мужчины придавало мне уверенности и относительного спокойствия.
От волнения я даже забыла, как его зовут. Вроде Николай? Пока вспоминала, он отошел к уже повскакавшим со своих мест и обсуждавшим происходящее солдатам. Они открыли дверь. По-прежнему лил дождь, было темно. Поезд остановился. По разговорам я поняла, что они собираются вылезти на крышу вагона и, если самолеты попытаются нас расстреливать с низкой высоты, откроют ответный огонь, видимо, из винтовок, другого оружия у них не было. Взрывы с каждой минутой приближались. Где мы застряли, было непонятно, через дверной проем едва различимо темнела полоска леса метрах в двухстах от полотна. В уши ворвался гул самолета. Он летел не высоко, даже, наверное, очень низко, и казалось, будто он летит прямо на нас. Как они защитят нас от самолетов с помощью винтовок? Не успела додумать, как гул пропеллеров разорвал воздух над головой.
– Нина, если начнут бомбить, будет поздно, надо бежать в лес.
В этот момент затарахтели пулеметные очереди. Красные линии принялись сшивать небо и землю.
– Нина, ты поняла меня? Бежишь в сторону леса, а я беру Верочку и бегу за тобой. Чтобы ни случилось, не оборачивайся, беги в лес, мы тебя догоним.
– Мама, я не побегу. – Она смотрела мне в глаза таким знакомым спокойным, упрямым взглядом.
– Почему, черт возьми, ты не побежишь?! – Я закричала, а она по-прежнему не сводила с меня глаз, и, не выдержав, я закатила ей пощечину.
В этот момент рвануло совсем близко, мы вжались в пол. Я как наседка спрятала под себя Веру.
– Мамочка, я просто не добегу до леса, они меня убьют. – Нина обняла меня и затихла.
Черт бы побрал эту войну, думала я. Чтобы спасти своих детей, надо выбирать, погибать им под пулями или под бомбами. Я решила успокоиться и подождать развития событий. Взрывы еще гремели, но постепенно удалялись, как и гул самолетов. Через некоторое время поезд медленно тронулся, но словно украдкой. Обычно шумный и гудящий, он набирал ход чуть слышно, оставляя весь свой рокот внутри себя. Все менялось – и он, и я, и всё.
53
Виктор продолжал витать в давних переживаниях, возникших на бесконечном пути раскрытия себя через познание женщины.
– Спать действительно не хочется. Валяй, Миша.
– Право не знаю с чего начать господа присяжные заседатели. На ум приходят известные строки Лермонтова:
Нет, я не Байрон, я другой, Еще неведомый избранник, Как он, гонимый миром странник, Но только с русскою душой.– Стихи конечно красивые, но ты давай ближе к телу. А то я тебя знаю, начнешь сейчас тянуть кота за яйца, как всегда, усыпишь, и самое интересное пропущу, – пробурчал Виктор, поправил подушку и прислонился к спинке кровати.
– Ладно, как скажешь, – легко парировал Михаил, – начну свою историю без промедления. На восемнадцать лет родители преподнесли прекрасный подарок, сообщив, что на ночь уедут к друзьям. Собралось человек двадцать. Официальная застольная часть была традиционной, но недолгой… Перед отъездом отец отозвал меня в сторону и спросил:
– Девушка в красном платье и красных колготках и есть Эрна?
– Да, а как ты догадался? – поинтересовался я, испытывая некоторое смущение.
– Ну, я все-таки твой отец. Вкусы передаются по наследству. – Он широко улыбнулся и напоследок добавил. – Выбор одобряю, но будь осторожен.
Чего опасаться не понял, отнес это к родительским предрассудкам. Я не курил, но было модно сопровождать передачу сигареты от юноши к девушке или наоборот выдохом дыма рот в рот. От чего, как вы понимаете, я отказаться не мог. Аналогично пили из большой вазы «кровавую Мэри», передавая из рук в руки. Маринованные вишни предлагались губами в качестве закуски. Танцевали под «Deep Purple», «Black Sabbath», «Pink Floyd». Надеюсь для вас это не пустой звук?
Никто не отреагировал на это замечание, чтобы не отклоняться от темы.
– Зазвучали первые аккорды «Moneу». Эрна пригласила меня на белый танец. Девчонки обычно обнимали двумя руками за шею, закрывали глаза и приоткрывали губы, передавая сигнал готовности к поцелуям. Она обняла меня за талию, постепенно все сильнее и сильнее прижимаясь бедрами. Исходящее от нее тепло в сочетании с движениями привело к тому, что я начал терять самообладание. Поскольку комнате мы были не одни, я решил несколько сбавить обороты и сместился в сторону. Тогда ее ноги плавно раздвинулись, и моя нога оказалась между ними. Красная юбка скользила то вверх, то вниз, вызывая во мне вихревые электрические потоки. Не знаю, чем бы закончился этот танец, как вдруг она прошептала на ухо.
– Проводи меня, пора домой.
Такой перепад трудно передать. Чувствуешь себя, как разъяренный бык. Внутри все кипит, а что с этим делать, голова уже не соображает. Кстати, Виктор, в твоей истории был предложен выход из подобной ситуации в виде окунания в пруд или бочку с холодной водой.
– Да, да, было, не перекладывай с больной головы на здоровую.
– Самое интересное впереди. Не вздумайте бросить меня наедине с воспоминаниями, – продолжил Михаил, придав голосу оттенок таинственности. – Она быстро набросила красное пальто и соорудила высокий воротник из вязаного шарфа. Я застыл в явном недоумении.
– Ты не хочешь проводить меня?
Это был не вопрос, скорее вызов, который хотелось принять. Меня вело родившееся в танце желание.
Итак, мне предлагалось прогуляться несмотря на полный дом гостей. А вдруг в этом есть скрытый смысл? Если бы она просто торопилась, то попросила бы вызвать такси. Мысли блуждали в лабиринтах зоны головного мозга, отвечающей за удовольствия. Друзьям объяснил, что скоро вернусь, мол, веселитесь, но не разнесите квартиру. Зашли в лифт. Любителями эпиграфического жанра щедро разукрасили стены, судорожно мигала умиравшая лампочка. Красные цвета потемнели, черты лица скрыла тень. Может, она продолжит здесь, добавив острых ощущений? Я замер в ожидании.
– Да ты надоел! Трусы хотя бы снял или нет? – не выдержал Виктор. – Или ей надо было самой? Только не говори, что на этом все закончилось. Я не знаю, что с тобой сделаю!
– Вечно ты все портишь. Привык по полям бегать за девками, удаль демонстрировать, не чувствуешь вкуса вина переживаний, – отозвался Михаил с некоторым раздражением. – Запомни, ожидание счастья больше, чем само счастье. Жаль, не я придумал. Не перебивай – пойми, теряется атмосфера того времени, воссоздаваемая словами. Это не просто звуки, исчезает ее запах и даже тень. – Он выдержал паузу, как хороший актер, и продолжил: – Дверь открылась, Эрна вышла из лифта, не проронив ни слова. Снег уже захватил всю территорию и продолжал наращивать свое присутствие. Мне тоже хотелось овладеть некоей территорией, но я не такой могущественный и белый. Эрна представлялась сплетением огня и страсти, запертым в кокон из красной ткани, способным растопить все, что попадает в зону ее интересов. Внезапный переход от разящего алым лазера к мягкой пастели продолжал интриговать, голова кружилась от ожиданий и предположений. Время и расстояние остались за пределами нового измерения, адреналин разделял и властвовал, на сцене чувств солировало желание.
Очнулся я на лестнице. Шарф огненным языком коснулся шеи и повис в воздухе. Пальто распахнулось, руки обхватили талию, пальцы медленно передвигаясь, собирали юбку в узкую набедренную повязку, губы соревновались в проворстве с языком. Ощутил гладкую ткань, легко сползавшую вниз при малейшем прикосновении. Одной рукой повторял контур тела, другой пытался расстегнуть ремень.
– Мне пора идти, я вернусь. – Нежный голос, почти стон.
Легкое прикосновение губ, постукивание каблучков, щелчок ключа в замочной скважине, и молодой человек, одиноко застывший на лестнице со спущенными штанами – все, что осталось от ожиданий.
– Правильно сделала! – оживился Виктор. – А ты решил на нас выместить свои обиды, нагнал такой пурги, что прямо хоть беги и умоляй первую встречную оказать посильную помощь. Ты не забывай, где мы находимся, до выходных еще дожить надо. Историю решил рассказать! Нашел недоумков, фантазии одни! По жизни-то все иначе было. В такую минуту от ворот поворот дала! Прямо само коварство, а не девушка.
– У тебя не хватает ни терпения, ни такта дослушать до конца, – невозмутимо ответил Миша. – Учись, Володя ни разу не прервал моё повествование, потому что воспитанный. А ты настоящее перекати-поле. Ну ладно, если возражений нет, я продолжу. Температура и настроение, естественно, упали. Я вернулся к реальности, а та заставила бежать вприпрыжку в обратном направлении. В квартире звучала музыка, слоистый дым колыхался над головами танцующих, курящих, пьющих и поющих. Ребята обрадовались моему возвращению. Интерес к причинам моего исчезновения тлел, но недолго. Кто-то поддел, что с радостью поменялся бы девушками, мол, после таких танцев трудно остановиться, а я, похоже, чего-то недоговариваю.
Прогулка способствовала полному протрезвлению. Мысленно я оставался на лестнице, вливание в компанию носило формальный характер. Постепенно все разошлись. Я принял душ и забрался под одеяло, холодные простыни напоминали о несбывшихся надеждах. Не заметил, как провалился в приятные сновидения.
Что-то настойчиво пыталось нарушить мою сонную идиллию. Резкие звонки разрывали пространство и мою голову на части. Медленно сползая с кровати, осознал, что это не телефон. По пути к входной двери сшиб пару стульев и все же, прежде чем открыть, спросил:
– Кого там принесло?
– Это я, открывай быстрее.
Растворилось всё: сон, дверь, ночь.
– Ты совсем голый, иди, ложись. Я сейчас приду.
Мое тогдашнее состояние легким ознобом не назовешь: зубы выбивали дробь, и унять их никак не удавалось. Черные волосы, белая грудь, розовые колпачки на вершинах, черный треугольник… если он окажется Бермудским, кораблекрушение неминуемо. Она легко нырнула под одеяло. Красная одежда была не случайной, она растопила снег, лед, и я как мотылек вспыхнул от близости ее огня.
Утром Эрна быстро оделась, отказалась от чая и кофе, поцеловала, сказала, что сама закроет дверь, а мне нужно поспать. – Михаил шумно выдохнул и сам прервал родившуюся тишину: – Спасибо всем за внимание, было приятно снова пережить тот вечер и ночь. Надеюсь, я вам не наскучил. – Он замолчал и ушел в себя, где как оказалось, по-прежнему жила она.
Виктор тихо уснул, похоже, не дослушав историю до конца. Я пожелал Михаилу спокойной ночи и поблагодарил за разделенные эмоции. Пока он говорил, мне казалось, будто это происходит со мной. События перешли границу личного опыта после того, как рассказ о них обрел самостоятельную жизнь и стал достоянием времени. «Может быть, где-нибудь когда– нибудь мне удастся пересказать эту историю», – подумал я уже в полусне.
54
Время и отражение его течения в зеркале, картинки памяти и глаза, ищущие нас. Соизмеряем и оцениваем, взрослеем или стареем. Радуемся, расстраиваемся, или безразлично растворяемся в зеркальном отражении, зазеркалье «я» смотрит в улетающее пространство. След за спиной и пространство впереди соединяют пройденный и грядущий пути, и кажется, что каждый сам по себе, а ты внутри, в точке, и некуда идти. По истечении лет, встретив бывших одноклассников, вдруг осознаешь безвозвратность ушедшего времени, новые образы не соответствуют хранящимся отпечаткам памяти, завязанным на сокровенные переживания. Видишь следы, оставленные временем и бременем разных судеб, изменившие черты до неузнаваемости.
Общение, построенное на воспоминаниях, являет собой чудотворный эликсир, погружающий в прошлое. Лица становятся знакомыми и близкими, перемены вроде морщин, поседевших волос остаются в прошлом, растворяясь в настоящем. Воспоминания, не искажая реальность, позволяют расширить горизонты восприятия. Мы видим то, чего новые знакомые никогда не увидят. Они видят, то, чего не замечаем мы. Очевидно, визуальное ощущение реальности обманчиво. Истинное представление не может ограничиваться временем, чей вектор строго направлен в будущее и пространством, всего лишь трехмерным.
В отражении прежде всего ищем лицо, а не живот. Лицо голое, а живот, хоть и присутствует, спрятан под одеждой. Еще меньше беспокоит то, что внутри, его же вовсе не видно. Представляется интересным в себе несовершенном поискать себя совершенного. Скорее всего, невидимое в значительной степени формирует видимое. Причесывать волосы нас научили родители, и мы посредством несложных манипуляций создаем некий внешний образ. Найти образ внутри себя гораздо сложнее. Существуют различные способы воздействий на тело или телом на внешние предметы для достижения совершенства форм и кондиций. Однако, внешние воздействия, как и внешний вид, только вторичны. Первичным является поиск ощущения совершенства внутри собственного тела. Оно знает то, чего мы о нем не знаем и знать не можем, так решил Создатель. Тело унаследовало многомиллионнолетнюю историю всего живого на Земле и не только на ней. Нескончаемые информационные потоки и достижения цивилизации всё дальше уводят от истоков и все больше растворяют нас, превращая в не имеющие собственной значимости частицы, приближают человека к функции робота. Монахи не случайно ищут уединения, ибо оно дает возможность погрузится в состояние, позволяющее выйти за грани бытия, за грани привычных представлений и собственного тела. Достаточно начать с малого, например, задуматься, какое животное нравится больше других, каковы его повадки. Останьтесь наедине с собой, разрешите телу вспомнить движения этого животного, не торопитесь. Шаг за шагом вы почувствуете, что это совершенное тело живет уже сейчас внутри вас. После первого знакомства появится желание повторять это снова и снова. И, что не менее важно, ваше тело будет само просить вас об этом. Оно, кстати, и сейчас об этом просит, но вы не слышите его. У тела своё сознание, и странно, что нам неинтересно вступить с ним в общение. Оно нас любит, а мы его нет.
55
Звонок, начинается первое действие. В фойе купил программку. Фамилии актеров и режиссера отсутствуют, спектакль «Он и Она» состоит из четырех действий, идет каждую неделю, содержание и действующие лица постоянно меняются. Авторы проекта на вечную тему предлагают пережить эпизоды жизни неизвестных мужчин и женщин вместе с неизвестными актерами и неизвестным режиссером.
На сцене силуэты мужчины и женщины. Луч прожектора выхватывает фигуру человека в шляпе и плаще, лица не видно, голос приходит словно со дна колодца, слова достаются вместе с ведром воды, скрипит цепь, наматываясь на бревно.
– Я художник. Хочу дописать то, чего, на первый взгляд, не видно, то, что возникло раньше. Например, стены тут красные, нет, скорее, бордовые. Занавески желтые, плотные, почти цвета золота.
Художник медленно проводит ладонью по поверхности стены, поворачивается к окну.
– И свет, направленный луч струится. Он теплый, он ничей, он свободный, оторванный от родителей, немного наивный.
Он посмотрел на женщину, легкая полоска света пробежала по ее силуэту, и продолжил монотонно скрипеть:
– И отражение черно-белое, платье черное, тело белое, извилистая бесконечность волос, черных, да, жгуче черных. И глаза. За отражением, далеко, очень далеко, печаль, тень и водяные разводы.
Произнеся эти слова, художник подошел к краю сцены, приоткрыв свое немолодое лицо, разделенное пополам внушительным с горбинкой носом, и продолжил убаюкивающим голосом:
– Вы чувствуете воцарившееся молчание. Оно как расстояние между сказанным и несказанным, пауза с многоточиями. Кто-то остался с ощущением недосказанности, а кто-то с переизбытком сказанного. После крика упала пустота, как остановка, как черная дыра, готовая поглотить нарождающиеся попытки движения от мысли к слову. Она вдохнула и затаила дыхание на острове красноречия, а он выдохнул – и остался в пустыне молчания. Их переживания не становятся прошлым, они цепляются за несуществующее будущее и мучают настоящее. Отрицательные эмоции ищут в прошлом родственные души, иначе погибнут. Извлекают на свет мрачные образы, с готовностью оживающие, выпрыгивающие из сундуков памяти, примеряя потрепанные наряды былых обид. В объятиях горячих чувств они преображаются, наполняются собственной значимостью, как вампиры кровью, и рады служить без почестей и наград.
Художник развернулся и направился к мужчине. Бросил на него оценивающий взгляд и обратился к зрителям:
– Он молчит. На фоне трепетной тишины нас ждет голос с хрипотцой, не самый молодой, пожалуй, вкрадчивый и точно чужой. Худой, нестрашный, с сединой. Уверенность и обстоятельность позволяют полагать, что Он не случайный гость, и эта ночь его по праву.
Художник посмотрел на женщину, тяжело выдохнул, покачал головой и, повысив голос, продолжил:
– Хотелось крикнуть: «Гоните его прочь!», – но слов моих Она не слышит. Кажется, я пишу их жизнь, но, может быть, они вдохновили меня, и я только пытаюсь её воссоздать.
Свет проводил уходящий силуэт художника и погас. Снова возник, вырвав из темноты заостренные черты мужского лица.
– Я вам плачу не за любовь – за время, собранное мной в изысканный бокал. Он может быть пустым или играть цветами, безумством красок бытия. Вы сами мне сказали «да», что все условия вторичны, и лишь игра для вас важна.
Голос мужчины действительно оказался хриплым и глубоким. Мягкий свет отразился от точеного лица молодой женщины и тенью упал на её воздушное платье.
– Я не сказала «нет». Вы повелели, чтоб я была – я есть. Но часть меня блуждает, как всегда. Я думала, вас это не волнует.
Женщина молода, красива, печальна, голос дрожит.
– Я не просил вас спать со мной, но вы, бравируя игрой, даруете лишь тень свою с тоскою.
– Желанье жить, c огнем танцуя, то веселиться, то стонать, обняться с грустью и искать в себе, что не нашли другие, неужто это может обижать?
– Вы затворили все врата, запрятав искренность в темницу, с коварством обручаясь, рождаете вы пагубную страсть, к себе искусно приближая, чтоб тут же отвергать и снова соблазнять, чужой судьбой играя.
– Моя душа стихии отдана, и правил не люблю я и тех, кто правит. Не люблю, как лгут, придя на исповедь святую.
– Забыв о правилах, впадете в тьму бесправия. Возможность рядом с вами быть дана судьбой на основанье знанья правил, а нынче обладаю правом править их!
– Вы нарезаете слова, как хлеб, играя острием, а я, в отличие от вас, могу не только острым быть ножом, но и душистым теплым хлебом.
Она перетекла от открытого окна к мягкому дивану, движения подчеркивали независимость и строптивость.
– Скорее горячим, дышащим огнем. Ночь, разрушенье, сменяет день и обновленье, рожденье новых слов, достойных вашего коснуться слуха. И вы источник этого огня. Воспламеняют ваши ноги, руки, и контур нежного лица, и бедер линия и полоса, как след ножа, от уха и до плеча.
– Во время сна меня вы раздевали, хотели, видимо, помочь. Легли, вздыхая, на кровать, и снова совесть вам пришла шептать: давали слово не платить желаньям дани. Но лишь завидев прелести белья, вы потеряли вновь себя.
– Подобно вам я потерял лишь часть себя. Вторая часть не в силах примириться, от одиночества она томится. Но вы не лекарь – вы палач.
– Вы сами рисовали страсть, как воздух вашей жизни, и льдом себя просили оградить, чтоб вашу страсть подольше сохранить.
– Я попросил у вас бокал вина, а вы готовы поделиться только ядом.
– У вас болит душа, но правда в том, что ваш рассудок вас же и погубит. Вы любите одну, страсть дарит вам другая, томится третья, страстно вас желая. Постель холодная, чужая не обогреет вашу кровь.
– Вы судите меня за роль, свою притом играя дурно. Вам хочется понять чужую боль, свою, запрятав в простыню измены. Вы ложь постелете в кровать, прикрыв ее все той же ложью.
– Так что же вас страшит? Мое притворство? Или нехватка ваших сил держать желанья под контролем? Вам нужен извращенный идеал, чтобы она кинжал вонзала в вас, лаская, но медленно, не убивая.
– Надменны вы. Хотел бы видеть я мужчин, которые владели не только плотью божества, но и испили бы сполна всю чашу яда ваших чар. Я думаю, что их уже отпели.
– Вы дьявола спросите. Он расскажет, как они кутили. Каким им показался мир, когда над пропастью парили?
– Я так и знал, что ищешь рай, безумно женщину целуя, а это дьявол на ухо шептал: «Возьми послаще, эту и другую».
Яркий свет упал на бледное лицо художника, вырвав его из темноты, мгновенно поглотившей мужчину и женщину.
В подобной обстановке каждый не только говорит, но и думает, преобразуя зрительные и звуковые ряды в поэтическую форму.
Художник медленно рассыпает слова на картину, заполнившую пространство между ним и зрителями, между словом и жизнью.
– Полотно, на котором не хватает эмоций, вызывает непреодолимое желание его дополнить. Немного молодой травы, вода, рыба плавает, птица поет, женщина дерево обнимает, ветер дует, волосы в радугу вплетает, рука тянется, руку ждет. Каждый в душе художник, каждый своё полотно пишет или ткет, притягивает чужую жизнь, свою украшает, терзается, на помощь зовет и снова ждет того, чего не хватает. Оно появляется и исчезает, и ждать перестаешь, только если все отдашь.
Свет погас. Первое действие закончилось. В таком театре смотришь, играешь и живешь – грани не разделяешь.
56
Эхо последнего звонка оттолкнулось от юности и улетело в детство. Время тянулось медленно. Природа, родители, школа готовили нас, как начинающих гонщиков, к увеличению скорости, и она увеличилась. Борьбу между актером и настоящим мужчиной, выиграл, при явном подсуживании, второй претендент. Роль судьи исполнял отец. Дополнительным аккордом стали пробы на главные роли в шести картинах на Ленфильме, закончившиеся дублированием одной из них.
Выбор вуза определялся детской любовью к автомобилю. Поездки с отцом, поездки в школу и множество переездов предопределили эту любовную связь. После сдачи экзаменов появилось одновременно свободное время и приглашение отдохнуть на южном берегу Крыма. Билеты на самолет стоили недорого, но их надо было достать, а жилье предоставляли знакомые и практически бесплатно.
Самолет и автобус отняли только малую часть сил, остальные ушли на ступеньки каменные ступеньки, впившиеся в горный массив извивающейся, неровной, убегавшей вверх к небу тропой. Ресницы широко раскрытых глаз упирались в брови, спасавшие глаза струек пота. Деревья переплетались с кустами, кусты с цветами, цветы заползали в траву, трава облизывала камни, детей гор, горы смотрели в небо, небо отражалось в воде, вода напоила растенья и ушла в море. Лестница привела в поле, приютившее зерна, пустившие корни, давшие высокие и сильные побеги. Узкая стежка, видимо, козья, вывела к небольшому деревянному дому.
Несколько комнат, моя на чердаке, даже не комната, а только кровать. Сумка у стены и аккуратно сложенные вещи. Соседа нет, но ощущение его присутствия есть. Переодеваюсь, падаю на кровать, закрываю глаза. Тихо и нежно обнимает свобода, кровь от ее прикосновения разгоняется, требуя движения. Но куда? Энергия копится, пытается гнать с кровати, но неопределенность сдерживает.
– Привет. Надеюсь, не спишь?
Мужчина среднего роста, лет тридцати, хорошо сложен. Улыбаясь, щурит глаза. Приподнимаюсь, но пружинный матрас умело обвивает меня, словно щупальцами, сказывается морской климат.
– Давай знакомиться. Меня зовут Александр. – Он протянул руку, присаживаясь на кровать.
– Владимир, только приехал, отхожу после подъема, – выпалил я в ответ, как бы извиняясь за свою пассивность.
– Мне говорили, что ты сегодня приедешь. Планы на вечер есть?
– Явно выражено пока одно желание – броситься в море.
– Готов составить тебе компанию, если ты меня немного подождешь. Сразу соберусь на вечернюю программу. Меня просили, правда, за тобой присмотреть, но ты, вижу, под метр девяносто ростом и вполне в состоянии сам контролировать ситуацию. Явно не только книжки собираешься по ночам читать.
Мы рассмеялись. Дружеский тон прекрасно дополнял портрет нового знакомого. Редкое свойство изменять время в ячейке памяти другого человека. Вроде знакомы считанные минуты, а кажется, будто давным-давно.
– Я здесь первый раз, ничего не знаю, но предполагаю наличие дискотеки.
– Дискотека, кино, театр – всё есть, но это не приоритетные направления в месте, где имеется горный воздух, море и ласковое солнце. Здесь рождаются увлечения, романы, переживания, любовь, в конце концов. Понимаешь, о чем я?
Доверительная манера общения скрадывала разницу в возрасте. Стеснение ушло за ширму, подняли голову желания.
– Конечно, понимаю, но где знакомиться, как не на дискотеке?
– Знакомиться можно везде. Фокус в том, что в большом городе люди задавлены суетой текущих забот, своими и чужими проблемами, родными и знакомыми. А тут солнце согрело, вода обласкала, расстояние разорвало цепи – девушки открыты миру, а какой мир без мужчин? Нужно только не бояться и действовать, не портя этот розовый мир, но наполняя его содержанием.
Я замер, как вспаханное поле в ожидании семян, воды, тепла. Похоже, мне повезло: хлебороб знающий, урожай будет хорошим. А он, понимая мое состояние, продолжал:
– Сегодня вечером у меня свидание с девушкой. Она умница, и твое присутствие никоим образом не помешает. Одевайся так, чтобы после заката тебе было комфортно, возьми, если хочешь, плавки, но ночью отлично купаться и голышом. Я пока побреюсь. Иногда не грех это делать и два раза в день. Затем соберемся, зайдем в кафе, в магазин и вперед.
Темнеет на юге непривычно рано. Солнце с готовностью передает вахту луне, и та с удовольствием раскидывает свое богатое тело на звездном покрывале небосклона. Благодаря свету, которым она неохотно делится с землей, пробираемся через поле и прыгаем по ступенькам. Спускаясь, не думаешь об их количестве. Теплый душистый воздух пьянит нас, как шмелей в зарослях хмеля.
Пересекаем дорогу. Автомобили натужно ползут вверх или лихо несутся в противоположную сторону, скрипя покрышками на крутом повороте. Узкие улочки и каменные дома тонут в бесконечных садах, наперебой дразня красотой и ароматами. Заходим в небольшой дворик. Невзрачная вывеска и запах горящего масла – чебуречная.
– Здесь все по-другому. Укусишь чебурек – и он растает во рту. Поцелуешь девушку – и почувствуешь запах моря и тепло солнца. Поэтому ничего не будем откладывать на завтра, насладимся тем, что дарит жизнь сегодня. – Речь Александра гармонично продолжала его стиль в одежде – неброская элегантность, внешняя мягкость, основанная на твердой уверенности в себе.
– Действительно, очень вкусно, – отзываюсь я, не без труда управляясь с сочной начинкой, норовящей выпрыгнуть из нежного чебуречного нутра.
Стараясь не терять темпа, быстро утоляем голод и возвращаемся на улицы, наполненные курортной жизнью. Женщины, как сады, подчеркивают свои прелести, используя контраст загорелого тела и белоснежных нарядов. Мужчины заняты своими проблемами, но некоторые уже успели расслабиться. Находим магазин, стайка мужиков оживленно трется у входа, объединенная общими интересами.
– Прекрасное вино с местных виноградников нам явно не помешает, – отметил Александр со знанием дела.
Он взглянул на часы и устремился, судя по нарастающему звуку прибоя, в сторону моря. На небольшой площади стояла девушка, затылок нашел удобный изгиб чугунных ворот, глаза изучали небо. Проходящие мужчины глазели на ее ноги – ветреная юбка постоянно меняла ракурс.
– Марина, извини, немного задержался. Но посмотри, какого чудного парня привел. Зовут Владимир, мой сосед, сегодня приехал.
– Очень хорошо, Владимир, можно считать знакомство состоявшимся. Относитесь ко мне, как к товарищу. Главное, не стесняйтесь, отпустите педаль тормоза и жмите на газ. Для завершения обряда братания обменяемся поцелуями. – Она положила руки мне на плечи и прикоснулась губами к щеке, я даже дернуться не успел. – Ритуальная часть окончена, предлагаю найти уединенное место около воды, но чтобы набегающая волна не утащила вещи, как в прошлый раз. Да, напоминаю, Володя, вам это будет интересно: для усиления эффекта ваш друг использовал крепкие напитки в сочетании с морским воздухом и страстными поцелуями.
– Не думаю, что следует давать волю своей бурной фантазии, – Александр закончил фразу коротким поцелуем в губы. – Ты сегодня хозяйка, накрывай стол, а я займусь бутылкой.
– Представляете, он эксплуатирует женщину, мотивируя тем, что живет в горах!
Александр обнял Марину за талию, и они направились искать удобное место. Я снял кроссовки и ощутил тепло нагретых за день камней. Однако первые мои шаги по пляжу напоминали первые шаги ребенка – ступни с трудом принимали форму разнообразных камней. Марина извлекла из пляжной сумки яркие полотенца, достала два стеклянных стакана, виноград и небольшую коробку конфет. Полотенца расстелили. Поразила обстоятельная подготовка. Я задумался, сколько ей лет, вероятно, двадцать пять уже есть. Красное вино играло в лунном свете, в соленом морском воздухе появились сладкие нотки.
– За знакомство и, надеюсь, взаимное обогащение от общения.
Александр добился звона стаканов, Марина сделала глоток и передала свой бокал мне.
Звон повторился. Я сделал несколько больших глотков, от непривычной температуры и общения с женщиной разыгралась жажда. Александр встал и направился в сторону моря, по пути сбросив плавки.
– Присоединяйтесь.
Марина повторила его действия, сбросив обе части своего купальника, изящно намекнув, что умеет не только красиво одеваться. Сверкая ягодицами, она резвилась воде, как молодая кобылица. Прибегнув к сеансу дыхательной гимнастики, я последовал их примеру.
Плавание голышом приближает к природе, все части тела свободны. Волна приглашает на танец, остается только повторять ее движения, перекатываясь с гребня на гребень. Вода нежит, соблазняет и заманивает все дальше от берега. Она противится вашему возвращению, слизывая песок под ногами и увлекая в пену своих фантазий. Очертания тел, окруженные искрами брызг, серебряных и хрустальных в лунном свете, кружили в танце и замирали, как на паузе. Интенсивно работая руками и ногами, я вылетел на берег, нашел плавки и бухнулся на спину. Одинокие звезды предлагали разделить красоту и холод одиночества, подразумевая, что тепло сегодня кому-то другому.
Подошла Марина, присела рядом, набросив полотенце.
– Я вижу, ты добрый. Женщин трудно понять, они сами не понимают, что имеют, чего хотят. Когда рядом любимый мужчина, грустят, боясь его потерять. Готовы мучить, лишь бы самим не страдать. Хочу заставить его ревновать. Поцеловала тебя и еще хочу поцеловать. Не знаю, почему, просто ты вызываешь нежность. Я чувствую, что если захочу, ты потеряешь голову. Вот он не хотел, а я потеряла.
Она провела кончиками пальцев по моей щеке, закрыла глаза, тихо выдохнула, отстранилась и легла на спину.
– Пора наполнить бокалы! – почти кричал Александр, активно растираясь полотенцем. – Меня посетила отличная мысль. После завтра уезжает твоя соседка Таня, предлагаю устроить у нас на горе прощальный вечер.
– Не знаю, согласится она так сразу на вечеринку, но попробую уговорить. При условии, что вы за нами зайдете, и мы предварительно прогуляемся.
На этой мажорной ноте мы допили вино, собрались, проводили Марину к частному домику, где она снимала комнату, пожелали приятных сновидений и двинулись в обратный путь.
57
Мы перебрались в Зеленодольск. Последние эшелоны прорывались из Ленинграда с боями, немцы взяли город в кольцо. Папа уехал раньше нас, ему дали какое-то важное задание, и мы уже думали, что за нами никто не приедет, но около часа ночи позвонили в дверь, вошли мужчины в черных плащах, помогли погрузить вещи, посадили нас в машину и привезли на вокзал. На вокзале было много военных, они проверяли у всех документы. Мама сказала, что наши соседи возвращались в Ленинград почти две недели, у них не оказалось каких-то пропусков, и их высадили из поезда вместе с детьми на каком-то полустанке.
У вагона стоял Георгий Семенович, папин начальник. Мама говорила, что он недолюбливает папу, и поэтому нас могут оставить в городе. Разговаривая, он не смотрел в глаза, а потом неожиданно вскидывал их, как иголки втыкал. Я всегда вздрагивала. Сказал, что мы поедем спецпоездом, что с нами едет конвой. Вдоль поезда стояло множество солдат, все в фуражках с малиновой полоской. Мама пожаловалась, что беспокоится, ведь одну бомбежку в вагоне мы уже пережили. Я сразу вспомнила летчика, который о нас заботился, такой высокий, красивый, добрый. Мама тогда стала мягче, но только дала мне обидную пощечину. А я тогда не боялась, но до леса не успела бы добежать. Вот так один летчик спасает, а другой хочет убить.
Еще Георгий Семенович сказал, если проскочим Бологое, то все будет хорошо. Но мы не проскочили, нас опять бомбили. Соседний с нами вагон сильно покалечили, а у нас дырки появились, через них все вокруг было видно. Но пока длился налет, мы под полками на полу лежали, как и в прошлый раз.
Папа нас тогда на вокзале не встретил, мы сами добирались. Когда вошли, мама вещами в него кидалась, а папа ее успокаивал. Он только пришел с ночного дежурства и морил клопов, чтобы мы там могли жить. Небольшая комната в деревянном доме, в одной половине две бабушки жили, а эту часть нам выделили. Ничего, все разместились. Вера за печкой спала, я там и калачиком-то не помещалась, родители на кровати, а мне топчан достался, жесткий, но ничего, спать можно. Еще был стол и шкаф и теплая стенка от печки, к ней можно было прижаться спиной, закрыть глаза и помечтать.
Мама была права, когда не разрешила больше делать пирожное из печенья и масла. Всего этого не стало. Когда мы с Верой чего-нибудь просили, а просили мы еще поесть, она говорили, что у папы зарплата семьсот рублей, а буханка черного хлеба на рынке тоже семьсот рублей. Чтобы не варить суп из картофельных очисток с луком, мама около дома развела маленький огород, появилась своя картошка, крупная, в руках не помещалась, еще помидоры и огурцы. Когда мама берется за что-то, у нее все получается. Она даже маленького поросенка завела. Он как член семьи был, такой розовый, чистенький, за километр маму чувствовал, хвостик так вертелся, что, казалось, оторвется. Мама настояла, чтобы папа приносил отходы из столовой при КБ по ремонту подводных лодок. Поросенок рос, как на дрожжах, но потом заболел. Мама выяснила, что в отходы кто-то подбросил болты и гвозди. Беднягу зарезали. Я не смогла есть его мясо, и он мне долго снился.
Незаметно я выросла, и в школу идти оказалось не в чем. Мама взяла папино фланелевое белье, покрасила в розовый цвет и сшила мне из них штаны и кофту. Кирзовые сапоги принес папа. Они были мне великоваты, и в распутицу нога выскакивала наружу вместе с портянкой, и я, как аист, стояла посреди грязной улицы на одной ноге. Мое кроличье пальто лезло нещадно, покрывая все вокруг пухом, но кому-то понравилось, и когда нас не было дома, его украли, а больше ничего не взяли – нечего было. Мама проснулась на следующий день и сказала, что ей приснился сон, она знает, где искать пропажу. Ушла куда-то, вернулась часа через два и принесла пальто. Сказала, что сразу нашла дом, в точности такой, какой видела во сне. Когда ее спросили, почему она забирает пальто прямо с вешалки при входе в дом, она сказала:
– Сделайте вид, что никогда не видели этого пальто, или сядете, а то и расстреляют. Спите с мыслью, что за вами «воронок» едет, может, воровать перестанете.
Закрыла дверь и вышла, и никто за ней не погнался, хотя мужчины в доме были. Папа сердился, что она пошла одна, и спрашивал где этот дом, но мама сказала, что второй раз не найдет. Правда, забыла, или людей пожалела, не знаю. Если уж мама что-то решит, ее не остановишь.
Наши войска прорвали блокаду Ленинграда. Я тогда училась в третьем классе, стояли сильные морозы. Мы все очень радовались, появилась надежда, что скоро вернемся домой. Спустя некоторое время мама забеспокоилась – прошел слух, что, если задержимся, рискуем остаться без комнаты. Папа уехать не мог, он обеспечивал охрану каких-то секретных объектов. Он часто приходил и уходил, когда я спала, а иногда по несколько дней не возвращался домой. В Казани объявили набор специалистов для реставрации ленинградских памятников, и мама настояла на поездке туда. Родители вернулись поздно, папа был чем-то недоволен, а мама сказала:
– Меня берут, стаж пригодился. – Потом улыбнулась, повернув голову в мою сторону, и добавила: – Прораб такой милый человек, на него можно положиться, не обманет.
Папа при этом вышел из комнаты, хлопнув дверью. Родители никогда не ругались, но иногда чувствовалось, что они не довольны друг другом. Спустя какое-то время мамин прораб, Павел Семенович, зашел к нам в гости. Мне он тоже показался приятным, в костюме, в галстуке, от него как-то вкусно пахло. Он приехал сообщить, что на днях группа отобранных специалистов из Зеленодольска должна отправиться в Казань, а оттуда в Ленинград. Папы дома не было. Вдруг погас свет – перегорела лампочка под потолком. Павел Семенович предложил ее заменить, встал на стул, отвинтил перегоревшую лампочку, мама подала ему новую. В это время вошел папа, свет из прихожей упал в комнату. Стоя на стуле, наш гость сказал:
– Здравствуйте, Иван Павлович, мы с вами в Казани виделись.
– Здравствуйте, Павел Семенович, – сухо поздоровался папа, взглянул на маму, взял лежавшие на столе папиросы.
Он остановился у двери, открыл пачку, достал папиросу. В комнате было очень тихо.
– Извините служба, должен идти.
Он вышел, Павел Семенович даже не успел слезть со стула. Однако лампочку поменяли, в комнате загорелся свет. От чая гость отказался и довольно скоро ушел. А вскоре уехала мама, забрав с собой Веру. Мне она сказала:
– Тебе надо учиться, а как там будет в Ленинграде, не известно. Устроюсь – напишу. Да и за папой нужно кому-то ухаживать. Тебе уже десять лет, так что будь здесь хозяйкой. Надеюсь, это не надолго, и вы тоже скоро приедете.
Стук, стук, стук доносится до меня, возвращая в комнату, где я сижу одна около печки. Дрова уже не потрескивают, но стенка греет – каждому хочется, чтобы его хоть немного согревали. Стучат в дверь. Вокруг меня лежат книги, я их не выбираю, они сами ко мне приходят. В черном переплете Диккенс, в золотом Фенимор Купер, под ним Вальтер Скотт. На коленях рассказы Паустовского, рассказ «Прощание с летом». Остановилась на фразе «Зима хозяйничала над землей». За окном тоже зима, и снежинки, и лед на Волге, но в книге это притягивает, хочется все увидеть, а здесь похоже, но холодное, неприветливое, сердце сжимается. Громкий голос Левитана из «тарелки»:
– Войска 3-го Украинского фронта, перейдя в наступление, форсировали Дунай севернее реки Драва, прорвали оборону противника на западном берегу и, продвинувшись в глубину до сорока километров, расширили прорыв до сто пятьдесят километров по всему фронту.
Каждый день я слушаю сводки с фронтов. Это огромная книга внутри меня, и я ее героиня, малая часть большой повести. Я могла бы сделать больше, могла бы пойти в разведку. Каждое утро в шесть часов я обливаюсь ледяной водой, зубрю немецкий, учусь наблюдать. Да, это уже было, мы уже переходили в контрнаступление и форсировали Дунай в начале войны, но сейчас все по-другому – мы наступаем по всей линии фронта, нам уже не придется снова переправляться через Дунай, у нас впереди Берлин.
Опять стук в дверь. Я уже забыла о нем, в такое время никто не заходит. Папу не видела уже два дня. Открываю, стоит мальчик, высокий, без шапки, на челке повисли сосульки, лицо худое, белое, а волосы черные.
– Дядя Ваня попросил дров занести, а то ты тут одна, беспокоится, замерзнешь. – Он нагнулся и приподнял лежащую на снегу связку дров.
– Проходи, топка в коридоре, дрова здесь оставь. – Я стояла около него, и мне не хотелось, чтобы он уходил. С тех пор как мама уехала, в комнате живем я, книги и информбюро. Папа только ночует, и то редко.
– Я так понял, тебя Ниной зовут. А меня Юра. – Он протянул мне руку, так взрослые здороваются.
Да, я давно себя чувствую взрослой, но не знаю, как ко мне относятся окружающие. Ему, наверное, кажется, что я взрослая. Рука у него холодная, но когда он сжал мою ладонь, она показалась мне горячей и очень сильной.
– Я живу в доме напротив вашего, в красном, четырехэтажном. – Он протянул руку, и она оказалось почти у меня над головой. Я не почувствовала себя маленькой, но стало видно, какой он высокий и взрослый.
– А откуда ты знаешь папу? – наконец заговорила я. Обычно у меня с этим просто, я часто беседую с литературными героями и даже изображаю их жизнь.
– У меня мама зубной врач, она работает в медсанчасти там, в закрытой зоне. Ты её знаешь, ты к ней на прием один раз приходила. Папа твой тоже у нее лечился.
– Помню, но лечить зубы не очень приятно. А сколько тебе лет? – Мне было интереснее про него, чем про его маму.
– Четырнадцать, а тебе?
Мне хотелось сказать «шестнадцать», но я с собой справилась.
– Десять, но всем кажется, что я старше.
Мы так и стояли в коридоре. Дверь в комнату была открыта, он увидел на книги на коврике.
– Любишь читать? – спросил он так, что сразу стало ясно, он тоже любит читать.
– Я часто дома одна, они мне помогают. Можно сказать, я в них живу.
Проводив его в комнату, показала на полки с книгами.
– В библиотеку часто хожу, иногда там читаю. Хочу узнать, чем кончится, и забываю, что я не дома. Сижу, пока не выгонят.
– Раньше мне мама часто читала книги вслух. Сразу вспоминаю довоенное время, тихо, спокойно, уютно. Может – если хочешь, конечно, – я тебе тоже буду читать вслух? – Он как то замялся и замолчал, смотря мне в глаза.
– Ты, конечно, не моя мама, – мне не хотелось, чтобы он считал меня маленькой, – но я не против. А что будем читать? Учительница литературы советовала роман Островского «Как закалялась сталь». Думаю, тебе понравится.
Он опять посмотрел мне в глаза, я же разведчица. У него голубые, а у меня карие. Зачем он так смотрит на меня? Ну да, я же взрослая, и он смотрит, как на девушку. Или как папа или старший брат. Брата у меня нет, не знаю, как братья смотрят.
– У тебя есть сестра? – Лучше сразу выяснить.
– Нет.
Он помолчал. Сосульки уже растаяли, бледные щеки порозовели.
– Если хочешь, приходи часа через два, я сделаю уроки, и почитаем.
Он кивнул и вышел.
Почти сразу стук раздался снова. Я подумала, это Юра вернулся, но за дверью оказался почтальон. Письмо от мамы, пишет, как всегда, крупно и разборчиво. Все у них в порядке, Вера в детском саду, а вот с продуктами пока плохо. Расспрашивает, остались ли у нас запасы с нашего огорода, как я хозяйничаю, как папа, часто ли ночует дома, и просит, чтобы я все подробно написала.
Папа действительно последнее время появляется нечасто. Он предупредил меня, если срочно будут вызывать на службу, чтобы я зашла в дом напротив, и записал мне номер квартиры. Получается, это тот же дом, где живет Юра. Юрина мама знает моего папу, она лечила ему зубы. Я не смогу спокойно сидеть и слушать Юру, если буду думать, что наши родители встречаются. Идти не могу: то ли боюсь, что папа рассердится, то ли, что увижу такое, от чего будет больно. Вот просто посижу, сидят же на дорожку. Намотала теплые портянки, засунула ноги в сапоги, взмахнула своим кроликом, нашла бумажку – квартира номер двадцать. Шапку надевать не стану, здесь рядом.
Ветер холодный, прямо в лицо впивается, снежинки жесткие, колются, предупреждают – не ходи. Но я уже пришла, четвертый этаж, последний. Что скажу, если откроет Юра? А что, если папа? Не знаю, буду молчать. Говорят, молчащий в огне страшен. Кнопка звонка одна, значит, одна семья живет. Нажимаю, тихо, нет какие-то шаги, точно не папины.
– Кто здесь? – голос женский, тихий, но встревоженный.
Я сама с трудом удерживаюсь, чтобы не убежать. Вспомнила маму, когда она ходила на задание с папой беременная – Вера должна была через месяц родиться. Ей тоже было страшно, но она справилась. Правда, Вера родилась через неделю.
Дверь приоткрылась немного, на цепочке держится.
– Девочка, ты что хотела?
Я сама не знаю, чего хочу, знаю, что не хочу увидеть Юру и папу. Объясняю:
– Папа оставил мне номер квартиры, где его можно найти. Я беспокоюсь, где он, решила зайти.
Дверь открылась. Девушка, молодая, на нашу учительницу пения похожа. Блондинка, волосы вьются, платье в горошек, сверху шарф накинут.
– Тебя Нина зовут. Ты проходи, не стой на лестнице. – Она суетилась, пропуская меня в комнату, как-то неуклюже двигая руками. Да, полновата она, и для неё эта встреча тоже неожиданная.
– Да, Нина. А у вас дети есть? – Этот вопрос меня беспокоил больше всего, даже ноги дрожали.
– Нет, а почему ты спрашиваешь? – Она как-то совсем растерялась. – Извини, не сказала, меня Катей зовут. Папы твоего, Ивана, то есть Ивана Павловича, сегодня не видела, он, должно быть, на работе в это время. – Она вопросительно посмотрела на меня.
– Извините, я тогда пойду. Может, папа уже домой пришел. – Уходя, вспомнила о письме, – Письмо пришло из Ленинграда, от мамы, хотела ему передать. Ладно, тогда дома передам. – А сама думаю, что письма у меня нет, врать плохо, но с чужим мужем встречаться тоже плохо.
Она ничего не ответила. Когда уже прыгала по ступенькам, меня догнало ее «до свидания», но я сделала вид, будто не услышала. Конечно, маме она не соперница. Мне нужна моя мама, а такая мама мне не нужна. А что нужно, так это торопиться, скоро должен прийти Юра. Снег хрустит под сапогами, но мне жарко, кажется, если захочу, вокруг меня всё растает, и появится зеленая трава. Открываю дверь, в комнате горит свет, за столом сидит папа и пьет чай, перед ним лежит мамино письмо.
– Здравствуй папа. – Мне опять трудно говорить. Стыдно, но хочется заплакать.
– Здравствуй, Нина, а ты где была? – Он смотрел на меня спокойно, не отводя глаз.
Когда я была совсем маленькая, мы играли в прятки. И когда он меня находил, он так же на меня смотрел, мне становилось так страшно, что я начинала плакать.
– Я была у Кати, хотела передать тебе письмо от мамы. – Эта легенда один раз уже меня сегодня выручила.
– Письмо лежало дома, на столе. – Он взял конверт и принялся постукивать его краешком по столу. Слабое «тук» растекалось по комнате через равные промежутки времени, как от метронома.
– Я хотела у тебя спросить, как ты будешь маме смотреть в глаза, когда мы приедем в Ленинград? – вырвалось у меня откуда-то из самой глубины, и сразу стало легче.
– А ты думаешь, этот хорошо пахнущий прораб, Павел Семенович, просто так лампочки ей менял?
Мне показалось, что лампочки перегорели у меня в голове. Я ждала, что он будет кричать на меня, ругать. Папа иногда, когда вспылит, может и выстрелить. В Ленинграде, еще до войны, он в свою сестру стрелял – хорошо, промахнулся. Мама сказала: «Не буду ремонтировать, чтобы помнил». Так без куска штукатурки стена и осталась. Но чтобы маму обвинять… Только прораба мне не хватало!
Папа продолжал сидеть за столом, забросив ногу на ногу и мерно покачивая сапогом. Он был не со мной, наверное, думал о чем-то своем, может быть, о маме, а может о себе.
В дверь опять постучали, это был Юра. Я извинилась, сказала, что сегодня не могу, может быть, завтра. Он ушел, а ведь я так ждала его. Раньше я не могла делать, что хочу, потому что отвечала за Веру. Теперь я отвечаю за папу.
58
Блаженная пора больничных коек и розовых воспоминаний закончилась. Боевая тревога застала меня на пороге казармы. Неприятный вой включил механизмы военной машины, и по заведенным кем-то правилам мы, как шестеренки цепляясь друг за друга, потащили оружие, боеприпасы, палатки и прочую утварь на плац. Офицеры и прапорщики, ощущая собственную значимость и осознавая свою беспомощность, сновали взад-вперед, путаясь в приказах и распоряжениях. Из ангаров медленно, с натужным ревом выползали танки. Добрая половина их предпочла остаться в спячке, отказав во взаимности механикам, притом отменно наградив их лица копотью, досталось и командирам. Артиллеристы катили пушки, а те эротично вздергивали стволы к небу, в то время когда их цепляли к тягачам.
Пулеметно-артиллерийский полк собирался с силами. Нашу роту решили доукомплектовать стрелковым оружием. Мой штатный СКС болтался за спиной, периодически напоминая о себе ударами при беге.
– По машинам! Грузить пулеметы и боеприпасы! – скомандовал комроты Ермолин.
Его всегда отличали четкость и хладнокровие. Точеные скулы и задиристый подбородок ладно укладывались в образ человека с непреклонным характером.
Трудно поверить, но мне на спину улегся всем своим железным телом народный любимец, легендарный пулемет «Максим». В моей голове никак не совмещались образ юной Анки пулеметчицы, спасавшей от белогвардейцев Василия Ивановича, Петьку и прочих красноармейцев, и вес пулемета, который, как пресс, вдавливал меня в землю. Что полюбил сразу, так это колесики. Они настоящие, металлические, не очень большие, но впиваются, как шипы. Известная рок-певица Сюзи Кватро считала, что бас-гитара вызывает ни с чем не сравнимое ощущение между ног, но оно меркнет по сравнению с Анкиным ощущением от «Максима» между лопаток.
Крытые брезентом «Уралы» приютили на деревянных скамейках весь личный состав роты, батальона, полка. Машины выстроились длинной цепью, увлекая за собой пушки, полевые кухни и спецтехнику. Легкий летний ветер просачивался сквозь щели брезента, виднелись стройные сосны, доверчивые березы, разноцветные автомобили, однотонные дома, девушки, незнакомые, но близкие. Ощущение пьянящей свободы накрыло пространство, время и наше молодое племя. Границы расширились, рамки раздвинулись, глаза засветились. Казарменная тоска, духота бесправия и серость одиночества остались в плену высоких железных ворот и бетонных заборов. Не случайно на войне не было и понятия дедовщины. Служили старики и молодые, опытные и необстрелянные, отважные и трусливые. Пространство страны стало собственным, собственное зацепилось за душу рядом стоящего, его душа откликнулась, захватив следующую, превратившись в цепь, скрепленную узлами испытаний, коими полна тысячелетняя история Российская.
Наша машина остановилась, как и вся колонна, сильно растянувшаяся и утратившая контроль над своим хвостом. Гражданские автомобили запутались в бесконечном лабиринте нашего обоза и разбили его на неровные части. Кто-то из старших офицеров ворчал и ругался, кляня вечную неорганизованность и, как всегда, дураков и дороги. Наконец послышался характерный щелчок передачи, «Урал» дернулся и покатился, оставляя за собой километры изб, берез и сосен и сны близких и далеких, за которые мы ответственны. Солдат, как известно, спит, а служба идет. Мы, как селедки в бочке, мерно покачиваемся и дремлем. Вдруг резкий рывок, и вот уже не толкаемся плечами, а бьемся головами. Урал всеми ведущими колесами залез в непролазную грязь и принялся ее месить. Выпрыгиваем из кузова и по следам гусениц понимаем, что танки успели раньше.
Костя Фуфаев честно разделил со мной красивое тело «Максима». У него на плече расположился круглый ствол с кокетливыми ребрышками охлаждения, а мне досталась станина с любимыми колесиками. После двух часов ходьбы в направлении заданной высотки руки, ноги и плечи стали поочередно отказывать. Даже стоять было тяжело. Но есть такое слово надо. Ломишься через «не могу». Не слышно собственных шагов, все плывет в дымке, ноги передвигают тело, но живут отдельной жизнью.
– Стой! Разойдись!
Не важно, кто скомандовал. Возможно капитан Веселов, замполит батальона. Фамилия ему явно досталась не случайно. Всегда в хорошем настроении, с чувством юмора и пониманием того, что солдаты это дети людей.
Все зашуршали карманами, доставая сигареты, папиросы, спички, зажигалки, а кто-то письмо от Наталки или от Галки.
– А где, с позволения спросить, голову на ночь преклонить можно? – никому не адресованный вопрос несколько перекосившегося от длительного общения с пулеметом Кости Фуфаева повис в воздухе.
Еще один питерец Коля Суворов, отличавшийся находчивостью и смекалкой, заметил:
– Ну, что, все, как обычно, выбираем газету, обращаем внимание ни не название, а на шрифт.
– Причем тут шрифт? Чего ты вечно несешь, Суворов? Ты б лучше про деда своего, про переход через Альпы чего интересного рассказал, может, и нам сгодится. Правда, хлопцы, а то за самого умного пытается сойти, – как всегда неспешно и рассудительно промычал Попадюк.
– Да я в основном о тебе и беспокоюсь, рядовой Попадюк. Ты только посмотри, матерь божья, каких размеров у тебя уши, – продолжал Суворов.
– Сдались тебе мои уши! Пустобрех, одно слово, – с явным раздражением прервал его Попадюк.
– Что правда, то правда, уши твои мне даром не нужны. А вот представь, уснешь ты на газете, шрифт правильный не выберешь, а он давить будет, и на ушах твоих весь отпечатается.
Общий смех заглушил возражения Попадюка и вызвал на его розовом лице красные пятнышки. Веселье оборвала очередная команда комроты и мы снова продолжили путь к намеченной высотке. Вечерело. Теплый июльский день превращался в прохладную ночь. Ноги все глубже затягивала жирная, сочная грязь. Такое впечатление, будто ее специально пушками разбросали, как снег на горнолыжных курортах. Недалеко от нас в лесном массиве послышался рокот. Недолго пришлось ждать и появления бронетехники. Это были танки, боевые машины пехоты, современные версии известных всем Катюш. Из люков виднелись небритые лица танкистов, небрежно напяленная форма.
– Это «партизаны», – спокойно произнес Ермолин, уловив повисшую в воздухе напряженность. Так окрестили солдат и офицеров, призванных на переподготовку. – Наш потенциальный противник, надо полагать, хорошо вооружен и достаточно опытен. Офицеры с белыми повязками на рукавах выступают в качестве независимых экспертов и обеспечивают выполнение правил игры.
По количеству техники стало понятно, что предстоят серьезные учения. Почему-то зашла речь о потерях.
– На крупных учениях, – бойко выстрелил в разряженный воздух Суворов, – допускаются потери в живой силе три-пять процентов. Вроде не много, а вот с тысячи подсчитаешь – призадумаешься.
– Что ты в этом понимаешь! – спохватился Попадюк. – Ты кроме поездок с родичами в такси ничего другого и не видывал.
– А ты, Попадюк, прежде пососи, а потом уж на такси, – неожиданно грубо и с издевкой ответил Суворов.
К разгоряченным спорщикам приблизился замкомвзвода Егоров, одного его взгляда хватило для смены декораций.
59
Желания. Следуя за желанием иметь, человек упирается в дверь, закрывающую свет. На ней замок, но человек не ищет ключ – он радуется замку, тому, что он у него есть, и ищет новый замок, встречая другую дверь… Это кажется странным, но когда у рабов спрашивали, о чём они мечтают, многие отвечали, что хотят иметь своих рабов. Желания двигают нами. Мужчина хочет женщину и способен ради неё на многое. Известна притча, когда молодой человек, красивый и богатый, прискакал к девушке, славившейся своей красотой, и попросил её руки, а она попросила его вернуться с этим предложением через месяц. Всё это время она практически ничего не ела и ни пила, её белоснежная кожа начала сохнуть, стягиваться, руки и ноги стали худыми, проступили кости, густые, пышные волосы, потеряли блеск и сбились в безжизненный, и когда у неё появлялось желание расстаться с тем немногим, что она ела и пила, она использовала красивую большую вазу. Так прошёл месяц. Примчался жених, и его встретила невзрачная женщина в мешковатой одежде. Он попросил пригласить свою возлюбленную, на что женщина ответила: «Она здесь. Я и есть твоя возлюбленная». Он удивленно смотрел на неё, она не вызывала больше жгучего желания, напротив, эта женщина будила неприязнь. Он спросил: «Что произошло, ты больна?» Она подняла на него глаза, они сохранили свой блеск. «Нет, со мной всё хорошо, просто ты любил другую женщину. Сейчас я её приведу». Он обрадовался, что это была просто шутка, хотя она изрядно расстроила его. Женщина вернулась в комнату с большим красивым сосудом в руках и передала юноше со словами: «Вот то, что осталось от того, что ты любил. Теперь уезжай, я останусь с собой, а ты с тем, что любил во мне. У каждого из нас свой путь к любви, прощай». Она развернулась и вышла, а он молча покинул её дом. Каждый думал о своём; она знала, что встретит того, кто понимает любовь так же, как она, а он гадал, почему она так несправедливо поступила с ним, и печалился об утрате её красоты, так сильно манившей его.
Мы так часто бежим по дороге желания, не собирая знания, а срывая плоды, которые не насыщают, но вызывают новое желание. И мы становимся рабами желаний, которые играют нами, а мы страдаем, не замечая, что это просто игра, где наша роль повторяется день за днём, пока мы не остановимся, пока не поймём ради чего и зачем живём. В поисках того, чего нам не хватает, мы теряем то, что у нас есть, и лишь тогда понимаем, что в нём и было то, чего нам не хватало, и что очень мало надо, чтобы потерять, и очень много, чтобы понять и сохранить. Когда в отношениях двоих появляется третий как удовлетворение желания, отыскивается то, чего не было в партнёре, и наступает эйфория, что вот, наконец случилось, пришла долгожданная радость, и люди расстаются… Но спустя непродолжительное время человек начинает понимать, что, обретя то, чего ему не хватало в предыдущих отношениях, он потерял то, чего нет в новых, и что, возможно, потерянное для него важнее приобретенного… И тогда он снова начинает мучаться недостижимостью счастья, не понимая, что оно всегда с ним. Просто он ищет своё счастье в другом человеке и не находит. Желания его делают жадным до счастья, которым он мог бы и сам делиться, а вместо этого испытывает голод по нему, и если смиряется, то становится угнетенным несправедливостью судьбы, и жалуется на ее коварство. Мол, судьба повернулась к нему спиной, а ведь надо лишь развернуться и лицом к себе самому и обрадоваться тому, что есть. В нас есть всё, что есть во Вселенной, и даже гораздо больше, чем надо для жизни. Тогда и возникает желание отдавать и не искать, чего не хватает, а делиться тем, чего в избытке – любовью!
60
Весь следующий день мы посвятили подготовке к запланированной вечеринке. Навестили рынок, потом знакомый винный магазин, в хозяйственном купили свечи. В перерывах между приготовлениями сбегали искупаться и пообедали в шашлычной. Чем ближе становился вечер, тем сильнее я волновался.
– Как выглядит Таня? Сколько ей лет, чем занимается? – поинтересовался я у Александра, старательно подпустив в голос безразличия.
– Я не спрашивал, сам все выяснишь. Но внешние данные заслуживают пристального внимания, вот увидишь. Надеюсь, не расстроишься.
Хотелось, конечно, подробностей, но и на том спасибо.
Стол накрыли на улице, виноград не только занял круговую оборону, но и обеспечил импровизированный потолок. Закуски, фрукты, торт – все подчеркивало праздничный характер вечеринки. Проводы, старинная русская традиция. Свечи создавали дополнительный уют, вином запаслись в избытке.
– Исходя из опыта твоего вчерашнего поведения, рекомендую использовать вино для обретения уверенности и смелости, это необходимые атрибуты мужчины при завоевании женщины. Но не стоит переусердствовать, иначе потеряешь контроль, – напутствовал Александр, передавая заряд уверенности через световые потоки искрящихся глаз.
Время бежало впереди нас, перепрыгивая через ступеньки; мы пытались его опередить, но едва удавалось не отставать. Калитка в уютный дворик была открыта. Худощавый «дворянин» взлетал, отчаянно лая, увесистая цепь останавливала полет его головы, но хвост продолжал движение, призывая за собой уставшее от двоевластия тело. Неудачи не охлаждали желание повидавшего разных кобелей сторожа добраться до нас. Напряжение растворилось в облаке женского очарования – показались девушки.
– Жемчуг, ко мне, вот молодец. Они не такие плохие, как может показаться на первый взгляд, – игриво заворковала Марина. – Например, Владимир, очень приятный молодой человек, Александра все знают, как менее приятного и менее молодого. Мужчины, склоните головы: представляю вам обворожительную Татьяну.
Мы покорно склонили головы. Когда взгляды оторвались от земли, силуэты девушек уже исчезли в волшебном пространстве за калиткой, как в зазеркалье. Мы поспешили следом. Легкий запах духов полностью завладел нашим восприятием. Округлые бедра покачивались в такт шагам, платья в сговоре с теплым ветром то скрывали, то обрисовывали контуры, дополняемые нашей горячей фантазией.
– Вы, кажется, забыли, зачем нас пригласили. Учащенное дыхание вовсе не способствует расширению внутреннего мира. И явно противоречит моим красочным описаниям вашего дуэта.
Александр, поймав последнюю ноту, продолжил в той же тональности.
– Мы не решались нарушить исходящую от вас ауру полной идиллии. Сочли своей задачей оберегать вашу безмятежность и ненавязчиво наслаждаться ею издалека.
– Этим можно заниматься, и не спускаясь с горы. Ничто не мешало бы погружению в собственные фантазии, – радостно съязвила Марина, показав кончик языка.
– Мы рады, что наше присутствие не остается незамеченным, и что вы с удовольствием посылаете стрелы, которые точно попадают в цель. Позволю себе предположить, что Татьяна не столь охотно отстреливает пойманных в сети мужчин.
Татьяна стрельнула опущенными глазами на Марину в поисках поддержки, облизнула губы, и после выдоха, спокойно парировала:
– Я никогда не охотилась ни на зверей, ни на мужчин. Мир, гармония с природой и людьми мне ближе. Так что не волнуйтесь, вы в безопасности.
– Сдается мне, ваша подруга не разделяет подобных взглядов. Однако уверен, что знаю молодого человека, чьи убеждения схожи вашими.
Мы начали взбираться в гору, упругие движения длинных ног легко подбрасывали воздушные подолы, волосы им вторили, мягко ложась на плечи. Затянувшееся молчание требовало выхода. Неуверенность сдавила горло и высушила его, а затем победно направилась захватывать новые рубежи, набирая силу и превращаясь в страх. Волшебной палочкой оказалась фраза, с детства заталкиваемая мамой в мою голову: мужчиной быть трудно, но достойно. Желание быть развязало язык:
– Мне доброта близка как часть меня, легко слетевшая с плеча.
– Владимир, это как это? Еще вчера я не слышала ничего подобного, а сегодня говорите стихами. Значит ли это, что общества одной девушки недостаточно для встречи с музой?
Марина застыла на одной ноге, дожидаясь пока я не поравняюсь с ней, облокотилась на плечо, вдохновенно прочла четверостишье, которое взлетело в воздух и повисло:
Чьи руки бережные трогали Твои ресницы, красота, Когда, и как, и кем, и много ли Целованы твои уста…– Думается, это Марина, но Цветаева. Прежде звучал Владимир, просто Владимир, я не ошибаюсь?
Александр подхватил Марину за талию, оставив меня с вопросом.
– Просто навеяло, слова случайно собрались.
Пока я оправдывался, мы прилетели к месту назначения. Александр зажег свечи, сверчки затянули нежную мелодию. Густые заросли винограда разрешали только знакомым звездам подглядывать за нами.
– Не будем терять времени. Вино истомилось в ожидании, выпускаю его на волю. Предлагаю первый тост за нашу встречу, посвященную Татьяне, очаровательной девушке, которая не охотится на мужчин, но настолько сильно их ранит, что они начинают писать стихи.
Александр произносил тост стоя, тем самым придавая моменту торжественность. В конце все поднялись и дружно соединили фужеры, те весело зазвенели. Скорость, с которой мы принялись праздновать, позволила быстро добраться до промежуточного финиша, на котором девушки и, конечно, моя персона получили приз в виде опьянения средней тяжести. Александр увлек меня за собой, и мы оказались в чистом поле, поливая его переполнявшим нас отработанным вином.
– Обрати внимание, Таня уже в отличном расположении духа, но тебя прошу больше не пить. Уведу Марину посмотреть на звезды, комната останется в твоем распоряжении. Не торопись и, уверяю тебя, все получится.
После прогулки ноги сделались ватные, но отступать было некуда. Александр утащил Марину, та требовала продолжения веселья и просила меня еще что-нибудь почитать. Мы с Таней остались вдвоем. Наши глаза встретились, как в тумане, и привели за собой губы, они соприкоснулись и, почувствовав тепло и влагу, позвали на помощь руки. Обняв ее за плечи и прижимая к себе, вспомнил прежний опыт, нащупал застежку лифчика и не с первой попытки, но расстегнул. Мои активные действия едва не привели к падению со скамейки. Таня, очнувшись, спросила:
– Где Марина? Они ушли уже давно, а почему-то не возвращаются.
Потерять достигнутое с таким трудом казалось недопустимым. Идею кто-то шепнул на ухо:
– Они, наверное, в доме, несложно проверить.
Мы встали, голова кружилась. Таня привела в порядок одежду и последовала за мной. На чердаке было темно, луна освещала лишь небольшое пространство около маленького окошка.
– Садись. Они, видимо, решили прогуляться, скоро вернутся.
Таня нерешительно присела на край кровати, положив руки на колени. Плавно опуститься рядом не удалось, и я провалился в недра видавшего виды пружинного матраса, прихватив с собой и Таню. Мы снова оказались в непосредственной близости. На этот раз, она практически не сопротивлялась. Победив молнию, спустил платье с плеч, но оно застряло на бедрах.
Освободившаяся грудь вскружила голову своей нежностью, соски оживали от прикосновения языка. Казалось, еще шаг, и она останется нагой, наши тела сольются в бешеном потоке. Но каждый раз, пытаясь добиться большего, я натыкался на сопротивление. Устав от моей настойчивости – или недостатка смелости или опыта (можно было и разорвать этот тонкий белый кусочек ткани на две беззащитные части) – Таня попросила:
– Проводи, пожалуйста, меня домой. Не обижайся, мне очень хорошо с тобой, но я так не могу. Точно не сегодня, не следовало столько пить.
Мы медленно оделись. Ноги предательски подкашивались, хорошо, нашлось, что ухватиться, а то с чердака пришлось бы лететь, а не идти. Поле в аналогичной помощи отказало, и через несколько шагов меня унесло в высокую рожь. Я почувствовал себя боксером в нокдауне и с трудом принял вертикальное положение. Выглядело все как в замедленной съемке.
– Может, вернешься?
– Ничего страшного, я провожу тебя.
Сделав несколько шагов, я снова распластался на земле. Это превращалось в систему. В очередной раз, справившись с силой притяжения, я увидел двух Тань, стоящих возле двух лестниц, и инстинкт самосохранения подсказал, что это уже опасно.
– Дальше не надо, я спокойно доберусь сама. Возвращайся в дом. Завтра увидимся. – И исчезла.
Ноги и руки, помогая друг другу, понесли тело в обратную сторону. Вдобавок начало выворачивать наизнанку.
Утро встретило больной головой и шутками Александра.
– Видал следы твоих побед. Вдоль тропинки все трава помята. И что вы там такое вытворяли? В комнате тоже следы борьбы. Я же тебя не воевать оставлял, а познавать женщину. Недаром Марина мне все твердила, что тебе опытная девушка нужна. А я-то упирался, мол, не бабье это дело мужиков уму разуму учить. Сам-то что думаешь?
– Ничего не думаю, болит все.
– Ну, если болит все, значит, Марина права. Прыгай в бочку с холодной водой, потом рассолом лечиться будешь, поэт ты мой.
К полудню, восстановив отношения с собственным организмом, отправился в компании Александра провожать Таню. Они с Мариной стояли на автобусной остановке, у Таниных ног притулилась небольшая сумка. Они радостно замахали нам. Чувство неловкости, вызванное мешаниной эмоций от нереализованных мужских амбиций, неловкого обращения с обнаженным телом едва знакомой девушки и нелепыми хмельными танцами с падениями мордой в рожь, развеялось благодаря непринужденному веселью, вызванному нашим появлением.
Легкий поцелуй и касание тел, превратившихся на миг в одно, изменили представления о прошедшей ночи и наполнили предвкушением будущих ночей. Мы обменялись телефонами, и маленький голубой автобус, кряхтя, пополз в горку, увозя ощущение тепла, которое может подарить только женщина.
61
Улица большого города. Время около полудня. Воздух пропитан вибрацией праздника. Люди приветливы, доброжелательны, танцуют, пьют пиво, закусывают ароматными сосисками. Летают шары, уличные продавцы предлагают различных размеров и форм кусочки бетона, объясняя, что раньше те составляли могучую стену, разделявшую единый немецкий народ на две противоборствующие части. Прячу осколок в кармане, иду по улице. Внимание привлекают громкие крики со второго этажа, сидящие в проеме окна люди приглашают присоединиться. На дверях табличка, утверждающая, что проход только по пропускам, но дверь не закрыта, стены невзрачно-серые. Поднимаюсь по лестнице, просторная комната забита людьми, сидят на стульях, столах – везде, где можно. Стены увешены сводками, таблицами, распоряжениями. Лежащие на столах бумаги подхватывает сквозняк и плавно кружит.
Подходит девушка. Черные прямые волосы касаются воротника плаща. Что-то спрашивает по-немецки, прошу повторить вопрос по-английски.
– Думала, вы немец, хотела объяснить, что это бывшая резиденция «Штази». Мы пьём пиво, оно здесь действует как-то по-особенному, хочется еще больше свободы. Простите, даже не спросила, как вас зовут, откуда вы.
– Владимир. Я из России.
Она удивилась, улыбнулась и махнула кому-то рукой. Подошел мужчина лет тридцати, небольшие залысины у висков, вьющиеся волосы, взгляд открытый, глаза серые. Девушка представила меня:
– Владимир, из России. Это мой друг Берн, – она положила руку ему на плечо, – а я Марион. Мы живем в Восточном Берлине.
Друзья моих новых знакомых шумной компанией выкатились на улицу, приглашая нас присоединиться.
– Скоро начнется розыгрыш десяти тысяч немецких марок, будет весело, это правда интересно.
Они потащили меня по узким улицам старого города. Меня окружила группа людей в пестрых нарядах. Немцы из Западного Берлина, как выяснилось, заблудились в Восточном. Марион пришла на помощь. Берн взял нас за руки и поволок дальше.
– Надо забежать домой и взять зонтики.
На улице было свежо, но солнечно. Я озадаченно спросил:
– Ты говорил, мы торопимся на розыгрыш, зачем зонтики?
В этот момент Марион уже открывала входную дверь. Я сунулся помочь, но Берн придержал меня за плечо и шепнул:
– Она девушка самостоятельная, не любит, когда ей помогают, особенно в мелочах. Эмансипация.
Не знаю, зачем, но я тоже взлетел на третий этаж. Хозяева, видимо, давно гуляли и решили переодеться. Происходило это весело, с прыганьем на одной ноге, падением и хохотом. Марион осталась без футболки, лифчика там тоже не оказалось, но это вообще никого не смутило. Стараясь казаться раскованным, я схватил первый попавшийся журнал, лежавший при входе, и тупо вперился в иллюстрации.
И вот мы с зонтиками в руках рассекаем воздух, лавируем среди людей и транспорта и, задыхаясь от бега, останавливаемся на узкой улице. Тут собралась толпа кричащих, пьющих, смеющихся, обнимающихся людей, многие с зонтиками.
– Посмотри на крыши, видишь людей с плакатами и флагами, скоро начнут разбрасывать монеты.
Щеки у Марион порозовели, глаза стреляли искорками задора и веселья. Она притягивала мой взгляд и согревала потоком энергии.
– Зонтиками надо укрываться от денежного дождя?
Она засмеялась.
– Кроме веселья, деньги нам тоже не помешают. Зонтики следует держать ручкой вверх, так больше можно поймать.
Немецкая практичность поразила меня. Русская смекалка не включилась, видимо, потому, что дело касалось денег, или просто о другом думал.
В небо взлетели тысячи зонтов ручкой вверх, их новая функция породила новую эстетику. Они смотрели в небо и разделяли с нами удачу, когда летящие с крыш монетки попадали в наши чаши. Ручки зонтов кружились в замысловатом танце вместе с владельцами, прыгая из стороны в сторону и содрогаясь от смеха. Общее веселее нарушил трамвай, пытавшийся протиснутся сквозь толпу. В самой гуще он застрял. Судя по лицу, вагоновожатый сообразил, что у него самый большой зонтик – крыша трамвая. Все начали улюлюкать и свистеть, и трамвай медленно, нехотя продолжил путь. Берн сложил зонтик, собрал в ладонь пойманные монеты, пересчитал.
– Мы можем прекрасно просадить эти деньги в баре на первом этаже дома Марион.
Я тоже собрал и передал ему небольшую кучку монеток разного достоинства. Марион еще раньше разобралась с содержимым своего зонтика.
– У нас так принято, каждый беспокоится за свой карман. Меня деньги не интересуют, если они, конечно, есть. – Он улыбнулся, подхватил нас под руки, и мы ручейком побежали из людского озера в русла уличных рек.
Недалеко от их дома – кстати, Берн почему-то сказал «её дома» – располагался маленький овощной магазин. Когда мы проходили мимо по пути на розыгрыш, хозяин зачеркивал цены на доске, а теперь проделывал это снова.
– Почему он целый день меняет цены?
– Это его бизнес. Бананы утром были зеленые, это одна цена. Сейчас они желтые, это другая цена. Потом они могут испортиться, и это уже совсем не товар. – Марион спокойно и рассудительно все разложила по полочкам.
– Ты экономист по образованию?
Она улыбнулась, игриво подмигнула:
– Я немка. Вечерами учусь в университете, днем работаю. Если хочешь узнать, что такое настоящая немка, пойдем завтра утром со мной в супермаркет, я научу тебя, как тратить деньги. Берн в это время спит, а я люблю приходить одной из первых.
Куда меня несет? Какой маркет? Где мой отель? Что я буду делать ночью? Мысли побежали по привычному кругу сомнений. Тем временем ноги донесли наше трио до дубовой двери бара в доме Марион. Терпкий воздух в плаще табачного дыма заманивал в уютное помещение с деревянными стенами, столами и полами. Мы сели за столик при входе, все прочие оказались заняты. Берн чувствовал себя там, как рыба в воде, многочисленные знакомые приветствовали его поднятием огромных пивных кружек. Марион обменялась с ним несколькими фразами по-немецки и добавила по-английски:
– Я вас оставлю, повеселитесь вдвоем. Приходи на чай, только обязательно, буду ждать.
Она встала, махнула рукой, и ее красивые бедра, выписывая невидимые восьмерки, удалились на длинных стройных ногах.
На столе появились две рюмки. Берн успел сообщить присутствующим, что я из России, и нам выставили водку как символ уважения или внимания. Я взял рюмку, поднял глаза и увидел поднятые кружки с огромными пенными шапками. Наступившую тишину заполнил тостом за дружбу между Германией и Россией. Одобрение вылилось в коллективное пение, пена полетела в разные стороны от ударов пивных кружек друг о друга.
– Пойдем выберем закуски, иначе быстро напьемся.
Берн встал и направился к барной стойке. Притягивали банки, похожие на круглые аквариумы, в них плавали соленья, маринованная рыба, раки и много такого, чего мне раньше видеть не доводилось. Положив на тарелку приглянувшуюся рыбку, я вернулся к нашему столику. На нем снова появились рюмки с водкой.
– Компания за соседним столиком просит принять от них презент, – объяснил Берн, размещая передо мной огромную кружку, на этот раз нефильтрованного пива.
Мы обменялись любезностями, выставив соседям пиво. Бармен снова принес водку от соседнего столика.
– Владимир, думаю, пора тихо уходить. Я знаю этих ребят, они не совсем традиционной ориентации, а мы, если с такой скоростью будем мешать водку с пивом, потеряем всякую ориентацию вообще.
Надо отдать должное Берну, ноги и теперь не особенно торопились унести нас подальше из теплой заводи. Ступеньки на лестнице казались мягкими, ботинки в них утопали. Открывшая дверь Марион не очень обрадовалась нашему отдохнувшему виду. Накрытый журнальный стол с горящими свечами в праздничных юбках, как и изменившееся после общения на кухне лицо Берна, намекал, что ожидание несколько затянулось.
– Тебе понравилось? – спросила хозяйка, усадив меня на уютный диван, а сама расположившись напротив.
Берн суетился по хозяйству.
– Пиво было великолепное, прием радушный. Не следовало, вероятно, мешать его с водкой. Эти сражения мне тяжело даются.
Она предложила небольшие тосты, они были особенными, как и хозяйка, их приготовившая. Берн налил мне чаю, а себе и Марион кофе.
– Вы оба, мне кажется, неплохо повеселились. Чтобы не уснули сидя, предлагаю ложиться.
– Спасибо, но это уже будет слишком с моей стороны. Если не сложно, вызовите, пожалуйста, такси, и я спокойно доберусь до отеля.
– Места предостаточно. Ты ж хотел получше узнать немок, составив мне компанию для похода в супермаркет. Или уже передумал?
– Не передумал…
Она встала, согнулась над столом, и указательным пальцем приостановила движение моих губ.
– Вы с Берном уже достаточно пообщались, теперь моя очередь. Ты, Берн, помоги мне быстро убрать со стола и найди Владимиру халат. Ванная по коридору налево.
Берн разложил диван, Марион постелила белье, и я упал. Они ещё долго ходили и о чем-то разговаривали. Глупо было списывать все происходящее на алкоголь, но объяснить не получалось. Кто она? Какая свобода или сила позволяет не укладываться в принятые каноны? Мысли сновали, не находя тихой гавани.
Хлопнула дверь, похоже, входная. Тишина, ни шагов, ни разговоров. Беспокойство отступает, утопаю в неге тепла в обнимку со сном. Луг, облака, красный конь, синяя трава, серебристая вода, поднимается ветер, листья, как стая птиц, тучи низкие и черные, тонкая линия молнии оставляет невидимый след, гром, треск. Распахиваю глаза. Диван выплюнул меня, разъехавшись в разные стороны. Приоткрылась дверь. Полоска приглушенного света юркнула в комнату, попутно обрисовав извилистую линию тела сквозь тонкую ткань наброшенного халата.
– Что случилось? – Голос звучал мягко. Энергия дня его покинула, а энергия ночи еще не наполнила.
– Ничего страшного, непредвиденный ночной полет.
– У меня раскалывается голова. Берн решил поехать домой. Не хотела тебя беспокоить, только возьму таблетки.
Она подошла к комоду, выдвинула ящик и принялась шуршать, словно мышь.
– Если хочешь, попробую снять боль. Как правило, результат достигается быстро.
– Что для этого надо делать?
– Сесть на стул, закрыть глаза, расслабиться и подождать, пока я выкарабкаюсь из с дивана, найду халат и займусь тобой.
– Ты этому учился?
Она выполнила указания, показывая готовность.
– Нет, но делать приходилось. Каждый человек напоминает собой антенну. Представь, будто по твоей кровеносной системе течет металл. Ты излучаешь и передаешь сигналы. Приняла информацию, наложившуюся на отпечатки отрицательных эмоций, они выскочили из шкафов и резвятся.
– Ты меня обманываешь, такие идеи сами в голову не приходят.
Она обернулась, в глазах осталось продолжение вопроса.
– Общение с людьми и чтение заполняет пробелы в образовании. Главное – желание помочь. Человек только проводник, через него действует Бог, вселенная, мировой разум.
Разминаю пальцы рук, кровь разгоняется, приносит энергию, выделяется тепло. Касаюсь лба, пальцы медленно проводят линию вдоль бровей к вискам, очерчивают ушную раковину и уходят к шее. Собираю в пучок волосы и сбрасываю собравшийся отрицательный заряд с их кончиков на пол. Повторяю несколько раз, затем перехожу от затылка к плечам. Она снимает мешающий халат с плеч, и я второй раз за бесконечные сутки вижу ее белоснежную грудь, гордо смотрящую вперед. Спускаюсь от плеч к кистям рук, перебирая нежную, теплую кожу, растираю кончики пальцев, наполняю ладонь горячим воздухом. Она неподвижна, дыхание ровное, теплый воздух с запахом миндаля обтекает молодое, спортивное полуобнаженное тело. Внутренняя борьба между желанием друга помочь и желанием мужчины овладеть гасится ее покоем.
– Спасибо, я как в тумане. У тебя волшебные руки. Не знаю, как доберусь до кровати.
Набросив халат на плечи, помогаю встать, беру на руки, пробираюсь по незнакомой квартире, заходу в маленькую, уютную спальню и кладу на кровать. Она на мгновение повисает у меня на шее, обхватив руками, прижимается, целует и медленно роняет голову на подушку.
– У меня совсем нет сил, это был чудесный день.
Набросив одеяло, коснулся сухих, обветренных губ, пожелал спокойной ночи и тихо побрел, раздираемый желаниями и сомнениями.
62
Десять часов вечера. Вера, наконец, уснула, а то не давала читать, пришлось закрываться в туалете. Вот и конец моему одиночеству. Мы с папой вернулись домой в Ленинград. Вечера, когда Юра читал вслух роман «Как закалялась сталь», остались в Зеленодольске, комната отступала, лишь изредка напоминая о себе – то огонь в печке загудит, то радио оживет – война с каждым днем к концу близилась. Я боялась пошевелиться, сидела неподвижно и слушала тихий голос, а герои романа оживали, и Юра превращался в Павку Корчагина, а я сначала чувствовала себя Тоней, потом Ритой Устинович.
Раньше я не любила возвращаться из книжного мира в свою одинокую комнату, но теперь она сделалась теплой и уютной. Юра создавал в ней новый мир, тот проникал внутрь меня и рождал свет. Этот нежный свет бегал по моему телу, и мне казалось, что я свечусь. И когда Юра прочитал «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», я ощутила необычайный прилив сил. Бывало, папа развернет баян во всю ширь, и звук его наполняет все вокруг – такое же чувство.
Все оборвалось, когда папу срочно перевели в Казань заканчивать какие-то дела, чтобы затем вернуться в Ленинград. Нас поселили в общежитии. В комнате стояли две кровати, стол и шкаф, все серое. Под потолком висела лампочка с зеленым отражателем, я иногда подолгу смотрела на нее. Мы с папой спали на одной кровати, другая была в распоряжении офицера из Москвы. Соседа я не видела, вместо себя он временно поселил своего семнадцатилетнего сына, Сергея. Я заканчивала четвертый, а он десятый класс. Иногда мы с ним оставались вдвоем в комнате, и он вел себя вызывающе. Полная противоположность Юре, к тому же блондин, читать не любил, от него исходила агрессия.
– Почему, если ты взрослая девочка, спишь с папой? Тогда уж спи со мной, – приставал он ко мне.
Его это очень забавляло, он отодвигался на край кровати и показывал мне на свободное место. Раньше со мной никогда и никто так себя не вел. Страшно не было, я думала, он просто глупый.
– Если ты такой взрослый найди себе девушку и живи с ней, а не спи на кровати, предназначенной твоему отцу. Честнее будет.
Его, видимо мои ответы злили. Он начинал метаться по комнате и кричать:
– Мала еще меня учить, сопля голландская.
Слушать это было неприятно, я отворачивалась и брала в руки книгу. Он обычно или успокаивался, или уходил гулять. Но однажды подошел, взял меня за руку, развернул лицом к себе и, нагло глядя в глаза, заявил:
– Ты мне надоела. Раз такая самостоятельная, снимай свою страшную одежду и покажи, что у тебя есть, а я тебе покажу, что у меня, или раздену силой.
Он был, конечно, сильнее меня, но во мне вскипела ненависть. Он показался мне животным, противным, грязным. Будь у меня револьвер, я бы в него выстрелила.
– Если не перестанешь, я все расскажу папе, а он не станет разбираться, я его знаю. Он просто тебя убьет, ему часто приходится стрелять в людей, а ты и на человека не похож.
Мы стояли друг напротив друга. Сергей он тяжело дышал, а я замерла. Казалось, что между нами выросла стена, через которую ему никогда не переступить, потому что он трус. Даже я чувствовала его страх. Такой готов обидеть слабого, но не готов за это отвечать.
– Ладно, я пошутил, мы же друзья. А отцу не говори, зачем нам неприятности. – Он почесал голову, сморщился, взглянув на меня, и вышел из комнаты.
Я с трудом перевела дыхание. Душа у нас не было, и папа меня водил в баню, мыл меня, и я не видела в этом ничего плохого. Но раздеться перед посторонним унизительно. Я поняла, что мужчины бывают разными, некоторые способны унижать, и решила, что всегда буду с этим бороться, сражаться за справедливость.
Мы вскоре уехали, и я ничего папе не рассказала, а то бы дело плохо кончилось. Перед отъездом я заболела воспалением легких, и мы не успели в Ленинград на День Победы. Лица и души переполняла радость, у папы всю дорогу было отличное настроение. Пока мы ехали в поезде, он играл на баяне, а я пела все песни, какие знала, «Темную ночь» просили на бис, а «Мурка» вызывала общее веселье. С нами ехали военные, раненные, женщины, дети, но все эти люди были вместе, их объединяла радость победы, ожидание светлого завтра и еще более светлого послезавтра.
Жизнь быстро вошла в привычное русло. Папа утром уходил на работу, мама тоже. У меня были каникулы, я водила Веру в детский сад, иногда она оставалась со мной. Мы с ней гуляли. Наш дом уцелел, а дом напротив каждый день приходили ремонтировать пленные немцы. Раньше я думала, что они все одинаковые, но оказалось, что только некоторые из них настоящие фашисты. Эти смотрели с ненавистью, все время озиралась, а многие были миролюбивые, с радостью принимали помощь. Люди приходили, делились с ними продуктами, а кто и вещи давал. Нет в нашем народе жестокости, доброта есть, великодушие.
Звонит телефон. Он стоит на тумбочке в коридоре, никто не подходит. Часы с огромным раскачивающимся маятником показывают уже половину одиннадцатого. Папа на дежурстве, мама приходила с работы, сказала, что уйдет ненадолго, скоро вернется. Звонок продолжает дребезжать. Иду, внутри почему-то беспокойно.
– Алло, я вас слушаю.
– Нина, а почему Дора не подходит к телефону? – Напряжение в папином голосе передается мне, но я себя успокаиваю и стараюсь говорить ровно:
– Добрый вечер, папа. Мама ненадолго вышла, скоро будет.
Папа молчит, потом приказывает:
– Ложись спать.
Короткие гудки.
Папа редко звонит со службы, это не приветствуется. Но если он позвонит еще раз, и мамы не будет дома, начнутся гром и молния, или того хуже. Мама уходила в хорошем настроении, в красивом платье, которое сама себе недавно сшила. В такое время у подруг она не задерживается, остается Павел Семенович. Он живет недалеко, если бегом, минут десять. Мы ходили к нему в гости, все вместе, да и он к нам заглядывает, как друг семьи, помогал в трудное время маме с Верой. Но сейчас в эти объяснения верится с трудом.
Быстро одеваюсь, второго звонка я не переживу. На улице достаточно светло, белые ночи, но прохладно. Хорошо, мама перешила мне из папиной шинели пальто, оно тяжелое, но теплое. На улицах безлюдно, стук моих каблуков разлетается эхом, тук-тук-тук, но сердце бьется гораздо чаще, струйки пота сбегают по лбу. Если б не густые брови, глаза бы уже щипало.
Дверь в парадную тяжелая, открывается со скрипом, опять четвертый этаж, но здесь лифт, поднимаюсь. Кнопок несколько, какую нажимать, не знаю. Так, инициалы П.С., есть Воронов, давлю звонок.
Дверь сразу открылась, мама стояла в пальто, за ней маячил Павел Семенович.
– Нина, что случилось?
– Потом объясню, надо торопиться.
Мы припустили по ступенькам вниз, я забыла о лифте, а мама бежала за мной. Выскочили на улицу.
– Да что все-таки произошло, Нина?
Я не останавливаясь и не оборачиваясь, выпаливаю:
– Звонил папа, спрашивал, где ты, я сказала ненадолго вышла, не знаю, что будет, если он позвонит еще раз, а тебя не будет дома.
– Я могла быть у тети Маруси, немного задержалась, ничего страшного.
Я не понимаю, зачем мне все это слушать, во всем этом участвовать, да еще и оправдываться. Неприятно видеть рядом с мамой этого Павла Семеновича, как будто он отнимает у меня что-то мое или даже часть меня.
– Почему ты молчишь? Знаешь, он мне рассказал про свои отношения с молоденькой женой офицера, а ты мне ничего не писала.
Жесткости в ее голосе уже нет, но и тепла не чувствуется.
Я почему-то знаю, что надо обязательно как можно быстрее добежать домой, поэтому ничего не говорю, берегу дыхание, и мчусь изо всех сил. Мама обгоняет меня, открывает двери, мы влетаем в комнату – тишина, телефон молчит.
– Быстро раздевайся и ложись в кровать.
Все только и могут, что мной командовать. Форточка была открыта, с улицы послышались быстрые шаги, хлопнула дверь парадной. Теперь уже мы обе торопливо срывали с себя одежду. Мама успела затолкать тряпки ногой под кровать до того, как дверь в комнату открылась, и мы обе юркнули под одно одеяло на родительской кровати. Хорошо, что мы не включили свет, когда пришли, только в коридоре горела лампочка. Мы притаились в темноте, а папа застыл в дверном проеме, как на ладони. Лицо у него было белее простыни. Он постоял немного, затем вышел и закрыл дверь.
Вера разбудила меня, забравшись ко мне на оттоманку. Мама говорит, что она турецкая. Все подушки снимаются, ими удобно бросаться, но сейчас хочется Верке поддать за то, что зажимала мне нос. Родительскую кровать отделяет ширма. Папа спит, вещи аккуратно на стуле. Значит, мамы нет, иначе она бы убрала их в шкаф.
Встаю, ставлю чайник. На завтрак хлеб, и остался кусочек селедки с выходных. Одеваемся тихо, чтобы не разбудить папу, выходим на улицу. Слышен грохот – по Литейному проспекту идут танки. Бежим к перекрестку Петра Лаврова и Литейного, наш дом угловой. Люди говорят, эти танки прямо с фронта. Вдруг женщина неподалеку от нас с Верой пронзительно вскрикивает «Сережа!» и бросается к танку. Тот резко останавливается, скрежеща гусеницами, в башни спрыгивает офицер-танкист, обнимает эту женщину, и оба плачут, а люди бросают им цветы. Война многих разлучила, почти все потеряли близких, но ждут и надеются дождаться.
Когда мы вернулись, папа сидел за столом. Стол большой, круглый, прямо в центре комнаты, напротив зеркала. Зеркало тоже большое, до потолка, венецианское. Пока мы жили в Зеленодольске, многие вещи из нашей комнаты пропали, но мебель осталась. Картину с японской вышивкой золотом, она называла ее шпалерой, мама засунула в стол, но картина тоже исчезла. Мама ее спрятала так же, как прятал драгоценности человек, у которого они с папой вместе делали обыск. Но и драгоценности, и картину все равно нашли – значит, не наша.
– Нина, я хочу с тобой поговорить, садись. – Папа поставил стул напротив себя.
Я села. Он был спокоен, но глаза потускнели, в них поселилась печаль.
– Хочу, чтобы ты знала: если Дора уйдет к Павлу Семеновичу, то Веру может забирать, но ты должна остаться со мной. – Он говорил негромко, но так, что я поняла, для него это очень важно.
Я молчала. Что тут говорить? Мне не хотелось, чтобы мама уходила.
– Я говорю абсолютно серьезно, если уйдешь ты – застрелюсь. – Глаза у него вспыхнули, он резко встал. – Вернусь вечером, мне на службу. – И вышел из комнаты.
Я приросла к месту.
– Нина, а куда меня мама может забирать?
После Вериного вопроса я уже не смогла сдержать слезы и выбежала, чтобы закрыться в туалете. Почему, когда вокруг с каждым днем становится лучше, ярче, меня преследует боль оттого, что самые дорогие мне люди страдают, и я вместе с ними. Вера билась в дверь. Пришлось выйти. Я умылась холодной водой, устроилась на оттоманке и открыла Джека Лондона. Мне срочно требовалось куда-нибудь отправиться, хоть ненадолго.
Дверь резко распахнулась, вошла мама, окинула взглядом комнату, сняла пальто, туфли.
– Здравствуйте. Вы обедали?
– Ждали тебя. Папа ушел на работу, – сказала я, отложив книгу и спихнув Веру. Сестра ползала по мне, устроив из пледа какие-то границы. Она с детства отстаивает свою территорию, наверное, когда вырастет, станет хорошей хозяйкой. У нее будет свой дом, огороженный забором, муж и дети, окруженные заботой.
– Накрывайте на стол, пойду на кухню, разогрею суп.
– Мама, – я взяла ее за руку, – папа сказал, что ты можешь, взять Веру, если Вы разойдетесь, а я чтобы осталась с ним.
Она села, потом быстро встала, открыла шкаф и принялась собирать вещи.
– Мама, что ты делаешь?
– Я всегда терпела его интрижки. Даже уезжая с вами на лето, разрешала ему заводить шашни с кем-нибудь из моих подруг, а по возвращении смеялась, когда они ходили, как надутые гусыни. Как же! Ваня же их предпочел! Да если они б знали, что всё с моего одобрения и выбирала я, а не он! А то разгребай потом, куда его черт занесет. И тут он вдруг такой весь принципиальный. Мы концы с концами свести не могли, он даже денег не присылал, сама, мол, справишься, да, еще с маленьким ребенком! У него же голова не болит, где потом жить. А если б без комнаты остались?
Говоря все это, она швыряла вещи в чемодан, он и на половину не заполнился. В этот момент вошел папа и увидел сборы. Не смотри я прямо на него, не узнала бы этот скрипучий, надрывный голос:
– Ну, что, собралась уже к своему дорогому Павлу Семеновичу?
Мама, не ответив, вышла из комнаты.
– Папа, зачем ты так? Почему не хочешь с ней поговорить?
– Ты же видишь, она уже собралась уходить. Не о чем говорить.
– Папа, ты ведь не хочешь, чтобы мама уходила. Скажи ей, пусть остается, я тебя очень прошу.
Я подошла и обняла его, Вера тоже подбежала и повисла у него на коленке.
– Я пойду позову маму, скажу, что ты зовешь.
Он промолчал, но молчание, решила я, знак согласия, и побежала на кухню. Мама курила, выпуская большие струйки дыма, они скрывали ее лицо.
– Мама, тебя папа зовет.
– Не придумывай, никто меня не зовет. Чтобы такой орел кого-то звал? Да сейчас!
Я взяла ее за руку и буквально потащила за собой. Она сопротивлялась, но несильно. Мы вошли в комнату.
– Ты меня звал?
Она говорила спокойно, струйки дыма еще медленно слетали с ее губ.
– Я не хочу, чтобы ты уходила, – Папа стоял лицом к окну. Его рука лежала на спинке стула, пальцы были совершенно белые.
– Хорошо, переодевайся. Я разогрею суп.
Он ушел за ширму переодеваться, мама – на кухню, а мы с Верой остались одни на поле боя. Сражение закончилось. Главное, все живы.
63
В этой горке нет ничего особенного, кроме того, что она наша. Эта безымянная высота, нечто расплывчатое и незначимое для всех, и всё – для нас. Пространством и временем, случаем и закономерностью, любовью и ненавистью мы, разные люди в одинаковых тоскливых шинелях, сжаты в один нерв, натянутый между ней и нашим потенциальным противником, между нашим прошлым и будущим.
Командир роты обошел высотку, как погладил, подозвал командиров взводов, обозначил задачи, исходя из установок вышестоящего командования:
– Противник будет атаковать с запада. Время атаки не известно. Срочно приступайте к строительству наблюдательного пункта, блиндажа и рытью окопов. Особое внимание уделите маскировке.
Мне выпала честь быть связным. Нечто вроде адъютанта его превосходительства. Однако от танцев с лопатой под луной почетная миссия не освободила. Ответ на вопрос рядового Суворова, где спать будем, быстро стал очевиден для всех – нигде.
Сезон белых ночей прощался с жителями города на Неве, но даже его закат позволял отчетливо наблюдать как кроты в шинелях, закопавшись по уши, сооружают лабиринт из нор. К рассвету все было кончено. Окопы извивались вдоль склона, пушки и три танка спрятались в укрытиях.
В паре с Костей Фуфаевым таскаем ветки сосен, маскируем наблюдательный пункт. Недалеко от нас останавливается «уазик», по его неуклюжему телу лениво расползается грязь. Из машины энергично выскакивает капитан Веселов, окидывает взглядом плоды нашего труда.
– Бруствер маловат будет, а пуля-дура и убить может. – Доклад командира роты прерван дружеским похлопыванием по плечу: – Вижу, что работаете, но радости маловато, задора молодецкого. Давай, старший лейтенант, покажем ребятам красоту ночного боя. Распорядитесь установить пулемет на боевую позицию и зарядить трассирующими пулями.
Колесики «Максима» наконец уперлись не в мою спину, а в землю. Капитан прилег у пулемета красиво, словно всадник, припавший к седлу боевого коня. Тишину разорвал беспрерывный треск выплевываемых пуль, небо раскрасилось пунктирными линиями, то раскидывавшимися веером, то собиравшимися в пучок. В глазах ребят прыгали зайчики отражений, освещая мальчишескую страсть к военным играм.
Резко вскочив, капитан в сопровождении командира роты удалился в наблюдательный пункт. Разговор продолжался недолго. Выйдя из укрытия, он неожиданно подозвал меня.
– Ты, приятель, должен ребят за душу брать. Вести за собой, конечно, непросто, но чертовски увлекательно. Атака пойдет не с запада, а с востока. Всю линию обороны необходимо перешерстить. Времени нет, ребята не спали, одними приказами не обойдешься. Как говорится, сдохни, но держи фасон, секретарь. – Похлопал по плечу и с улыбкой добавил, – Утром заскочу. У тебя все получится. – И как-то почти с эхом разлетелось. – Улыбайся почаще.
Подошел Попадюк, воткнул лопату во растревоженную землю, облокотился на нее, посмотрел на меня и, жалея себя, простонал сквозь зубы:
– Конца, чую, нет, так?
– Так, все так, – спокойно ответил я, словно чья-то уверенность и внутренняя сила вселились в меня.
Вокруг нас собрались ребята и, прежде чем прозвучала команда на построение, все уже знали, что всё сначала: что ночь впереди короткая и тяжелая, траншеи глубокие и длинные. Звезды яркие и далекие, девушки нежные и странные, дороги, извилистые и грязные, заканчиваются у порога домов светлых и теплых, своих и чужих, где ждут и верят, что мы или такие, как мы, вернутся, и на щите, с миром и добром.
Все от офицера до рядового принялись за работу. «Старики» физически были подготовлены гораздо лучше, их лопаты летали, как крылья мельницы, задавая ритм всем остальным. Вдруг донесся раскатистый смех, разорвавший монотонное шуршание земли после падения на новое место жительства. Двое старослужащих тащили волоком огромный мешок, постоянно менявший форму. Сержант Егоров выпрямился, надел ремень и пилотку, выпрыгнул из окопа.
– Рядовые Смирнов и Семенов, чем занимаетесь? Давно в наряд не ходили?
– Товарищ сержант, мы часового притащили, – спокойно ответил Василий Смирнов, веселый и обстоятельный парень из Пскова. Семенов с трудом сдерживал улыбку.
– Какого часового? – Чувствовалось, что Егоров едва сдерживается. Он одного призыва со «стариками», но старше по званию.
– Да наш это часовой, рядовой Стародуб. Уснул на посту.
– А что он в мешке делает? – почуяв подвох, Егоров стал медленно выпускать пар.
– Мы с Петром по маленькому за кусты пошли. Глядь, наш часовой сидит и, судя по тому, как носом клюёт, мышей давно не ловит. Взяли мешок, в котором ветки таскали, и надели на него. – Петра Семенова переполняли эмоции, улыбка не сходила с его лица. Громким сибирским басом дополнил картину: – Он же, когда в мешке оказался, начал кричать, что свой он, мол, свой. – Петр тряхнул мешок. – Повтори часовой, что кричал.
Мешок не отзывался. Петр еще раз резко тряхнул его.
– Будешь молчать или врать, пеняй на себя.
Из мешка послышались робкие звуки.
– Громче давай! Орал-то, как резаный.
На этот раз отчетливо прозвучало:
– Сокол, я сокол.
Сначала пробежал смех. Но все узнали отзыв на пароль, и стало как-то не по себе.
– Снимите мешок, – скомандовал Егоров.
Появился Стародуб, помятый и нахохленный. Пряча глаза, он медленно выпрямился.
– Я не хотел, у меня случайно вылетело, простите меня.
По лицу его поползли слезы. Он их размазывал испачканными глиной руками.
– Уснул на посту и пароль выдал. Нас всех можно было перестрелять, как уток. Следуйте за мной. – Егоров направился в расположение командира роты.
Все молчали. Граница между учениями и войной вдруг показалось ощутимо близкой, так же, как между товарищем и предателем.
64
Влажный воздух огромным облаком спустился на землю, запутался в кронах деревьев и замер в ожидании. Грязные лужи расползаются под ногами, обнажая скелеты листьев, прошедших путь от радости до разочарования, от рождения до гибели. Они дышали, пили, трепетали от дуновения ветра, с трудом удерживаясь на родительском дереве, мечтали, подобно птицам, парить в небе, познать свободу, о которой остроклювые пели и ворковали, перепрыгивая с ветки на ветку. И я почувствовал себя этим листочком, для которого плата за несколько мгновений свободного полета – жизнь. Оторвался от корней, закружился, все, что видел раньше, представилось стремительно изменяющимся, необыкновенным, завораживающим каждую зеленую клеточку, и – вдруг падение в холодную и вязкую лужу. Как не силься взлететь, поймав волну ветра, падаешь обратно на землю. Жизненные силы медленно покидают тебя, и это после единственной попытки распорядиться собственной жизнью.
Более благоразумные братья и сестры закончат свой путь так же, только не испытав пьянящей радости полета. Но им еще долго встречать рассветы и провожать закаты, нежно касаясь друг друга, греться и обжигаться солнцем, купаться под дождем, поддаваться соблазну и пугаться безумства ветра, терпеть укусы и отрывание кусочков тела. Ни убежать, ни улететь – только принимать и отдавать, чтобы однажды стать прекрасно-багряным и упасть, и уже не знать, что будет потом, после жизни. А я упал зеленым, живым и знаю, что после жизни тоже жизнь. Она другая в этой луже, но мне ведомо недоступное им, и если есть жизнь после их жизни, значит, и после моей тоже есть, и после всех прочих тоже – и тогда мне не так страшно и одиноко, потому что и здесь можно найти радость, наблюдая снизу за тем, чего не видно сверху. Главное, не сожалеть о том, что моё прошлое не повторится, но ведь прошлое не вернётся ни к кому. Поэтому можно радоваться тому, что я есть и мне интересно то, что вокруг меня, и становится интересно то, что происходит внутри. Если я учусь радоваться происходящему со мной сейчас, значит, снова расту, но теперь внутри. И даже понимание краткости отпущенного срока перетекает в новое знание – это только нынешней жизни осталось недолго, а по-другому предстоит жить снова и снова. Важно не забыть, сразу, как родишься, начать радоваться подарку – жизни. Ничего лучше в мире нет и не будет, пока мы здесь. Ведь мы и есть жизнь.
65
Потекли студенческие будни – лекции, семинары, лабораторные. Учеба представлялась лишь паузой между встречами, вечеринками, поездками. Сессии ненадолго ломали расписание жизни, требуя поглощения тысяч страниц в короткий промежуток времени. Переполненные ведра знаний успешно выливались после сдачи экзаменов.
Ритмы современной музыки, прорывавшиеся из-за железного занавеса, будили стремление к самовыражению, поиску новых форм во всем. Однажды по дороге в институт, спускаясь по эскалатору, услышал характерный грохот сапог. За спиной вырос военный патруль, заинтересовавшийся моей персоной.
– Предъявите документы, – потребовал офицер, сопровождаемый двумя солдатами.
– Какие документы? – удивился я.
– Документы, дающие право носить военную форму одежды, – мгновенно отреагировал офицер.
На мне действительно была офицерская шинель, концы голубого шарфа свисали почти до земли, волосы спадали на плечи, где могли быть погоны.
– Но у меня нет никаких воинских знаков различия.
Офицеру явно не нравился мой вид, но что с этим делать, он тоже не знал.
– Если еще раз увижу вас в подобном виде, будете задержаны.
Обозначив свою важность перед подчиненными, он развернулся и отправился дальше нести службу, солдаты затопали следом. По счастью, времена были не сталинские, а брежневские, поэтому этот случай на мою свободу самовыражения не повлиял. В нашей компании, естественно, не я один одевался подобным образом. Первые американские джинсы, добываемые у фарцовщиков на галерее Гостиного двора, стоили примерно сто рублей, что равнялось месячной зарплате. Торговали, разумеется, незаконно, и можно было нажить различного рода неприятности. В частности, практиковалось «динамо»: вам показывали джинсы и предлагали пройти в соседний дом, чтобы подобрать нужный размер, брали деньги и оставляли вас у входа в квартиру. После длительного ожидания, стука и крика выяснялось, что за дверью только коридор, ведущий на черную лестницу. Но многие предпочитали рисковать, лишь бы не носить индийский «Milton’s».
Мои друзья организовали группу под названием «Yellow chickens». Бог наградил меня отменным голосом – с таким тембром я мог бы в церкви служить, – но почему-то напрочь лишил музыкального слуха. Пригодились актерские способности. Я взял на себя роль ведущего, читал миниатюры Горина, Жванецкого, Мишина перед выступлениями ребят.
Играли в основном в институтах. В Торговом первый раз включили только-только появившиеся стробоскопы: за счет чередующихся вспышек они создавали эффект рваной пластики, доводя зрителей до исступления. Девушки принялись истошно визжать, запрыгивать на сцену и даже срывать с себя одежду. Представитель администрации остановил представление, потребовав включить нормальный свет под угрозой закрытия мероприятия.
Денег платили мало, но мало лучше, чем ничего.
На одном из концертов я познакомился с высокой, стройной черноволосой барышней из архитектурного института. Выразительные глаза отличали ее от просто симпатичных девушек. Звали красавицу Лена, что, на мой взгляд, не совсем подходило её утонченному образу. Всё было традиционно: пригласил на танец, спросил, как зовут, где учится, чем увлекается в свободное время.
– Извини, мне пора. Родители волнуются, если задерживаюсь. Ты, наверное, не сможешь меня проводить, у вас большая компания. – Она сделала небольшую паузу и, не дожидаясь ответа, продолжила: – Ничего страшного, не беспокойся.
На прощанье чмокнула в щеку и дала номер телефона. После выступления отправились, как всегда, на квартиру, в тот раз к Саймону, невысокому, кучерявому, добродушному интеллектуалу. Он прекрасно играл на клавишах, домашнее пианино заменяло ему синтезатор. Ребята разучивали новые песни «Deep Purple», «Black Sabbath», «Rolling Stones» и, конечно, «Beatles». Пили вино и водку. Энергичный и веселый вокалист Саша, наделенный редким чувством юмора и даром рассказчика, не случайно пользовался благосклонностью дам и отвечал им взаимностью. В пятнадцать лет, а мы знакомы практически с рождения, у него появилась подруга по имени Люда, их объединила любовь к сексу и умение дружить. Редкой девушке удается, находясь рядом с любимым, поддерживать общение со всеми ребятами, в одиночку создавая впечатление прекрасного женского общества. Она нравилась всем, и я не стал исключением. Наблюдая за её большими, раскосыми с поволокой глазами, невольно сравнивал Люду с новой знакомой. Ей недоставало женского магнетизма, умения соблазнять, но она притягивала своей искренностью, открытостью.
Вышел в коридор, набрал номер. Ответил мужской голос, явно недовольный поздним звонком:
– Молодой человек, Лена уже спит.
В это время вдалеке неразборчиво послышался женский голос, и трубка замолчала.
– Володя, ты?
Я не сразу узнал ее.
– Да, прости, что так поздно.
– Подожди, перенесу телефон к себе в комнату.
Теперь фоном гудел мужской голос, но слов разобрать опять не удалось.
– Всё, могу говорить.
– У тебя строгий отец, извини, не хотел доставить тебе неприятности.
– Он не строгий, просто ему завтра рано вставать. Интересно посмотреть, как ты будешь реагировать, когда твоей дочери будут звонить среди ночи.
– Ну, это еще не скоро.
– Родители говорят, им тоже так казалось, а они уже больше двадцати лет вместе.
– Что ты сейчас делаешь?
– Разговариваю с тобой, до этого читала, потом пойду спать.
– А мы с ребятами приятно проводим время, немного поём, немного выпиваем.
– Ты, случайно, стихов не пишешь?
– Случайно пишу.
– Прочитай что-нибудь.
– За гранью грань, А за стеклом вода, За словом ложь, А за углом беда.Думаю достаточно, не буду тебя грузить на ночь.
– Мелодично, мне понравилось. У меня брат физик, но серьёзно увлекается литературой, скоро выйдет сборник его стихов.
– А я просто так, для себя.
Снова мужской голос и скрип дверей.
– Извини, надо заканчивать разговор. Завтра у моей подруги небольшая вечеринка, если хочешь, можем вместе сходить.
– Хорошо, завтра созвонимся.
– Давай, часа в четыре, буду очень ждать.
Мы встретились у выхода из метро «Петроградская». Даже в многолюдном месте она, высокая, необычная, притягивала взгляд. Лена сделала несколько шагов навстречу, обняла и поцеловала меня.
– Здесь недалеко, минут пять пешком. Надеюсь, тебе понравится. Будет всего несколько человек. Моя подруга очень яркая личность, да и собой хороша. Она из необычной семьи, родственница Толстого.
Старинный дом с массивными колоннами приняла нас в объятия, просторная лестница вознесла наверх. Огромную входную дверь открыла женщина средних лет, последовал церемонный обмен приветствиями и предложение снять верхнюю одежду. Гостиная располагалось на втором этаже, куда вела дубовая лестница с резными перилами. Оставив удобно расположившихся на мягких креслах молодых людей, к нам направилась жгучая брюнетка – большие глаза, крупный рот, дышащее огнём тело, дремлющий вулкан страстей.
– Здравствуйте, – низкое контральто придало дополнительную глубину эффектной внешности.
– Наташа, это Владимир, я тебе о нём рассказывала.
Лена явно чувствовала себя, как дома. Девушки обменялись поцелуями, мне досталось рукопожатие. Наташа предложила нам присоединиться к остальным гостям, представив всех поочередно. Лена села рядом со мной, нежно сжала мою ладонь и наклонилась, почти коснувшись губами моего уха:
– Здесь каждый предоставлен сам себе. Просто расслабься. Если будет неинтересно, немного посидим и уйдем.
Наше появление никак не отразилось на обмене впечатлениями о прошедшей у кого-то вечеринке, обсуждении чудаковатых университетских преподавателей, рассказе о поездке Наташиного папы за границу.
Комната, где мы расположились, впечатляла простором и убранством – колоннами, старинными люстрами и картинами. Квартиры, в которых мне доводилось жить, отличались сжатыми пространствами и простой мебелью. А здесь летучий воздух подхватывал голоса и разносил их в разные стороны, порождая легкое эхо. Чтобы понять, как бедно живешь, требуется немного – увидеть, как живут богато. Меня открытие не расстроило, но потребовало время на адаптацию.
Беседа плавно перетекла на общих знакомых из Политехнического института. Речь зашла о странных молодых людях в шинелях, играющих современную музыку. При этом никто не видел, в чем пришёл я, и мне стало понятно, что обсуждают моих друзей. Наташу этот разговор явно занимал.
– Юношу, который носит шинель, а летом ходит босяком, зовут Шканд. Необычная фамилия, да. Он играет на басу, порой бывает довольно экстравагантен, но вообще очень искренний и добрый парень. – Подобный пассаж в устах доселе молчавшего незнакомца привлек всеобщее внимание.
– Ты тоже учишься в Политехе? – поинтересовалась Наташа.
– Нет, мы часто проводим вместе свободное время.
– Ты играешь в их группе?
– Не играю, выступаю в роли ведущего.
– И как, интересно?
– Собирается много людей, энергия пронизывает зал, иногда взрывая его. Заполняя паузы, важно не потерять набранную скорость. Непростая задача, но интересная.
Наташа отошла к необычному проигрывателю – черное с хромом основание, стеклянный верх, множество кнопок. Нажала одну из них, задвигались механизмы, автомат установил выбранную пластинку, и пространство наполнилось объемным звучанием.
– А актерская профессия тебя не привлекает? – Наташа присела напротив меня.
– Привлекала, теперь уже нет. Скажи, а у тебя не возникало желания продолжить семейные традиции?
– Не знаю, может быть. Учусь-то я на факультете журналистики, но чем буду заниматься, бог весть. В настоящее время предпочитаю веселиться и радоваться жизни. Планы строит скорее папа, чем я.
Тут к Наташе подошла Лена, и они ненадолго исчезли. Подали чай с пирожными. Девушки вернулись. Наташа взяла эклер, изящно приоткрыла губы и лизнула лакомство кончиком языка, а затем, озорно глядя в мою сторону, нежно укусила. Часть крема выдавилась и поползла у нее по подбородку. Хозяйка расхохоталась и потянулась за салфеткой.
– Мне нужно заскочить домой. Если ты не против, давай уйдем по-английски, – попросила Лена, осторожно потянув меня за руку.
Мы выскользнули из гостиной, спустились на первый этаж, оделись, нас проводили. Белый снег кружился над головой, таял на Лениных горячих щеках, цеплялся за ресницы, уставшие от ожидания встречи губы сливались воедино.
66
Приехали родители. Комната двенадцать метров в общежитии, кровати вдоль стен. Вспоминаю, как жили в подобной обстановке с папой. Десять лет прошло, а ничего не изменилось. Но главное, конечно, что нет войны, а в кровати лежит сын, Володя. Елена Константиновна попросила так назвать. Она-то молчит, но я догадываюсь, что это в честь первой любви, пронесенной ею через всю жизнь.
Юра повел родителей показывать город. Они после окончания войны никуда не выезжали, и для них это глоток свежего воздуха. Остались позади бессонные ночи, когда мама просыпалась от каждого шороха, когда стук в дверь мог закончиться арестом. Но они не прошли бесследно – у папы случился инсульт, а лет-то всего сорок было. Все эти расстрелы, прощания с жизнью, бессонные ночи – всё догнало, но он справился. Больно было видеть, как исказились прежде точеные черты лица. Он смотрел на себя в зеркало и говорил, что с этим жить не собирается: или восстановится полностью, или застрелится. И болезнь отступила, он снова ушел в работу. Вся жизнь – служение, всегда одет с иголочки, подтянут, каждый волосок на своем месте, и ведь служит сердцем, как для этого родился. Казалось, всё ему нипочем, за ним, как за каменной стеной, а оказалось, не каменный.
Дверь открылась, родные шумно заполнили комнату, проснулся Володя.
– Нина, мы купили к чаю и рыбки, и колбасы, и сыра, гуляем!
Мама выложила продукты и принялась накрывать на стол. У неё руках всё так и горит. Вот уже достала нож и доску и тонкими кружочками нарезает колбасу.
– Ты что сидишь, как в воду опущенная? Знаю я тебя, что, не радует семейная жизнь?
Только этого не хватало, обсуждать мою жизнь! Но этого следовало ожидать.
– Все хорошо, не волнуйся, просто устала.
Она окинула меня своим быстрым цепким взглядом.
– Устала она! Вот знаешь, разве с Ваней, с отцом твоим, просто? Чуть что – за револьвер! А уж про баб и говорить нечего, он за баян – они штабелями.
Она быстро достала папиросу, запрыгнула на табуретку, пропела: «Года мои молодые хмарно пропадают, брови черны, очи сини от цвету линяют…» – и открыла форточку.
– Я быстро покурю, чтоб никто не заметил. Уезжаешь с вами на все лето, а оставить его одного нельзя, так, чтоб ему пусто было, разрешаю спать с Фатимой, а возвращаюсь, она гусыней ходит, подруга называется! Дура, говорю, сама, говорю, ему разрешила, – чего мужику маяться, – а ты слюни развесила и еще мне кренделя выписываешь! Что такое тут важное произошло в мое отсутствие? Ничего, говорю, не произошло, кино окончено. Вот такие, Нина, дела, всю жизнь. А ты всё в облаках, всё тебе не те принцы с неба падают.
Она спрыгнула на пол и отбила чечетку.
– Ну не кровь я с молоком, а тоже всю жизнь ради него, ради вас, о себе в последнюю очередь.
В это время вошли папа и Юра, стол уже был накрыт. Откупорили по бутылке вина и водки, выпили за встречу, обсудили ленинградские новости.
– Тебе, Юра, необычная девушка в жены досталась. Как Сталин умер, она поехала одна в Москву, там в Колонном зале Дома Советов прощались, уж не знаю, как цела осталась. Рассказывала, и как под машинами пробирались, и через конный эскорт, и как в три часа ночи милиция к сестре привела. И ведь всю войну, хоть и мала еще была, а все сама, да еще за мной ухаживала. Так что береги её.
Папа замолчал, и неожиданно по щеке у него скатилась слеза. Она прочертила одинокий след и исчезла, и трудно было поверить, что я это видела. Видимо, ничто не проходит бесследно. Мой вечно молодой и безумно красивый папа, хватавшийся за пистолет, если что было не по нём, и готовый застрелиться, не в силах смотреть на себя после инсульта, позволил себе слабость.
Юра начал ответный тост, и я поймала себя на том, что стараюсь не слушать. Защитная реакция на вытягиванье жил. Хочется перебить, все за него сказать, а его слова изрубить на части, перемолоть и освободиться от них. А он-то уверен, что говорит красиво, что владеет словом, а меня как током бьет. Почему в те далекие зимние вечера я сидела, как заколдованная, и слушала того Юру? И ничего мне было не надо, только сидеть рядом и слушать его голос.
– Нина, опять ты в себя ушла. Давай, пока я убираю со стола, застели кровати. Правда, они такие узкие, что не представляю, как вы спите на них вдвоем. – Мама взглянула на меня, и по губам у нее пробежали лучики хитрости.
– Мы решили вас положить на кровати, а себе постелить на полу. Так будет удобнее. – Говорю и стараюсь не смотреть ей в глаза.
Желание выйти из-под её опеки, начать собственную жизнь принесло мне лишь новые беды. Чувствую, как она подтрунивает надо мной, как показывает, что я не готова к самостоятельности, а я все рвалась на свободу, и, правда, рвалась. Она всегда меня испытывала, даже в раннем детстве. Помню, собираемся в кино, она спрашивает:
– В туалет хочешь?
А я же уже взрослая, четыре года, зачем меня спрашивать?! Я гордо отвечала.
– Нет!
А потом во время фильма как приспичит.
– Мама, хочу в туалет.
А она так спокойно:
– Нина, я тебя предупреждала. Теперь сама знаешь, что делать. – Отворачивалась и продолжала смотреть кино.
Я, конечно, терпела, сколько могла, но потом вставала, тихо снимала трусики, садилась и писала, закрыв глаза. А когда фильм заканчивался, она вставала и уходила первой – если кто-то с предыдущего ряда удивится лужице у ног, то она к этому не имеет никакого отношения. А я, сгорая от стыда, – я же не умею врать – как вкопанная ждала разоблачения, а поняв, что никто на меня и не смотрит, срывалась с места и убегала.
Кавалеров моих первых тоже первой вычисляла она, я еще даже не знала, что они у меня есть. Так где-то классе в девятом говорит:
– Странный у тебя поклонник. Пасет тебя и парней, которые следят за тобой, меняет, чтобы ты не заметила.
Я тогда не поняла, про что речь.
– Кто кого пасет? Ты о чем, мама?
– Да ты посмотри: у нас на стене у парадной стрелка мелом нарисована, другая к нашей двери на лестницу ведет, а если по ним идти в обратную сторону, то они до твоей школы тянутся.
Я в изумлении уставилась на нее.
– И что всё это значит?
– Они начинают тебя вести от школы. Если идешь к подруге, отмечают на стенах твой маршрут, потом меняются. Сначала хотела Ване сказать, а потом поняла, что это твои кавалеры. Сама проследила за ними – в разведчиков играют. Но то, что у тебя на хвосте постоянно сидят, все о тебе знают, а ты и в ус не дуешь… А всё такая самостоятельная! Ничего тебе не скажи, сама все знаешь.
Тогда я обратила внимание и поняла, что это все проделки одноклассника Калугина. Он как-то решился меня проводить и даже целоваться полез, ну тут, разумеется, сразу схлопотал пощечину – и за свой интерес, и за мою невнимательность.
– Нина, знаю, что тебе угодить трудно, но Юра хороший муж. Хочу чтобы ты знала: выкрутасов твоих не поддержу и, если что, обратно не приму. Если решила, иди до конца. Такая наша бабья доля, и ты не исключение.
Дверь открылась, вошел папа, как всегда спокойный и чуть улыбающийся.
– Юра сказал, что собирается поступать в Академию и вы скоро вернетесь в Ленинград. Я ему предложил опять пожить у нас. Комната большая, всем места хватит.
Сколько мне крови стоило заставить Юру подать заявление! Как сильно мне самой хотелось продолжить учебу или пойти работать! Его-то и с места не сдвинешь, катится по инерции. А теперь это выглядит, будто он сам решил, и так во всем.
Папа расстегнул китель, показался белоснежный воротничок.
– Хвастался, что писали в газете, как его жена победила на ситцевом бале.
У меня даже свело всё внутри. Ситцевый бал! Белый ситец с крохотными букетиками незабудок, нижняя юбка под платье вместо каркаса. На нее ушло семь метров белого ситца и еще одиннадцать на само платье. Разводила крахмал в холодной воде, потом заваривала горячей, потом снова заливала холодной водой. В раствор опускала готовое платье и юбку, давала подсохнуть, гладила почти мокрое, иначе не ляжет, – и всё это в семиметровой комнате! Лежала под кроватью, кроила маникюрными ножницами. Места не было, сантиметра тоже. Украсили платье три полураспустившихся бутона роз разного оттенка на лифе и белый газовый палантин. Юра шел рядом. Всегда себя вел так – «это моё». Не сумел даже поздравить с победой в конкурсе. А эта публикация в газете, мол, вчера состоялся ситцевый бал, победила жена офицера Радзиевского… Это было в день военно-морского флота, и мне подарили часы «Победа». Это была моя маленькая победа, все стояли и аплодировали мне, я чувствовала, как мной любуются. Я, словно Золушка, вдруг оказалась на балу. Всегда нечего одеть и всегда не как все, но сейчас это платье, сделанное под кроватью, словно образец от лучшего кутюрье, и я будто кинозвезда в лучах прожекторов… И вдруг «победила жена», даже без имени, жена офицера, а ведь победила женщина, которая всё сама, всегда всё сама и за всех в ответе – и за Веру, и за папу, и теперь за Юру.
Легли спать, Юра придавил меня к матрасу своей тяжеленной ногой и начал демонстрировать, что готов к выполнению супружеского долга.
– Совсем спятил? Родители над головой спят, – шепотом пыталась я его вразумить.
– Да они уже заснули. Мы с ними и в Ленинграде в одной комнате спали, так чего уж теперь…
Он говорил достаточно громко, чтобы разбудить кого угодно.
Действительно есть, что вспомнить, когда один засыпает после оргазма, а вторая с трудом сдерживает слезы от боли и обиды.
– Я тебе говорю, нет.
Но залезает на меня и всем своим телом раздвигает мне ноги, и даже в темноте видно его улыбающееся лицо. Ему кажется, я тоже очень хочу его, просто стесняюсь, и он мне помогает от этого избавиться. Начинается молчаливая борьба. Конечно, силы не равны. Будь у меня папин наган, я бы его убила. А может и нет… Нет надо просто уйти, встать и уйти. Орать нельзя, не хватает только, чтобы мама влезла… Заканчивается, как и в Ленинграде – он негромко храпит у меня за спиной, а у меня все тело завязано в узел и хочется выть.
67
Третий звонок, начинается второе действия спектакля «Он и Она». Декорации воссоздают интерьер небольшого уютного ресторана, тихо играет музыка. В углу сцены за отдельным столиком – мужчина и женщина. Они сидят напротив друг друга. Черному костюму, белой рубашке и галстуку противопоставлено черное платье, облегающее стройное тело, тонкие бретельки придерживают шелковистую ткань, едва закрывающую небольшую высокую грудь. Официант подходит к столику и зажигает свечу.
– Вы замужем? – спрашивает Он.
– Да, – отвечает Она, и после небольшой паузы спрашивает: – а вы женаты?
– Да, – отвечает Он. – Вы торопитесь?
– Нет, – отвечает Она, – почему вы так решили? По-вашему, я проявляю какую-то озабоченность?
– Нет. – На лице его появляется мягкая улыбка. – Возможно, мне передается беспокойство вашего мужа?
– Вас волнует процесс образования рогов у мужчин? – иронично уточняет Она, заглядывая ему в глаза.
Он указательными пальцами пытается изобразить быка и парирует в том же тоне:
– Рога, копыта и можно загонять в стойло. Неужели для вас мужчины – стадо?
Она улыбается, щуря раскосые глаза. Выдержав паузу, непродолжительную, но достаточную, чтобы вопрос развалился на слова, слова – на буквы, а вопросительный знак покрутился вокруг оси и стал похожим на крючок для ловли самца по имени «Он», спрашивает:
– Вы курите?
– Нет, – спокойно отвечает Он, поправляя воротничок рубашки.
– Не возражаете, если я закурю? – Она достает из сумочки пачку сигарет, тонкие и длинные пальцы сжимают еще более тонкую и длинную сигарету.
Он подзывает официанта, тот элегантно подносит зажигалку, и пламя освещает Ее яркие губы.
– Вы не ответили на вопрос, – замечает Он.
– Разве это был вопрос? – Она усмехается, втягивая дым и, выпуская его, продолжает: – Скажите лучше, почему вы отмечаете день рождения друга без своей жены?
Он откладывает прибор. Пальцы левой руки гребнем впиваются в висок и тонут в густых волосах. Он пытается поймать ее взгляд, но Она занята не им, ее глаза блуждают от одного объекта к другому. Он возвращает себе ее внимание, медленно выговаривая слова:
– Вы уходите от ответов, каждый раз усложняя вопросы?
– Если не хотите отвечать, не отвечайте. – Она опять улыбается, взгляды наконец встречаются, и Она продолжает: – Не стану вас насиловать. – Выпускает струйку дыма и увлеченно наблюдает за ней.
– А я бы вас с удовольствием, – вырывается у него. Он осекается и кладет подбородок на ладони, рефлекторно ища дополнительную точку опоры.
Она смеется и незамедлительно отбивает:
– Неужели? Вы не похожи на насильника. – Снова ловит его взгляд и выпускает дым так же медленно, как слова. – Вас надо долго дразнить, чтобы растормошить.
Он проводит рукой по лбу, будто смахивая капельки пота, и с глубоким выдохом отзывается:
– Надо сказать, вам легко это удается.
– Это вечная игра под названием «Он и Она», – произносит Она, подняв фужер, делает маленький глоток и любопытствует:
– А вы часто играете?
Он тоже поднимает бокал, они встречаются в воздухе, как колокольчики, потерявшие языки, но обретающие голос в соприкосновении друг с другом.
– Приглашая вас на танец, я не подозревал, что сделал первый ход в игре, – произносит Он с некоторой печалью.
– Первый ход вы сделали давно, возможно, когда родились. Теперь это только продолжение, и танец в том числе. – Она делает очередной глоток и ставит бокал.
– Если это игра, то в одни ворота. Не представляю реальных методов отражения ваших атак. Вопрос только в том, что вы хотите выиграть и какие результаты игры вас устроят. – Он тоже делает большой глоток и задумывается.
– Вы не поняли. – После небольшой паузы Она продолжает, понизив голос: – Я ничего не хочу.
Кажется, слова летают, встречаются, отражаются, ударяясь друг о друга, теряют силу, падают и тают, но вопросы остаются без ответов.
– В таком случае, каков смысл игры? – Он снова пытается поймать ее взгляд.
– В том, что вы сейчас испытываете, разговаривая со мной. Разве в этом нет смысла?
– Важно, что я слышу ваше дыхание, вижу ваши ускользающие глаза, ловлю слова, не совсем понимая, куда они ведут, – говорит Он, поднимая бокал, и предлагает тост: – За ваши глаза, зовущие неведомо куда.
Она касается своим бокалом его и отзывается:
– В ваших глазах сражаются романтизм и борьба за пальму первенства. Либо вы не пропускаете не одной юбки, либо давно ни одной не снимали, не так ли?
– Вы слишком быстро двигаете фигуры, мне становится жарко. Может, вы таким образом вынуждаете меня сделать ошибку? Если не возражаете, я тоже закурю.
Она медленно двигает пальцем пачку сигарет и, не сводя с собеседника глаз, замечает:
– Вы же говорили, что не курите.
Он, замерев, следит за ее движениями.
– Бросил несколько месяцев назад. – Он снова подзывает официанта, тот подходит и наклоняется к клиенту. – Шампанское, двести водки и «Парламент».
Она тут же комментирует его заказ:
– Надеетесь выиграть, заключив союз с алкоголем?
Он улыбается и откидывается на спинку стула.
– Нет, алкоголь лишь уравняет шансы. Я осмелею, а вы притормозите.
– Интересно. – Постукивая кончиками пальцев по столу, поднимает на него взгляд. – И что вы подразумеваете под этим «осмелею»?
– Ну, например, я перестану сдерживаться и спрошу, где ваш муж, и, не дожидаясь ответа, приглашу к себе в гости.
Официант приносит заказ. Мужчина за столом распечатывает пачку сигарет, закуривает, жадно глотая дым, разрешая ему прогуляться по закоулкам легких.
– Мой муж за границей. – Она умолкает и выжидательно смотрит на него. – Но это не значит, что я готова переступить порог вашей спальни.
Он качает головой, молчит, потом задумчиво произносит:
– Сначала танец, затем взгляды, потом дразнящие слова …
Она прервала бесконечные перечисления, показывая, что ход его мыслей для нее очевиден:
– Вы сами прервали мой ужин, пригласив на танец. Вечер в ресторане не связан с поиском мужчин, просто я не люблю готовить, особенно когда одна – грязная посуда, шарканье домашних туфель, тишина и тоска.
Он, пытаясь развить инициативу, спрашивает:
– Вас одевает муж?
– Я в том возрасте, когда одеваюсь и раздеваюсь сама, – отрезает она, медленно меняя положение ног. Платье дает возможность оценить их длину, форму и вообразить путь к белью.
– Очень жаль, я бы с радостью освободил вас от этой обязанности. – Он наливает себе водки, и вздрагивает всем телом, выдавая промелькнувшие перед внутренним взором возбуждающие картины возможной прелюдии. Он поднимает стопку и продолжает: – За ваши красивые ноги – извините, не могу сдержаться.
Она, показывая, у кого в руках инициатива, продолжает:
– Галстук вам завязывает жена? – Она снова выбивает почву у него из-под ног, заставляя его оторвать взгляд от ее ног и сосредоточиться на себе самом.
– С ним что-то не так? – Он несколько обескуражен.
– С ним все в порядке. Просто такое впечатление, будто вас хотели задушить, когда его завязывали. Вы так раскраснелись.
Он развязывает галстук и расстегивает верхние пуговицы рубашки.
– Так лучше?
– Так вы похожи на загулявшего барина. – Она поворачивается к зрителям и бросает: – Чем больше обнажен, тем меньше тайны. Я предпочитаю нестись по тонкому льду, пусть ноги в кровь, пусть продлится все недолго, пусть мгновение, но ярко, так, чтобы сгореть дотла.
Он чувствует, что Она ускользает, что в этой игре Она делает слишком быстрые ходы и Он не успевает за ней..
– Поверьте, вам было бы хорошо со мной! Неужели вы не чувствуете этого? – с некоторым надрывом взывает Он и дотрагивается до ее пальцев, сжимающих очередную сигарету.
Она медленно отодвигает руку.
– Наша беседа была лучшим блюдом за ужином. Я благодарна вам за нее.
– Вы уходите? – Не получив ответ Он продолжает: – Справедливости ради, может, хоть объявите результаты игры?
– Извините, уже поздно, мне пора. Желаю вам хорошо повеселиться с друзьями. Они наверняка уже потеряли вас и волнуются.
Она встает, берет сумочку и, плавно покачивая бердами, направляется к выходу. Приостанавливается, поворачивается к залу и размышляет вслух:
– Возвращаюсь снова одна. Он интересен, он мужчина, но не мой. Уйди я с ним, утром пожалела бы. А может, буду себя ругать за то, чего не совершила.
Взмах ресниц и манящий удаляющийся силуэт. Он садится за стол к своим друзьям, растерянный, в глазах печаль, и обращается к зрителям:
– Запах этой женщины не дает покоя. Мучают противоречивые мысли: что-то ускользнуло, а ведь было совсем близко, но иногда поражение оставляет след ярче иных побед.
Официант убирает и заново сервирует их столик, размышляя вслух:
– Странный вечер. Странные люди. Странно расстались. Их нет, а слова остались, и что с ними делать, когда хозяев нет?
Свет гаснет, второе отделение закончилось. На губах вкус исчезающей женщины – умной, далекой и одинокой.
68
Личный пример обязательная составляющая любого дела, особенно когда нужно, чтобы работа спорилась.
К утру все закончили. Усталости я не чувствовал, радость решила пожить со мной, лица ребят стали за эту ночь светлей. Подошел командир роты.
– Все молодцы. Объявляю благодарность. Рядовой Радзиевский, начал здорово, постарайся теперь ребятам выбить что-нибудь на полевой кухне. Водитель уже ждет.
Машина тряслась по кочкам, подпрыгивала на ухабах. Множество дорог пересекалось и расползалось в разные стороны, усугубляя неопределенность пространства. Водитель бодро крутил руль и что-то хохмил, припевал и посвистывал. Он и сам походил на руль – круглый, с дырочками и сигналом посередине. Сил заткнуть его не хватало, разговор тек сам по себе, и мой собеседник был вполне доволен собой.
Въехали в лес. На поляне разместилась полевая кухня. Бочки на колесах с открытыми крышками источали запах каши, супа, тушенки, сладкого чая, соблазняя все смешать и заглотнуть, не глядя. Голод, свежий воздух, запредельные физические нагрузки – и вот уже инстинкты просыпаются, превалируют и руководят. Раздатчики сорвали голоса, убеждая, что хватит всем, но сытый голодного не разумеет. Настойчивый ефрейтор с зеленоватым лицом получил котелком по голове, каша обтекла и повисла у него ушах.
– Рота почетного караула, – гордо отчеканил я. – Распоряжение командующего срочно выдать паек.
Никто толком не понял, о чем это я, но бидоны стали наполняться содержимым котлов. Деликатесы в виде сахара и масла выдавались отдельно в виде большого количества кубиков. Пришлось выиграть еще одно сражение, доказывая необходимость двойной порции для солдат выше ста девяноста.
– Послушай, белый колпак, ничего личного, но за ребят обидно. Ты вот лошадей любишь? – спросил я, глядя в его отсутствующие глаза в надежде растрясти этот человекообразный студень.
– Причем тут кони? Давай забирай, что положено, не задерживай движение.
– Нас отбирали, как племенных лошадей: смотрели зубы, рост, осанку, телосложение, родословную. Мы встречаем королей и королев, принцев и принцесс, шахов и падишахов. Ты экономишь на любви к прекрасному, а эти ребята, как племенные рысаки, но тех почему-то ценят дороже. Каждый из них бесценен и неповторим, а мы их даже не кормим.
– Черт с тобой, бери доппаек и вали к своим жеребцам, Смотри, не перекорми, а то они еще и кобылок запросят.
На том и расстались. У каждого своя дорога, но общение не столько ее украшает, сколько придает смысл движению на пути познания себя через принятие других. Бидоны с едой весили прилично, мы с трудом дотащили их до машины, а поднять в кузов оказалось еще сложней. К моменту завершения погрузки подошел офицер, осведомился, куда едем, и сообщив, что нам по пути, забрался в кабину. Мне ничего не оставалось, кроме как забраться в накрытый брезентовым тентом кузов и расположиться на скамейке между бидонов. Плавно качнувшись, мы пустились в обратный путь.
Мерное рычание мотора нарушил гул, скорость и сила нарастания которого заставили вжаться в деревянную скамейку. Хотелось просто врасти в землю. Барабанные перепонки натянулись до боли, казалось, еще удар, и они не выдержат. Машина резко рванула вперед. В надежде разобраться в происходящем, я высунулся из кузова, и в это мгновение раздался взрыв. Я оглох, а водитель помчался на предельной скорости, петляя, как безумный. Я едва успел заметить самолет, решивший нас отутюжить. В этот же момент правую ногу словно обожгло. Странно – бомбят, стреляют, нога горит, грузовичок мечется, как загнанный зверь. Попытки разобраться с ногой пресекли бидоны, решившие устроить соревнования по прыжкам в высоту. Крышки с готовностью поддержали это начинание. Концепция «низы не хотят, а верхи не могут» получила новое воплощение – крышки хлопнули, как пробки из шампанского.
В такие моменты понимаешь, что казавшееся ужасным минуту назад было проявлением благосклонности судьбы. Лезгинка в сопровождении горячих, но неумелых партнеров – алюминиевых бачков, азартно преследовавших по всему кузову мои ноги – удалась на славу. Особенно бидоны радовались, если удавалось в очередном прыжке обдать меня кашей, супом и ошпарить чаем. Я понял, что долго не продержусь, оторвался от пола и распластался под крышей, вцепившись в раму. Красивый образ племенного жеребца мутировал в жалкого паука-переростка, неспособного не только охотиться, но даже сплести надежную паутину. Еще немного, и лязгающие бидонные крышки поглотили бы меня, но тут машина остановилась. Брезентовый тент приоткрылся, и внутрь сунулся водитель-руль. Перемена ракурса не повлияла на восприятие его расплывчатой улыбки – круглое тело со всех сторон одинаково.
– Ты чего туда залез? – Он внимательно осмотрел мою форму, и улыбку сменил смех, придавший рулю плавное вращение.
– Ну, ты даешь! Тебя как деталь на хорошем складе смазали, дотронуться страшно.
– Кончай ржать. Куда тебя понесло? Что произошло, чей самолет?
Спрыгнув на землю, я почувствовал, как гудят ноги. Кожа местами изрядно подрумянилась, а одежда жалобно просилась в отпуск.
– Мне-то откуда знать? На нем не написано. Сам натерпелся. И чего он к нам привязался? Офицер сам труханул, когда рвануло. Сказал, что они, конечно, переcтарались, брать звуковой барьер на такой высоте опасно для находящихся на земле. Я вообще подумал, бомбят. Ноги тряслись, по педалям не попадали, хорошо, руль удержал, швыряло из стороны в сторону, как на войне. Можно сказать, боевое крещение получили.
– Не знаю, что ты там получил, но если всплывет, сколько еды пропало, укрытие тебе не помешает, можешь уже рыть.
Дабы избежать насмешек относительно моего внешнего вида, постарался добраться до командира роты окольными путями. Доложил о выполнении задания, но подробности опустил.
– Что случилось? Почему так нарядно выглядите?
– Стреляли.
Мы посмеялись, и я направился приводить в себя порядок, а он проверять линию обороны.
69
Набережная большого города. Время около полудня. Солнце плывет по голубому небу, согревая, но не обжигая землю. Перед входом в отель расположен небольшой бассейн, позволяя совмещать прием солнечных ванн и наблюдение за особенностями местной жизни. Узкая полоса дороги отделяет гостиницу от линии пальм, белого песка и лазурных вод залива. Картинка перед глазами вроде бы не меняется, но при этом все время движется – эффект, противоположный кино, когда двадцать четыре кадра, сменяя друг другу в течение секунды, создают впечатление действия.
Основной участник дорожного движения – скутер, оснащенный всевозможными приспособлениями. Хозяева этих мини-мотоциклов непрестанно жмут на клаксоны, кряканьем и свистом привлекая внимание прохожих и предлагая им всевозможные фрукты, полуфабрикаты, горячую еду.
Высокий немецкого типа блондин откликнулся на предложение. Крохотная тележка с командой из двух человек подкатила к нему и замерла. Хозяин развернул на горке льда большой выбор креветок и прочих морских деликатесов. Хозяйка бросала выбранные покупателем креветки в металлическую стоявшую на огне посудину. Молниеносно приготовив блюдо, воткнув в него деревянные палочки и предложив салфетки, пара завершила процесс выполнения желаний клиента. Получив деньги, они сложили руки на груди, поклонились и улыбнулись, словно получили подарок. Мне захотелось утолить жажду, воспользовавшись таким необычным сервисом.
Спускаюсь по ступенькам на обочину дороги. Слышу несколько приветливых гудков, одобрительно киваю на тележку с фруктами, та плавно останавливается. Выбираю аппетитно лоснящиеся под стеклом продолговатые ломтики ананаса, бордовые сегменты арбуза, дольки папайи. Хозяйка аккуратно укладывает выбранные фрукты в отдельные полиэтиленовые мешочки. Хозяин берет в левую руку, заполненные пакеты, в правую нож и ловкими движениями расчленяет фрукты на удобные для приема кусочки, сохраняя пакет невредимым. Женщина заканчивает процесс, вставляя в каждый пакет деревянные палочки, дает салфетки. Расплачиваюсь, получаю бесплатный ритуал благодарности, искренность коего не вызывает сомнений.
Через дорогу на бетонной скамейке, подложив под голову мешкообразную сумку устроилась девушка. Ее худенькое тело удобно свернулось, рядом на земле кучка бамбука, используемого для приготовления пищи. Дальше узкая полоска пляжа, две девушки постоянно ныряют с сеткой в руках, прямо в одежде, пытаясь выловить каких-то морских обитателей. Вода мягкая, не очень соленая. В непосредственной близости от ныряльщиц проносятся водные мотоциклы, катера таскают на тросе «бананы», при резкой смене направления катающиеся с криками летят в разные стороны.
Возвращаюсь в бассейн. Деревянными палочками удобно доставать кусочки фруктов. Они не только аппетитно выглядят, но и дивно вкусны – сочные, сладкие, настоящие дети тепла. На соседних лежаках расположились две русские барышни. Местными правилами не рекомендуется загорать topless, и они ограничились расстегнутыми верхними частями и скатанными в полоски нижними частями купальников, широко, насколько это позволил лежак, разбросав ноги.
К краю бассейна подошла молодая тайка с ребенком. Девочка, не раздумывая, скользнула в воду. Плавать она не умела, но ныряла как рыбка. Когда она вынырнула, мать обратила её внимание на какой-то предмет на поверхности воды. Думаю, девочке было не больше пяти лет. Несколько раз она набирала воздух, ныряла и, наконец, добралась до заданного места и, поднимая ладошкой волну, погнала нечто к краю бассейна. Женщина наклонилась – как и все тайки, она тщательно скрывала тело, но в этот момент юбка сползла, облизнув тугие бедра и обнажив ажурные красные стринги с красивым бантом, – и достала из воды большую мертвую стрекозу. Мы все плавали в этом бассейне, но никому не пришло в голову убрать насекомое.
Дорогу переходит мужчина лет шестидесяти, судя по белой футболке с синим крестом, финн. Рядом тайка лет двадцати, держит его за руку и нежно поглаживает её. Проносится группа байкеров, мотоциклы плавно тарахтят, банданы водителей и разноцветные юбки спутниц плещутся по ветру.
Подошли две местные девушки и предложили посмотреть перечень массажных услуг. Цена порадовала, воспоминания о китайской массажистке наполнили предвкушением. Проследовав на балкон, распластался на белой простыне. Подумалось, что, учитывая происходящее вокруг меня в сочетании с чарами здешней природы, массаж можно считать обязательным звеном обволакивающей нирваны. Чуткие пальцы принялись изучать мои ступни, тепло или энергия окружающего мира, транслируемые массажисткой, запустили механизмы, генерирующие жизненную силу. Медленно поднимаясь по точкам кровеносной системы, она добралась до паха и, всем телом опершись на ладонь, пережала ток крови к ногам.
– Тебе хорошо? – спросила она, нависая надо мной с приятной улыбкой на пухлых губах.
– Спасибо, хорошо.
– Ты откуда?
– Из России.
– Русских здесь много, но ты не похож. Я думала, ты из Голландии.
Она освободила замок, капнула в ладонь масла и плавными движениями нанесла его на кожу. Потом закатала на мне плавки и перешла к активному разогреву мышц, гоняя кровь по замкнутому контуру. Тело растворялось в благодарности за редкое понимание его желаний. Пальцы часто касались не только ног, добавляя перца в сладкий коктейль расслабления. Кроме губ, заметил периодически появляющиеся контуры груди и цветную татуировку на руке выше локтя.
– У тебя красивая тату. – Я взглядом указал на прячущийся под коротким рукавом рисунок.
– Тебе нравится? – Она приоткрыла плечо.
– Да, тебе идет.
– У меня на спине еще одна такая же.
Опираясь на локти, усиливая нагрузку на отдельные точки, она контролировала мое состояние.
– Так хорошо?
– Мне нравится сильный контакт.
– Правда? Тебе нравятся сильные женщины? – Она улыбнулась, миндалевидные глаза игриво сверкнули. – Я сильная женщина. Правда сильная.
– Ты замужем?
– Сейчас одна. Была замужем. Дочь живет с родителями, далеко.
– Скучаешь?
– Уже нет. Я Будда, понимаешь?
Она сложила руки на груди и застыла на мгновение. Насколько смог, в моем-то положении, проявил понимание.
– Меня отдали замуж в двенадцать лет. Много работала, собирала рис. Больше не хочу замуж. Так лучше, я свободна, сама помогаю семье каждый месяц.
– Ты давно занимаешься массажем?
– Нет, один год. Мне сейчас тридцать один год. Много?
– Нет. Ты молодая, красивая женщина.
Румянец на щеках выдал её волнение. Тут ее товарка громко засмеялась и стала кому-то кричать «массаж, массаж». Мы невольно повернули головы в сторону улицы. Пожилой седовласый мужчина, судя по неуверенной поступи, лет за семьдесят, шел в сопровождении тайки, на вид лет семнадцати. Он улыбался в ответ на активные предложения и отмахивался руками, показывая, что ему всего достаточно, даже в избытке. Это был добрый юмор, все остались довольны. Моя мастерица предложила мне сесть и занялась головой, взбивая волосы, словно миксером.
– Как тебя зовут?
– Тау, а тебя?
– Владимир.
– Повтори еще раз.
– Вла-ди-мир, – медленно повторил я по слогам.
– Красивое, но сложно произносить.
Она замолчала. Сеанс подходил к концу. Барабаня по спине пальцами, словно деревянными молоточками, меня пробуждали, возвращая к реальности. Я расплатился, получил в ответ все еще непривычную благодарность в виде поклона и улыбки. Короткий массаж и длинная жизнь пролетели параллельно, неожиданно соприкоснувшись крыльями.
Одеваюсь, выхожу на улицу. Девушка, живущая на бетонной скамейке, выстирала трусики и лифчик и развесила их сушиться на нижних ветках ближайшей пальмы. Около неё останавливается продуктовая тележка. Обитательница скамейки что-то тихо обсуждает с водителем, тележка трогается, а она снова ложится на скамейку, держа в руках что-то съестное.
Темнеет, ворожит закат. Белый песок переходит в бирюзовую гладь воды, сиреневый воздух в молочном коктейле облаков заполняет пространство огромной картины. Кирпичная дорога с золотистым оттенком лежит у моих ног, переливаясь легкой рябью – магический путь к солнцу. Неслучайно в этих местах рождаются рубины, сапфиры и тайки.
Внимание привлекли две местные девушки в вызывающе коротких платьях. Высветленные волосы, огромные каблуки. Заметив зрителя, они кокетливо завиляли бедрами, затрясли кудрями, словно гривами, заскользили ладонями по обтягивающим нарядам. Днем ничего подобного моему взору не представлялось. Они ловили такси, похожие на маленькие фургончики без окон и дверей, но с металлическим верхом – с тропическими ливнями не шутят.
– Привет. Судя по настроению, едете веселиться? – спросил я, когда остановилось такси.
– Привет! – весело защебетали в ответ. – Едем на Променад, там весело.
Вслед за девицами забрался по ступенькам в салон такси. Они активно продолжали что-то обсуждать между собой по-тайски. Обратил внимание на некоторую грубость голосов. Вспомнилась непонятная реплика Тау, мол, у нее брат мальчик-девочка. Напротив сидел высокий, плотного телосложения негр средних лет. Двумя руками обвив его могучее предплечье, прижималась к его плечу тайка лет тридцати, скромно одетая, невысокая и коренастая, как и большинство ее соплеменников, с красивыми черными волосами. Они все дорогу молчали, но между ними все время наблюдалась тактильная связь, поглаживания, легкие пожатия. При условии, что в общественных местах у них целоваться не принято, она искусно делилась своим теплом. Эта пара больше притягивала мое внимание, чем разбитные красотки, а может, и красавцы. Выходя, негр прищурился и помахал мне рукой, другой выразительно теребя платье между ног спутницы. Они оба засмеялись и канули в ночь.
– Выходим. Если хочешь, давай с нами.
– Спасибо, желаю хорошо повеселиться.
Они быстро растворились в своей стихии. Центральная улица, предназначенная только для пешеходов, напоминает пчелиный улей. Предложения сыплются одно за другим: вкусно поесть, хорошие девочки, фирменные часы, дикие девочки, дискотека, фантастическое шоу, плохие девчонки. Медленно плыву в нескончаемом потоке, отводя взгляд от бесконечной рекламы всего, наталкиваюсь на женские взгляды в кафе, барах, дискотеках. Никогда в жизни не чувствовал себя объектом внимания такого количества женщин. Никто не пристает, но глаза, встретившись на мгновение, обещают незабываемые впечатления на всю жизнь.
– Добрый вечер! – жизнерадостно приветствовали меня мои русские соседки по отелю, загоравшие тогда рядом.
От неожиданности кивнул.
– Здесь конечно весело, но какой-то перебор с проститутками. И вообще нам сказали, что надо срочно ехать в сторону нашего отеля. Сегодня у них какой-то национальный праздник молодой Луны, на берегу будет очень красиво. Поедете? – спросила блондинка с маслеными глазами.
– Я только недавно сюда добрался.
– Всегда успеете вернуться, а так вдруг мы вас спасем от опасных связей с тайками!
Они переглянулись, подхватили меня под руки, и мы достаточно быстро оказались сначала в такси, а потом на берегу залива. Вся набережная была забита автомобилями, мотоциклами, мопедами, весь берег заполнен людьми. В надежде на лучший обзор мы расположились на открытой террасе и заказали коктейли, для начала легкие.
В небе парили белые фонари, живой огонь освещал их изнутри, они летели на разных высотах, стремясь к молодой Луне, и превращались в маленькие красные звезды. Люди со всех сторон направлялись к берегу, неся с собой странные изделия, похожие на плетеные вазы, украшенные разнообразными узорами. Зайдя в воду, они бережно пускали свое творение в плавание, маленькая свеча еще долго мерцала среди тысяч других. Небо подсвечивали разноцветные всплески фейерверков, сопровождаемые грохотом взрывов и треском хлопушек.
– Зачем они отправляют в море такую красоту? – спросила неугомонная блондинка у официантки.
– Они любят друг друга, хотят сохранить это чувство.
Она назвала имя олицетворяющего праздник божества, но нам не удалось его выговорить. Видимо, это была богиня любви. На улице появлялись девушки в золотых нарядах с высокими головными уборами.
Девчонки прилично выпили и собрались вернуться на дискотеку. Посадил их на такси, но сам под предлогом головной боли от поездки отказался. Мужчина, остановившийся в соседнем номере, дружелюбно кивнул мне, пересек дорогу и подошел к жившей на бетонной скамейке девушке. (Бельё уже исчезло с дерева). Они уселись лицом к морю, его широкая спина и её стройное, как стебелек, тело медленно покачивались то ли в такт музыке, доносящейся из проезжавших автомобилей с колонками на багажнике, то ли в такт жизни, которой они радовались. Ноги неспешно понесли меня в номер. Над постелью витал вопрос, почему при таком количестве предложений я в итоге остался наедине со своими размышлениями. Разбудили пронзительные вскрики за стеной, сигналы, посылаемые из потаенных глубин женского начала в космос в момент выброса энергии. Они разорвали мой сон и мысли на то, что было до, и без чего не бывает после.
70
Занятия кончились, пришло лето. Тренировки пока продолжаются, теперь на улице. Площадка ограждена сеткой, поэтому мяч редко вылетает за ограждение. Я весь мокрый, живого места нет, играем за училище с командами мастеров, поэтому и тренировки изматывающие.
Подхожу к моему другу тезке Юрке Шухатовичу – двухметровая махина, на месте столба играет. Если хороший пас ему вывесить, забивает мяч в первую линию, как гвоздь. Спрашиваю:
– Ты где пол ночи пропадал?
– У Светки был. Тебе, кстати, Тома привет передавала. Ну, погуляли, потом взяли вина и к ней… Всё бы ничего, но в таком виде в училище не пустят – полез через забор. Юра, только ты никому.
Я смотрел на него с нескрываемой завистью. Вроде друзья, похожи, я, правда, поменьше ростом, но тоже ведь парень хоть куда. Но он уже какой раз у своей подруги остается, хотя, когда выбирали, моя куда бойчее казалась. Шухатович сказал, что его любая устроит, вот я и выбрал Тому. Сколько встречаемся, а дальше поцелуев ничего.
– О чем никому, про Светку что ли?
Он махнул рукой.
– Говорю тебе, когда возвращался, полез через забор, где склады какие-то. А там собака. А я еще зацепился за что-то и упал, и тут она прямо перед моим лицом и укусить норовит. Времени на раздумья не было, да и трезвым меня тоже не назовешь, вот я сам ее и укусил. Она как-то сразу заскулила, я даже не поверил, как это я так умудрился, но время-то поджимало, и я давай дальше…
Я перебил его:
– Так что тут секретного-то? Смех один.
– Тебе смех, а меня могут из училища выгнать. Собака-то померла. Утром сторож докладную написал, что какой-то курсант перелез через ворота и укусил его собаку, да прямо до крови. Теперь будут разбираться, а мне эта зараза, оказывается, брюки порвала.
Шух всегда поражает своими приключениями. Другого уже давно поймали бы да выгнали, а его все беды стороной обходят, и все само дается. При этом его олимпийскому спокойствию можно только позавидовать.
– Кто тебя найдет? Отпечатки пальцев если только начнут снимать. Хотя, наверное, по отпечаткам зубов сразу бы вычислили.
Мы оба рассмеялись. Тренировка подошла к концу, теперь душ, потом встреча с Томой – договорились пойти вместе позагорать. Форма красиво облегает тело, вся подогнана, ботинки блестят, фуражка, как белоснежный корабль, немного набекрень.
Еду на трамвае, все читают, покачиваются, держась за ременные ручки, но это никому не мешает, они все в своих историях. Я так не могу, кругом так много всего, что впериться куда-то (у Гоголя, по-моему, такое высказывание встретил) не по мне. Лучше лишней раз вызвать улыбку и самому улыбнуться. Кругом солнечно, столько красивых девушек, и город очень красивый. Уже привык к нему, а приехал забитый. Уверен был, что поступлю – отец иногда со мной занимался, он хорошо в математике разбирается, а мама в литературе. Но мамино театральное увлечение всегда казалось мне женской забавой. Хотя мы с братом и стихи читали, и пели. Помню, объявляют: «Сейчас нам споют братья Радзиевские!» – и аплодисменты. Выступали для раненых с фронта. Выходим оба, тощие, одна штанина длиннее другой, улыбнемся друг другу и давай им «Мурку». Сразу хлопают – лихая парочка, мы много хулиганских песен знали. А вечером на завод. Мне пятнадцать было, быстро выучился на станке заготовки для снарядов делать, как никак родителям помощь, паёк давали. А утром в школу. И ничего, все успевал. Не высыпался, конечно, но так было надо.
Когда уезжал поступать, отец сказал:
– Юра, мне стыдиться нечего. Жизнь, конечно, сложилась не так, как хотелось, но я не жалуюсь. Однако при поступлении будет лучше, если ты напишешь, что родителей нет, сирота. Послушай отца, может, времена и изменились, но люди-то остались.
И правда, мы долго скитались по северу, в родовое село возвращаться побоялись. Переехали в Беларусь, маленький городок, где никто ничего не знал, и начали все с начала.
Объявили остановку:
– Петропавловская крепость.
Мы с Тамарой договорились встретиться у Петровских ворот над которыми огромное резное деревянное панно. Автора не помню, но посвящено победе России в Северной войне. А вот и она, в длинном платье, но таком легком, что кажется, ветер подует, и на ней ничего не останется.
– Хорошо, что ты меня пригласил, такая чудная погода. Я взяла плед, чтобы удобнее расположиться. Выберем место, где людей поменьше и вода поближе.
Глаза вспыхивают улыбкой, становятся огромными и светятся. А я почему-то становлюсь маленьким, не то чтобы ребенком, но как-то ниже ростом. И вроде уверенность в себе не пропадает, а делаюсь, как завороженный, покорный. Кажется, что она захочет, то со мной и сделает, а чего хочу я, тоже должно случиться, потому что она мне ответит тем же, а если не ответит… нет, не хочу об этом думать, ответит, обязательно ответит.
Мы долго искали место, где поменьше народу. Тома стала снимать платье, под ним у неё был уже надет купальник. А я не подумал заранее переодеться и взял плавки с собой. Она почувствовала моё замешательство.
– Если хочешь, возьми моё полотенце, чтобы переодеться.
Полотенце я взял, но проблема конечно не в том, как переодеться, а в том, что я первый раз увидел её обнаженные бедра и живот. Немного, но мне хватило, и я не знал куда деться, чтобы скрыть явные признаки своего возбуждения. В конце концов отдал полотенце, мол, неудобно, лучше в туалете переоденусь. Когда вернулся, она лежала на спине и щурила глаза от солнца. Я предусмотрительно лег на живот и решил, что ни за что не перевернусь. Она перекатилась вполоборота ко мне и подперла голову ладонью. Взгляд ее затуманился, у меня тоже в глазах поплыло, и уже было неудобно открыто пялиться на её грудь.
– Когда ты подходил, я заметила у тебя на груди двуглавого орла, прямо как над воротами, где мы встретились. Откуда он у тебя?
Постукивая пальчиками по собственной груди, она не сводила с меня глаз.
– Хотел доказать себе, что взрослый, без этого не уважали, считали, что пацаньё.
– Больно, наверное. И кто это делал, художник?
Она придвинулась, чтобы удобнее было разглядывать, и провела кончиком пальца по одной из орлиных голов. Меня снова окатило горячей волной.
– Терпеть можно, но губы до крови искусал. Художник, наверное. Он всем делал. Курил без остановки.
С трудом взяв себя в руки, я тоже повернулся набок, уступая её желанию рассмотреть орла.
– Да у тебя всё тело в отметинах, через весь живот шрам.
И что тут сказать? Поступая в училище, подготовил легенду, мол, проверял себя на выносливость, готовился стать военным моряком. И татуировку поэтому сделал, и шрам на животе. Сочли, что странно, но время тяжелое, война, всякое бывало. Однако перед Томой мне странным выглядеть не хотелось, и я решил рассказать правду.
– У нас была своя компания ребят лет пятнадцати, плюс мой брат и еще несколько мальчишек помладше. Мы крепко дружили и всегда стояли друг за друга горой. У нас водилась такая забава – на вагонетке кататься. Заброшенная ветка, а на ней вагонетка осталась, не совсем исправная, но разогнаться можно. Однажды, мы сильно разогнались на ней, и один из младших пацанов решил спрыгнуть на песчаный откос. Мы так иногда делали – катишься, а потом на ноги не встать, словно пьяный делаешься. Но тут он запнулся, и его под колеса потащило. Я в него вцепился, чтобы он на рельсы не попал, ребята принялись тормозить, да это же не сразу получается. У меня силы кончились, но я его не отпустил, а сам сорвался и угодил под колеса. Хорошо, скорость уже сбросили, вагонетка на мне и остановилась. Дальше все помню, как в замедленной съемке – как меня перебинтовывали, срывая с себя одежду, как тащили по очереди, как в машину грузили, как врачи бегали, потом уснул. Говорили, чудом выжил, на волосок был от смерти, но она меня пожалела, не пришла.
Тома смотрела на меня так, будто только что побывала там, где это со мной произошло. Она разволновалась.
– Извини, я со своими глупыми вопросами…
Отвернулась и стала смотреть на Неву. Там плавали прогулочные кораблики, люди любовались городом и просто веселились, а я тут жути нагнал, похвастаться решил, вот я какой герой, да с татуировкой…
Наползли тучи, начало накрапывать, мы быстро оделись и спрятались под навес. Стремясь укрыть Тому от дождя, я прижал ёе к себе. От неё исходило тепло, даже жар – солнце так её разогрело, или она такая от природы? Я и сам горячий, но тут мне стало так жарко, хоть раздевайся. Мы постарались быстро добежать до остановки трамвая, чтобы не вымокнуть окончательно, но Томино платье прилипло к телу, четко обрисовывая его контуры.
– Можем заскочить ко мне. Я переоденусь, попьем чаю и сходим в кино.
Она это сказала так, как будто мы каждый день к ней заходили, и в этом нет ничего особенного.
– Конечно, я бы тоже с удовольствием выпил чаю.
Голос предательски дрогнул, и я поспешно взял себя в руки.
Вход был со двора, лестница темная и достаточно крутая, но я это замечал только потому, что не мог спокойно смотреть на покачивающиеся перед носом бедра.
Комната небольшая, стол, шкаф, кровать и ширма.
– Отвернись. – Она зашла за ширму. – Я быстро переоденусь и поставлю чайник.
Смотрю в окно, оно выходит во двор-колодец, но всё мое внимание сосредоточено на звуках, позволяющих представить, как она раздевается, вешает вещи. Мои фантазии резко обрываются:
– Все, я готова, садись за стол, сейчас накрою.
На Томе голубое платье, темные волосы распущены.
Она ушла на кухню, других голосов не слышно. Я не обратил внимания, сколько звонков на двери, поэтому не понял, коммунальная это квартира или отдельная. В комнате не ничего лишнего, но все аккуратно и очень чисто. На столе много книг, она учится на детского врача, говорит, это её мечта, и учеба в радость. Мне тоже учеба дается легко, но сказать, что она доставляет радость… нет. Вот волейбол, баскетбол, шахматы, преферанс – эти занятия действительно приносят удовольствие.
Тома принесла чай, предложила варенье, пряники. Варенье оказалось домашнее, с грецкими орехами. Она встала подлить мне чаю, я перехватил ее и посадил к себе на колени. Мы обнялись. Двигаться не хотелось, но что-то внутри меня толкало, мол, надо действовать. Я начал её целовать, волосы мешали, она убрала их с лица, мы коснулись друг друга губами. Ее губы они были горячими, нежными, я на них набросился и целовал без остановки, попутно пытаясь расстегнуть лифчик. Кое-какой опыт у меня имелся, но справиться не удавалось.
– Юра, куда мы торопимся? Нам лучше остановиться.
Она говорила спокойно и нежно, но это меня не останавливало, а толкало вперед. Наконец я справился с лифчиком, точнее с застежкой, а вот как его убрать, не снимая платья? Это хуже, чем высшая математика. Решил пойти другим путем, поднял Тому на руки и отнес на кровать, опять стал целовать и, уже не мучаясь с лямочками, забрался рукой под платье и начал стягивать белые трусики. Тома сжала ноги.
– У меня никого не было. Я думала, это произойдет как-то иначе.
Я в ответ бормотал что-то невнятное:
– Все хорошо, все будет хорошо…
Наконец мне удалось их снять, я тоже разделся и тут сообразил, что толком не знаю, как действовать дальше. Раздвинул её ноги и стал пытаться попасть туда, куда надо, но получалось не очень. Тома лежала на спине и только учащенно дышала, уже практически не сопротивлялась, но и не участвовала. Я пытался помочь себе руками, найти правильные движения, но всё куда-то упирался. Так продолжалось довольно долго, потом она снова сжала ноги, но я не оставил попыток войти в неё, и в конце концов мне это удалось. В процессе я так и не разобрался, просто накопленное желание само вырвалось на свободу. Мы лежали рядом, сознавая, что между нами что-то произошло, но оба чувствовали, что все как-то неправильно. Мне стало стыдно, что я так бестолково себя вел, а Тома встала, поправила платье и тихо сказала:
– Пойду в ванную, чай, наверное, остыл, тебе разогреть?
Я тоже встал, оделся.
– Нет, спасибо. Извини, мне надо идти.
Она проводила меня до двери, я быстро поцеловал её и вылетел, как будто опаздывал куда-то. Выскочил на улицу и почти побежал, разбрызгивая лужи, меня еще колотило. Я не понимал, зачем все это, почему Тома, почему всё так, почему я не могу правильно выбрать женщину. Ей нужно одно, мне другое. Может, потому, что я ее не любил? А то бы все получилось иначе, если бы любили не боялись, хотели бы ребенка. Но Шухатович, он же тоже без любви, и все у него хорошо. Наверное, каждому своё, и моё меня не радует, но радует, что я это понимаю.
71
Прогулка к Лениному дому пролетела, как одно мгновение, в танце снежинок и губ. Красивый дом с уютным садиком, просторная квартира. Мебель, книги, картины, ковры, декоративные безделушки. Все пронизано чувством любви людей, вивших это гнездо.
– Проходи, это моя территория.
Лена открыла дверь в уютную комнату, где мирно уживались макет интерьера современного коттеджа, незаконченная картина обнаженной женщины, несколько натюрмортов, вылепленные фигурки.
– Извини за некоторый беспорядок.
Она взяла меня за руку, и мы плюхнулись в мягкое лоно дивана.
– Можно покажу тебе свой фотоальбом?
– Конечно. Говорят, хочешь узнать, какой будет твоя девушка, посмотри на ее маму.
– Не уверена, что стану такой же красивой, как она.
В этот момент я вспомнил, как в школе одноклассница пригласила меня домой фотографироваться. Она приготовила одежду родителей, и мы предстали между огромным зеркалом и стоящим на штативе фотоаппаратом. При виде нашего отражения мне показалось, что я попал в клетку, не хватает воздуха, нужно срочно бежать. Гораздо раньше отец гонялся за мной с маленькой балериной в руках, которую я тоже безумно боялся. Разрываемая вата и сейчас вызывает неприятное ощущение, напоминая звук от прикосновения к её белоснежной пачке. Откуда берутся страхи? Как они сматываются в клубок? Кто способен помочь их распутать?
Переворачивая страницы семейного альбома, я начинал ощущать близость к незнакомой мне семье, это настораживало.
– Родители очень любят друг друга, по фотографиям сразу видно. А это мой брат, я тебе о нем рассказывала.
– А голый пупс со складками на всех местах это ты?
– Неправда, не на всех! – Лена нежно ударила меня, альбом соскользнул с колен, и я, обняв за плечи и узкую талию, мягко уложил её на диван. Волосы ореолом улеглись вокруг головы, она прикрыла глаза, а я, рассыпая поцелуи по губам, щекам, шее и еле сдерживая дрожь, развязал пояс платья и начинал спускать его с плеч.
И тут раздался звонок в дверь. Мы вскочили и начали сумбурно приводить все в порядок.
– Это, наверное, папа. Он предпочитает, что бы его встречали, если, конечно, кто-нибудь дома.
Послышалось шуршание ключа в замке. Лена вышла в прихожую.
– Здравствуй папочка, у меня гости.
– Привет доченька, а мама не звонила, когда будет?
– Нет. Правда, я недавно пришла. Ты сегодня рано.
– Да, так получилось. Не буду есть без мамы, схожу в магазин, куплю что-нибудь вкусненькое.
Этот обычный семейный разговор кольнул чувством обделенности. Сцены безразличия или ругани между родителями покрыли плотной пеленой далекие времена их заботы друг о друге. Дверь захлопнулась.
– Пойдем в гостиную, – предложила Лена. Она уже справилась с волнением, вызванным неожиданным появлением отца. – Извини, что так получилось, я не знала, что он так рано придет. Не знаю, что на меня нашло, в принципе не могу дома отключиться.
– Не волнуйся. Может, мне лучше уйти?
– Нет, сейчас будем пить чай.
– Спасибо, но мне, правда, пора. Давай завтра съездим за город подышать свежим воздухом. Вечером созвонимся и уточним время и место.
– Папа решит, что мы спасались бегством.
– Все отцы ревнивы. Чем меньше они видят поклонников дочери, тем лучше спят.
Она улыбнулась. Прощальный поцелуй длился достаточно долго.
– Если не остановимся, я снова начну тебя раздевать.
Она вытолкнула меня за дверь, помахала рукой и подождала, пока я не скрылся из виду.
Вечером раздался звонок, трубку сняла мама.
– Володя, тебя женский голос.
Я как раз собирался звонить Лене и решил, что она меня опередила.
– Володя, рада тебя слышать! Это Таня, мы летом познакомились, на море.
От неожиданности не сразу ответил.
– Да, конечно, Таня, рад тебя слышать.
– Я в Ленинграде, но всего на два дня, если можешь, давай завтра встретимся.
– Хорошо, но я могу только во второй половине, часов в шесть. Знаешь где Казанский собор?
– Да, я не первый раз в городе.
– Ну, и отлично. Тогда до завтра.
Повесил трубку. Кошка мурлыкала у моих ног, намекая, что её тоже за окном кавалеры ждут. Ну почему так всегда? Не хотел не с кем больше встречаться, но как в такой ситуации откажешь. Пока внутренние «я» выясняли, кто из них прав, телефон зазвонил снова.
– Ты не забыл, что мы собираемся за город?
– Нет, конечно, не забыл. Хотел предложить не тянуть время, выехать пораньше, часов в десять.
– Вообще-то я сова, но если ты решительно настаиваешь, не стану возражать.
Я подумал, что я тоже сова и что торопиться некуда, но слово уже вылетело.
– Встречаемся на Финляндском у паровоза.
– У тебя все хорошо? Ты какой-то встревоженный.
Не случайно говорят о женском шестом чувстве. Изображаю невозмутимость:
– Нет, все хорошо. Как папа среагировал на мой уход?
– Удивился. Предположил, что я тебя чем-то напугала.
– Но зато вы чай пили с прекрасными пирожными.
– Почти угадал, с восточными сладостями. Мама тоже заинтересовалась таинственным гостем. Я обещала, что завтра после прогулки мы зайдем в гости, хорошо?
Времени на размышления нет, ладно, придумаю что-нибудь по ходу.
– Хорошо, конечно зайдем.
Мы прощались еще полчаса, пока мама не взмолилась, что ей надо позвонить.
На вокзале как всегда многолюдно, Лена напомнила мне Тамару, облокотившуюся на решетку ворот в ожидании Александра. Сегодня изящной опорой выступало ограждение исторического паровоза. И в руке, кстати, она тоже держала пакет. Мы обнялись, задержав дыхание, разделяя прелесть прикосновения.
– Что это у тебя? – указал я на пакет.
– А вдруг нам захочется позагорать, а на земле лежать не очень удобно. Еще мама положила бутерброды.
Все повторяется, подумал я, но абсолютно неожиданно, словно движется по незримой спирали. Меняются люди, сюжеты, обстоятельства, но невидимая нить раскручивает нас вокруг оси, с каждым витком увеличивая скорость, мысли прошлого, отражаясь от будущего, ввинчиваются в настоящее.
Купили билеты, мороженое, сели на электричку, и через полчаса ветер Финского залива трепал наши волосы, глаза слезились, босые ноги оставляли следы на песке, а набегающие волны их размывали, унося воду с памятью о нас. Солнце окрашивало водную поверхность в нежные тона от серебристого до бирюзового, размывая грани берега и горизонта, ласкало теплом обнаженные тела, маня в лоно природы, где теряется смысл машины, одежды, карьеры – всего, где нету чувства меры.
– Давай уже где-нибудь устроимся. – Лена остановилась. Она скорее спрашивала, демонстрируя готовность принимать мои решения.
– Здесь ветрено, пойдем в дюны, они укроют.
В большей степени мной руководило желание не согреться, а уединиться. Мы удалились от берега, увязая в песке. Ветер смолк, на смену ему пришли птицы, стрекозы и даже озадаченный шмель. Мягкий кусок ткани взлетел и опустился на песок между трех сосен, создав иллюзию замкнутости и приватности.
– Прекрасный выбор. Ты еще не проголодался?
– Спасибо, пока нет.
Стаскивая джинсы, я одним глазом следил, как повисла на соседнем кусте легкая юбка. Лена замерла на одной ноге подобно аисту, тщательно стряхивая облепивший пальцы ног песок. В этом положении верхняя часть купальника практически не скрывала, ритмично подпрыгивавшую грудь.
– Ты подсматриваешь за мной? – спросила она, опустившись на колени.
– Раздеваю.
– Руками у тебя это получается лучше.
– Дразнишься, да?
– Нет. Если хочешь, могу тебе помочь, уже практически ничего не осталось.
Приняв симметричную позу, стараюсь быть ласковым отражением. Остатки одежды исчезли, Лена, как пластилин, таяла у меня под руками, от соприкосновения тел появилась предательская дрожь, признак страха перед познанием запретного плода. Температура стремительно нарастала и превратилась в жар, сметающий все на своем пути. В ушах звучало переходящее в стон прерывистое дыхание, тела искали свое продолжение за пределами материальных границ завершенности, стремясь обрести то, чего у них было, покорно повинуясь воле проснувшейся энергии творения.
Финал мог сравниться с извержением вулкана. Потом капельки пота на её верхней дрожащей губе, опущенные ресницы, чуть слышное дыхание. Тело растворилось в приятной истоме. Лена приподнялась, нежно положила голову мне на грудь и ласково шепнула:
– Тебя надо покормить, ты потерял много сил.
Бутерброды с твердокопченой колбасой и сыром оказались очень к месту, исчезнув с мгновение ока. Лена склонилась надо мной, её серые глаза ярко светились, словно продолжение балтийского неба. Новый виток энергетической бури начался с изучения формы выпуклых бедер.
Перманентное пребывание в различных фазах полета в роще грез привело к потере ощущения времени. Судя по солнечным часам, стрелка убежала далеко.
– Ты помнишь, что мы обещали приехать? Не хотелось бы их расстраивать.
С этими словами Лена сладко зевнула. Меня прострелила мысль о предстоящей встрече с Таней. Достал – уже четыре! Нужно было срочно ехать, а не хотелось даже шевелиться.
– Давай собираться, а то везде опоздаем.
Все происходило, как в замедленной съёмке. В конечном итоге мы все же оказались в электричке и с трудом протиснулись в вагон. Воздух, сменивший морской, казался тяжелым и липким. Ленины глаза неожиданно потускнели, и она начала сползать вниз между вплотную стоящих людей. Резко раздвинув толпу, я подхватил её. Сидевший рядом мужчина заметил неладное и освободил место. Лена очнулась, сделала несколько глотков воды из мгновенно появившейся бутылки.
– Беременна, поди, – доверительно заметила пожилая женщина.
Ничего не ответив, я сжал Ленину ладонь.
– Как ты?
– Не беспокойся, все хорошо. Я даже не поняла, что произошло.
Тревога не покидает, гложет чувство вины. Не понимаю, как может так быстро проявляться беременность.
На такси денег не было, добирались на автобусе.
– Не будем беспокоить родителей, хорошо? – попросила Лена, перед тем как нажать звонок.
– Тебе следует отдохнуть. Скажем, что ты себя плохо почувствовала.
– Зачем?
Дверь открылась. Высокая брюнетка поздоровалась и предложила войти.
– Извините, я не буду заходить, с удовольствием в другой раз. Лену, похоже, укачало, она себя не очень хорошо чувствует. Ей нужен сейчас покой.
– На чем вы ехали?
– На электричке, потом на автобусе.
– Лена, а где стало плохо?
– В электричке.
– Надо было взять такси.
– У меня не было денег, мама. Не беспокойся, уже все нормально.
– Попрощайся и иди к себе в комнату, не будем беспокоить папу. Жаль, что так все получилось, – сказала она, закрывая за собой дверь в прихожую.
– Иди ложись, поспи, завтра все будет отлично.
– Позвони мне вечером, как доедешь.
– Хорошо.
Мы поцеловались, и я помчался на встречу, которую не имел возможности отменить.
На Невском, как всегда, многолюдно. Казанский собор молчаливо властвует над окружающим его пространством, сквер у его подножия исполосован светом фонарей. Трава, цветочные клумбы, белые скамейки, силуэты прохожих. Опаздываю, и место выбрал прекрасное, тут и клоуна на ходулях не сразу заметишь.
– Володя, я уже начала волноваться, – раздался радостный голос на расстоянии вытянутой руки.
Таня стояла в клетчатом платье, руки сцеплены в замок. Собор, или город, или люди – что-то придавило ту запомнившуюся мне легкость и воздушность.
– Прости за опоздание.
Не понимаю, что делать. Поцеловать не могу, нет ощущения, что мы достаточно близко знакомы, от прежней влюбленности ничего не осталось.
– Если не возражаешь, пройдемся по Невскому, посидим где-нибудь, – предложил я и протянул руку.
– Конечно, почему бы и нет. – Она говорила спокойно, но чувствовалось, что борется с волнением.
Подала руку. Прикосновение нежное, но почему-то не накладывается на прежние воспоминания. Поток людей заставляет лавировать по широкому тротуару, они смотрят на нас, мы смотрим друг на друга, в себя и иногда по сторонам.
– Чем занимаешься? Как живешь? – Не понимаю, что спрашиваю и зачем.
– Я даже не помню, что я тебе рассказывала о себе, но это и не важно. Я представляла нашу встречу как продолжение на миг прерванного свидания, а теперь понимаю, что, наверное, то свидание было просто мгновением в наших разных жизнях. Тебе тоже так кажется?
Слушая её, понимаю, что она лучше меня объясняет происходящее, острее переживает. Мне неприятна моя роль. Периодически мелькают мысли, что Лена ждет моего звонка, почему потеряла сознание, почему Танины красивые ноги, бедра, подчеркнутая платьем грудь не вызывают прежних эмоций. Или здесь все выглядит иначе, или я уже другой. Уловил, что она говорит с провинциальным акцентом, и это режет слух, а раньше не замечал. Останавливаемся, заходим в кафе, занимаем столик на двоих. Город отступил вместе с гулом улицы и толпой пешеходов, пространство съежилось, стало долетать тепло её дыхания. Мои антенны настроились на прием её сигналов, но она боялась открываться и сама глушила их, скрещивая руки, опуская глаза. Тревога билась в моей голове и смазывала летящие образы, вызывающие негу предвкушения, обычную при общении незнакомой девушкой.
– Мне уже скоро надо идти, чтобы не опоздать на поезд. Рада была тебя повидать. Извини, что так неожиданного свалилась. Но знаешь, все к лучшему. Может быть, соберешься как-нибудь посетить наш город. Он не такой красивый, как Ленинград, но у нас теплее и, кажется, уютнее.
В момент расставания я ощутил щемящую боль – боль, причиненную мной этой девушке, абсолютно незаслуженную ею. От растерянности начал что-то блеять:
– Может, в следующий раз, ты просто заранее позвонишь или приедешь на несколько дней. Извини еще раз, что все так скомкано вышло.
Она встала из-за стола, я проводил ее до автобусной остановки. Вспомнилось первое прощание и теплота, но она уехала и не вернулась, затерялась в пространстве между городами, полями, дорогами, в лабиринтах, заведующих хранением чувств, ощущений, переживаний. Таня чмокнула меня в щеку, поцелуй царапнул где-то глубоко внутри и слетел с моей щеки. Двери закрылись, и она исчезла также быстро, как и появилась.
Я медленно побрел в сторону дома. Мне следовало торопиться, Лена наверняка уже звонила, но не было сил. По гулким переулкам моей одинокой души гуляло опустошение, боль сидела одна на скамейке и плакала, и я, как сторонний наблюдатель, уносил их в себе, неспособный разделить, исправить, помочь.
72
Звонок. Начинается третье действие спектакля «Он и Она».
Порт большого города. Время около полуночи. Мужчина и женщина стоят на корме тихоокеанского лайнера.
– Леди и джентльмены, экипаж теплохода «Мечта» прощается с вами после увлекательного кругосветного путешествия.
– Вы замужем? – спрашивает Он.
– Нет. Почему вас это интересует?
– Вы были замужем?
– Да. Это что, допрос с пристрастием?
– Нет, просто страсть.
– Так сразу? вы вырвались из тюремного барака или из благостного брака?
– Скорей, готов попасть во власть, чтоб упиваться ею всласть.
– Да вы, похоже, не в себе, коль повод ищете вовне.
– Я терпеливо ждал, храня покой. Утехам предаваясь, не разучился чувствовать любовь и в ней начало признавать, делить как радость, так и боль.
– Смешали всё – и страсти омут, и отблеск призрачный души – в цветастый переплет извилистой судьбы.
– Сам демон на ухо шептал, амура стрелы подменяя, и голых баб в ковчег сажал, меня без меры искушая.
– Когда б вы были света сын, тьмы похотливые засады не увлекли б в желаний плен, страданье заменив усладой.
– Тому прошло уже немало лет, и голова была не столь седая, но ту же горечь ощутил от женщины едва знакомой.
– Вы развернули знамя поражений и мне являете скелет былых сражений?
– С тех пор я не могу найти ответ – что не так взошло на свет, когда мы за столом в ночи сидели?
– Вы не смогли меня узнать, и я вас тоже не сумела, мы времени отдали стать за наслажденья и потери.
– Я слишком долго ждал, чтоб вы опять в мгновенье улетели.
– Вы женаты? – спрашивает Она, облокотившись на парапет.
– Да, – отвечает Он, подходя к ней вплотную. – Почему же вы ушли?
– Я не ушла. Вы, видимо не поняли меня. Я всё вернула, что брала.
– Вернули что? Вы не ушли?
– Вернула я себя туда, откуда в ночь ушла.
– Два места там, а вы опять уходите одна.
– Отнюдь. Наедине с собой я одиночества не знаю. Пойдя с тобой, утрачу часть себя. Я вольный дух уже не поменяю.
Он остается, растерянно смотря ей вслед. Она покидает палубу с гордо поднятой головой.
Занавес. В этом спектакле страсть уступает место печали, а та, в свою очередь, наполняется ожиданием перемен – вдруг снова вспыхнет свет и потечет своим чередом бесконечная история под названием «Он и Она».
73
Шесть утра. Солнце лениво выползло из-за горизонта, но греть не торопилось. Наша высотка напоминала муравейник. Все занимались делом: артиллеристы готовили орудия, связисты таскали катушки, пехота обживали окопы и помогали всем понемногу. Танки, укрытые таким образом, чтобы вести огонь по противнику, оставаясь незамеченными, открыли люки и затаились. Ночью танкисты отрабатывали маневр: члены экипажа, рассевшись, как в танке, обстоятельно маневрировали по высотке, командир отдавал распоряжения, а водитель дергал воображаемые рычаги.
Воодушевленный таким представлением Коля Суворов на вопрос Пападюка, мол, чего они тут ползают, предложил:
– Зажми спичечный коробок между указательными пальцами вытянутых рук.
– Делать мне нечего!
– Я тебе наглядно объясню, чем они заняты. Не ленись, Мыкола, – продолжал уговаривать Коля, держа серьезное лицо.
– Ну, ладно, зажал, и что с того?
Пока ничего. Это же все-таки танк, непростая машина. Теперь стой на одной ноге, а второй топай.
– Как топать?
– Как обычно. Если постараешься, у тебя получится: приподнимаешь ногу и резко опускаешь.
– Ну, так что ли? – спросил Попадюк, несколько раз резко взбрыкнув, словно молодой жеребец. – Ничего трудного не вижу.
– Да, трудного действительно ничего, именно так в дурдоме заводят мотоцикл.
Под всеобщий хохот Попадюк понесся за Суворовым, перепрыгивая через окопы, его громадные сапожищи оставляли в земле глубокие следы в земле. Старики поймали обоих и предложили направить оставшуюся энергию на решение хозяйственных вопросов.
– Рядовой Радзиевский, к командиру роты бегом марш! – Раздавшийся прямо над ухом голос Егорова рассеял веселые воспоминания прошедшей ночи.
Наблюдательный пост находится на расстоянии вытянутой руки.
– Товарищ стар…
Тот резко оборвал моё приветствие:
– Слушай внимательно. Через несколько минут противник пойдет в наступление, а у меня нет связи с передовым отрядом. Они должны были окопаться где-то у той высотки. – Он сунул мне бинокль, указывая на какой-то холм примерно в километре от нашего расположения.
Пока я смотрел, на меня надевали походную рацию.
Сбегая вниз по склону, я чувствовал, как она с каждым шагом тяжелеет и вот-вот перевернет меня на спину. Сзади донеслись крики. Меня догнали двое ребят. Оказалось, в спешке не докрутили фиксирующие барашки, рация на рельсах выкатилась из кожуха и действительно едва меня не опрокинула.
Снова устремляюсь в заданном направлении и понимаю, что между видом сверху и видом снизу большая разница – нет никакой высотки. Спросить никак, сам рацией никогда не пользовался, остается только бежать в надежде не сбиться с маршрута. Кроме топота собственных сапог слышу нарастающий в геометрической прогрессии гул. Может, атака уже началась? Похоже на рев турбин, но небо чистое, ни самолетов, ни вертолетов. Выбегая из низины, вижу линию леса, из которого на огромной скорости один за другим выносятся танки противника. Бежать на танки с рацией неумно, обратно невозможно – что делать? И тут из старого, полуразрушенного окопа выскакивает офицер, хватает за руку и тащит в укрытие.
– Скорей снимай рацию! Думал, уже не дождемся, – запыхавшись, говорит он.
Радист быстро наладил связь и начал передавать координаты противника:
– Два БТРа прорываются по флангам, скорее всего разведка. Танки пока движутся походным строем, вижу десять, пятнадцать, тридцать…
– Радист остается в укрытии, а мы занимаем боевой пост, – весело скомандовал невысокий, коренастый, энергичный младший лейтенант.
В роли огневой мощи опять мой друг пулемет «Максим». Мы выкатили его и спрятались за кустом.
– Пора их раздразнить, давай трассерами.
В сторону танков полетели пули. Танки практически одновременно развернулись в боевые порядки и начали полномасштабное наступление. Мы оказались первой огневой точкой на пути противника. Следует отметить, что когда такие махины несутся мимо и вдруг разворачиваются на тебя, сразу забываешь, что это учения.
Мы продолжали вести прицельный огонь. Младший лейтенант выскочил из нашего скромного укрытия, дабы уберечь нас от возможного наезда. Танк остановился, сгребая землю в кучу, потом развернул орудие в нашу сторону.
– Чего дурака валяешь?!
Это была последняя попытка переговоров. Дуло пушки опустилось и заглянуло нам прямо в души. Круглый глаз с четко обрисованными краями и черной бездной посередине. Наверное, так себя чувствует кролик под взглядом удава. Младший лейтенант прыгнул в окоп с криком:
– Ложись!
Прыжок сопровождался языком пламени и взрывом. Нас накрыло ударной волной, с дымом и пылью. Когда мы очухались, танк уже исчез, а стенки старого окопа сложились под натиском гусениц. Мы с трудом откопали офицера, который, слава богу, не пострадал, но ругался на чем свет стоит.
– Он у меня ответит! «Партизаны» чертовы! Ладно, мы свое дело сделали, осторожно возвращаемся в расположение батальона.
Танки били по нашей и другим высоткам, где окопались противотанковые батареи; те, в свою очередь, вели ответный огонь. Офицеры с белыми повязками отмечали потери с обеих сторон. Возникла пауза, и танки замерли на подступах к нашим позициям. На фоне притихших турбин стало заметно, что над нами кружит самолет, и без остановки работают зенитные установки. Маленькие колесики «Максима» вязли в перепаханную гусеницами землю, препятствуя перемещению этого борова. Учитывая необходимость маскировки, при моем росте продвижение вперед напоминало бег на четвереньках. Офицер бросил дымовые шашки, хотя дыма и копоти в воздухе и так висело, хоть отбавляй. Наконец добрались до батальона, и младший лейтенант подмигнул:
– Спасибо за службу! Не успей ты доставить рацию, всем досталось бы на орехи. Следуй в расположение Ермолина, он интересовался, где ты. – И быстро скрылся в лабиринте траншей.
Встреченные на передовой солдаты подхватили пулемет, и я, не теряя времени, направился на наблюдательный пост. Воронок не было, но пушки дышали жаром, везде валялись стреляные гильзы, а лица встречных являли напряженную сосредоточенность. Армада застывших танков спокойствия не добавляла.
– Товарищ старший лейтенант…
– Слышу, что прибыл, – прервал мой доклад Ермолин, – сейчас снова поползут, а половины орудий уже нет. – Говоря, он не отрывался от прибора слежения. – Садись на телефоны, пока они провода траками не перерубили. Передавай Первому: нас атакует шесть, восемь, девять танков, пытаются обойти справа.
Работая трансформатором, нагреваюсь и начинаю гудеть. В ухо кричат:
– Седьмой, седьмой, держаться! Сейчас всем тяжело! Еще немного, и они надорвутся!
– Что говорят?
– Держаться!
– Свяжи с батареей Козырева, дай трубку. Сереж, утихомирь ты этого, справа, или он нам по тылам поползет. – Он бросил трубку. – Звягина, срочно.
Бешено кручу нужную ручку, но никто не отвечает. Наконец сквозь треск доносится чей-то голос:
– Танки прорвались… уже у нас…
– Разворачивайте орудие, прямой наводкой, быстрее! – орет в трубку Ермолин.
Вой турбин и лязганье гусениц раздались совсем рядом. Прикрывавшие наблюдательный пункт бревна и ветки вспучились, в образовавшуюся брешь стали видны двигающиеся механизмы танка.
– Бери ручные гранаты, пропусти его спокойно, потом бросай.
Выскочив из укрытия, я увидел, как на меня медленно надвигается второй танк. Подождал, пока он проползет надо мной. Огромное стальное тело закрыло свет. На мгновение показалось, что оно похоронило меня, отделив непреодолимым барьером от жизни. Мгновение тянулось бесконечно долго, самообладание медленно замещалось страхом. Наконец стальное брюхо миновало окоп, и я, выждав немного, метнул гранату и даже попал в цель.
– Опоздали, товарищ рядовой. – Из ниоткуда возник офицер с белой повязкой. – Вы все уже убиты, но все равно молодец.
Не совсем понимая, что делать убитому, присаживаюсь на бруствер. Танки недалеко ушли и тоже замерли. Как всегда неожиданно и в прекрасном расположении духа появился замполит батальона, капитан Веселов.
– Молодцы ребята! Перед командующим не посрамили. Опытным «Партизанам» дали жару. Сколько же они у вас тут танков потеряли! Так сразу и не сосчитаешь.
Он направился обходить позицию вместе с наблюдателями. Разгоряченные ребята начали сбиваться в кучки, закуривая и обмениваясь первыми впечатлениями. В блиндаже растопили небольшую «буржуйку», народу набилось не продохнуть. Вскипятили чайник, делились пайком, кусочками сахара.
Не помню, как уснул, стоя, или сидя. Но тогда впервые все забыли о том, кто «старики», кто «молодняк». Общий враг выдернул дух на свободу, очистил его от шелухи и дал проявиться исконным традициям русской армии – достоинству и взаимовыручке.
74
Еду в Ригу, точнее в пригород оной. Там отдыхает девушка по имени Арина. Не одна, с родителями. Представлен им, и они не против моего приезда. Машина не дает заскучать, её любимое дело – осложнять мне жизнь.
Недавно проезжал мимо Спаса-на-Крови. Машина почувствовала, что это особое место, что именно здесь убили императора Александра II, и, желая почтить это событие особым вниманием, прикинулась мертвой. Двигатель работает, передачи переключаются, сцепление тоже вроде в порядке, но не едет. Стоим, я щелкаю передачами, нажимаю на газ, двигатель набирает обороты – и ничего не происходит. Останавливаю таксиста, объясняю ситуацию, уточняю, что мотор сзади. Он лезет в мотор, потом забирается под машину и смотрит снизу, ощупывает, но не понимает, как такое может быть. Говорю, что живу по ту сторону Невского, ехать пять минут, и трос буксировочный есть. Он соглашается – раз уж такая загадка природы, как не помочь. Берет меня на буксир, едем. Вдруг машина начинает крениться. Видимо, когда покушались на императора, там тоже с лошадью что-то было – знаете, когда они приседают на задние ноги. Машина повела себя так же. Я увидел небо, а потом боковым зрением заметил, как мимо меня проносится колесо, обгоняет машину. И очень это колесо по рисунку диска напоминает мои колеса. Жуткий скрежет, мы останавливаемся. Колесо оказалось действительно моё, то есть, моей машины. Таксист посмеялся, ведь его оно тоже обогнало. Беглеца изловили, но дальнейшее передвижение на трёх точках опоры не представлялось возможным. Таксист посмотрел на меня, видимо, проникся моей явной растерянностью, и сказал, что всё решим. Он нашел доску, мы приподняли автомобиль, уперли доску в колесную арку и привязали проволокой к тому, что осталось от ступицы. Затем он скомандовал «по коням!», и мы тронулись. Мы реально ехали, как инвалид с костылем! Доска свое дело делала. Конечно, издаваемые нами звуки не оставлял пешеходов равнодушными к этой картине. При пересечении Невского иностранцы во всю фотографировали нас и аплодировали невиданному зрелищу. Могу только догадываться, какое впечатление мы производили. Скоро мы добрались до дома, и я от души поблагодарил таксиста за то, что он меня не бросил и проявил такую находчивость. Уныние сменилось весельем.
Так вот, вся эта история к тому, что автомобиль любил подобные фокусы, и поездка в Ригу вряд ли могла стать исключением. В этот раз всё достаточно прозаично: не работает сцепление и передачи не переключаются. Подъезжаю к переезду, он закрыт, это плохо. Выключаю передачу толчком по рукоятке и нажимаю тормоз. Всё получилось, я не привлек прибалтийского внимания, и машина остановилась. Проехал поезд, все завелись и тронулись, но мне, чтобы поехать, надо включить вторую передачу и на ней заводиться. Машина начинает подпрыгивать и издавать странные звуки. Хорошо, впереди никто не притормаживал, а то пришлось начинать все сначала. Теперь я научился без сцепления включать третью передачу и медленно, но еду. Ура, скоро благополучно доберусь до места назначения, но на принца на белом коне не тяну, это точно.
Месяц назад я ездил в Киев, там Арина проходила преддипломную практику. Ее поселили в общежитии, а я остановился у маминой сестры. Весна, зелено, всё расцветает, в воздухе плывут нежные ароматы проснувшихся растений. Мы гуляли по улицам и паркам – наконец-то вдвоем. Когда я приходил к ней в гости, родители всегда или должны были вот-вот прийти, или уже были дома, и наши объятия заканчивались поцелуями, остальное полное табу, без обсуждения, просто нет и всё. И конечно, надежда провести вместе ночь меня не покидала.
– Ты живешь одна в комнате? – спрашиваю как бы небрежно.
– Нет, с еще одной девушкой, она не местная.
Судя по ответу, она всерьез полагает, будто мне интересно, с кем ее поселили. Похоже, приглашения в гости я не дождусь.
– Я скучал без тебя, хотелось побыть подольше вдвоем. Ты не можешь попросить её переночевать у подруги? Я ж всего на сутки прилетел. – Обнял её, заглянул в глаза, раскосые, голубые, большие и умные.
– Не знаю, это неудобно. Мы же можем гулять всю ночь.
Она отвечала, как бы оправдываясь, но не объясняя, почему. Почему неудобно? Почему опять не сейчас? Мы, конечно, можем, подумал я, мы уже встречаемся полгода. И всё это время я, как подводная лодка, погружаюсь на дно, пережидая пока взрывы бесконечных «почему» в надежде отыскать разгадку…
Вспомнилась Лена. Наше сближение происходило без напряжения, сопротивления, абсолютно естественно, и приносило чистую радость. Правда, когда она сообщила мне о предполагаемой беременности, я страшно испугался. Я считал, что абсолютно не готов к такому. Даже казалось, что страх этот передается мне откуда-то извне, словно по наследству. И даже узнав, что была всего лишь «задержка», преодолеть этот барьер я не смог. А потом родители увезли Лену в Америку, и наши пути разошлись окончательно.
Мы с Ариной гуляли по парку, яркие и близкие звезды смотрели на нас, а мы на них. Мы целовались, перекатываясь по высокой траве со спины на живот, и с каждым поцелуем чувство друг друга нарастало. В какой-то момент наши тела, как магнитом, притянуло друг к другу, и началась безумная скачка. Телам не мешало, что их хозяева одеты, стало очень жарко, дыхание срывалось. Наконец тела задрожали и замерли, и я почувствовал, что в брюках у меня тепло и мокро. И что с этим делать? И можно ли теперь считать, что у нас что-то было, или это не считается? Мы тихо лежали, потом поднялись и молча двинулись в сторону общежития. Я повытаскивал травинки, запутавшиеся у нее в волосах, поцеловал и пожелал спокойной ночи, хотя уже было ранее утро. Но ночь мы пропустили, а мне еще предстояло как-то добираться до тетушки, потом на вокзал… Мы часами висели на телефоне, междугородные счета грозили разорить семью, и я полетел, и уже надо было обратно, и ничего не изменилось. И что всё это значит? Видимо, после свадьбы. И кто это придумал, безумие какое-то! Почему всё повторяется? Почему у них после свадьбы, и не получилось, а у меня … я уже готов смириться, только пусть получится, мы ведь любим друг друга.
Скоро уже нужная улица, ещё раз смотрю на карту, немного волнуюсь. Семья с традициями, профессорская дочь; мне дали понять, что пора официально попросить ее руки дочери – всё, как полагается. А у меня от этого всё внутри цепенеет, все эти ритуальные пляски меня выводят из себя. В конце концов, ладно, справлюсь.
Останавливаюсь у небольшого деревянного дома, с виду уютного и ухоженного. Стараюсь припарковаться так, чтобы потом не переставлять, пугая окружающих.
Меня встречает Виктор Иванович, чем-то похожий на Пьера Безухова, поправляет очки, улыбается. Выхожу из машины, обнимаемся.
– С приездом! Лариса Васильевна с Ариной ушли гулять на взморье, скоро вернутся. Бери вещи, провожу тебя в твою комнату.
Комната мне досталась небольшая, светлая. За окном сосны, стриженый газон, зеленая изгородь. Кровать явно односпальная.
– Это комната сына хозяев дома, он актер, сейчас живет отдельно.
Аринин папа говорил мягко и размеренно, немного задумчиво. Казалось, он где-то в своих мыслях – студенты, аспиранты, защиты диссертаций, ученые советы, конференции, написание статей и книг и ещё много всего.
Про актера я уже слышал, видел даже конверты писем. Судя по всему, у них с Ариной был роман, но об этом никто не упоминал, кроме Арининой мамы, отметившей, что мальчик очень перспективный и так заботливо относится к её дочери. Как-то я помогал Арине наводить порядок в их квартире, и мы нашли видеозаписи. Решили посмотреть – а там её мама раздевается перед камерой, и не случайные кадры, а постановочная съемка. Арина в шоке молча выключила проигрыватель, и мы никогда к этому не возвращались. Однако, для меня это приоткрыло занавес над жизнью этой женщины, и при встрече с ней я всегда чувствовал второе дно.
Пока я разбирал вещи и осматривал комнату, вошла Арина. Она поцеловала меня, но достаточно сдержанно – у нее спиной стояли родители. Надо привыкать к своей будущей семье, ведь она часть их, а они часть её, и мне придется это принять.
– Здравствуй, скоро будем ужинать. У нас есть немного времени, пойдём прогуляемся, – быстро проговорила она.
Арина уверена в себе, мягко спадающие на плечи волосы оттеняют легкий загар. Она берет меня за руку, вытаскивает на улицу и вручает сумку с пляжными принадлежностями. Мы быстро идем среди красивых домов, за ними начинаются песчаные дюны с гордо устремленными в небо соснами. Ищем место, где разложить пляжные матрасы. Предлагаю разместиться в дюнах. Арина не возражает. Раздеваемся, Арина остается в купальнике, я – в шортах, плавки забыл взять. Мягкое солнце, мягкий матрас, её тело тоже мягкое, податливое, губы теплые. Дюна как ширмой отгородила нас от окружающего мира, шелковый песок стекает с её вершины тонкими струйками. Трудно остановиться, пальцы пробираются за треугольник лифчика и обхватывают грудь, нежную, упругую. Арина сильно прижимается ко мне, потом сдерживает мои руки и спокойно говорит:
– Пойдем поплаваем, и уже пора идти, нас ждут.
Она медленно поднимается на колени, а я продолжаю лежать, вставать неудобно.
– Иди, я тебя догоню.
Она улыбается, встает и вприпрыжку направляется навстречу волнам. Ветер подхватывает её волосы и провожает песчаным шлейфом. Песчинки бегут наперегонки, стирая грань между небом и дюнами.
Прохладная вода быстро меня остудила, и я с удовольствием делал сильные и быстрые гребки. Арина плавала, задирая голову над водой, и разлетавшиеся от меня брызги заставляли её отворачиваться, чтобы не сбить дыхание. Я поднырнул под неё и всплыл, легко касаясь её талии. Она положила руки мне на плечи, и обратный путь к берегу я проделал в роли подводного буксира, а она мерно покачивалась на волнах легкой шлюпкой.
Мы быстро выскочили из воды, дрожа от холода, растерлись полотенцем. Арина переоделась, а мне пришлось остаться в мокрых шортах, но дорога обратно пролетела быстро, а водные процедуры освежили и придали легкости.
– Мы вас уже заждались, всё на столе. Переодевайтесь, мойте руки и садитесь. – Энергичный голос Ларисы Васильевны сыпал указаниями.
Стол накрыт со вкусом, горят свечи, ножей и вилок, как в ресторане, вино красное и белое. Арина ухаживает за мной, предлагает закуски, объясняя, где что. Виктор Иванович разлил вино, и застолье открыла Лариса Васильевна:
– Мы очень рады, что ты приехал, особенно, конечно, Арина. Хотя, ты в курсе, наши друзья очень надеялись, что у детей что-нибудь получится. Ивар уже снимается в кино и очень интересный молодой человек. Имя вроде бы древнегреческое и переводится как «воин». Однако правильно произносится Иварс, в Латвии принято добавлять в конце имени букву «с».
– Мама, прошу тебя… – мягко перебила Арина.
– Доченька, я просто рассказываю. Ты уже сделала выбор, мы все знаем. Я просто хотела обратить внимание, что и другие претенденты имели место. Нас связывает давняя дружба, но любовь ничему не подвластна, а для нашего папы самое главное счастье дочери, поэтому поднимаю тост за любовь.
Все встали и выразили звоном бокалов признательность этому прекрасному чувству, однако, когда говорит моя будущая теща, внутреннее напряжение не покидает меня.
– Чтобы мы не только ели, а каждый мог поделиться своими мыслями, предлагаю, всем по кругу высказаться, ответив на вопрос, чем для вас является роскошь? Владимир, начнем с тебя, я знаю, ты пишешь красивые стихи – Арина, конечно делилась со мной, – поэтому интересно послушать тебя.
Произнести тост по любому поводу для меня не проблема, но в данном случае я ощущал напряжение и даже давление, а я этого не переношу, хотя стараюсь скрывать.
– Роскошь каждый понимает по-своему. Сейчас для меня роскошь приехать из Ленинграда в Ригу и побыть вместе с любимой девушкой, но вообще существует извечное «да» и извечное «нет», и когда по пустыне бредёт человек… возможно, он даст совершенно иной ответ, когда просто воды нет.
Говоря о любви, я смотрел на Арину, а упомянув пустыню, взглянул на её маму.
– Спасибо, Владимир, мы тебя услышали. Арина, не хочешь высказаться?
Лариса Васильевна выжидательно умолкла, и я обратил внимание, как нервно она сжимает лежащий возле тарелки нож, словно сливая в ручку столового прибора не находящую иного выхода энергию.
– Мама, можно я не буду участвовать в обсуждении, хорошо? – мягко ушла от ответа Арина.
Лариса Васильевна вздёрнула брови, затем надела улыбку № 3, говорившую, что в этой семье она одна за все в ответе, и посмотрела на Виктора Ивановича. Тот аккуратно отделял рыбу от хребта и тоже всем видом показывал, что предпочел бы, чтоб обошлись без него.
– Сент-Экзюпери сказал, что нет ничего прекраснее роскоши человеческого общения. Именно за это я и предлагаю поднять бокалы!
Мы дружно выпили вина, затем выпили чаю, оценили красивые снаружи и вкусные внутри пирожные местных кондитеров. За это время снаружи выключили солнечный свет и включили лунный, все притомились, и пора было расходиться. Когда все встали из-за стола, Лариса Васильевна подошла ко мне, взяла под руку и повела на террасу. Я вспомнил ручку ножа, которую она сжимала за столом – сейчас она также импульсивно стискивала мою руку.
– Владимир, я понимаю, дорога, усталость, но нам бы все-таки хотелось определенности. Виктор Иванович очень уважаемый человек, ему не нужны какие-то лишние вопросы, недосказанности. Поэтому, пожалуйста, не медли, я тебя очень прошу. – На этих словах её пальцы буквально впились мне в предплечье. – Ты знаешь, о чём я говорю. Так будет лучше для всех.
Она выпустила мою руку, изобразила на своем красивом, чуть раскрасневшемся лице улыбку, и мы пожелали друг другу спокойной ночи. Я направился к себе. В гостиной уже никого не было. Воздух у меня в комнате дышал свежестью, а приглушенный свет делал её еще уютнее.
В дверь постучались. Вошла Арина.
– Забежала пожелать тебе спокойной ночи. – Она обняла и поцеловала меня. – Попозже, когда все уснут, приду к тебе, а сейчас уйду, до встречи.
Она улыбнулась и быстро исчезла, как и не было, а её слова остались и не давали мне прийти в себя. Не находя себе места, решил, что надо успокоиться и пошел в душ.
Хотя в дороге я провел часов десять и автомобиль доставил мне много хлопот, спать не хотелось. Ждать прямо в постели вроде как неудобно, а сидеть на кровати как-то странно. И вообще неизвестно, когда она придет. Я натянул шорты и футболку и улегся поверх одеяла, сочтя это разумным компромиссом. Около двух часов ночи, прислушиваясь к каждому шороху, пошел в туалет. Нервы уже были на пределе, крался на цыпочках, чтобы не разбудить Арининых родителей. Но проходя мимо их спальни, услышал резкий голос Ларисы Васильевны:
– Да ты импотент несчастный! Сколько я буду это терпеть?!
Ответы Виктора Ивановича долетали обрывками:
– Успокойся, пожалуйста… ты всех разбудишь…
Ссора продолжалась, но я уже миновал их спальню и юркнул к себе в комнату. Форма, тон и содержание услышанного не очень-то соответствовал образу культурной и образованной жены профессора. Вспомнилась её вечно выпяченная грудь, обтянутая тесной одеждой, и постоянный огонь во всём. Арина была совсем другой, она никак не стремилась подчеркнуть фигуру и вообще не выставлялась. Правда Арина стройная, чего нельзя сказать о её маме, но та для своего возраста выглядела весьма неплохо. И грудь у неё немаленькая – довелось лицезреть в фильме, на который мы с Ариной тогда наткнулись. С одной стороны, меня радовало несходство Арины с матерью, с другой, я недоумевал, как у такой пылкой женщины уродилась такая скромная дочь.
Дверь беззвучно приоткрылась, и Арина проскользнула в комнату. Я вскочил, и она очутилась у меня в объятиях. Не зажигая света, мы упали на кровать. Губы не путались в поцелуях, стремясь охватить все тело разом. Стянул с неё футболку, лифчик долой, глажу нежную грудь. Легкие пижамные штанишки слезли сами, глажу попу, отделенную от моих рук лишь тонким шелком белья, как бы невзначай пробираюсь под резинку крошечных трусиков, и сразу встречаю сопротивление. Шепот:
– Прошу тебя, не сейчас, родители рядом, не надо.
Шаги в коридоре. Похоже, Виктор Иванович. Арина замерла, скоро шаги затихли, затем возобновились и опять смолкли.
– Я пойду. Нервничаю.
Она нежно поцеловала меня, соскользнула с кровати, быстро оделась и тихонечко улизнула. А я лежал без сна и слушал тишину. На мне остался её запах, она любит французские духи «Poison». Аромат завораживающий, как Аринино семейство, но такое ощущение, что капелька яда не только в воздухе.
75
В комнате накурено, над столом слабый свет, дым, как туман, стелется слоями, отделяя головы от тел, и лица плавно колышутся вместе с ним, кругом бутылки с коньяком и пепельницы с окурками. Стипендия уже проиграна. Она и так невелика, с трудом концы с концами сводишь, а хочется как-то порадовать семью. Нина недовольна нашей жизнью. И мама тоже все время была недовольна отцом. Вот любишь женщину, а она не довольна. Всё делаешь, как она хочет: и в академию поступил, и в Ленинград вернулись – всё равно не так. Стараюсь что-то придумать, чтобы жить получше. В предыдущие месяцы выигрывал, и это очень пригодилось, а сейчас прямо беда. Да, мне нравится играть, но я играю, чтобы выиграть, чтобы заработать своей головой дополнительные деньги, и у меня это получается. А вот сейчас испугался, что оставлю семью без денег, и стал проигрывать – надо расслабиться. Вон Куницыну прет. Чистая куница, хорь хитрый, и прикуп всё в руку. Надо ломать, ломать карту, нельзя так сдаваться.
– Юра, твоё слово. – Валера сидит на банке, настроение у него тоже не очень, ждет моего слова. Буду рисковать, но спокойно без эмоций.
– Куницын, ты сказал, семь бубен?
Я пристально смотрел на него, а он положил карты на стол, снова взял, медленно сдвигая одну относительно другой, чтобы виднелся только край, но достаточно, чтобы понять, какая карта, и не поднимая глаз, проскрипел:
– Я же уже сказал, чего повторяться?
По нему всегда трудно определить, блефует или действительно есть карта.
А у меня на руках максимум семь треф, и он мне ломает игру. Конечно, возможны варианты, возможны, но он меня опять загонит, и мне снова запишут в гору, а ситуация и так критическая. Он ведет кон, и ломает игру мне, может себе это позволить, но я тоже могу себе позволить рискнуть:
– Хорошо, тогда семь червей.
Семен и Гоша сбросили. Мы опять вдвоем, он опять медленно перебирает карты, он весь в своих картах, но и в моих мыслях. Он нервирует меня, получает удовольствие от того, что я завожусь, ему на руку, когда я психую, делаю ошибки. Он знает, что я не умею проигрывать, а сейчас проигрываю по-крупному, а он выигрывает и может себе позволить эту партию и выиграть, и сбросить, и проиграть. Он не хочет давать мне играть и загоняет в угол, чтобы я опять не сыграл или сыграл не свою игру, а это меня еще больше взбесит. Он положил карты на стол, якобы собираясь их скинуть, и вдруг тихо и спокойно объявил:
– Восемь пик.
Он продолжает играть. Конечно, у него нет карт, с которыми он может играть эту игру, должен быть чудо прикуп, чтобы я сыграл восемь треф. Но можно и сбросить, пусть упадет. Но вдруг у него реально длинная черва, и он сыграет? Это будет двойной удар! Ко мне пришла хорошая карта, он ломает мне игру и играет сам. Я знаю, что подобный прикуп маловероятен, но одновременно чувствую, что должен идти дальше. Азарт, негодование, уязвленное самолюбие? Нет, я спокоен. Интуиция или вера в фарт – не знаю, но, особенно не раздумывая, отвечаю:
– Восемь треф.
Куница не меняется в лице. Он словно знал, что я пойду дальше, ведь он определяет правила этой партии, а мне разрешено в ней принимать участие. Вспоминаю свои игры с отцом. Он научил меня играть, но никогда не рассказывал, где и когда научился играть сам. Вот по нему никогда было не понять, что у него за карта, что он собирается делать. Меня всегда занимало, как так повернулась его жизнь, что он стал таким азартным игроком и волокитой. И мама говорила, что раньше он был другой. Но он всегда каким-то образом чувствовал, что будет в прикупе, чувствовал игру и даже что-то такое шептал:
– Отверженному причитается…
Что причитается? Почему отверженному? Да и не все удавалось расслышать, а он отмахивался, мол, просто так шепчу, не обращай внимание. Но только попробуй у него выиграть – как вспыхивал, когда проигрывал! Но ведь это его чутье мне сейчас говорит «играй». Пока я предавался воспоминаниям, противник дозрел:
– Восемь бубен.
Мне уже всё равно, что он говорит. Нечто меняется прямо сейчас, и я знаю, что теперь играть буду я, да. Люблю математику, хорошая память, умею считать карты, делаю это даже лучше, чем отец, но сейчас дело не в этом, сейчас меня что-то ведет, подсказывает, говорит:
– Восемь червей.
Куница закурил. Он думает, я либо окончательно свихнулся, либо у меня есть что-то, чего он не увидел, не понял. Это его тревожит. Идти тупо на девятерную он, видимо, не планировал, карта не позволяла ему так рисковать. Он явно начал нервничать, какая-то неожиданная перемена, какая? И правда, карты у нас те же, мы оба не знаем, что в прикупе, но он потерял равновесие, а я его обрел, и это больше чем равновесие – это кураж, это уверенность в себе. Но он все-таки сказал, сказал:
– Девять пик.
Конечно, никакие девять мне и не снились. Даже самая виртуозная игра и блестящий расклад, и отличный прикуп ни при каких козырях не позволят мне взять девять взяток. Я понял, что не буду этого делать, но парировал:
– Девять треф.
Он готов был съесть собственную недокуренную папиросу. Бумага вся намокла, и что он её больше кусал, чем курил. «Отлично, – подумал я, – он сделал свой ход». Это начало походить на шахматы, когда свободные поля, куда может ходить король, заканчиваются.
– Девять бубен.
Его застывшая улыбка больше напоминала маску. Скулы напряглись, заходили желваки, он даже пожелтел, или это дым так изменил цвет его лица? Он понимал, что я это скажу:
– Девять червей.
Надо брать все взятки, а если нет, падение будет болезненным. Я знал, что это предел его фантазии, что он откажется, но он молчал. Я даже подумал, что он прыгнет выше головы, но он молчал.
– Играй.
Это прозвучало без иронии, он тоже ждал чего-то, видимо, того, о чём знал только я. Но ведь я тоже ничего не знал, я просто шел и понимал, что нужно идти дальше. А дальше Валера открыл прикуп, карту за картой, и Куницын выдохнул. Пришли шесть, восемь и девять бубен. Это, конечно, не знаменитые «тройка, семерка, туз», и конечно, с таким прикупом десять взяток не взять. Я сбросил ненужные карты и открыл свои.
– Мизер, чистый, не ловится.
Куницын продолжал улыбаться, но молчал. Кто-то из ребят предложил выпить, напряжение захватило всех. Я никогда не умел пить, в отличии от отца. Он пил и не хмелел, а я пьянею сразу. Но до этого обычно не доходит, мне становится плохо, организм не усваивает алкоголь. Я пригубил коньяку и поблагодарил то, что меня вело, то, чему я не знаю имени, перешедшее мне от отца. Оно постоянно искушает меня играть в карты на деньги, даруя ни с чем не сравнимый адреналин, который захватывает тело, голову – всего меня.
Домой пришел к полуночи. Жили мы у Нининых родителей. Странная семья – никто не спросил где я был. Хотя Дора привыкла встречать мужа по ночам и никогда не спрашивала, где того носило, потому что такая работа, а меня, потому что такая учеба. Не случайно говорят, везёт в картах – не везет в любви. Нина читала, лежа на кровати, накормила меня Дора на кухне. Мое появление в постели никого не порадовало. Отец мне все внушал: хочешь контролировать жену, держи ее все время беременной. Как можно иметь много детей, если любимая женщина постоянно демонстрирует, что не хочет тебя? Да я и сам, наверное, не хочу много детей, но я хочу её и жду, вдруг что-то изменится и пойдет моя карта.
76
Спектакль «Он и Она», последний прогон перед премьерой. Елена Константиновна сидит в зрительном зале. Идет сцена встречи начальника лагеря и жены заключенного. События пятьдесят третьего года, умер Сталин. Казенная мебель, заваленный бумагами и папками рабочий стол, за ним сидит мужчина в форме, ромбики на петлицах – крупный чин НКВД, круглый череп с острыми ушами при полном отсутствии волос. Стук в дверь, входит офицер:
– Василий Павлович, приехала жена заключенного Печерского.
– Пусть подождет. Распорядитесь, чтоб накрыли стол на двоих: колбаса, сыр, шоколад – дальше сами сообразят. Идите.
Офицер вышел, хозяин кабинета встал, заложил руки за спину и принялся мерить шагами сцену…
– Сережа, чёрт возьми!
Елена Константиновна, как её называют в театре, «седая девушка», встала. Она сидела во втором ряду – ей почему-то нравился именно этот ряд, – взялась руками за спинку впереди стоящего стула и спокойно продолжила:
– Сережа, вы ведь ждете встречи с женщиной, о которой мечтали всю жизнь. Вы ее никогда не видели, и вот…
Она задумалась, казалось, что сейчас она где-то не здесь.
– У вас герой просто насупился, а в нем же кипит внутренняя борьба. Тут вам и сомнения, и тайная страсть, и предвкушение. Он нервничает и силится этого не показать, совладать с собой… Пока я ничего этого не чувствую.
Она села, сцену начали сначала.
В гримерной Лариса, готовясь к выходу, поправляла шелковистые волосы и пыталась натянуть пуританскую блузку героини так, чтобы та подчеркивала форму груди. Дверь приоткрылась, в полумраке коридора мелькнуло лицо Георгия, его густые вьющиеся волосы с дорожками седины. Убедившись, что никого больше нет, он тихо зашел в гримерную, обнял женщину за плечи и нежно коснулся губами ее шеи.
– Ты что делаешь! А если кто-то зайдет? – Она повернулась к нему, не вставая со стула, и обняла за бедра. – Я волнуюсь, а ты еще меня отвлекаешь. Мне и так не сосредоточиться.
– Не беспокойся, я закрыл защелку, не войдет никто, все сейчас в зале.
Он продолжил осыпать её шею поцелуями, руки соскользнули на грудь. Лариса поняла, что он сейчас испортит все её приготовления, и медленно встала.
– Не сейчас дорогой, не сейчас. Иди в тоже зрительный зал, скоро мой выход.
И выпроводила его за дверь. Он сопротивлялся, но в итоге подчинился.
Георгий сел так, чтобы его никто не видел. К его жене подошел осветитель, молодой, с гладко зачесанными волосами, в яркой рубашке – одно слово, щёголь. Георгию всегда не нравилось, как этот хлыщ себя с ней ведёт. Она, конечно, уже не девочка, но по-прежнему осанка, фигура, коса – порода, что есть, то есть.
– Елена Константиновна, это как же: и не знаком, и не видел – и сразу чувства? – Он элегантным движением провел по волосам и ждал ответа на свое высказывание.
– Сашенька, неплохо почитать сценарий заранее, всегда вас об этом прошу. Думаю, с Гретой Гарбо вы тоже не знакомы и никогда не встречались, но, возможно, в глубине души мечтаете об этой женщине. – Она жестом показала, что предпочла бы не отвлекаться.
Возвращаясь на свое место, аккуратно обходя сидящих, Сашенька не мог успокоиться.
– Грета Гарбо! Куда так высоко? Мы ж не «Анну Каренину» ставим. Понапишут, а ты догадывайся, что там имелось в виду.
В это время на сцене накрыли небольшой стол на две персоны, и Сашенька направил туда луч прожектора. В кабинет вошла женщина: расстегнутое пальто, в руках небольшой саквояж. Мужчина продолжает сидеть, изучая какие-то документы.
– Василий Павлович, вы согласились меня принять. Я жена Печерского.
Она стояла у входа, он ответил, не поднимая головы:
– Да, я помню, проходите.
Она хотела сесть напротив него, но он поднял голову и махнул рукой:
– Присаживайтесь за тот стол. Вы с дороги, думаю, перекусить будет не лишним.
Он встал и помог ей снять пальто. Черная блузка и длинная юбка гостьи подчеркивали официальность визита, но при этом плавно повторяли очертания её фигуры.
Елена Константиновна поднялась на сцену.
– Сережа, у него необычная речь, он как будто себя успокаивает, перекатывая во рту шарики – как четки на востоке. Не забывайте, это сказывается на мимике. И пальто, Сережа, вы же снимаете пальто с женщины, делайте это с чувством. Всё тоньше.
Она повернулась к Ларисе и застегнула последнюю пуговку у той на блузке:
– Вы закрыты, как в футляре. Но вы пришли просить за мужа, вы на грани. Темное пятно, а не женщина. Жена заключенного, которого и за человека-то не считают. Но чиновник, от которого зависит жизнь вашего мужа, согласился на встречу с вами, и здесь вы женщина, которой мужчина может пойти навстречу, если она ему интересна. Поэтому черное, да, зачехлено до упора, но повинную голову, как известно… поэтому и жизнь должна быть тоже, а не опущенные глаза монашки – не тот случай и не та женщина.
Лариса слушала, опустив глаза, и лишь изредка вскидывала их на Елену Константиновну и качала головой, соглашаясь и принимая замечания.
Действие продолжилось. Георгий прикинул, что скоро перерыв, и незаметно вернулся в гримерную Ларисы. Оттуда вела дверь на чёрную лестницу, он открыл и решил пока покурить. Он чувствовал некие параллели между событиями реальной жизни и пьесой, которую жена написала и ставит в театре. Там есть что-то недосказанное, оставившее на ней глубокий отпечаток, не дающий ей покоя много лет.
В это время вошла Лариса. Он вернулся в гримерку, закрыл двери и, не обращая внимания на ее изумление, оказался у неё за спиной и резко задрал ей юбку. Лариса пыталась сопротивляться, но сдернул бельё и грубо ворвался в неё, и она застонала. Упертые в зеркало ладони поползли вниз, его сильные удары отдавались у нее по всему телу. Всё кончилось быстро, подобно урагану, и он замер, тяжело дыша, а она поправила одежду и опустилась на стул.
– Что это было? Как, по-твоему, я сейчас на сцену пойду?
– Прости. Я все не мог понять, почему эта тема так долго её не отпускает, и внезапно меня осенило. Когда ты вошла, я вдруг почувствовал, как это происходило много лет назад с ней. Но тот мужчина, как ты понимаешь, не вызывал у неё никакой симпатии, скорее, наоборот.
Лариса встала.
– Ты думаешь, он правда ее…? Ужас какой.
Она ушла. Георгий привел себя в порядок, и вернулся в зал. Он смотрел на Елену, и осознавал, что эта гордая, умная и красивая женщина прошла ради него ужасное испытание, но никогда не рассказывала ему. У него всегда было чувство, что способность любить мужчину она похоронила вместе со своей первой любовью, и ему всегда хотелось достучаться до нее. Она родила ему четырех детей, а еще троих они потеряли в родах. Он изо всех сил доказывал, что она его женщина, и боялся её потерять, и поэтому хотел много детей. Почему это не открылось ему раньше, а пришло так вдруг? И чтобы это изменило? Простил бы её нелюбовь? Успокоился бы?
Елена Константиновна не отрывала глаз от происходящего на сцене, но думала об эпизоде, которого не хватает для передачи той бесконечной боли, трагедии, абсолютного обесценивания человеческой жизни и полной вседозволенности. Когда старые, подлинные ценности разрушены, а новые – всего лишь лозунги.
Лариса не способна перевоплотиться настолько, чтобы забыть в себе женщину. Это покачивание бедрами, постоянное натягивание блузки, так что пуговицы едва не отлетают – наверное, это и привлекает к ней мужчин, в том числе Георгия. Его можно понять. «Странно, что мне всё равно, – думала Елена Константиновна. – Он меня любит, я его нет. Он мне изменяет, я ему нет. Но я действительно не в силах ему дать то, что нужно мужчине от женщины. Нет у меня этого. Как можно требовать от человека того, чего у него нет? Хотя, конечно, можно взять, и даже взять силой то, что у него есть».
Она снова поднялась на сцену. На сей раз все ей аплодировали, спектакль, даже на прогоне, никого не оставил равнодушным. Она вспомнила отца, всегда трепетно относившегося к её увлечению театром. И Володю. Любовь к нему по-прежнему даёт ей импульс для творчества. Все, что она ставит, обязательно про любовь, и этот спектакль не исключение. Это основа её жизни, которая связывает сегодня, вчера и позавчера.
77
Заканчивается рабочий день. Сегодня нас послали в цех, где хранятся вина. Огромные баки связаны между собой толстыми прозрачными трубами, здесь же и фильтры. Одну трубу недавно прорвало, так собрали вино тряпками в ведра, слили обратно в бочки и сказали, что ничего страшного, отфильтруется. Утром обнаружили целую партию бутылок, в которых какие-то белые хлопья плавали, велели перебрать все ящики: бутылки, которые с хлопьями, открывать и сливать в специальную ёмкость. Сидим, обсуждаем причудливые повороты армейской жизни. Костя Фуфаев, любопытный, как кот, интересуется:
– Володя, а вот скажи, как тебе это удается, чтобы мы во время службы – и все дома жили? И всем хорошо, и пей не хочу – да это космос какой-то, сам посуди! Ты когда сказал, чтобы собирались, я решил, или шутка, или нас отвезут куда-то, как на парад возили, и обратно. А тут на тебе! Правда, кто всё это придумал?
Суворов тоже подсел ближе. Он опять накурился так, что дым уже из ушей валил, и казалось, вот-вот заструится из покрасневших глаз. Долго кашлял.
– Я тоже послушаю. Вдруг тоже, научусь, чтоб тоже волшебником. Раз тебе – и в другом городе, или в другой стране, и, пожалуйста, с бутылочкой хорошего вина! Правда, тут уж так избаловались, что хорошим вином удивить теперь будет трудно. Ну же, старший товарищ, поделись своими секретами. – Он отхлебнул из бутылки немного вина, и стал открывать следующую.
– Особенно делиться нечем. Вызвал Веселов и говорит: скоро день части, гости приедут, а возможности достойно встретить ограничены. Не повторю ли я тот удачный опыт, когда понадобились музыкальные инструменты для клуба, и я договорился с директором фабрики и с бригадой ездил туда работать. И я отправился на разведку. Встретился с главным виноделом, а здесь им оказалась женщина, очень интересная. Не юная уже, конечно, но раньше точно была красавица. И не только собой хороша, но и умна, и образованна. Дочь у неё, оказалось, живёт во Франции, замужем за дипломатом. Я в то время собирался в Москву. Дядька мой разговаривал обо мне со столичным комендантом и вызвал меня, намекнув, что есть шанс получить офицерское звание (высшее образование-то у меня есть) и перейти в адъютанты. А ей, я так понял, надо было во французское консульство передать подарки, какие-то дорогие коллекционные вина. Ну, я и в Москву съездил, и вино передал, и с дядей повидался, и капитана Веселова с собой взял – он тоже изъявил желание со мной съездить. Мужик он хороший, вдруг и ему для продвижения по службе какая польза выйдет.
Костя заулыбался.
– Ещё и в Москву успел смотаться! Ну, ты даешь! Ещё скажи, что и во французском консульстве побывал и с какой-нибудь француженкой познакомился.
Широкая улыбка в сочетании с угловатостью придавали ему сходство на Буратино.
– В консульстве не был, там нужно паспорт предъявлять, а с военным билетом светиться не стоило. Он сам подъехал, симпатичный такой француз, по-русски хорошо говорит. Поблагодарил и от дочки передал подарок. Поинтересовался, правда, давно ли с Ларисой Максимовной знакомы. Не стал его расстраивать, что без году неделя – может, подарок ценный. Но, судя по тому, какова мама, ему с дочерью тоже повезло, вот уж подарок на всю жизнь.
Александр прервал мой рассказ. Он, как и его прославленный однофамилец, всегда решительно вмешивался и досконально разбирался в том заинтересовавшем его вопросе.
– Это ещё неизвестно, на всю жизнь или нет. Мы французов тоже из Москвы до Парижа гнали. Так что, может, увидит такого красавца, как я – и сразу прямо в сердце. А то ты так рассказываешь, что я уже к ней неравнодушен. Ладно, продолжай. Я парок сбросил, так оно легче будет.
Я посмотрел на часы – скоро конец работы. Надо идти к Ларисе Максимовне, получать вознаграждение.
– Капитан наш с моим дядей поехали отметить знакомство. Дядя известный боец, хоть уже не юноша и полковник, но закалка политработника дает себя знать. В дом он весёлого Веселова практически на себе затаскивал. Хороший, говорит, парень, но слабоват, высоко не полетит. Утром он его с собой взял показывать Центральный музей вооруженных сил, где руководил отделом. Веселова ещё от стенки к стенке мотало, а дядя распылил струйку одеколона на язык и говорит, что всё, готов, как огурчик, хоть прямо сейчас снова в бой. И действительно, не скажешь по нему, что вчера гуляли до ночи. Поездкой Веселов остался доволен, в дядю просто влюбился, и уровень взаимного доверия значительно возрос.
Опять резко вмешался Суворов:
– Стой, а как же, адъютант его превосходительства? Ты же собрался щеголять, как мы на парадах, в лайковых сапогах, с аксельбантами.
– Я же тоже пить не умею. Не моё это ребята, не моё. Звучит красиво, а давит. Не хватает в армии чего-то важного для меня. Может, просто воздуха мало.
Наступило время расчета, мы быстро переоделись и поднялись в кабинет к Ларисе Максимовне. Я постучался и зашел. На столе стояло шесть бутылок коньяка и отдельно двадцать бутылок вина.
– Добрый вечер, можем забирать?
Она подошла к окну, внимательно посмотрела, вернулась к столу, несколько раз провернула диск телефона.
– Екатерина Кузьминична, что у нас на проходной?
До меня долетали хрипловатые звуки:
– Васька из ОБХСС трется. Скоро уйдёт, ему ребенка же из садика забирать.
– Хорошо, позвони, как будет всё нормально.
Лариса Максимовна положила трубку, подошла к окну. Юбка до колена плотно обтягивала бедра и немного мешала ей в пол-оборота ко мне присесть на подоконник. Закурила какие-то тонкие сигареты, длинные с коротким фильтром и перехватила мой взгляд.
– Дочка передала. Спасибо, что привезли. Помогает выносить всё это: сегодня тебя они ловят, а завтра придут отовариваться и объяснять, что у них тоже план. Заниматься вином некогда, всё время уходит на людей, а мне нравится заниматься вином. Вот так Владимир, если хотите быть счастливым, занимайтесь тем, что любите, и там, где вам не будут мешать. А людей выбирайте таких, кто вас понимает.
Раздался звонок, она сняла трубку и практически сразу положила.
– Теперь можно, приглашайте ребят.
Работает нас пятеро, включая меня. Лариса Максимовна деликатно отворачивается, мы расстегиваем ремни и аккуратно заталкиваем бутылки между животом и брюками, все по пять, а мне достается шесть. Хорошо, животы у всех впалые, жесткие нагрузки в роте почетного караула не прошли даром. Идти не очень удобно, но что делать, выбирать не приходится. У меня в руках дипломат, в нем пустая сумка. Выходим спокойно, не спеша, на проходной нас уже знают. На улице расходимся, договорившись встретиться в садике неподалеку, и там аккуратно, чтобы не бросалось в глаза, по одному разгружаемся в дипломат и сумку. Я беру драгоценный груз, сажусь на троллейбус и еду домой, остальные разъезжаются восвояси.
Захожу в квартиру, никого нет, мама и Валера ещё на работе. Они всё-таки руководящий персонал, заканчивают позже, а я с работягами – раньше начал, раньше кончил. Поднимаю диван-раскладушку, в нише для постельного белья аккуратно лежат бутылки. За неделю набирается около ста пятидесяти штук, с учетом премиальных за допработы. Никто в части не знает, сколько я их получаю, но я этим не пользуюсь. Мне достаточно возможности жить дома, спать с женой. Ноги уже не выдерживают многочасовых тренировок на плацу. Тупо часами бить пятками в кирзовых сапогах об асфальт явно здоровья организму и голове не добавляет. В выходные загружу новенькую «шестерку» тестя и повезу полный багажник бутылок капитану Веселову. Как он ими дальше распоряжается, не знаю – это его дело. А моё – всё организовать, и за ребятами присматривать, чтобы никаких залетов. Если что случится, все открестятся, и тогда неприятностей не оберёшься, вплоть до штрафбата.
Поворот ключа в замке – мама вернулась с работы, рада, что меня застала.
– Тебя теперь и не увидишь, всё с женой или с тёщей. Они как вцепились в тебя, мне скоро ничего и не останется.
Понимаю, что в каждой шутке, есть доля шутки.
– Слышал, вчера у тебя была в гостях Аринина мама.
Мама прикрыла глаза и закачала головой.
– Не хотела тебе говорить, и не знаю, что сказать. Она ушла во втором часу ночи. Я думала, нервы не выдержат.
Я понял, что это уже не шутки. Может, материнская ревность?
– А в чём, собственно говоря, вопрос?
Жестом показала, что сейчас вернется, слышу, уже суетится на кухне. Конечно, ребенок ходит голодный, наверняка не кормят. Захожу, говорит по телефону, что занята, что Володя пришел, и сразу переключается на меня:
– Лариса Васильевна недвусмысленно дала мне понять, что решила меня познакомить с каким-то профессором. Мол, для меня это отличная партия. Уж не знаю, что на неё нашло, но она почему-то считает, будто лучше меня знает, что мне надо.
Пока мама говорила, я просматривал эскизы моделей к новому показу с прикрепленными к ним кусочки трикотажа, и сбился со счёта, сколько их. Я не предавал серьёзного значения разговору.
– Это же нормально. Она проявляет заботу о тебе. Почему это тебя так расстроило?
Мама посмотрела на меня грустными глазами, понимая, видимо, что я её не слышу.
– Она на протяжении нескольких часов ходила за мной, – я не знала, куда спрятаться, и это в моей собственной квартире! – и повторяла практически одну и ту же фразу: «Послушайте меня, так будет лучше», – и при этом пыталась положить мне руки на плечи, видимо, для убедительности. Поверь мне, я по-настоящему перепугалась. Не знаю, донесла ли я до тебя, что мне пришлось пережить, но второй раз я такого не вынесу.
Совместная жизнь с отцом расшатала мамину нервную систему, она легко возбуждается, но Лариса Васильевна в своей настойчивости иногда напоминает мини-танк. Так она требовала, чтобы я официально попросил руки дочери, но тогда всё-таки не выходило за разумные пределы.
Зазвонил телефон, мама жестом попросила меня снять трубку, а сама побежала на кухню. Я услышал удивленный голос Арины:
– Ты у мамы? А что ты там делаешь? Почему не идешь домой?
Я почувствовал, что от меня ждут оправданий. Действительно, почему я не иду домой? Но, с другой стороны, я и так дома.
– Забежал ненадолго, сейчас перекушу и приду.
Судя по тому, как она выдохнула, я сказал что-то не то.
– Мы не садимся без тебя. Так тебя ждать?
В это время мама накрывает на стол, ставит на салфетки свои любимые красные керамические тарелки.
– Володя, поговоришь позже, стынет всё. Иди быстро мой руки.
Беру телефон под мышку и волоку за собой извивающийся по полу провод.
– Арина, я скоро приду. Вы садитесь есть, не ждите меня.
– Как хочешь…
И короткие гудки. Опять напряжение на ровном месте. Я как между электродами, крутят ручку, и через меня пробегает искра. Есть уже хочется, надо скорее проглотить то, что на тарелке, и бежать.
Практически не разговариваю, оставляю чистой тарелку, целую маму, а она на прощание говорит мне:
– Не знаю зачем, но Лариса Васильевна довела до моего сведения, что ей мешают спать звуки, которые доносятся из-за стены, отделяющей их спальню от вашей комнаты. Мне всё это не нравится. Если хотите, переезжайте ко мне. В общем, не знаю, подумай.
Киваю головой и бегу, по ощущению, явно не домой. А вот убегаю явно из дома. Мы сейчас живем у родителей жены, отец с мамой тоже жили какое-то время у ее родителей, и им, как я слышал, тоже было непросто. А какой выбор? Арина жить у моей мамы не хочет, снимать пока нет возможности. Мысли и эмоции по кругу. Звоню в дверь.
При виде меня Арина улыбается.
– Мы ещё сидим за столом, есть будешь? Или можем вместе попить чаю.
Целую её, не давая говорить, она обнимает меня, чувствую тепло её тела.
– Где вы там? Давайте скорее, чай стынет, Арина!
Жена отстраняется от меня и тихо говорит:
– Пойдём, нас ждут.
Вхожу в столовую, здороваюсь. Виктор Иванович в халате. Он немного прищуривается, когда снимает очки.
– Здравствуй, садись. А мы обсуждаем тему Арининой диссертации. Время летит быстро, расслабляться некогда. Лариса Васильевна, кстати, говорила о тебе с ректором у себя в институте, он пообещал посодействовать в получении места в очной аспирантуре. Тоже нужно всё продумать заранее, чтобы вовремя подать документы.
Папа настаивал на том, чтобы я пошёл по его стопам и воспользовался предложением дяди податься в адъютанты. Аринин отец предлагает выбрать научно-преподавательскую деятельность. Сам я хотел стать актёром, но понял, что это не моё, что могу без этого жить. Хотел после окончания института пойти в автосервис, вроде бы интересно и деньги неплохие, но для моей новой семьи это не престижно, а так через три года кандидат наук, а это престижно. И вроде как неудобно отставать от Арины, не соответствовать, а я слушаю и думаю, что отец пошёл в военное училище, потому что так пытался обрести самостоятельность. И мама вышла за него замуж, чтобы обрести самостоятельность. А мне предлагают идти по пути, о котором я никогда не думал, чтобы обрести престиж, положение, достойную зарплату… Но как же тогда самостоятельность, независимость?
– Да, конечно, я готов сделать все от меня зависящее, но пока я в армии, вряд ли можно подавать документы…
Я понимаю, обо мне говорили, запущен некий механизм, и я должен быть благодарен, что меня встраивают в какой-то поток. Понимаю, что это может быть интересно, что это связано с моей специальностью, но я чувствую давление и напрягаюсь от необходимости благодарить. Мне это не сложно, но то, что я должен это делать, именно должен… Может, и Арина, с детства зажатая в рамках долга, правил, что-то потеряла или спрятала и теперь не умеет проявлять себя, свои желания… Мысли и эмоции живут своей жизнью, притягивают или прогоняют друг друга, при этом я пью чай. Лариса Васильевна поправляет чашку, комкает салфетку, подносит чашку ко рту и внимательно смотрит на меня. Вспоминаю мамины слова. У тещи интересные глаза: вроде карие, но если в них заглянуть, создается впечатление, что они не имеют четкого контура, словно подернуты легкой дымкой, а когда хозяйка начинает говорить, вспыхивают.
– Владимир, думаю, тебе следует прислушаться к советам Виктора Ивановича. Ты понимаешь, какой у него опыт, авторитет. Многие мечтают о таком руководителе.
Виктор Иванович встает из-за стола, жестом показывает, что уходит и желает нам хорошо провести время. Он всегда уравновешивает своим спокойствием буйный нрав супруги, а та решила не оставлять меня в покое.
– Надеюсь, ты понимаешь, что ректор института это величина. И если он обещал помочь с аспирантурой, то это очень важно. Как ты понимаешь, он не всем уделяет такое внимание.
Она многозначительно смотрит на меня. Её пальцы так крепко сжимают блюдце, почти видно, как к ним приливает кровь. Мне кажется, что и меня сжимают так же, как это блюдце. Видимо, несчастный фарфор страдает из-за меня. Я умею быть благодарным, но как же трудно благодарить из-под палки даже за искреннюю заботу! Наконец, как зубную пасту из тюбика выдавливаю:
– Спасибо, Лариса Васильевна, я понимаю, это очень важно.
Загадочно улыбаясь, она встала из-за стола и пожелала нам спокойной ночи. Я сразу вспомнил мамин рассказ, как мы ей мешаем чувствовать ночи спокойными. Арина за столом не проронила ни слова. Видимо, обсуждения с ее участием прошли без меня. Мы тоже ушли в свою комнату, переоделись в халаты (так принято было ходить по дому), умылись по очереди. Арина уже ждала меня под одеялом в ночной рубашке, меня ей так не удалось приучить спать в пижаме. Ложусь, обнимаем друг друга, стараясь особенно не шевелиться. Переворачиваю её на спину, пытаюсь без лишних звуков занять положение над ней, она помогает мне. Стараемся двигаться бесшумно, а она еще и контролирует меня, чтобы не забеременеть. Соблюдя все эти ограничения, переходим ко сну.
– Спокойной ночи, я люблю тебя, – тихо говорит Арина мне на ухо, и мы засыпаем. С родителями в одной комнате, с родителями за стеной, с проблемами родителей за нашими спинами, рассыпавшимися по нашей постели.
78
В кабинете тихо, прохладно. И мне здесь комфортно – сам себе хозяин. Приходят представители завода, обсуждаем возникающие вопросы, иногда ругаемся. Приборы, которые выпускает завод, устанавливаются на подводные лодки, и моя задача контролировать качество производства и все показатели, регламентируемые технической документацией, а их задача сводится к выполнению плана. Если мы что-то не принимаем, план зависает в воздухе, а с ним и премии рабочих, инженеров, возникает конфликт интересов. Давно знаю это производство. Я офицер, но все представители приемки ходят в гражданской одежде, дабы не привлекать ненужного внимание возможных заинтересованных лиц. Меня радует, что наши приборы ведут себя хорошо. Недавно был на ходовых испытаниях современной подводной лодки, все прошло отменно, без единого замечания.
Раздался стук в дверь, вошел капитан третьего ранга Семенов. Когда нет посторонних, мы на ты:
– Юрий Георгиевич, никого нет? – Он осмотрелся и закрыл за собой дверь. – Сегодня все плановые мероприятие выполнили, ребята спрашивают, может, пораньше пульку распишем? Пятница, не хочется допоздна задерживаться, жены уже ворчат, а так посидим в удовольствие…
Махнул ему рукой, чтобы сел, пока сам разговариваю по телефону с маклером по поводу квартир. Пока менял комнату, выданную министерством обороны как человеку семейному, сначала на две, потом те две на квартиру, потом квартиру и комнату Нининых родителей на трехкомнатную, затем разменивал её же на двухкомнатную и однокомнатную, сам уже маклером стал. Такие сложные схемы приходилось выстраивать, чтобы семье жилье добыть, а заодно и что-то заработать, а то на офицерскую зарплату кооперативную ни квартиру, ни и машину не купишь. Вроде бы у меня ответственная работа, требующая серьезной подготовки, а в реальной жизни какой-нибудь мясник живет лучше. И директор обувного магазина тоже, а уж овощной базы тем более. И как, интересно, я должен решать свои жилищные и бытовые вопросы? Получается, это никого в моем государстве не интересует. Или иди работать мясником, или… Я вот использую собственный мозг и придумываю схемы по обмену жилья. И не от нечего делать, а от желания нормально жить. И везде нужны связи: купить мясо – нужны не деньги, а знакомый мясник, купить мебель – работник мебельного магазина, а лучше директор, купить билеты на поезд – кассир. А чем я их всех могу заинтересовать? Они-то между собой могут своими услугами и товарами поделиться, но приборы для подводной лодки явно не попадают в этот список – совсем в другой они попадают список, с грифом «секретно». А так жильем занимаешься и мало-помалу обрастаешь связями. Повесил трубку с хорошим настроением. Похоже, длинная цепочка (десять ордеров задействовано) складывается, и все довольны, каждый получает, что хотел, и мне награда за потраченное на всё это время.
– Хорошо, Коля, давай через полчасика. У меня тут на подпись акты приемки, весь стол завален, за это время закончу, и сядем. А ты в пятый цех зайди, у них опять вопросы по контролю количества срабатываний у реле времени.
Он кивнул и вышел. Да, ребят я подобрал отличных. В волейбол вместе ходим играть, и, если есть время, как сегодня, в преферанс играем, и в гости друг к другу сходить приятно. А у других всё склоки, все подсиживают друг друга. На что люди только ни тратят свою жизнь…
Зазвонил телефон.
– Капитан первого ранга Радзиевский?
Голос незнакомый. Судя по официальному тону, звонок из госструктур.
– Да, слушаю.
– С вами говорит капитан Синицын из Комитета Государственной Безопасности.
Он сделал паузу, за время которой многое пронеслось у меня в голове. Но никаких поводов для интереса со стороны данной службы в памяти не нашлось.
– Я вас слушаю.
– Юрий Георгиевич, у нас есть к вам вопросы. Дабы не тратить ни ваше, ни мое время на повестки, было бы неплохо, если вы, конечно, располагаете временем, подъехать к нам. Часикам к семнадцати.
Он опять выжидательно умолк. Я не был готов к подобному предложению, но и тянуть не видел смысла.
– Хорошо, говорите адрес и как вас найти.
Он продиктовал адрес и объяснил, как его вызвать. Я всё записал, положил трубку и вызвал Николая.
– Мне нужно уехать. Если вдруг задержусь, временно будешь исполнять мои обязанности.
– Юра, а что, собственно, стряслось? Времени-то прошло всего ничего…
– Ничего толком тебе объяснить не могу, сам не знаю, но думаю, все будет хорошо. Однако если что – ты меня понял: никому ничего говорить не надо, скажи, мол, уехал по делам, поэтому все отменяется.
Коля ушел. У меня оставалось немного времени, но к чему готовиться, я не понимал. Заглянул в заводскую столовую, взял чаю и пряников – сладкого захотелось, да и вообще чай с пряниками мне всегда в радость. Посидел, успокоился и решил, что пора, и направился к машине. Я купил эту «Победу» уже изрядно послужившей, но она ещё достаточная крепкая, только электрика часто барахлит – то генератор, то стартер, то аккумулятор. Но сейчас не подвела: вставил ключ в замок зажигания – и мотор ровно загудел. Машина тяжелая, разгоняется плавно, зато трамвайные пути незаметно переезжает. Чувствуется претензия на солидность, размеренность, езда на ней успокаивает, а мне сейчас это очень кстати.
Меня встретил дежурный офицер, проводил в нужный кабинет и доложил о моем прибытии. Вхожу. За столом сидит худощавый, аккуратно стриженный мужчина лет тридцати, может, тридцати пяти. Он затачивает карандаш и делает это очень тщательно, превращая грифель в острие. Наконец поднимает голову, как будто он меня не ждал, и я отрываю его от важных государственных дел,
– А, да, Юрий Георгиевич. Проходите, садитесь, устраивайтесь поудобнее, нам есть, о чем поговорить.
Сажусь напротив. Стул резной, массивный, обтянутый красной кожей. Садиться на него неприятно – толи он сам он такой неприветливый, то ли стоит в неприветливом месте.
– Наверное, приглашение к нам в гости вас несколько удивило, но вы нас тоже несколько, прямо скажем, удивили…
Он замолчал и посмотрел на меня, изучая мою реакцию, или просто разглядывая. Потом снова завел мерным, как метроном, голосом, аккуратно ставя слова:
– Вы заставили нас поволноваться – да-да, не удивляйтесь, Юрий Георгиевич, – и изрядно потратить время. Начну по порядку. Вы, кстати, не хотите чего-нибудь выпить? Чаю, кофе, может, воды?
Опять замолчал и с интересом меня рассматривает. Щурится так, что глаза превращаются в щелочки, но это не улыбка, хотя уголки рта тоже двигаются. У меня немного пересохло в горле, и волнение пока не покидает, но отвлекаться ни на что не хочу. Мне его присутствия достаточно.
– Нет, спасибо, я перед визитом к вам зашел в столовую.
Он выдвинул вперед подбородок и покачал головой.
– Ну и хорошо, может, попозже. Начнем с простого: вы знакомы с Гуревичем Михаилом Абрамовичем?
Я прикинул, кто бы это мог быть и где я мог с ним встречаться, и вспомнил.
– Да, знаком. Он работал на заводе, где я руковожу военной приемкой в отделе технического контроля. Но сталкивался с ним только по работе, да и то нечасто.
Он улыбнулся, если это можно так назвать – лицо приняло нужную форму, но никакой радости не излучало.
– Вот видите, какое разночтение. Он вас представил как близкого друга, да, и знаете кому?
А почему меня это должно интересовать, подумалось мне.
– А почему мне это должно быть интересно?
Он взял заточенный карандаш, лист бумаги и стал им постукивать по нему.
– Вот именно, почему вас должно беспокоить, что американские спецслужбы имеют информацию, что человек, имеющий допуск к особо секретной информации, готов с ними сотрудничать?
Я обомлел.
– Какие спецслужбы? С кем сотрудничать? Откуда такая информация?
Он опять наблюдал за моей реакцией и ставил какие-то галочки.
– Ну, как откуда – от вашего друга гражданина Гуревича.
Я хотел возмутиться, но сдержался.
– Он вовсе мне не друг, и я не понимаю, какое я имею отношению к тому, что наговорил кому-то Гуревич.
Он встал и заходил по кабинету.
– А вам не кажется странным, что он назвал именно вашу фамилию? Что именно вы, по его мнению, готовы к сотрудничеству?
Во мне все кипело, но я старался сохранять спокойствие.
– Простите, но как я могу отвечать за слова какого– то человека, пусть даже и знакомого мне?
Он опять уселся напротив.
– Простите, а как мы можем доверять человеку, о готовности которого к сотрудничеству сообщают спецслужбам иностранного государства?
Тупик, глухая стена, меня не слышат.
– Вы можете мне предъявить нечто реальное, что подтверждало бы эти слова?
Снова та же улыбочка.
– Если бы это имело место, Юрий Георгиевич, мы бы с вами разговаривали в другом месте и при других обстоятельствах. А так просто мирно беседуем.
Тогда что, просто пригласили сообщить, мол, был сигнал и не подтвердился? Как-то это странно.
– И что же тогда послужило поводом моего приглашения к вам?
Он опять поставил галочку и залюбовался, какая она у него красивая получилась.
– А поводов оказалось много. Нам пришлось понаблюдать за вами, и нас несколько удивила ваша жизнь, ваши увлечения, некоторые суждения.
Его глаза снова сузились. Он следил за моей реакцией, как следят за реакцией подопытного кролика, когда опыт проводится многократно и результат известен заранее, отрабатывается только уровень достоверности. Меня сказанное действительно придавило, я понимал, о чем идет речь.
– И что именно вам показалось странным? – Я старался говорить ровно, а он играл ясно интонациями, словно получал удовольствие он моей нервозности, даже повизгивать начал.
– Вы наверняка догадываетесь, о чем я говорю. Собственно, и мы в этом тайны особой не видим, поэтому решили пригласить вас и одновременно проинформировали ваше руководство. Пусть лучше всё происходит параллельно, дабы не возникало разночтений в понимании.
Это был следующий удар. Бьют мягко, но последовательно, в одно и тоже место. У меня не должно было оставаться сомнений, что двигается по жестко отработанному сценарию, и мне отведена роль статиста.
Я вообразил «приятный» разговор с Василием Павловичем. Мы с ним давно работаем, у нас сложились отличные дружеские отношения, мое представительство долгие годы является одним из лучших. И тут товарищи из одного военного ведомства с радостью промывают мозги и указывают на недостаточный контроль товарищам из другого военного ведомства. Прошу разъяснить:
– И что же вас так обеспокоило, что вы сочли целесообразным обсудить это с моим руководством?
Он посмотрел на часы, подчеркивая тем самым, что я впустую трачу его драгоценное время, и начал говорить, продолжая наблюдать за движением стрелок:
– Нам представляется странным, что руководитель подразделения, отвечающего за контроль качества секретного оборудования военного назначения, тратит своё время, в том числе и рабочее, на добывание денег, общаясь с сомнительными личностями, именуемыми «маклерами». И поэтому нам не показалось не случайным, что гражданин Гуревич счел возможным рекомендовать именно вас как потенциально готового к сотрудничеству. Раз вам не хватает вашей заработной платы, и вы готовы, так сказать, подзаработать на стороне, то почему бы и не таким образом? Не правда ли, вполне логично, вам не кажется?
Что можно сказать человеку, который знает, что правильно, а что неправильно, и служит в системе, где инакомыслие наказуемо.
– Я помогаю людям решать проблемы с жильем, опираясь на собственный опыт, и получаю вознаграждение за помощь. Это не имеет никакого отношения к измене Родине и никак не сказывается на моей основной работе и работе моего подразделения.
Часы опять привлекли его внимание. Похоже, моя реакция на его слова его больше не интересовала, он и так уже все для себя понял. Не поднимая глаз, он донес до меня заранее принятое решение:
– Думаю, для всех будет лучше, если вы подадите рапорт об отставке. Мы не станем раздувать эту истории и сочтем вопрос исчерпанным. И нам будет спокойнее, и вам, и вашему руководству.
Он встал, показывая, что разговор окончен, приговор обжалованию не подлежит. Я тоже поднялся.
– Всего доброго.
Та же бесцветная улыбочка.
– Всего доброго.
Эти люди на протяжении долгого времени легко решают судьбы других людей, хотя этих других они за людей и не считают, те для них граждане. Я вышел из здания и направился на работу, домой ехать не хотелось. Добрался до завода, поднялся к себе в кабинет. Здесь ничего не изменилось, но я почувствовал, что мы расстаемся, и сердце больно кольнуло. Зазвонил телефон.
– Юрий Георгиевич, рад вас слышать. – Это был голос адмирала Войнова.
– Слушаю вас, Василий Павлович. – Я замолчал, не зная, действительно с ним разговаривали или мне специально так сказали.
– Со мной беседовали, недавно уехал их представитель. Их доводы мне показались странными и абсолютно необоснованными. Поэтому считаю, что с их рекомендациями вовсе не обязательно соглашаться. Это моё мнение, и я хочу, чтобы вы его знали.
Мне было приятно получить поддержку человека, которого я уважал, который всегда имел свою точку зрения и умел ее отстаивать. Но я понимал, что ему скоро на пенсию, а вся эта история, представленная данными товарищами в нужном свете, в Москве будет воспринята негативно. Неизвестно, к чему приведет эта борьба, но у него могут возникнуть сложности.
– Спасибо вам, Василий Павлович, и за Вашу позицию, и за поддержку. Мне всегда было приятно с вами работать но эти люди не оставят ни вас, ни меня в покое. Им надо поставить галочку, что они свою работу выполнили и что-то там предотвратили. А то, что от этого пострадают и люди, и дело, их не интересует. Ничего в этих структурах не меняется, как было, так и остается, разве что вежливее стали. А люди их как не интересовали, так и не интересуют. Извините, я несколько на взводе, но всем будет проще, если я вам завтра положу рапорт об отставке. Ещё раз простите меня, что доставил неприятности, и спасибо за совместную работу.
Мы оба замолчали. После паузы раздался его голос:
– Не торопитесь. Надо все обдумать, и вообще это не телефонный разговор. Заедете завтра ко мне, жду вас в одиннадцать часов.
Разговор закончился. Странно – столько лет служишь государству, а оно доверяет решать твою судьбу человеку, который абсолютно тебя не знает, которому абсолютно наплевать на твою жизнь, на твою семью. Но он уверен, что отстаивает интересы этого самого государства и знает их гораздо лучше, чем ты, а твоё мнение никого не интересует. Эта машина подавления меняет только винтики – старые уходят, новые приходят, но сам механизм неизменен и отлажен идеально. Интересно, кому эта машина служит, кто ей управляет? Или она уже сама управляет людьми, их судьбами?
Утром я подал рапорт. Неправильно перекладывать свои проблемы на чужие плечи. Возможно, это сама жизнь мне так подсказывает, что надо что-то менять, и если я сам этого не делаю, она это сделает за меня.
79
Все бегают, суетятся – конечно, не каждый день показ целой коллекции. Одежды снимают и показывают в прямом эфире на первом канале. Я сама, как на конвейере, закалываю булавки на девочках прямо перед выходом, всегда не хватает времени. Купола заворожили меня, в переплетениях трикотажа они оказались очень гармоничны. Лён и немного жемчуга, и много воздуха, почти прозрачные платья висят на плечах и мерно покачиваются в такт движениям манекенщиц, как колокола…
– Нина Ивановна, вас срочно просят подойти, Колю не пропускают.
Не понимаю, куда его могут не пропускать, когда он уже переоделся.
– О чем вы? Кто не пропускает?
– Не знаю, кто именно, но говорят, что с бородой не пропустят, нужен без бороды.
Вера пожала плечами и повертела пальцем у виска. Подхожу к её модной бригаде, и администратор мне заявляет:
– Хорошо, что вы подошли. Я не могу его пропустить, с бородой нельзя. Мне неприятности не нужны. Или пусть сбривает, или ищите кого-нибудь другого.
Коля стоит рядом и улыбается.
– Ну, Нина Ивановна, я, конечно, все понимаю, но как бы хорошо я к вам ни относился, а брить бороду не стану, это уже перебор. только Москва такое может придумать. Простите, но я пас.
Хватаю телефон, Володя должен быть дома, слышу его голос.
– Привет, срочно собирайся и приезжай в Дом Мод, у нас срывается показ. Только срочно, всё бросай и выезжай!
Смотрю на женщину с табличкой «администратор».
– Спасибо вам большое, только этого и не хватало. С вашей легкой руки выходы мужчин сдвинем в конец, если вообще успеем.
Не понимаю, конечно, как такая дикость может иметь место на телевидении, но что делать? Прекрасная реальность. Девчонки бегают за сценой, как всегда, в одних трусиках, иногда прикрывают грудь. Времени на переодевание очень мало, Володя опять не будет знать, куда глаза девать… Ну и ладно, что я могу сделать! Пусть привыкает, учится красивому, тоже полезно. Правда, Коля, например, на них уже и не реагирует, не ценит, что находится среди такого цветника – к хорошему быстро привыкаешь. Все приедается, но иногда можно. Мужчина должен понимать, что такое хорошо, а иначе с чем сравнивать? Пусть набирается опыта. Пока размышляю, что сын сейчас попадет, как кур в ощип, меня хватает за руку директор нашего трикотажного объединения.
– Нина Ивановна, буквально одну минуту. Приехали из нашего райкома партии, с женами. Найдите, пожалуйста время, хотят что-нибудь особенное от вас.
Думала, сразу взорвусь, и от того, как я люблю выслушивать пожелания, каждая ведь кутюрье, и оттого, что идет показ, а меня отвлекают. Это мое детище, я в него столько сил вложила, но даже штрихи спокойно выставить не могу, а ведь они очень важны. К тому же узнала я о показе в последний момент.
И всегда так и никак иначе, просто сумасшедшая жизнь! Конечно, я сама её выбрала, не могла сидеть дома, готовить и ухаживать за мужем. Не знаю, мне всегда мало места, мало воздуха, мне необходимо творчество. Наверное, я в папу: когда баян у него оказывался в руках, всё вокруг горело, все девки по нему с ума сходили. Да, бедная мама. Юре, конечно, со мной тоже не повезло, что тут говорить, я ещё та штучка. Он-то все хотел ближе к земле, учиться не давал, работать не давал, всё завтра.
Нельзя никого держать. Накапливается такой заряд, что потом сразу всё, взрыв, и уже не остановиться.
– Нина Ивановна, а льняные платья не пропускают, там, говорят, грудь видно.
Вера смотрит на меня и разводит руками.
– Ну, а что я могу сделать?! Борода им мешает, грудь мешает! Я им уже сказала, пусть на вешалках снимают мои модели, если им люди мешают! Весь план показа кувырком, уж не знаю, что осталось. Полный кавардак из-за них!
Подхожу к администратору.
– Извините, вас как зовут?
– Ирина Степановна, я уже представлялась.
Она встала со стула, видимо, так я должна лучше запомнить её имя.
– Извините, Ирина Степановна, что в этой суете забыла, как вас зовут. Я иногда на работе своим сотрудникам читаю Бабеля, чувство юмора очень помогает. Например высказывание Бени Крика: «Холоднокровней, Маня, вы не на работе, и пусть вас не волнует этих глупостей».
В её глазах застыло удивление:
– Это вы к чему?
– Это я к тому, что мне странным кажется, что вас удивляет, что у девушек есть грудь. И что если она где-то чуть мелькнет, так это кого-то очень обескуражит. А вот модель от этого проиграет с гарантией, поверьте мне. Это все-таки мои модели, и, может быть, вы мне дадите довести показ до конца?
Ирина, которая Степановна, которая, как ей кажется, за все и за всех в ответе, закурила, затянулась и выдохнула.
– У меня у самой с грудью все в порядке, но показывать на все страну не обязательно. Пусть наденут лифчики, беленькие, и всем будет хорошо.
Чтобы не высказать, что я о ней думаю, поворачиваюсь к Вере:
– Закрепите крошечные треугольники из белой ткани, чтобы спрятать соски, тогда, я так понимаю, – я повернулась к администраторше, – таможня дает добро.
В это время я увидела Володю. Он пытался пробраться ко мне, лавируя между бегающими девушками.
– Привет, мам, у тебя тут весело.
Хватаю их с Верой за руки и волоку в примерочную. Если предложить ему переодеваться со всеми, взорвется.
– Возникли сложности. У Кости борода, и его не пускают демонстрировать модели, а у нас прямой эфир, я тебе говорила. Мне нужно, чтобы ты показал несколько вещей. Ты умеешь, просто пройдешь по подиуму и всё, главное, не зажимайся.
Он даже не успел ничего сказать, а ему уже помогали переодеваться, занимались его волосами, хорошо, что сын без комплексов. Но, конечно, такая импровизация может быть только у меня. Девчонки уже стреляют глазами. Вроде ничего не успевают, но не заметить появление интересного молодого человека не могут.
Берет за руку Галина Степановна.
– Нина Ивановна, ну, можно хотя бы я вас представлю. Я уже устала их в кабинете держать. Пусть тоже посмотрят показ, а потом вы с ними пообщаетесь. Они мне как снег на голову, что я могу сделать!
А Володя уже на дорожке. Немного напряжен, но всё хорошо, девчонки при нём с особым настроением идут, это добавляет жизни. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
– Галина Степановна, боюсь, сейчас знакомство со мной всех только расстроит. Предложите им посмотреть модели, не задействованные в съемке, а я, как только съемка закончится, подойду к вам. Только не просите меня ничего им делать на заказ – завою!
– Нина Ивановна, вас к телефону, что-то случилось с вашим папой…
80
Южный берег Крыма. За нами приехала черная, блестящая на солнце новенькая «Волга». Мужчина средних лет, немного полноватый, немного самодовольный, мягкий в движениях и обходительный, помогает нам с Ариной сесть в машину. Едем по извилистой дороге. Пальмы выстроились рядами, их ветви пропускают лучи солнца, медленно сползающего к закату. Между густой растительностью и прячущимися в ней домами встает голубой стеной Чёрное море.
Останавливаемся у небольшого кафе, мужчина выходит и предлагает, пока его ждем, попробовать горячих лепешек. Их готовят в глиняной печке, прямо на улице. Такое впечатление, будто все старые знакомые и радужно приветствуют друг друга. Наше свадебное путешествие курирует некто из руководства Азербайджана, который пишет диссертацию у Арининого папы. У него друг, в свою очередь, один из руководителей Краснодарского края. В багажник грузят коробки с продуктами, вином, пивом. Снова едем, поднимаемся вверх, в горы. На каждом вираже сердце замирает, колеса визжат на поворотах, прижимаемся к камням, а встречная машина к обочине, за которой обрыв, и никакие столбики не спасут, если туда свалиться. Но водитель спокоен, для него это повседневная жизнь, он перекатывается вместе с рулём из стороны в строну и регулярно сигналит, предупреждая о своём присутствии перед очередным поворотом.
Съезжаем на одинокую дорогу, выбираемся на пологий участок. Перед нами возникает шлагбаум, нас пропускают. Да, прежде не доводилось бывать по ту сторону шлагбаума, где спецмашины, спецдачи и прочее спецобслуживание. На этой закрытой территории стоит несколько аккуратных домиков. Нас встречает радостной улыбкой высокий загорелый человек. Представляется, говорит, как он рад, какая большая честь для него принимать друзей его друга, и что друзья его друга – его друзья, и какая мы красивая пара. Дабы не обременять наше романтическое путешествие большой компанией, нам подготовили отдельный домик, натопили баню, сейчас готовят шашлыки, а стол уже накрыт. Он проводил нас к уединенной хатке, притаившейся в гуще винограда, и пожелал хорошего отдыха. Домик оказался уютный, в нем имелась гостиная, спальня, баня с отдельным входом и небольшой бассейн. Перед домом расставили деревянную мебель. На столе не было свободного места – и зелень, и фрукты, и закуски, и буженина, и сервелат, и сочные местные сыры, и, конечно, вино и пиво. Мы не знали, что будет баня, тем более – бассейн, и купальных принадлежностей не брали. Я почувствовал, что Арина стесняется.
– В бане приготовлены полотенца и простыни, можно, как римские сенаторы, завернуться в них да так и ходить, мы тут одни практически. Если хочешь, я выйду, а ты переоденешься.
– Хорошо. Я не большая любительница бани, но если ты хочешь, давай сходим.
Она согласилась без особого энтузиазма, я вышел. Какая, думаю, напасть меня преследует? Ну, полгода встречались, ну, хорошо, только после свадьбы. Ну, первую брачную ночь провели в доме моей матери, всё неудобно. Утром на самолет, свадебное путешествие. Прилетели, устала, кто-то за стенкой громко говорит, и чтобы ей переодеться, я должен выйти. Уже кажется, что до свадьбы наши отношения были более страстные, чем сейчас, а теперь всё размеренно, спокойно, но в этом есть какая-то искусственность. Жизни мало, чего-то настоящего не хватает. Не знаю, можно ли это назвать страстью, её явно нет – что-то тайное держит, не даёт раскрыться ей как женщине и мне как мужчине.
Вернулся. Она подобрала волосы, простыня обхватила грудь и спрятала её стройное тело. Раздеваюсь, чувствую, что и сам начинаю смущаться, наматываю полотенце вокруг бедер. Заходим в баню – горячий, влажный воздух, особенно жарко под потолком. Надеваем шапки, без них даже уши обжигает, разматываю полотенце и сажусь на него, она не следует моему примеру, вроде бы ей и так удобно.
Не знаю, почему, но вспоминаю её мать с большой грудью, ласкающую перед камерой свои соски. А её дочь и в бане предпочитает сидеть со своим мужем, закутанная в простыню. А ведь когда целуемся, чувствуется скрытая страсть, но неужели так глубоко?
Арина достаточно быстро выходит из парной, я следую за ней и прыгаю в бассейн. Она раздумывает, затем сбрасывает свой наряд и тоже прыгает. Вода теплая, тело приятно расслабляется после жары. Подплываю к ней, она не хочет мочить волосы. Ныряю, пальцы касаются бедер, поднимаются к талии, медленно выныриваю, прижимаясь всем телом, целую ей шею, щеки, она мягко вырывается, не давая поцеловать губы.
– Здесь люди, прекрати, я неудобно себя чувствую.
Трудно остановиться, никаких людей не вижу, но чувствую её скованность. Она не может расслабиться, не может отдаться своим чувствам, и это расстраивает. В такие моменты не хочется видеть мир, пусть крутится сам по себе, мы ему не мешаем. Выпускаю её из объятий, а сам остаюсь в воде, выходить в таком состоянии не очень удобно. Она пытается замотаться в простыню, ещё даже до конца не выйдя из воды. У неё красивое тело, может, ноги чуть коротковаты. Я насмотрелся на раздетых манекенщиц и потому замечаю, но туфли на высокой платформе это сразу нивелируют.
– Я уже проголодалась, давай скорее за стол. Здесь столько всего вкусного, что невозможно терпеть.
Выхожу из воды присоединяюсь к ней, наливаю массандровское вино, она заполняет мою и свою тарелки закусками.
– Так прекрасно, что мы, наконец, одни, вдвоем. Начинаем новый этап нашей жизни, когда два человека становятся одним целым, вместе мечтают, вместе воплощают эти мечты в реальность. Важно, чтобы это происходило в состоянии счастья. За наше счастье!!!
Я закончил тост, бокалы своим звоном откликнулись на мои слова. Арина добавила во всё это свою улыбку. Иногда эта улыбка кажется натянутой, она появляется на лице, как готовый стоп-кадр, но свет в Арининых глазах успокаивает меня и говорит об искренности.
– Я тоже хочу сказать. У нас впереди много интересного. В этом году мне предстоит поступать в аспирантуру, а ты собираешься досрочно защитить диплом, и папа считает, что у тебя есть все возможности быстро написать диссертацию. Общение с тобой очень радует его. Хоть он и не специалист в твоей области, но с удовольствием поможет тебе и с планом, и с правильным выбором целей и задач. По-моему, очень здорово, что ты согласился заниматься наукой и что тебя интересует преподавательская деятельность. У нас будут схожие дороги, и мы будем помогать друг другу. За нас!
Снова зазвенели бокалы. Я поцеловал её.
В это время с громким возгласом: «Принимайте шашлыки, ещё дымок от углей не развеялся!» – явился гостеприимный хозяин и принялся ловко снимать с шампуров сочные и источающие манящий запах куски мяса, заполняя ими огромное блюдо в центре стола.
– Если не хватит, ещё принесу, Вы не стесняйтесь, у нас тут всё по-простому.
Он похлопал меня по плечу и подмигнул. Видимо, моя избранница ему тоже понравилась, а может, просто хорошее настроение. Думаю, они уже выпили гораздо больше, чем мы.
Мы с удовольствием поглощали нежное мясо, добавляли зелень и запивали вином. Стремительно темнело – на юге ночь быстро одевает небо в свой наряд, низко подвешивая звезды и опуская плотный занавес.
– Владимир, пожалуйста, скажи хозяевам, что мы предпочитаем вернуться в гостиницу. Не хочу ночевать на новом месте.
Мне неловко беспокоить людей, неловко показывать, что мне здесь не очень удобно. Мне-то кажется, что здесь уютно и было бы правильнее остаться. Наверное, это у меня от мамы, ей тоже всегда неловко просить кого-то, беспокоить. Но я собираюсь и иду, благодарю за гостеприимство, извиняюсь и прошу, если это возможно, нас отвезти обратно. За рулем тот же водитель, и в этот раз уже мы чертим радиусы вдоль расплывчатой границы между дорогой и пропастью.
Поездка закончилась благополучно, мы поднялись в номер, Арина пошла в ванную, и я остался в комнате один. Тихо, влажный морской воздух, за окном неутомимые цикады. Не раздеваясь, ложусь на кровать, томительное ожидание близости заставляет меня нервничать. Вспоминаю, как в романе Маркеса «Сто лет одиночества», героиня, опасаясь, что у неё родится ребенок с хвостом, перед сном пеленала себя таким образом, что муж всю ночь в ярости бился, пытаясь до неё добраться. Ей достаточно долго удавалось сохранять свою крепость не преступной, а соседи думали, что у молодых безумная страсть, раз весь дом ходит ходуном. Какой повод она найдет сегодня, и как долго я должен относится к этому с пониманием? Можно, конечно, настоять на своем, но кого это сделает счастливым? Арина вошла в комнату, на ней розовая рубашка и брючки – одеяние для сна. Наверное, всё очень правильно, но мне бы хотелось, чтобы она была без одежды, и я мог радоваться её обнаженному телу. Она аккуратно забирается под одеяло. Раздеваюсь и присоединяюсь к ней, обнимаю её, целую, она отвечает. Через рубашку ласкаю грудь, чувствую выступающие соски, стаскиваю с неё пижаму, она сопротивляется, но позволяет раздеть. С трудом протискиваю колено между её ног, при этом мы продолжаем целоваться. Наконец удается втиснуть второе колено, не могу похвастаться большим опытом преодоления подобных препятствий. Пытаюсь сразу перейти к делу. С трудом, после многих попыток удается. Арина вскрикивает, но я понимаю, что не от удовольствия, а оттого, что ей, видимо, больно. Успокаиваю её, она шепчет:
– Только не в меня, нам пока рано, надо подождать.
Я в последний момент останавливаюсь с застывшим в теле вопросом «и что с этим делать?». Вопрос, не найдя ответа, уходит, тело недовольно сжимается, и мы засыпаем.
Утром я обращаю внимание, что крови на простыне нет, и ловя мой взгляд, Арина говорит:
– Так бывает. Больно, но крови нет.
Я согласно киваю, но не понимаю, почему тогда так долго мы шли к этому? Безумной радости соитие не принесло, скорее, оставило еще больше вопросов. Почему так долго звучало категорическое «нет», и что изменилось от вымученного «да»? Близость так и не наступила. Если она с кем-то спала до меня, почему это так тщательно надо скрывать? Чего она боится? Моего осуждения? Я не великий ценитель девственности как обязательного атрибута невесты. Сдается мне, тут замешаны честь семьи, красивый фасад и мамины амбиции в сочетании с сексуальной неудовлетворенностью. На такой почве произрастают странные плоды, горечь которых приходится вкушать не мне одному.
81
Маленькая уютная квартирка в центре Таллинна, веселая компания. Мне самому весело, я выпил, но чувствую себя хорошо. Зашел в отдельную комнату. Давно не бывал в таких шумных компаниях, захотелось тишины. Дверь открывается, появляется Инесс. Она тоже уже подшофе, и отличное настроение из нее так и брызжет. Инес дочь хозяйки этого дома и моя женщина. Она садится ко мне на колени.
– Куда ты спрятался? Все тебя потеряли. Веселье продолжается, но надо сменить обстановку. Поедем покатаемся по ночному городу, может, еще где-нибудь посидим.
Она улыбается, платье словно обтекает её. Не могу не отметить, что фигура у неё очень похожа на Нинину, и грудь красиво выступает, едва не вываливаясь из лифчика.
– Я же уже я выпил, как теперь за руль?
Она посмотрела на меня с удивлением и немного отодвинулась.
– Ты что, серьезно? Какая ерунда! Надень форму, никому и в голову не придет, по тебе и не видно. Давай, собирайся.
В комнату вбежала её подруга Надя, они вместе работают в салоне причесок, вместе заочно учатся в Институте культуры и вместе веселятся. По тому, как неуверенно Надежда держится на ногах, видно, что она уже абсолютно пьяная.
– Юра, пойдем скорее, мы уже грустим без вас, пора всем проветриться.
Не дожидаясь ответа, она исчезла. Инес встала и тоже направилась к двери. По её глазам было понятно, что она очень расстроится, если я не поеду. Похоже, приходя в жизнь, все новое и хорошее обязательно должно быть приправлено чем-то неприятным. Инес моложе Нины, это греет моё мужское самолюбие, и тоже самая веселая в компании, но Нина практически не пила, для поднятия настроения ей это не требовалось. И она никогда бы не предложила выпившему сесть за руль. Но Нина не любила сидеть у меня на коленях. Зачем я об этом думаю? Искал женщину, чтобы не жалеть всю жизнь, что потерял Нину. Думал, что нашел. Не сожалею, но сравниваю. Зачем, если мне хорошо? Она меня обидела, сделала очень больно. Трудно терять то, что любишь, но дальше было бы еще больнее – так зачем? Каждый имеет право на счастье. Когда-нибудь еще поймет, что потеряла. За все надо платить. Встаю, повязываю галстук, надеваю китель, смотрю на себя в зеркало. Сорок лет – много это или мало? Чувствую по себе, что мало, но, судя по тому, что с трудом привыкаю к новому и не люблю меняться, наверное, много.
Едем по городу. Узкие улицы, готические домики устремлены вверх. Все шумят, споря, куда лучше заехать. Заходим в какой-то отель, поднимаемся на последний этаж, в ресторан. Почти все занято, хотя уже глубокая ночь. Официант вежливо провожает к свободному столику. Рассаживаемся. Звучит музыка, Инес берет меня за руку и выводит в пространство между столиков, где танцуют.
– Ладно, не дуйся. Ты привык в своей армии, что все нельзя. Расслабься – можно.
Она обнимает меня, и мы медленно танцуем. Мои руки лежат у нее на спине, я прижимаю её к себе и чувствую в танце женщину, неравнодушную ко мне. Даже не могу объяснить, в чем это проявляется, но когда танцевал с Ниной, она либо уходила в себя, либо хороводила всех вокруг. Мне очень не хотелось повторять судьбу отца: любить без взаимности и бегать по чужим бабам. Сам-то не бегал, но и взаимности не получил. Видимо, чем больше отталкиваешь от себя что-то, тем вернее оно тебя находит.
Танец кончился.
– Давай всех бросим и побудем вдвоем.
Она потащила меня к выходу.
– Но мы же всех привезли, Ин, неудобно бросить их, не попрощавшись.
– А мне удобно. Я хочу делать то, что хочу, а сейчас я хочу тебя. Они всё равно уже все пьяные, и толку от них никакого.
Мы быстро доехали до её дома, поднялись в квартиру и нырнули к ней в комнату. У её мамы отдельная спальня, а дочка спит в детской. Мы быстро разделись и юркнули в постель. Инес включила лампу, комнату залил слабый красноватый свет. Я почувствовал себя скованно.
– Выключи свет, он мне мешает.
Она опять удивленно воззрилась на меня.
– Ты серьезно? Свет мешает тебе заниматься любовью?
Ее способность задавать такие вопросы тоже несколько обескураживала.
– Да, мешает. А разве не удобнее без света?
Она улыбнулась.
– А ты с женой никогда не занимался любовью при свете?
Мне не очень хотелось обсуждать эту тему, но я ответил:
– У нас не самый удачный опыт. Мы довольно долго жили в одной комнате с родителями, так что не до света было.
Может быть, подумалось мне, я слишком часто закрывал глаза. Поэтому мне и в голову не приходило, что при свете все иначе.
– Давай найдем компромисс, – она улыбнулась, встала, принесла свечи и зажгла их.
Форточка была открыта, и огоньки дрожали, как и очертания наших тел в их мерцании. Мы целовались, потом я не выдержал и сразу взял её, моё тело растворилось в ней, и мы помчались, как дикие кони. У Инесс на лбу выступили капельки пота, у меня взмокла спина, вдруг она застонала, и все произошло практически одновременно. Мы замерли, как будто нас выключили, и тело окутала приятная невесомость.
– Ты всегда такой в любви? – Она не двигалась, но её рука гладила мою спину.
Я не знал, какой я в любви. Опыт с Ниной показывал, что в нашей любви чего-то не хватало, и я счел, что она просто холодная женщина. Но так решил я, не знаю, что думала она. Мы так и не научились это обсуждать, а сейчас я иду по новому пути, и мы всё обсуждаем.
– Что-то не так? Тебе не понравилось?
– Нет, всё так, мне всё понравилось, даже очень. Ты никогда не ласкаешь женщину, перед тем как на неё наброситься? При твоих габаритах, – она игриво хихикнула, – можно сделать больно, ты не знал этого?
Да, неплохо узнать, что у тебя какой-то необычный размер, что поцелуи лаской не считаются и что закрывать глаза необязательно, а можно смотреть. Наверное, еще много чего можно, а я-то думал, что все придет само. Может, в Эстонии все по-другому, может, их этому как-то учат. Почему она так спокойно говорит об этом, а меня коробит, как будто это что-то плохое? Я так долго жил, уверенный, что все правильно и иначе не бывает, но ведь чувствовал же, что всё не так. Она, видимо, поняла, что я не очень готов говорить на эти темы.
– Ладно, не беспокойся. Правда, всё отлично. Ты просто как молодой необъезженный конь.
Она нежно обняла меня и предложила вздремнуть, а то скоро рассвет.
Засыпая, я продолжал думать, почему мы не могли так говорить с Ниной. Что нам такое вбили в голову, что мы оба двигались, как по рельсам, и в итоге наши пути разошлись? Мы никогда ничего не обсуждали, а ведь это так просто – всего-то сделать первый шаг. А может, дело не в этом, просто она меня не любила? Мать ведь тоже не любила отца, но они всегда были вместе. Хотя нет, отец ей изменял. Большая семья, конечно, объединяет, но это не выход. Проваливаюсь в сон, а мысли продолжают метаться, ударяясь о скалы опыта и убеждений, спотыкаясь на ошибках и разочарованиях и поднимаясь с надеждами и верой в лучшее. Оно уже пришло или ещё только начинается. Видимо, для меня наступило такое время, когда всё меняется в жизни – и работа, и женщина, и пространство, в котором это всё происходит.
82
Готовлю обед. Наконец-то у меня есть собственная квартира! Я так мечтала о независимости, с детства мечтала. Сначала меня держала в рамках мама, потом Юра. Не могу даже сказать, в чем эти рамки заключались, но не хватало воздуха. Меня нельзя держать! Я не рвалась к другому мужчине, хотя поклонников хватало – мне просто было интересно, интересно общение, интересны собственные проявления. Я вовсе не стремилась броситься к кому-то в объятия, но когда тебя окружает ревность, когда тебя считают собственностью, тогда невозможно жить, и начинаешь кидаться на стены. Когда получали документы о разводе, я рыдала и не могла остановиться, и Юра решил, что это я так убиваюсь из-за расставания с ним. А на самом деле мне было больно за него. Я понимала, что причиняю ему страдания. Но он ничего не хотел в себе менять, я и сама меняться не хочу и не умею. Моя сегодняшняя свобода мне дороже вчерашней уверенности в завтрашнем дне – какой смысл улучшать материальную сторону, если внутри тебя всё погибает? Скоро вернется с работы Валера. У нас нет штампа, он моложе меня, и я не знаю, почему выбрала этого мужчину. Хотя нет, не выбрала.
Я тогда вырвалась на свободу. Это была моя первая поездка за границу, в Финляндию, и я наслаждалась тем, что я одна, что никто не претендует на моё время, на моё внимание, на меня саму. Но рядом оказался мужчина, который ненавязчиво, очень тактично за мной ухаживал. Мне это было не нужно, но не раздражало. Приятно все-таки сознавать, что нравишься, но тебя это ни к чему не обязывает, и никто от тебя ничего не требует. Финляндия, спокойная, пастельная страна, чистая, заботливо ухоженная, медленно текущая, со своим скандинавским привкусом тоже не претендующая на внимание, дарует комфортное состояние уюта, комфорта, безопасности.
Телефон.
– Нина, у меня сегодня пораньше закончились занятия, хочу напроситься к тебе в гости ненадолго, у меня час времени.
– Хорошо, конечно, заезжай. – Люда как-то замялась, казалось, слова запутались у неё в горле и не знают, как выйти.
– Извини, я хотела бы зайти ни одна, с аспирантом.
– Хорошо, заходи с аспирантом. Что мычишь, сразу сказать не можешь?
Теперь она стала откашливаться.
– Слушай, это не простой аспирант. – И опять пауза.
– Черт тебя подери, Люда, да ты можешь нормально разговаривать!
Наконец она выдохнула.
– Нина, он негр.
И замолчала. Видимо, мне полагалось упасть в обморок.
– Ну и что? Негр и негр, я за интернационал. Ты едешь или нет? У меня творческий день, а я тут у плиты задержалась, а у меня показ скоро.
Теперь ей приспичило меня успокаивать.
– Ты не подумай, он интересный человек, из хорошей семьи, образованный…
– Ты издеваешься надо мной? – прервала я ее блеяние. – Еще биографию его расскажи! Всё, я пошла готовить, до встречи, пока.
Спустя полчаса они явились. Интересный негр, достаточно высокий, стройный, обнажал в улыбке белые зубы. Видно было, что нормальный, воспитанный человек.
Предложила кофе, подала тосты, нарезала сыр, положила в розетки своё фирменное варение из апельсиновых корок, присела с ними за стол. Беседа не клеилась. Люда сидела рядом со своим аспирантом и перелистывала лежавший на коленях конспект. Аспирант тоже смотрел в конспект, особенно внимательно, когда Люда перекладывала одну ногу на другую. Я вышла из комнаты. Суп варился, картошка жарилась, пухлые котлетки ждали своей очереди занять место на сковороде.
– Нина, почему ты ушла! Я одна с ним оставаться стесняюсь.
Какую пропасть, подумала я, создают комплексы между желаниями людей и их поступками.
– Мне есть, чем заняться, и вам тоже есть, что обсудить. Кстати, он с трудом отрывает глаза от твоих ног.
Похоже, она этому удивилась и явно обрадовалась.
– Правда? Ты смеёшься! У нас чисто деловые отношения, я ни о чём таком и не думала.
Какие наши русские женщины затюканные. Любой иностранец для них сказочный принц и по определению не способен обратить на них внимание – исключительно деловые и товарищеские отношения.
– Скажи, когда ты последний раз спала с мужем?
– Не помню, его это не интересует, или я не интересую. Нин, ты же не думаешь, что я собралась с этим молодым человеком спать!
Не вопрос, не утверждение – сомнение. Точнее, боязнь признаться себе в нормальном человеческом желании.
– Не знаю, о чем ты думаешь, но он-то явно не против, в отличие от твоего мужа. Ему интересно и тебе, похоже, тоже.
Она машинально проверила пуговки на блузке, пальцы, как расческа пробежали по волосам.
– Ладно, пойду к нему. Допьём кофе и поедем. Ты меня всю растревожила, сама не понимаю, что делаю.
Она чмокнула меня в щеку и упорхнула в комнату. Заверещал телефон.
– Привет, у тебя есть секундочка?
Так, ещё одна задавленная бытом женщина.
– Привет, тоже хочешь в гости?
– Нет, а к тебе кто-то уже напросился?
Слышу, как в прихожей одеваются, не отрывая трубки от уха, иду провожать. Вижу, как аспирант помогает Людке надеть пальто, прижимая её спиной к себе, и как она переживает эти прикосновения. Машу рукой на прощание. В это время не дождавшаяся ответа Галя пытается угадать, кто же ко мне нагрянул. Отвечаю:
– Люда забегала, уже ушла. Как твое посещение салона причесок?
Еще одна с глубоким придыханием.
– Не знаю, почти два часа там провела, до сих пор не могу успокоиться.
– Ладно уж, рассказывай. Ты хоть нормальную блузку в этот раз надела? Или он опять должен был догадываться, какая у тебя потрясающая грудь.
Я рассмеялась, чем в очередной ее раз смутила.
– Ты меня заставляешь краснеть. Мало того, что от него ухожу чуть живая, так и ты ещё.
Почему мужчины так часто забывают, что они живут не с жёнами, а с женщинами? И женщины так часто сами забывают, кто они такие, пока какой-то мужчина не обратит на них внимание. Только тогда у них открываются глаза, и то с большим трудом.
– Вот ты вся скукожилась, зачехлилась, как старушенция какая-то – и то нормальный мужик тебя разглядел. Хорошо, хоть немного твой гардероб изменили, глядишь, человека из тебя сделаем.
Звонок в дверь, иду с трубкой. У Валеры есть ключи, но ему приятно, когда я его встречаю. Открываю дверь, он обнимает меня. Юра часто меня душил в объятиях, а тут нежность. За ней тоже прячется желание, но желание терпеливое, оно оставляет мне право выбора, дает возможность проявить себя, быть услышанной. Прощаюсь с Галей, обещаю перезвонить, а другим ухом уже слышу:
– Нас Вадим пригласил сходить на катамаране. Собирайся и поедем.
Я напрягаюсь – мне почудился легкий запах алкоголя в воздухе.
– Вы сегодня опять что-то отмечали?
Валера улыбается – ему идет эта широкая, открытая улыбка. Глаза при этом немного щурятся, лучатся добротой и хорошим настроением.
– Нинчик, правда, у нас нет времени! Мчался с работы, ничего не ел целый день, выпил чашку кофе с коньяком – вот и всё. Давай скорее, собирайся и поедем.
Не могу с собой бороться. Не понимаю, не могу принять эту радость от алкоголя, это хмельное веселье. Ведь для достижения такого состояния вовсе не обязательно пить! Как странно всё устроено: Юра вообще не мог пить, и меня от него воротило, а теперь я встретила мужчину, который пьет с удовольствием, и я с тем же удовольствием с ним сплю.
– Нет, сначала пообедаем, уже всё готово, потом можем ехать. Предупредил бы заранее, я бы не готовила.
Мы быстро поели и выехали. Машины у него нет, едем на общественном транспорте, мне это непривычно. У нас с Юрой был автомобиль, и я даже училась водить. Как-то раз поздно заметила знак «ремонт дороги», и кучи щебня оказались прямо передо мной. Я не знала, что делать, но руль держала крепко, и мы запрыгали по этим кучам. Мне было весело, а Юра матерился – даже не думала, что он так умеет. Лучше бы советом помог, чем эмоции выплескивать!
Яхтклуб находится на берегу Финского залива. Многие яхты вытащены на берег, заботливые хозяева старательно драят им бока и днище, освобождая от последствий длительного пребывания в воде. Вадим встречает нас, стоя на сетке своего катамарана. Недалеко от него расположилась Валентина, моя подруга детства, я их и познакомила. Валька уже надела спасательный жилет и кокетливо приветствует нас легким покачиванием ладони. Катамаран представляет собой два огромных поплавка с натянутой между ними сеткой. Условия довольно спартанские, но они компенсируются, захватывающими ощущениями скорости. Валера, как честный матрос, по указанию Вадима то тянет, то отпускает шкоты, вяжет какие-то узлы. Поднялся ветер, и мы несемся на одном поплавке, а Валера висит на канате, опираясь на край катамарана над водой – создает противовес.
– Нинка, они нас так угробят! Лично я ничего не знаю, у меня, во-первых, трое детей, а во-вторых, я страшно хочу писать, поэтому быстро объясни мне, как это здесь делается.
Я вспоминаю, как мама мне предлагала решать свои проблемы в кинотеатре, и понимаю, что этот опыт здесь пригодится. Других вариантов нет, если не рассматривать купание, но вода холодная, поэтому не годится. Передвигаться на такой скорости по сетке невозможно. Машу мужикам, они постепенно сбрасывают скорость, и вот уже оба поплавка на воде, парус опадает и ветер гонит по нему легкие волны – судно легло в дрейф. Мужчины остались у руля и отвернулись, а мы перебрались на противоположный конец и, с трудом удерживая равновесие, пописали через сетку. Валька всё причитала, что это полное безобразие, что для неё это стресс, а я возражала, мол, да, не очень удобно, но какое чувство свободы, простора, бесконечной глади воды. Было прохладно. Вадим предложил выпить горячего кофе из термоса, Валя достала домашние пирожки, и стало теплее. Опять поднялся ветер, разгоняя волну. Катамаран набрал скорость, и мы буквально заскакали по гребням. Как я люблю скорость! Просто пьяная делаюсь. Папа любил быстрых лошадей, умел верхом на коне запрыгнуть в вагон идущего поезда, и это его забавляло. А меня забавляют наши прыжки по волнам, хотя мне прекрасно известно, что суденышко может перевернуться. Но зачем об этом думать, когда летишь?
Мы достаточно быстро вернулись. Катамаран мягко причалил, Валера быстро привязал швартовый конец к мощной улитке, и наш конь занял своё место в «марине» – так называется парковка для маломерных судов. Аккуратно подвести к пирсу такое громоздкое судно, особенно, учитывая, что на нем нет двигателя, – отдельное искусство, но Вадим уже давно капитанит и побеждал во многих гонках. Это сразу чувствуется по его спокойной уверенности.
Валя прижалась ко мне и зашептала на ухо (я это ненавижу, чисто бабьи штучки):
– Ты не против, если мы поедем к вам в гости? Я договорилась, дети побудут у сестры, Вадик тоже может.
И что тут такого секретного, чтобы шептаться? Я ей когда-нибудь отказывала? Мой дом всегда нараспашку – проще самой уйти.
– Обед у меня готов, голодными не останетесь.
Она отчалила от меня и принялась тем же манером доносить результаты переговоров Вадиму.
Приехали, накрыли стол. Мужчины, я не заметила, когда, раздобыли выпивку. Валера часто приносит с работы ароматные коньяки, в этот раз выпал «Наполеон». Говорят, Наполеон за неделю до свидания не разрешал своей Жозефине мыться, и она его считала пылким любовником. Необычный аромат этого коньяка чем-то напоминает историю их любви. Валера тоже невысокого роста, а я всегда считала, что у меня будет гренадер-брюнет. Юра был каланча, но волосы у него на голове не задерживались, а Валера совсем не высокий и шатен.
Валя села напротив меня, где до ее сидела Людка, а Вадим на место аспиранта. Конспекта у Вальки на коленях нет, а сами коленки прикрывает юбка, да и Вадим не пялится на её ноги, а спокойно рассуждает о предстоящих гонках. При этом одна рука спокойно лежит на Валентины на колене, и эта егоза беспокойно ёрзает, хихикает и пытается меня вовлечь в беседу:
– Нинка, помнишь, как мы с тобой бегали на свидания, а Дора нас сразу вычисляла? От неё ничего не скрыть было.
Мама нас чуяла за километр. При этом я вообще не пользовалась косметикой и не переодевалась на свидания – не во что было, хотя все считали меня модницей. Валька же была моей полной противоположностью – и одевалась хорошо, и духами умела пользоваться, но так получалось, что все парни увивались за мной. Однако подружки у меня, как на подбор, и нельзя сказать, что это я ходила на свидания – вокруг меня были очаровательные девчонки, и с нами дружили хорошие парни.
– У нас была прекрасная компания. После войны времена жилось непросто, но нам было весело. Мы гуляли, танцевали, хотя свиданиями это назвать сложно.
– Потом ты встретила Юру и выскочила замуж, чего никто не ожидал, и прекрасная пора закончилась, все стали жить своей жизнью.
Не к месту ляпнула, но всем весело, и никто не придал значение сказанному.
Это действительно получилось неожиданно. Я ни с кем особенно не встречалась и, можно сказать, ни с кем не целовалась, а всем казалось, что у меня табун поклонников.
Опять телефон.
– Нина, спустили новый план, а нам ещё надо двадцать моделей сделать к показу.
Это какой-то парадокс! Как можно планировать столько моделей, если они никому не нужны? Все сидят с журналами и меняют бантик на шарфик. Сколько это будет продолжаться? Кому такое приходит в голову?
– Клава, я поняла. Мне уже хочется их всех послать куда подальше. Сейчас даже об этом не буду, давай завтра.
Но она уже завелась и костерила всех в хвост и в гриву. Я дала ей спустить пар и пожелала спокойной ночи. Действительно уже поздно, завтра на работу. Похоже, это заметил и Вадим и намекнул Валентине. Вот они уже одеваются. Он помогает ей надеть пальто, она игриво не попадает рукой в рукав и возмущается, что это он балуется. А он видит, что она с ним кокетничает, и с радостью принимает игру. Да, вся жизнь театр. Наконец они прощаются и уходят.
Ложимся спать. После свежего морского воздуха и коньяка голова слегка кружится, но напряжение не отпускает, потому что когда Валера начал меня целовать, я опять почувствовала сильный запах алкоголя, и хотя наша близость приносит мне удовольствие, проклятая голова не дает мне расслабиться.
– Давай спать, мне завтра вставать рано, не высплюсь. Звонила Клава, опять предстоит аврал.
Поворачиваюсь к нему спиной. Как с собой справиться? Мне тридцать шесть лет, а я по-прежнему бросаюсь на амбразуру, борюсь с тем, что не могу принять.
83
«Почему бы не познакомиться с хорошими девушками?» – решили мы с Михаилом. Постановили, что для этого следует идти в театр, и не в какой-нибудь, а в Мариинский, на балет. Потому что ездить по Невскому и смотреть на красивых девушек, конечно, весело, но к желаемому результату явно не приводит.
Но просто так идти в театр тоже было бы не верно, и мы решили подготовиться основательно, для чего позвонили ещё одному нашему другу, Сергею. Серега работал водителем, и в его распоряжении периодически оказывалась правительственная «чайка». План состоял в следующем: в театр мы добираемся своим ходом, а вот к концу спектакля Сергей подъезжает к парадному входу, мы усаживаем девушек в автомобиль и везем на экскурсию по нашему прекрасному городу, а дальше, как получится. После развода я остался и без машины и без жилья, мне разрешили забрать только диплом кандидата наук. Первым семью покинул Виктор Иванович – у него не выдержал организм, и он рано ушёл из жизни, а вторым я; когда Арина, по настоятельной рекомендации Ларисы Васильевны, решила на год уехать на стажировку, я понял, что мне, видимо, тоже пора отчаливать. Если женщина, прожившая с тобой много лет, по каким-то причинам не смогла стать женщиной и помочь тебе стать мужчиной, способным пробудить в ней женщину… Очень не хотелось повторять путь Нины с Юрой, но, видимо, чем меньше хочешь, тем больше тебя затягивает в эту воронку. И если задуматься над причинами, то замечаешь, как многое повторяется: вроде всё иначе, но причины в основании своём схожи и растут из глубины.
Надели костюмы, Михаил даже галстук повязал, я же отделался шарфом. Мне теперь хотелось во всём вернуть себе свободу и всё поменять. Не потому, что всё было плохо, а ради получения нового опыта. Я угробил уйму времени на написание и защиту диссертации, с удовольствием преподавал студентам, но государство не собиралось решать мои бытовые проблемы, а надо было где-то жить, на чём-то ездить, во что-то одеваться, а оставшиеся у меня корочки дипломов сами по себе ничего решить не могли. Поэтому я сменил институт на бизнес, а до этого семью на свободу. Сначала отрастил бороду, чтобы выглядеть старше среди немолодых преподавателей, теперь сбрил, чтобы не выделяться среди окружавших меня ровесников.
«Баядерка» один из моих любимых балетов, в нем есть что-то мистическое. Не знаю, какой смысл Петипа вкладывал в количество танцовщиц в белых туниках, исполняющих танец теней, но их тридцать две, а на премьере в петербургском Императорском театре было и вовсе шестьдесят четыре. Это магические числа, и идут они от Пифагора, от его квадрата, от его представления о роли чисел. В восточных практиках, которыми я сейчас занимаюсь в поисках ответов на вопросы, так и не полученных в бесконечных метаниях ума, значимое число сто восемь, и оно тоже делится на четыре, и все они содержатся в магическом квадрате. Возможно, Пифагору просто позволили его открыть, а сам квадрат существовал задолго до этого, как и всё в этой вселенной.
Подсчет танцовщиц не помешал мне снова насладиться балетом. Лариса Васильевна часто выводила нас в свет, и мы сидели в директорской ложе. Смотреть на сцену сбоку и так близко не очень удобно, но разглядывать зал, наблюдать за его реакцией самое то. К тому же, сидя буквально на сцене, чувствуешь, что балет это не только видимая легкость, но и огромное напряжение и труд, все шероховатости видны, как на ладони. Закончилось первое действие, начался самый ответственный этап нашего похода. Мы продефилировали по фойе, увешанному фотографиями из различных спектаклей, и устремились в буфет. Там уже собралось много людей, некоторые, как и мы, при параде, другие в повседневной одежде, но искусство и выпивка всех уравнивают. Подходят две девушки, смотрят на витрину с пирожными и бутербродами, смотрят на очередь, и по их лицам понятно, что они не против чего-нибудь из этого отведать, но сомневаются, что успеют до конца антракта. За нами уже тоже выстроился хвост, но Михаил, недолго думая, предлагает им встать перед нами, показывая на меня как ориентир до достижения цели. Барышни соглашаются, и вскоре мы садимся за столик, празднично украсив его бутербродами с красной икрой, конфетами и шампанским. Новые знакомые сначала отказывались, но сдались – действительно, не пропадать же добру.
– Извините, мы не представились. Я Михаил, а рядом со мной Владимир. – Миша всегда очень разговорчив, и для него нет барьеров – в отличие от меня, мне всегда неудобно подойти к девушке, неудобно заговорить. Страшно, что откажет, посмотрит презрительно. Хотя и не припомню таких примеров, вроде все соглашались и не отказывали и даже не понимали, почему я не делаю шагов навстречу. Видимо, это мамины гены, она ни с кем не знакомилась и неохотна шла на контакт с противоположным полом. Но я же мужчина, почему я повторяю её манеру поведения? Может, потому, что мало времени жил с отцом, и даже тогда он больше был занят мамой, попытками сохранить их брак, нежели моим воспитанием. Вот я и закрыт, как в ракушке, но стоит преодолеть этот барьер, сразу оказываюсь интересным собеседником.
– Я Маша, – откликнулась девушка, которая мне сразу понравилась. Высокая, стройная, правильные черты лица, приятный голос и мягкие манеры.
– А я Вера. Мы подруги, вместе учились.
Как это часто бывает, одна красотка, другая так себе. Но Вера говорила, она преображалась. Чувствовалось, что она добрая и заботливая. Не знаю, насколько это важно Мише, он уже понял, что я свой выбор сделал. К тому же Маша не отличалась пышностью форм, а для него это важный аспект, в этом плане Вера больше соответствовала его вкусам. Мы обменялись ещё несколькими незначащими фразами, прозвенел третий звонок, и мы разошлись по своим местам, условившись встретиться по окончании спектакля. Как только мы остались одни, Миша спросил:
– Ты собираешься провожать Машу? Я относительно Веры не очень настроен.
Сразу чувствуется, пробежала искра или нет, есть притяжение, или нет. Он абсолютно спокоен, значит, мимо.
– За нами же Серега приедет, мы собирались вместе. – В моем ответе повисло недоумение.
– Маша, мне кажется, тебе подходит. Поэтому поезжай, а я доберусь на общественном транспорте.
Понимаю, что он капризничает. Машу проводить весьма желательно, но и друга бросать не хочется. Еще потому будет дуться на меня. Поэтому предлагаю альтернативный план:
– Давай развезем барышень, если они согласятся, и потом поедем ко мне, возьмем чего-нибудь для настроения и Серегу с собой позовем. Раз не получается повеселиться с девушками, устроим мальчишник. По Мишкиным глазам сразу вижу, что это предложение ему по вкусу. Досмотрели спектакль, меня уже мучили привычные сомнения, даст ли мне Маша свой номер телефона. В таком настроении мы дождались девушек в фойе.
– Маша, если не возражаете, мы готовы подвезти вас домой.
Вера взяла инициативу на себя:
– Спасибо, нам близко, пешком дойдём.
Она поняла, что не заинтересовала Мишу и что меня заинтересовала Маша. Не знаю, заинтересовал кто её саму, но она, как и я, предпочла остаться с подругой. Последняя попытка:
– Маша, было очень приятно познакомиться. Напиши мне свой телефон, если конечно, не возражаешь.
Я протянул ей программку, она достала из сумочки ручку (я-то на нервной почве не догадался), написала свой номер и улыбнулась:
– Мне тоже было очень приятно.
Кажется, ей действительно приятно. Надеюсь, мы встретились не для того, чтобы проститься. Мы вышли на улицу, прямо перед дверьми блестела полированными черными боками «чайка». Уже стемнело, и её раскосые фары подчеркивали оригинальность дизайна и представительский класс автомобиля. У приоткрытой задней двери с ехидной улыбкой стоял Сергей. Возникла неловкая пауза. Затем Миша гордо и независимо забрался в машину, а Вера взяла Машу за руку и улыбнулась мне на прощание. Маша посмотрела на меня, тоже улыбнулась, и они затерялись в толпе выходящих из театра зрителей. Я поблагодарил Сергея и следом за Мишкой плюхнулся на бескрайнее заднее сиденье.
– Я так старался, заранее приехал, надраил машину, занял место у самого выхода, чтобы вам не искать, а вы все усилия коту под хвост! Вечно с вами свяжешься, и деньги на ветер, – весело ворчал Сергей, вольготно расположившись на водительском сиденье.
– Да к черту этих баб, сами гораздо веселее проведём время! С Вовкой всегда так – то ему неудобно, то не нравится. Лучше заедем в магазин да к нему на квартиру завалимся. Я хоть напряжение сниму, а то для меня перебор: вместо футбола затащил меня на балет и ещё хотел с какой-то кикиморой познакомить, а сам себе-то приличную выбрал. В общем, ты понял, Серега, как я отлично провел время.
Мишка с удовольствием высказывался, развалившись на сидении и закурив сигарету.
– Да, Мишка, ты попал. Вовка известный аферист. Ты, я так понимаю, всё подготовил, завёл знакомство, а ему все сливки? – Сергей тоже с удовольствием принимал участие в беседе, ему явно понравилась идея завершения вечера.
– Сливок негусто нацедили. Ты же понимаешь, было б за что побороться, я дал разгуляться своему обаянию. А тут обе мимо: одна не мой случай, а вторая вообще не разговор. Думаю, лучше я с Серегой выпью и горе своё залью, чем так маяться.
Слово за слово мы и до дома моего доехали, даже в магазин не пришлось заскакивать. У Сереги в машине имелся джентльменский набор, а насчет сготовить поесть он и сам большой специалист. Прекрасно посидели, выпили всё, что было, и завалились втроём на мою огромную кровать, объединившую две тахты. Михаил рассказывал о своих любовных похождениях и периодически щекотал Сергея. Тот так вертелся, что в итоге две тахты разъехались, и он рухнул между ними на пол. Трое взрослых мужиков ржали до икоты. Хотели познакомиться с хорошими девушками, а теперь сами хороши, и ничего не надо. А завтра всё сначала.
84
Мы выбираем себе родителей, но при этом их трудно принять такими, какие они есть. Они хотят нас вырастить согласно своим представлениям о правильности, нам же их представления кажутся неверными, устаревшими, вот мы и изводим друг друга. Мы отлично видим их ошибки и всеми силами стремимся их избежать. Но чем меньше мы стараемся походить на родителей, тем с большим изумлением обнаруживаем, наблюдая за собственной жизнью, что всё повторяется почти дословно. А ведь так хорошо всё начиналось, почему же так грустно закончилось? И страшно не хочется, чтобы наши собственные дети спотыкались на тех же местах. Но где это произошло? Почему наша жизнь покатилась по родительскому пути с незначительными изменениями? Почему эта колея оказалось настолько глубокой, что наши суперсовременные транспортные средства не сумели из нее вылезти?
Мы сами себе таких родителей выбрали, потому что нашим душам требовались именно такие испытания. Вот мы их и получили, но чтобы выбраться из колеи, сначала надо её принять. Как-то я предложил маме отпустить гнев, она категорически заявила, что уж этого-то у нее точно нет. Я попробовал ещё раз:
– Возможно, у тебя есть невостребованный гнев.
Она, уже будучи достаточно раздражена, спросила:
– Это ещё что такое?
По интонации было понятно, что ответ ее не очень интересует, ведь дети в принципе не могут быть духовными учителями для родителей, но я попробовал объяснить:
– В твоей жизни наверняка было достаточно ситуаций, когда разговор, например, с бывшим мужем, выводил тебя из себя, и ты готова была взорваться, но считала ниже своего достоинства изливать свои эмоции на собеседника, не сдерживая себя ни в форме, ни в содержании сказанного.
Мама глубоко вздохнула и заговорила, как всегда аккуратно выстраивая слова друг за другом:
– Достаточно того, что он позволял себе истерично орать. Я никогда до такого не опускалась.
Мне в ее словах почудилось согласие со мной в отношении гнева, и я поднажал:
– Но ведь эти эмоции ты заперла в себе, а эмоции – это энергия. Не нашедший в свое время выхода гнев никуда не делся. Он заперт внутри тебя, и не лежит там спокойно, а медленно разрушает тебя, ты согласна с этим?
Мама, не задумываясь, ответила:
– Какой гнев, с чего ты взял? Я всегда питала к нему самые добрые чувства. Просто он не мой человек, вот и всё.
Я не отступал:
– А как же твой невроз? Ты из-за него даже несколько раз в клинике лежала. Разве он не является следствием тяжелых переживаний, стрессов, с которыми ты уже сама не в состоянии была справляться.
Мама подчеркнуто внимательно уставилась в очередной кроссворд и, не поднимая на меня глаз, заметила:
– Какой смысл во всём этом копаться? Я ни о чём не жалею. Для меня всегда была важна свобода. Я ни обид, ни зла не держу, желаю только всего хорошего.
Я понял, что эти мне барьеры не одолеть. Страсть к свободе, воспитанная с ранних лет самостоятельность и сильный характер вылились в непростую дорогу, где было мало смирения и много борьбы. Бесконечный максимализм, возможно, подхваченный в эпоху революции её отцом, а то и зародившийся у него еще раньше, когда ее дед выставил маленького мальчика на мороз и тот потерял возможность ходить. И как выбраться из этой колеи, не видя её, не приняв ее как факт, не признав собственный выбор через это пройти? Наверное, в прошлый раз не удалось, наверное, не хватило любви, чтобы наполнить лампу светом этого чувства, и не к кому-нибудь, а к самому себе, и окинуть взглядом иные дороги и почувствовать, какая из них близка, на какой ждет радость. Не из гордыни, а потому, что любовь и жизнь неразделимы, одна из них дорога, а вторая проводник. Душу надо слушать, чтобы увидеть первую, и почувствовать вторую, а сбившись, не корить себя, а принять, обнять с любовью и идти дальше. Ведь уходя, с собой можно забрать лишь бесценный опыт, обретенный душой на Земле…
85
Набережная курортного города. Весело перебивая друг друга, обсуждаем первый проведенный здесь день и ночь накануне. Пятеро мужчин, часть женатые, часть холостые, вырвались на свободу, огляделись по сторонам и обнаружили много красивых женщин, демонстрирующих одновременно интерес и холодную недоступность. В итоге мы решили, что лучше всего накрыть стол в номере и просто расслабиться, предварительно искупавшись в море, а затем в бассейне. Там мы ловили русалок, но в результате натыкались друг на друга и в меру нереализованных сил старались утопить товарища. Особенно хорошо это удавалось, когда нас учили погружаться с аквалангом на дно бассейна: незаметно подплываешь и перекрываешь вентиль доступа воздуха, а остальные смотрят, как у аквалангиста округляются глаза, а потом спасаются от возмездия. Около трёх часов ночи в дверь постучали. Юра, мой сосед по номеру, предложить всем убавить громкость и пошёл открывать. Вернулся с двумя милиционерами, те осмотрели нашу компанию, но пьяных не обнаружили, да и выглядели мы все прилично.
Один из милиционеров, видимо, старший, спросил:
– Когда куролесить закончите? Соседи жалуются.
К этому времени многие уже охрипли от хохота. Самого мелкого из нас, как по росту, так и по весу, Аркадия, всё время посылали в соседний номер за очередной дозой алкоголя. Он же, кстати, стал первой жертвой кислородного голодания. В последние разы его брали за руки и ноги и несли, потому что от смеха он уже не мог ходить и полз на карачках по коридору, не в силах попасть в нужный номер. При этом все выглядели крайне миролюбиво и доброжелательно.
Юра, широко улыбаясь, широким жестом обвел всех сидящих и, одновременно освободив два стула, мягко ответил:
– Товарищ сержант, просто мы только что приехали. Вот расселись и не можем успокоиться. Тут такое происходит, поверьте, даже не знаю, как вам сказать. Да вы присаживайтесь, мы вас надолго не задержим. Мы же тут ничего особенного не делаем, просто общаемся. Правда, садитесь, хоть немного посидите с нами.
В это время кто-то из ребят налил водки в рюмки и придвинул их милиционерам. Те нехотя сели, торопиться им было, видимо, некуда, но пить не стали. Юра, от рождения лишенный тормозов, тут же включил своё обаяние и талант рассказчика и начал свою историю:
– Нет, правда, вы только представьте, приехал с друзьями на отдых, и меня поселили в номере с другом моего друга. Ну, я, естественно захожу в комнату, ставлю сумку, оборачиваюсь, протягиваю руку и говорю: «Юра». Это же нормально, скажите мне?
Милиционеры пожали плечами, показывая, что не видят ничего необычного, а один, потолще другого, снял фуражку. В номере было действительно душно и накурено. Юра, дождавшись их реакции, продолжал:
– Вот и я так думаю. Стою с протянутой рукой и ничего не подозреваю, а этот, который друг моего друга, тоже ставит сумку на пол, расстегивает ширинку, и говорит: «Володя». Нет, вы представляете моё состояние?!
Теперь милиционеры с изумлением уставились на него и явно стали взглядом искать среди нас Володю. Юра, уловив их замешательство и добавив пафоса, погнал дальше:
– Уж не буду Вам рассказывать, что я увидел, но инстинкт самосохранения сработал, и я, сам не знаю, как, перепрыгнул через кровать и пытался выскочить из номера. Вот какой стресс я испытал в самом начале отдыха! Давайте выпьем, уж такого натерпелся!
Юра поднял свою рюмку. Милиционеры уже меньше походили на стражей порядка. От жары и рассказа они разрумянились, общая атмосфера раскованности и аппетитная закуска на столе тоже сделали своё дело. Старший откликнулся:
– А, чёрт с тобой, давай по одной.
Напарник тоже согласился, и мы дружно выпили.
– Ты лучше сразу скажи, ты нас разыгрываешь, или как?
После совместной выпивки напряжение спало. Юра протянул к нему руки и, доверительно понизив голос, сказал:
– Видишь цемент под ногтями? Дрался как лев, до последнего, сам понимаешь. Можешь пойти посмотреть к нам в комнату, там прямо следы на стенах. Но всё-таки отбился, а вот нашему мелкому не повезло, – и он указал на Аркадия, который полулежал, из последних сил сдерживая хохот. – Попался под горячую руку, теперь купаться не может. Только окажется в воде, сразу как аквариум.
Милиционер посмотрел на Аркадия, потом на Юру, и недоверчиво уточнил:
– Что значит, как аквариум?
Юра, недолго думая, ответил:
– Ну, как? Понятно, как: потому что рыбки в него заплывают.
Тут милиционер неприлично заржал и переспросил, глядя на Аркадия:
– Правда что ли, живые рыбки?
Теперь уже грохнули все. Милиционеры с нами ещё с полчаса просидели и всё просили потише, а то неудобно: другой наряд придёт, а они тут веселятся.
Вспоминая ночное веселье, дошли до гостиничного ресторана. При входе стояли две женщины, одна из них остановила Юру и попросила его снять пляжные шорты, мол, в шортах в ресторан нельзя. Естественно, Юра тут же потянул шорты вниз, а вторая женщина закричала на первую:
– Ты что, не видишь? Разве можно ему такое говорить? Он ведь прямо здесь и снимет, и ещё скажет, что ты велела.
Юра пожал плечами, показывая, что так оно и будет, а мы загородили его от дам, и быстро просочились в ресторан. В это время мимо нас прошла высокая блондинка в обтягивающих велосипедных шортах, ведя за руку очаровательного малыша, который упорно вырывался. Данное явление не осталось не замеченным. Яшка, мой друг ещё с армейских времен, толкнул меня в бок:
– Вова, точно твой вариант: высокая, худая и наверняка сука.
Мы сели за столик. Ужин оказался превосходным, все с удовольствием набросились на еду. При этом смех и постоянные реплики создавали вокруг нашего стала ощущение гудящего улья. Мама с ребенком сидели за соседним столом. Она обратила на нас внимание, мы случайно встретились глазами, и что-то меня зацепило: то ли длинные ноги, то ли обтягивающие шорты, то ли взгляд, не заинтересованным, но и не пустой, не теплый, но и не холодный. Вроде не было в нём ничего особенного, но я захотел с ней познакомиться.
Яков, поймав мой взгляд, зашептал мне на ухо:
– Зачем тебе этот геморрой? У тебя есть Маша, хорошая девушка, а тут и ребёнок, и вообще, судя по внешнему виду, приключений не оберёшься.
Яшка мой друг, он беспокоится за меня, ему не безразлична моя жизнь, но он очень практичен. Когда я уже развелся, а он еще состоял в браке, мы часто гуляли с ним по берегу Финского залива. Я отстаивал позицию, что надо жить с женщиной, которую любишь, а он твердил, что дом это тыл, и что для него дом там, где стоят его тапочки, и что для эмоций всегда можно найти кого-то, а когда влюбляешься, находишь только приключения на свою голову. После армии мы часами сидели в микроавтобусе и продавали проездные карточки, это был его дополнительный заработок, слушали музыку и говорили на всевозможные темы. Моя жена ревновала меня ко времени, которое мы проводили вместе. Дружба конкурирует с любовью, и тогда-то и выясняется, какого волка ты кормишь лучше и умеешь ли находить равновесие.
Относительно Маши Яшка прав. Светлая, хорошая девушка, я стал её первым мужчиной и чувствовал, что она увлечена мной, наверное даже любит. Вопрос в том, чего не хватает мне, может, огня, которым пылала Дора, которым искрится Нина. Ищешь всегда то, чего не хватает. Можно назвать это индивидуальностью, можно сексуальностью. Да, в этой женщине точно есть нечто притягательное. Я не знаю, зачем я пришёл и кто мне нужен, что должна мне принести эта женщина. Вероятно, совсем не то, что я в ней увидел и что показалось важным.
Она встает из-за стола, берет за руку сына и идёт к выходу. А вдруг я больше никогда её не увижу! Встаю, догоняю у лифта, двери открываются, вместе входим. Как всегда проблема, что сказать, но времени нет, спрашиваю, первое, что приходит в голову:
– Кажется, мы вместе с вами прилетели?
Ни тени волнения от неожиданности моего обращения.
– Вы прилетели на две недели позже нас. Я отдыхаю здесь с сыном, мужем и тестем.
Конечно, я удивился, что она знает, когда мы появились здесь, но лифт скоро должен был добраться до ее этажа, и я спросил о том, что мне казалось важным:
– Когда вы улетаете?
– Через неделю, но пока не знаю, как это получится. Похоже, у нас не хватает денег на обратную дорогу.
Она продолжала говорить так же спокойно, придерживая сына, не способного ни минуты устоять на месте. Лифт остановился, они вышли. Я вышел следом, хотя это, наверное, было глупо, и сказал.
– Позвоните мне, если эта проблема не разрешится, буду рад вам помочь.
Я сунул ей визитку, даже забыв представиться и спросить её имя.
Они уже стали удаляться, когда она повернулась и уронила:
– Меня зовут Нана. Спасибо.
Они исчезли за поворотом коридора, и я наконец сообразил, что моё имя написано на визитке. Нашу шумную компанию я обнаружил уже в номере, все готовились к продолжению веселья.
– Сегодня дискотека, давай сходим, или ты уже подарил своё сердце замужней даме?
Яков улыбался, остальные, судя по накрытому столу, никуда не собирались. Юра предложил мне ни с кем не встречаться, потому что от проживания со мной в одном номере у него резко начался процесс омоложения, а если я ещё с кем-нибудь вступлю в контакт, то человек рискует впасть в детство. Все пребывали в отличном настроении и советовали нам обоим соблюдать осторожность.
Ни музыка, ни атмосфера на дискотеке танцам не располагали. Зато мы заметили двух девушек, которые тоже явно скучали. Яков представил нас обоих и предложил прогуляться. На улице действительно было гораздо приятнее, чем в зале. Пальмы вырванные из ночи подсветкой, дробили окружавшее отель пространство, звёзды поделили небо, а мы девушек. Яков уже обнял Свету за талию и предложил искупнуться в бассейне, мы с Надей поплелись за ними. Купальники не понадобились, обнаженные тела мелькнули и исчезли в воде.
– Мне что-то не хочется плавать, – заметила Надя и принялась увлеченно теребить сумочку.
Вспомнился Евтушенко: «В двадцать лет веселье, а в сорок лет похмелье и полна баня голых баб». Наверное, потому вспомнился, что проводившие с нами вечер дамы явно не радовали душу, а предназначались для тела. Это тоже хорошо, но когда сердце занято, прочее кажется ненужным, и начинаешь себя корить. Я смотрел на Надю, на её сумочку, видел ее растерянность без подруги и неспособность осознать, чего она хочет, то ли делает, так ли себя ведет. Вроде поправляет волосы и хочет нравиться, но не уверена в себе, сутулится. Подумалось, это не является ли она моим зеркалом. Мы стояли и молча разглядывали окрестности. В это время Яков вылез из воды, быстро оделся, подошёл ко мне и шепотом поинтересовался:
– Вы как тут, не теряли времени даром, надеюсь? Мы в бассейне решили все вопросы, и замечательно как-то всё случилось.
Он посмотрел на меня, потом на тоскливую Надю, всё понял и уже громко добавил:
– Не знаю, как вы, а я иду провожать Свету. Не будем вам мешать, и они исчезли, словно в воду канули.
– Надя, если не возражаете, прогуляемся к морю.
Она тряхнула головой, и мы медленно пошли на шум. По мере приближения, он менялся от мерного рокота до шороха перекатывающихся камней и грохота волн друг об друг. Раскатистый набег на берег, медленное осознание, что здесь владения моря заканчиваются, и спустя мгновение – новая попытка расширить границы. Так бесконечно море воюет с землей, размывая берег, тонкую грань временного перемирия.
Ветер с моря принес прохладу и обнажил одиночество. Нас двое, но каждый сам по себе. Я почувствовал, что она ежится от прикосновений влажного воздуха, подошел ближе, обнял, прижал спиной к себе. В месте соприкосновения возникло тепло. Тепло объединяет, перетекая из одного тела в другое. Мои ладони коснулись ее груди, она вздрогнула, но не противилась. Мои пальцы сжимали плотные холмики. Мы стояли, не двигаясь, Надя не отстранялась. Зачем это все? В голове крутились сказанные Наной слова, всего-то несколько фраз, но вместе с ними что-то вошло в меня. Эти размышления отдалили меня от спутницы, и я предложил вернуться в отель. Мы шли по слабо освещенным аллеям, она молчала. Интересно, о чём она думала? Подошли к лифту, но свет уже отключили, и пришлось подниматься по лестнице. Темно, хоть глаз выколи. Нащупал перила и осторожно ставлю ноги на ступеньки. Никого нет, глубокая ночь. Надя, видимо, не рассчитала, где заканчивается лестничная площадка, и отпрянула назад, бедра оказались у меня на коленях. Я поймал ее, и на этот раз разгоряченное тело обожгло меня. Поцеловал её шею, освободил грудь от лифчика, она прерывисто задышала и задрожала. Мы так и застряли на лестнице: она тихо постанывала и последнюю ноту на грифе эмоций держала, стиснув мне мизинец, и не отпускала, пока её тело плавно содрогалось. Наконец она повернулась ко мне.
– Проводи меня завтра, я уезжаю в восемь утра. Мы почти пришли, дальше я сама. – Поцеловала меня, поправила одежду и тихо испарилась.
Я вернулся к себе в номер. Народ попритих, на этот час весь боезапас был уже истрачен. Юра тихо посапывал, я тоже улегся, чтобы проводить Надю, придется рано встать. Скорее всего мы никогда больше не встретимся, но надо быть благодарным за проведенные вместе минуты и ей, и самой жизни. А может, и себе, что не дал воли сомнению. Никто не знает, что ждет завтра, а то, что было вчера – уже опыт, из которого это завтра и вырастет. Оно не обязательно окажется продолжением вчера, скорее, подарит новый опыт. Важно не каждый день открывать новое, а сама готовность к принятию нового, способность замечать то, что иначе ускользнуло бы и, возможно, пропало навсегда. Воспоминания перетекли в сон и растаяли вместе с размышлениями о смысле жизни.
Утро заявило о себе дребезжанием будильника. Вставать не хотелось, но я, кряхтя, вылез из-под одеяла, принял душ и оделся. Тело на соседней койке не подавало признаков жизни, и я тихо вышел из номера.
У стойки администратора толпились люди, но Нади среди них не было, я вышел на улицу. Она стояла у автобуса и заметно волновалась, видимо, уже жалела, что попросила её проводить. Мы улыбнулись друг другу. Так завершают курортный роман, короткий, без затяжной прелюдии и с мгновенным финалом. Она мяла в руках клочок бумаги. Люди струйкой потекли в автобус, Надя поцеловала меня.
– Мне было хорошо с тобой.
Она сунула листок мне в ладонь и затерялась в автобусе. На бумажке был написан номер телефона, я положил ее в задний карман джинсов, уже зная, что не позвоню. Надя это тоже понимала, но написала, потому что хотела. И это важно – несмотря ни на что проявлять свои желания. Это как говорить «люблю», не требуя ничего в ответ.
86
Двери автобуса открылись, и Георгий увидел входящего Ивана. Они давно не встречались. Иван выглядел растерянным и, заметив Георгия, удивился и обрадовался знакомому лицу. Георгий встал, мужчины обнялись и как бы растворились друг в друге, сели рядом. Народу в автобус набилось немало, но было тихо, каждый думал о своем.
– Иван, рад тебя видеть. Вроде бы уже долго еду, а когда выходить, не знаю. Скажут, наверное. Сам-то как?
Георгий смотрел на Ивана, перед внутренним взором мелькали картинки их встреч: лето, семейное застолье, полон дом людей, Елена с Дорой суетятся на кухне, а мужчины с удовольствием в пропускают по стопочке ледяной водки.
– Не знаю, что сказать. Всё остановилось. У меня же несколько инфарктов было, а сейчас все волнения ушли и эта боль в сердце тоже. Всё видится как-то со стороны и оттого по-другому. У тебя, помню, ноги отекали, ходить было трудно. – Иван говорил, а взгляд его то останавливался на Георгии, то искал что-то за окном автобуса.
– Да, у тебя хорошая память. Ноги подводили, это сердце не справлялось. Испытания на его долю выпали, бесследно-то они не проходят. Да и вес избыточный, говорили. Вот так и платим за всё здоровьем. Тебе-то стрессов выпал, наверное, столько, что не на одну жизнь хватило бы. – Говоря это, Георгий вспоминал, что когда-то они оказались по разные стороны баррикад: Иван сотрудник НКВД, а он заключенный. Но туго приходилось обоим, и у обоих пережитое сказалось на сердце.
Автобус остановился, все вышли. Никто ничего не объявил, и Иван с Георгием тоже покинули салон и двинулись по дороге пешком. Покрытие гладкое, все идут, как далеко идти, неизвестно. Наконец подошли к большим воротам. При входе спрашивают имя и говорят, куда идти. Лиц спрашивающих не видно – капюшоны, длинные плащи, головы склонены вниз. Ивана и Георгия направили в просторный зал с высокими сводчатыми потолками. Иван обратил внимание, что люди вокруг кажутся расплывчатыми и двигаются, как в замедленной съёмке. Посередине зала – три стула с высокими заостренными спинками, похожие на троны. На них сидят трое таких же, как и при входе у ворот, в плащах и капюшонах, но у этих капюшоны будто светящимся ореолом окружены. Все прочие толкутся вдоль стен, потом к человеку подходят и ведут на освободившееся место перед троицей в капюшонах. Те недолго с человеком беседуют, а после провожают к похожим на лифты шахтам. Георгий, как и Иван, следил за происходящим, сердце стиснула тревога. Всё, как тогда, в лагере: опять ведут, опять неопределенность, опять всё решают за него, причем опять трое – какой-то замкнутый круг.
– Иван, почему мы здесь и почему вместе? И что с нами будет? Я же священником был. Ты что думаешь? – Голос у Георгия дрожал.
– А и не рассказывал, что в попах ходил. Тут у нас ничего общего. Я-то атеист, с юных лет в партии. Честно служил, через мои руки проходили огромные ценности, но никогда не прикоснулся ни к чему государственному. В конце жизни понял, что многие, особенно в руководстве, все идеалы предали и думали только о себе. Тогда решил, что больше не хочу иметь к этому отношения, но и к другой вере тоже не пришёл. – Иван говорил спокойно. Он не нервничал, и вопросов у него не было. В его лихой судьбе были и несколько расстрелов, и доносы, потом инсульты и инфаркты – он своё отбоялся.
– Никому зла не желал и ничего худого не делал, но, Господи, конечно, грешен. Да, все на Земле грешны, как без этого? И жену любил, и изменял, потому что любил, но в ответ любви не получал. Но это, конечно, не оправдание. А ты Иван, Доре верен был? – Георгий смотрел на Ивана с надеждой, один грешник на другого.
– Изменял. У нас не было секретов. Жизнь долгая, всякое было, и она гуляла. Но всё прошли вместе, все испытания. – Казалось, происходящее Ивана совершенно не беспокоит.
– Вот видишь! А мне Елена не изменяла, вот и поделом мне. А что любви её не чувствовал, так это мне за мою слабость в вере, всё за жизнь цеплялся… – Он не успел договорить, к нему подошли и повели в центр зала.
Он побрел, что-то бормоча себе под нос, и сел на скамейку. Вот к нем обратились по имени, а глаза поднять страшно.
– Сын божий Георгий, сам все знаешь. Грехи твои энергии много потребовали, потому высоко подняться не удалось. Надо ждать нового воплощения, заслужить, переосмыслить. Там ты не помнил, что с тобой раньше было, а теперь все вернётся, с чем возродился, с чем вернулся. Пройдешь изоляцию и все этапы очищения. Не умел ценить женщину – готовься к следующему воплощению женском облике. Ступай.
Георгия переодели, плащ укрыл его, затем провели в шахту и поместили в капсулу, и та с огромной скоростью исчезла вместе с ним. Тогда-то он и понял, что его представление о себе было неверным, и что он может быть и мужчиной и женщиной, а кто на самом деле, не знает. Был песчинкой на Земле, а теперь неведомо, где, но тоже в чужой власти. На Земле могли убить, а здесь могут гораздо больше – здесь могут тебя создать заново, и что останется от тебя сегодняшнего? И что такое вообще ты? Мысли путались, и капсула его уносила в новую неизвестность.
– Сын божий Иван, ты же крещёный, а не веруешь. Быть тебе женщиной, но прежде много предстоит осмыслить душе твоей. Моли, чтобы на Земле тебя поминали, иначе нового воплощения тебе не получить. Ступай.
Ивана тоже переодели. Он принял происходящее, как все принимал в своей жизни. После долгих лет паралича снова научившись ходить, он понял, что Бог есть и даёт испытания, но дает и прощение. Однако по жизни всё хотел в своих руках держать, а не надеяться на кого-то. А жизнь-то, оказывается, совсем не тебе принадлежит, и понимай, как хочешь. Чего не понял, заставляют учить снова. А кто всё это придумал и создал, и кому все ведомо, Иван не знает. Его тоже поместили в капсулу, и он отправился в неведомый ему путь, надеясь повстречать Дору.
87
Владимир вернулся с друзьями домой и снова окунулся в бизнес, плавно вытеснивший научную карьеру. Офис его компании жил обычной жизнью, шли деловые переговоры. Не умещавшийся в ладони мобильный телефон пиликнул, в трубке раздался женский голос:
– Здравствуйте, мы с вами недавно познакомились на юге. Меня зовут Нана.
Он ждал этого звонка все три дня после возвращения. Яков на его тревоги, что она не появится, успокаивал:
– Современные девушки выдерживают три дня, а потом уже звонят.
Но Владимир сомневался. Та встреча не шла у него из головы. Он не мог объяснить, что именно тогда произошло, но внутри явно что-то перевернулось. Он справился с волнением и ответил:
– Да-да, конечно, я узнал вас, Нана. Рад вас слышать. А еще больше был бы рад увидеть. Вы в Ленинграде?
Она продиктовала ему свой домашний номер и предложила позвонить в начале следующей недели, чтобы договориться о встрече. Если трубку возьмёт муж, велела не разговаривать и перезвонить в другое время.
Владимир так и поступил. Едва дождался назначенного дня, набрал номер телефона – ответил мужской голос. От неожиданности он решил, что не туда попал, и извинился:
– Простите, видимо, я перепутал номер.
Мужской голос любезно спросил:
– А что вы хотели?
– Извините, Нана проживает по этому адресу? – брякнул Владимир и тут же вспомнил, что этого нельзя было делать.
Мужчина спокойно ответил:
– Да, но сейчас её нет дома. Что ей передать?
Трубку бросать было поздно.
– Наверное я всё-таки ошибся, извините.
Владимир повесил трубку. Как же глупо получилось! Он клял свою нервозность и на следующий раз готов был сразу бросить трубку, но ответил женский голос. Это была Нана. Он извинился за свою неудачную попытку, а она сказала, что так и поняла, что это звонил он. Договорились встретиться на следующий день на пляже у Петропавловки.
День выдался солнечный, даже жаркий. Прозрачное голубое небо казалось бесконечным, но ласковым, и солнце уютно расположилось на нём. Владимир пробирался по забитому людьми пляжу и уже весь взмок. Мужчины неодобрительно поглядывали на него, когда он всматривался в очертания женских тел рядом с ними и нагибался, чтобы рассмотреть лица. Он уже ругал себя, что не удосужился нормально договориться. Как отыскать не очень знакомую женщину на пляже среди уймы полуобнаженных фигур. И тут девушка неподалеку, приподнявшись на локтях, замахала ему. Это была Нана. Рядом с ней нежилась на солнце подруга, а сын копался в песке. Нана представила его подруге, и та под предлогом покупки мороженого увела мальчика. Владимир устроился на подстилке. Нана оказалась очень легкой и приятной в общении и засыпала его вопросами – женат ли он, где и с кем живёт, чем занимается и сколько зарабатывает. Параллельно он узнал, что сама она родом из Риги, живет в коммуналке с мужем, не работает, училась в медицинском институте. Муж увлекается наркотиками, что существенно осложняет семейную жизнь, отсюда и проблема с обратными билетами на самолёт, о которой она упомянула при первой встрече. Владимир несколько опешил от того, с какой простотой она задавала вопросы и рассказывала о проблемах своей семейной жизни, но она вела себя так естественно, что он быстро принял подобную манеру общения.
Надо было придумать какое-то продолжение встречи. Присутствие подруги и ребенка требовали какого-то необычного решения, и Владимир договорился с капитаном небольшого катера, что тот покатает их по Неве. Идея всем понравилась. Катер оказался без тента, и вода, разбиваемая на бесчисленные струйки острым носом судна, щедро окатывала, сидевших на корме пассажиров. Владимир тайком коснулся мизинца Наниной ноги. Нана удивленно взглянула на него и аккуратно убрала ногу. Подруга шепнула ей на ухо:
– Интересный мужчина. Обратила внимание? Когда на пляже он снял ботинки, под ними оказались белоснежные носки.
Нане не очень понравился избыточный интерес подруги к Владимиру. Она быстро нашлась и попросила ее отвезти сына домой, а сама обещала приехать попозже. К этому моменту лодка причалила к берегу, девушек укачало и они запросились в туалет. Владимира оставили присматривать за мальчиком. Тому ещё не исполнилось и четырех лет, и он был очень подвижен, его постоянно что-то увлекало – то проезжающая машина, то скачущая птица, то летящий шарик. Автомобили так и сновали, и Владимир присел на корточки, взяв малыша за руку, чтобы ограничить его передвижения.
– Потерпи немного, Гоша, мама сейчас придёт. Машин много, на дорогу выбегать опасно.
Мальчик стал вырываться, а когда попытки не увенчались успехом, плюнул Владимиру в лицо и крикнул:
– Ну ты, сука, пусти!
Владимир был поражен и словами и поведением ребенка, но продолжал спокойно сидеть рядом с ним и уговаривать. В голове тем временем рисовались картинки общения родителей. А откуда еще он мог такого набраться с виду нежный и воспитанный малыш?
Девушки вернулись. Подруга забрала Гошу к себе домой, и Владимир с Наной остались вдвоем. Они пообедали в ресторане, потом катались по вечернему городу, останавливались на набережной, он прятал её от ветра в объятиях и ловил её губы. Время бежало к полуночи, он спросил:
– Тебе, наверное, пора? Уже поздно…
Нана улыбнулась, волосы плескались по ветру. Она поймала взгляд Владимира и взяла его за руку.
– Скажу, что осталась у подруги. Поехали к тебе.
Эта была их первая ночь, они почти не спали. Утром ему надо было уехать на работу, и он спросил:
– Тебе надо бежать или останешься?
Она завернулась в одеяло.
– А что, можно остаться?
– Конечно. Если хочешь, оставайся.
Он поцеловал её и уехал, а она осталась – на долгие годы. У них родилась дочь, названная Дашей в честь Доры, до конца преданной Ивану.
Воспоминания о жизни Владимира и Наны, в свою очередь, сложились в роман, озаглавленный «Сука, которая рядом…»
88
Аэропорт большого города. Здравствуй, Гонконг, пока о тебе только слышала. Прошло много лет с тех пор, как тобой перестали править англичане. Отец тогда гостил у тебя, и ты поразил его и небоскребами, и эскалаторами на улицах. Самолет теперь не садится между башен, аэропорт на отдельном острове. Экспресс несется бесшумно, сплошные экраны – смотри, что хочешь, а окна маленькие, да и всё так мелькает – ничего не разобрать. Реклама скоро поглотит человека: он её придумал, а теперь она вертит. Вот и мне предстоит проявить здесь свои навыки маркетолога. Тут есть, чему поучиться. Картинки меняются с такой скоростью, что мозг не успевает сконцентрироваться, и кажется, что нравится всё. Ты и опомниться не успел, а в тебя уже заложили желание, приятные ассоциации – в следующий раз увидишь и сразу захочешь. Встречу Стива, отмечу, что первое впечатление – тотальная реклама. А может, это у меня профессиональная деформация? Или свежий взгляд со стороны, а здесь все уже давно привыкли?
Приехали. Вся поездка – мелькание в окне: деревьев, домов, цифр, свидетельствующих о скорости, превышающей четыре сотни километров в час. Всё на разных этажах. Да, папа, это тоже сохранилось. Город, как многослойный пирог, только слоев стало больше. Теперь не только поезда на одном уровне, трамваи на другом, машины и автобусы на третьем – появились высокоскоростные магнитные дороги. Магнитопланы долго боролись за место под солнцем и искали свою нишу рядом с обычными автомобилями. Но кому понравится конкуренты? В итоге магнитный транспорт зажил отдельной жизнью. Всё началось с поездов, следом появились машины и мотоциклы. Земли больше не становится, и люди стали перебираться ближе к облакам. Сначала пытались бороться за экологию на нижнем уровне, который использовали тысячи лет, но мы так много наследили, что оказалось легче карабкаться вверх, разрежая низ. Новый уровень обосновался на высоте двадцать первого этажа – потому что двадцать первый век, потому что выше пока очень дорого, но теперь всё строится на другой базе, и я приехала учиться иным скоростям.
Лифт здесь тоже бесконтактный, и кажется, что он долетел, а не натужно поднялся, в уютный холл. Мне забронировали летающую машину, управление осваивала по программе дистанционного обучения, сдала экзамен. Всё настолько просто и безопасно, что не заняло много времени. Милая девушка просит номер моей брони и лицензии, включаю экран на часах, она сканирует.
Вроде обычная парковка. Всё, как на земле, но в то же время по-другому. Открываю багажник (всё на сенсорах), опускается панель, ставлю на неё чемодан, он поднимается в багажник, крышка закрывается. Устройство на кузове считывает код с часов, зажигается подсветка. Дверь, почти круглая, открывается, вращаясь вокруг оси в крыше автомобиля – не надо отходить, думать о юбке, путаться в ногах, синяки не поставишь, и не надо потом объяснять, откуда они взялись. Сажусь, как в самолет: основная рукоятка напоминает штурвал, но не большая, вроде джойстика, и несколько кнопок. Ах, ну, конечно, отпечатки пальцев, проверка на алкоголь и наркотики – всё хорошо. Запрашивает синхронизацию, разрешаю, прозрачный экран, текст на русском. Программа приветствует меня женским голосом (нет, хочу мужской, да, так приятнее) и спрашивает:
– Куда хотите направиться?
Встроенный в очки комп проецирует клавиатуру мне на предплечье. Открываю ежедневник, читаю. Компания называется «Ихэ», русский человек не вдруг выговорит. В переводе означает «Блаженная гармония». Один из крупнейших многопрофильных конгломератов в мире.
– Соня (это имя моей школьной подруги, она классная), выведи на экран адрес и название компании на китайском.
Проверяю, всё верно. Здесь надо быть аккуратной, синхронизация штука тонкая.
– Передай эту информацию нашему новому другу.
Информация дублируется на экране.
– Зафиксируйте ремень безопасности. Ориентировочное время в пути один час двадцать три минуты. Приятного путешествия.
Пристегиваюсь, кресло повторяет форму моего тела, поехали. Нет, конечно, не поехали, а полетели. Тормозим, система контроля считывает наш пропуск и проверяет оплату. Пока внесла за месяц, так выгоднее, а дальше видно будет. Зажигается зелёный свет, и мы выруливаем со стоянки на дорогу. Разгонная линия, и мы уже в потоке, скорость около ста километров в час, идем в городском режиме. Машины лавируют так стремительно, что человек, мне кажется, не в состоянии сам осуществлять подобные маневры. Ты выбираешь маршрут, скорость в рамках допустимой, можешь сам перестраиваться, обгонять, но если ты ошибаешься, машина прислушивается к датчикам и корректирует маневр. Я пока и не претендую, пусть автопилот думает. Всё остальное, как на земле – есть съезды на торговые улицы, к жилым домам, скоростные магистрали, ведущие на другие острова. Сами дороги похожи на большие стеклянные туннели, из правого ряда можно увидеть, что проезжаешь внизу.
– Даша, мы прибыли. Хотите сами выбрать парковку?
Неожиданно услышать обращение по имени. Видимо, Соня решила, что оно входит в перечень разрешенной информации. Иногда многовато на себя берет, но в целом я ей доверяю, да и время экономится.
– Попробую. Переведите на ручной режим управления.
Плавно двигаю штурвал, ползу в очереди, останавливаюсь системы доступа.
– Соня, выведи код, который прислала эта компания в качестве пропуска и разреши его сканировать.
Въезжаем на многоэтажную парковку. Стараюсь встать недалеко от выхода, чтобы далеко не ходить. Слышу непривычный пока голос:
– Даша, вы можете оставить машину у входа, я сам припаркуюсь.
Да, так удобнее. Выхожу. Офис бронирования на сто восьмом этаже, из окна лифта хорошо видны очертания небоскребов, многие из них стали опорами для трасс магнитопланов.
Огромные свайные конструкции, похожие на конструктор «лего», возвышаются над городом, устремляясь ввысь. Расположенные в них помещения напоминают соты, в некоторых все ячейки заполнены, а в других свободны, и там светятся зеленые огоньки, сигнализирующие о возможности подключения.
В офисе встречает робот, тоже просит синхронизации, понимает, кто я и зачем пришла, просит присесть и подождать, пока вызовут. Проходит не более пяти минут, меня приглашают зайти в демонстрационный зал. Там меня ждет стройная китаянка в короткой юбке и на высоких каблуках, рядом с ней я при своих метре восьмидесяти не чувствую себя каланчой такой уж высокой. Может, они даже наряд выбирают с учетом габаритов собеседника? Говорит она по-китайски, Соня переводит. Я немного устаю от наушников-присосок на висках, но что делать, так удобнее.
– Садитесь, пожалуйста, располагайтесь поудобнее, сейчас мы Вам покажем варианты возможных апартаментов. Вы выберете, какие вам понравятся. Мы правильно поняли, вы хотите заселиться сегодня?
Улыбка приоткрыла белоснежные, словно нарисованные зубы. Я, не задумываясь, ответила:
– Да, не хотелось бы мотаться туда-сюда.
Девушка снова улыбнулась и предложила чаю в капсулах. В чашке распустились дивные цветы. Кажется, они светятся.
Соня продолжает:
– Мы покажем вам дома, виды из окон, и подпишем контракт. Пока вы будете добираться до места, доставим и установим капсулу апартамента в нужное место. При наличии особых пожеланий, мы доукомплектуем капсулу в согласованное с Вами время.
Я уже знала, что хочу жилье с видом на океан. Пусть больше времени уйдет на дорогу, но хочу зелень, природу. С этими магнитопланами всё упростилось, однако не хочется чтобы эти безумные скорости поглотили меня с концами. Сообщаю свои пожелания.
Барышня развернула передо мной прекрасные виды. Не знаю, какой эффект тут используется, но возникает ощущение, что я в действительности медленно лечу над водой, гуляю по паркам, чувствую запах цветов, бабочки садятся мне на плечи. Затем попадаю в белоснежный вестибюль, поднимаюсь на тридцать третий этаж, двери из лифта ведут прямо в просторный холл, огромные окна, за ними бесконечное пространство океана. Появляется изображение мужчины. Да какое изображение – просто мужчина. Похоже, Соня и тут меня сдала. Ладно, на вид ничего, и голос приятный.
– Тебе приготовить кофе? Ты, наверное, устала. Садись в кресло я сделаю тебе массаж стоп.
Я действительно устала. Он подходит ко мне.
– Сними туфли, так будет удобнее.
Удивляюсь, но обувь снимаю. Интересно, как он будет это делать? Может, в кресло вмонтированы специальные устройства. Мужчина садится у моих ног.
– Закрой глаза, ни о чём не думай, расслабься.
Его голос меня расслабляет, ступни ощущают мягкое воздействие. Я не чувствую давления пальцев, но по ногам разливается тепло, мышцы приятно расслабляются, вверх поднимается ощущение нежности. Ловлю себя на мысли, как это возможно? Меня же никто реально не касается!
– Думаю, мы можем прервать эту функцию. При желании вы сможете попробовать различные схемы, от включения света в нужном месте до приготовления кофе, включая программы для взрослых.
Женский голос вернул меня в реальность. Сижу с босыми ногами, нехотя возвращаюсь к тому, зачем я здесь.
– Посмотрите варианты обстановки.
Она вывела на экран множество конфигураций, мне даже плохо стало от такого изобилия. Вот так ходишь часами по магазинам одежды, и под конец уже ничего не хочется, просто сил не остается. Быстро выбираю цветовую гамму, подписываю контракт, благодарю за помощь в подборе жилья, одеваюсь и возвращаюсь на парковку.
Удобно, что машину не надо искать – автомобиль сам подруливает ко мне. Сажусь, на часах код адреса, Соня сама общается с автопилотом. Ну и хорошо, можно глазеть по сторонам. Быстро выезжаем на скоростную магистраль, на стеклах очков высвечиваются пропущенные вызовы: Стив интересуется, как я добралась; Ваня ничего не написал, но звонил. Вроде уже всё сказала ему, вроде поняли друг друга. Вместе тяжело, а как расстаемся – всё сначала. Уже сто раз говорила себе, хватит, сколько можно плясать на граблях. Зарекалась ведь не повторять родительский опыт, надо научиться расставаться и идти дальше.
За окном раскинулись бесконечные водные просторы, мелькающие авто не портят картину, они слишком незначительны на фоне могущества природы. Раньше на этот остров ходили только небольшие суда, а теперь на вросших в воду сваях повисла дорога. Вокруг каждой опоры возникли платформы, здесь тоже небоскребы, тоже живут люди, тоже очень красиво, но вот с прогулками по зеленым улицами не очень. Да, Соня, напиши Стиву, что добралась хорошо, занимаюсь жильём, всё космос – и машина, и апартаменты, и остров. Здешние ушли далеко вперед, у них мало земли, много денег, много людей и огромные скорости. Мне интересно.
А вот и мой остров приветствует меня. На дисплее снова текущая информация и красочная реклама, хорошо, буду и привыкать и учиться. Подъезжаем к моему дому, сканирую ключ от квартиры, заезжаем на парковку, останавливаемся у лифта, прощаюсь:
– Спасибо, всё было прекрасно. Завтра встречаемся в семь утра.
– Утром может быть пробка у площадки при выходе с лифта, включи навигатор, он меня найдет. Желаю хорошо отдохнуть.
Приятный голос и приятный сервис.
– Платформа 3317, не торопись, она доставит багаж до места. Ты же не хочешь сама управлять своим чемоданом, он же такой тупой – вечно бьется обо всё. – Соня замолчала, поди обработай все запросы разом.
Тележка уже нас ждала. Я закатила на платформу чемодан, и она уехала. Я поинтересовалась, куда, Соня посоветовала не беспокоиться, багаж будет ждать у дверей. Поднимаемся на тридцать третий. Я не хотела высоко, мечтала ощущать жизнь, видеть зелень, деревья. Выходим. Навигатор помогает найти квартиру, платформа уже нас ждет. Заходим – всё один в один, как на демонстрационной модели. Слышу уже знакомый мужской голос:
– Привет, рад тебя видеть. Ты наверняка устала с дороги, может, набрать ванну? Пока выпей чая или кофе, потом приляжешь, сделаю массаж стоп.
Вот стоит у окна, и ведь не отличишь от настоящего, пока не попробуешь коснуться – рука пройдет насквозь. Но я-то чувствовала его прикосновения – как они добились такого эффекта? Ладно, время у меня есть, все выясним.
– Спасибо, пока ничего не надо, хочу побыть одна.
Он не заставил долго ждать, просто исчез. Хорошо бы настоящие мужчины умели так же. Раздеваюсь, захожу в душевую – здорово, вообще нет ручек.
– Соня, что делать?
– Ничего. Скажи, что хочешь принять душ, выбери, сверху напор или со всех сторон, или просто ручное управление.
Выбираю сверху, классика безопаснее. Мужчина тоже, как правило, предпочитает сначала сверху – тоже классика и тоже привычнее. Прошу чуть поднять температуру воды.
– Интересно, а если я не могу говорить?
– На дверце есть сенсорное управление, не беспокойся.
Как они так быстро всё выясняют? Наверное, просто не стесняются спрашивать. Ну, хоть полотенце обычное, само не вытирает. Заматываю волосы, набрасываю белоснежный пушистый халат и заваливаюсь на диван. Он стоит на своеобразном подиуме, и с него открывается замечательный вид – и тебе вода, и зеленые улицы, и парки, и корабли, и самолеты. Всё дышит, у всего своя жизнь.
– Звонил Ваня.
– А почему я не слышала?
Мне странно, что Соня сама принимает решение, соединять меня или нет.
– Ты сама не велишь соединять, когда моешься, а еще когда устала, а тут и то и другое.
Её правда. Я уехала, полагая, что так будет проще закончить мучительный роман, тянущийся уже несколько лет. Мне уже не интересно с ним, я хочу развиваться, а он мешает. И секс уже не тот, что раньше. Без него я чувствую себя свободной, мне вполне неплохо одной. Но в этом я всё-таки уступаю матери – не могу долго быть одна, мне нужен зритель. Ей тоже требовался слушатель, но мне важно, чтобы мой зритель не только с интересом наблюдал за мной, но и мне важно делать что-то с ним вместе, чтобы ему тоже было интересно, а не только приятно оттого, что я вокруг него прыгаю. Стоит остаться одной, собственная же свобода начинает меня расстраивать.
– Здравствуй дорогая. Как ты, как долетела? – Ванин голос и через тысячи сохраняет тепло, но почему обязательно надо убежать так далеко, чтобы это тепло почувствовать?
– Спасибо, всё хорошо, немного устала. А ты как?
Говорю холодно, пусть не думает, что мы помирились и опять все хорошо.
– И у меня всё нормально. Звонила Машка, с учебой всё в порядке, но англичане надоедают, лезут знакомиться, а сами, как надутые гуси. Не хочет с ними иметь ничего общего. А вообще мне тебя уже не хватает.
Стоит мне уехать – сразу не хватает, а как я дома – всё ему не так, не нравится, не привычно, чуть что, обижается и молчит – просто детский сад, весь в маменьку. При этом мне рассказывает, что это я вся в свою маму, такая же эгоистка, гордыня из трусов выпрыгивает. А еще я не умею спорить и сразу повышаю голос. И так без конца.
– Что же не хватал за руки, когда уезжала, не кричал «останься!»? Сам же отпустил, что изменилось-то?
На изнанке очков появляются замечания от Сони:
– Не нервничай, не горячись. Важно принять… все может измениться… что было ясным, станет темным… чтобы снова увидеть свет, надо пройти через тьму… что казалось знакомым, окажется иным… и мы не знаем, но можем принять как нечто новое… что нет ни темного, ни светлого…
Еще одна делится умными мыслями, хочет помочь. Ваня тоже пытается помочь и объяснить:
– Какой смысл тебя держать? Чем больше держу, тем сильнее ты рвешься на свободу, бежишь куда-то, хочешь найти что-то, чего тебе, видимо, не хватает.
Пока он говорил, мне помыли окна – некое устройство двигалось вдоль здания и вращало щетками. Картинка за стеклом стала еще ярче.
Опять Соня пишет:
– Пока ищешь то, чего тебе не хватает, теряешь то, что у тебя есть, и понимаешь, что это и было то, чего тебе не хватало. Так мало надо, чтобы потерять, и как много надо, чтобы понять и сохранить…
Звучит красиво, но как всё это применить в жизни? Папа, жалко, что тебя нет рядом, но между философскими высказываниями и реальной жизнью такая пропасть!
– Ваня, а может, это тебе надо что-то поменять, чтобы я не убегала, а хотела быть рядом? А не кричать за тысячи верст. Так было бы правильнее, по-мужски.
Он тяжело вздыхает, нервничает.
– Мы столько говорим о принятии, о том, что наши попытки изменить друг друга ни к чему не приводят. Разве это путь? Разве можно чего-то добиться, требуя изменений от другого? Может, надо самого себя спрашивать, есть ли любовь? Разве не стоит ради этого остановиться, а не бежать в разные стороны?
Он еще не договорил, а Соня уже настрочила:
– Любовь это дар. Умение её принимать и сохранять определяет нашу жизнь… если решили разлюбить, чтобы легче жить… это как воду из колодца вычерпать, сквозь пальцы вылить, мусора в него набросать, а потом горевать, что водицы испить негде…
Боже мой, как всё это верно. И почему оно не работает? Почему у другого всё видим, и с собой такие ломки?
– Я не пытаюсь тебя изменить – я пытаюсь тебя понять. Говорю тебе, что мне не нравится, а ты бежишь от негатива и хочешь только позитива и не понимаешь, что этим всё портишь. Ты не хочешь понять, что в негативном есть нечто очень важное, ценное, и если его увидеть, то огромный потенциал этой энергии превратится в позитив. И то, что тебя вчера расстраивало, завтра будет радовать, но для этого не надо бояться неприятного. Если оно есть, значит, для чего-то нужно, и это не плохо.
Пришло сообщение: мама интересуется, как у меня дела. Она опять где-то медитирует. Вот мама уединяется и живет другой жизнью. У нее есть круг из нескольких женщин, и когда надоедает одна, она едет отдыхать с другой. И к мужчинам у этих женщин отношение: их надо потреблять и выбрасывать, или уметь использовать. Я так и не поняла, сделало её это счастливой или нет. Мама прекрасно выглядит, но временами на душе кошки скребут, и она подаётся в храмы.
– Соня ответь маме, что добралась хорошо, спасибо, подробности позже.
Не знаю, успела ли она ответить маме, но на моё высказывание уже отреагировала.
– Жизнь это дорога к себе через представления о себе, через защиты себя от себя, через сравнения себя вчера и сегодня, с точкой отсчета в позавчера, когда мы знали, кто мы и зачем идем… но не знали, что все забудем… таковы правила игры…
Ваня покашливает, горловая чакра явно барахлит, он не хочет обострять разговор, поэтому старается говорить спокойным и ровно.
– Я не мешаю тебе искать себя, я люблю тебя, я не хочу тебя потерять и не знаю, что с этим делать.
О, дочь тоже решила обо мне вспомнить. С любимым папочкой-то общается без конца. Ладно, у неё всегда всё «ок». Это, конечно, хорошо, но особых откровений не дождешься. Её сообщение Соня высветила на специально отведенном окошке для членов семьи, и тут же насыпала умностей, чтобы я не наделала глупостей:
– Любовь не живет три года, три дня… она живет вечно… мы не в силах её пригласить, и не в силах её прогнать… можем её искать, можем встретить… можем её найти, можем потерять… нам решать, жить, любя, и страдать или жить, не любя, и страдать…
Я знаю, что он любит. Я про себя не пойму, люблю или уже нет. Но чувствую, что он мне дорог, что родной, что скучаю. У мамы с отцом было похоже, но она сочла, что это не любовь, а зависимость, и стала независимой. А чтобы впасть в новую зависимость, осталась одна.
Пришло сообщение от Стива: прекрасно, что устроилась, с удовольствием прилетит, руководство компании довольно результатами нашей совместной работы, ему будет приятно побыть со мной. Только уединения со Стивом мне не хватало! Мужчины с удовольствием смешивают работу и постель, а меня от этого тошнит. Хотя мужик он хороший.
Снова Ванин голос:
– Помнишь, ты мне читала: «хорошо, что ты есть, не важно, что не со мной, не важно, что думаешь обо мне, знаю, что не забудешь. Если забудешь, прощу, потому, что хорошо, что ты есть…». Не помню, кто написал, но это обо мне, о моём отношении к тебе. Не знаю, что добавить.
Он замолчал. Я чего-то случайно коснулась, на стекле появилась секундная стрелка. Да, время безумно бежит, бежит, и нельзя поставить точку – её поставят за тебя, когда сочтут нужным. В любви тоже нельзя поставить точку… можно разойтись, разругаться, разочароваться… но она продолжает жить вопреки тому, что мы думаем и делаем… когда устаешь бороться, начинаешь радоваться, что она осталась с тобой…
Я тихо ответила:
– Я устала, валюсь с ног, и я не знаю, что делать и как не потерять… но я люблю, хоть и пытаюсь убежать, может, и от себя. Ты услышал… люблю…
Это протяжное «люблю» долетит до Ивана и Георгия, до Доры и Елены через пространства разных миров, и близкая и далекая им женщина, перешагнувшая через гордость и не поддавшаяся слабости, сумеет переломить родовые программы, и когда их душам доведется снова посетить Землю, они выберут себе родителей, которые помогут им выйти на новый виток развития, получить новый опыт, подняться до новых высот осознанности. Они поймут, кто они и зачем пришли, и каково место любви на этом бесконечном пути, и им под силу изменить, чтобы те, кто придет за ними, могли расти дальше…
Примечания
1
Я бы хотел посетить центральный пляж (англ.)
(обратно)2
Это центральный пляж? (англ.)
(обратно)3
Почему никто не купается? (англ.)
(обратно)4
Вчера акула откусила ногу одному из пловцов. (англ.)
(обратно)5
Здесь больно? (англ.)
(обратно)6
Нет (англ.)
(обратно)7
Богатые американцы и японцы думают, что это тоже включено. Что вы об этом думаете?
(обратно)8
Добрый вечер. (нем.)
(обратно)9
У вас есть меню на английском? (англ.)
(обратно)10
– Они просто хотят денег.
(обратно)11
– Вы уверены? Они все в крови. (англ.)
(обратно)12
СКС – советский самозарядный карабин к???????????онструкции Сергея Симонова, принят на вооружение в 1949 году.
ОЗК – прорезиненный комплект одежды, включающий плащ, похожий на комбинезон, высокие сапоги на подтяжках и перчатки, закрывающие руку по локоть. Служит для химзащиты.
(обратно)13
Н.А. Бердяев. Эссе «О власти пространства над русской душой» из сборника «Судьба России».
(обратно)



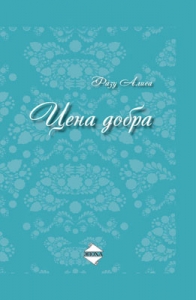



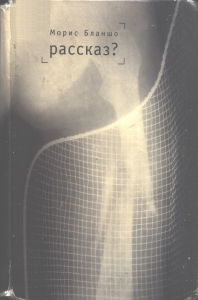
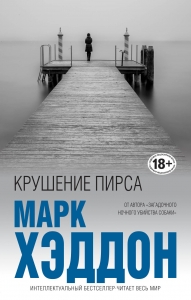


Комментарии к книге «Сегодня и вчера, позавчера и послезавтра», Владимир Новодворский
Всего 0 комментариев