Андре-Марсель Адамек
От переводчика
Адамек. Так зовут его друзья и домашние. Под этим именем вот уже более тридцати лет он известен бельгийскому читателю. С ним этот тонкий и страстный художник, этот суровый романтик с душой кочевника или скитальца-моряка войдет в историю мировой литературы. Он, как герои его романов, одновременно и похож, и не похож на нашего современника. С насмешливым прищуром острых, пронзительных глаз, в неизменной белой панаме, он, кажется, сошел со страниц какого-то им еще не написанного романа, где старинные легенды вторгаются в сегодняшний сюжет, создавая эффект фантастических «дыр» в реальном трехмерном пространстве. И в этом сквозном, «колючем» смешений — тайна и власть его письма, индивидуальный художественный стиль и стиль жизни, в которой Адамек столь же неповторим и уникален, как и в своем литературном творчестве.
Он родился в 1946 году в небольшой деревушке на юге Бельгии в простой рабочей семье. С шестнадцати лет перепробовал с дюжину профессий: плавал стюардом на пароходе, разводил овец, работал в типографии, занимался издательской деятельностью и производством игрушек. Со времени выхода его первого романа («Кислород», 1970) Адамек вошел в современную европейскую литературу как блестящий писатель-рассказчик. В 1974 году ему была присвоена одна из самых престижных литературных премий Бельгии — премия Россель за роман «Лепестковое ружье», в котором история любви простого крестьянина, одержимого идеей воздухоплавания, причудливым образом сочетается со средневековым рыцарским сюжетом, придавая тем самым фантастический оттенок происходящим событиям.
Роман «Дурак на солнце» (1983) получил высокую оценку во Франции (премия Жана Масэ, 1984). Сюжет этой книги представляет собой историю нового Робинзона, добровольно покинувшего Европу и отправившегося на один из девственных островов Латинской Америки в поисках себя, тишины и земного рая. Возможно, этой же мечтой был движим и сам писатель, однажды оставивший город и поселившийся со своей неизменной спутницей и музой в одном из отдаленных уголков Арденн, среди сельского пейзажа, холмов, рощ, птиц и зверей, часто становящихся героями его произведений. За последние десять лет вышли шесть его романов — «Цвет пчел» (1992), «Хозяин черных садов» (1993), «Птица мертвых» (1995), «Запретный праздник» (1997), «Самая большая подводная лодка в мире» (2000), «Возвращение в зимнюю деревню» (2002). И в каждой новой книге писателя мир словно рождается заново, настолько он неожиданен, ярок и неповторим в своих мельчайших подробностях. Жизнь человеческих существ, увиденная глазами вороны, предстает в «Птице мертвых». Сложный внутренний мир подростка раскрывает почти детективный сюжет «Возвращения в зимнюю деревню». Роман «Самая большая подводная лодка в мире» погружает читателя в повседневность небольшого портового городка с его радостями и горестями, героями и проходимцами, бродягами и авантюристами, вытесненными судьбой на обочину, но сохранившими в душе чувство истинной свободы и человеческое достоинство. Приход советского морского гиганта, списанного за ненадобностью на лом, становится для главных действующих лиц этого романа настоящим событием, благодаря которому обыкновенная житейская драма приобретает черты трагедии, сводящей на последней грани бытия свободу, смерть и любовь.
Как писатель Адамек известен не только в Бельгии и во Франции. Его книги переведены на английский, немецкий, чешский, греческий, болгарский языки. Знакомство российского читателя с этим автором мы начинаем с одного из наиболее популярных его романов «Хозяин черных садов». Рассказ об одних и тех же событиях, ведущийся попеременно от лица двух героев, пожилого крестьянина и молодой женщины, переехавшей с семьей из города в отдаленную сельскую местность, странно смещает плоскости, создавая сложный стереоскопический эффект. Удивительно, что, ничего не утаивая, раскрывая все карты, автору удается не только ни на йоту не ослабить напряжения сюжета, но определенно обострить его. Ощущение непредсказуемости, тайны, назревающей трагедии усиливает и старинней местная легенда, легенда «черных садов». Предание двухсотлетней давности замыкает и оправдывает фантастическое сплетение судеб двух случайно сведенных в пространстве и времени, столь разительно несхожих между собой семей.
«С Адамеком не бывает скучно, — призналась в одном из разговоров со мной жена писателя. — Разве может быть скучно с морем, лесом, ветром? Он всегда неожиданен, искрометен, полон безумств и фантазий». Таков и мир его романов. Этот сказочник XXI века умеет заворожить какой-то неведомой, почти первобытной магией слова. Магией, творящей всякий раз новую и все более захватывающую реальность.
Елена РомановаХозяин черных садов
Глава 1
Их не ждали раньше полудня, но не было и одиннадцати, когда Рашель внезапно появилась в ангаре.
— Иди скорей, они подъезжают.
Я откладываю перчатки и паяльную маску и следую за ней в кухню, к окну из тонированного стекла, за которым нас невозможно разглядеть.
Едва они припарковали во дворе свой маленький голубой автомобиль, как хлынул проливной дождь. Эти люди точно не из удачливых: мы не видели здесь дождя вот уже пятнадцать дней.
Рашель не терпится узнать, что они собой представляют. Я уже за три дня до их приезда чувствовал себя не в своей тарелке: ничто не казалось мне более странным, чем их водворение в Шанплере.
— Интересно, чего они ждут? — спросила Рашель.
— Судя по всему, чтобы кончился дождь.
— Если они боятся дождя, им здесь вряд ли понравится.
Ливень сгущается, и они исчезают за стеклами, покрытыми осевшим паром. Прошло добрых полчаса, прежде чем клочок ясного неба пробился сквозь тяжелые грозовые тучи. Он выходит первым, потирая поясницу. Какое-то мгновение еще стоит согнувшись, затем медленно распрямляется. На нем — спортивный костюм и матерчатые тапочки. Следом из машины выскочила она, именно выскочила, будто внутри ей было нечем дышать. Ее нога попадает прямо в лужу с пожелтевшей от коровьего навоза водой. Должно быть, брызги грязи достали ей до ляжек: она вскрикивает, сжимает колени и семенит, придерживая юбку руками. Он садится перед ней на корточки, одной рукой приподнимает край юбки, другой медленно вытирает ей ноги носовым платком.
— Хорошенькое начало! — усмехается Рашель.
Вид голых белых ног, испачканных грязью, на мгновенье лишает меня языка. Я чувствую на себе взгляд Рашели, косой и быстрый, как удар серпа, взгляд, способный в любую минуту раскрыть тайну чужих эмоций.
Когда в свой черед выходят дети, видно, что их предостерегли, так как они обходят лужи с бесконечными предосторожностями. Бледненькая девчушка, не толще, чем черенок лопаты в рубашке, встряхивает на свету своей длинной рыжей шевелюрой. Двое разномастных сорванцов оживленно жестикулируют возле нее: один маленький, черноволосый и коренастый, другой блондинистый и щуплый, с длиннющими ногами и большими ушами.
— Я не удивлюсь, — говорит Рашель, — если эти трое не от одного отца. Посмотри на девчушку… Чтобы сделать блондинке рыжего младенца, нужен рыжий мужчина — непременно.
— Не говорите глупостей.
Мне случается обращаться к ней на «вы», когда ее речи меня сильно раздражают. Она напрягается тогда, как выгнанная из логова змея, и, не выдавая своего замешательства, вдруг резко меняет тему разговора.
Мы видели, как они вошли гуськом в дом и как открылись ставни на первом этаже.
— Больше нечего смотреть, — говорит Рашель, направляясь к плите. — Пойдем есть суп.
В два часа тарахтящий с перебоями грузовик, рыча, поднимается на холм Шируль. Они выбегают все пятеро ему навстречу, размахивая руками. Водитель маневрирует с такой неловкостью, что едва не выкорчевывает ворота, въезжая во двор. Они начали выгружать мебель. Он, вне всякого сомнения, лодырь каких поискать: довольствуется ролью наблюдателя, ни к чему не притрагиваясь. Двое грузчиков трудятся, как быки, мальцы таскают без передышки ящики, картонные коробки, люстры, женщина не покладая рук перетаскивает ворохи одежды, в то время как он безмятежно бродит от заднего борта кузова до входной двери с блокнотиком в руке.
Я сказал Рашели, что их мебель ни за что не выдержит здешних условий, особенно из-за влажности, которой пропитаны стены. В Шанплере годится только цельное и хорошо выдержанное дерево. Эти люди не имеют никакого понятия о плачевном состоянии наших жилищ, рассчитанных больше на противоборство с бешеными ветрами, чем на защиту от дождя. Если зима затягивается и дождей больше, чем заморозков, в шкафах ржавеют столовые приборы, а также ключи, замки — словом, все вплоть до стрелок в часах, которые приходится менять каждые десять лет. Но есть нечто и похуже: в середине апреля, в разгар таяния снегов, им нужен будет водолазный костюм, чтобы спускаться в подвал. Под его сводами в течение двух недель протекает настоящая река. Они об этом, конечно, ничего не знали, когда покупали эту старую ферму, от которой отказались все в округе. На скромные средства и с очень сомнительными местными подрядчиками они покрасили заново рамы, двери, карнизы. Заделали щели цементом и наспех очистили от мха кровлю. Обои, которые они наклеили на стены, не увидят и будущего лета, они упадут сами собой под воздействием плесени. Проведя эти косметические работы, они спустили деньги в трубу, но, в конце концов, это их дело. Но что я никак не могу понять, так это причину, по которой они решили похоронить себя там, в доме напротив. Ему на вид нет и сорока, он слишком молод для того, чтобы быть на пенсии, — чем он будет кормить своих гавриков? Доходы с фермы? Об этом нечего и думать, он купил только два гектара пастбища, на которых едва поместилась бы дюжина баранов.
Я сказал Рашели:
— Завтра утром подождешь, когда они встанут — вряд ли это будет рано, — и отнесешь им корзинку яиц и кувшин молока. Скажешь, что это для детей.
— Ладно, но если уже в первый день их угощать молоком и яйцами, они подумают, чего доброго, что мы богаты.
— Вы сделаете, как я сказал. И постарайтесь ничего не упустить.
Если Рашель ничего не узнает, я найду другие ходы, я перетряхну небо и землю. В конце концов кто-нибудь мне скажет, кто они есть и кем были. Мне нужно знать.
Глава 2
В десяти километрах от Шанплера небо начало хмуриться. Кантен вел машину с излишней предосторожностью. Чтобы ничто не омрачило этот памятный день, говорил он, даже резкий удар по тормозам. На самом деле приготовления к переезду и бессонная ночь истощили его, и он боялся собственной рассеянности.
Мне не терпелось узнать, как дети примут наш новый дом. Мысль, что он понравится им меньше, чем нам, даже не пришла мне в голову.
Мы подъехали вплотную к холму Шируль в тот момент, когда ослепительная грозовая вспышка рассекла небо.
— А вот и гроза, совсем не вовремя, — сказал Кантен.
Наша маленькая Иоланда затыкала уши, чтобы не слышать раскатов грома, в то время как братья обнимали ее за плечи.
Наконец мы въехали во двор, но дождь стоял стеной, так что, несмотря на скорость дворников, наше маленькое владение предстало перед нами темным строением с расплывчатыми контурами. Иоланда немного успокоилась. Поль и Морис, сгоравшие от нетерпения, хотели броситься прямо под ливень.
— Дети мои, — сказал Кантен, — дождь не продлится долго. Я хотел бы, чтобы наш дом явился вам в первый раз в ясном свете, а не в грозу, которая придает ему немного грустный вид.
Мы прождали около часа. Иоланда и Морис заснули, скрестив руки, Поль задумчиво перебирал колоду карт, которую ему дал водитель грузовика. Когда дождь наконец прекратился, я выпрыгнула из машины, чтобы помочь выйти детям. В спешке я не заметила глубокой рытвины, заполненной дождевой водой, и моя нога погрузилась в нее до самой лодыжки. Крик, который я не смогла сдержать, заставил прибежать Кантена.
— Моя бедная Анаис, — сказал он, — в деревне нужно быть внимательной к такого рода вещам…
Как это часто бывает в ситуациях, вызванных нашей собственной оплошностью, я громко рассмеялась, в то время как Кантен скомканным платком вытирал грязь, которая залила мою туфлю и испачкала край юбки.
— Вы можете выйти, дети, но осторожно — лужи!
Иоланда и Морис, с глазами еще красными ото сна, недоверчиво смотрели на эту каменную постройку, мокрый шифер которой дымился под выглянувшим солнцем.
— Уау! — воскликнул Поль.
Этот возглас, похожий на лай, стал сигналом к стремительному натиску. Они осмотрели хлев, конюшни и сеновал, издавая все более и более пронзительные звуки.
— Я думаю, что это победа, — сказал едва слышно Кантен, от волнения почти лишившийся голоса.
Но этот краткий миг счастья побледнел от новых тревог. Кантен начал вдруг волноваться за наш грузовик.
Я старалась его успокоить: перевозчики, без сомнения, остановились по дороге, чтобы пропустить стаканчик или перекусить.
Дети, закончив обследовать пристройки, двинулись за нами внутрь жилища. У лестницы были узкие ступеньки, и, чтобы подняться в дом, Кантен взял Иоланду на руки. Мы открыли ставни, скрипевшие, как потревоженные вороны, и вскарабкались на следующий лестничный пролет, чтобы выйти на простор чердака, вид которого заставил мальчиков замереть с открытыми ртами. Они осторожно продвигались по необозримому полу, освещенному шестью слуховыми окошками. Старая мельница отдыхала под кровлей, как потерпевший крушение корабль. В бесчисленных нишах, выдолбленных в каменных стенах, были размещены гипсовые фигуры святых, обложенные соломой. Поль заскользил вокруг мельницы и, очарованный, воскликнул:
— Папа, как здорово, есть даже вода!
— Как «вода»? — спросил, бледнея, Кантен.
Мы увидели ее, текущую ручейками между скатом кровли и западной стеной. Большая застоявшаяся лужа образовалась возле мельницы.
Со смущенным видом Кантен объяснил, что сильный дождь, должно быть, пробил шифер. В комнате внизу, которую мы планировали для Иоланды, широкий темный потёк красовался на панели потолка.
— Ничего страшного нет, — сказал Кантен. — Иоланда поспит в соседней комнате, которая цела и невредима.
Мне было странно видеть, как он легко смирился с трудностями, и я подумала: возможно, дом обладает какой-то магической властью, которая и усмирила его обычное беспокойство, но внезапно он вспомнил о грузовике. Он ринулся во двор и, обратив взгляд к холму Шируль, ждал около получаса. В воображении он уже видел, как наша мебель перемещается к неизвестным границам или лежит брошенная в глубине оврага. Когда алюминиевый ящик появился наконец на горизонте, Кантен, вообразив, что перевозчики могут проехать мимо, бросился им навстречу, размахивая руками; мы последовали его примеру. Шофер объяснил нам, что из-за грозы на дороге образовались оползни и что он заблудился, отправившись в объезд. От него разило алкоголем, и я не слишком поверила в рассказанную им историю.
Разгрузка шла гладко. Кантен прекрасно все организовал: каждый ящик был пронумерован, и его содержимое подробно перечислено в записной книжке. Несмотря на дождь, который принуждал нас к частым остановкам, разгруженный грузовик смог уехать прежде, чем наступил вечер, и у мальчиков еще осталось время на то, чтобы совершить другие открытия и принести из заброшенного сада несколько пригоршней зеленого крыжовника.
— Теперь, — сказал Кантен, пробираясь между ящиками к нашей кровати, — мы проведем нашу первую ночь на новом месте.
Он тяжело упал на матрас и замер без движения, заложив руки за голову, обратив лицо к открытому окну, где были видны мерцающие звезды. Переезд был для него трудным испытанием, и я опасалась, как бы усталость не вызвала у него новый кризис. Я положила ему руку на бок; его дыхание было ровным, временами чуть учащенным. Я пообещала себе оградить его в ближайшие дни от всех источников раздражения. Это был не лучший момент, чтобы сообщить ему, что я нахожу комнату Поля слишком холодной для августа месяца и что там до наступления осени, как мне кажется, следует установить печку. Я не призналась ему также и в том, что обнаружила мириады муравьев в кухонных шкафах, и в том, что дверь в подвал изрядно расшаталась.
Я постепенно погружалась в сон, убаюканная монотонным стрекотанием саранчи, как вдруг сумасшедший топот раздался над нашими головами.
— Мыши… — прошептал полусонный, но пребывающий все время начеку Кантен.
Эти мыши, судя по возне, какую они затеяли на чердаке, должны были быть весьма крупных размеров. Я подумала об Иоланде, которая осталась одна в своей комнате, и дрожь пробежала по моей спине.
— Скажи, Кантен, ты действительно думаешь, что это мыши?
— По правде сказать, нет. Это скорей всего большая птица, вероятно сова.
— Или крысы?
— Исключено, Нани, на этом чердаке уже давно нечего есть. Я не представляю, что крысы могли бы там делать.
В течение нескольких минут шум все нарастал. Суетливая возня происходила на чердаке сразу в нескольких местах. Если сова была тому причиной, она должна была обладать или даром вездесущности или бесчисленным потомством.
Кантен все же поднялся. Он зажег свет, натянул носки и исчез в коридоре. В тот момент, когда прекратилась беготня, я услышала наверху знакомые шаги: прежде чем спуститься, он обошел весь чердак. Вернувшись, он объяснил мне с напускным спокойствием, что заметил там маленькую тень, которая исчезла под балками, тень, за которой как будто проскользнул довольно длинный хвост. Он добавил, что не стоит делать из этого трагедию, поскольку не существует прохода для грызунов между чердаком и комнатой малышки. Я напомнила ему, что плинтуса растрескались в нескольких местах; на его лице при этом выразилось крайнее удивление.
Иоланда безмятежно спала, подложив ладошку под щеку. Я тихонько погладила ее лоб. Длинные ресницы медного цвета дрогнули, и она открыла глаза. Я перенесла ее в нашу постель, где она, проскользнув под одеяло, блаженно промурлыкала что-то спросонья. Когда погасили свет, она уткнулась лицом в мою грудь и вскоре заснула. Ее влажное дыхание на моей груди долго не давало мне уснуть, но я не слышала больше ни шумов, которыми была наполнена ночь, ни дыхания Кантена, которое становилось все более и более хриплым.
Глава 3
Они поднялись гораздо раньше, чем я предполагал. Не знаю, где они раздобыли сухих поленьев, но им точно удалось разжечь огонь.
Было пасмурно и прохладно из-за легкого восточного ветра, который я называю крапивным, потому что он годится только на то, чтобы всколыхнуть травы, но ему не под силу просушить небо.
Я велел Рашели дать им время приготовить кофе. Если кофе будет готов, им не останется ничего другого, как предложить ей чашечку, а ведь именно за утренним кофе часто делаются откровенные признания.
Она ушла с молоком и яйцами, а когда вернулась спустя два часа, у нее было что мне рассказать.
Прежде всего, их девчонка, она ведь круглая идиотка. Она совсем не умеет говорить, только лалалакает что-то с одной и той же интонацией. Она может расплакаться ни с того ни с сего или загоготать без причины, и в тринадцать лет они кормят ее с ложечки, потому что она не способна есть сама. Когда я увидел ее во дворе, мне уже тогда показалось, что она дегенератка, но я и не подозревал, что до такой степени. Женщину зовут Анаис. Она красится и душится, как кокотка, но в остальном, кажется, держится неплохо. Мужчина, я не ошибся, дармоед чистой воды. Его имя — Кантен. Жена готовит ему бутерброды, а их старший, Поль, занимается дровами. Этот Кантен старается быть любезным, но у него ничего невозможно выведать. Рашель его спросила, собирается ли он восстанавливать ферму. Он ответил, что нет. А не далеко ли ему будет ездить на работу? Он сказал, что не должен никуда особенно ездить. А дети — в какую школу они собираются их отдать? Маленькую идиотку, конечно, они оставят при себе, но, что касается мальчиков, они сказали, что еще не решили. Рашель, определенно растерявшая все свои способности, больше ничего не смогла у них выведать.
— На стол, — сказала она мне еще, — они поставили печенье в блюде из белого фарфора. Я должна сказать, что это красивая посуда, но я бы, с тремя детьми и, особенно, с малышкой, которая не ведает, что творит, я бы даже не вынимала ее из шкафа. Они это сделали, конечно, для того, чтобы показать, что у них есть что поставить. Младший из мальчишек, которого зовут Морис, хотел взять печенье. Мать его отчитала, сказав, что нужно было подождать, пока я угощусь. Я возразила, что это была моя ошибка, так как я замешкалась с выбором, и что к тому же печенье привлекает детей гораздо больше, чем взрослых. Малыш посмотрел на меня с благодарностью, и ты увидишь, очень скоро я буду вертеть им, как захочу, он у меня в кармане. К тому же я нахожу, что он похож на нашего Мишеля в детстве, только Мишель был покрепче. Не знаю, чем они питаются в этой семье, но мяса на костях у них, по правде говоря, немного. Если они не накопят хоть чуть-чуть жира до зимы, они попадают, как воробьи, с первым снегом. Я ей сказала, что пора им округлиться. «Но, мадам, — ответила она, — мы не стремимся поправиться, быть полными вредно». Тут уж я рассмеялась и сказала: «Да-да, так теперь говорят, но я-то знаю, что в нашей семье все худые умирали гораздо раньше, чем толстые». У нее не было возможности ответить, потому что малышка поперхнулась куском печенья, который ей положили в рот. Я подумала, что она кончается, так она посинела, но они вчетвером завертелись вокруг нее, и в конце концов она выплюнула липкий кусок на скатерть. Ты знаешь, Симон, глядя на эту малышку, мне делается не по себе. Ее большие зеленые глаза напомнили мне ту хрустальную вазу, которую Мишель привез из Италии и которая, когда она стоит на краю окна, играет в солнечных лучах, пронизывающих ее насквозь. Девчушка начинает свои лалалалала, и ты не смеешь на нее взглянуть, не смеешь посмотреть на остальных. Но ее глаза, Симон! Ее глаза…
Я прошу Рашель остановиться, так как ее манера говорить вызывает у меня головокружение. В итоге мы нисколько не продвинулись, мы не знаем ни профессии мужчины, ни обстоятельств, приведших их в эти края, которые молодежь давно покинула и где никогда ничего не происходит. В довершение всего они настояли на плате за молоко и яйца, и это свидетельствует о том, что они желают сохранить дистанцию.
Но время будет играть на меня. Он со своей ленью и всеми починками, которые его ожидают, не замедлит попросить меня о той или иной услуге.
Возвращаясь в ангар, чтобы закончить сварку, я замечаю ее, Анаис: она вытряхивает скатерть с крыльца. Я сдержанно киваю ей, и она мило отвечает мне дружеским жестом. Хвост из волос цвета соломы овевает ее затылок, и легкий ветерок играет подолом ее платья вокруг ног, белизна которых мучительной вспышкой оживляет в моей памяти эпизод с лужей.
Глава 4
Для летнего утра, нашего первого утра в Шанплере, было несколько прохладно на кухне, где мы собрались перед завтраком. Поль набрал старых щепок, валявшихся вокруг пристроек, и краткой вспышки огня хватило, чтобы стало теплее.
Мальчики сообщили, что они уже умылись до пояса ледяной водой. Подобным образом они были намерены поступать и впредь, даже в разгар зимы. Оживленный разговор завертелся вокруг нелепостей нашего былого комфорта. Поль заявил, что перегретая ванная нашей квартиры была причиной насморка, который мучил их каждый триместр. Морис добавил к этому многочисленную шерстяную одежду, которую я заставляла их надевать.
— От нее потеешь, — сказал он. — А когда холодно, потеть вредно.
Если их послушать, они будут жить голые, как индейцы племени сиу, пить ледяную воду, ходить босиком по снегу — и делать все это без малейшего намека на насморк. Пока же они жались к печке и пили обжигающий кофе из больших чашек.
Мы распределили работу на день: я поручила Полю разбирать ящики в доме и раскладывать их содержимое на кровати. Мориса я попросила собрать в глубине двора пустые коробки и оберточную бумагу, присматривая в то же время за сестрой. Кантен, подумала я, устанет меньше, если займется покупками: я составила ему список вещей первой необходимости, особенно настаивая на ловушках.
— Какие ловушки? — поинтересовался Поль.
— Возможно, на чердаке обитают две-три отощавшие крысы, — ответил ему Кантен. — Если это так, мы с ними справимся.
Морис попросил его объяснить принцип устройства ловушек и, когда понял, как они устроены, был до того возмущен жестокостью механизмов, что умолял оставить в покое несчастных грызунов.
В этот момент мы впервые услышали, как кто-то стучит в нашу дверь. Маленькая толстенькая женщина неуверенно вошла, неся с собой кувшинчик и корзинку, которые она тотчас же поставила на стол. Она представилась нашей ближайшей соседкой.
— Это та красивая ферма с красной черепицей? — спросил Кантен.
— О! Ваша гораздо красивее, особенно теперь, когда вы ее привели в порядок…
Ее волосы с проседью были собраны в толстую косу, которая доходила ей до пояса. Быстрым взглядом она осмотрела комнату.
— Я не хотела вас беспокоить, — сказала она. — Я просто пришла, чтобы угостить вас молоком и яйцами, потому что подумала, что, раз у вас дети, вам будет приятно. Ведь в первый день часто не бывает под рукой самого необходимого…
Мы поблагодарили ее и настояли на том, чтобы она выпила с нами чашечку кофе. Как только она расположилась за нашим столом, ее неуверенность испарилась, и она начала болтать громко и торопливо, перепрыгивая с пятого на десятое и обращаясь по очереди к каждому из нас, включая и малышку Иоланду, у которой эта болтовня вызывала приступы смеха. Мы узнали практически все об этой говорливой особе: ее возраст, вес, болезни, жизнь ее мужа, женитьбу Мишеля, ее единственного и обожаемого сына, на цветной, но образованной девице, которая, однако, подарила ей двух очаровательных внуков. Вверив нам свои откровенности, она ждала таких же с нашей стороны и задавала бесчисленное количество вопросов о нашей семье. Мы отвечали ей кратко, так как время шло, а у нас была обширная программа на день. Я почувствовала облегчение, когда госпожа Рашель направилась к двери. Кантен поблагодарил ее за внимание, но все же пожелал узнать цену молока и яиц.
— Можно сказать, жена индейца, — заключил Морис, когда она ушла.
— Почему не индианка?
— Нет! Индианка и жена индейца — это разные вещи.
— Дети мои, — сказал Кантен, — солнце уже высоко, и нам предстоит много дел.
Он поцеловал нас всех по очереди, как будто отправлялся в далекое плавание, взял ключи от машины и вышел во двор. Он был уже далеко, когда я сообразила, что он забыл список покупок.
Когда я вышла вытряхнуть скатерть после завтрака, я впервые увидела господина Симона, нашего соседа. Он был одет в просторную голубую спецовку и холщовую фуражку, на ногах у него были зеленые резиновые сапоги. Я махнула ему рукой, но он не увидел этого или сделал вид, что не видит. Возможно, мы все же обидели их своим настойчивым желанием заплатить за молоко и яйца, которые они нам так любезно принесли.
К полудню мальчики расправились с делами и требовали новых. Но яркий голубой просвет неба залил солнцем окрестности, и я освободила их на вторую половину дня. Поглощая свой омлет, они спорили о том, куда им лучше направиться. Морис хотел пойти в деревню, чтобы познакомиться там с другими детьми. Поль предпочитал осмотр окрестных полей и лесов. Наконец они пришли к согласию. Отдав предпочтение насекомым, птицам и диким животным и пообещав вернуться к полднику и не спускать глаз с малышки, они смело пустились в путь, вооруженные длинным шестом, парой пластмассовых биноклей и флягой с лимонадом. Я могла спокойно заняться раскладыванием вещей и заканчивала уже заполнять последний шкаф, когда Кантен, вернувшийся с покупками, заявил о себе несколькими автомобильными гудками. Я видела, как он с трудом вылез из машины, нагруженный пакетами с провизией.
— Ты забыл список, — сказала я ему.
— Это неважно, Нани, я опустошил магазины и очень удивлюсь, если нам будет чего-нибудь не хватать. Но подожди, выйди на минутку, у меня есть для тебя сюрприз.
Он выдворил меня в кухню, закрыл за мной дверь и вернулся через несколько секунд с картонной коробкой, усеянной круглыми отверстиями, которую он осторожно поставил на порог.
— Догадайся, что я принес…
В коробке, которая была слишком велика для хомяка и слишком мала для курицы, что-то зашевелилось и запищало, но я не смогла определить характер этих звуков.
— Сдаюсь. Что за кота в мешке ты принес?
— Кота? — переспросил он, смеясь.
Он поднял крышку. Белый крохотный щенок с черными пятнами неуклюже топтался в деревянных стружках.
— Вот, — сказал Кантен, — один из последних представителей породы шампанских терьеров. Представь себе, это животное — самый страшный враг крыс: преследуя их, он влезает даже в их норы. Для этого природа и сделала его таким маленьким…
Щенок, хныча, вылез из коробки, обнюхал ножку стола и поднял на нас свою гладкую заостренную мордочку. Уши падали ему на глаза, и, утопая в тени, где-то на самом дне зрачков, казалось, дремали две маленькие светящиеся искорки. Я не смогла удержаться, чтобы не взять на руки и не приласкать этот маленький живой комочек. В этот миг мое сердце таяло от мысли, что Кантен, отправившийся за пряностями и смертельными ловушками, вернулся с этим столь же очаровательным, сколь и бесполезным созданием, как всегда во власти своих нескончаемых фантазий.
Я не сомневалась, что этот забавный песик, достигнув взрослого возраста, не будет в состоянии загрызть даже мышонка, но я сказала Кантену, что его идея была великолепна. Оставалось только выбрать имя нашему элитному крысолову, что и было сделано без труда, так как мы хотели, чтобы Иоланда тоже могла его произнести.
— Мы назовем его Лала, — сказал Кантен.
Этот свирепый охотник на первых порах удовольствовался моченым хлебом и кусочком сахара. После чего свернулся на коврике и, положив мордочку на лапы, заснул, тихонько посапывая.
Глава 5
Что им действительно было бы нужно в этих местах, так это завести хорошую пастушью собаку, ночного зверя, чуткого и клыкастого, каких сажают на цепь во дворе. Вместо этого они откопали, уж не знаю где, песика размером с крольчонка, у которого нет шерсти вокруг носа и который больше чирикает, чем лает. Этот пес, как пить дать, не доживет до старости; рано или поздно охотники примут его за хорька, если только сарыч не унесет его раньше на прокорм своим птенцам. Может случиться и так, что его просто раздавят каблуком, потому что он беспрестанно вертится у них под ногами. Да только что, когда Анаис развешивала белье, он чуть не сбил ее с ног.
С ума сойти, сколько интимных подробностей может выдать сохнущее во дворе семейное белье. Малышка почти наверняка писается; ее белье занимает добрую часть веревки. Оно из простого белого хлопка, без всяких изысков, из тех дешевых, что часто меняют. А этот Кантен, он, должно быть, жутко потеет подмышками, и ему приходится менять рубашки каждый день. Я насчитал их шесть штук, полощущих рукава на ветру. Что касается ее, я хорошо разглядел ряд разноцветных трусиков, легких как дым и годящихся только разве, чтобы накрыть что-нибудь не больше яйца, но — ни одного лифчика. Делаю вывод, что она их не носит и что это в порядке вещей. Ни один носок не хранит следов штопки, значит, их выбрасывают, как только они порвутся. Что касается остального, они, вероятно, уже все простудились, так как по меньшей мере сорок носовых платков висят на веревке.
Рашель выглядывает из-за моего плеча.
— Я, — говорит она, — когда сушу свои панталоны, стараюсь не выставлять их на всеобщее обозрение.
Ей неприятно, что я смотрю на эти треугольники из воздушной ткани, куда она могла бы всунуть разве что большой палец ноги. Она набирает побольше воздуха, чтобы хватило духу, и отпускает вагон своей отменной брани.
— И она выставляет эти вещи на обозрение своим собственным сыновьям в возрасте, когда воображение работает так сильно! А потом они удивляются, что у молодых все переворачивается в сознании и они бросаются на первую встречную! Им еще нет и шестнадцати, когда они ложатся бог знает с кем, с замужними женщинами, проститутками…
— Негритянками…
— Эта женщина — шлюшка, я знала это с первого дня…
Я слышу, как нашу соседку покрывают ругательствами, и это вызывает во мне странное, почти физическое возбуждение. Я подначиваю Рашель, чтобы она не останавливалась. Некоторые слова бросают ее в краску и заставляют заикаться. Как ниточка за иголочкой, она долетает в своем воображении до ужасных сцен разврата и позора. Блондинка Анаис очень скоро превращается у нее в животное в разгар течки, распластанное на смрадном ложе, дарящее свою распаленную плоть всем рыжим мужчинам города. Потому что Рашель цепко держится за свою первую идею: маленькая Иоланда должна быть дочерью рыжего самца, вероятно алкоголика, судя по последствиям.
Рашель приходит в себя в тот момент, когда толстяк Зенон въезжает во двор на своем джипе, буксируя прицеп, наполненный шифером. Она обжигает меня взглядом острым, как удар серпа. Не знаю, какое выражение застает Рашель на моем лице, но она отскакивает назад и на секунду замирает в оцепенении, как будто увидела самого дьявола.
— Не стоит больше тратить на них время, — говорит она, отходя от окна.
Зенон наверняка приехал чинить их крышу. Он прислоняет к фасаду свою алюминиевую лестницу и ставит массивный башмак на перекладину. Впятером они выходят на крыльцо и наблюдают, как он постепенно поднимается к небу.
В трех километрах от поселка, с другой стороны долины, на двести гектаров тянутся черные сады. Так называют нетронутые земли, которые окружают бывшую деревню Шанплер, уничтоженную эпидемией чумы в 1709 году. Несколько обломков крепостной стены еще видны среди колючего кустарника, ракитника и зарослей терна. Обнаженный остов часовни, сохранивший фрагменты шифера, топорщится по ночам белоснежными перьями сов, бросающих к звездам свои тоскливые крики. Там до сих пор журчит старый фонтан, погребенный в чаще; иногда прозрачными ночами, при полном безветрии его песня доносится до поселка. В двух шагах от развалин у меня есть дюжина арпанов земли, купленных задаром в те времена, когда я еще верил в будущее. Я попробовал насадить там плантацию елей, поскольку невозможно было разводить полбу на груде зачумленных костей. Молодые посадки не протянули и двух лет: сероватая гниль заразила их корни. Иголки поблекли, и вскоре их сдул ветер. На этой черной гнилой земле в изобилии растут только цветы смерти: белладонна, белена и волчье лыко. Да еще осенью там находят самые ядовитые поганки и дьявольские грибы, пузатые как бочки.
Нынешние жители деревни, населившие ее после чумы, никогда не отваживаются проникать в глубь этой суровой земли, над которой висят старинные проклятья, и остерегаются пасти свои стада на заброшенных окрестных полях. Закрытые густым кустарником большие расщелины, достигающие неимоверных глубин, открываются в горных породах; Не один раз приходилось видеть на их дне заплутавшую и провалившуюся туда скотину. К тому же длинные шипящие гадюки, похожие на ремешки кнута, бдят на развалинах. Как-то летом один археолог, поставивший свою палатку возле часовни, спустился в поселок ползком: его глаза горели как угли, а ноги были испещрены укусами. По правде говоря, его удалось спасти, но больше в наших краях его никогда не видали.
Вначале я приходил туда только по делу, всегда захватывая с собой заступ из острого железа, чтобы расшвыривать гадюк. Но после двойного предательства Мишеля я чувствую себя там лучше, чем на пастбищах с жирной травой или на плодородных пашнях. Часто я доезжаю на тракторе до холма Оллегард, затем пересекаю целину и достигаю старого пихтового леса в том месте, где открываются почерневшие скелеты моих елей среди колючего кустарника. Я выключаю мотор и слушаю ветер, свистящий в руинах. Иногда я вылезаю из трактора и пробираюсь сквозь густые заросли, шаря перед собой железной палкой. Старый фонтан шуршит в тишине шепотом мертвецов. Там, в этих местах, где было похоронено столько мечтаний, я вдруг ощущаю чье-то сочувственное и доброе присутствие. Застывший жест кузнеца просыпается, и мне кажется, я слышу, как молот звенит о наковальню. Двери поют на петлях, и звуки шагов отдаются в сердцевине камня.
Сколько их было, моих братьев черных садов, когда погасло дыхание их надежд? Три сотни, может быть, четыре? Чума, унесшая их, покрыла их тело бурбонами. Та же, что ведет меня среди них по извилистым змеиным тропинкам, разъедает мне медленно душу.
Глава 6
Мне не понадобилось много времени, чтобы понять, что я недооценила Лала. Наш пес-малютка, тщедушный вид которого вызывал жалость, не ждал, пока ему наступят на хвост. Живой, как мангуст, он крутился волчком и, приподнимая розовые губы, скалил свои острые, как сверла, зубки, без колебаний вонзая их наобум в запястье или лодыжку. Его первой жертвой стал агент телефонной службы, который пришел подключить наш аппарат: успокоенный благодушным видом собаки, он хотел потрепать ее по морде. У господина Зенона, пришедшего чинить нашу крышу, была, в свою очередь, прокушена штанина.
Этот шелудивый щенок был одарен к тому же замечательной способностью распознавания. По прошествии трех дней он различал без ошибки всех действующих лиц своей маленькой вселенной, где в качестве госпожи он выбрал Иоланду. Он не отставал от нее ни на шаг и, будучи совершенно крохотным, претендовал на то, чтобы ее защищать. Так, он начал сопровождать детей во время их прогулок и при малейшей опасности, словно куропатка, взлетевшая среди жнивья, кидался в ноги малышке, не давая ей идти вперед. Морис, которого этот избыток дружбы заставлял немного ревновать, утверждал, что Лала поступал так не столько, чтобы защитить Иоланду, сколько, чтобы самому найти защиту. На что Поль, возмущенный подобной клеветой, возражал, что, если бы Лала действительно искал защиты, он бы прятался за Иоланду, а не кидался бы перед ней. Этот обмен мнениями грозил перерасти в ссору, так как Поль от имени собаки требовал извинений. Призванный рассудить спор, Кантен объявил им, что Лала, бесспорно, не трус, поскольку рискнул вцепиться в огромного господина Зенона, когда тот позволил себе слишком резкий жест в присутствии малышки.
Это правда, что появление собаки изменило Иоланду. Вначале она забавлялась им, как плюшевой игрушкой, поднимая его то за хвост, то за ухо, и при этом щенок не только ни разу ее не укусил, но даже ни разу не зарычал в ответ. Не знаю отчего, оттого ли, что она услышала, как скулит Лала, или от ощущения его маленького трепещущего язычка на своей щеке, но она вдруг осознала жизнь, которая билась в ее руках. Впервые она смогла контролировать свои жесты и обнаружила некоторые навыки предосторожности.
Последние дни августа были самыми чудесными за лето. Дети отправлялись на длинные прогулки, после которых возвращались нагруженные новыми сокровищами. Легкий загар золотил их кожу и еще больше оттенял блеск их глаз. В то время как Лала, доведенный до изнеможения, сворачивался в комочек в кресле, они раскладывали свои находки на столе в кухне. Это была то едва порозовевшая ежевика, которую они, морщась, выплевывали, то круглые, как жемчужины, ягоды бузины, то еще зеленые орехи, которые они собирались «довести до зрелости» возле огня. Порой это бывало перо дикого голубя или лесной совы. Иногда мальчики завязывали вокруг талии Иоланды пояс из колокольчиков, что делало ее похожей на маленькую дриаду. Они неплохо изучили окрестности и простирали свое любопытство все дальше и дальше. Я попросила их только никогда не пересекать холм Оллегард по направлению к руинам, так как, со слов госпожи Рашель, эти малодоступные места были испещрены расщелинами и кишели гадюками.
Наша милая соседка однажды пришла ко мне, когда я старалась среди чертополоха и крапивы очертить границы старого огорода.
— Не пытайтесь выполоть все это, — сказала она. — Мой муж в октябре пройдется здесь хорошенько плугом. Это не займет у него и часа, а у вас будет земля, готовая для посадок.
— Это так любезно, госпожа Рашель. Я как раз думала о том, как я справлюсь с этими сорняками.
— Нужно помогать друг другу по-соседски, не правда ли? И к тому же мы так довольны вашим появлением здесь. Уже пятнадцать лет как умер поселок и не видно дыма, поднимающегося из труб. Для ваших овощей, вот увидите, это будет хорошая земля, но вам придется обнести их оградой из-за котов, которые выскребают семена. Если вы хотите, на святую Катерину я принесу вам черенки черной смородины и малины, из них получится славная изгородь. Жаль, но фруктовые деревья в этом году вам ничего не дадут, разве что несколько яблок. Это все из-за сильных заморозков, которые были в апреле. У нас-то фруктовые деревья укрыты с северной стороны, и, если вы захотите две-три корзины ранета и слив, вам стоит только попросить ваших ребятишек их собрать.
Жена Индейца, как прозвал ее Морис, больше к нам не приходила. Она предпочитала с нами заговаривать, когда мы были во дворе или в саду, чаще всего с тем чтобы предложить нам ту или иную услугу. Что касается самого Индейца, мы видели его редко: иногда он незаметно проходил вдоль стен своей несгибаемой походкой, иногда прокрадывался прямо за кабиной своего трактора, но при этом никогда не забывал нас издали робко поприветствовать.
Легкость, с которой они нас приняли, озадачила Кантена. Он провел часть своего детства в деревне и знал на собственном опыте традиционную закрытость сельских жителей.
— Я вот думаю, — поделился он со мной однажды вечером, — не жаждут ли они заполучить наши два гектара лугов под свои пастбища?
Он ошибался. Подобная просьба действительно последовала, но со стороны господина Зенона, когда он пришел чинить нашу крышу. Мы были тем более смущены своим вынужденным отказом, что он не только нас выручил, недорого запросив, но к тому же принес нам со своей фермы двух только что убитых кроликов. Мы сказали ему, что в мае собираемся на этой земле поставить на выпас пару осликов.
— Осликов? — переспросил он с круглыми от удивления глазами.
— Да, — сказал Кантен, — для детей, они давно об этом мечтают.
Господин Зенон не смог скрыть своего разочарования. И хотя его снедало желание взять своих кроликов обратно и увеличить плату за работу, он все же согласился пропустить полуденный стаканчик и сделал вид, что интересуется нашими детьми. Это было как раз в тот момент, когда, в довершение всех несчастий, Лала бросился на него и яростно повис на его штанине.
Посреди двора, под кроной каштана, на котором уже начинали золотиться орехи, мы разместили обеденный стол и ужинали на открытом воздухе, переживая попеременно моменты то радости, то грусти. Свет, медленно умиравший на камнях известняка, казался процеженным сквозь витражи поблекшего золота. Я знала, что у мальчиков он непреодолимо вызывал мысль о конце каникул и о начале нового учебного года. Для Кантена же он своей нежной лучистостью гармонировал с покоем, которого он так жадно искал. Он закончил расстановку в своем кабинете и погрузился в перевод последнего романа Камачелли. В послеполуденные часы я с тревогой прислушивалась к звукам его печатной машинки, стрекотавшей на втором этаже. Часто мне приходилось настаивать, чтобы он ограничивал свою работу тремя или четырьмя часами в день. Он чувствовал себя так хорошо, что забывал принимать свой дигиталин.
Как только темнело, Поль зажигал старую керосиновую лампу, которую он нашел в пристройке и наладил для нас. Большие бархатистые бабочки гудели вокруг стекла, и крики ночных сов доносились из соседнего леса. Для мальчиков это был повод, чтобы заговорить о странном «птичьем дворе», который населит нашу ферму следующей весной: кролики, которых мы оставим жить до старости, петух, у которого не будет другой заботы, как только будить нас по утрам, белая козочка, которой будет вменено в обязанность щипать траву в нашем фруктовом саду, и, конечно, не были забыты ослики, которых мы уже заказали. Чтобы разместить этот маленький живой уголок, нужно было построить жилища. Их материал и постройка стали предметом наших оживленных бесед, так же, впрочем, как и распределение будущих обязанностей.
Я не сводила глаз с Кантена и замечала порой, как в его взгляде, в те минуты, когда мальчики с такой уверенностью рисовали в воображении картины нашего будущего, вдруг пробегала тень. Вокруг пламени лампы, дрожавшей на вечернем ветру, кружились мечты и проекты, похожие на бабочек, ищущих забвения в огне.
Глава 7
Чтобы сожаления покоились на вязком дне, есть только одно средство — работать с утра до вечера и уставать до изнеможения. Когда же приходит ночь и вы еще не совсем выбились из сил, остается телевизор.
Ни под каким видом нельзя позволять воспоминаниям выныривать на поверхность, их следует крепко держать под сонной водой, как слепых котят, которых решили утопить.
Признаться, с тех пор как они приехали, я потерял вкус к работе. Стараюсь управиться с ней побыстрее на восходе, иными словами — халтурю. В ожидании урожая полбы я больше времени, чем где-либо, провожу у окна.
Не знаю, что толкает меня к этим нескончаемым сеансам наблюдений. То, что в начале было лишь формой мелкого любопытства, грозит превратиться в настоящее порабощение. Я не могу не смотреть, как они живут, не подмечать их жесты, не улавливать их малейшее перемещение в пространстве. Их дни заменили мои, и эхо их голосов отдается в глубине моих ночей. С первого мгновенья я знал, что некая острая угроза нависла над этой безмятежной картиной юности, красоты и счастья. Что-то произойдет здесь очень скоро, что-то, чему мне предстоит стать неизбежным свидетелем.
В центре этой хрупкой вселенной сияет блондинка Анаис. Она сердцевина и кора, тело и дух всей тамошней жизни. Между утренним мгновеньем, когда она появляется на пороге, хлопая скатертью, как флагом, и вечерним мигом, который рисует мне ее силуэт за освещенными окнами, время бездвижно, и тяжелая скука давит землю. Мне случается проводить по два, иногда по три часа на моем посту, подстерегая ее нежданное появление.
Вот уже несколько дней, как они взяли в привычку ужинать под каштаном. Я могу видеть, как они едят, разговаривают, смеются. Она, ее профиль, освещенный керосиновой лампой. В игре теней она словно меняет маски каждую минуту. Иногда дрожащее пламя придает ей на короткий миг выражение непереносимой боли, и я чувствую, как при этом внезапно учащается мое дыхание.
Как охотник, застигнутый врасплох без патронов, довольствуется хлопаньем крыльев, так довольствуюсь и я мимолетным выражением ее лица, заполняющим мое тягостное ожидание.
Но чаще всего у меня перед глазами только пустынный двор. Эти долгие минуты бдения, в которых медленно разворачивается цепь событий, буравят в бездвижности и тишине пустоты, заполняющиеся вскоре эхом воспоминаний.
Я хотел научить Мишеля секретам плодородных почв и сезонным оборотам. После нескольких выкидышей у Рашели и операции, которая навсегда сделала ее бесплодной, весь груз моих надежд был возложен на него. Ему не было и десяти, когда он водил уже трактор по раскисшим дорогам и сопровождал меня на сенокосы, пахоту, сев. Попробовав на язык щепотку земли или раскусив еще незрелое зерно, он мог оценить объем будущих урожаев. С собаками, которых он сам выдрессировал, он в одиночку водил стада на пастбище. Быки его слушались. Его сила и здоровье удивляли всех.
Это было то время, когда я старался купить малейший клочок земли, поставленный на торги в радиусе нескольких миль. К совершеннолетию Мишеля я намечал заиметь не меньше чем сто гектаров земли и сто голов скота.
Возможно, я ошибся, послав его учиться на инженера-агронома. Город, где он снимал комнатушку, полностью изменил его. Когда он возвращался домой на выходные или каникулы, его уже не радовали ни рост колосьев, ни количество телят в хлеву. Если он и помогал мне на тяжелых работах, то исключительно из сыновнего сочувствия, но сердце его было не здесь. Едва получив диплом, он устроился работать на завод удобрений. Перед этим у нас состоялся довольно бурный разговор, и среди прочего Мишель мне холодно бросил, что у традиционного земледелия нет будущего, разве что обратиться к макрокультурам и объединиться в тресты. Нам, мелким хозяевам, постигшим единственную науку — науку бедствий наших отцов, останется только жалкий кусок на пропитание, прежде чем наше поколение сотрется в прах. Через двадцать, максимум тридцать лет останутся только конгломераты по меньшей мере в тысячу гектаров.
Однако я все же не терял окончательно надежды. Может так случиться, что когда-нибудь Мишель вернется к земле против собственной воли, как возвращаются к вину, узнав однажды опьянение. Я нанял работника для тяжелых сезонных работ, Рашель взяла на себя ярмо молочной торговли, и в течение двух лет мы узнали, что значит жизнь каторжников. Мишель приезжал навещать нас все реже и реже. Он носил теперь галстук и туфли из лакированной кожи. И больше ни разу его нога не ступала в хлев.
Однажды осенью, в воскресенье, он неожиданно приехал к нам в сопровождении некой негритянки, которую обнимал за талию. Он сказал нам, что ее зовут Лора, что она работает с ним на заводе удобрений и что через два месяца они поженятся. Со спины она смотрелась неплохо, но ее толстые блестящие губы, ее нос, похожий на раздавленный посередине лица инжир, и волосы, как у черного барана, привели нас все же в сильное замешательство.
С тех пор она произвела на свет двух шоколадных детей, по совести, не более гадких, чем обычные деревенские дети. Рашель от них без ума. Я тоже очень старался их полюбить, часто сажал их на колени, но ничто не помогает. Я не узнаю в них свою плоть и кровь. И я знаю, что они никогда не согнут свои спины над землей.
После женитьбы сына мясобойщики унесли две трети скота. Я начал распродавать наше добро маленькими порциями, и на сегодняшний день у нас остались только прилегающие луга, поле Морвида и участок черных садов, который никто никогда не захочет приобрести.
Остатки этой с таким трудом завоеванной территории уйдут из семьи; когда выроют для меня могилу на маленьком кладбище Шируля, они вслед за всем остальным отойдут в чужие руки, и самые зловонные из этих участков канут в забвение. Не останется ничего от целой жизни пота и труда, ничего, даже воспоминания о моей тени на апрельских лугах, обрызганных светом.
Глава 8
Голос Иоланды изменился. Односложные слова, которые она произносила раньше сплошным потоком, начали внятно разделяться, окрашиваться различными интонациями и образовывать нечто вроде гармоничного лепета. Между двумя междометиями стали возникать паузы, то длиннее, то короче, в зависимости от обстоятельств. Когда рано утром Поль и Морис выходили из дома и шли по направлению к холму Шируль, где их должен был забирать школьный автобус, она следила за ними из окна кухни. Прибытие автобуса, посадка мальчиков и закрывание дверей соответствовали паузам между ее ла-ла, которые выражали ожидание или удивление. Отныне существовала прямая связь между ее зрительным восприятием и звуковым выражением, и это позволило нам надеяться, что она вступает в новую фазу умственного развития. Спокойная обстановка, которая окружала нас с недавних пор, и постоянное присутствие собаки, возможно, послужили причиной этого «щелчка», в который некоторые специалисты еще продолжали верить.
Чтобы закончить мелкие работы и построить, не слишком переутомляясь, наш птичий двор, Кантен приобрел инвентарь, который занял половину сарая. Я, признаться, думала, что с таким количеством инструментов мы обеспечены до скончания дней, но подобные мысли в отношении работ по дому были лишь свидетельством моей очевидной наивности.
Будучи полным профаном, я представляла, что, скажем, для распилки вполне достаточно зубчатого лезвия, закрепленного в рукоятке, в крайнем случае запущенного мотором. Когда я услышала в первый раз о «прыгающей» пиле, я решила, что этот чудо-агрегат начнет подпрыгивать прямо на верстаке, но Кантен убедил меня, что механизм совершенно безопасен. Сменные ножи, большую коллекцию которых он приобрел, должны были позволить ему обрезать цинк, пластмассу, фанеру, но только не поленья, так как для их распилки требовалась другая пила, дисковая. Эта пила, закрепленная на стальном столе, оказалась совершенно непригодной для рубки леса или подрезки деревьев, операций, требовавших покупки механической поперечной пилы; к тому же этот ревущий механизм, неприспособленный к обустройству изгородей, не исключал ни бензопилы для прореживания кустарника, ни секатора на батарейках.
Качественные доски можно было получить только с помощью ленточной пилы, и не могло быть речи об обработке камня или кирпича без точильной машины.
Кантен проводил вечера за чтением инструкций по сборке и эксплуатации. В магазине инструментов, по моим представлениям, должны были разворачивать красную дорожку всякий раз, когда он брался за ручку двери.
Но вскоре ему пришлось отказаться от мысли использовать все эти диковинки. Пришло письмо из медицинского центра, приглашающее нас связаться с профессором Верленом, который возглавлял кардиологическое отделение. Вот уже около двух лет Кантен значился в списках лиц, ожидающих трансплантации. Нам сообщили, что подошла его очередь и что он должен готовиться к предстоящей операции. Ждали только донора, кровь и ткани которого были бы совместимыми, но при этом добавляли, что дорожные происшествия в осенние дни не редкость. Это мог быть вопрос дней или недель.
В ожидании операции Кантен должен был делать все, чтобы поддерживать себя в самой лучшей форме. Предписания не отличались от тех, которые были даны ему при последнем приступе: абсолютный покой, минимум работы, короткая ежедневная прогулка, легкая пища и сексуальная воздержанность. Не нужно было менять и дозу дигиталина.
Кантен очень хорошо воспринял новость. Надежда в скором времени вновь вернуться к нормальной жизни рассеивала его опасения. Он с легкостью пообещал отказаться от своих столярных занятий и не посвящать больше часа или двух в день переводу Камачелли. Его безмятежность была восхитительна, но я с трудом могла ее разделить. Я не смела и подумать о той минуте, когда он окажется в руках хирургов, с рассеченной грудью и вынутым сердцем, его собственным сердцем, брошенным на дно мешка и тотчас замененным на сердце незнакомца.
Глава 9
У меня все время перед глазами эта тетрадь из чертовой кожи, в которой около сотни пословиц о нашем климате. Это всего лишь скверные стишки, аккуратно переписанные, но они хранят в себе тридцатипятилетний опыт кропотливых наблюдений. Секрет дождей и сухих ветров хранит восточная часть неба. На рассвете окно открыто навстречу большим грозовым тучам мира и навстречу дрожи весеннего равноденствия.
Днем восток алеет розой По весне — к дождю и грозам, Летом в полдень роз не встретить, В осень — жди легчайший ветер, А зимою — спад мороза.Я переписал эти стишки с таким прилежанием для того, чтобы Мишель смог их читать. Но Мишеля больше не волнует, какая будет погода, за исключением тех дней, когда ему приходится планировать свой отдых. Тогда он, как все, смотрит по телевизору красивые снимки антициклонов на Азорских островах и зон с неизменно пониженным давлением на севере Шотландии.
В нынешний полдень небо на востоке не предвещает ничего хорошего. Ниточки пепельных облаков тянутся в бледном свете. Меня скорее беспокоит этот свет, мутный, как вода в пруду, и неизменный вдоль всего горизонта. Безветрие, ни малейшего дуновения. Гроза, которая скоро на нас обрушится, вне всяких сомнений, будет самой сильной в этом году. По моим расчетам, она разразится через пять, максимум шесть часов, и можно уже надевать траур по позднему урожаю маиса и полбы. Нам пришлось вернуть Розали в хлев, и она грустно мычит, потряхивая цепочкой. Она тоже чувствует опасность с приближением грозы. Накануне она выколола себе глаз веткой рябины, сломанной ветром и торчащей, словно железная пика в изгороди. Ниточки засохшей крови украшают ее морду. Чтобы держалась повязка, ей сделали перевязь между рогами.
— Раньше этого бы никогда не произошло, — говорит Рашель, — раньше ты осматривал ограду каждое утро. У Розали уже гной в глотке, и я не удивлюсь, если нам придется ее зарубить. И потом, если ты не соберешься в ближайшее время сжать поле Морвида, полба сгниет на корню.
Мне ничего не оставалось, как только сбежать от нее и укрыться в ангаре, запыленное окно которого с недавнего времени стало моей новой обсерваторией. Правда, вид на соседний двор не так хорош, как из кухни, но, по крайней мере, я не чувствую больше, как Рашель крутится вокруг меня. Ее присутствие стало для меня невыносимым.
Вчера я увидел во сне, что она случайно упала в дробилку для свеклы. И вышла оттуда сквозь сетку слюнявыми волокнами. Я собрал ее в ведро и без малейших сожалений накормил этим свинью, прежде чем вновь занять свой пост перед окном.
В два часа, когда небо становится похоже на маслянистую бронзу, я вижу, как они выходят втроем, двое сорванцов и малышка, а следом за ними — их миниатюрная собачонка, тявкающая у ног. Вначале они направляются к холму Шируль, стоят минуту в неуверенности, затем возвращаются обратно и сворачивают к лесу Шеврей-Аман. Поскольку я потерял их из виду, я поднимаюсь в зернохранилище и пробую следить за ними в слуховое окно. Они выписывают по полю зигзаги, часто оглядываясь назад, идут вдоль опушки леса и затем внезапно припускают бегом в сторону холма Оллегард. На четверть часа они исчезают из моего поля зрения, а когда я вновь замечаю их крошечные светлые силуэты, они уже пересекли границу черных садов. Первая вспышка молнии блестит вдали. Гроза будет над ними, прежде чем они достигнут руин.
Рашель, видя, что я вскарабкиваюсь на трактор, выходит ко мне навстречу. Слова, которые она произносит, тонут в реве мотора, запущенного мною на все обороты.
Я не добрался еще до Оллегарда, как небо разразилось ливнем без единого грозового раската. Дождь стеной обрушивается на землю и превращает дорожную колею в ручьи. Потоки грязи перекатываются во рвах, унося камни весом в фунт.
Раскаты гроз на склоне лета — То безопасная примета. Но коль в тиши идет гроза И гром не бьет в набат, На острие копья слеза, Сверкнув, осветит ад.У меня такое впечатление, что я веду не трактор, а шаланду. Ничего не видно в двадцати метрах. Отвратительный запах гнили поднимается с кипящего грунта. Я знаю, что в эту минуту они мечутся в поисках укрытия, но там, где они сейчас, им удастся найти только несколько плешивых елей, затопленные овраги да топорщащиеся заросли колючего кустарника. Я быстро огибаю Оллегард, рискуя перевернуться или быть унесенным потоками грязи. Трактор качается и норовит встать поперек дороги. Я останавливаюсь на вершине косогора и запускаю мотор на полную мощность. Нечего и говорить о том, чтобы воспользоваться сигналом; что бы ни произошло, каждый должен подумать, что я проезжал здесь случайно.
Через несколько минут они появляются у подошвы склона, промокшие до нитки, неузнаваемые. Старший тащит сестру за руку и машет мне изо всех сил. Я открываю им дверцу.
— Вам повезло, что я проезжал здесь. Поднимайтесь, живо! — Из-за дождя, громко хлопающего по железу, приходится кричать во все горло, чтобы было слышно. Мальчишки живо загрузились в кабину. Но малышка ни за что не хочет уходить с дороги.
— Лалала!
Она плачет, глядя в сторону часовни, что у старой деревни, туда, где голубые прожилки молний, похожие на ветви деревьев, освещают небо. Ее намокшее платье липнет к телу, и с каждым рыданием поднимаются две маленькие, как шарики, груди. Младшему брату приходится силой втаскивать ее внутрь.
— Мы потеряли нашу собаку, — говорит он.
Я отвечаю ему, что она наверняка спряталась в лесу и что они найдут ее после грозы. Он, кажется, не слишком в это верит. Малышка продолжает плакать в тишине. Ее волосы цвета ржавчины, приклеившиеся к впалым щекам, оттеняют бледность ее лица. В первый раз я вижу ее так близко, и это правда, что от ее глаз перехватывает дыхание. Они как колодцы с зеленой водой.
Катясь по изрытым дорогам, я не стесняясь могу наблюдать за ней, свернувшейся в комочек возле меня, вжавшейся спиной в дверцу и откинувшей назад голову. Золотая цепочка дрожит на ее белой и длинной шее.
Я вынужден признать, что это красивый ребенок, и я подумал вдруг о тех зараженных деревьях с такой гладкой и такой приятной на ощупь корой, что невозможно устоять перед искушением вонзить в нее ноготь. И тогда черный и гнилой сок брызжет в надрез, заливая руки.
Глава 10
Соседка широко открыла дверь и сделала шаг назад, чтобы дать мне возможность войти. Я ступила на большой половик из волокон кокосового ореха и остановилась, так как с непромокаемого плаща, который я набросила на плечи, стекали капли дождя. Сильный запах сырого молока плыл по коридору. Когда я объяснила ей причину моего визита, госпожа Рашель как будто удивилась.
— Дайте мне ваш плащ, — сказала она, — и проходите в кухню, там тепло, а я позову мужа.
Она оставила меня одну на несколько минут перед шипящей печью. Высокий посудный шкаф из светлого дуба был украшен фаянсовой посудой, той, которая в избытке сверкает на витринах искусственной позолотой, но которой обычно никогда не пользуются. От одного края этажерки до другого гипсовые фигурки, раскрашенные в яркие кричащие цвета, представляли домовых, одетых в красные колпачки: один из них толкал перед собой пустую тележку, другой черпал воду маленьким медным ведерком, третий тащил бочку на своем горбу. На каминной полке в картонных и пластмассовых рамках томились семейные портреты. Лица стариков в ореоле света увлажненными глазами терпеливо взирали на свое потомство. На первом плане молодая негритянка в свадебном платье подставляла щеку юноше в цилиндре. Рядом, поставленные так, чтобы их можно было видеть из любой точки пространства, стояли фотографии двух маленьких метисов с ясными глазками и сверкающими улыбками.
Госпожа Рашель появилась вновь, неся бутылку из обожженной глины, которую она тотчас начала откупоривать с помощью небольшого ножика. Затем она поставила на стол три стакана для ликера. Я увидела входящего господина Симона, который коротко приветствовал меня кивком головы. Не знаю почему, но он скорее напоминал мне моряка, чем земледельца. Он был довольно-таки высокого роста, прямой, как мачта, с неторопливыми скупыми жестами. Большие черные бакенбарды, простроченные серебряными нитями, закрывали его щеки до подбородка. Подвижные зрачки в глубине карих глаз, казалось, перелетали с предмета на предмет, никогда ни на чем не останавливаясь.
Я поблагодарила его за то, что в эту страшную грозу он привез детей домой целыми и невредимыми. Он мне ответил, что был удивлен, когда заметил их внезапное появление на дороге Оллегарда в разгар грозовых вспышек. У него был глубокий неровный голос с резкими перепадами интонаций.
— Счастье, что мой муж там проезжал, — сказала госпожа Рашель. — Тем более что это очень опасное место, я, впрочем, вас об этом предупреждала…
— Поверьте мне, после ваших слов я настоятельно просила их не пересекать холм Оллегард, но вы ведь знаете детей. Говоря им о руинах, оврагах и гадюках, я думала, что могу удержать их. Но я только разбудила их любопытство и вкус к приключениям. Чтобы сбить нас с толку, они сделали вид, что направились к холму Шируль, а сами вернулись к Оллегарду вдоль кромки леса. Поль взял с собой кухонный нож, чтобы защищаться от змей. Теперь он так огорчен…
Госпожа Рашель наполнила стаканы с точностью, которая меня удивила. Трижды ей удалось достичь полных краев, не пролив ни капли.
— Пейте, — сказала она мне, — это вас успокоит.
Я поднесла к губам прозрачный напиток, пахнущий орехами и крапивой.
— Вы нашли вашу собаку? — спросил господин Симон.
— В том-то и дело, что нет. Когда дети вернулись, мой муж хотел отправиться на ее поиски, но из-за дождя не смог уйти далеко. Как вы думаете, эта гроза еще долго продлится?
— Добрую часть ночи, — ответил господин Симон. Но не беспокойтесь, это еще щенок и его, должно быть, напугали удары грома. Наверняка он укрылся где-нибудь в лесу. Я убежден, что вы найдете его завтра.
— Счастье, — сказала госпожа Рашель, — что в грозу ваши дети не встретили Бишели.
Господин Симон тронул ее за руку, как будто предлагая замолчать, но она продолжила. Она рассказала мне, что Бишель жила в старой деревне Шанплер незадолго до эпидемии чумы. Она была женой честного и храброго дровосека, единственный недостаток которого заключался в его неспособности плодить детей, не по причине полового бессилия — этот славный малый был полон сил и всегда готов к услугам, — но из-за несовершенства его семени, что помешало ему обрюхатить двух своих первых жен. Каждый вечер горячий дровосек честно удостаивал визитом ложе Бишели, но это совсем не помогало ей округлиться под воздействием возобновляемых им знаков внимания. И хотя Бишель была целомудренна и набожна, ее жажда материнства оказалась столь жгучей, что она отступилась от веры и однажды вечером, в грозу, в блеске молнии отдалась большому обезумевшему оленю. От этого необычного союза родился фавн с головой человека, ровный лоб которого украшали рога; сразу после обрезания пуповины, он начал прыгать по комнате, издавая душераздирающие крики. Жители деревни Шанплер, взбудораженные повивальной бабкой, убили монстра ударом кирки и сожгли его тело на груде хвороста. Не пережив ужаса этого рождения и мерзости преступления, дровосек кинулся живым в раскаленные угли костра, в то время как бедняжка Бишель, тронувшаяся рассудком, полуголая скрылась в лесах. И, словно возмездие за жестокость, очень скоро в деревню пришла чума. С тех пор во время грозы можно иногда видеть, как Бишель бродит под большими деревьями в сопровождении стада величественных оленей.
В продолжении всего повествования господин Симон сидел тихо, как будто погруженный в дрему. Едва прозвучало последнее слово, он вступил в разговор, чтобы сказать, что с тех пор, как он живет в этих краях, он пережил тысячу гроз, но никогда не видел даже тени Бишели. Самое большее, ему приходилось два или три раза сталкиваться с испуганным оленем, который спасался от своры собак или опустошал поля люцерны.
— Это потому, что ты не хочешь в это поверить, — сказала госпожа Рашель. — Я видела Бишель, и моя мать ее видела много раз, и мать моей матери…
— Всякий раз, когда грохочет гром и девушка из поселка попадает в тень деревьев, вам кажется, что вы видите эту Бишель.
Госпожа Рашель, лицо которой побагровело, бросила на него ожесточенный взгляд. Я почувствовала, что перебранка рискует обернуться ссорой, и прервала их, поспешив откланяться. Господина Симона как будто обрадовал мой уход. Его рукопожатие оставило у меня ощущение, что я держала в своих пальцах кусок корня.
Они стояли на пороге, пока я пересекала двор под неистово хлеставшим дождем.
Я обнаружила Кантена перед печкой на кухне. У него были красные глаза и руки, испачканные сажей: он пытался остановить дым, просачивавшийся через муфту патрубка.
— Этого следовало ожидать, — сказал он. — Уже скоро месяц, как печник обещает нам прийти…
С каждым новым порывом ветра голубое облако дыма влетало в комнату, где становилось все труднее и труднее дышать. Мы решили перебраться в гостиную, предпочтя холод удушью. Из-за грозы резко упала температура, и ветер, насыщенный дождем, задувал сырость внутрь стен. Мы разместили детей в комнате Иоланды, единственной комнате, в которой имелся электрический радиатор. Растянувшись на полу, Поль и Морис лениво разыгрывали партию в домино, стараясь не разбудить малышку. Исчезновение собаки настолько ее взволновало, что мы были вынуждены дать ей успокоительное.
В наших стенах царила атмосфера уныния, которую раскаты грома делали еще более гнетущей. Закутанный в зимнее пальто, воротник которого доходил ему до глаз, Кантен пил маленькими глотками травяной чай из вербены. Его лицо осунулось от боли и беспокойства.
— Господин Симон полагает, что Лала спрятался где-то в лесах. Он уверен, что завтра мы его снова увидим.
— Возможно, но есть опасность, что он не сможет отыскать дороги домой. Если он не вернется завтра к утру, мальчики не пойдут в школу. Я отправлюсь с ними на поиск, и мы прочешем местность со стороны Оллегарда.
Я подумала о рекомендациях Верлена, который мог позвонить в любую минуту. Нужно было непременно отговорить Кантена от новых нагрузок. Я предложила ему объехать на машине соседние деревни, в то время как мы с мальчиками отправимся в пешую разведку. Если Лала пошел по дорогам, то столь необычную собаку не могли не заметить. Кантен покорно согласился с моим предложением.
На улице ветер удвоил свою мощь. Мы слышали его упрямое дыхание, которое накатывалось на старые стены и заставляло дрожать окна. Мне вспомнился рассказ госпожи Рашели, и я принялась рассказывать Кантену легенду о Бишели. Непонятное волнение охватило меня, когда я представила соитие молодой женщины с диким животным. Но, очевидно, красивая, трагическая история оленьей нимфы оставила Кантена равнодушным.
— Короче говоря, эта несчастная родила на свет ребе-тёл-ка.
Он произнес мне слово по складам с деланной улыбкой, но поскольку его каламбур не произвел ожидаемого эффекта, он погрузился в угрюмое молчание.
В шум грозы настойчиво вплетался какой-то посторонний звук. Это было похоже на поскребывание у входной двери. Лала, наконец! Кантен, казалось, ничего не слышал. Я поднялась, стараясь не суетиться, и направилась к двери. Это был всего лишь ползучий шиповник, оторванный ветром от проволочной сетки и царапавший своими шипами дверь. Двор был пустынен, время от времени его освещала ослепительная вспышка, бросавшая на мокрые камни мостовой тень огромного каштана.
На соседней ферме единственное окно светилось в темноте желтым прямоугольником. Я различала за стеклами неподвижный контур, который вначале приняла за вешалку.
Внезапно силуэт начал колебаться, исчезать и приближаться, потом опять отдаляться, пока не обрел свое первоначальное положение и совершенную неподвижность.
Глава 11
Гроза закончилась так же быстро, как и началась. Незадолго до рассвета ее раскаты отошли, унося с собой потоки воды и сумасшедший ветер к равнине Шээн.
Тишина усиливает журчание переполненных водостоков. Время от времени из хлева доносится жалобное мычание Розали, за которой должны приехать на рассвете, чтобы увезти ее на бойню.
Я провел ночь в кресле на кухне не сомкнув глаз. Мысль о том, чтобы лечь рядом с Рашелью, казалась мне невыносимой, особенно после спора, последовавшего за визитом соседки. Когда мы остались одни, Рашель меня спросила, нравится ли мне Анаис вблизи так же, как издалека. Поскольку я не отвечал, она сказала, что относительно лифчиков я сильно ошибся, она их очень даже носит, так как под ее кофтой виден рисунок бретелек. Затем она обратила мое внимание на стакан из-под ликера со следами помады и предложила мне из него выпить.
— Так ты узнаешь ее мысли, а это уже кое-что…
Разговор пошел на повышенных тонах. Я взял бутылку из обожженной глины за горлышко и поклялся Рашели, что разобью ей голову, если она не замолчит. Она, я думаю, заплакала, скрывшись в своей комнате.
Грозовые раскаты перекрывали бой настенных часов, который превратился в едва слышное позвякивание через каждые четверть часа. В окно я увидел соседку, выходящую на крыльцо. Несмотря на порывы ветра, которые задували ей юбку между ляжками, она довольно долго оставалась неподвижной. Вначале я сделал шаг назад, чтобы спрятаться от ее взгляда. Потом, словно бы отвечая на какой-то таинственный, неведомый призыв с ее стороны, я вышел на яркий свет, к самому стеклу. Мы стояли так несколько секунд в немом и дерзком противостоянии. Нас разделяло пространство в сорок метров, тревожимое грозой, но я чувствовал ее ближе, чем когда она сидела напротив меня в кухне и запах ее духов разливался в пространстве.
Некоторое время спустя она вернулась в дом, дрожа от озноба; центральное окно второго этажа осветилось. Я знаю, что именно там они разместили свою ванную комнату. Закрытые занавески позволяют различить против света лишь волнообразные силуэты.
Пока Рашель рассказывала историю Бишели, у меня было время внимательно рассмотреть нашу соседку. Ничто в этой женщине не показалось мне случайным или бессмысленным; чувствуется, что она следит за своей манерой сидеть, скрещивать ноги, держать стакан из-под ликера в своих тонких пальцах, будто она старательно играет давно заученную роль, так же старательно, как наводит макияж. На кого она похожа без облака этой голубой пудры на скулах, без подкрашенных ресниц и подведенного волной кармина рта? Она могла бы с легкостью принять черты Бишели. В течение рассказа я представлял ее прислоненной к толстому стволу дерева, в легком шелковом платье. Магический олень, с горящими глазами и высоко вскинутыми на свету рогами, внезапно появлялся из лесной поросли и приближался к ней, тяжело дыша. В тот момент, когда она закрывала глаза, он прикасался к ее коже своей горячей и влажной мордой. Руку даю на отсечение, слушая Рашель, она должна была почувствовать на своих плечах острые копыта и непристойную пульсацию животного против своего изумленного чрева.
В разгар ночи эта сцена раз сто возникала в моем воображении. Бишель, в которую я никогда не верил, и более чем реальная Анаис, увы, слились для меня в одно щупальцеобразное навязчивое существо. Это гибридное создание населяет часы моих непостижимых мечтаний. Оно ласкает меня и терзает, наполняя попеременно то наслаждением, то ужасом. Отныне я обречен быть с ней, и ничто не кажется мне более страшным и более сладким.
Она отправилась очень рано по направлению к Оллегарду со своими мальчиками. Обутые все трое в сапоги до колен, они шлепают по грязной дороге. Туман такой густой, что я вскоре теряю их из виду, но в течение всего утра слышу, как они выкрикивают имя своей собаки. Он же посадил малышку в машину и медленно поднялся на холм Шируль. Я видел, как он разговаривал несколько минут с водителем школьного автобуса, а затем поехал к поселку.
Рашель встала довольно поздно и не обмолвилась со мной ни словом, даже когда грузовик приехал за Розали. Со времени моего гнева вчера вечером она держится настороже. Около полудня соседи вернулись не солоно хлебавши, и Рашель произнесла единственную фразу:
— Я прекрасно знала, что они его не найдут.
У меня на этот счет есть свои соображения. Их собачонка, если предположить, что она еще жива, может быть только в одном месте. Но сегодня слишком жидкая грязь, и туман не рассеется раньше полдника. Завтра, когда дороги подсохнут, я сяду на трактор и проедусь до Морвиля, чтобы оценить ущерб, причиненный полбе, а заодно загляну в глубь черных садов. Завтра.
Глава 12
Поль открывал шествие, если можно так назвать нашу трудную экспедицию к Оллегарду. Морис, обеспечивавший тыл, следовал в нескольких шагах. Мы погружались по щиколотку в грязь затопленных дорог. Иногда нам приходилось огибать глубокие лужи, заполнившие ложбины, и взбираться на крутые склоны, цепляясь за колючий кустарник. Уже через четверть часа я охотно повернула бы обратно, если бы не Поль, подававший мне пример стойкости. Забрызганный грязью, изодравший руки шипами, он прокладывал нам путь сквозь заросли, измерял глубину луж и помогал нам преодолевать крутые спуски. Злополучный поход, который вчера был предпринят по его инициативе, так мучил его угрызениями совести, что мы отказались наказывать его за непослушание.
Нам все же удалось преодолеть холм Оллегард, который, подобно горбатому великану, возвышался над мрачным пейзажем. Открывая эти дикие земли, усеянные сумрачными скалами, я поняла, почему госпожа Рашель говорила мне о черных садах. Вдалеке из тумана вдруг возникла полуразрушенная колокольня.
— Мы дошли досюда, — сказал мне Поль, — и тогда разразилась гроза.
— Лала был еще с вами?
— Не знаю, может быть, он был с Иоландой позади нас. Мы следили за гадюками.
Составив ладони рупором, мы принялись кричать во все стороны. Эхо возвращало наши крики каскадом. Карканье поднялось со стороны руин.
— Он, может быть, спрятался в старой часовне, — сказал Морис.
— Пойдем посмотрим, но следите за тем, куда вы ставите ноги.
Они оба меня обогнали, рассекая палками заросли.
Мы подошли к куску обвалившейся стены, где различался еще дверной проем. Я подумала о Бишели. Действительно ли она существовала? Легенды часто восходят к реальным историям. Возлюбленный Бишели, возможно, был простым бродягой, но отождествив его с оленем, чьи рога и копыта непреодолимо вызывали в памяти образ дьявола, жители деревни, без сомнения, хотели придать эпидемии чумы характер священного возмездия.
Не знаю, по какой цепочке ассоциаций ко мне вернулся образ господина Симона. Взгляд этого мужчины хранил в себе холод камней, тех, что вдруг появляются, словно кости, на всем протяжении черных садов. Дрожь пробежала у меня по спине, похожая на ту, которую я почувствовала накануне, когда застигла за окном его колеблющийся силуэт.
Мальчики добрались до входа в часовню, от которой остались только шаткие стены и наполовину разрушенный остов.
— Его здесь нет, — сказал Морис, осматривая обломки камней и штукатурки, покрывавшие землю.
Справа от часовни ключом бил фонтан. Под колючим кустарником виднелся зев безглазого льва, извергавший поток мутной воды. Мы продолжали кричать и звать, но наши голоса становились все безрадостнее.
Кантен не больше нас преуспел в своих поисках.
— Нужно смириться, Нани. Я прочесал окрестность на пятнадцать километров вокруг. В каждой деревне я наводил справки у фермеров. Я оставил наш номер телефона, и мне обещали дать знать, если станет что-нибудь известно, но, откровенно говоря, я в это больше не верю. Его, несомненно, раздавили, когда он бродил по дорогам.
— Но тогда ты нашел бы его на склоне.
— Не обязательно. Он такой маленький, что его могло отбросить в лесную поросль.
— Теперь тебе нужно отдохнуть. Не думай больше об этом, мы сделали все, что могли.
Утренние поиски нас всех измучили. После того как мы перекусили, я решила отправить весь мой маленький народец на отдых. Именно этот момент выбрал печник, чтобы ввалиться с грохотом во двор. Со своим подмастерьем он начал разгружать тяжелые колосники, которые звонили, как церковные колокола.
Внезапно разбуженный, Кантен спустился вниз, протирая глаза.
— По крайней мере, — сказал он, — мы не будем больше страдать от холода.
Дом превратился вскоре в настоящую строительную площадку. Удары молота заставляли дрожать стены. Мы все укрылись в кухне, куда вскоре к нам заявился печник с выражением лица, которое не предвещало ничего хорошего. Он объявил нам, что обнаружил трещины в трубах, насквозь пропитанных сыростью.
— Я должен буду поставить везде временные кожухи, а иначе за зиму вы прокоптитесь, как ветчина.
Он составил смету, тоже временную, от которой у нас волосы встали дыбом, и, в довершение всего, обратил наше внимание на то, что гроза вырвала ряд шифера, тот самый, который господин Зенон только что заменил.
Кантен был вынужден подписать смету и позвонить господину Зенону с тем, чтобы тот снова поднялся на крышу до новых дождей.
Глубокое уныние подавило меня. Я начинала задаваться вопросом: не было ли наше поселение в Шанплере ошибкой? Дом, несмотря на дорогостоящий ремонт, не переставал обнаруживать все новые болезни. Мы думали, он был построен, чтобы противостоять векам, но первая же буря его основательно подкосила. Каждый день он приберегал для меня какую-нибудь неприятность, о которой я старалась не рассказывать Кантену: шкафы, заселенные муравьями или пораженные стойкой плесенью, гниющие плинтуса, влажные разводы на стенах комнат. Но, кроме этого, была та холмистая местность, которая пленила нас великолепием своих пейзажей. Согласились бы мы на переезд с такой готовностью, если бы знали о существовании рядом с нашим домом старой зачумленной деревни?
Мне нужно было во что бы то ни стало скрывать свои опасения под страхом разрушить мечту, которую мы лелеяли в течение нескольких лет и которая давала нам силы жить с надеждой. Здесь мы поверили, как никогда, в выздоровление Кантена и прогресс Иоланды. Мирное будущее предстало перед нами, принесенное красивой и сильной природой в запахе цветов и дружбе животных. Здесь мы нарисовали картину нашего счастья. Я не чувствовала себя в праве развеять ее сияние, и боязнь поддаться унынию возродила во мне неожиданные силы.
Мальчики на следующее утро вновь сели в школьный автобус. Иоланда не захотела вставать с постели. После терпеливых ласк мне удалось уговорить ее съесть медовый сухарь и выпить глоток молока. Она снова начала заливать свои простыни и грызть ногти до крови.
Телефон, который каждый миг мог принести нам важные новости, упорно молчал. Господин Симон, отправившийся в поля на своем тракторе, вернулся только на закате. С той вечерней грозы я следила за его разъездами и чувствовала некоторое облегчение, когда он уезжал с фермы. Как только дети легли, я пошла в ванную и слегка отодвинула занавеску. Я увидела его тотчас же: черный силуэт на своем обычном посту прорезал экран окна.
Глава 13
Последствия грозы были, по правде говоря, тяжелыми: две телки, убитые молнией на пастбищах, разоренное поле Морвида, несколько фруктовых деревьев, сожженных на корню. К тому же потеря Розали. Нечего сказать, осень начинается славно.
Сначала я оттащил обугленные останки на край дороги, чтобы грузовик с живодерни мог их забрать. Мне пришлось также починить несколько оград, восстановить колья, заменить батареи. Все это заняло у меня менее трех часов, и было еще светло, когда я направился к черным садам.
Я держал когда-то собак, в те времена, когда по воскресеньям ходил охотиться с Мишелем в лес Шеврей-Аман. Мы приносили домой гирлянды дроздов, вяхирей, иногда зайца. Собаки танцевали вокруг нас. Я знал их сильные и слабые стороны. Знал, по какой тропе они хотят пойти. Собака всегда проявляет себя такой, какая она есть, кроме тех случаев, когда она сильно напугана. Их пес, должно быть, чуть не умер от страха. Гроза трещала, как сто тысяч пушек.
Вот здесь он трусил, когда раздались первые удары грома. Я вылезаю из трактора, вдыхаю воздух, пахнущий мокрым шифером. Явно он не пошел на запад, в самое сердце грозы. К отблескам вспышек на руинах часовни он также должен был отнестись с опаской. Если же он побежал на юг, то повернул обратно перед разлившимися ручьями. Но столь сильный дождь стирает запахи следов. Он мог кружить какое-то время на одном месте, прежде чем найти для своих лап почву потверже. Такое место я знаю только одно, прямо на север, там, где сланец выступает на поверхность длинными рифлеными плитами. Я хватаю свою железную палку и пускаюсь в путь.
Спуск легок, но следует опасаться расщелин, которые змеятся под колючим кустарником. Я продвигаюсь медленным шагом, проверяя почву перед собой. Каждые пятьдесят метров я останавливаюсь, щелкаю пальцами, свищу и зову его по имени. Этот шум отзывается в чаще таинственными шелестами и в конце концов срывает с места тяжелую куропатку.
Склон вдруг становится круче и обрывается ущельем. Дальше идти невозможно. Если, к несчастью, ненароком он был увлечен в глубины, то наверняка сломал себе хребет. Возвращаюсь обратно, звеня железной палкой о камень. Щебетанье поднимается из чащи в нескольких метрах от меня. Я ищу глазами птицу и не нахожу; проходит несколько минут, прежде чем я понимаю, что этот слабый крик поднимается из каменных глубин. Прислонив ухо к земле, я слышу отзвук визгливого тявканья.
Каменный сдвиг, шириной с брюхо бочки, находится совсем рядом. Он сужается в воронку и образует трубу, в которой прекрасно виден изгиб. Внизу, в четырех или пяти метрах, там, где гулко раздаются жалобные завывания пса, судя по всему, находится довольно просторная полость.
Если труба не продолжает сужаться после изгиба, через нее мог бы пролезть человек, решившийся спуститься вниз на веревке. Еще нужно было бы найти прочную точку опоры. На тракторе сюда не подъедешь, а вокруг только колючий кустарник и трухлявые пни. Единственным решением было бы вогнать в землю ударами кувалды кол из закаленной стали. Пока же, оставаясь там, где он есть, пес ничем не рискует. Думаю, он даже не ранен. Соскользнув вниз по трубе, он должен был в конце концов упасть прямо на лапы на дно полости. Благодаря стенам, сочащимся влагой, там нет недостатка в питьевой воде, и, чтобы поддержать в нем жизнь, достаточно бросить в отверстие немного мяса.
Возвращаясь к трактору, чтобы взять свою котомку, я перестал различать тявканье через десять шагов. Нужно в самом деле находиться очень близко от сдвига, чтобы что-то услышать. Никто никогда не найдет его здесь.
Сегодня ему придется удовольствоваться скромными остатками моего полуденного завтрака: бутербродом с печеночным паштетом, от которого я уже откусил приличный кусок. Щенячий писк усиливается, когда он слышит, что я возвращаюсь. Я бросаю паек в середину трубы, но наклон слишком мал, и бутерброд прилипает к внутренней стенке. Мне приходится, перевесившись через край, толкать его концом палки. Наконец он соскальзывает вниз, и почти тотчас жалобы прекращаются, уступив место довольному хрюканью.
Назавтра Рашель придумала приступ ревматизма, скрутивший ей руки и колени, для того, чтобы взвалить на мои плечи свою часть работы. В течение двух дней, пока я изнуряюсь, ухаживая за скотиной, она не отходит от печки на кухне, удобно расположив ягодицы в глубине кресла, а толстые ноги на табурете. Благодаря чему у меня только и остается время, чтобы к вечеру смотаться до черных садов и опрокинуть добрый котелок мяса в дыру.
В мою заброшенную обсерваторию я возвращаюсь лишь вечером, в самый драгоценный час, когда Анаис, перед тем как лечь спать, взяла привычку задерживаться у окна ванной комнаты, ища меня взглядом. И тогда, нахожусь ли я в глубине ангара, на кухне или в маленькой комнате на втором этаже, где коротаю отныне свои ночи, я появляюсь тотчас в освещенном проеме окна. Как только она меня замечает, она раздвигает занавески, и мы остаемся так долгое мгновенье, совершенно неподвижные, словно в таинственном сообщничестве.
Стоило только Мишелю и Лоре предупредить нас, что они приедут на выходные с детьми, как тотчас ревматизм Рашели исчез как по волшебству. В несколько часов дом был начищен до блеска от подвала до чердака, пироги стояли в духовке, цветы — в вазе.
Субботнее утро. Туман поднимается в лучах восходящего солнца, когда они въезжают во двор. У них новый автомобиль, длинный, как флейта, со стальными веками на фарах и с теплоходной антенной, укрепленной в центре багажника. Дети кричат и бегут нам навстречу, впереди малышка Ким, следом за ней, как обычно, Корантан.
— Бабуля, дедуля!
Им дали в руки букет роз и коробку сигар, которую они не знают, куда девать. Рашель крепко прижимает их к своей большой груди, и они заливаются смехом.
— Вы их задушите! — говорит Лора, стоящая неподалеку.
У нее такая широкая улыбка, что можно было бы сосчитать все зубы. Следом появляется Мишель. Он укоротил бакенбарды и отпустил ниточку усов. Я, может быть, и не узнал бы его, столкнувшись с ним на улице.
Пока мы угощались портвейном и закуской, дети отправились осматривать округу. Им не потребовалось и десяти минут, чтобы познакомиться с Полем и Морисом. Мы видели, как они играют вместе и обследуют пристройки. Рыжая малышка, вдруг подумал я, она ни разу не высунула носа из дому с тех пор, как прошла гроза.
— Вы, наверное, довольны тем, что у вас появились соседи, — говорит Лора.
— Да, — отвечает Рашель, — это вносит разнообразие в жизнь поселка.
Они хотят узнать побольше о новых жителях, но Рашель переводит разговор на другую тему. Мы рассказываем им об опустошениях в полях Морвида, о телках, убитых молнией, о Розали. Словом, о наших маленьких крестьянских горестях. Но и у детей новостей было не больше: завод удобрений продолжает работать, машина в обкатке издает странные звуки на заднем ходу, Корантан записался на курсы дзюдо. Немые события жизни, стремящейся к неизменному благополучию. Мы только приступаем к полуденному супу, а нам уже нечего сказать друг другу. Я ухожу на вечернюю дойку, чтобы оставить их одних. Потом я прицепляю цистерну с водой к трактору, так как поилки Перепелиного луга стоят сухие. Оттуда я могу добраться до черных садов незамеченным. В котомке я спрятал котелок с несколькими кусками домашней птицы, украденными с тарелок. Но в тот момент, когда я завожу трактор, ко мне подходит Мишель и водворяется рядом со мной в кабине.
— Я хотел бы поехать с тобой, — говорит он. — Так давно это было…
Тем хуже для щенка, не проглотившего со вчерашнего дня ни кусочка. Завтра очень рано, когда они еще будут спать, я отвезу ему двойную пайку.
Закатное солнце опускается в колыбель дымки, когда мы приближаемся в Перепелиному лугу. Сзади раскачивается буксир, и слышен плеск воды о черную жесть цистерны. Мишель сидит рядом со мной, как раньше, наклонив корпус немного вперед и прижав ладони к коленям. Шум реки, который нас сопровождает, отсвет заката на тихой листве и крепкие запахи, поднимающиеся от земли, должны ему напомнить давние осенние дни.
Мы огибаем узкую полоску леса, каскадом спускающуюся через луга. Я возвращаюсь на пятнадцать лет назад и бросаю Мишелю:
— Ты помнишь кабанов?
— А, да! Кабанов…
Как-то ночью, в полнолуние, мы сидели в засаде на этом самом месте с самострелами, заряженными крупной тяжелой дробью. Время от времени — глоток черного кофе, чтобы не заснуть. Их ждали со стороны лесной опушки, вместо этого они появились прямо сзади нас, со стороны полей. Стадо по меньшей мере в тридцать голов, хрюкающих в наши спины, со слюной на клыках. Не мы их, а они нас выгнали из логова. Так близко мы не посмели в них стрелять. Они обнюхали нас с отвращением и ушли на кончиках копыт. Прежде чем мы успели опомниться, они исчезли среди высоких деревьев.
Я жду, что Мишель к этому что-нибудь добавит, но он только говорит: «А, да, кабанов…», прежде чем окунуться в тишину. Возможно, для него это не слишком приятное воспоминание. Или, может быть, он думает о чем-то другом.
На Перепелином лугу до первых заморозков я обычно оставляю пастись нескольких молодых коров с молочными телятами, так как это пастбище хорошо защищено от ветров, что дуют по пологому склону к югу. Ни один лозоходец ни разу не нашел там источник. Мишель помогает мне наполнить старые поилки из голубого камня. Он зажигает сигарету, улыбается мне и начинает нерешительно:
— Я хотел бы поговорить с тобой о маме…
С минуту он молчит, проверяя мою реакцию. Вода, журчащая в поилке, вызывает у меня мучительное желание отлить, но это не лучший момент.
— Ну, сын?
— Честно говоря, мне кажется, у нее немного подавленный вид. Я подумал, что, может быть, ей стоит провести несколько дней у нас… Мы могли бы забрать ее завтра вечером и привезти обратно в следующую субботу.
— Ты прав, это ей, безусловно, пойдет на пользу.
— Что касается работы, если хочешь, я могу взять два дня после обеда и приехать тебе помочь.
— За работу не волнуйся, я разберусь.
Теперь я могу пойти отлить перед изгородью. Я знаю, почему Мишель решил меня сопровождать. То, что я принял за прилив дружбы с его стороны, было, в конечном счете, только дипломатическим демаршем в пользу матери.
— Холодает, — говорит он, потирая бока.
— Да, холодает.
Прикрепляем шланг к цистерне и уезжаем в тот момент, когда солнце опрокидывается за гребни Оллегарда. Голубые сумерки окутывают кабину. Я различаю только профиль Мишеля, слабо вырисовывающийся против света, несколько расплывчатых линий, которые потихоньку стираются и вскоре совсем исчезают во влажном тумане, застилающем мне глаза.
Глава 14
Я проснулась внезапно, в поту, с горящими висками. Кантен обнимал рукой мое бедро, и я чувствовала его дыхание на своем затылке. Я тихонько отодвинулась от него.
Во второй раз один и тот же сон настигал меня среди ночи. Его нельзя было назвать в полном смысле слова кошмаром: просыпаясь, я испытывала чувство страха и отвращения, но одновременно мое сознание хранило след темных удовольствий.
Это происходило в зачумленной деревне, около часовни, на руинах. На мне было длинное, белое, очень просторное платье, похожее на те, в каких некогда вели на эшафот приговоренных к казни. Колючий кустарник и острые камни не ранили моих босых ступней. Я шла сквозь грозу, ослепляемая вспышками. Ветер яростно крутил мое платье. Наконец я заметила его, того, кто ждал меня у фонтана, и двинулась без страха ему навстречу. На его человеческом теле, темном и узловатом, покрытом толстым мехом, вздрагивала голова оленя, рогами устремленная в грозовые вспышки. Когда я была в двух шагах от него, я ощутила на себе его дыхание, более мощное, чем ураганный ветер. Его острый фаллос был устремлен на меня как кинжал, и я насаживалась на него, издавая громкий крик. В тот момент у меня было ощущение, что я умерла. Мужчина-олень, каждым своим движением отрывавший меня от земли, выкрикивал имя Бишели. Моя поясница заледенела, и ее согревало только тяжелое и обжигающее семя. И тогда, окутанная странным покоем, я достигала часовни и ложилась в ее глубине на строительный мусор. Мой живот округлялся на глазах, груди полнились молоком. Эта молниеносная беременность доставляла мне острое удовольствие, доводившее меня почти до оргазма. И все же я боялась, что мое чрево вытолкнет лишь пораженного проклятием ребенка. Мне приходили в голову имена: Бишело, Бишелетта. Мое удовольствие питалось этим страхом. Наконец я рожала и выносила на свет новорожденного, завернутого в тряпье. Это была Иоланда. Я дала жизнь Иоланде. И я плакала от радости.
Мне никак не удавалось снова заснуть. Кантен перевернулся на спину и шумно дышал ртом. Снаружи, прямо за окном, раздался пронзительный птичий крик. Поль объяснил мне, что в нашем каштане жила маленькая сова. Он застал ее однажды вечером: она держала в клюве наполовину проглоченную землеройку, которая еще шевелилась. Он был так возмущен жестокостью маленькой хищницы, что Кантену пришлось уговаривать его не бросать в нее камни.
Будильник показывал три часа. Я тихонько поднялась и, не зажигая керосиновой лампы, ощупью пошла к двери.
Иоланда крепко спала. Она не услышала, как заскрипел паркет у меня под ногами. Я натянула ей на плечи одеяло, сбитое к ногам. Ее руки были холодными, а лоб горячим. С тех пор как пропала собака, она вошла в фазу ухудшения, и все наши усилия были напрасны. Братьям не удавалось больше заинтересовать ее своими играми. Долгие часы она оставалась неподвижной, ко всему безучастной, со взглядом, уходящим в пустоту.
Кантен тщетно ездил на всевозможные рынки в округе, надеясь снова найти шампанского терьера. Он даже рискнул привезти как-то молодого спаниеля с соседней фермы. Иоланда даже не захотела на него взглянуть. Мы проделали эксперимент и с пуделем, и с белым котенком, и с крольчонком, которые были тотчас возвращены обратно матерям.
А потом появился жар. Доктор, вызванный из поселка на следующий день, не внушал мне большого доверия. Поведение малышки приводило его в изумление. Он предполагал самый обыкновенный грипп. Но на всякий случай все же взял анализ крови и мочи.
— В остальном, — сказал он, — это в компетенции вашего специалиста. Во всяком случае ваше решение оставить этого ребенка у себя вызывает уважение.
Я давно привыкла к такого рода разговорам. После первых медицинских отчетов, которые определяли степень умственной отсталости Иоланды, моя собственная мать сказала мне холодно:
— Не кажется ли тебе, дорогая, что этой несчастной малышке будет лучше в специальном заведении?
Веки Иоланды начали дрожать. Она открыла глаза и остановила на мне, может быть меня и не видя, свой взгляд цвета зеленого миндаля.
— Маленькая моя, радость моя…
Резким движением она натянула простынь на лицо.
Я прошла через ванную, чтобы выпить стакан воды, и почти машинально отодвинула занавеску. У соседей было темно. Со вчерашнего дня я не видела господина Симона на его обычном месте у окна, и я подумала, что длинные часы ночного дозора в конце концов ему наскучили.
Облака проплывали друг за другом под рогаликом бледной луны. Ветки каштана слегка шевелились. Вдруг тень проскользнула среди теней. Что-то задвигалось на противоположной стороне дороги. Я погасила свет, и почти тотчас силуэт застыл возле нашего почтового ящика. Несколько минут я стояла, уткнувшись носом в стекло, ничего не различая, кроме смутных очертаний, слившихся с каменными воротами.
Вскоре облака разошлись, и слабый лунный свет залил мостовую двора. Я видела, как силуэт шевельнулся, отделился от ворот и исчез в ночи.
На следующее утро, когда Поль и Морис поднимались на холм Шируль с ранцами за плечами, я провожала их взглядом до тех пор, пока их не забрал школьный автобус. Ночное присутствие силуэта у ворот не выходило у меня из головы. Возможно, это была всего лишь тень от куста, оживленная переменчивым светом луны. В тот момент я была еще слишком взволнована сном, и мое воображение, скорей всего, просто было обмануто игрой света и тени на камне. К тому же недоброжелательный бродяга по меньшей мере отважился бы заглянуть во двор. Я старалась рассеять мои тревоги, совершая утренний туалет Иоланды, у которой жар слегка спал. Я оставалась возле нее до прихода почтальона.
Открыв почтовый ящик, я обнаружила под корреспонденцией маленький пакет, грубо завернутый в газетную бумагу. Внутри находился ошейник из кожи, из желтой кожи, почти новый, такой, какой был на Лала в памятный день грозы.
Глава 15
После поцелуев Мишель помог матери загрузить чемодан в багажник. Малыши помахали мне на прощанье из-за стекол, и машина в форме ракеты рванула с огромной скоростью.
В течение всего дня я думал о той неделе одиночества, которая ожидает меня: теперь, когда в трубе плачет вечерний ветер и Рашель в шестидесяти межевых столбах от дома, я остаюсь один, пригвожденный к креслу, осаждаемый сомнениями и как будто обескровленный.
Я мог бы еще все остановить. Стоило только побежать к тому сдвигу, освободить собаку и отпустить ее в нескольких шагах отсюда. А потом заняться, наконец, раз и навсегда собственными делами. Это решение следовало принять, но для этого нужно было иметь ясные мысли. А мои мысли — словно косяк уклейки на поверхности. При малейшем движении они рассыпаются во все стороны и превращаются в стайку неуловимых отблесков.
Прилив тишины накатывает на меня волной. В доме напротив очень скоро должно загореться окно на втором этаже. Однако я остаюсь в кресле, закрываю глаза и стараюсь вообразить сцену. Вот загорается лазоревый прямоугольник, занавески сначала едва раздвигаются, затем распахиваются настежь. Нежная тень ее бюста маячит в окне. Нижняя поперечина оконной рамы доходит ей как раз до уровня бедер. На ней тот пеньюар серо-голубого цвета с глубоким вырезом, под которым виднеется ночная рубашка, но эти детали я, по правде говоря, различаю, только когда она делает шаг назад. Изображение вдруг деформируется, и картинка гаснет. Вскоре под моими веками остается только темный экран ночи. Я не стараюсь восстановить светящийся прямоугольник и предаюсь на секунду слепому сновидению. Картины приходят сами. Все начинается с маленького зеленого пламени, похожего на блуждающий огонек, который пульсирует в том же ритме, что и удары моего сердца. Пламя постепенно растет, освещая поле руин, похожих на руины черных садов. Анаис появляется из тени, ее пеньюар в лохмотьях. Она забрызгана грязью до пояса, и тело ее извивается в шепоте ветра. Маленький рыжий дичок танцует рядом с ней. На заднем плане, в пыли, виднеется скелет собаки. Все трое они медленно кружатся вокруг пламени, воткнутого в сердцевину ночи.
Меня грубо вырывает из этих бредней телефонный звонок.
— Папа?
Это Лора, которая своим тягучим голосом объявляет мне, что они благополучно прибыли. Она спрашивает меня, не хочу ли я поговорить с Рашелью. Нет, по правде, не знаю, что я мог бы ей сказать. Пусть хорошо отдыхает, вот и все. Мы желаем друг другу спокойной ночи, и я возвращаюсь на кухню, чтобы налить себе стаканчик сливовой настойки. Я иду на ощупь в темноте, слегка касаясь стен и углов мебели. В доме напротив, я знаю, она ищет меня взглядом и задается вопросами. Я не хочу оставлять ей сегодня ничего, совсем ничего, даже луча света под моей дверью.
Там, внизу, он, должно быть, издалека узнает мои гулкие шаги, так как каждый раз, когда я нагибаюсь над провалом, я слышу его отчаянный вой. Чтобы он немного успокоился, я кидаю ему несколько кусков белого мяса птицы.
Для начала надо выбрать хорошую точку опоры в камнях. Я нахожу одну такую, в трех метрах, достаточно глубокую расщелину между двумя пластами сланца, куда и втыкаю мой кол. Понадобилась вся тяжесть кувалды, чтобы всадить его до кольца. Я фиксирую толстую веревку из нейлона и упираюсь, натягивая ее изо всех сил. Кол не пошевелился ни на миллиметр. Его можно расшатать, только разбив камень.
Солнце едва поднимается из-за горизонта, и первый в этом году иней убеляет листья колючей поросли. В кармане пальто я принес электрический фонарик и несколько кусков сахара. Меня интересует один вопрос: достаточно ли я еще проворен для акробатических трюков в пещере? Посмотрим. Спускаю веревку в трубу до тех пор, пока не чувствую слабину. Веревка доходит до пяти с половиной метров. Пес, должно быть, касается ее мордой: он поднимает шум, как тысяча чертей. Я смело опускаюсь в провал и скольжу вниз рывками. Внутренние стены скребут мне бока; еще несколько килограммов, и я не прошел бы. Каменный туннель спускается наклонно до изгиба и затем впадает вертикально в полость. Наиболее трудным оказывается пространство между основанием трубы и полом пещеры, на глаз — около трех метров. Мои ноги болтаются в пустоте. От криков щенка лопаются барабанные перепонки. Наконец я приземляюсь на достаточно рыхлую почву, которая испускает резкий запах перегноя. Потоки воды, должно быть, пригоняли сюда грязь, которая накапливалась со временем. Пучок света от моего фонарика обшаривает пространство. Пещера оказалась гораздо шире, чем я думал. Капли воды скатываются со сталактитов, образующих лес пик над моей головой.
На мгновенье, ослепленный светом фонарика, пес замолчал и спрятался в глубине пещеры. Но вот он уже возвращается ко мне, тихонько поскуливая, прижавшись животом к земле и отведя уши назад. У него не такой уж жалкий вид. Он только испачкан и, конечно, немного не в себе. Я не ошибся: на нем точно есть ошейник, маленький желтый ошейник из вареной кожи.
Я наклоняюсь к нему, но он отскакивает далеко в сторону и показывает мне зубы. Куска сахара хватило, чтобы его задобрить. Он хрустнул им два-три раза, прежде чем проглотить, и теперь лижет мне руки, пока я снимаю ошейник, стискивающий ему горло.
Чтобы подняться, я оборачиваю веревку вокруг ноги и подтягиваюсь на руках. Это упражнение не из легких. Собачонка вновь начала выть сильнее прежнего. Когда я достигаю отверстия трубы, подъем становится не таким мучительным, так как я могу опираться на стены. Нейлон сдирает мне кожу с ладоней. Если я еще когда-нибудь сюда вернусь, стоит подумать о перчатках. Подъем занял у меня по крайней мере в десять раз больше времени, чем спуск. Едва переводя дух, я выкарабкиваюсь из провала, и дневной свет бьет мне в глаза.
Глава 16
Когда Кантен спустился из своего кабинета, чтобы ознакомиться с корреспонденцией, мне с трудом удалось скрыть от него свои переживания.
— Плохие новости, Нани?
Я незаметно опустила ошейник в карман передника. Он жег мне живот.
— Нет, не очень, пришло письмо от господина Зенона.
Кантен быстро пробежал его глазами и откинул усталым жестом на угол стола. Кровельщик довольно сухо писал, что он перегружен работой и потому не может принять никакой новый заказ до будущего лета. Вероятно, он не простил нам наш отказ сдать ему в наем луг.
— Не беспокойся об этом, — сказал Кантен, связав мое явное замешательство с этим письмом. — Кровельщиков в этом краю предостаточно. Надо бы справиться у соседей.
— Ты прав, я схожу к ним позднее.
Мне не терпелось остаться одной, но Кантен медлил. Он долго рассказывал мне о книге, которую сейчас переводил.
— Камачелли становится трудно читать, — сказал он. — Его персонажи существуют только в собственных сновидениях. Они просыпаются для того, чтобы подчиниться реальности, постоянно возвращаясь к своим ночным видениям, и таким образом очень скоро теряют способность влиять на свою судьбу. Я не слишком проникаюсь этим рассказом о снах, возможно потому, что никогда не помню собственных сновидений…
Утро прошло, не оставив мне ни одной свободной минуты. Только после того как я накормила Иоланду супом, я смогла уединиться на кухне. Я положила ошейник на стол и развернула газетную бумагу, в которую он был завернут. Это оказался старый лист рекламной газеты, которую мы получали каждую неделю. Я подумала, может быть, он содержит послание или какой-нибудь намек, но обнаружила в нем лишь календарь местных празднеств и объявления о сельскохозяйственном оборудовании. Отсутствие каких бы то ни было объяснений давало волю сомнениям и, словно нож, повернутый в ране, причиняло боль. Я не находила смысла в этой тайной передаче, не дававшей мне даже знать, жив ли еще Лала. Мне вспомнилась тень, замеченная ночью возле портала. Я подумала также о неприятном письме господина Зенона.
Не нужно было ни в коем случае рассказывать об этом открытии ни Кантену, ни мальчикам. Сиротливый ошейник лежал на столе. Он слепил мне глаза, буравил сердце. Я слегка коснулась его рукой, позволив пальцам вспомнить давние ласки, прежде чем спрятать его в коробку в глубине шкафа.
Дверь мне открыл господин Симон. Он был небрит и одет в шерстяной некрашеный свитер с выдернутыми петлями у воротника. Его карий взгляд поколебался мгновенье, прежде чем упереться в пустоту чуть позади меня. Прошло некоторое время, прежде чем он ответил на мое приветствие.
— Госпожи Рашели нет дома?
— Она уехала на несколько дней к нашему сыну. Вы хотели ее видеть?
— Мне необходима информация, но, может быть, вы сможете мне помочь.
Он пригласил меня войти и провел в столовую, где пахло яблоками и воском. Я коротко рассказала ему неприятную историю с господином Зеноном.
— Есть Робер Гранжан во Фринуле, — сказал он. — Это хороший мастер, но он уже довольно стар, и я не знаю, работает ли он еще. Есть другой, в Барнавиле, но это гораздо дальше. Подождите…
Он исчез в коридоре и вернулся с телефонной книгой, которую начал листать. Пока он искал, я окинула взглядом комнату. Над камином герб из черного дуба был увенчан оленьей головой. Это был матерый олень, чьи ветвистые рога доставали до потолка. Его фарфоровые глаза, отливающие рыже-коричневым цветом, пристально смотрели на меня с выражением мучительной мольбы. Я передвинулась на шаг, но этот упорный взгляд продолжал меня преследовать.
— Вот, — сказал господин Симон, — я вам выписал номера их телефонов.
Застыв перед головой оленя, я поблагодарила его сдавленным голосом. Я, должно быть, была бледнее воска в этот момент. Он посмотрел на меня внимательно, с нескрываемым любопытством, протягивая мне клочок картона.
Он стоял около камина, прямо под головой оленя. Я чувствовала, что не могу произнести ни слова, не могу сделать и шага по направлению к двери. Последовало долгое молчание, и с каждой секундой я чувствовала себя все более неловко. Наконец я невнятно пробормотала:
— Господин Симон, этой ночью произошло нечто странное…
В первый раз он откровенно вонзил в меня свой взгляд. Мне казалось, что я обращаюсь к голове оленя.
— Этой ночью кто-то принес и положил ошейник нашей собаки в почтовый ящик…
Он пододвинул стул и предложил мне сесть.
— У меня нет кофе, но, может быть, выпьете немного мирабелевой настойки?
Я, должно быть, машинально согласилась, так как вскоре обнаружила, что сижу перед маленьким стаканчиком спиртного, спиной к камину. Взгляд оленя жег мне затылок. Взгляд господина Симона был устремлен на меня в упор.
— Вы говорили об ошейнике вашей собаки…
— Да, этой ночью, около трех часов, мне кажется, я заметила кого-то у ворот. Я нашла ошейник на дне почтового ящика без каких-либо объяснений. Как будто нам хотели сказать: «Мы нашли вашу собаку, и вот тому доказательство, но вы не узнаете, что с ней случилось». Но вы ведь, господин Симон, хорошо знаете людей в округе, может быть, у вас есть какие-нибудь догадки на этот счет?
— В округе не хранят то, что находят; Цезарю возвращают то, что принадлежит Цезарю. Ошейник ваш, вам его и вернули, это вполне естественно.
— Это значит, что собака мертва?
— Не знаю, но я не вижу причин, по которым бы вам вернули ошейник с живой собаки. Только если…
Он опустошил залпом свой стакан настойки и налил себе тотчас еще.
— …если только не ждут от вас чего-нибудь в обмен.
— Вы хотите сказать выкупа?
— Например. Или услуги.
— Вы думаете, вероятно, о господине Зеноне? Он хотел взять у нас в наем луг, но мы не согласились.
— Нет, Зенон в таком случае не написал бы вам это письмо.
— Но помимо него у нас исключительно добрососедские отношения с жителями деревни.
— Возможно, вы ошибаетесь. Шанплер — это край браконьеров и мошенников, привыкших притворяться. Я родился здесь и однако не знаю даже, что думают здесь обо мне.
— Если он жив и если его держат как узника с целью не знаю какого шантажа, это по меньшей мере подло!
Он теребил подбородок, похрустывая своей густой бородой. Я заметила, что его мощная рука была покрыта до фаланг пальцев серыми волосами так, как если бы он носил меховые митенки.
— Господин Симон, не согласитесь ли вы мне помочь?
Он опустил глаза, и его хищный взгляд, в котором, как мне показалось, вспыхнуло удивление, погрузился на дно стакана.
— Каким образом вы хотите, чтобы я вам помог?
— Вы знаете всех в деревне. Вы часто бываете в дорогах, вы…
Я чуть не сказала ему, что он часами простаивает у своего окна.
— …вам проще, чем мне, что-либо узнать. Я вас прошу, вы не можете себе представить, как эта собака для нас важна.
— Это из-за вашей маленькой девочки, не так ли?
— Да. Я отдала бы что угодно, чтобы его найти.
Он вновь наполнил свой стакан и на минуту задумался.
— Все, что я могу, — сказал он, — это слушать, что болтают там и сям на фермах. Как знать? Ведь именно у двери стойла частенько гуляют слухи.
Мои догадки подтвердились. Господин Симон знал гораздо больше, чем хотел показать, и, несомненно, он уже чуял, по какому следу нужно идти. Его союзничество укрепляло во мне надежду.
— Завтра я обойду деревню. Я ничего вам не обещаю, но, если у меня будут новости, я дам вам знать.
— По поводу ошейника я ничего не сказала ни мужу, ни детям.
— Вы хорошо сделали. Лучше, если это останется между нами.
Часы пробили четыре часа пополудни. Школьный автобус скоро высадит мальчиков на холм Шируль. Я поднялась, чтобы откланяться, поблагодарив господина Симона за его бесценное содействие. Мы пожали друг другу руки, и на одно мгновенье я почувствовала в глубине своей ладони ласку его серых волос. Я бросила последний взгляд по направлению к камину и вновь встретилась со взглядом оленя, горящим в сумерках.
Иоланда как будто ощутила ко мне прилив доверия. Она встала вечером, чтобы поесть с нами, и проглотила без капризов кусок телячьей печени. После чего осталась с братьями, которые делали уроки перед печкой, гудящей в гостиной. Время от времени она издавала возгласы удивления, следя глазами за бегом ручки по глянцевой бумаге.
Мне удалось дозвониться до кровельщика из Фринуля. Он пообещал зайти посмотреть нашу крышу до конца недели.
Со времени моего визита к господину Симону мне казалось, что некое благоприятное влияние изменяло ход вещей. Это чувство, покоившееся, без сомнения, только на совпадениях, не смогло бы долго сопротивляться здравому смыслу, но я цеплялась за него, как за спасательный круг. И пусть этот круг плавал в мутных водах, он не внушал мне никаких угрызений совести.
Было около полуночи, когда я закрылась в ванной. Взгляд, привычно брошенный сквозь слегка прикрытые занавески, остановился тотчас на том, чего я ждала, или — я с трудом осмеливаюсь об этом писать — на том, чего я искала.
Он был на своем посту, за освещенным окном третьего этажа. Его торс, вначале неподвижный, начал раскачиваться равномерными движениями. Я раздвинула занавески как можно шире и зажгла неоновые лампы над умывальником. Мой пеньюар упал на кафель, платье последовало за ним. Тогда, затопленная светом, обнаженная больше, чем когда-либо, я предавалась до глубокой ночи нескончаемому вечернему туалету.
Глава 17
Настойка все испортила.
Анаис. Я ждал ее давно и был наполовину пьян, когда она наконец появилась в окне. Я помню эту неожиданную белизну, ослепившую меня в тот момент, когда ее платье соскользнуло на пол. Она провела по телу мочалкой, извергавшей волны мыльной пены. Все это, я думаю, было на самом деле. За остальное я не могу поручиться. Бутылка мирабелевой настойки перекатывалась по полу. Я спустился за другой, так как желание выпить было сильнее всех других. Это тогда я, наверное, упал с лестницы и разбил себе надбровную дугу. Поскольку я был совершенно оглушен, мне потребовалось некоторое время, чтобы подняться наверх, но она по-прежнему была там, ее тело освещало ночь, как звездная россыпь.
Я выпил еще. Ее жесты стали более волнообразными. У меня перед глазами все еще стоит то светлое полотенце, которое она обернула вокруг бедер. Она приблизилась к окну, посмотрела в мою сторону. Подал ли я ей тогда какой-нибудь знак? С этого момента все спутывается в моем сознании. Есть только голубое пятно, танцующее на каменном полу. Не дам руку на отсечение, но вполне возможно, она надела пеньюар, чтобы пересечь двор. В коридоре еще стоит запах жимолости. Я следую за ним. Он приводит меня в глубину столовой, к камину. Голова оленя вся пропитана этим запахом. Конечно, когда Анаис приходила ко мне после полудня, она довольно долго оставалась в этом месте, но я не помню, чтобы ее сопровождал такой сильный запах духов. Стулья — в беспорядке, и стол слегка отодвинут. На шерстяном ковре я нахожу длинный золотистый волос.
Видения остаются пленниками глубин, словно утопленники с балластом свинца. Только несколько пузырей, переливающихся в мимолетных отсветах, поднимаются на поверхность. Голые руки сжимают толстую шею оленя. Круп тяжело двигается. Светлый половой орган разрывается. И следом кровавыми слезами лопаются пузыри.
От этой ночи, убегающей от меня, остается только головокружительный запах жимолости. Мне кажется, я чувствую его на руках и даже во рту.
День едва поднимется, и там, напротив, слабый свет дрожит на шифере. Утренние обязанности займут у меня часа два, и, поторопившись, я, может быть, вернусь обратно, когда она выйдет на порог, чтобы вытряхнуть скатерть.
Перед раковиной на кухне я обрызгиваю лицо ледяной водой и смываю ниточки крови, высохшие под моей бровью. Запах жимолости не покидает меня.
Когда я нагружаю прицеп фуражом, я слышу издалека звонок телефона. Я возвращаюсь без спешки в дом. В такой ранний час это наверняка ошибка. Я бросаю взгляд напротив, и мне кажется, что я вижу свет на первом этаже. А если это Анаис? Я представляю ее, тайно бодрствующую у телефона, запахнутую в свой голубой пеньюар, зябнущую и разбитую на исходе бессонной ночи. Мой шаг вдруг ускоряется. Я снимаю трубку резким движением.
Мне потребовалось некоторое время, чтобы узнать голос Лоры, еще более тягучий, чем всегда, как будто прерываемый рыданиями. Когда она говорит мне о несчастье, я тут же думаю о Рашели. Но Рашель рядом с ней, я слышу ясно, как она стонет. Лора с трудом подбирает слова, и проходит вечность, прежде чем я понимаю. Тогда, не выпуская трубки из рук, я соскальзываю на пол и начинаю блевать.
— О, папа! Нам понадобится столько мужества…
Но что Мишель делал на дороге в четыре часа утра? Словно сквозь вату, я слышу объяснения Лоры. Он возвращался с завода удобрений, куда ночная смена вызвала его из-за аварии оборудования. Въезд на мост, иней. Машина, словно выпущенная стрела, перелетела через поребрик. Лора повторяет мне несколько раз, что он не мучился. Мгновенная смерть. Я спрашиваю, куда его отвезли. Он в Сан-Матэрн, но лучше его не видеть. Говорят, что рана на лице делает его неузнаваемым. К тому же у него вынули сердце для трансплантации. Под повязками больше нет привычных форм. Рашель его видела, когда его вывезли из операционного блока, и попросила, чтобы его положили в гроб без промедлений. Теперь они выезжают из больницы и едут к детям, которые еще ничего не знают. Лора просит меня приехать к ним как можно быстрее.
Я с трудом поднимаюсь и прохожу на кухню. Тошнота продолжает крутить живот. Нужно бы найти силы и приготовить себе крепкий кофе. Мои движения совершаются как будто без моего участия. Вскоре я замечаю чайник, поющий на огне.
Найти руки, которые позаботились бы о животных, не составит труда. Здесь в этой услуге люди никогда не отказывают, когда приходит беда. Достаточно мне сказать: «У меня умер сын», — и они поднимутся из деревушки целыми семьями. Прежде чем они придут, я должен надеть костюм и тщательно побриться. Дом останется открыт всем ветрам, и бутылки можжевеловки будут выстроены в ряд на столе. Это траурная плата деревенским соседям. Я не буду у Лоры раньше полудня.
Мне остается час или два для передышки, прежде чем отправиться в деревню. Это больше чем нужно, чтобы погасить те, другие, едва тлевшие угрызения совести, которые вновь ожили с пришедшей болью. Этого времени как раз хватит, чтобы сходить туда и обратно в черные сады без трактора, который мог бы привлечь внимание.
В тот момент, когда я пускаюсь в путь, напротив, как от внезапного волнения, одно за другим зажигаются окна. Я прохожу вдоль стены и удаляюсь широкими шагами в сторону Оллегарда. День стоит пасмурно-синий.
Пса я оставлю здесь, в трехстах метрах от ферм. Долгое пребывание под землей могло заставить его забыть запах следов: не нужно, чтобы он еще раз потерялся. Он без труда найдет дорогу домой. Он поднимет во дворе крик, который пронзит стены. Когда ему откроют дверь, я знаю, к кому он бросится. И этого, может быть, хватит для моего прощения.
Глава 18
В конце концов я погрузилась в глубокий сон и не услышала настойчивого звонка, доносившегося из гостиной. Кантен тряхнул меня за плечо.
— Нани, телефон!
Я накинула пеньюар и сбежала по лестнице вниз. Это был ассистент Верлена. Решительный момент, которого я и ждала и боялась одновременно, настал: сердце на замену ожидало Кантена. Нужно было как можно скорее приехать в медицинский центр.
Я не успела еще перевести дух, когда увидела мужа, застывшего на пороге гостиной.
— Сегодня, не правда ли?
— Да, мы должны ехать тотчас же.
Он заметно побледнел.
— Ты знаешь, — сказал он, — я вчера заснул с уверенностью, что готовится что-то важное. Я не знал, что именно. Странно, что я даже не подумал о трансплантации.
Горло у меня перехватило, я почти задыхалась. Кантен сделал шаг ко мне и положил мне руки на плечи.
— Я чувствую себя очень хорошо, Нани, не волнуйся.
Это он меня успокаивал. Позже, когда я готовила его чемодан, он, чтобы лишний раз уверить меня в своем оптимизме, положил в него на видное место рукопись Камачелли и свой блокнот для записей. Затем, не сказав ни слова, исчез в комнате Иоланды, где пробыл несколько минут.
Моя сестра Алина, которая в наше отсутствие должна была взять на себя заботу о детях, поднятая мною с постели, была уже в пути. Так как она ехала издалека, мы условились ее не ждать.
Нам оставалось только предупредить мальчиков. Они встали, взъерошенные ото сна и встревоженные необычным оживлением, которое царило в доме. Нам не хватало времени, чтобы открыть им правду. Мы сказали, что предстоит самая обычная операция.
— Тебе будут делать уколы? — спросил Морис с ужасом.
— Да, — ответил Кантен, — но совсем маленькими иголочками, я ничего не почувствую.
Ему удалось рассмеяться. Сейчас я любила его, как никогда.
Я объяснила Полю, что он не должен идти в школу, а вместо этого должен присматривать за сестрой до прибытия тети Алины.
— Ты уезжаешь надолго?
— Может быть, на три или четыре дня, но я вам буду часто звонить.
Кантен поцеловал их, стараясь не слишком выказывать свои эмоции, и мы вышли во двор, над которым висел серый день. Я поставила чемодан на заднее сиденье и села за руль. Окна напротив были темны и немы.
Мы ехали молча, пока не достигли вершины Ширульского холма. В этом месте я резко затормозила, так что заглох мотор. Огромный олень внезапно выскочил из подлеска. Одним прыжком он пересек дорогу так близко от нас, что задел капот. Пламя танцевало в его рыжем глазу. Он перемахнул через парапет вторым рывком, и мы увидели, как он спускался вниз по крутому склону напролом, как если бы мчался на чей-то властный зов.
В висках стучало барабанным боем. Я тронула с места машину, заскрежетавшую коробкой передач.
— Эта встреча скорее хороший знак, — сказал Кантен. — Если верить Камачелли, олень — совершенный символ жизненной силы.
Так как я молчала, он добавил:
— В конце концов, это лучше, чем встретиться с черной кошкой.
Глава 19
То, что случилось, превосходит всякое понимание, и я сижу здесь, оцепеневший и ошалелый, на дне провала. Пес в конце концов успокоился. Он лег на камни, и каждый раз, когда я зажигаю фонарик, я вижу, как блещут искры его глаз. Он тем более не понимает, что произошло. Он держится поодаль, в глубине пещеры. Вероятно, он почувствовал запах врага.
Придя к провалу, я нашел кол, воткнутый в камень, и веревку, которую я свернул под кустом. Разнообразных узлов в своей жизни я завязывал тысячи и знаю те, которые развязываются только ударом топора. Этот мог противостоять усилиям двух лошадей. Я проскользнул в трубу без толчков. Спуск казался мне гораздо легче, чем в первый раз, но я уже думал о подъеме с собакой, засунутой в мое пальто. Внизу эхо множило вой. Казалось, будто взбесившаяся свора драла глотки.
Я точно помню: когда поставил ногу на пол пещеры, веревка была хорошо натянута. Пес бросился в пучок света. Я поймал его за загривок и засунул вовнутрь пальто. Он яростно скреб лапами и сдирал мне кожу. Грудь у меня горит до сих пор.
И в этот момент веревка, которой я даже не касался, оторвалась от свода. Всей своей длиной она упала по спирали на землю. Я позволил вырваться собаке, извивавшейся в ярости, и осмотрел плетенку нейлона при свете фонаря. Не было никаких следов изнашивания, и конец, укрепленный металлическим кольцом, был цел.
Я держался точно под трубой и, перед тем как собака вновь начала скулить, успел услышать долгий и жалобный крик, похожий на крик оленя. Затем несколько светлых и чистых звуков напомнили мне тот монотонный протяжный речитатив, который женщины некогда заводили у подножия фонтанов. В этом я уверен не больше, чем в остальном, но что точно, так это то, что веревка лежит на полу, похожая на мертвую змею.
Едва брезживший день, дробящийся об угол трубы, играет на краю дыры и отбрасывает на землю чуть заметный ореол.
Я обошел пещеру несколько раз и установил раз и навсегда: труба — это единственный выход на поверхность. Она начинается в трех метрах от земли, и, даже подпрыгнув, я не смогу дотронуться до краев. Вначале я подумал, что мог бы дотянуться до трубы, сложив груду камней. Это была неплохая идея, но камни здесь были плотно спаяны эрозией. Используя кончик перочинного ножа в качестве единственного рабочего инструмента, мне пришлось бы работать месяц, чтобы собрать примерно тачку. Также невозможно насыпать черной земли, усеянной мелким гравием, которая покрывает каменистую почву слоем не толще пальца.
Внутренние стены сочатся влагой. В некоторых местах они побелели от плесени, в других покрыты тонким зеленоватым мхом. Здесь и там маленькие ниши изрыли камень; я нашел одну такую, образовавшую нечто вроде трона на достаточной высоте, и устроился на ней, чтобы поразмышлять.
Вопросы, которыми я здесь задаюсь, приводят меня к единственной очевидности: нет ни одного шанса на тысячу, что меня здесь найдут. Через несколько дней, очевидно, Рашель им скажет: «Он не перенес удара и покончил с собой». Организуют поиск в районе, обыщут подлески и ущелья, обшарят дно рек. Может быть, для очистки совести даже заглянут в старую часовню, так как это вполне подходящее место, чтобы обнаружить там повешенного, но дальше они не пойдут. Потребовалась бы армия, чтобы тщательно прочесать мои черные сады. Светлый мир поверхности, жалкий отсвет которого едва касается дна, оставляет на моих губах вкус пепла. Я прожил там, наверху, без любви, в костре гордыни. Я исчезну без злобы во мраке и тишине, сидя на насесте смехотворного трона. Погребенный монарх, которому в качестве царства осталась только собственная смерть, я знаю, за что плачу.
С равными интервалами я зажигаю фонарь на несколько секунд, чтобы посмотреть на часы. Бросаю луч света и на собаку, которая продолжает держаться поодаль, в глубине пещеры, там, где свод ниже всего. Пес начинает рычать, шевеля ушами. Он брюзжит и тогда, когда я обхожу пещеру вдоль внутренних стен в темноте. Иногда я вижу, как он лакает мутную воду из каменной выемки, наполненной стекающими со стен ручьями. Для животного, так долго заключенного в ночи, он обладает удивительной крепостью. Что-то сильнее, чем инстинкт, должно привязывать его к жизни. Может быть, воспоминание или волна далекого голоса, доносящая до него слова. Без сомнения, его агония будет длиннее моей. Рано или поздно, прежде чем он начнет страдать, нужно будет, чтобы я нашел в себе силы свернуть ему шею.
Лучший способ противостоять иглам голода заключается в том, чтобы накачивать себе желудок водой, которая здесь в избытке. Утром стены начинают сочиться, вода стекает по сталактитам, и бесчисленные впадины заполняются ею, как кропильницы.
Иногда я выковыриваю из черной земли гравий и кладу его на кончик языка, чтобы ощутить на минуту вкус соли и торфа.
Со времени истории с полевкой пес больше не рычит. Он даже взял себе в привычку приходить и ложиться под каменный трон, где я сплю скрючившись. Это произошло на вторую ночь. Малейший шелест отдается здесь, под сводами, тысячу раз. То, что меня разбудило, упорно шныряло туда-сюда прямо по земле. Я зажег начавший уже ослабевать фонарь и заметил крошечную тень полевки. Мое пальто, раскинутое, словно сеть, обрушилось на нее. Я раздавил ее ударом каблука и принес собаке, положив перед ее мордой. Пес долго обнюхивал подношение, прежде чем слизнуть каплю выступившей крови. На следующий день от полевки ничего не осталось, даже шкурки. Собака свернулась калачиком у подножия моего пристанища.
Ветер, гуляющий на поверхности, заглядывает иногда в каменную трубу. Прежде чем спуститься каскадом до изгиба, он кружится вихрем у входа в провал со звуком хлопающих парусов. И тогда он выдувает из камня звуки органа и свирели.
То, что я услышал, когда оборвалась веревка, было, может быть, только дуновением ветра в морщинах камня. И для узла я, должно быть не отдавая себе отчета, оставил слишком много слабины, затянув петлю. Вот что я повторяю непрестанно, стараясь убедить самого себя: это просто неумелый узел и бродячая музыка ветра, и больше ничего. Уж никак не теперь я поверю в Бишель, окруженную матерыми оленями и бросающую в провал свой взгляд, исполненный проклятия.
Понемногу мысль нащупала верную дорогу. Свет фонаря, меняющий окраску с белого на светло-желтый, заставил меня в конечном счете решиться. И хотя я пользуюсь им с бережливостью скупца, батарейки в нем не новые, они сдохнут очень скоро. По моим расчетам, самое большее, их хватит еще на час. После этого невозможно будет ничего сделать.
Фонарь я поставил вертикально на землю, так, чтобы внутренность трубы оказалась в луче света. Затем я позвал пса. Он тотчас подошел, переваливаясь с боку на бок. Он больше не боится меня, и, может быть, напрасно, так как, если дело повернется плохо, я недорого дам за его кости. Я глажу ему затылок, перед тем как начать эксперимент, и даже шепчу ему что-то нежно на ухо.
Если поднять руки, отверстие свода оказывается не более чем в метре. Изгиб, достаточно узкий для того, чтобы пес мог на него опираться, находится двумя метрами выше. Затем труба поднимается наклонно до самой поверхности. Если он поймет, что с ним происходит, он сможет выбраться ползком. Главное, доставить его до сужения изгиба, и для этого есть только один способ: бросить его, как мячик, по вертикальной траектории на три метра, рискуя при этом разбить ему крестец о стенки.
Я хорошо взвесил «за» и «против». Может случиться так, что он поранится об угол камня, и тогда мне останется только его прикончить. Но это ничуть не хуже, чем видеть, как он околевает здесь от голода и тоски.
Пока я собираю последние силы, он держится около меня, не шевелясь, но я чувствую все же, что он тревожится. Его дыхание учащается, он напрягает лапы, как будто готовясь к предстоящему удару. Фонарь заметно тускнеет. Больше нельзя терять времени.
Первая попытка не удалась. Я подбросил его слишком слабо, и, ударившись в полете поясницей, он смещается вправо. Удар приходится на задние лапы, и пес падает камнем вниз. Я не смог его поймать на лету, и, оглушенный, он минуту лежит неподвижно. Когда я его подбираю, он всаживает мне в руку иглы своих клыков.
Вторая попытка оказывается не успешнее первой. Пес достигает уровня изгиба, но у него не хватает инстинкта, чтобы там зацепиться. Он скатывается вдоль стенки, ударяется боком о край отверстия, но, без особых потерь приземлившись на лапы, прячется в глубине пещеры. Мне не составило труда его поймать. Он отбивается, как дьявол, и кусает меня до крови, пока я тащу его к дыре.
На этот раз он отправляется вверх стрелой, вытянув хребет. Под воздействием толчка он наполовину влетает в изгиб. Его задние лапы перебирают в воздухе, как будто он пытается плыть. Я слышу, как его когти скребут по камням.
Фонарь на земле дает только слабый, прерывистый луч. Прежде чем он гаснет, я успеваю увидеть, как пес заползает в изгиб. Он должен чувствовать сейчас порывы свежего воздуха, которые доходят с поверхности. Звук его когтей напоминает мне скрежет гвоздя по шиферу. Я полагаю, что он находится на полпути, там, где смягчается наклон. На минуту он останавливается, ослепленный дневным светом. Царапанья вскоре возобновляются, все учащаясь по мере отдаления.
Еще несколько бесконечных секунд перед окончательной уверенностью.
Дальше я могу себе представить его сумасшедший бег к поселку. Его освобождение прогоняет из моих вен черную кровь чумы и наполняет меня вдруг странной жалостью.
Лампа погасла в тот момент, когда тишина вновь спеленала камни, но остается прорвавшийся с поверхности нежный отсвет утра, который, словно бабочка, опускается на дно моей могилы.
Глава 20
«Моя дорогая Анаис!
Со времени твоего последнего телефонного звонка здесь произошло нечто, о чем я горю желанием тебе рассказать. Я могла бы тебе позвонить в больницу, но была настолько взволнована, что не смогла на это решиться.
Оливье приехал к нам провести выходные и уже собирается уезжать. Поскольку он намерен сделать круг, чтобы навестить Кантена, я пишу тебе на скорую руку это письмо, которое он тебе и передаст.
Успокойся, сестричка, это хорошая новость, без сомнения лучшая из тех, что я могла бы тебе поведать, но я должна рассказать тебе все по порядку, а потому — наберись терпения.
Этим утром Оливье ушел рано, он отправился на поляну за грибами. Дети еще спали, и я была одна на кухне. Я люблю твой дом, его тишину и его запахи. Правда, он не очень удобный и страдает от недугов своего почтенного возраста, но я уверена, что его добрые стены будут вас долго хранить.
Скоро должно было пробить девять, и я подумывала, не пора ли будить мальчиков. Я не хотела тебе говорить об этом по телефону, но, пока они не узнали о том, что операция прошла успешно, у них были очень тяжелые ночи. Я решила, что немного сна им не повредит. И потом, им вас очень не хватает, а пока они спят, они не считают часов.
В это время раздались странные поскребывания со стороны двери. Затем я услышала собачий лай. Только я открыла дверь, как маленький шерстяной шарик вкатился в кухню. И хотя мальчики мне рассказывали о собаке Иоланды, которую они считали безвозвратно потерянной, я не сразу сообразила. Вначале я подумала, что пес пришел с фермы напротив. Он слегка прихрамывал, но это не мешало ему бегать повсюду, обнюхивая мебель. Он долго стоял перед дверью, которая вела к лестнице. Казалось, он хорошо знает дом. Тогда я позвала детей.
Мальчики спустились первыми, и, когда они его узнали, они побежали за сестрой. Ты можешь легко представить, что последовало дальше, и я не буду останавливаться на радости встречи, так как самое главное еще впереди.
Это произошло спустя несколько минут, когда Иоланда отнесла свою собаку в кресло гостиной. Нужно было видеть их обоих, замерших, прильнувших друг к другу, смотрящих друг другу в глаза. Поль и Морис хохотали, но иногда они спешно скрывались в кухне. Ты достаточно знаешь своих мальчиков, чтобы не сомневаться, что они возвращались оттуда, вытирая глаза.
Иоланда поднялась с кресла. Она начала кружить с собакой, ни на шаг от нее не отстававшей, по комнатам. Можно было подумать, что она отдавала себе отчет в твоем отсутствии и что она искала тебя повсюду. Тогда — и я подхожу наконец к главному — она ясно произнесла первое слово в своей жизни.
Мальчики недоверчиво переглянулись. У меня же банка варенья выпала из рук. Иоланда искала тебя по комнатам и не переставала повторять „мама“ красивым и чистым голосом. Иоланда заговорила, сестричка, Иоланда говорит! Я предчувствую, что скоро и другие слова расцветут на ее губах, но первое хлынуло к тебе, и оно лучилось признательностью. Как ты была права, решив ни за что не сдаваться!
Хотелось бы, чтобы немного нашей радости пересекло двор и посетило бы дом напротив. Я говорила тебе о соседе. Его жена думает, что он пошел в лес, чтобы повеситься, так как, выйдя из дома, он взял с собой только веревку. Со вчерашнего дня поиск прекратили. Охотники говорят, что его найдут разве что зимой, когда опадут все листья.
Но я поговорю с тобой об этом сегодня вечером по телефону, так как Оливье сердится, и я должна с тобой проститься. Скажи Кантену, что он был великолепен, и поцелуй его за меня.
Шлю мой самый теплый привет вам обоим.
Алина»





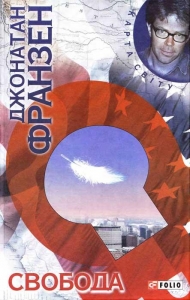





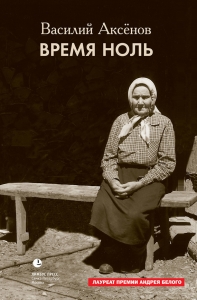

Комментарии к книге «Хозяин черных садов», Андре-Марсель Адамек
Всего 0 комментариев