Приморские партизаны Повесть Олег Кашин
© Олег Кашин, 2016
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
«А куртку внук будет донашивать» (О книге Олега Кашина «Приморские партизаны»)
Сергей Смирнов, главный редактор издания «Медиазона»Смерть пятимесячного Умарали Назарова, сына таджикских трудовых мигрантов, вызвала, как было принято говорить лет десять назад, широкий общественный резонанс. Его мать забрали в полицию за нарушение миграционного законодательства, полицейские мальчика забрали. Правда, они говорят, что быстро отдали врачам, и он умер. То есть полицейские ни при чем, так вышло.
На самом деле никакого настоящего резонанса снизу в России уже быть не может, за этим стараются следить. Тем более тут история приезжего. Это, конечно, дало повод части гражданского общества, критически настроенной к власти, сделать вывод, что вся дикость ситуации заключается в том, что это была семья мигрантов, и поэтому к ней так отнеслись.
Разумеется, это не так. Речь здесь идет не о происхождении, а о социальном статусе. Действительно, мигранты в данном случае относились к группе риска, но прежде всего, потому что за них не было кому заступиться.
По России похожие случаи происходят постоянно, люди умирают в полиции. Как правило, они как раз из той самой группы риска – за них некому заступиться. Поэтому полицейские ничего и не боятся, у них ведь всего лишь один страх – перед начальством.
Почему люди умирают в полиции? Причин несколько, прежде всего это пытки. Каждую неделю в России судят полицейских за избиения задержанных. Если их так часто судят, то можно с большой долей вероятности предположить, что гораздо больше силовиков избегают наказания. Но это не только насилие. Полицейским часто просто наплевать на задержанных, люди умирают без врачебной помощи. Алкоголики и наркоманы – они вот в самой-самой группе риска. К тому же их смерть так легко оправдать: сами виноваты. Поэтому полицейские и не вызывают врачей, мало ли кто у них там в обезьяннике кричит.
Предпринимались, конечно, попытки что-то сделать с этой волной смертей в ОВД, громкой историей стало расследование по делу ОВД «Дальний» в Казани. Вот там действительно был широкий общественный резонанс, безусловно, инициированный из Москвы. Со всеми подробностями, в том числе с бутылкой шампанского, которой полицейские пытали несчастного задержанного, впоследствии скончавшегося. Понятно, что громкое расследование было нужно Москве и тогдашнему президенту Медведеву, чтобы попытаться запустить реформу полиции. Она в итоге провалилась, но он хотя бы пытался.
Этот эпизод с пыткой в ОВД «Дальний» есть и в книге, Кашин моделирует ситуацию, что бы произошло, если потерпевший с бутылкой шампанского в заднем проходе остался бы жив. Да ничего хорошего бы не произошло с ним, вот в чем проблема. Сам виноват.
Как бороться против полицейского насилия? К сожалению, самый действенный способ избежать пыток в полиции – это позвонить другому силовику. Чуть менее действенный способ – говорить о возможном широком общественном резонансе. То есть с правозащитниками, прессой. Этого полицейские могут опасаться, особенно в регионах. В конце концов, в центре не любят скандалы на местах.
В противном случае шансы на успех невелики. Можно пытаться самому бороться с полицейской системой, но здесь высокие риски. Архангельский юрист Андрей Креков шел вечером домой, полицейские его остановили, был конец месяца и им надо было выполнить план по задержанным. Он возражал – спешил к жене и дочери. Его забрали в полицию, он стал еще сильнее возмущаться. На утро врач насчитал на его теле 60 повреждений. Но в итоге именно он сейчас сидит в колонии-поселении, он получил по решению суда срок 2 года 9 месяцев. Якобы скованный наручниками по рукам и ногам он укусил полицейского за бедро и оставил рану 1 см на 1 мм. Ровную, такой от зубов не бывает. А сел он в тюрьму только потому, что попытался добиться справедливости и посадить избивавших его полицейских.
За что людей убивают в полиции? Это неясно, это вообще не очень объяснимо. Родственники погибших растеряны. Мать мужчины, которого до смерти запытали в отделе полиции беспокоилась, потому что ей не отдавали вещи сына. «Тренировочные штаны, это ладно, они старые. А вот куртка хорошая, пусть нам куртку отдадут, внук будет донашивать», – плакала она по телефону. Ну понятно же, из какой социальной группы погибший – поэтому он был в зоне риска. Обычный русский парень из далекого Забайкалья, в том самом районе, где нету работы.
Конечно, появление приморских партизан, которые декларировали вооруженную борьбу с полицейским произволом, выглядит с одной стороны случайностью – люди из группы риска, как правило, не берут в руки оружия. С другой стороны, это рано или поздно должно было произойти. И пусть даже приморские партизаны это легенда, все равно их будут вспоминать как символ, неважно, были ли они теми, за кого себя выдавали.
Рано или поздно у это вялотекущей гражданской войны будет продолжение. Олег предлагает один из сценариев, на самом деле призывая подумать, как бы эту необъявленную войну закончить.
Приморские партизаны
Вместо предисловия: Русская Эбола
Россию охватила странная эпидемия. По всей стране бушует какая-то загадочная болезнь, и сообщения об очередном летальном исходе уже не удивляют. При эпидемиях так бывает всегда; смерть одного – трагедия, смерть многих – статистика.
Вот подряд, наугад новости за январь и февраль 2015 года:
– Медвежьегорск, Карелия, 3 января. Мужчина, возраст не указан, в протоколе написано, что пьяный. Задержан, доставлен в отделение, умер;
– Барнаул, 4 января. Мужчина, 37 лет. Написано, что пьяный. В отделении мужчине стало плохо, он умер;
– Петербург, 9 января. Женщина, 33 года. У женщины дома громко играла музыка, соседи вызвали полицию, полиция приехала и забрала женщину, в отделении женщине стало плохо, и она умерла;
– Холмск Сахалинской области, 14 января. Мужчина, 33 года, административное задержание, помещен в изолятор, найден мертвым. В протоколе написано, что повесился;
– Рязань, 15 января. Мужчина, 45 лет. Написано, что пьяный. Задержан, доставлен в отделение. В отделении начал издавать хрипы, умер;
– Киров, 16 января. Мужчина, 34 года. Задержан и доставлен в полицию для проверки на причастность к краже. Почувствовал себя плохо, умер;
– Петропавловск-Камчатский, 26 января. Мужчина, 45 лет. Доставлен в краевой наркологический диспансер, оттуда зачем-то (пишут, что «вел себя неадекватно и агрессивно») увезли в дежурную часть краевого УМВД. Помещен в камеру, в ней же и обнаружен мертвым;
– Березовский район Ханты-Мансийского округа, 27 января. Мужчина, 51 год. Написано, что пьяный. Доставлен в полицию, почувствовал себя плохо, умер;
– Челябинск, 2 февраля. Мужчина, 51 год. Задержан по подозрению в краже в супермаркете. Доставлен в ОВЛ Аргаяшского района, там неожиданно почувствовал себя плохо. Умер;
– Магнитогорск, 3 февраля. Мужчина, 64 года. Вызван в полицию в качестве свидетеля по делу о хищении горючего. Почувствовал себя плохо, умер;
– Краснодар, 4 февраля. Мужчина, 32 года. Написано, что пьяный. Доставлен в отделение, помещен в камеру, ночью стало плохо, умер;
– Краснодарский край, станица Павловская, 8 февраля. Мужчина, 33 года. Задержан за правонарушение (не уточняется). В отделении стало плохо, умер;
– Хабаровск, 8 февраля. Мужчина, 44 года. Задержан за распитие спиртного, доставлен в отделение, во время составления протокола почувствовал себя плохо. Умер;
– Кострома, 9 февраля. Мужчина, 18 лет. Задержан за мелкое хулиганство, доставлен в отделение, там же и умер;
– Ростов-на-Дону, 9 февраля. Мужчина, 39 лет. Доставлен в полицию для опроса по заявлению о взломе двери. Умер;
– Киров, 11 февраля. Женщина, 54 года, задержана за мелкое хулиганство. В отделении почувствовала себя плохо, умерла;
– Бийск, 12 февраля. Женщина, 61 год. Задержана по подозрению в мошенничестве. Стало плохо, умерла;
– Москва, 16 февраля. Мужчина, возраст не указан. Задержан при попытке похитить платежный терминал в магазине. Плохо стало прямо во время задержания, умер по дороге в больницу.
Это то, что гуглится с первой попытки. Со второй нагуглится еще больше. Люди в отделениях полиции умирают каждый день. Как и во всякой эпидемии, описания смерти абсолютно однотипны. Человеку становится плохо, полицейские вызывают врачей, а сами пытаются оказать помощь, но тщетно, врачи приезжают уже к трупу. И еще в каждом сообщении есть обязательная фраза – «по факту смерти проводится проверка». Фраза обязательная, но на самом деле именно что необязательная, дежурная – проверка-то проводится, но, как правило, никто не слышал о том, что они там напроверяли.
Иногда удается поставить диагноз, почему-то очень часто звучит тромбоз легочной артерии, или просто сердечная недостаточность. Людям и в самом деле часто, очень часто становится плохо с сердцем, и по теории вероятности логично, что сколько-то из носителей сердечной недостаточности по несчастливому стечению обстоятельств в момент неизбежной смерти оказываются в полиции. Но не каждый же день!
Стоит, между прочим, иметь в виду, что, если смерть вдруг запаздывает, человек успевает доехать до дома или до врачей и рассказать, откуда именно у него взялись неожиданные проблемы со здоровьем. Так случилось 26 января в Белгороде, где задержанный и потом отпущенный гражданин успел рассказать врачам, что в полиции его избивали, и только после этого умер. Его избили в полиции, и после этого он умер – сенсация, правда? Вы удивлены?
Десятки моих соотечественников в течение двух неполных месяцев (если считать годы, то будут сотни) оказались объединены одной общей судьбой – задержан, доставлен в отделение, внезапно почувствовал себя плохо, умер. Такая вот русская Эбола, смертельная болезнь, ежедневно утаскивающая на тот свет самых разных людей, мужчин и женщин, молодых и старых. Каждый день или почти каждый день в России кто-то внезапно умирает в отделении полиции. Это нормально?
Я не берусь утверждать, что в каждом из этих десятков случаев речь идет о смерти в результате физического воздействия со стороны полицейских, но я не верю, что полицейские участки обладают каким-то загадочным мистическим качеством, обеспечивающим повышенную смертность от тромбозов и инфарктов именно в этих стенах. Если новости каждый день приносят внезапную смерть в полицейском участке, то речь действительно идет о какой-то странной эпидемии, нуждающейся в точном выяснении ее причин, локализации и эффективной борьбы с нею. Это менее интересно, чем Донбасс, это не вызовет бурных обсуждений в социальных сетях, да и скучно читать заунывно повторяющиеся одинаковые истории – «Умер, умер, умер». Но вы уверены, что умирать всегда будет кто-то другой, не вы? Я по поводу себя совсем не уверен, и я боюсь этой эпидемии, и хочу, чтобы все ее боялись, потому что она страшная, и ее нужно остановить.
1
Он опоздал на похороны отца.
Аэропорт пятьдесят какого-то года постройки, времен великой дружбы, непропорционально большой для маленького областного центра, десятиугольная ротонда, и под потолком статуи каких-то колхозниц с отбитыми носами. Под статуями стоячее кафе, пластмассовые стаканчики, чай в пакетиках, и можно курить, и Химич курил, злился на себя. Командировки самое частое дважды в год, ездить ему нравилось, но посылали редко, а тут повезло; он всегда говорил, что если уж ездить, то только в такие места, куда по доброй воле и за свои деньги никогда не поедешь. Какие-то безумные степи у границы, сопка, и на сопке городок из одних пятиэтажек, только приехал – позвонила мама, и он, конечно, сразу сказал, что вылетает, но до аэропорта восемь часов на такси, и до Москвы семь часов, а от Москвы хоть и полтора часа, но стыковка неудобная, десять часов между рейсами. Мама спрашивала, не обидится ли он, что похоронят без него, и пришлось ответить, что нет, не обидится; будущее время служило страховкой от заведомой лжи, и, стоя над своим пластмассовым стаканчиком, он думал, что сам не знает, обидится ли он на кого-нибудь завтра или послезавтра, когда прилетит. Сейчас он просто злился.
Отца хоронили сейчас. Он посмотрел в интернете – 5708 километров по прямой или 7467 по трассе, точка А и точка Б. В точке А закапывали отца, в точке Б посреди дурацкой ротонды под статуями стоял сын. Водки взял в самолете, три маленькие бутылки, очень маленькие – он называл их детскими, хотя знал слово «чекушка». Выпил, выпил и выпил – три раза подряд. Надо было думать об отце, и он честно закрыл глаза, пытаясь объяснить себе, как и когда симпатичный мужик из детства превратился в унылого пенсионера, с которым Химич, впрочем, знаком были только заочно – уехал в Москву, родителей сначала пытался навещать, но быстро плюнул, потому что и разговоры все не о том, и нервов жалко, и вообще ничего интересного; куда все девается? Понять не смог, заснул.
Через сутки он встанет у холмика с фотографией, один – маму попросил сидеть дома, она не спорила. Ее «Ты не обидишься?» звучало теперь как «Ты не обидишься на отца?» – оказалось, что здесь, перед фотографией, хочется обижаться именно на него, даже не на себя. Мама, когда позвонила, сказала просто – «умер», а тут, оказалось, почти самоубийство. На самоубийц можно обижаться?
2
Родители ссорились всегда, и он думал, что хорошо представляет себе, как это происходит – слово за слово, ну, понятно. Из безусловно нового тут было только ружье, то есть само-то ружье старое, из детства, но как субъект ссоры с мамой – раньше такого все-таки не было никогда.
Называть отца охотником – это всегда было несерьезно, просто когда-то за компанию с сослуживцами несколько раз ходил, понравилось, достал где-то ружье, но больше, чем о ружье, разговоров было о сейфе, в котором ружье было положено хранить. Покупку сейфа отец как-то сразу посчитал ниже своего достоинства и сделал сейф сам – приварил петли к старому холодильнику, навесил замок, инспекция удивилась, но не возражала, и, кажется, вся охота на этом и закончилась, только когда приходили гости, отец, даже если они давно были в курсе, каждый раз спрашивал, показывая на холодильник – мол, что это такое. Гости все правильно понимали и отвечали «холодильник», и отец торжествовал, говорил, что нет, на самом деле это сейф, и прежде чем гостей приглашали к столу, они должны были поудивляться – надо же, сейф, а выглядит совсем как холодильник. Отцу нравилось, когда удивляются.
И в то утро – слово за слово, и отец открыл сейф. Мама сказала – «Мне уйти?» – и отец, размахивая ружьем, ответил, что да, уходи. А ей и так надо было в магазин, она оделась и ушла, а участкового вызвала (и потом плакала на похоронах и просила прощения) соседка. Участковый пришел раньше мамы. «Откройте» – «Не открою» – «Откройте, милиция» – «Ебал я вашу милицию». Участковый кулаком в дверь – бум, бум. Отец из ружья выше косяка в стену над дверью – ба-бах. Вот это, как потом оказалось, и было самоубийство, то есть отец, конечно, стрелял не в себя, а получилось, что в себя, потому что участковый спустился на улицу, звонил кому-то, и через десять, что ли, минут в подъезде появились омоновцы, пожарные, аварийка, которая сразу же перекрыла газ, и электрик, который выключил в подъезде свет. Толпились на лестнице час, иногда стучали в дверь – уже омоновцы, не участковый. «Открой!» – «Не открою».
Потом пришла из магазина мама, ее домой уже не пустили, потому что дома вооруженный психопат. Да какой психопат, муж же мой, – нет, милиции виднее. Разрешили позвонить, и рядом уже стояла милицейский психолог, прижималась к маминому уху, шептала – «скажите, чтобы гарантировал, что не будет стрелять». Мама повторяла – «Гарантируй, гарантируй», отец в ответ ругался, но не стрелять пообещал. К двери маму уже подвели двое в камуфляже, постучали сами, но «Открой» сказала мама. Отец не открыл, и те двое маму отодвинули в сторону, выбили дверь и убежали куда-то вглубь квартиры, за ними шагнул участковый, а маму за рукав держала психолог – «Подождите, подождите».
Труп отца вынесли из квартиры через минуту. Через полчаса снова включили газ и свет, все закончилось.
3
Поминать отца позвал Шишу – единственный на курсе, у кого десять лет назад уже был мобильный, и его номер у Химича остался с тех еще времен, больше никого не было. Шиша работал в порту каким-то средним начальником, и это было понятно еще в институте, что он будет начальником, потому что у Шиши в порту начальником был отец, а в таких ситуациях выбирать работу, как правило, не нужно. Шиша был хороший, только покойного он не знал вообще, не видел даже никогда, поэтому поминали очень условно – пили не чокаясь, но говорили о чем-то другом, рассказывали друг другу о жизни, об отце вообще ни слова. Но логика поминок – она сильнее, и, хотя оба не планировали, с Шишей пришлось выпивать и на следующий вечер, и в этот раз уже о погибшем отце говорили оба, и Шише было даже интереснее, потому что за эти сутки отец Химича стал и для Шиши если не героем, то, по крайней мере, важной личностью.
Потому что в эти сутки Шишу забрали в милицию – оба садились в такси, Химич успел, а Шиша нет, подошли двое, спросили документы – о, да вы пьяный, давайте-ка с нами. Посадили в машину, в машине же разбили лицо, потом привезли, Шиша знал это место, в Октябрьское ОВД, но завели не с главного входа, а сбоку – и это оказался вытрезвитель. Раздели до трусов, отвели в камеру, которая – и Шишу это особенно возмутило, – у них официально называется палатой, и в палате было еще человек двадцать таких же случайных узников в разных трусах, а посередине стояло красное пластмассовое ведро с хлоркой – параша!
Шиша спать не хотел, попытался заговорить с кем-нибудь, но быстро сорвался, закричал «Менты сосут», и запертая дверь вдруг зашевелилась, зашел тот дежурный, который заставлял Шишу раздеваться – «Кто тут хочет отсосать, ты?» – взял Шишу за локоть и потащил к двери, и тут стало страшно, но только на секунду, потому что дежурного кто-то остановил, тоже человек в трусах – «Капитан, не надо, пожалуйста», – и капитан почему-то остановился, Шиша видел, как он растерялся – человеку сказали «не надо», и человек задумался – может быть, действительно не надо? Толкнул Шишу и вышел из палаты один. Шиша лег и заснул.
Утром надо было заплатить двести рублей за услуги, но оказалось, что платить нечем, потому что вместо бумажника в кармане возвращенных ему брюк лежала только одна банковская карточка, кем-то положенная в карман так заботливо, что, хотя карман был вырван полностью, карточка в дыре как-то держалась, но и банкомата в вытрезвителе не было, и Шиша не был уверен, остались ли у него на карточке деньги, пользовался ею он редко. Договорились, что квитанцию пришлют домой – так, оказывается, можно, – и Шишу отпустили, он доехал до порта, раздал какие-то распоряжения, а в обед вызвонил Химича и предложил продолжить поминки, раз уж такой повод. Поминали теперь у Шиши дома, по барам ходить обоим не хотелось, и Шиша сам заговорил об отце Химича – вот, его менты убили, а меня ограбили, и я рад, что живой, но какая-то это неправильная жизнь, когда живешь, как на оккупированной территории и радуешься, что тебя сегодня не убили. Химич соглашался и, поскольку отца самоубийцей больше считать не хотел, а соседку знал с детства и тоже не хотел на нее сердиться, думал и говорил теперь только об участковом, что вот же гнида, убил отца, и премию, наверное, еще за это получит, а даже если не получит, все равно у него все будет хорошо, доживет до старости, умрет уважаемым человеком. Были бы мы на Кавказе, можно было устроить кровную месть, но кровной мести у нас нет.
И тут Шиша сказал:
– А пусть будет. Пусть у нас будет кровная месть. Фамилию участкового знаешь? А отец у него есть? А кто у него отец? А давай он тоже умрет?
Химич знал только фамилию участкового – Романовский. Про отца Шиша обещал выяснить сам. Разговор, конечно, пьяный и ни к чему не обязывающий, но Шиша обещал.
4
В телевизоре плакала певица Максим. Шиша сделал погромче.
– По карманам не шарим, мы же не грабители, – Химич удивился, он и не думал шарить по карманам. Поднял глаза на певицу Максим – она плакала, но пела.
– Смотри, – Шиша достал откуда-то из-за телевизора явно не очень новый, но оттого имеющий еще более представительный вид карабин. – Оружие. Теперь у нас есть оружие. И теперь побежали.
Вышли на улицу – темно и тихо, – Шиша осторожно закрыл за собой дверь, сели в Шишину машину, поехали.
Певица Максим перестала плакать, и на экране появился Дима Билан. Сторож муниципальной автостоянки Сергей Дмитриевич Романовский лежал на полу, и если внимательно посмотреть на его горло, можно было увидеть еще красный след от стального троса, которым Химич, набросив его Романовскому сзади на шею, придушил его сначала до потери сознания, а потом и до смерти.
А если внимательно посмотреть на пол вокруг лежащего Романовского, то можно было увидеть большую лужу жидкости. Это не кровь, это моча.
Карабин оставили в багажнике, машину – у шлагбаума перед просекой, ведущей к морю. Оба разулись, поднялись на дюну, сели на песок, не глядя друг на друга. Молчали.
– Я тебя поздравляю, – сказал Шиша. – Ты отомстил. А я еще нет. Поможешь?
Химич посмотрел на море.
– Я убил человека. Вот этими руками убил.
Пауза.
– И ты знаешь, я вообще ничего не чувствую. И что отомстил, нет радости, и что убил, нет жалости. Нет вообще ничего, так странно.
– А мент человек? – уточнил Шиша.
– Он отец мента, а не мент.
– Ха, я же тебе не сказал. Он мент, он майор, на пенсии три с половиной года. Был начальником ППС в Октябрьском районе. А мне ты поможешь?
– Мент не человек, – сказал Химич. Шиша встал и начал раздеваться – май, купаться уже можно. Побежал вниз к морю, Химич остался на дюне.
5
Новость об убийстве сторожа муниципальной автостоянки Романовского в хронике происшествий шла одной строчкой через запятую с ограблениями и ДТП. Расстрел экипажа патрульно-постовой службы Октябрьского района – это уже была общегородская сенсация. Неизвестный вызвал милицию на улицу Тенистая аллея – звонил из будки, сказал, что напали хулиганы. Машина приехала, встала у будки, и дальше три выстрела и три попадания – водитель и двое милиционеров.
Стреляли из укрытия – за телефонной будкой был заросший сад, Шиша прятался в саду, и милицейская собака не смогла взять след, потому что на земле была рассыпана хлорка. Оружия при убитых найдено не было, то есть в руках неизвестных преступников оказалось три пистолета и автомат. О том, что автомат уже сработал, выстрелил через полтора часа после расстрела экипажа, в милиции знали, но в сводку для пресс-службы эту новость решили не включать во избежание паники, и, слушая утром по радио новости, Химич удивлялся – неужели гаишников еще не нашли. Машина ДПС стояла на десятом километре «приморского кольца», новой трассы, ведущей к морю, и с гаишниками все получилось как будто само. Когда они их остановили, Шиша вместо «здравствуйте» дал очередь, а потом вышел и расстрелял второго, который сидел в машине и, кажется, даже не успел испугаться. Теперь у Шиши и Химича было уже пять пистолетов, а в областном УВД была паника, и в правительстве области тоже.
Москву проинформировали только в общих чертах, и оперативное совещание у губернатора прошло вполне дежурно – начальники УВД и УФСБ пообещали всех поймать и разошлись, а губернатор, оставшись один, набрал с мобильного еще один номер и назначил новую встречу на полдень.
Богдан Сергеевич приехал раньше назначенного времени – оказалось, слегка перепуган и он. Президент фонда поддержки ветеранов спорта, чемпион области по боксу 1988 года в легком весе и при этом монопольный экспортер янтаря и импортер табачных изделий – о Богдане Сергеевиче говорили, что он «известен в определенных кругах» под именем Брюква, но на «Брюкву» он давно не откликался, предпочитая имя-отчество. Вот и губернатор, усадив его напротив себя, просто спросил:
– Богдан Сергеевич?
Богдан Сергеевич вопрос понял. Он ответил, что убийства милиционеров стали сюрпризом и для него самого, и он надеется, что никому не пришло в голову как-то связывать случившееся с его именем. Губернатор поморщился:
– И в мыслях не было, что это вы. Но вы всегда знаете больше, чем я. Просто скажите – кто это мог быть. Зачем, почему?
Богдан Сергеевич засмеялся:
– Вы позволите называть вас дневным губернатором? Не обижайтесь, просто мне еще не приходилось консультировать органы власти по вопросам уличной преступности. Тем более такой случай, – Богдан Сергеевич замолчал, потом повторил: – Не обижайтесь. Вы же отсюда рано или поздно уедете, а я по доброй воле – никогда. Родная земля, мне здесь жить. И я, может быть, больше вашего хочу, чтобы никто здесь людей по беспределу не убивал.
Губернатор, который сюда действительно приехал пять лет назад из Москвы, назначенный президентом, и надеялся хотя бы после второго срока уйти на повышение, ничего не ответил. Бандитов он не любил, и ему не нравилось, что сейчас в своем собственном кабинете ему приходится разговаривать с бандитом с позиции почти просителя. Ночной губернатор продолжал:
– Я сейчас скажу: давайте мы их сами поймаем и убьем, но если я так скажу, то это поставит вас в неловкое положение, а этого я не хочу. Поэтому лучше закончить и попрощаться, разговор у нас с вами важный, но сказать нам с вами друг другу нечего. Беспредельщиков у нас нет, и людей, которые просто так будут убивать милиционеров, в области тоже никогда не было, я таких людей не знаю. Если это какие-то приезжие так добывают оружие, то мы с ними очень скоро встретимся. А если это политика, то я вам просто пожелаю удачи. Вам, да и себе – еще неизвестно, кому из нас нужнее политическая стабильность в регионе.
– Политика? – губернатор поднял на Богдана Сергеевича глаза. – Вы считаете, что это может быть политика?
– Я ничего не считаю, – вздохнул ночной губернатор. – Но настоящую политику я себе именно так представляю – чтобы взять автомат и стрелять представителей власти одного за другим. Другой политики не бывает, это клоунада, а не политика, когда не стреляют.
– Никогда об этом не думал, – честно ответил губернатор.
– Вот такой вы, значит, политик, – улыбнулся Богдан Сергеевич.
6
В Москву Химич не возвращался – позвонил на работу, сказал, что не может пока оставить мать, начальник отнесся с пониманием и обещал не потерять трудовую книжку, «приезжай когда сможешь». С новой работой помог Шиша, да как помог – просто взял к себе и назначил зарплату. Должность называлась «менеджер по логистике», надо было фиксировать в компьютере передвижения контейнеров с грузом, ничего сложного, да еще и кабинет в здании старого портового элеватора.
В элеваторе был подвал, в подвале были помещения для ценных грузов – несколько небольших комнат с толстыми железными дверями. Химичу Шиша выдал ключи от трех таких комнат. Везде было пусто, но в одной комнате был железный пол, и под листами пустое пространство. В это пространство Шиша сложил все оружие, которое у них теперь было – карабин, автомат и пять пистолетов. Порт – режимная территория, и на въезде положено предъявлять милицейскому прапорщику салон и багажник, но Шишу прапорщик знал и давно перестал проверять его машину, поэтому провезли все спокойно, а потом еще Шиша однажды выезжал с пистолетом – посреди рабочего дня, как бы на обед. Это было, как они решили, последнее приключение. Шиша приехал домой к капитану Борисюку, тому дежурному из вытрезвителя, который «сейчас ты у меня отсосешь». Позвонил в дверь, сказал, что электрик, проверяет проводку, Борисюк его впустил и, конечно, не узнал. Шиша застрелил его прямо в прихожей и сразу же вернулся в порт. Седьмой труп за две недели, нормально.
Вечером ездили пить пиво на ту же дюну, что и после Романовского. Химич вздыхал – вот же пути Господни, приехал похоронить отца, в результате стал настоящим бандитом. Шиша сердился – не знаешь ты бандитов, бандиты – это кому у нас полпорта принадлежит, я тебя как-нибудь познакомлю. А мы не бандиты, мы просто люди.
– Люди, – повторял за ним Химич, как будто впервые услышал это слово. – Мы люди, да.
Почему-то звучало очень непривычно.
7
Дальше случилось что-то совсем непонятное. Два обгорелых милицейских трупа в сожженной патрульной машине в Гусевском районе – это час езды от города. По радио взволнованно говорили, что в области продолжается серия загадочных убийств милиционеров, и что возбуждено уголовное дело по террористической статье. Шиша вызвал Химича к себе в кабинет и издевался – признавайся, что это ты остановиться не можешь, ездишь по области и сжигаешь мусоров, – и хотя смеяться было, наверное, не над чем, все равно было смешно. Драма, авторами которой были они двое, начала жить собственной жизнью, а они становились просто зрителями. «Мы просто люди».
Если бы кто-нибудь искал мотив гусевского убийства, то, наверное, стоило бы изучить протоколы районного ОВД за последний хотя бы месяц. Происшествий в Гусевском районе было немного – мелкие ограбления да пьяные драки, но тем и легче, потому что смерть в этом месяце была только одна. Пенсионер Клопов Станислав Николаевич был задержан, как сказано в протоколе, за то, что нецензурно ругался в общественном месте. Понятно, что это могло значить что угодно, но в отделение его совершенно точно доставили, был составлен протокол, но подписать его Клопов не успел, потому что, и это уже написано в другом протоколе, он внезапно почувствовал себя плохо, дежурный вызвал скорую и сам попытался оказать задержанному медицинскую помощь, но прибывшая бригада врачей смогла уже только засвидетельствовать смерть от легочной недостаточности. Легочная недостаточность – это когда бьют в грудь и в живот, и хотя в протоколе этого сказано, конечно, не было, начальник ОВД, распорядившийся провести по факту смерти задержанного служебную проверку, дежурного отругал и попросил впредь быть сдержаннее, потому что в этот раз обошлось, а в следующий может быть и скандал, затаскают.
Сын Клопова Паша таскать никого никуда не умел, мысль о жалобе в милицейское управление собственной безопасности казалась ему издевательством, но, похоронив отца и не сомневаясь, что отец был именно убит, сразу решил, что будет не то чтобы мстить, но, по крайней мере, ответит. Рассказал о своей идее однокласснику Альгису, Альгис поддержал, нож – мясницкий, самозатачивающийся, – купили в областном центре на рынке, и той ночью, когда Альгис постучался в милицейскую машину у въезда в городок, все получилось даже легче, чем ждали. Альгис держал, Паша резал, потом бутылка бензина, и когда полыхнуло, они уже убегали. Нож бросили в реку, окровавленные джинсы сожгли. Заночевал Паша у Альгиса – и ближе, и мать с расспросами не полезет. Утром слушали радио, было весело.
8
Год назад в Москве обезумевший милиционер Евсюков пришел ночью в супермаркет и, гуляя между полками с едой, расстреливал из пистолета ночных покупателей – раз, два, три, четыре. Был скандал, говорили, что снимут министра, но министр как-то выкрутился и даже выступил по телевизору с такой странной речью, что, дорогие россияне, если вы видите милиционера, который делает что-то, что кажется вам нарушением закона, то я, министр, разрешаю вам оказать такому милиционеру сопротивление, имеете право.
Восемь милицейских трупов и один труп отставного милиционера – даже если министр разрешил, для одной области это слишком, да и сам министр вел себя так, будто ничего он в прошлом году не разрешал, звонил начальнику областного УВД и даже не ругался, а недоумевал – что там у вас происходит, разберитесь, меня президент уже спрашивает, ЧП. Начальник УВД отвечал, что работа идет, всех скоро поймают, волноваться не надо.
И он действительно так думал, Андрей Сергеевич Гончаренко, генерал-майор МВД и начальник областного УВД с 2001 года. Ему было 59 с половиной лет, до пенсии оставалось несколько месяцев, и убийства милиционеров во вверенной ему области загадочными ему не казались. Вслух он об этом никому не говорил, но и на совещаниях у губернатора, и вот сейчас, когда позвонил министр, он отвечал одно и то же – не надо волноваться, всех поймаем, – хотя имел в виду кое-что другое.
Да, он был уверен, что все скоро закончится и даже мог назвать точную дату, когда убийства прекратятся – 29 сентября, день его рождения, когда ему исполнится шестьдесят, и он выйдет на пенсию. Когда на Тенистой аллее расстреляли экипаж ППС, он сразу понял, что это ему, это для него, он единственный адресат этого послания. Война с Федеральной службой безопасности, которую он вел шесть лет назад, и которую он проиграл, ожидаемо продолжилась теперь, и он не удивился, он всегда знал, что случится что-то в этом роде. Шесть лет назад его подбили на взлете – буквально за пять минут до того, как он должен был стать настоящим хозяином области, то есть, как теперь Богдан Сергеевич, ночным ее губернатором, крупнейшим тайным бизнесменом и, как следствие, крупнейшим теневым политиком. Слово «силовики» тогда уже звучало как политический термин, и в масштабах области силовиком номер один был он, оставалось только протянуть руку и конвертировать свое силовое могущество в настоящую власть и настоящие деньги. И те убийства начались тогда точно так же, как нынешние – некто неуловимый взялся каждый день убивать людей из «Свечи». Просто подходили, стреляли и исчезали – каждый день.
«Свеча» – это вообще-то была аббревиатура. «Союз ветеранов Чечни», крупнейшее в области охранное агентство и с некоторых пор – личная армия начальника УВД. Когда его прислали в область из Нижневартовска, он сразу подружился с Олегом Буйновским, лидером «Свечи», который тоже понимал, что наступают какие-то новые времена, и искал себе союзника где-нибудь во власти. Подарил генералу Гончаренко квартиру, генерал подарок принял, дружбу можно было считать свершившимся фактом, тем более что генерал и сам успел в первую кампанию повоевать в Чечне, и на этом основании был принят почетным членом в «Свечу». Термин «качели Гончаренко» появился тогда же и значил, что с какого-то момента любой бизнесмен в области начинает буквально качаться на качелях, переходя из нижней точки, когда к нему приходит милиционер и предупреждает об уголовном деле, в верхнюю, в которой никаких уголовных дел уже нет, зато есть наклеечка со свечой на двери магазина или офиса, означающая, что бизнес теперь находится под защитой ветеранов.
Продолжалось это чуть больше года, и, наверное, было ошибкой клеить наклеечку на офис областного газового монополиста, потому что газовая вертикаль уже стала сильнее милицейской, а генерал не заметил, и первые расстрелянные из «Свечи» – это были как раз двое, приехавшие что-то разруливать с газовиками. Их расстреляли прямо на крыльце офиса, и потом началось – каждый день, буквально каждый, до той самой ночи, когда и Буйновского, выходившего из ночной пиццерии, расстрелял из автомата мотоциклист в черном.
И наутро после этих выстрелов генералу позвонил его коллега или, как чаще называли – сосед, генерал Сорока из областного УФСБ. Пригласил встретиться, говорили вообще ни о чем, то есть даже не о погоде, а о каких-то светских новостях из телевизора и о мощах канонизированного адмирала Ушакова, которые как раз тогда должны были привезти в новый храм в областном центре. Только на прощание Сорока, пожимая руку Гончаренко, сказал таинственно, что жаль, конечно, что свеча так быстро погасла – в устной речи кавычек не бывает, но милицейский генерал сразу понял, о чем идет речь, и, повторив за соседом, что да, жаль, объявил о капитуляции – больше его амбиции никогда не выходили за пределы сугубо милицейских вопросов, и эти шесть лет стали для него, как он сам это сформулировал, периодом дожития – ни на что не претендовать, ничего не хотеть, никому не мешать.
А теперь они убивают милиционеров, и это естественно, потому что не бывает так, чтобы тот, кто сильнее, навсегда остановился на разделительной линии. Нет, сильный будет наступать – так и он, Гончаренко, рано или поздно перешел бы в наступление на соседей, если бы они не затушили его свечу. Вероятно, у Сороки уже есть свой кандидат на место начальника УВД, и, расстреливая милиционеров, он лишает Гончаренко возможностей отложить выход на пенсию, готовит почву для триумфального назначения преемника. Пусть готовит, осталось меньше пяти месяцев. Потом все закончится – в этом генерал Гончаренко не сомневался.
И он бы очень удивился, если бы узнал, о чем сейчас думает генерал Сорока, потому что Сорока, конечно, имел виды на милицейское управление, и своего зятя, молодого полковника из Краснодарского УФСБ он уже перевел к себе, чтобы тот мог войти в курс местных дел перед тем, как его назначат начальником УВД – но и все, больше никаких интриг Сорока не строил, и убийства милиционеров сбили с толку и его. Кто их убивает, зачем? Говорили об этом с губернатором, и губернатор, на которого произвела впечатление политическая теория Богдана Сергеевича, хоть и не поделился ею с Сорокой, но сказал ему, что было бы неплохо выяснить, нет ли тут какого-нибудь экстремистского следа, а то мало ли – распоясались ведь в последнее время, распустились.
9
О чем Химич никогда не рассказывал Шише – Химич писал рассказ, а может быть, повесть, а может быть, роман, или даже снимал кино. Он сам так и не определился с жанром. Наверное, надо начать с того, что на самом деле он ничего не писал и не снимал – просто когда было свободное время, сидел и придумывал. Какая разница, где книга – у тебя в руках или в голове?
Книга (или фильм, но скорее книга, потому что Химич мысленно проговаривал текст) называлась «Кубик Рубика», и на этот счет в ней была специальная глава, лирическое отступление, что русская история – она как кубик Рубика, в котором ячейки можно переставлять местами в каком угодно порядке, кубик все равно так и будет кубиком, все останется на месте. Действие происходило в девятнадцатом году где-то в России, уездная Чека – старый особняк с забором, обтянутым колючей проволокой, часовой у входа, гараж, в котором расстреливают, заводя автомобиль, чтобы на улице не было слышно криков и выстрелов. Во дворе уборная, и в ней иногда топят арестованных – окунают в яму и держат, потом поднимают, и если жив, то все подписывает.
И начальник Чеки, в разных вариантах у Химича он был то евреем, то латышом – усталый, чернявый, в пенсне, по-русски говорит с акцентом, и к нему приводят на допрос очередного арестованного – в грязной белой рубахе, истерзанного, в крови. И вот начальник его спрашивает – Ты кто?
– Сидоров Иван Иванович, – отвечает арестованный.
– Откуда?
– Из города Гусева.
– Здесь как оказался?
– Ехал домой от тетки, перестали ходить поезда, сидел на вокзале, тут подошли ваши бойцы, забрали.
– В Гусеве кем работаешь?
– Слесарь в железнодорожных мастерских.
Молчание. Усталый чернявый в пенсне шелестит бумагами. Что-то ищет. Нашел.
– А вот товарищи из Гусева пишут, что Иван Иванович Сидоров вовсе не слесарь в железнодорожных мастерских.
– Да слесарь я, слесарь, – человек в рубахе чувствует неладное и начинает блажить, но чекист достает из вороха бумаг фотографию – может быть, она вернет Сидорову память?
На фотографии Иван Иванович Сидоров – в форме МВД Российской Федерации с погонами майора. Сфотографирован на фоне двери, и на двери табличка – «Начальник ОВД майор Сидоров И. И.» Вот и все.
– Слесарь, да? – чекист прищелкивает пальцами, что на языке чекистских жестов значит – «в расход». Орущего Сидорова уводят двое с винтовками, и он уже знает, что сейчас в гараже заведут автомобиль. А в кабинет заводят нового человека – кажется, популярного телеведущего. Чекист изучающе смотрит ему в глаза – ну-с, что ты мне сейчас наврешь?
10
Нацболы, «Левый фронт», «Славянское братство», ДПНИ, РНЕ, «Балтийская республиканская партия», торговец антиквариатом со специализацией на немецко-фашистском наследии, двое родноверов, они же – открытая гей-пара, и еще человек из международной НКО, не местный, но давно тут уже работает. Всего десять человек – это первые, о ком получилось вспомнить.
Генерал Сорока – в штатском, высокий, красивый, сидит в главе стола, смотрит то влево, то вправо. Зацепился взглядом за антиквара, уставился ему в глаза – все, есть контакт, теперь можно поговорить.
– Я, конечно, извиняюсь, что мы вас всех так сюда выдернули, – тихо кашлянул, как будто волнуется; всех десятерых в течение дня задержали оперативники управления, доставили силой. – Надеюсь на ваше понимание – от методов моих подчиненных я и сам не в восторге, пробовал перевоспитывать, но вы видите – все без толку. Я хотел вас всех сюда пригласить по-человечески, без лишних формальностей. У нас, знаете, когда-то была такая практика неофициальных бесед, и вот сейчас мне бы хотелось, чтобы мы с вами провели неофициальную беседу. Я буду очень вам благодарен, если все, что вы здесь услышите, останется между нами, но, конечно, никаких подписок брать с вас не собираюсь, просто надеюсь на вашу порядочность.
Последний раз такую речь генерал Сорока произносил лет, наверное, тридцать назад в УКГБ другой, давно уже заграничной области, когда накануне московской Олимпиады пришлось срочно выдворять из страны безобидного областного диссидента, и Сорока, тогда всего лишь старший лейтенант, инструктировал его на предмет того, что если он будет там за рубежом много себе позволять, то руки у нашего ведомства длинные, найдем и обезвредим.
Теперь он генерал, но и диссидентов перед ним – десять, то есть нужно в десять раз больше обаяния, в десять раз больше улыбок, в десять раз больше убедительности. Обстановка, приближенная к боевой.
– Почти со всеми вами нам уже приходилось разговаривать по разным поводам. Давайте говорить прямо, в друзья я к вам не набиваюсь и о любви не прошу. Цели у нас с вами разные, интересы не совпадают, и вы наверняка уверены, что разговаривать вам со мной не о чем.
Пауза.
– Но вы ведь знаете, что сейчас происходит у нас в области. Не было такого никогда, случай беспрецедентный. Какие-то подонки объявили войну правоохранительной системе. Есть версия, что речь идет об умышленной дестабилизации социально-политической обстановки в регионе.
Снова пауза.
– Мы найдем их. Область маленькая, со всех сторон государственная граница, убежать они никуда не смогут, работает милиция, работает Следственный комитет, работаем мы. Но именно в порядке дружеской беседы я хотел бы поинтересоваться вашим мнением по поводу происходящего. Что вы об этом думаете, что знаете, что слышали.
Первым заговорил представитель НКО, который сказал, что его веселит ситуация, когда начальник областного УФСБ собирает у себя всех известных ему врагов государства и намекает, что ждет от них признания по поводу серии преступлений – «нет, я догадывался, что в вашем ведомстве все обленились, но чтобы до такой степени – этого и представить не мог».
Ну и дальше пошел совсем балаган, как на телевизионных ток-шоу. Геи-родноверы сказали, что, наверное, милиционеров убивают какие-то другие милиционеры, которые с ними чего-то не поделили. Человек из «Славянского братства» предположил, что в регионе появилось исламское бандподполье, и если генерал согласен, то братство поможет правоохранительным органам навести порядок хотя бы на продовольственных рынках региона, а можно и на вещевых. Нацбол сказал, что, наверное, милиционеров убивают западные спецслужбы. Антиквар сказал, что бытовуха. Больше никто ничего не говорил.
Сорока сделал несколько пометок в блокноте, поблагодарил всех высказавшихся и, заканчивая встречу, посоветовал своим гостям, по крайней мере, до поимки преступников хотя бы немного снизить свою общественно-политическую активность, потому что любые проявления экстремизма, «даже те, которые совершаются во благо», сегодня на руку преступникам.
Рук на прощание никто никому не жал, расходились по одному.
11
«Вконтактом» Шиша пользовался не очень активно – в основном смотрел кино и слушал музыку, – но страничка пользователя Alice Murderdoll как-то сама собой попалась ему на глаза, да и не могла не попасться, наверное. Фотографии пользователя нет, запись единственная – зато какая. Он быстро прочитал и по внутреннему телефону позвал Химича – беги скорее, тут такое.
Такое – это был короткий текст. Заголовок капсом: «СООБЩЕНИЕ ШТАБА ОТРЯДА ПРИМОРСКИХ ПАРТИЗАН».
– Партизаны, ты понял, а? – но Химич уже читал сам:
«Дорогие земляки!
Мы, приморские партизаны, взяли в руки оружие, чтобы положить конец милицейскому беспределу, который кроме нас остановить некому. Нам говорят о лихих девяностых, но кто скажет о лихих нулевых? Бандиты давно переоделись в костюмы и галстуки, их бизнес никак не касается нашей жизни. Вместо бандитов теперь милиция.
Ты видишь милиционера – ты боишься встретиться с ним взглядом. Ты не ждешь от него защиты, сама милицейская форма – знак смертельной опасности. Он изобьет тебя, ограбит или даже убьет, и ему ничего за это не будет.
Теперь будет. Пусть каждый милиционер знает – теперь мяч на стороне гражданина. Теперь ваша очередь бояться, господа милиционеры. Мы не угрожаем и не пугаем, просто знайте – разговор теперь будет простой. Задержал человека ни за что – получи пулю. Ударил человека – получи пулю. Накричал на человека – получи пулю. Не улыбнулся человеку – получи пулю.
Пуля – вот ответ, который гражданин дает теперь милиционеру. Справедливая и честная пуля от честных граждан России. Пуля – наш закон, пуля – гарантия от милицейского произвола. Покажи наше письмо всем своим знакомым, если среди них есть милиционер – пусть он покажет своим. Мы будем стрелять по кокардам. На нашей улице начинается праздник пули. Поздравляем всех честных граждан с праздником».
И подпись – снова капсом: «ШТАБ ОТРЯДА ПРИМОРСКИХ ПАРТИЗАН».
– Наверное, те чуваки из Гусева, – сказал Химич.
– Или просто подстава.
– А чего подстава? Кого таким письмом подставишь?
– Да хоть нас с тобой. Перешлем его друзьям, вычислят по айпишнику, и доказывай потом, что мы не партизаны.
– А мы разве не партизаны?
– Черт, забыл.
Рассылать письмо все равно никому не стали, мало ли что, а спустя два дня в областное УВД придет ответ из администрации социальной сети «Вконтакте», что профиль «Alice Murderdoll» был заведен одновременно с публикацией воззвания и больше никогда не использовался, причем неизвестный, опубликовавший текст от имени партизан, пользовался анонимайзером «Хамелеон», и поэтому установить его местонахождение не представляется возможным; до сих пор неизвестно, кто написал этот текст и что он на самом деле имел в виду.
12
Химич «Вконтактом» пользовался тоже – личной жизни в родном городе у него так и не возникло, ждать, пока просто повезет, было скучно, а лучший сайт знакомств, он знал – социальная сеть. Начал с одноклассниц, но это была, конечно, ошибка, хотя Химич был в курсе железного правила самой красивой девочки в классе, согласно которому спустя определенное количество лет она обязательно раньше всех превращается в самую страшную, самую толстую и самую усатую тетку, но в реальности было все еще хуже. Допустим, Химич и тридцать его одноклассников, тайно вздыхавших по одному и тому же адресу, дружно ошибались, и настоящей самой красивой девочкой в классе была кто-нибудь другая, но и если исследовать проблему с конца, то есть искать самую красивую девочку на основании нынешних вконтактовских фотографий, все равно получалось черт знает что – по железному правилу выходило, что они все были тринадцать лет назад самыми красивыми, потому что теперь в равной мере все были чудовищными, и ладно бы просто растолстели и перестали прокрашивать корни волос, но ведь еще и фотографировались, держа в ладони закатное солнышко над морем, или ложились, раскорячившись, на асфальт, явно символизируя что-то сугубо эротическое, или позировали на фоне дай Бог если чужих автомобилей с такой аэрографией на капоте, что Химич убегал бы от этой аэрографии в большем ужасе, чем когда они с Шишей убивали сторожа Романовского.
С остальными девочками из прошлого было не лучше. Соседка на четыре года моложе, с которой он однажды курил траву у железнодорожного переезда возле ботанического сада, и которая хвасталась ему своим пирсингом и слушала «Мумий тролля», превратилась в серьезную делопроизводительницу областного правительства, сделала себе сенаторскую прическу и ездила отдыхать в Турцию. Девочка, с которой он после очередного Дня города сначала пил водку в развалинах довоенной аптеки, а потом в тех же развалинах с нею переспал, выглядела, может быть, приличнее остальных, потому что стала, как он понял, дизайнером, но ее, к сожалению, посетила дизайнерская болезнь, то есть года, может быть, два назад она уехала жить в Гоа, и хотя уже вернулась, Химич ей писать не стал, потому что видел ее вконтактовский фотоальбом «Мой гоанский сувенир», в котором его счастливая старая подруга помещала фотографии мулатистого младенца – собственно гоанского сувенира. Дочка маминой подруги, знакомая Химичу по какому-то совсем раннему ее детству, когда они с мамой ездили к той семье за город, и маленькая девочка показывала ему десятилетнему, как она кормит поросят, теперь превратилась в таксистку и, судя по облику, лесбиянку. Девочка годом старше Химича, жившая в его доме этажом выше, стала милиционером – он механически подумал, мог ли бы он ее застрелить, и, хотя решил, что мог бы, интереса не проявил и к ней. «Надо забрасывать свою удочку где-нибудь в другом месте», – говорил в таких случаях Шиша, главным достижением которого, как он рассказывал, был нос, сломанный им своей бывшей невесте, заразившей его год назад хламидиозом. Надо было искать дальше.
13
Их, в свою очередь, тоже искали, но, к счастью Химича и Шиши (а также к счастью Паши и Альгиса, которых следствие считало теми же лицами, что и Шишу с Химичем), областная криминалистика переживала не лучший период своей истории, и все убийства, начиная с задушенного Романовского, оставались нераскрытыми. Москва терпела долго, но в игру вступила тоже – однажды утром пришел указ президента об отставке начальника УВД генерала Гончаренко. Скандальной отставка не была ни по одному формальному признаку – в указе было просто написано, что генерал достиг пенсионного возраста, и поэтому его увольняют, и хотя в действительности генералу до пенсии оставалось еще четыре месяца, он принял новость вполне радостно, поскольку почти не скрывал, что с нетерпением ее давно ждет.
Но в указе была и маленькая сенсация – новым начальником УВД назначался варяг, генерал-лейтенант Башлачев из Орловской области, и это был удар не только по Гончаренко, но и по генералу Сороке, которому теперь было как минимум неудобно перед перетащенным им с Кубани собственным зятем. По поводу зятя Сорока был уверен, что договорился в Москвой о его назначении начальником УВД, и куда теперь его девать, что ему говорить? Но это дела, по большому счету, семейные, скучные. Большая политика – это то, что мог нести с собой генерал Башлачев, потому что в московских газетах его называли слишком зловещим даже по нашим временам прозвищем «убийца губернаторов» – этого старого муровца последние десять лет федеральный центр использовал строго по особому назначению, направляя его только и именно в те регионы, которые готовили к смене губернатора, а такие вещи всегда нуждаются в оперативной и силовой поддержке, по талантам к которой Башлачеву не было равных во всем МВД. Нового генерала в область привез президентский полпред, с которым губернатор дружил семьями и по долгу службы, и по взаимной человеческой симпатии. Представляя назначенца новым землякам, полпред – пожилой и, насколько это в таком бизнесе возможно, честный ветеран госбезопасности, старался не смотреть в глаза ни губернатору, ни Сороке, сосредоточившись на уходящем Гончаренко, которому, как все знали, было уже все равно.
Все знали, что ему все равно, но ведь не до такой же степени – только одну ночь он прожил простым отставным генералом в своем доме на берегу моря. Утром после отставки жена нашла его в саду – раздетого и мертвого, лежал лицом на земле, а из спины торчал большой и, как потом показала судебно-ботаническая экспертиза, осиновый кол.
– Сука Сорока, – только и смогла произнести жена, потому что от нее-то покойный с самого начала не скрывал, что все убийства милиционеров он считает организованными генералом Сорокой в рамках межведомственной войны. Версия, как мы понимаем, была совершенно несостоятельна, но вот же ирония судьбы – в этот раз Светлана Валентиновна Гончаренко, повторявшая за убитым мужем проклятия в адрес Сороки, была совершенно права.
– Потому что он иуда, иуда, – говорил тем утром Сорока своему зятю, доливая коньяк в его кофе. – Своих же ребят убивать, чтобы мне напакостить – нет, это что такое вообще? Приди ко мне, сядь, скажи – Сорока, вот такие дела. Я пойму! А ребят стрелять, это я просто не знаю. Вот поэтому кол и осиновый – чтоб Бог видел. Нельзя так, нельзя. Ты меня, конечно, прости, что я тебя сюда выдернул, но кто ж ожидал, что эта гнида так себя вести будет.
Генерал Сорока искренне верил, что назначение Башлачева – результат интриги покойного Гончаренко, нашедшего такой радикальный способ помешать назначению на своего место зятя ненавистного Сороки. Но этой версии придерживался только сам Сорока (а теперь его зять, ну и тот кол, конечно, воткнутый в Гончаренко оперативником того же отдела, который в свое время отстреливал коллектив «Свечи»), а всем остальным картина происшествия представлялась очевидной совершенно иначе.
– Не хочу быть банальным, но нам брошен вызов, – начал генерал Башлачев первое в своей новой должности утреннее совещание в УВД. – Банда, которая действует в регионе, и с которой мне поручил бороться глава государства, действует на опережение и повышает ставки в своей игре. До сих пор они убивали только обычных милиционеров. Жестокое убийство бывшего начальника УВД ставит нас перед лицом, давайте говорить начистоту, политического терроризма. В регионе действует бандподполье, и если мы его не остановим, это не кончится ничем хорошим ни для каждого из нас, ни для меня.
Посмотрел на сидящих за столом – кто-то же должен здесь быть губернаторским информатором?
– Вы, наверное, знаете, как меня прозвала пресса. Сплетни я не люблю, но это тот случай, когда прозвище, по крайней мере, может иметь под собой основания. Персональную ответственность за политическую ситуацию в регионе несет не участковый, и не сыщик, и не омоновец. Персональную ответственность за политическую ситуацию в регионе несет глава региона. Моя работа – исправлять ошибки тех людей, которые привыкли к тому, что на их ошибки все закрывают глаза. Я рассчитываю на помощь каждого из вас в этой моей работе. Спасибо.
14
Губернатор тоже давно понял, что происходящее его каким-то образом касается. На языке пресс-службы это назвалось проведением рабочих консультаций, но ни новые встречи с Богданом Сергеевичем, ни разговоры с Сорокой об экстремизме ничего не давали. Ездил в Москву, в Москве все как обычно – в коридорах пахнет тем же, улыбки в администрации такие же натянутые, а информированные собеседники все так же пересказывают ему краткое содержание последней программы «Время».
Это успокаивало. Если бы что-то было не так, то они не брали бы трубки, а, сталкиваясь с ним лицом к лицу, торопливо пожимали бы руку и говорили бы, что спешат. Можно было бы попроситься на прием к президенту, но это такая лотерея, в которую не стоит играть, если нервничаешь – у президента не найдется времени, а тебе потом не спать, перебирая возможные причины немилости. Возвращался домой успокоенный, и даже когда назначили Башлачева, губернатора это почти не испугало – в конце-то концов Гончаренко же и в самом деле не справился, и логично, что Москва прислала ему на смену именно такого серьезного человека. Да и вообще, если смотреть на вещи совсем формально – МВД же это федеральная ответственность, ну вот пускай и разбираются. Пусть президент министра снимает, а не губернатора.
Но все-таки что-то жгло. Заходил в областную думу, слушал, как обсуждают бюджет – понятно, что примут, областная дума для того и существует, чтобы все принимать, но тоже хотелось понюхать воздух и послушать интонации – нет ли чего необычного. Необычного не было, и даже Соломон Борисович Гринберг, единственный в думе образцово-показательный оппозиционер из демократов первой волны, вел себя прилично и вообще не выступал, но что-то губернатору подсказывало, что у оппозиционера интуиция может быть сильнее, чем у него. Надо было поговорить, и когда обсуждение закончилось (голосовать должны были потом), и депутаты начали расходиться, губернатор замешкался у своего стола и, дождавшись, пока мимо пройдет оппозиционер, нежно взял его за рукав – сто лет не разговаривали, как у вас дела, Соломон Борисович?
Соломон Борисович как будто этого ждал – ах здравствуйте-здравствуйте, рад, что вы интересуетесь, есть ли десять минут поболтать?
– Есть пятнадцать, – ответил губернатор и предложил вместе доехать до областного правительства – не в думском же зале разговаривать, «это вас может дискредитировать».
– То ли дело садиться в машину прямо перед думой, – засмеялся оппозиционер, но по лестнице с губернатором пошел и в машину у крыльца сел. Пальцем на них никто не показывал, мало ли какие у людей дела между собой.
И дальше было странно. Ехали, ехали, а Соломон Борисович не сказал ничего такого, ради чего стоило рисковать репутацией. Что-то было про бюджет, и про выборы, до которых еще два года, и про местную прессу, которая, как с сожалением отметил оппозиционер, слишком лояльна губернатору. А дальше уже и приехали. Может, он в кабинете хотел поговорить?
– Спасибо, что покатали, – это уже у крыльца облправительства Соломон Борисович сам заговорил, чтобы избежать приглашения внутрь. – Я понимаю, что сейчас у вас сложный период, – губернатор удивился, но и обрадовался. Не подвела интуиция, получается – Соломон Борисович ему сейчас что-то скажет.
– Сложный период, – повторил оппозиционер. – Но вы же понимаете, что вина здесь только ваша. Милицейский произвол на повестке уже который год, а вы ведь ничего не делали, вообще ничего. А если вы ничего не делали, то приходится делать нам. Понимаете?
И, не подав на прощание руки, развернулся и пошел назад к областной думе. Губернатор вспотел, остался стоять у крыльца.
15
Химич, сидя в своем портовом кабинете и имея под рукой хоть и казенный, но при этом вполне замечательный компьютер, свой рассказ, или роман, или повесть, так и не начал записывать – продолжал сочинять мысленно. Сюжет за последнее время чуть изменился, годы, в которые все в рассказе происходило, уже были не двадцатые, а, наверное, шестидесятые, и Россия у Химича была уже не вполне той Россией, какой мы привыкли ее знать и помнить. То есть заснеженные просторы – да, и резные наличники на деревянных домах – тоже да, и река, видимо, Волга, и рыба в реке, и церкви местами покосившиеся, а местами красивые и ухоженные, но никакой советской власти, а вместо нее – обычная, как на Западе, власть с парламентом и судьями в париках и мантиях, но при этом прописанная в законе система раздельного проживания или, как называли ее иностранцы – «апартеид».
Всех людей закон делит на три категории. Первая – менты. Менты заседают в парламенте и в судах, работают в правительстве, занимаются бизнесом, ходят в свои красивые ухоженные церкви, и в полиции, конечно, тоже служат менты. Это их страна, они здесь главные.
Вторая категория – это бандиты, у которых все примерно то же самое, только в полицию они служить не идут, им этого не позволяет их бандитский закон, признаваемый и уважаемый ментами.
И самая многочисленная и при этом самая бесправная категория граждан – собственно люди, народ. У народа нет прав, народ селится в специально отведенных территориях, так называемых бантустанах. Закон запрещает представителям народа вступать в браки с ментами, закон позволяет ментам сносить дома, в которых живет народ, закон запрещает ментам и народу пользоваться одними и теми же услугами и одними и теми же общественными пространствами и помещениями, закон дает право посещать территорию, на которой живут менты, только тем представителям народа, у которых есть соответствующий пропуск.
В этой, на первый взгляд, людоедской общественной системе было много положительных сторон. Первым в мире человеком, полетевшим в космос, был представитель народа Гагарин, а ракету для его полета разработал представитель народа Королев, который, в свою очередь, воспользовался добытой для него ментами у немцев технологией реактивного двигателя. Кроме того, врач из ментов сделал первую в мире успешную операцию по пересадке человеческого сердца – от одного представителя народа к другому, и тот, которому вставили новое сердце, даже выжил и получил право посещения территорий, на которых живут менты. Своим положением народ вообще был доволен, достаточно сказать, что единственное за десятилетие настоящее народное восстание случилось в бантустане Новочеркасск и имело под собой скорее местные и случайные основания (администратор бантустана мент Курочкин что-то не то сказал в присутствии народа), чем какие-то системные и глубинные, и когда Новочеркасск расстреляли ментовские танки, в остальных бантустанах все было по-прежнему спокойно и мирно. Только Солженицын был чем-то недоволен, но его тридцать лет держали в специальной тюрьме на острове Русском, и во второй части рассказа или романа он, уже получивший Нобелевскую премию, ехал в Москву через всю Россию знакомиться с Горбачевым, который то ли под давлением экономического кризиса, то ли по собственной доброте решил отменить апартеид и уравнять народ в правах с ментами.
В третьей части Солженицын уже умер, в Голливуде сняли фильм о футбольном матче примирения между народом и ментами, Солженицына играл Морган Фриман, но в России фильм успеха не имел – в России народ тихо дичал, все друг на друга нападали на улицах, грабили и, по слухам, даже ели. Дома бывших ментов и соседствующие с ними гостиницы для иностранцев, были обнесены колючей проволокой и охранялись бронетехникой. Апартеида уже как бы не было, но он был, просто не было уже закона, за отмену которого можно было, рискуя жизнью, бороться, как боролся когда-то Солженицын. Просто – это было уже навсегда. Фразу «это было уже навсегда» Химич все-таки записал в отдельном вордовском файле, чтобы не забыть. Она казалась ему очень весомой, эта фраза.
16
А как его звали-то? Никто не запомнил. Слишком простая русская фамилия, такие никогда не запоминаются, хотя он ведь даже был знаменитость – ну, в каком-то смысле знаменитость, по телевизору однажды выступал, и хотя канал был новый московский полулюбительский, зато модный и, как считалось, чуть ли не оппозиционный, и ту передачу многие посмотрели. Наверное, даже слишком многие – даже тот таксист, даже та уборщица на почте.
– Россиянин судится против России, – ведущий, седоватый и полноватый, похожий на симпатичного грызуна, сидел напротив гостя, усталого, как будто не спал трое суток, молодого человека лет двадцати пяти, длинноволосого, в пластмассовых очках и футболке с Дэвидом Боуи. – Открою маленький секрет: мы предлагали ему выступить в нашем эфире не представляясь и не показывая лица, но он отказался от таких мер предосторожности. Скажите, почему вы не скрываете своего лица и имени?
Гость вздрогнул.
– Ну как. Я сужусь от своего собственного имени, не скрываю его. Лицо тоже прятать – знаете, все, кому надо, меня и так знают в лицо. Мне не от кого прятаться.
– Хорошо. Тогда давайте сначала расскажем нашим зрителям, что с вами случилось и почему вы подали на Россию в Европейский суд по правам человека.
Гость снова вздрогнул.
– Ну как. Я живу в Москве восемь лет, я иногородний, приехал восемь лет назад. Знаете, как это – покорять Москву, да? Поехал недавно к родителям. Шел вечером по улице. Милиция.
– Давайте уточним: вас задержала милиция?
– Ну как. Они подошли, спросили закурить. Я не курю, я им так и ответил, что не курю. Они тогда сказали, что поедем для выяснения личности. У меня паспорт был с собой, но они сказали, для выяснения.
– И вы с ними поехали?
– Я бы так сказал, что они меня повезли. Они меня не спрашивали, поедем или нет, они меня просто посадили в машину, и мы поехали.
– Поехали в отделение, да?
– Да, поехали в отделение.
– Хорошо. Вас привезли в отделение и что там было? Составили протокол?
– Нет, не протокол, просто разговаривали – кто, откуда. Спросили, где живу, я сказал, что живу в Москве.
– Интересно. И как они отреагировали на то, что вы живете в Москве?
– Они сказали, что я похож на какого-то преступника, который что-то украл. Сказали, что утром придет потерпевший, и что будет опознание.
– То есть до утра вам предложили посидеть в отделении?
– Мне никто ничего не предлагал, но видимо, да, до утра.
– И что же было потом?
– Потом меня отвели в камеру, заставили раздеться догола. Я отказался, меня стали бить. Одежду на мне порвали и, в общем, раздели. Потом один из тех, которые меня задержали, взял резиновую дубинку и засунул мне ее, в общем, в анус мне ее засунул. Двое меня держали, а этот засунул дубинку.
– То есть милиционеры вас изнасиловали?
– То есть милиционеры меня изнасиловали.
– Вы так спокойно об этом говорите – я даже не знаю.
– Ну я вообще спокойный человек. Я плакать должен?
– Нет, но все-таки это слишком экстремальный секс даже для российских милиционеров.
– Я бы не стал называть это сексом, извините. Это унижение, это насилие, это причинение боли, это что угодно, но не секс.
– Да, простите. Что было потом?
– Потом я очнулся где-то на окраине города, голый. Это такой достаточно глухое место, промзона, там никого не было, меня разбудила собака, она лизала мне лицо.
Вдруг улыбнулся: – Наверное, хотела меня съесть.
Я встал, пошел по дороге, мимо ехал какой-то мужик, остановился, спросил куда подвезти. Я поехал к одной своей однокласснице, она меня уже отвезла в больницу. Меня там укололи, и я пролежал два дня без сознания. Одноклассница родителям позвонила, они ко мне потом приходили.
– Травмы, доказательства – это у вас все есть, да?
– Да, это все есть, вся история болезни. Ко мне приходили люди из службы собственной безопасности областного УВД, брали показания, но потом пришла бумага с отказом в возбуждении уголовного дела, якобы нет доказательств, что я был задержан. Потом уже в Москве я написал заявление в МВД и Следственный комитет, но они на том же основании мне отказали. Теперь я отправил иск в Европейский суд по правам человека. Я хочу, чтобы этих людей наказали.
– Но ваш иск – он не против этих людей, он против России.
– Это там так положено. Понятно, что я не против России. Я за Россию.
– Понятно. Как вы оцениваете перспективы своего иска?
– Я не знаю. Мне помогает адвокат, болгарин, он выигрывал там какие-то процессы. Я надеюсь, что мне удастся этих людей наказать.
– Понятно. Но я еще раз спрошу: почему вы так спокойно обо всем этом рассказываете? Почему вы не боитесь показывать свое лицо и называть имя, не боитесь судиться? Чего вы ждете от этого – что вы станете знаменитым, что перед вами извинится министр внутренних дел, что вы получите компенсацию? Объясните мне, я не понимаю.
– Вы хотите сказать, что я должен был как-то оставить эту историю при себе, ну, к психологу сходить, да? Нет, я так не хочу. Я приеду еще раз в этот город, у меня там родители, друзья. Я не хочу прятать глаза и не хочу бояться. Город – мой. Страна – моя. Моя, а не тех людей, которым выдали милицейские погоны и которые ведут себя так, как будто мы скот. Они меня там бросили, потому что думали, что я умру, а я не умер. И если я не умер, я им должен доказать, что так в людьми обращаться нельзя. Вот и все.
– Спасибо. Тогда еще такой вопрос. Вы, наверное, знаете, что в некоторых регионах появились какие-то таинственные люди, которые просто отстреливают сотрудников МВД, режут их, жгут, убивают. Вы считаете, такая реакция может как-то остановить милицейский беспредел? Нет, я вас не подталкиваю к каким-то незаконным действиям, но все же. Что вы думаете?
– Я думаю, убивать людей нельзя, кем бы они ни были. Я, естественно, не одобряю того, что делают те люди, о которых вы говорите. Я считаю, что такие вещи можно решать по закону. Я хочу доказать это своим иском.
Ведущий поблагодарил его, повторил, что в студии был россиянин против России, дали заставку – все, передача закончилась. Больше этого человека никогда не показывали по телевизору. Европейский суд отказал ему в иске, а сам он через два с половиной месяца после того эфира болтался в петле на крючке от люстры в своей съемной двухкомнатной квартире на «Бауманской». В газетах не написали о его смерти, никто не знал, что он умер. Ни тот таксист, который однажды, узнав, высадил его на полпути и высказался в том духе, что тебя отпетушили, а я таких пассажиров не вожу; ни та женщина со шваброй на почте, которая, тоже узнав его, смеялась и говорила, что она-то поняла, что он получает от швабры удовольствие, и что если он снимет штаны, то она готова ему с таким удовольствием помочь – он выбежал тогда из почтового отделения, почему-то побежал бегом, и пока бежал, подумал, что, наверное, надо повеситься.
Приехали родители, забрали тело. Больше ничего интересного.
17
Губернатор позвал Богдана Сергеевича поужинать. Раньше вообще почти не общались, а теперь, можно сказать, лучшие друзья. Отдельный зал принадлежащего Богдану Сергеевичу ресторана у моря, камин, чучело кабаньей головы над камином.
– О Гончаренко думаете? – Богдан Сергеевич улыбнулся, кивая на кабанью голову.
– О мертвых – чего думать, я стараюсь думать о живых, – губернатор сам заметил, что в общении с янтарно-табачным королем его речь делается настолько элегической, что ее можно без купюр включать в гоблинский перевод «Крестного отца». Бывший Брюква, в свою очередь, с губернатором старался разговаривать так, будто он не ночной губернатор, а просто губернатор какого-нибудь дружественного региона, который случайно заехал к нему в гости.
– А кто у нас живой? В смысле – есть, что ли, какие-то новости по нашему делу?
Дело поимки убийц милиционеров Богдан Сергеевич искренне считал именно общим делом – своим и губернаторским. Губернатор, уточнив, нет ли новостей у самого Богдана Сергеевича, ответил, что да, новости есть.
– Вы тогда были правы, это политика, – губернатор вздохнул. – Не приезжие беспредельщики, не бандиты, а чистая политика.
– Уверен? – Богдан Сергеевич смотрел уже ему прямо в глаза.
– Да что уверен, они на меня сами вышли. Шантажируют.
– Чего хотят.
– Не сказали пока, но думаю, что-то к выборам. Во всяком случае, не денег точно.
– И вы?
– А я не люблю, когда меня шантажируют.
Про разговор в машине и про странное поведение Соломона Борисовича губернатор подробно рассказывать не стал, упростив пересказ сюжета до такой степени, что Соломон Борисович сам пришел к губернатору и сказал, что его люди и дальше будут убивать милиционеров, если губернатор не согласится выполнять все его условия.
– Я его, конечно, послал, но он сказал, что я об этом пожалею, – губернатор отпил шабли из своего бокала, губы вытер ладонью. – Вот такие дела, Богдан Сергеевич, вот такие дела.
Богдан Сергеевич удивился до такой степени, что даже сознался в настоящем уголовном преступлении, и хотя губернатор ничего не понял, Богдан Сергеевич потом ворчал на себя, что не надо быть таким болтливым, особенно с кем попало (губернатора он относил к этой категории, потому что губернатор был из Москвы), а признание его звучало примерно так: «Вот тебе и Соломон, вот тебе и тихий омут. Ох, не на того я охотился».
Богдан Сергеевич имел в виду Игоря Петровича, журналиста старой школы из девяностых, владельца и редактора местной газетки «Сити», конечно, давно пережившей свое время и давно растерявшей, как и вся пресса в России, свою репутацию, но при этом ее все равно по-прежнему читали и любили, во всяком случае, не только за программу телепередач на внутреннем развороте. Когда-то, еще при позапрошлом губернаторе, Игорь Петрович нанес Богдану Сергеевичу очень болезненный удар – Богдан Сергеевич помог тому губернатору с выборами, и губернатор расплатился с Богданом Сергеевичем должностью вице-губернатора, которую дали одному ветерану тех боксерских времен, когда Богдана Сергеевича еще звали Брюквой. Вице-губернатор был хороший мужик, отвечал за квоты по импорту табачных изделий, но сгубило его, как часто бывает, тщеславие, и когда в «Сити» вышел огромный материал о том, что вице-губернатор купил себе, во-первых, диплом о высшем образовании, и во-вторых, черный пояс по каратэ, государственная карьера его закончилась немедленно, а дружба с Богданом Сергеевичем еще быстрее, потому что с фальшивым дипломом нельзя работать на госслужбе, а с фальшивым черным поясом нельзя быть другом Богдана Сергеевича. Вице-губернатор успел улететь в Испанию, где, вероятно, и жил до сих пор, а, встретив Игоря Петровича в каком-то ресторане, Богдан Сергеевич честно ему сказал, что в другой ситуации он бы Игоря Петровича, конечно, убил, но поскольку по-человечески Игорь Петрович прав, то он его прощает и обещает не трогать.
18
Может быть, Богдан Сергеевич и рассчитывал на взаимность в смысле этого «не трогать», но Игорь Петрович ведь ничего ему не обещал, и уже в наше время, десять лет спустя, в «Сити» чуть не вышла новая разоблачительная статья про Богдана Сергеевича, которая могла бы стоит ночному губернатору огромных проблем, потому что Игорь Петрович сумел выяснить, что через подконтрольную ему дырку в границе Богдан Сергеевич экспортирует в Европу не только янтарь, но и наркотики. Какие выводы из этого хотел сделать Игорь Петрович, сказать трудно – то ли Богдан Сергеевич вел какую-то собственную игру, то ли действовал в чьих-нибудь московских интересах, но до выводов дело не дошло, потому что времена были уже действительно новые, и Богдану Сергеевичу позвонил генерал Сорока, бывший в курсе планов журналиста, и никакой статьи в итоге не вышло, потому что Игорь Петрович, возвращаясь однажды вечером из супермаркета, по неизвестной причине решил подняться на свой шестнадцатый этаж без лифта, и на двенадцатом этаже, видимо, утомившись, подошел к окну подышать свежим воздухом и, потеряв равновесие, выпал и разбился об асфальт. Следствие колебалось между самоубийством и несчастным случаем, выбрало несчастный случай, а в права владения ООО, которому принадлежала газета, вступил двадцатилетний студент юрфака Игорек, сын Игоря Петровича, и, хотя Игорек и пообещал, что продолжит делать «Сити» так, чтобы не посрамить память отца, главным его другом как-то сам собой оказался Богдан Сергеевич, и «Сити» очень быстро стала неформальным личным изданием ночного губернатора, то есть теперь, если газета кого-то разоблачала, то это не значило вообще ничего, кроме того, что разоблачаемым недоволен Богдан Сергеевич.
В некотором смысле новое положение газеты было, между прочим, выгодно и губернатору, потому что теперь ему было достаточно только сказать «никакой огласки», и даже о смерти генерала Гончаренко ни одна газета ничего не написала.
19
На место гибели депутата областной думы Гринберга с первой патрульной машиной прибыл начальник областного УВД генерал Башлачев. Постоял в пахнущем зоопарком подъезде, посмотрел на скрючившегося посреди лестничной площадке Соломона Борисовича, сказал, что можно уносить, сам вышел на улицу.
Напротив подъезда во дворе стоял мусорный бак. Подчиненные, сопровождавшие начальника, вспоминали потом, что он, передав одному из них свою форменную куртку, засучил рукава и, приговаривая, что он так и остался настоящим опером, и сейчас всем покажет, как надо работать, наклонился над мусорным баком и, засунув в него голову, долго шарил на дне своими руками. Вылез, отряхнулся и почему-то обрадованно прокричал:
– Пистолета нет!
Забрал куртку, оделся и уехал домой. Главное – создать у подчиненных настроение.
20
Соломон Борисович очень удивился, когда, получив пулю в грудь на лестнице собственной пятиэтажки, начал сползать по ступеням и, еще живой, скатился на площадку под двери тихо ужинающих соседей. Он не знал, что его убивают за тот разговор с губернатором – сам-то он рассчитывал просто заинтриговать губернатора, улучшить с ним на этой почве отношения и, поскольку это процесс долгий, прожить два предвыборных года так, чтобы встретить выборы не врагом, а умеренным оппонентом губернатора – умеренным до такой степени, чтобы губернатор как минимум не мешал ему переизбраться, а лучше бы даже помог, потому что без губернаторской помощи сейчас пожалуй что и не изберешься.
Провинциальная оппозиция – люди, которых не было. Зачем в провинции оппозиция? Она не нужна, общество так устроено, что ее некуда втиснуть, и несчастные соломоны борисовичи, если они где-то остались, тихо доживали свое, числясь оппозиционерами просто потому, что им больше некуда было себя деть.
Соломон Гринберг когда-то преподавал научный коммунизм, в восемьдесят девятом году помогал местному прогрессивному профессору избраться народным депутатом СССР и помог, а потом, когда депутатов из межрегиональной группы всех стали назначать первыми губернаторами, тот профессор позвал Соломона Борисовича к себе заместителем, и Соломон Борисович до самого девяносто шестого года честно разваливал областную социальную сферу, а потом, когда губернатор проиграл выборы и вышел на пенсию, Соломон Борисович остался в тогда еще большой политике, и, каждые пять лет переизбираясь в областную думу по тому же округу, по которому его выбрали еще в те времена, когда он был властью, постепенно, по мере исчезновения демократов первой волны, превращался в последнего областного оппозиционера. Стены в его квартире походили на коридор провинциальной гостиницы, гордящейся своими знаменитыми постояльцами – на застекленных фотографиях Соломон Борисович был изображен в компании Гайдара, и Чубайса, и Явлинского, и Каспарова, и Касьянова, и Лимонова, и Навального, и Прохорова, были совместные фото с Лехом Валенсой, Горбачевым и Вацлавом Гавелом, были просто портреты самого Соломона Борисовича на фоне американского Капитолия, каких-то евросоюзовских зданий в Брюсселе и на чекпойнте Чарли в Берлине. Говорят, оппозиция нужна для того, чтобы рваться к власти, но Соломон Борисович не рвался не только к власти – вообще ни к чему. Его устраивала эта роль, ему нравилось быть единственным независимым депутатом в областном парламенте, отпускать иронические реплики во время единодушных голосований и задавать острые вопросы губернатору, когда тот встречался с депутатами. Ему нравилась эта жизнь, но теперь она закончилась, потому что так решил Богдан Сергеевич.
21
Жизнь в России суровая, но политические убийства – это все-таки редкость и случай исключительный. Новость о смерти Соломона Борисовича за ночь дошла до Москвы и всех там взволновала. Уже с утра перед зданием МВД на Житной какие-то молодые активисты, сменяя друг друга, стояли с плакатами «Убит депутат Гринберг, я требую найти исполнителей и заказчиков». После обеда неожиданно высказался и президент, по телевизору показали, как он приехал на какую-то подмосковную ферму, сфотографировался с телятами, а потом фермер его спрашивает – слышали ведь про депутата? «Меня проинформировали, – ответил президент. – Дело я взял под личный контроль. Пока о версиях говорить рано, но единственное что могу сказать – кошельки так не подрезают».
Утренний рейс из Москвы летел полупустым, и в аэропорту у выхода на посадку столкнулись двое заочно знакомых мужчин.
– О, и вы летите? – спросил высокий седеющий брюнет лет сорока маленького пожилого толстячка; на самом деле они были ровесники, но брюнет, московский оппозиционный лидер, старался следить за своим здоровьем и по нескольку месяцев в году проводил, занимаясь серфингом, на каких-то океанских курортах, а старик – тот полгода как вышел из тюрьмы. Полковник-спецназовец, он отсидел три года по обвинению в покушении на известного чиновника-либерала, и присяжные оправдали его не столько за недоказанностью преступления, сколько потому, что сами, как и все в стране, ненавидели того чиновника и желали ему всяческих неприятностей. Брюнета полковник тоже узнал – когда-то он был соратником того либерала по правительству, но в новые времена найти себя в системе не смог, стал, как это теперь называлось, несистемным оппозиционером и несколько раз даже отбыл по пятнадцать суток по новому митинговому законодательству, чем ужасно гордился, и полковнику руку протянул именно как «тоже сидельцу» – искренне, как будто знакомы сто лет.
– Это не я тоже, а вы тоже, – ответил полковник вместо приветствия, пряча руку за спину. – К Гринбергу своему едете?
– Да, конечно, – брюнет, кажется, не заметил, что ему только что демонстративно не подали руки; он вообще никогда не замечал никаких проявлений чьей угодно нелюбви, даже если его называли в лицо самыми ужасными словами – будучи уверенным, что не любить его невозможно, он спокойно сносил любую критику, просто не понимая, как его можно критиковать всерьез. Поэтому и с полковником он разговаривал как со старым другом, и полковник, слушая, злился на себя – понимал, что перед ним враг, но при этом ведь симпатичный и доброжелательный, одно удовольствие с ним разговаривать.
– Соломона я знал, конечно, – рассказывал полковнику брюнет. – Хороший мужик, мог бы и губернатором стать, или министром, а вон как вышло. Мне из Кремля передавали – они там тоже в шоке, все-таки это красная черта, ее у нас не переходят. Я думаю, просто так это им не сойдет, кем бы они ни были. Ну и Кремлю тоже не сойдет. Сейчас будут похороны, а вечером, когда люди с работы, митинг. Вы пойдете на митинг? Хотите выступить?
Полковник растерялся – на митинге он действительно собирался быть, но чтобы выступать – черт его знает, так неожиданно, да и нужно ли. Наверное, не нужно. И сразу же сказал вслух:
– Хочу, спасибо. Спасибо большое! – и протянул брюнету руку.
22
Митинг действительно получился большой – может быть, самый большой после августовских митингов девяносто первого года, когда еще молодой Соломон Борисович держал мегафон своему профессору, будущему губернатору. На площадке перед недостроенным советским зданием обкома стояла, как посчитал кто-то из местных журналистов, десятая часть всего города, рекорд. Полковник смотрел на эту десятую часть с высоты грузовичка-трибуны – зрение у старика было хорошее, очков не носил и лица разглядеть мог нормально. Не слушая ораторов, вглядывался – где они, где те парни, которые режут ментов? Он ведь к ним приехал, ему они интересны, а не мертвый местный депутат.
Парни стояли в толпе совсем недалеко от грузовичка. Шиша и Химич слушали московского брюнета, но сами смотрели как раз на полковника – они его видели по телевизору и, конечно, не сомневались, что именно он расстрелял тогда из гранатомета машину того либерального чиновника.
– Вот бы с ним забухнуть, а? – шепнул Шиша Химичу, Химич молча кивнул – он же все-таки был москвичом, и выпить со знаменитостью из телевизора – ничего фантастического он в этом не видел, оставалось только придумать, как.
– Россия будет свободной! – закончил брюнет свою речь, и площадь ответила ему чем-то вроде «Ура» – траурный митинг очень быстро стал на рельсы просто митинга. Предоставили слово полковнику. Его Шиша и Химич уже слушали внимательно:
– Родные земляки! – говорил полковник. – Не удивляйтесь, мы с вами земляки, мой отец здесь в войну командовал десантным батальоном, и, поверьте, для меня это много значит. Вы мне скажите – когда я поведу батальон, вы пойдете за мной?
Первые ряды толпы действительно прокричали «Да!», хотя полковник и не уточнял, куда и зачем он собирается вести батальон.
– Я не сомневался в своих родных земляках. Сегодня, когда мы прощались с Соломоном, я вспоминал наш с ним последний разговор (с покойным полковник, конечно, знаком не был, но это значения не имело; отец его, между прочим, воевал тоже в совсем других местах, в Белоруссии). Вы знаете, наверное, что он был еврей, но я вам скажу – это был хороший еврей. И он мне сказал – Полковник, мы все ждем приказа.
Площадь насторожилась, никто не понимал, к чему клонит полковник.
– Я ответил ему тогда – Соломон, мы с тобой как Минин и Пожарский. Если мы не поведем ополчение, его никто не поведет. И он мне сказал – да, я понимаю это. У нас украли нефть, у нас украли янтарь, – пауза. – У нас украли страну! Но мы вернем ее себе.
Площадь неуверенно, но прокричала в ответ – вернем!
– Родные земляки. Вашему краю выпала честь первой оказать сопротивление ментовскому произволу. Наша родная милиция давно легла под еврейскую, давайте говорить прямо, под еврейскую мафию. С этой мафией боролся Соломон. С этой мафией борются и те, кто сегодня стреляет ментов. С этой мафией будем бороться мы!
Когда генералу Сороке покажут видео с речью полковника, он обратит внимание, что на словах о еврейской мафии московский брюнет наклонился к редактору местной оппозиционной газеты – что сказал, слышно не было, но по выражению лица было понятно – эй, что он несет, что он несет?
– И если здесь кончается Россия, отсюда начинается она! Вперед, Россия! Слава России! – полковник сжал кулак и выбросил руку вверх. Площадь ответила овацией.
Некто в штатском, стоящий у кормы грузовичка, включил рацию и, Шиша и Химич слышали, проговорил в нее – «седьмой второму, седьмой второму, он сказал слава России!» – рация в ответ что-то хрипела, но можно было расслышать «хуй с ним». Некто в штатском кивнул и прошел вглубь толпы – последним выступал как раз оппозиционный редактор, по его поводу местные силовики давно не беспокоились. А когда полковник спускался с грузовичка, его за рукав схватил Химич и по-московски запросто сказал, что если полковнику хочется сейчас пообедать, то мы с другом знаем отличное место совсем недалеко.
– Эшники, что ли? – развеселился полковник. Повернулся к брюнету, который уже тоже спустился, сказал ему: – Пойдем обедать, тут эшники с нами пообедать хотят.
И так и ушли с площади вчетвером, никому больше до них не было дела.
23
– А ты ему зачем звонил? – перебил брюнета полковник.
– Ну так положено, этика такая, – брюнет поморщился. – Если ты приезжаешь в регион, надо позвонить губернатору, сказать, так и так, вот я к тебе приехал, ничего нехорошего не замышляю, не волнуйся.
– У кого так принято? У меня не принято, – не успокаивался полковник. – Я же ему не звонил.
– Так ты и депутатом не был. А мы с ним оба депутаты были, понимаешь? Если бы я был губернатором, он бы наоборот, мне позвонил.
– Да ты и не будешь губернатором никогда! – полковник уже злился.
– Губернатором не буду, – соглашался брюнет, – возраст уже не тот. В моем возрасте только в президенты.
Брюнет еще не знал, что пройдет пять лет, и его совсем как Соломона застрелит на мосту около Кремля старший лейтенант чеченского МВД, и такой же митинг, как сегодня, случится и в Москве, и все тоже будут говорить, что это красная черта и точка невозврата, но, что бы они ни говорили, после этого убийства тоже ничего не изменится; может быть, вообще никогда ничего не изменится.
Шиша и Химич скучали. Хотели пообщаться с полковником, а оказались на спектакле с участием двух усталых поп-звезд второго эшелона – звезды красовались друг перед другом, во вторую очередь перед зрителями, пили оба немного, говорили о скучном, даже когда хотели об интересном.
– Ты мне скажи – стрелял в него? – спрашивал у полковника брюнет.
– Присяжные решили, что не стрелял, – полковник умел быть дипломатом.
– Тогда ты скажи, в твоей России будут суды присяжных?
– Оставлю один из уважения, – обещал полковник-дипломат.
– А меня оставишь? – спрашивал брюнет.
– А это уж как присяжные решат, – и дружный хохот.
На Шишу и Химича гости внимания не обращали – пусть скажут спасибо, что сидят с ними за одним столом, когда такое счастье еще выпадет.
Брюнету надо было в Москву последним рейсом, и его сажали в такси, полковник лез обниматься. Такси уехало, и полковник не выдержал:
– Парни, при нем не хотел, а теперь скажите – ментов-то кто режет? Известно что-нибудь?
– Я думаю, эфэсбэ, – мрачно ответил Шиша. – Кто их еще может резать, кроме эфэсбэ?
Проводили полковника до гостиницы, заходить не стали, и слава Богу – на ресепшне его уже ждал настоящий эшник, то есть опер из центра «Э» (экстремизм), который, извинившись за позднее вторжение и заверив в огромном уважении, задержал полковника по уголовному делу о призывах к насилию по статье 282 УК РФ – речь на митинге послушали в Москве и решили сажать; утром полковника этапируют в Москву.
24
А Шиша и Химич, взяв бутылку какого-то виски, сидели у костра, то есть это глядя со стороны в темноте можно было подумать, что они сидят у костра, а вообще-то это тоже была натуральная статья 282, потому что костер был вечным огнем, а площадка, посреди которой он горел – это был мемориал, так называемое «тыща двести», потому что по периметру площадки под гранитными плитами похоронены (видимо, примерно) 1200 солдат, погибших при штурме города в сорок пятом году. Городская святыня, Шишу и Химича здесь двадцать лет назад принимали в пионеры, да и у обоих в детстве была традиция ходить сюда с родителями и их родителями девятого мая, но это было давно, с тех пор много всего прошло, и новая мода праздновать день победы прошла мимо обоих, и оба уже черт знает сколько лет тут не были, а теперь решили выпить, а лучшего места было не найти. Вроде и центр города, но место достаточно глухое, жилых домов нет, по одну сторону дороги – полуживой научный институт, по другую – заросший парк и за ним железная дорога, а тут вечный огонь, и как будто действительно у костра сидишь, и виски в пластмассовых стаканчиках.
– А ты ведь хотел ему сознаться? – спрашивал Шиша. Химич молчал.
– Да все нормально, я сам чуть не проболтался, а потом подумал – ну какого черта, они же убогие все, оппозиция, не оппозиция. Гринберг покойный такой же был – что-то говорит, а глазки бегают, мутный, смешной. Настоящая оппозиция – это прежде всего мы, понимаешь?
– Нет, не понимаю, – Химич пьянел, ему это не нравилось. – А те черти из Гусева – это мы или не мы? А генерала вон грохнули – даже про него мне иногда кажется, что это мы, но я же понимаю, что это не мы.
– А что ты понимаешь? Мы придумали крутую штуку, она уже работает без нас. Эти из Москвы – думаешь, они о таком не мечтают? Мечтают, но ссут. Полковник же нас поэтому и спрашивал – это конкуренция, как у нас в порту. Ты придумал разгружать контейнер как-нибудь по-новому, конкурент к тебе придет и скажет – эй, ты чего творишь, давай по-старому, а то так неизвестно до чего дойти можно. Вот уверен я, что он про нас спрашивал, чтобы самому нас сдать – мы для него еще опаснее, чем любая ФСБ, он говорит, а мы делаем.
– Но не мы же уже делаем.
– А неважно, неважно. Придумали мы, значит, делаем мы, это наше.
– Хорошо, а зачем? Это же даже уже не месть, я давно не хочу никому мстить.
– Значит, не месть. Понимаешь, если чему-то нет названия, это ведь не значит, что этого нет. Есть, просто названия не придумали. Мы же не гуманитарии, в конце концов.
– То есть надо позвать гуманитария, чтобы он нам объяснил, что мы сделали?
– Хочешь, зови, конечно, но где ты его будешь искать? Были бы мы музыканты, нам был бы нужен продюсер, а так – кто нам вообще нужен?
– Священник, может быть? Я иногда думаю, что было бы здорово поговорить об этом со священником.
– Священника я знаю, – Шиша засмеялся, – он у нас норвежскую рыбу грузит. Не сам, ООО-шка а него, но хороший мужик, нормальный. Познакомить? Может, и по рыбе договоритесь, тебе же надо как-то зарабатывать.
– Да по какой рыбе, при чем тут рыба вообще. Мы с тобой людей убивали, тебя это не расстраивает, спишь нормально?
– Мы убивали ментов. Вот ты опять начинаешь – людей, людей. Договорились же – люди это мы, а не они.
– А ты уверен, что так бывает, чтобы кто-то не был человеком, потому что мы с тобой так решили? У нас вообще есть такое право?
– Какой-то совсем дурацкий вопрос. Если права нет, то как же мы им с тобой воспользовались? А мы же им воспользовались, и нам ничего за это не было.
Налили еще, замолчали. Химич смотрел на огонь и думал – ну хорошо, вот завтра он проснется президентом, мало ли как бывает, должен же кто-то быть президентом, пусть будет он, Химич. Надо как-то решать милицейский вопрос – сколько их в России, миллион, два, три? Целый город, причем немаленький. Что с этим городом сделать? Смертной казни в стране нет, и хорошо, что нет (посмотрел на Шишу – вдруг что-нибудь скажет про смертную казнь? Но Шиша молчал, тоже что-то думал), но есть уголовный кодекс. Допустим, честных милиционеров не существует вообще, кто-то убивает, кто-то ворует, кто-то деньги вымогает, кто-то сам дает взятки – для каждого есть уголовная статья. Надо, наверное, всех судить, то есть вот берешь этот миллион, или два, или три, тащишь в суд, и миллион процессов, миллион приговоров, миллион мест в тюрьмах – массовые репрессии как они есть, сталинизм какой-то, не получится, только хуже будет. А что еще можно сделать? Ну допустим, амнистия всем. Все преступления, совершенные до какого-то числа, прощаются. Ну ладно, не все, а только те, которые не против личности – воровство, коррупция, превышение полномочий. Амнистия в обмен на – на что? Химич вспомнил, как когда-то ездил с друзьями по монастырям Вологодской области, мертвые деревни на пути, выбитые или заколоченные окна, борщевик вдоль дорог. Вспомнил того Романовского-отца, задушенного стальным тросиком. Нестарый же был мужик, крепкий, и чего бы ему вместо этой дурацкой стоянки не жить в большом деревянном доме, растить картошку какую-нибудь, сдавать ее оптовикам, или бычков каких-нибудь выращивать. Эти мужики в милицейских погонах – они ведь не сами эту жизнь устроили, просто вот есть такая в обществе возможность для мужчины – надеть погоны и ничего не делать, и жить преуспевая. Не было бы этой возможности, не было бы и миллиона ненаказанных преступников. И значит, когда Химич проснется президентом, он их всех амнистирует – каждого в обмен на расписку, что амнистируемый обязуется взять кредит в сельскохозяйственном банке и уехать в деревню заниматься крестьянским бизнесом. Миллион преступников легко превратить в миллион крестьян, отличная идея.
– И это лучше, чем стрелять, – сказал Химич вслух.
– А? – переспросил Шиша, но Химич уже не ответил, потому что через площадку мемориала к ним шли двое – в темноте совсем как тени, но тени очень узнаваемые, в милицейских картузах и с привязанными к поясу дубинками. Пока они приближались, Химич оценивающе, даже не как президент, а как помещик, смотрел на них – Боже, ну разве это крестьяне? Нет, нет, совсем утопия, только убивать. Двое тем временем подошли к вечному огню.
25
– Все в порядке, жить будет, – врач снял маску и открыл воду в умывальнике, намыливал руки. – Просто потеря сознания из-за асфиксии, вообще ничего не задето, вы зря так переполошились. Это же вы его задушили, да? – весело посмотрел на Альгиса, а сам так и мыл руки. Мыл, мыл, мыл, Альгис молчал.
– Не нарочно, – нашел он наконец подходящий ответ. Врач улыбнулся еще раз.
– Дрались, что ли?
– Да нет, играли, – Альгис сначала сказал, потом подумал. Играли, ага – приволок друга в больницу без сознания и со следами скотча на шее, отличная игра, конечно.
– А, секс, так бы сразу и сказали, – врач закрыл воду. – Секс – уважительная причина. В милицию, я так понимаю, не звонить?
Альгис кивнул, сам подумал – сейчас денег попросит, но врач, видимо, был порядочным человеком, а может, и извращенцем, поэтому версия секса его обрадовала и больше про милицию он ничего не говорил.
– В стационар я его не возьму, смысла нет. Отоспится и встанет, но где-то через сутки. Сутки постельного режима – вы же с этим справитесь? Кстати, вы на машине?
Альгис кивнул – на машине, да.
– Ну вот и отлично, если умрет, обращайтесь. Тем более что он не умрет, – и дальше уже с медсестрой Альгис грузил спящего Пашу в машину, раскладывал сиденье, матерился – ситуация самая глупая, в какую только можно попасть, и ведь не расскажешь никому, так что пускай будет секс. А было на самом деле даже хуже секса – пили у Альгиса в гараже, и Паша сказал вдруг, что боится, что его заберут в ментовку, станут пытать, и он тогда во всем сознается. Альгис сказал, что не надо о таком думать, и что не заберут, но Паша настаивал – заберут! Будут пытать! Сознаюсь!
Решили устроить испытание. Альгис связал Паше ноги и руки, надел на голову пакет из супермаркета, примотал к шее скотчем, а к ногам привязал еще одну веревку, перекинул ее через балку у потолка и начал поднимать Пашу за ноги.
Из пакета, конечно, раздавались всякие крики – Паша кричал «ненавижу» и еще много матом, но испытание есть испытание – Альгис честно закрепил веревку и сел на корточки перед орущим Пашей.
– Сука, сука! – кричал пакет. Альгис думал – ну что за бред. Достал телефон, засек время. Паша орал.
Орал, потом захрипел, потом замолчал. Альгис сначала спокойно («Чувак, ты чего?»), потом в истерике, потом трезвея начал развязывать веревку – развязалась легко, Паша рухнул на пол, не издав ни звука, кроме грохота упавшего тела. Скотч Альгис сдирал с шеи вместе с кожей, Паша был без сознания. Через семь минут были в больнице. И вот как и кому об этом рассказать?
Паша проснулся у Альгиса дома следующим вечером – опухший, страшный. Сразу спросил:
– Сознался?
– Дебил, – успокоил его Альгис; ну в самом деле – как-то глупо все вышло.
26
Шиша так говорил – «мы же не гуманитарии», – что Химич при всем уважении как-то отказывал ему в способности рефлексировать если не вообще, то, по крайней мере, на уровне самого Химича, который хотя бы прожил семь лет в Москве, в музеи ходил, на концерты – а Шиша никуда не ходил, ничего не видел. Но когда они молчали у вечного огня, и когда Химич думал о сельскохозяйственных кредитах для амнистируемых милиционеров, Шиша думал о чем-то похожем – ну ладно, перебьем мы всех ментов (почему-то он относился к происходящему именно так – вот идет процесс, результатом которого будут горы милицейских трупов; никаких конкретных планов у него не было, и он вообще не был уверен, что убьет еще хотя бы одного милиционера, но при этом ему почему-то казалось именно так – процесс только начался и будет еще продолжаться, вот генерала опять же кто-то убил, а сколько еще впереди генералов), и что будет дальше? Наверное, будут девяностые; девяностые – это было детство, и ничего кроме детства о девяностых он сам не помнил и не знал, но этот термин – «девяностые» – был уже из нового времени и значил, что нет никакого государства, нет власти, все сами за себя, побеждает сильнейший, а слабейшему лучше не жить, потому что вся жизнь – это унижение, бедность, голод и много всякого говна. Тоже смешно, но в детстве Шиши не был ни голода, ни унижений, родители преуспевали, но и у одноклассников, видимо, тоже как-то преуспевали, потому что мажором Шиша не чувствовал себя никогда, да и не был им – он помнит, что все жили примерно одинаково, ели одинаковые бананы и носили одинаковые турецкие свитера с надписью «Бойз». На первом курсе преподаватель-коммунист как-то заговорил о том, что страна лежит в разрухе, все плохо, народ голодает, и кто-то неуверенно ему возразил – не видел, мол, чтобы кто-то голодал. Преподаватель, наверное, сам не видел и точно сам не голодал, потому что он еще более неуверенно ответил, что ладно, наш-то край морской, а вот в республике Коми люди жмых едят, и надо же ему было выбрать республику Коми, потому что на курсе был мальчик именно оттуда, причем даже не из Сыктывкара, а откуда-то из деревни, и он тоже сказал, что это неправда, никто там жмыха не ест, и жизнь не хуже, чем в морском краю.
И, наверное, Шиша действительно был недостаточно гуманитарием, потому что того разговора про жмых он не вспомнил, и не вспомнил вообще ни одного собственного впечатления про девяностые, а спокойно продолжил думать, что ладно, убьем всех ментов и начнутся девяностые, и все обрушится к чертовой матери, и, может быть, порт встанет и не будет работы, и не будет ни вот этого вечного огня, ни парада на день победы и на день ВМФ, ни дня города, ни олимпийских побед, ни чемпионата по футболу, ни самой России, которую, видимо, станут растаскивать на куски притаившиеся пока ее враги. На слове «враги» он споткнулся – хорошо, где-то есть враги, значит, у власти в России ее друзья? Вот тот мент Борисюк из вытрезвителя – он России друг? А губернатор – друг? А генерал, которого кто-то заколол осиновым колом – друг? Нет у России друзей, кроме тех людей, которые тихо живут в ней, ходят на работу и, как было написано в том воззвании во «Вконтакте», стараются не встречаться взглядами с милиционерами, если милиционер идет по улице навстречу.
И теперь Шиша тоже увидел две фигуры в милицейских картузах и с дубинками. Они подходили к вечному огню.
27
То ли говорили тихо, то ли конфорка вечного огня слишком шумно горела – Химич слышал только обрывки слов, не успевая достроить их до целой фразы. Распитие, нарушение, протокол, сейчас поедем, святыня, великая победа, – и было уже понятно, что или они нас, или мы их; Химич думал, что если прыгнуть на одного, повалить его в огонь и не давать вырваться, то второго можно даже разоружить – это не страшно и не фантастика, может быть, даже сам отдаст оружие. Но тут встал Шиша:
– Мужики, друг погиб, похоронили сегодня. Вот, поминаем, садитесь с нами.
Милиционеры не сели, но замолчали. Химич тоже встал.
– Друг погиб, мужики, – повторил он. – Депутат, вы слышали, наверное. Он мне крестным был, – вспомнил фамилию депутата, смутился, замолчал, но милиционеры не заметили.
– Ладно, нальешь? – спросил тот, что постарше. Шиша поднял пластиковый стаканчик:
– Я из него пил, но вы не побрезгуйте, – Химич отдал свой, и менты пили из их стаканчиков, а Шиша с Химичем по очереди из бутылки.
– Не знаете, кто его? – спросил вдруг милиционер помоложе.
– Кого? – Химич понял, о ком это, но хотел потянуть время, странный вопрос все-таки.
– Ну депутата вашего, Гринберга, да?
– Да кто ж его знает, – Химич вздохнул. – Заказное же, политика, наверное.
– А я думаю, дестабилизация, – сказал милиционер. – Знаете ведь, что в области банда действует? Наших ребят жгут и стреляют, генерала вон убили, да и депутата вашего наверняка. Чечня, девяносто седьмой сука год. Никогда не думал, что у нас так же будет.
– А известно, кто, что? – вступил Шиша. – Что за банда? А то разное говорят.
– Да нам тоже разное, – милиционеры как-то сами собой разделились, с Химичем разговаривал младший, а Шише ответил старший. – Генерал вон вообще от сердца умер, на похоронах сказали. Хорошее сердце – топор.
– Осиновый кол все-таки, – поправил младший.
– Верь больше, осиновый, – старший скорчил рожу. – Напридумывают всякого, как в кино. Топором его зарубили, вот так, через плечо, – но на себе не показал, махнул рукой в воздухе.
– Может, действительно с Кавказа к нам кто-то приехал, – проговорил молодой. – Все-таки не по-нашему это, у нас так не принято, даже в девяностые этого не было.
Шиша снова подумал про девяностые – вообще-то это неплохо, если начнутся девяностые. Бог с ним с портом и с вечным огнем – если это цена, которую надо заплатить, чтобы менты ходили, как эти, перепуганные и просили бы у тебя, чтобы ты им налил – пусть будут девяностые. Пусть будет как угодно, но не как сейчас.
Допили бутылку, разошлись.
28
Полстраницы мелкими буквами – перечисление повреждений, найденных на трупе. Закрытые переломы головки левой и правой плечевых костей со смещением отломков и разрывом суставной сумки, массивные кровоподтеки с пропитыванием кровью и размятием мягких тканей верхних конечностей, грудной клетки, в подмышечных впадинах, распространяющиеся на нижнюю и среднюю треть шеи, массивный кровоподтек в проекции левого тазобедренного сустава, кровоподтеки и ссадины в области глаз, носа, кистей, на бедрах, коленном суставе, голенях, ягодицах. Отдельно сказано, что все повреждения являются прижизненными и наносились «твердым тупым предметом, судя как по механизму ударов с большой механической силой, так и по механизму ударов со сдавливанием». Цвет кровоподтеков и характер ссадин позволили установить, что повреждения были получены «одно за другим в короткий промежуток времени незадолго до поступления в стационар» и «не могли образоваться одномоментно при падении тела с высоты собственного роста», – за эту строчку судмедэксперту отдельное спасибо, потому что иначе бы все так и закончилось служебной проверкой, которую, как и положено, назначили после смерти задержанного в приемном покое областной больницы скорой помощи.
Служебная проверка – это когда из областного управления в районный отдел приходит человек и спрашивает, что случилось. Ответы пишет в протокол. Милиционер, дежуривший в ту ночь, рассказывает, что из камеры, в которую был помещен задержанный, раздался странный шум. Пошел смотреть. Открыл дверь, а у человека эпилептический припадок. Вызвали врачей, врачи его увезли, а что уж там случилось в больнице – а черт его знает, милиционер сам не сталкивался, но слышал, что в больнице есть палата для буйных, там их пристегивают – наверное, отсюда и кровоподтеки на руках. Человек с протоколом уточняет – а наручники могли такие следы оставить? Милиционер говорит, что, наверное, могли бы, но он же их на задержанного не надевал, так и запишите. Проверяющий записывает, проверка закончена.
Обычный парень, шел вечером домой по улице, остановили – похож на подозреваемого в краже мобильного телефона, повезли в отделение. Потерпевший будет утром, до утра придется здесь заночевать, и нет, звонить никуда нельзя. Увели в камеру, утром увезли на скорой, что было между вечером и утром – да разве узнает кто-нибудь, и до сих пор никто не знает точно, но есть больничный акт экспертизы, и есть мать, которая не поверила в эпилепсию и в украденный телефон. Пять лет судилась, пять лет бегала, добилась – приговор и бумага от начальника райотдела, что в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора областного суда приношу вам извинения за незаконные действия наших бывших сотрудников, совершенные в отношении вашего сына, дата и подпись, и еще бумага из суда, что в материальной компенсации отказано, но и ладно – письменное извинение от милиции это тоже редкость, можно в рамочку повесить, гостям показывать, самой смотреть и вспоминать. «Массивный кровоподтек в проекции левого тазобедренного сустава, кровоподтеки и ссадины в области глаз».
29
В областную думу губернатор специально заехал, чтобы почтить с депутатами память убитого Соломона Борисовича. Речей говорить не стал, просто отстоял минуту молчания и, чтобы не убегать сразу, присел за стол, как будто хочет что-то прочитать в проекте бюджета. Депутаты сидели грустные, и это был тот случай, когда грустить было можно – политический помощник губернатора, гнусноватый пиарщик в розовой рубашке, еще с утра проинструктировал «Единую Россию», что «Гринберга оплакиваем». Председатель объявил прения (повестка дня была – что-то о местном самоуправлении и поправки к бюджету), и каждый депутат, прежде чем перейти к выступлению по существу, говорил что-нибудь вроде «мы потеряли самого яркого коллегу», или «он так и останется для нас символом девяностых со всеми их ошибками и надеждами», или «реальной угрозы он, конечно, никому не представлял, но» – и так один за другим, все без исключения. Губернатор тоже сделал печальное лицо, сложил свои бюджетные бумаги в стопочку, вздохнул и, немного ссутулившись, прошагал в сторону выхода. И тут ему крикнули в спину:
– Убийца!
Обернулся.
– Вы убийца, – повторила безобиднейшая единороссовская депутатша, главврач станции переливания крови, крашеная блондинка за шестьдесят, самая аполитичная тетка на свете, заседавшая, впрочем, и в самых проблемных избиркомах, и в общественной наблюдательной комиссии по тюремным делам, и где-то еще, и никогда нигде с ней никаких конфликтов не было, голосовала как надо за что угодно – вот уж от кого нельзя было ожидать, но она, именно она назвала его убийцей.
Губернатор ничего не сказал, вышел из зала, прикрыл за собой дверь. Тетка со станции переливания крови была права, ему нечего было ей возразить, но почему-то был зол именно на нее – ну что за хамство, что за свинство.
30
«Мы будем стрелять по кокардам!» – белыми буквами по коричневой стене областного правительства. Уголовно-розыскная собака по кличке Посад (когда-то был «Пассат», но потом переименовали, потому что этот пес всех посадит) обнюхала надпись и потащила кинолога областного УВД лейтенанта Тополя через дорогу и потом куда-то во дворы. Делегация коммунальных рабочих в темно-зеленых комбинезонах топталась возле надписи. Самый смелый, золотозубый мужичок за пятьдесят, поскреб тряпкой – не оттирается, надо закрашивать, – и комендантша здания Надежда Артемовна, хватаясь за голову, бросилась звонить кому-то насчет краски. Восемь утра, мимо ходят люди, останавливаются, читают – «по кокардам!» – смеются.
Посад дотащил Тополя и оперативную группу до пятиэтажек на улице Сержанта Колоскова, залаял на железную дверь подъезда – код, код! Долго ждали участкового, пришел заспанный, открыл подъезд, собака побежала на четвертый этаж.
– Это у нас кто живет? – поднявшийся последним майор в голубом камуфляже показал пальцем на темно-синюю дверь.
– Щукин, лимоновец, – участковый ответил не задумываясь, майор выругался – ну все, политика.
Позвонили в дверь, дверь промолчала. Майор сказал «Тихо!» и позвонил еще раз. За дверью кто-то топал, но открывать не хотел.
– Дома есть кто-нибудь? – дверь молчала. Майор спустился на полэтажа вниз и вызвал по рации дежурную часть.
Если бы здесь был Химич, он бы смог увидеть реконструкцию убийства своего отца. Подъезд так же, как тогда, заполнили омоновцы, эмчеэсники, какие-то люди из управляющей компании, следовательница из следственного комитета, а последним подъехал сам генерал Башлачев.
– Будем ломать, товарищ генерал? – майор старался быть невозмутим, но почему-то ясно было, что ломать не хочет.
– Погоди, – Башлачев тоже не понимал, что делать. Тот случай, когда можно запросить и Москву, но с другой-то стороны – что мы, без Москвы не справимся?
– Один живет? – это уже участковому вопрос.
– Один, один, – участковому хотелось как-то показать, что он давно и внимательно следит за этим Щукиным, но ничего эффектного в голову не приходило. – У родителей своя квартира в Балтрайоне, лет пять как переехали.
– Родители кто? – Башлачев ковырял ногтем обшивку двери.
– Пенсионеры, отец инженер на судостроительном.
– Давай их сюда, – это уже майору. Майор снова включил свою рацию, в подъезде зашипело.
Отца привезли через двадцать минут – мать куда-то уехала, дома ее не застали. Башлачев, пока ждал, разговаривал со старшим по подъезду – анкетных данных не спрашивал, но почему-то сразу понял, что или бывший милиционер или кто-то в этом роде. Старший по подъезду заглядывал ему в глаза, называл товарищем генералом и говорил, что этот Щукин ему давно надоел, потому что и в политику лезет, хотя надо просто жить и работать, и денег никогда не сдает ни на ремонт, ни на уборку, ни на озеленение – «а знаете почему? Потому что он в обществе не уживается, вот что». Поскольку генерал старшего по подъезду не перебивал, тот успел сказать и про наркоманов, которые ночами собираются на лестнице, и он, старший, однажды даже двух обезвредил; генерал среагировал на последнее слово и спросил «Как обезвредили?», а старший по подъезду с достоинством ответил, что вызвал милицию по 02, и, наверное, тут бы всем посмеяться, но к генералу подвели Щукина-отца, и со старшим по подъезду можно было уже и не разговаривать.
– Квартира ваша?
– Моя, моя – высокий, седой, в джинсовой куртке и старых кроссовках, когда-то белых.
– Башлачев, начальник УВД области. Не хочу вас пугать, но к вашему сыну у нас вопросы. Мы вас сюда позвали, чтобы эти вопросы задать в нормальной человеческой обстановке, без сломанных дверей, стрельбы и прочего. Вы готовы нам помочь?
Отец молчал, смотрел на генерала.
– Я вам даю честное слово, что если мы ошибаемся, то ваш сын не будет даже задержан. Поговорим и уйдем. Попросите его открыть.
– Честное слово? – генерал почувствовал, что на него сейчас будут орать, и почему-то растерялся. Старик действительно почти кричал, как будто до этого они с генералом уже успели крепко поругаться.
– Честное слово? Но вы ведь Советскому Союзу присягу давали, а в девяносто первом году ее нарушили, предали. Потом предали еще раз, когда выбрали Ельцина. Предаете ее теперь, когда сажаете ребят по политике. И что, я должен верить вашему честному слову? Да откуда у вас честное слово-то вообще.
Генерал обратил внимание, что старик ни разу не выматерился, и еще вдруг понял, что он очень уважает этого старика. А старик поднял палец кверху:
– А вот его, – Его! – хотя бы боитесь? Нет?
– Я, знаете, завтра к вам на работу бы заехал, – генерал не очень понимал, зачем это говорит и зачем ему заезжать на работу к этому, в общем, случайному и ненужному человеку. Но все равно говорил: – Заехал бы, просто поговорить в более спокойной обстановке.
– Испугал, фу ты, – Щукин-отец не сдавался, не менял интонации. – Ну заходи, мне-то что.
Генерал отошел к остальным, отец остался один у двери.
– Юра, это я, – позвонил в дверь. – Ты дома? Погоди, не отвечай, я тебе что скажу. Ты действительно что-то натворил? Если да, то открывай, они же не отстанут. Если нет, тоже открывай – тут начальник области, беспредельничать вроде не будет.
Щелкнул замок, на пороге показался щуплый очкарик.
– Следователь, отец и я, – скомандовал Башлачев. – И понятые, наверное. Есть понятые? Соседей каких-нибудь позовите, ну всему вас учить, а.
Прошли в квартиру. Следовательница, входя в квартиру, зачем-то побрызгала себе в рот освежителем из флакончика – Башлачев заметил, улыбнулся. Через минуту участковый привел с верхнего этажа какую-то девушку, совсем молодую – понятая, соседка. ОМОН, МЧС – все, кто остался на лестнице, заскучали, ждать, видимо, долго, кто-то открыл окно, закурили, все молча. Кинолог Тополь увел Посада гулять. Что происходило за дверью – не слышно и не видно. Стрельбы, во всяком случае, не было, тишина.
Когда шел второй час мероприятий за дверью, сверху спустилась мать понятой – женщина в халате и тапочках. Спросила, где дочь, майор молча показал на дверь, женщина, как будто так и надо, стала колотить в дверь ногой в тапочке: – Доченька, что они там с тобой делают, выходи немедленно!
Из квартиры майора вызвали по рации – что происходит, провокация? Женщина подскочила к майору – я сейчас тебе покажу провокацию, я тебе покажу, что происходит. У меня друзья – полковники и генералы, у меня друг Аркаша – у него автомат. Я не позволю по беспределу!
Из-за двери заорала дочка: «Мама, не позорь меня, что ты делаешь». Мама голос проигнорировала, ей явно нравился майор.
– Вы на меня зачем так смотрите? Это потому что я в халате, да? Так я вам сейчас свою шубу норковую до пят покажу и бриллианты.
И пошла по лестнице наверх. Кто-то из эмчеэсников неуверенно засмеялся, у майора продолжала шипеть рация. Этого никто не ожидал, но через минуту женщина действительно спустилась в шубе и, наверное, что-нибудь и сказала бы, но тут дверь открылась, вышли все, все молча. У следовательницы в руках баллончик с краской. Щуплого в очках Башлачев подтолкнул в спину к майору – увози. Майор кивнул омоновцам, те пошли вниз, за ними сам майор с задержанным, потом все остальные, потом генерал. Женщина в шубе и ее дочка ушли наверх, тоже молча.
– Не боитесь, значит, не боитесь, – повторял генералу уже в спину Щукин-отец. На лестнице оставалась только следовательница, старик поднял на нее глаза и подумал, что у нее такое лицо, что, наверное, папа у нее пил, мама пила, дедушка пил, бабушка, а прадедушка и прабабушка были неандертальцы. Она ничего не сказала и тоже ушла. Старик вернулся в квартиру – уже один.
31
– Дети, дети, тихо! – директор муниципального образовательного учреждения «Средняя школа номер 38», имени которой Надя не запомнила, подняла руку, и актовый зал действительно притих. Муниципальное образовательное учреждение «Школа номер 38» – наверное, все дело в том, что Надя волновалась, и поэтому это абсурдное словосочетание было единственным, что сейчас крутилось в ее голове. Школа – в кавычках, как будто это не школа на самом деле, а черт знает что. Как будто в России высадились инопланетяне, и дали всем привычным вещам названия на своем инопланетянском языке – «муниципальное образовательное учреждение», чушь какая-то.
– Дети, – повторила директорша. – Сейчас перед нами выступит старший специалист пресс-службы УВД нашей области Надежда Сергеевна Ржевская.
Надежда Сергеевна, до прошлого года – не очень популярная радиоведущая, а теперь старший лейтенант МВД, оглядела зал и сразу увидела мальчика-старшеклассника, который, нагло глядя прямо ей в глаза, руки держал на уровне паха и совершал ими такие движения, как будто он мастурбирует, а мальчики, сидевшие слева и справа от него, краснели, но при этом похохатывали, глядя тоже на Надю, но не нагло, а смущенно. Школа!
У Нади с собой была утвержденная Башлачевым бумага о раскрываемости, статистике, успехах и планах областного управления – бумага скучная, но, как предполагалось, с помощью такой бумаги школьники, то есть самая рискованная с экстремистской точки зрения социальная группа, поймут, что милиция – добро, и что без милиции они никуда и никак.
Дети слушали, кажется, даже с интересом. Надя пересказывала бумагу своими словами, заглядывая в нее, только чтобы свериться с цифрами – да, она была неплохим оратором, сама про себя это знала и была довольна, более того – перечислять «грабежей столько-то, изнасилований столько-то» ей нравилось гораздо больше, чем говорить в микрофон «гудного всем морнинга» или «три часа на наших радийных ходиках», как это было принято на прошлой работе.
– В общем, дорогие друзья, областное управление внутренних дел, как вы видите, надежно стоит на страже вашего детства и безопасности, – закончила Надя и улыбнулась адресно тому мальчику, который в начале ее выступления смущал ее неприличными жестами – видишь, мол, не смутил, ничего у тебя не вышло!
Дальше школьникам предлагалось задавать вопросы, и все, конечно, молчали. Директорше пришлось встать и сказать, что дети, не надо стесняться, к нам все-таки не каждый день приходят люди из УВД, и если мы сегодня не спросим чего-нибудь, что нам интересно, то завтра нам просто уже будет не у кого это спросить и, Надежда Сергеевна, – директорша уже обращалась к Наде, – расскажите нам, пожалуйста, что самое трудное в работе милиционера сегодня?
– Знаете, как пелось в песне – наша служба и опасна и трудна, – бодро начала Надя и поняла вдруг, что дальше ей в голову ничего не приходит. Она же сама не вполне милиционер, она только оперативную сводку каждое утро просматривает, выбирая, что из нее можно включить а список тех происшествий, который будет передан газетам и радиостанциям, и когда в отделении кто-нибудь умирает от легочной недостаточности, или когда на трассе находят сгоревший экипаж ДПС, не говоря уже о заколотом генерале, то ее, Нади, функция состоит в том, чтобы запросить начальство и посоветоваться, стоит ли делать эту информацию публичной. Ошибиться здесь, конечно, несложно, и в этом смысле работа у Нади вполне опасная, но не об этом же рассказывать детям.
– И, на первый взгляд, как будто не видна, – уже менее уверенно продолжила она и, справившись с собой, наконец сформулировала – самое трудное в нашей службе сейчас это каждый день находить те решения, которые в равной мере будут соответствовать и интересам граждан, и интересам государства, потому что прошли те времена, когда милиция была вещью в себе, сейчас перед нами стоит задача повернуться лицом к обществу, и поэтому, Надя запнулась, и поэтому я сейчас стою перед вами, потому что отдаю себе отчет, что школьники такие же граждане, как и взрослые, то есть и к школьникам тоже надо поворачиваться лицом, хотя это иногда бывает и непросто.
Выдохнула, но следующий вопрос – уже из зала, уже детским голосом, ее просто испугал:
– Кто убил генерала Гончаренко?
Надя сделала глубокий вдох.
– Это связано с предыдущим вопросом, это тоже о самом трудном в нашей службе. Очень трудно жить и работать в атмосфере постоянных слухов и сплетен. Я совсем недолго успела поработать с генералом Гончаренко, но запомнила его как честного человека и профессионала, настоящего солдата правопорядка. Вы спрашиваете, кто его убил – а я вам отвечу. Его убило то, что наши российские мужчины до последнего стараются не замечать проблем с сердцем, не ходят к врачу, не волнуются о своем здоровье, а потом в молодом возрасте падают на землю и умирают. Генерал Гончаренко умер от инфаркта. Он мог бы жить еще долго, если бы заботился о своем здоровье, но, повторю, у нас так, к сожалению не принято. Может быть, ваше поколение переломит эту тенденцию, – Надя улыбнулась, но уже через силу; она понимала, что у нее такая работа – говорить правду не во всех случаях, а только когда это целесообразно, и такое правило ее не смущало, она находила его разумным и считала, что врать оно не обязывает. Если уходишь от прямого ответа, то можно и не врать. Но сейчас ей пришлось именно соврать, это было неприятно, и она злилась. Ладно, следующий вопрос.
– А Гринберг? – прокричали из зала, девочка какая-то кричала. – Говорят, он что-то расследовал про милицию, до чего-то докопался, и его убили.
– Милиционеры убили? – Надя искренне возмутилась. – Ну спасибо. Вот такие вот мы, милиционеры, ходим по подворотням и убиваем депутатов областной думы. Страшные мы люди. Как же, интересно, вы нас не боитесь.
– Мы боимся! – обиделась та же девочка. Надя ухватилась рукой за краешек стола, как будто если не ухватишься, то сейчас же упадешь. Чертовы дети.
– Скажите! – с места встал какой-то совсем маленький мальчик, класс, наверное, шестой или пятый. – А вот выражение «стрелять по кокардам» – оно что значит?
– Стрелять по кокардам – это стрелять по кокардам, – Надя понимала, что задание она провалила, и волноваться почти перестала. – Кокарда – это такая штучка на фуражке милиционера. Кто стреляет по кокарде, тот попадает в голову, вот что имеется в виду.
– А кто стреляет? – снова крик из зала.
– Да кто угодно стреляет, – Надя совсем успокоилась. – У кого есть оружие, тот и стреляет, – замолчала, больше сказать было нечего, но ведь и ответ она дала исчерпывающий про эти кокарды, что еще?
Снова какая-то девочка. Долго тянула руку, Надя ей кивнула – говори, мол.
– Надежда Сергеевна, – сказала девочка. – Как бы вы в двух словах ответили на вопрос, зачем нам нужна милиция. Спасибо.
– Милиция нам нужна, – Надю вдруг затрясло. – Нам или вам? – она понимала, что сейчас опять куда-то не туда вырулит, но остановиться уже не могла. – Это два разных вопроса. Нам – потому что мы сами и есть милиция, и мы нужны себе ровно в той мере, в какой себе нужны вы. А вам, – была уже готова сказать, что милиция не нужна ни для чего, но это уже был бы скандал, а скандала Надя, конечно, не хотела. Перевела дух и закончила:
– А вам милиция нужна, потому что государство – это порядок и исполнение законов. Милиция следит за порядком и за исполнение законов. Не следила бы, тогда бы не было государства, все очень просто.
– А государство? – уже с места кричала та же девочка. – Зачем нам нужно государство?
Встряла директорша – ты, мол, встань и спокойно спроси, не надо с места кричать.
Девочка послушалась, встала:
– Нет, серьезно, я не понимаю, зачем нам нужно государство. Бесплатно нас учить – но этого нет, мы в школе каждый месяц за что-нибудь платим. Медицина? У нас нет медицины, все ходят в платную. Пенсии? У меня дед говорит, что если бы не сдавал квартиру, давно бы умер от голода. Что еще? Зачем нам государство? Чтобы нас не напала Польша или Литва? Да пусть нападают, мы к ним все равно за едой и в аквапарк каждые выходные ездим, может, завоюют и у нас жизнь будет лучше. Я не понимаю, зачем нам нужно государство.
Эту девочку Надя с удовольствием задушила бы своими руками, но душить сейчас никого было нельзя.
– Я забыла рассказать вам еще один милицейский секрет, – сказала Надя. – Милиция у нас вне политики, и если вы хотите устроить здесь митинг…
– То Надежда Сергеевна его разгонит! – вдруг весело вмешалась директорша и сказала, что встреча закончена, большое всем спасибо, было очень интересно. Надя ничего больше не сказала, даже спасибо, вышла в боковую дверь, стояла в пустом школьном коридоре, хотелось плакать.
32
По радио сказали – курьезный случай в отделении милиции, задержанный повел себя неадекватно, съел свой планшетный компьютер, порезался стеклом, умер от внутреннего кровотечения, и смех и грех.
Едешь в машине, слушаешь новости – действительно ведь смех и грех, то есть мужика, конечно, жалко, но как это – съесть планшет? Бред какой-то.
Бред, да – он шел домой, он не смотрел им в глаза, его просто схватили и потащили, просто так, без повода. Уже в отделении – досмотр личных вещей, вот планшет, пожалуйста, включите, он включил, а там на заставке какая-то картинка идиотская, «Спасибо деду за победу» и нарисован вон тот ушастый старичок из «Звездных войн», мастер Йода – не очень смешно, конечно, но это же не повод, а вот милиционер решил, что повод, и что такими вещами не шутят. Размахнулся и планшетом об угол стола – на, сука, жри. В каком это смысле жри? В самом прямом, сука, вопросы еще будет задавать, на, – и в рот ему этими осколками, и пальцами их проталкивает – жри, жри.
Сначала слезы из глаз, потом кровь из горла, и напарник уже того мента за рукав так аккуратно – погоди, может не надо? Надо! Жри! – и человек ест, и человек падает, и потом врач скорой, все, конечно, понимая, спрашивает – ну хоть расскажите, что было-то? И как раз напарник, тот, который просто рядом стоял и даже как-то остановить пытался, начинает – ну вот, задержали по ориентировке, привезли, повел себя неадекватно, сами в шоке. Врач отворачивается – да уж, в шоке, вижу, молодцы.
33
В какое-то из воскресений Химич проснулся посреди дня, часа в два, принял душ и, не позавтракав, пошел гулять – делать было совершенно нечего, да ничего и не хотелось, выходной во всех смыслах. Шел по своем пятиэтажечному двору, потом по такому же соседнему, потом еще по какому-то, уже незнакомому. Сидел на лавочках, смотрел на дома, думал почему-то о войне – эти пейзажи казались ему очень подходящими для того, чтобы, скажем, из того проема между домами вдруг выехал танк, а по вон тем балконам ударили «грады». Некоторым городам идет быть разрушенными, их совершенно не жалко, и, думая о том, что все его детство прошло в таких местах, которые не жалко, Химич добрался до очевидного вывода – «вот поэтому я такой», и ему стало жалко уже себя, и он подумал, что было бы неплохо сходить в церковь – вот прямо сейчас встать и пойти.
Встал, дошагал до автобусной остановки и поехал в новый спальный район – там была церковь, он откуда-то это знал.
Никогда раньше здесь не был. Автобусная остановка, за ней новый рынок, за рынком какой-то страшного вида спорткомплекс, а вокруг дома, слева и справа – шестнадцатиэтажные, двадцатиэтажные, и «градом» здесь не обойдешься, все чужое и неприятное, совсем не родной город, ну и церковь – красного кирпича, шатровая, некрасивая, и еще надпись ХВ над входом – из дюралайта, пластмассового светящегося шнура, уместного скорее на каком-нибудь ларьке с выпивкой, чем на храме. Вздохнул, перекрестился, зашел.
Внутри одна бабушка продает иконы и брошюрки, больше никого. Подошел к ней – бабушке, кажется, нет и сорока, очки и платок старят, и полумрак еще этот.
– Скажите, – почему-то Химич начал шепотом. – Батюшка на месте? Мне бы с ним поболтать, – и запнулся, неудачное слово попалось, «поболтать».
Бабушка вздохнула, молча куда-то ушла. Химич потоптался у ее конторки, надоело, шагнул в глубь храма к иконам – Серафим, Сергий, Николай Чудотворец, Иоанн Кронштадтский. Сияющие, нарядные, новенькие, ненастоящие.
– Вы чего хотели? – настоятель, очки и черная борода, смотрит внимательно, не зло и не добро – просто смотрит. Химич заволновался.
– Да я и себе объяснить не могу, за этим к вам и пришел, – и улыбнулся, и замолчал.
– В Бога веруешь? – батюшка совсем не удивился тому, что к нему кто-то пришел «поболтать» – если человеку надо, то давай поболтаем, конечно.
– Верую, но не воцерковлен.
– Но не атеист?
– Сейчас понимаю, что нет.
– Сейчас?
– Раньше бы назвал себя атеистом.
– А теперь, значит нет? – батюшка явно обрадовался.
– Теперь нет.
– Это правильно. Атеист – это глупо. Особенно если называешь себя атеистом, а сам не атеист.
– Как я? – Химичу про атеистов было неинтересно, но заданную батюшкой тему он подхватил – своей-то у него не было.
– Как ты, да. Говоришь – был атеистом, а я тебе скажу – не был. Потому что настоящий атеист, если он последователен, обязательно должен покончить самоубийством, понимаешь?
– Нет.
– Потому что нет смысла жить, учиться и бороться, если после смерти только лопух вырастет. Уж лучше сразу в гроб. Но этого не происходит, так? Значит, атеисты не настоящие. Боятся чего-то.
– Боятся расстаться с жизнью, она же одна, другой не будет.
– Одна, и смысла в ней нет. Жизнь атеиста бессмысленна. Поэтому я считаю всех, кто не кончает с собой, религиозными. Даже тех, кто называет себя атеистом.
– Хорошо, я религиозный, мне это важно от вас слышать, – Химич вдруг заволновался, но он и ждал, что будет волноваться в этом разговоре, поэтому не удивился, так и надо. – И люди, в том числе плохие, которые вокруг меня – они тоже религиозные, так?
– Так.
– И вот как мне с ними жить? Хорошо, я неправильно сказал, они не плохие, они просто мне неприятны и даже мне враги. Что мне с ними делать?
– Есть мудрая пословица: с волками жить – по волчьи выть. То есть оказался среди волков – будь как волк, оказался среди тараканов – ползай как таракан. А у нас иначе: среди тараканов или среди волков ты должен быть православным христианином и никем больше, понимаешь?
– Понимаю. Не понимаю, что мне делать.
– Православное христианство – это не витрина вот такого магазинчика, которая должна привлечь людей, и все равно, что с ними дальше будет. Православное христианство – это вещь, которая требует от человека всей его жизни. Человек должен сжечь и комфорт, и уверенность в собственном будущем, и надежду на деньги, и надежду на власть, в том числе собственную. Или Бог, или жизнь.
– Я просто хотел о другом спросить. Вы говорите – Бог или жизнь, хорошо, я согласен, но что это значит на практике? Есть ли у меня право решить, кто имеет право на жизнь, а кто не имеет?
– Знаешь, раньше бы я тебе сказал, что такого права у тебя нет, но сейчас я сам теряюсь, когда задаю себе такой вопрос. Ты слышал, наверное, у нас в области кто-то повадился милиционеров убивать, даже генерала убили, да?
– Слышал, конечно.
– Ну и вот. Я священник, я знаю, что я должен быть за добро и за жизнь, но когда я слышу, как кто-то убил милиционера, я думаю – вот найти бы тебя, подонка, да и зарезать бы. Это было бы по-божески, по справедливости. Потом я, конечно, молюсь, искушение и так далее, но я понимаю: поймал бы этих убийц я – рука бы не дрогнула.
Такого поворота беседы Химич не ожидал, и на этой ноте стоило бы уже закончить разговор и уйти отсюда, потому что понятно уже, что пришел не по адресу, но вежливость требовала довести беседу до какого-то логического завершения. Перешел почти на шепот:
– Но это же немилосердно.
– А знаешь, – батюшка не удивился возражению, контраргумент у него уже был готов, и голос стал стальным: – Знаешь, вот если бы под Бамутом или под Урус-Мартаном мы думали о милосердии – что было бы тогда? Да России бы вообще уже не было.
Догадаться было несложно, но Химич не мог не спросить:
– А вы там были? А кем вы там были?
– Областное УВД, специальный отряд быстрого реагирования. Зам командира, – и как будто извиняясь, совсем другим тоном, – по воспитательной части, по воспитательной.
Химич пожал батюшке руку, вышел из храма. Посмотрел по сторонам – шестнадцатиэтажки, двадцатиэтажки. Никого не жалко, совсем никого.
34
Судили человека за нападение на милиционера при исполнении. Тихий райцентр, маленькое здание суда, единственный пристав, пожилой и нестрашный, худенькая судья в застиранной и ушитой мантии, жестяной двуглавый орел на пыльной бархатной подкладке, секретарь суда с огромными накладными ногтями. Провинция, с какой стороны на нее ни посмотри.
Публики в зале – жена и дочка, и еще какие-то муж с женой, наверное, соседи. Прессы вообще никакой, откуда здесь вообще прессе взяться. Возле открытой (гуманизация правосудия!) клетки стоит человек, такой-то такой-то, какого-то года рождения, мы вообще о нем ничего не знаем, да и знать, наверное, не надо, просто человек и все, гражданин Российской Федерации. Что было – была драка у соседей, и еще одни соседи, романтики, вызвали милицию. Ну, в самом деле – если люди дерутся, наверное, милиция должна их разнимать, правовое сознание. Милиция пришла, всех разняла, и в дверь позвонила вежливо – так и так, нужны понятые, пройдемте в соседнюю квартиру. А человек не хочет в соседнюю квартиру, он только с работы, и жена тоже с работы, и ужин на столе стоит приготовленный, горячий, только сели за стол – начальник, позови кого-нибудь другого, не пойду я к тебе понятым. Как не пойдешь? – и сначала аккуратно за плечо, потом захватом за шею, потом волоком, и вешалка с куртками в прихожей падает на пол, и милиционер ослабляет хватку, и человек встает с пола и этой вешалкой милиционера по шее – эй, ну ты чего?
А дальше уже наручники, и мера пресечения, и пыльный местный адвокат, который с прокурором на рыбалку ездит, не стесняясь, и вот суд этот, жестяной двуглавый орел и судья в мантии, статья такая-то УК, статья такая-то УПК, характеристика с места работы, справка о телесных повреждениях, все скучно, все неинтересно, три года общего режима – общего, не строгого, это важно. Жена смотрит на мужа, дочь смотрит на отца, пыльный адвокат загораживает – не страшно, еще апелляция.
35
Богдану Сергеевичу к крыше его машины проезжающий мотоциклист на светофоре прицепил магнитную мину, доля секунды – и все, нет больше никакого Богдана Сергеевича, хотя, если подходить к этому формально, Богдан Сергеевич был везде – и на руле, и на дверных ручках, и и сиденьях, и Башлачев, осматривая место преступления, почему-то думал, хоть и не сентиментальный человек, о жене и детях ночного губернатора, которым вот это придется хоронить.
Вообще-то надо было думать о самом убийстве – кто, почему, зачем, – но Башлачев уже понимал, что никаких идей у него нет и вряд ли будут. Вот уж приехал, вот уж убийца губернаторов. Ты не убийца, товарищ генерал, ты просто чиновник по особым поручениям, который с особыми поручениями ни хера не справляешься, и о чем ты доложишь министру, о чем доложишь президенту? Отдал какие-то распоряжения, сам в кишках и мозгах ковыряться не стал, даром что старый опер, пошел пешком в управление – это рядом совсем, близко.
В управлении сразу запищало из приемной – губернатор на проводе, соединять? Губернатор говорил испуганно, звал к себе, Башлачев посмотрел на часы – как будто время имело какое-то значение, – сделал серьезное лицо, да, приеду, конечно. Вышел из кабинета, вызвал машину.
У губернатора уже сидел Сорока, и Башлачеву почему-то сразу хватило интуиции раскрыть убийство Богдана Сергеевича – да, конечно, Сорока, а кто еще. Потом уже без интуиции, разумом – а ему-то это зачем? Ответа не нашел, сел молча напротив Сороки, губернатор – справа за своим столом. Никто ничего не говорит, сидят молча, еще бы каждому в руку табличку «мы подавлены», хотя и без таблички все ясно.
Богдана Сергеевича действительно взорвали люди Сороки – начальник УФСБ был в курсе неожиданного сближения ночного и обыкновенного губернаторов и предполагал, что это может быть опасно для социально-политической стабильности в регионе, на страже которой он, Сорока, стоял. Убивать бандитов – у него же такое уже было со «Свечой», и благополучно обошлось, да и вообще, если люди рассказывают друг другу легенду о «белой стреле», то кто-то должен быть «белой стрелой», и почему бы Сороке не быть ею, он же чекист, он должен делать все сам, а если порассуждать, то ведь и Гринберга могли убить люди Богдана Сергеевича, а Гринберг – это дестабилизация, и если догадка про Богдана Сергеевича верна, то убить его самого – это стабилизация. В мысленном изложении теория генерала Сороки казалась ему самому симпатичной и убедительной, хотя если бы произнес ее вслух – да вот хотя бы сейчас, этим двум слушателям, – то сам бы прекрасно понял, что это довольно глупая паранойя и ничего больше. Но в том и заключается главный секрет Федеральной службы безопасности Российской Федерации, что никто никогда не знает, что происходит в головах ее генералов, и самые дикие параноидальные теории, вызревая под лобными костями старых и молодых чекистов, рано или поздно взрываются магнитными минами на крышах машин Богданов Сергеевичей.
– Помолчали и можем расходиться, да? – это губернатор, и было бы смешно, если бы в ответ на его такую шутку двое генералов, спохватившись, встали с мест и пошли бы по своим делам. Может быть, губернатор сам испугался такого развития событий, потому что встал из-за стола и прошел к двери – не пущу, мол.
– Я у вас что хотел спросить, – торопливо говорил он. – Что в регионе-то происходит? Что это вообще такое? Бандподполье? Дестабилизация? Передел собственности? Борьба за власть? Я не понимаю.
Сорока молчал.
– Тут вопрос простой, – Башлачев тоже встал, руками на столе раскладывал невидимые бумажки, привычка. – Связаны ли убийства Гринберга и Богдана Сергеевича с убийствами милиционеров. Как мы знаем, оперативными средствами это установить не удалось, пока можно только гадать. Я считаю, что даже если убийцы не связаны между собой, последние два убийства в любом случае можно считать последствием убийства милиционеров, а ключевое звено, за которое надо тянуть, чтобы вытащить всю цепочку – это смерть генерала Гончаренко.
– Что вы имеете в виду? – Сорока ожил, как будто сейчас сознается, что Гончаренко убили по его приказу. – Почему ключевое?
– Потому что смерть Гончаренко – это переход от убийств рядовых сотрудников к убийствам членов политической элиты региона. Если считать целью первых убийств политическую дестабилизацию, то все как раз сходится – раскачали ситуацию, и убийства пошли уже серьезные, нерядовые.
– Ну мы сейчас с вами договоримся до того, что убитые бывают первого и второго сорта, – заворчал Сорока, но уже спокойно; понял, что Башлачев его не подозревает.
– В каком-то смысле так оно и есть. Глупо ставить знак равенства между убийством Кеннеди и, я не знаю, пьяной поножовщиной. Может быть, об этом не стоит говорить вслух, но отрицать такое различие тоже, извините, нельзя.
– Я тут подумал, – губернатор снова сел за стол, – что такие убийства это не что иное как либерализация рынка массовых репрессий. Вот в девяностые это точно была либерализация – каждый сам себе Берия, каждый сам себе Ежов. А что мы с этим сейчас опять столкнулись – ну вот такой рецидив, назад в девяностые, многие же у нас этого на самом деле хотят.
– С экстремистами я разговаривал, – Сорока догадался, к чему клонит губернатор. – Откровенно вам скажу, экстремисты у нас в регионе такие убогие и невыразительные, даже неловко о них говорить. Если спросите меня, имел ли кто-то из них отношение к убийствам, скажу, что нет, не имел.
– Ну а кто тогда, приезжие? – у губернатора даже вопросов не было, повторял то, что слышал сам от тогда еще живого Богдана Сергеевича. – Известно что-нибудь о приезжих каких-нибудь?
– Ни Кавказа, ни Средней Азии – вообще никого в происшествиях, – Башлачев опять заелозил воображаемыми бумажками по столу. – Все тихо, все глухо, прямо совсем тоска.
– Но кто-то же их убивает. Кто-то же убивает! – губернатор сердился, хотя и не забывал, что на федеральных силовиков сердиться он права не имеет, они ему не подчиненные и даже не друзья. Башлачев – тот вообще убийца губернаторов, опасный человек.
– Думаю, надо работать, – Сорока почувствовал, что разговор заходит в тупик, и с этим нужно что-то делать. – Я думаю, если мы дней через несколько встретимся, хотя бы у одного из нас новости будут. А пока не нервничаем, работаем.
И зачем-то добавил:
– Все там будем.
36
Новый убитый милиционер – он сидел за столом в дежурной части ОВД Московского района, а голова его лежала рядом на полу, сохраняя в выражении лица то исключительное удивление, которое может вызвать удар то ли сабли, то ли еще какого-то клинка строго поперек шеи в, как засвидетельствовала судмедэкспертиза, четыре часа утра. Капитан Гаврилов, так его звали, и на столе у Башлачева уже лежало его личное дело – родился в Караганде, сюда переехал с родителями в девяносто четвертом году, закончил школу милиции, одна командировка в Чечню, два взыскания по мелочам, две благодарности – вообще ничего особенного, обычный человек в обычных милицейских погонах. Кто его, за что его? Башлачев ходил по кабинету, наклонялся к своему компьютеру, в котором во весь монитор сияла отрубленная голова с оперативной фотографии. Черт знает что, нельзя так.
Снова посмотрел на фотографию – обычная физиономия мента, у Башлачева в подчинении таких сотни, они совершенно одинаковые, и когда кто-то ему представляется, он по старой привычке запоминает фамилию, и когда перед сном они мелькают у него в голове, – Иванов, Петров, Сидоров, Смирнов, Кузнецов, – он матерится, стараясь их забыть, потому что они не нужны ему, эти имена. Вот Гаврилов, человек без головы – чего хотел, зачем жил? Ничего и низачем, и прожил бы так до конца, но теперь он, Гаврилов – новая головная боль Башлачева, потому что его прислали сюда, чтобы милиционеров больше никто не убивал, а у него ничего не получается, вообще ничего. Закрыл фотографию, под ней была фотография обезглавленного тела – ну что за говно происходит-то, Господи.
37
Улица Олега Кошевого, самый край того же Московского района, девятиэтажный дом, седьмой этаж, двухкомнатная квартира окнами на новый супермаркет, и единственный жилец квартиры, майор Помазкин из районного ОВД. У Помазкина вчера был день рождения, праздновали в «Господах офицерах», потом в «Талькове», потом еще в каком-то караоке, потом он не помнит места, но помнит, что рядом была Оксана из областного управления, и он ее звал к себе, а что ответила она – Помазкин попытался встать, все еще надеясь, что, вставая, обнаружит рядом с собой под одеялом Оксану, но Оксаны не было, зато одеяло было выпачкано чем-то бурым («Обосрался», – расстроился майор), и под одеялом лежало нечто, что было меньше женщины, но больше белочки, и майор потер глаза, которые в это утро особенно неохотно фокусировались на вещах и предметах.
Полуметровый латиноамериканский клинок для уборки сахарного тростника, бананов или просто для прокладывания дороги в джунглях, мачете, вчерашний подарок сослуживцев, врученный ему еще в самом начале, на стадии тостов, когда на столе в «Господах офицерах» еще были запотевшие графинчики, а не теплые бутылки, и когда никто не пел песен и не лез драться, а шутки были не столько смешные, сколько натужные, и галстук висел еще на шее, и, выходя в туалет, Помазкин еще только подмигивал своему отражению в зеркале – ну что, мол, сейчас нажремся?
Он фотографировался с подарком, он помнит. Он пытался срубить им пробку с винной бутылки, но сумел только разбить бутылку, все смеялись. Он размахивал подарком в караоке, когда пел «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», и на него смотрела Оксана из областного управления. Дальше он не помнит, и, если предположить, что, приглашая Оксану к себе домой, он использовал подарок в качестве аргумента, то не Оксанина ли кровь на этом клинке и на одеяле? Что это кровь, а не кал, он уже понял и старался понять, насколько это может быть серьезно. По всему выходило, что очень.
38
У Химича в его романе теперь был такой сюжетный поворот, что Россия пошла на ментов войной. Воевали тяжело, под новый год штурмовали главную ментовскую крепость, и штурм провалился, захлебнулся, много русских погибло, но страна большая – подтянули еще срочников, собрали резервы отовсюду, почти дожали. Но менты коварны, они захватили больницу где-то в России – тысяча заложников, страшно. Российский премьер звонил главному менту и со слезами умолял не убивать. Сторговались на прекращении войны, заложников отпустили, установился мир лет, может быть, на пять.
Потом снова война, и снова неудачные штурмы, цинковые гробы, подтягивание резервов. Тогда менты захватывают уже театр в самом центре Москвы – там давали мюзикл про двух капитанов, популярное было зрелище, полный зал зрителей. Три дня весь мир следит за осадой театра, все ждут штурма. На третье утро российские спецслужбы пускают в здание газ, погибают все менты и многие зрители, по телевизору показывают – зал, красные кресла, и в креслах мертвые женщины в милицейской форме, обвешанные взрывчаткой. Через год – такая же история в одной провинциальной школе, менты и заложники, и страшный штурм со стрельбой из танков, огромное детское кладбище рядом со школой, все, никто не хочет войны.
Русское правительство договаривается с ментами, подкупает их – теперь вы нам не враги, теперь мы вместе, будем жить одной страной. Ну и все, менты теперь в российской форме, к ментам государственные деньги текут рекой, менты по Москве ходят победителями, стреляют – когда в воздух, если от радости, когда в упор, если возмущены. Детей ментов без экзаменов принимают в институты. Дети ментов носят красные мокасины и спортивную форму наподобие олимпийской с надписью «Россия» – мол, мы, менты, теперь и есть Россия, и кто против нас, тот против России. Съезд ментов на стадионе, все с оружием, все кричат – «Россия! Милиция! Милиция! Россия!», а Россия смотрит и боится, и как с этим быть – а черт его знает.
Кто-то пришел однажды к тому театру, который когда-то захватывали менты – забытое место, никто уже не вспомнит ни даты, ни количества погибших, как и не было ничего, потому что если было, если об этом вспоминать, то менты будут обижаться, а этого никто не хочет. Ну и театр – те же красные кресла, те же номерки в гардеробе, все такое же, и это по-прежнему театр, и каждый вечер на сцену выходят люди в ментовской форме, танцуют ментовские танцы, веселятся, радуются. Это называется мир. Нет ничего дороже мира.
39
Помазкин умный, он сразу догадался, что с этим мачете и этой кровью в его жизни может сейчас начаться такой период, что возможности поспать по-человечески у него может больше и не оказаться, а раз так, то, если ты в постели, не спеши вставать, спи, спи, высыпайся, и если лежишь, не вставай – сами придут и сами поднимут.
Он заснул, и когда в дверь зазвонили, за окном уже было темно, наступил новый вечер, и Помазкин в трусах заспешил к двери – чувствовал себя уже получше, и даже было интересно от кого-нибудь услышать, что он вчера натворил.
На пороге стояло сразу человек пять, знакомые и незнакомые вперемешку, и про незнакомых он сразу понял, что они из областного управления. Кто-то из знакомых сказал «С прошедшим», и Помазкин посторонился, пропуская гостей и пытаясь вспомнить, есть ли среди них те, с кем он вчера пил в «Господах офицерах».
Есть, конечно. И мачете они видели, и показания уже дали, и черно-белая видеозапись с камер наблюдения в дежурной части уже была покадрово распечатана на цветном принтере и приобщена к делу, и лицо Помазкина, в том числе и оскаленное в момент удара по шее Гаврилова, опознавалось вполне однозначно. Помазкина задержали. Позвали понятых, и в квартире начался обыск. Он сидел на кухонной табуретке, держался руками за голову, и каждый, кто о него спотыкался, находил своим долгом пошутить про «после вчерашнего». Было неприятно.
Он понемногу вспоминал прошлую ночь. За Оксаной приехало такси, она просила не садиться с ней в машину, он обижался и говорил, что все равно приедет к ней домой, хотя адреса она ему не давала, но она захлопнула перед ним дверь и уехала, а он подумал, что пробить ее адрес проще всего будет у себя в отделении, и он пошел в отделение, и дверь дежурной части ему открыл сам Гаврилов, и они даже вместе искали в компьютере адрес по слову «Оксана», потому что фамилии ее Помазкин не знал, а потом Гаврилов сел на свое место, и Помазкин подумал, что он бы, наверное, смешно смотрелся без головы. Эй, Гаврилов! – А? – На! – Ну и все, и лежит голова на полу, а смешной Гаврилов без нее или нет, Помазкин не понял, потому что подумал, что, наверное, уже засиделся у товарища в гостях, и пора и честь знать, и пошел домой пешком, размахивая своим дурацким мачете.
40
Башлачев, конечно, хотел его сам допросить, но не получилось, потому что позвонили из Москвы – министр! Злой. Сразу начал с того, что не справляетесь. Отставка? Ну нет, какая отставка, отставка это слишком просто. Приедет следственная группа из Москвы, во всем разберется и самого Башлачева оценит.
– Из министерства группа? – обреченно спросил Башлачев. Это же он сам всегда был такой группой, Башлачев, убийца губернаторов, а теперь вон едет убийца Башлачева.
– Не из министерства, – министр вдруг перестал быть злым и грозным, как будто сам боится. – Просто группа. Встретитесь, разберетесь. И еще я вас попрошу мне об их работе докладывать, ладно? Мне важно.
Тут уж Башлачев вообще перестал все понимать, и уже стало не до Помазкина, просто забыл о нем. Оделся, пошел домой спать, утром встречать московскую группу, черт бы ее побрал.
И утром все встретились в аэропорту – он, Сорока и губернатор, все злые, все невыспавшиеся, и никто ничего толком не знает, просто – чартер из Москвы, а кто в чартере, что за чартер, черт его знает.
Прилетел маленький «Гольфстрим», долго выруливал к стоянке, и трое встречающих, выстроившись на поле, какие бы злые ни были, посмеивались, ничего друг другу не говоря, потому что хоть что вспомни – хоть три тополя на Плющихе, хоть трех богатырей, хоть трех идиотов из фильмов Гайдая, по всему выходила очень смешная композиция, тем более смешная, что никто не знал, кого они встречают – вот сейчас откроется дверь, и из самолета выйдет Путин, то-то будет весело.
Дверь открылась, и лица троих встречающих одинаково вытянулись – не Путин, конечно, но и не безымянный следователь, почти знаменитость, если считать знаменитостями героев газетных статей об аппаратных тайнах Кремля. Иванов, или, как по-чеховски называли его политические инсайдеры, Иванов-седьмой, потому что в Кремле было много Ивановых. Он, хоть и не играл первых ролей, с самого начала считался крайне влиятельным деятелем, о нем вспоминали всегда, когда речь заходила о какой-нибудь захватывающей интриге хоть в политике, хоть в бизнесе, и среди министров и руководителей крупных компаний было немало тех, о ком шепотом говорили – человек Иванова.
Невысокий, возрастом под шестьдесят, о нем известно было, что закончил, как положено, юрфак Ленинградского университета, в восьмидесятые работал на каком-то важном заводе – юристом, а понятно ведь, какие на этих заводах юристы. Дальше занимался каким-то бизнесом, и по этому поводу было тоже много всяких слухов, в которых звучало и «чечены», и «тамбовские», но с двухтысячного года – тут уже без слухов, Иванов он и есть Иванов, большой человек.
И этот большой человек тряс теперь руки встречающим – ах здравствуйте, ах здравствуйте, да чего же это вы здесь выстроились, у нас же все по-простому, ну что же вы в самом деле.
Сел в машину к Сороке, поехали в город. Губернатор предлагал обедать, времени было девять утра, но никто не возражал – обедать так обедать.
41
После обеда Иванов уехал уже с губернатором, а Башлачев с Сорокой решили пройтись пешком – обоим было не по себе, обоим не хотелось одиночества. Шли куда-то переулками, молчали, Башлачев не выдержал первый:
– Что происходит-то?
– Не понимаю, – равнодушно ответил Сорока. – Не понимаю.
Впечатления разговор с Ивановым не произвел на них обоих вообще никакого. Разгромов гость никому не учинял и не ругался, даже когда сообщил, что «прибыл с полномочиями» нарочно уточнил, что «вплоть до войсковой операции», чтобы никто не подумал, что полномочия – это обязательно отставки. Это была хорошая новость, но больше новостей не было вообще. Расследованием Иванов не интересовался в принципе, спросил только, сколько задержанных и что за люди – Башлачев доложил, что пока только двое, между собой, скорее всего, не связаны, экстремист Щукин и безработный Помазкин, недавно уволенный из милиции за пьянство. Иванов спросил, объявляла ли о пьянстве пресс-служба. Когда узнал, что не успели, обрадовался и попросил вообще о задержании Помазкина ничего нигде не говорить, надо эту новость попридержать. Еще была просьба, которая вообще сбивала с толку – Иванов велел запретить Помазкину бриться. При чем тут бритье? А вы не спрашивайте, вы исполняйте, и дальше беседа стала совсем светская – чем живет регион, какие планы на будущее, какие тревоги. Как будто не знает, какие тут тревоги, кремлевский черт.
– Знаешь, – сказал Башлачев, когда они уже дошагали до высоких дубовых дверей областного УФСБ. – Я почему-то думаю, что нам пиздец.
Сорока ничего не ответил, молча пожал ему руку, исчез за дверями. Милиция у нас думает, ФСБ – знает.
Тем временем на втором этаже областного правительства в малом зале заседаний, временно переоборудованном под ставку Иванова, московский гость сидел за большим вытянутым столом и читал уголовное дело. Конечно, это какой-то водевиль – осиновый кол, мачете, сожженные автомобили, еще Гринберг этот, хоть сейчас иди и снимай сериал. И что со всем этим делать?
Еще раз прочитал протокол допроса Щукина-экстремиста. Бессмысленный юноша, левачок, понятно, что мухи не обидит. Ну написал эту надпись и написал, но ведь даже придумал ее не он, вот же беда. Какие кокарды, какая стрельба?
Тридцать пять лет назад Иванова на юрфаке даже учили заниматься такими делами, и он улыбнулся, представив, как рисует на доске перед потрясенными Сорокой и Башлачевым схему организованной преступной группы, совершившей серию дерзких убийц. Но чтобы была схема, нужна группа, а что группы нет – это он уже видел и понимал. Допустим, первых гаишников и тех патрульных убили одни и те же люди, там все похоже, рабочая гипотеза нормальная. Но гусевское дело – там же и не стреляли, и почерк был совсем другой. У людей огнестрела уже вагон, а они ножом. Не вариант. Значит, это какие-то другие преступники. Гончаренко заколол явно кто-то третий. Кол – Бог бы с ним, но с этим колом на охраняемую дачу еще пролезть надо, а это совсем другой риск, то есть профессионал работал, не лишенный творческой выдумки. Гринберг – что-то вообще классическое криминальное заказное, то есть в деле должен быть кто-то еще – четвертый! И, конечно, можно предположить, что этот же четвертый взорвал Богдана Сергеевича, но при чем тут вообще Богдан Сергеевич, если он уже лет пять работает в альянсе с Госнаркоконтролем, человек крайне договороспособный и порядочный – его-то кто взорвал и зачем?
Вопросы, вопросы. Иванов вздохнул и уткнулся в протокол по Гаврилову – единственное нормальное убийство, в котором и орудие приобщено к делу, и убийца находится под стражей, сфотографированный со всех сторон в момент совершения преступления. Уволен из органов МВД за пьянство, вот же Башлачев артист, а, – Иванов с Башлачевым знаком не был, но заочно знал его очень неплохо по прошлым губернаторским делам и относился к нему с большим уважением. Если все получится, то повысим Башлачева, здесь-то ему делать уже нечего, не его уже уровень.
42
– Не проспи на работу! – Надя поцеловала Химича, и он проснулся, заворчал – чего так рано-то?
– У нас комиссия из Москвы, генерал сам в аэропорт поехал, все на ушах, страшное дело, сказали, быть на службе к восьми. Все, завтракай сам! – еще раз поцеловала и убежала.
Химич спрятался под одеялом, попробовал закрыть глаза – нет, все, уже проснулся, заново заснуть не получится. Комиссия, генерал – он старался не вникать в дела Надиной службы, чтобы не получилось так, будто он спит с ней, чтобы быть в курсе происходящего в областном управлении. Это было бы низко и нечестно.
Уже месяц вместе, кто бы мог подумать – тем вечером он был уверен, что просто склеил телочку, и когда они из клуба поехали в ресторан, и бычара на фейсконтроле сказал им, что Химича не пустит, потому что он в кроссовках, Надя показала корочку – пустили, посадили за стол у окна. Химич тогда сразу все понял, но не испугался и не рассердился, наоборот, смешно – вот девушка из УВД, а посмотришь на нее – да как будто и не из УВД. И Надя тогда, наверное, тоже что-то почувствовала, рассказывала больше о своем радийном прошлом, и о подругах, и о родителях, и когда разговор уперся в «ну а у тебя кто мама, папа?», Химич честно и весело ответил, что мама-то мама, обычная женщина, а папу вон убил мент, представляешь? И Надя заохала, расспрашивала о подробностях и, кажется, искренне обрадовалась, что все случилось не в ее дежурство, и не ей пришлось сочинять пресс-релиз об обезвреженном вооруженном преступнике. В общем, не было такого, чтобы он вскочил – ах, ты из ментовки? – и убежал, или чтобы она отвесила ему пощечину – да как ты смеешь так говорить о наших ребятах! Все взрослые люди, все все понимают, никто ни на кого не бросается. Приятный вечер, четвертый лонг-айленд. «А какую ты музыку любишь слушать?»
Первый минет прямо на пороге, и Химич остался у нее насовсем в тот же вечер. Утром оба ушли на работу, вечером опять встретились и уже не было вопроса «к тебе или ко мне», тем более что Химич сразу сказал, что живет с мамой. Вечером смотрели какое-то кино, и как-то оба исходили уже из того, что это не второе свидание, а просто они уже пара.
Пара, – сказал Химич вслух, нащупывая ногами тапочки, прошел, не умываясь, на кухню, включил кофемашину. Надя, конечно, хочет замуж, и правила игры, какими они были в представлении Химича, требуют этому сопротивляться, менять тему, когда она об этом заговорит, и Химичу стало вдруг противно, как бывало чаще всего, когда утром он обнаруживал рядом с собой какую-нибудь случайную знакомую или, что хуже, давнюю и добрую подругу. Нет, так не надо, лучше он сам сегодня же позовет Надю замуж – если, конечно, у нее в течение дня чего-нибудь не приключится. Если, допустим, та комиссия из Москвы ее заживо не съест – менты же, в конце концов, мало ли как там у них все устроено.
43
В романе Химича менты пришли к власти; то есть понятно, что они и так власть, но одно дело когда милиционер стоит на перекрестке и следит за порядком, и совсем другое – когда президент мент, и министры все менты, и депутаты, и губернаторы, и все на свете. Людям, конечно, нравится – менты же, порядок, закон, но что-то при этом не так.
Мент, даже хороший мент, типа Башлачева – он все равно мент, то есть смотрит на жизнь глазами оперативного работника, живет от операции к операции, сидит в засаде, даже если сидит в туалете, людей делит на подозреваемых и обвиняемых, к служебной иерархии относится как к боевому братству, да и вообще – живет на войне. Сам считает, что это война с преступностью, но на самом деле она просто со всеми остальными. Ведет незримый бой, потому что, как поется в корпоративном гимне, так назначено судьбой для нас с тобой, но незримый бой, бой, который виден только одному его участнику, очень часто оказывается самой обыкновенной шизофренией, которая прорывается однажды то стрельбой по покупателям в супермаркете, то отрубленной головой сослуживца, то планшетом, который ты засовываешь в рот случайному задержанному.
И вот менты пришли к власти, взялись за дело по-милицейски в самом хорошем смысле, переловили всех карманников и квартирных воров, на улицах стало спокойнее, и как бы все хорошо, все довольны, но дальнейшее-то тоже понятно – разобрались с карманниками, занялись бизнесменами, потому что в представлении ментов бизнесмены те же воры. Сначала мелкие, потом средние, потом крупные, и смотришь – уже и ларек во дворе принадлежит участковому, и бензоколонка за углом – начальнику РОВД, и заводом самым большим владеет уже милицейский генерал, и получается, что порядок уже и не вполне порядок, а просто новый беспорядок, в котором менты и вместо бизнесменов, и вместо бандитов, и даже вместо карманников, вообще вместо всех. И идут годы, менты богатеют и строят себе замки на Лазурном берегу, а на их место приходят новые менты, молодые, у которых уже даже на старте нет никаких идей по поводу порядка, они в менты идут не за порядком, а за деньгами и за властью, и общество становится феодальным, а менты – дворянами, помещиками, крепостниками, и если где-то в народной толще зреет что-то похожее на национально-освободительную борьбу, то такая борьба, конечно же, начнется с того, что какой-нибудь крепостной крестьянин однажды возьмет вилы и поднимет на них первого, которому не повезло, помещика-мента, – так фантазировал Химич, не замечая, что слишком какая-то реалистичная фантазия получается, никакой игры, чистый реализм.
44
Иванов отложил уголовное дело, попросил у губернаторской помощницы кофе, вышел на балкон. Вид с балкона открывался вполне петербургский – парк, в нем фонтан с какой-то статуей, и если не смотреть направо, где торчат трубы ТЭЦ, можно ненадолго вообразить, будто ты где-то в Европе, не в России.
Иванов, как и всякий порядочный федеральный чиновник, относился к себе как к европейцу, случайно занесенному судьбой в эту дикую несчастную страну. Он любил Тоскану, у него там был домик, в котором пока что жила любовница, глуповатая студентка РУДН родом из Воронежа и их полугодовалый ребенок Петечка. Ни любовницу, ни Петечку Иванов, конечно, не любил и радости от встреч с ними не испытывал, просто вот так положено, что если ты большой человек в Кремле, то ты обязан иметь вторую семью, чтобы никто не подумал, что ты хочешь отличаться от остальных. В парке шумели краснолистные клены, Иванов смотрел на них и думал о своем тосканском винограднике.
Чего никто не понимает о больших людях из Кремля – да, у них у всех есть виноградник, замок и вторая семья, но чего у них нет – так это права бросить все и уехать к своему винограднику. Для такого требуется разрешение, иначе ты автоматически переходишь в разряд предателей, а это большая неприятность, потому что предателей никто не любит. И Иванов, как многие, где-то раз в год, не чаще, когда удавалось разглядеть в первом лице сентиментальное выражение, осторожно спрашивал – ну, может быть, пора мне? Первое лицо хмурилось и отвечало, что даже если и пора, то надо еще некоторые дела доделать – вот Олимпиада, а вот в Москве с мэром надо что-то решать, а вот в металлургии все сложно, ну и куда ж я вас отпущу? Иванов вздыхал и думал, что хорошо, вот сейчас разделаемся с московским мэром, и с Олимпиадой разгребемся, и в металлургию доктора пришлем, и вот тогда – но это «тогда» все время отодвигалось куда-то вперед, теперь отодвинулось тоже и уперлось в эти милицейские трупы. Рассказать кому – не последний кремлевский человек, совсем не прокурор и не следователь, копается в этом уголовном деле и придумывает, как с ним быть. Об этом ли он мечтал? Нет, не об этом, но выбирать не приходится, надо придумывать.
Начинать всегда надо с программы-максимум – как выглядел бы идеальный вариант. А как бы он выглядел? Да очень просто. У этой области есть два богатства – нефть на шельфе и янтарь. На янтарном комбинате достаточно полутора тысяч рабочих, на нефтяных вышках и терминале – пусть в два раза больше, три тысячи. С семьями пускай получится десять тысяч, еще тысяч пять на охрану – милиция и ФСБ, ну и все, больше не надо. А их тут – миллион с чем-то. Зачем этот миллион, кому он тут нужен?
Нет уж, погрузить их в пароходы и вывезти всех хоть в Сочи олимпийские объекты строить, хоть на Дальний Восток китайцам сою выращивать. Все должно быть разумно и гармонично. Собственно, все беды у России ведь только от того, что ни разума, ни гармонии – вот и начинает в итоге народец ментов резать, а Иванову это разгребать.
Допил кофе, поставил чашу на карниз. Как разгребать – все уже придумал, окончательно.
45
Юре Щукину, студенту судостроительного факультета в техническом университете, до защиты диплома оставался год, и звучало это, в принципе, солидно, если не иметь в виду, что все сокурсники защитились уже месяц назад, а Юру не допустили к защите из-за, как это называлось, проблем с военкоматом, хотя на самом деле роль военкомата сводилась только к тому, чтобы приходить в университет и орать именно те слова, которые сочинили в центре «Э». На учет к эшникам Юру поставили сразу же, как только он попал в оперативную видеосъемку на каком-то очередном пикете в партийной футболке – красной с белым кругом, а в круге черные серп и молот. В Москве за такие футболки уже сажали, но до регионов новости доходят медленнее, и даже вопрос об отчислении с военной кафедры, хотя что уж проще, решался чуть ли не на уровне министерства в Москве – эшник, с которым тогда разговаривал Юра, первый эшник в его жизни, вздыхал и ворчал, что нацболов в его практике до сих пор никогда не было, и он надеялся, что и не будет – тихий регион, спокойный, откуда все берется.
Откуда – да вот оттуда, книжки да студенты, все, как сто лет назад. Очкарик с гуманитарного факультета (в каком еще университете мира есть факультет, который так и называется – гуманитарный?) выписывал московские газеты, в том числе и ту, самую главную, с гранатой-лимонкой на первой полосе и списком редколлегии, полностью состоящим из покойников во главе с композитором, которого Юра в детстве видел по телевизору в передаче про Ленина (композитор доказывал, что Ленин был гриб), и о котором, кроме той передачи, Юра еще знал, что он умер от загадочной болезни, когда вокруг сердца образуется опухоль, окружает сердце и сжимает его, как в кулаке. Юра почему-то часто думал об этой болезни, ему снилось чье-то сердце, сжимаемое чьим-то кулаком – в общем, если и был в городе подходящий читатель для газеты, основанной тем композитором, то это он, Юра.
Очкарик с гуманитарного, не закончив аспирантуру, быстро уехал в Москву, и о нем доходили нехорошие слухи, что он там работает уже чуть ли не на ФСБ, продался, ссучился – но Юра не любил разговаривать на эти темы, считая, что обвинять кого-то в том, что он живет не по совести, глупо, потому что никто никому ничего не обещает, и вообще – стоит ли требовать верности от ежевичного куста? Юре нравилось относиться к людям, как к ежевичным кустам, от которых ничего никогда не ждешь, но когда на них вырастает ягодка, ее можно сорвать и съесть – приятный сюрприз, но не более.
О дипломе и о военной кафедре н не жалел – ну, заберут в армию (он говорил – «армеечку»), ну и послужит, обзаведется друзьями, примет их в партию. Он уже имел право принимать людей в партию, и даже принял двоих, в общем, случайных, подарил им по футболке и по номеру газеты. Ему нравилось заниматься политикой, ходить в красной майке на митинги к коммунистам, продавать там газету, клеить на фонарных столбах стикеры «Я положил на выборы» или «Россия все, остальное ничто» – его ловили, грозили, проводили «профилактические беседы», и, если совсем честно, в тех беседах и в угрозах, да и в отчислении с военной кафедры политики было больше, чем в расклеивании стикеров по столбам. Он понял это не сразу, а года три назад, когда летал в Москву хоронить незнакомого товарища по партии – тоже Юру, подмосковного мальчика, которого бейсбольными битами забили до смерти эшники.
Ехали на похороны из Москвы на автобусе, и за автобусом двигались две милицейские машины – не кортеж, а буквально погоня, у милиционеров это называлось антитеррористическая операция «Автобус», и по всем бумагам проходило, что в автобусе едут до такой степени опасные люди, что их ни в коем случае нельзя допустить на кладбище, и у кладбищенского поворота одна из двух машин обогнала автобус, другая включила громкоговоритель и велела прижаться к обочине, всех выгнали из автобуса, проверяли документы, пробивали по базам, спрашивали, кто организатор мероприятия, и кто-то орал на ментов – Эй, это не мероприятие, мы человека хороним! – а менты вжимали головы в воротники, молчали – им ведь тоже было не по себе, у них ведь тоже есть какая-то граница, за которой начинается «грех на душу». Устроить человеку смерть от легочной недостаточности – это всегда пожалуйста, а помешать людям хоронить товарища – это да, нехорошо, простите, мужики, служба.
У тех, которые убили того, подмосковного Юру, тоже была служба. Юру сначала забрали в милицию (и тоже за стикеры на столбах – в Подмосковье все как везде), потом составили протокол и отпустили, но сразу за ним, не прячась, из отделения вышли двое в штатском, и он даже знал одного, разговаривал с ним в центре «Э» с полгода назад, и Юра позвонил другу в Москву, сказал – «меня эшники пасут», – и больше ни с кем на связь не выходил, никто больше не слышал его голоса, его нашли в десять вечера в скверике у проходной кондитерской фабрики, еще живого.
Через сутки в районной больнице, уже после трепанации, дежурная медсестра сразу честно сказала его маме, что, вы знаете, у него мобильный надрывался, поэтому мы его выключили, извините. В мобильном записан телефон мамы, так и написано – «мама», в кармане паспорт с пропиской, и можно догадаться, что мать ищет, обзванивает морги, но никому ни до чего нет дела, и Юра Щукин, пока менты на повороте держали их в очереди, проверяя документы, слушал, как кто-то незнакомый, ссылаясь на маму Юры убитого, говорил, что тому Юре, наверное, даже повезло, потому что эшник попался садист, бил куда попало и не глядя, даже шнурки на ботинках порвались от ударов, и Юра как потерял сознание, так больше в него и не приходил, то есть не мучился, не понимал, что случилось.
Юра Щукин летел домой после похорон, и думал, что вот это и есть политика, и если те, в общем, глупости, которыми занимается он и занимался тот Юра в Подмосковье, кажутся ментам настолько важными, что они за это готовы убивать – значит, мы все делаем правильно, надо и дальше клеить эти стикеры и раздавать или продавать эти газеты. Уже только газеты – запрет на партийные футболки дошел и до регионов, в футболке Юра больше не ходил.
В камере следственного изолятора областного УВД он сидел один, книг не было, спать не давали, даже на допросы не водили, ничего вообще не происходило, можно было только думать. Он думал сначала о подмосковном Юре, а потом о той композиторской опухоли, которая, как кулак, сжималась вокруг сердца и убивала.
46
Помазкин вышел к морю, потирая запястья, с которых только что сняли наручники. Пляж, песок, черные водоросли и, кажется, в водорослях янтарик, он наклонился, пошевелил пальцами – да, точно, янтарик, на счастье. Не заметил, как промокли ноги, отпрыгнул назад, оглянулся – нет, никого его прыжок не испугал, все в порядке. Сел на песок, стал развязывать шнурки на кедах. Шнурки! Впервые за много дней на нем обувь со шнурками.
Пустой пляж, территория министерства обороны, посторонним вход воспрещен. Раз в год здесь проводили тренировку десантных кораблей, точнее – единственного корабля, «Мордовии», проект 12322, тип «Зубр», он подплывал к самой кромке пляжа, и из него на песок выкатывались морские пехотинцы. Теперь пехотинцев высадили наоборот – с берега, и одним из этих пехотинцев был сам Помазкин, бородатый, непричесанный, похудевший и с глазами, в которых впервые за эти дни поселилась надежда если не на свободу, то на какую-то новую жизнь, потому что черт его знает, может быть, его сейчас посадят в большой десантный корабль и отправят искупать вину кровью, штурмовать какие-нибудь датские или шведские пляжи, он сможет, он справится.
Остальные десантники, еще трое незнакомых молодых людей, к воде почему-то не подходили, топтались в стороне, ждали и боялись, Помазкин не оглядывался на них, он еще по дороге понял, что они какие-то неинтересные, а больше ничего не понял, потому что разговаривать между собой им запретили. Конечно, выглядело все как в каком-то кино про немецкие или сталинские лагеря – так и так, мы вас выбрали, вам повезло, полетите сейчас на Марс. Помазкин еще раз посмотрел на море и подумал, что если не на Марс, так хоть на Атлантиду.
47
Шиша пересчитал деньги – да, все точно, – улыбнулся и еще раз приподнял одеяло в багажнике – посмотри, мол, еще раз, никакого обмана, пистолеты, автоматы, все как в супермаркете. Чеченец, не меняя выражения лица, посмотрел не на одеяло, а на Шишу и промолчал, что, очевидно, значило – если обманешь, из-под земли достану. Что за чеченец, откуда взялся, чего хочет – у Шиши, конечно, были какие-то версии по этому поводу, но его это уже не касалось. После смерти Богдана Сергеевича областной криминал пребывал в кризисе, а где кризис, там всегда Кавказ, и, наверное, скоро будут стрелять, но и пускай стреляют, если не в нас – каждый дрочит как хочет.
Чеченец уехал первым, Шиша дождался, пока он исчезнет, и поехал в противоположную сторону – так, наверное, лучше.
Деньги с Химичем поделили честно пополам, друзей обманывать нельзя, да и свадьба у парня скоро, святое дело. Надя Шише нравилась не очень, да и жениться на девушке из областного УВД было в любом случае странно, но если хочет человек – что, отговаривать его, что ли? Уедут, наверное, в Москву, да и правильно, чего им тут делать, дыра же, а Химич хоть и свой, но все равно уже москвич, такое не лечится. Ставку в порту, наверное, надо будет сократить, все равно же должность под Химича создавалась, так-то она не нужна совершенно.
48
Губернатор налил водки, выпил залпом и лег прямо в ботинках на диван. Разговор с Ивановым получился короткий, но хороший, продуктивный. Скоро выборы, и он понимает, что не справился с обязанностями, серия убийств сотрудников милиции, убийство депутата областной думы и убийство уважаемого местного бизнесмена – слишком много крови для одного губернаторского срока, и он надеется, что президент сможет найти более подходящую кандидатуру для столь непростого региона. «Надеюсь, вы не подумали, что я вас сейчас прошу подыскать мне должность в Москве, нет, не прошу, более того – считаю, что к госслужбе я уже не годен», – и, собственно, это был весь разговор, Иванов похлопал его по плечу – да, мол, понимаю, не годен, конечно, все в порядке, отпустим даже до выборов. Свобода.
Деньги – с деньгами у него проблем не было. Дом в Черногории, конечно, для заслуженного отдыха не годится, но можно купить что-нибудь во Франции, не проблема. Наверное, сначала надо поездить, выбрать место, Лазурный берег ему не нравился категорически, Альпы поприятнее, но постоянно жить в горах – нет, это не то. Наверное, лучше Нормандия или Кот-д’Аржан – там прямо настоящая Прибалтика, та, какой она была бы в идеальном мире.
Смешно, но еще месяц назад он всерьез думал о продолжении политической карьеры – в отличие от большинства других губернаторов, его карьера была именно политическая, он был по профессии политик, он начинал в девяностые, он избирался в Госдуму одномандатником, собирал подписи, ходил на дебаты, заключал альянсы – он это умел, у него получалось, и даже когда в девяносто девятом году он, поставив не на тех, сказал на митинге, что Ельцина ждет судьба Чаушеску – даже это ему не повредило в новые времена, быстро со всеми помирился, поставил заново – уже на кого надо, – и через пять лет получил симпатичную, в общем, область, на которую претендовало несколько гораздо более влиятельных, чем он, москвичей и петербуржцев. Просто он умнее их, сильнее их, круче их. Он всегда это про себя понимал.
Была книга, в которой дети участвовали в сложных соревнованиях, финалом там была погоня по лабиринту – надо было найти в нем кубок, кто найдет, тот и победил. Но кубок на самом деле был волшебный в самом плохом смысле: ты прикасаешься к нему и проваливаешься напрямую в ад, и никого уже не интересует, первое ты занял место или второе. Ты уже в аду.
И губернатор – он по поводу себя тоже уже понял, что он в аду. Он опытный человек, он все понимает и очень много знает, российская политика для него хоть и лабиринт, но такой, в котором ему знаком каждый уголок. А предпоследний, четыре дня назад, разговор с Ивановым сбил его с ног, даже не удивил – уничтожил его, опрокинул, как тот кубок, и он, конечно, заслуживал, чтобы его теперь отпустили, и здорово, что Иванов это понял.
Он лежал на диване, смотрел на большую карту России на противоположной стене. Раньше было восемьдесят девять регионов, сейчас, после всех укрупнений и объединений – то ли восемьдесят, то ли уже меньше. Он был где-то в пятидесяти, все разные, где-то ледяная пустыня до горизонта, где-то холмы и на них деревни, где-то горы, где-то степи, и везде, в общем, хорошо – если ты приезжаешь туда во главе или просто в составе официальной делегации, лучше всего – с президентом, и тебя везут на вертолете на берег Байкала, а там на берегу накрыт уже стол, и бурятский фольклорный ансамбль пляшет перед тобой, пока ты ешь омуля; о российском государстве можно разное говорить и особенно думать, но если отнестись к нему как к такому секретному турагентству для своих, то это будет лучшее турагентство в мире, никакому Куку не снилось. «Я буду питаться отборной икрой, живую ловить осетрину, кататься на тройке над Волгой-рекой и бегать в колхоз по малину», – мечта, а не жизнь.
И четыре дня назад, когда он говорил с Ивановым, вернее – Иванов говорил с ним, – он вдруг представил, как будто его вертолет сломался и падает куда-то вниз – в Россию. Что-то похожее было у одного его знакомого, с которым они несколько раз вместе летали на охоту, стреляли на Алтае каких-то редких местных козлов из Красной книги, тоже ведь идеальный туризм, но однажды тому знакомому не повезло, его вертолет, набитый тушами козлов, не выдержал тяжести и упал в тайгу, и именно ему, тому знакомому, при падении, когда лопасти винта еще крутились, оторвало голову, хоронить пришлось в закрытом гробу, но ладно гроб – на похоронах все со значением переглядывались и нехорошо усмехались, потому что список погибших был совсем неприличный, там и модели из модельного агентства, и гармонист из фольклорного ансамбля, и банщик из управделами президента – и все на виду, вся Москва в курсе. Он тогда старался не думать, что было бы с ним, если бы и он полетел на ту охоту, но теперь она его все-таки догнала, вот сейчас, в собственном кабинете, и он смотрел на Россию, распластанную по противоположной стене, и думал о матерях тех парней, про которых ему сказал Иванов. Они ему всегда будут сниться, и они на самом деле и есть Россия, и он смотрел на нее, смотрел и понимал – вот так она умирает. Страна умирала, а он на нее смотрел.
49
Щукин сразу почему-то понял, что их привезли расстреливать. Когда высадили на пустом пляже, сняли наручники и велели «отдохнуть», он вспомнил какие-то сцены из непонятного кино, или из книг, или еще откуда-то – может, из сюжетов программы «Время» о том, как косовским сербам албанцы вырезали органы на продажу. Расстреляют, вырежут печень – ну и пускай. Правда когда-нибудь всплывет, люди узнают и отомстят. Партийцы, или отец, или кто-то вообще незнакомый – неважно, но что узнают и отомстят – в этом Юра Щукин не сомневался, потому что из этой веры он сам весь и состоял, больше в нем ничего не было кроме то ли выдуманной, то ли интуитивной, то ли еще какой-то, но в любом случае ничем не доказанной уверенности в том, что народ однажды разберется и все устроит по справедливости, а пока этого не произошло, надо жить, никого не обманывая и не делая подлостей, нести людям правду по мере возможностей и по мере того, насколько ты сам знаешь правду – этого мало, да, но этого и достаточно, потому что у остальных и такой правды нет, у остальных нет ничего.
Юру били на допросах, но били не страшно, не смертным боем, он был готов, что будут забивать до смерти, но по его поводу, наверное, была какая-то особая инструкция, чтобы ни в коем случае не убить и даже не доводить до потери сознания, и еще, скорее всего, в инструкции особо отмечалось, что надо беречь лицо, и по лицу его никогда не били, только в живот и по почкам. Били одни, допрашивали другие, и у этих других задача была одна – добиться признания, что выражение «стрелять по кокардам» придумал он сам, и то воззвание во «Вконтакте» сочинил и разместил тоже он. Но поскольку ни то, ни другое правдой не было, Юра ни в чем не признавался, и его снова били, но снова вполсилы, чтобы не убивать и не портить лицо. Каждый день около десяти часов вечера.
А тут вдруг выдали одежду, надели наручники, посадили в микроавтобус и повезли к морю – дорога знакомая, он сразу понял, что к морю. Привезли на пляж, и зачем еще можно везти арестованных на пляж – расстреливать, конечно, в этом-то Юра не сомневался.
С ним было еще трое, один незнакомый бородатый, про которого Юра почему-то сразу понял, что он мент – то ли выражение лица, то ли поза, черт его знает. Двух других он знал, с ними ему однажды устраивали очную ставку. Один нацист, другой антифа, субкультурщики, он на них всегда свысока смотрел и за людей не считал. Следователь надеялся, что они с Юрой знакомы по прошлой жизни, но нет, даже не виделись никогда раньше.
Бородатый сразу убежал к воде, и вооруженные сопровождающие в штатском почему-то не занервничали, и это было совсем странно; что, их купаться сюда привезли? Минуты шли, становилось все непонятнее, но потом, через час с чем-то, появился еще один в штатском – явно гражданский, но при этом явно главный, вооруженные разговаривали с ним очень почтительно. Молодой, в льняной рубашке и дорогих туфлях, сразу разулся, пощупал ногами воду – холодная! Похлопал в ладоши – давайте, мол, все ко мне. Вооруженные подогнали к нему безоружных, сами встали чуть в стороне.
– Друзья, – весело начал льняной. – Мне от вас ничего особенного не надо. Просто сядьте вот тут на песочек, – начертил ногой полоску, и я вас сниму на видео, – достал из кармана айфон. – Только вот вас, – пожарил глазами по четверым, выбрал бородатого Помазкина, – я попрошу один текстик прочитать вслух. Вы же не против?
Четверо молчали, и тогда те вооруженные бросились подсказывать – сели, быстро, ну!
Помазкин держал в руках бумажку с «текстиком», которую дал ему льняной. Ерунда какая-то – партизаны, кокарды, пуля, праздник, как будто стихотворение.
– Что, прямо подряд читать? – льняной кивнул и нажал на кнопку записи.
Помазкин откашлялся и начал:
– Дорогие земляки! Мы, приморские партизаны, взяли в руки оружие.
Льняной снимал, смотрел радостно.
50
Губернатор еще раз спросил Иванова – может, обойдемся без меня? Иванов уже сердился – ну слушайте, договорились же уже обо всем, вы же не хотите себе проблем? Проблем губернатор не хотел, и на телевидение пришлось приехать. Обращение записали с третьего дубля – все-таки живой человек, волновался.
Обращение сочинил, конечно, не он сам, а кто – Иванов или тот им привезенный московский хмырь в льняной рубашке, этого губернатор не знал, да и не очень было интересно. Смотрел в суфлер, читал с выражением, старался ни о чем не думать.
– Банда, действующая в нашем регионе, уже вышла за пределы чистого криминала и, по сути, объявила войну каждому жителю области, – читал он. – Нам брошен вызов, отвечать на который исключительно полицейскими мерами уже не получится. На оперативном совещании руководителей силовых структур региона мы, посовещавшись с руководством страны, приняли решение использовать против бандитов все ресурсы, имеющиеся в нашем распоряжении. Начиная с сегодняшнего дня на всех дорогах области будут выставлены патрули с участием вооруженных сил. На въезде в каждый населенный пункт выставляется военный блок-пост. Сотрудники милиции и ФСБ переводятся на усиленный режим несения службы. В действие вводятся планы «Перехват» и «Вихрь-антиттеррор» сроком пока на неделю с возможностью дальнейшего продления. Я прошу всех сохранять спокойствие и оказывать все необходимое содействие военным, сотрудникам милиции и спецслужб.
Хотел добавить еще что-то от себя, потом подумал, что Иванов заставит тогда сниматься заново, и передумал, просто тихо вздохнул.
51
Бронетранспортеры в дорожных пробках, военного образца каски, как из кино, автоматы в руках, проверка документов, мешки с песком на блок-постах – как, оказывается, просто за несколько часов превратить тихую область в военный лагерь. Четыре фоторобота – мент, нацбол, нацист и антифашист. Четыре лица – и по телевизору, и в ксерокопиях на блок-постах, и на стендах у отделений милиции, и в газетах, везде.
Когда Щукин-старший попросился на прием к Башлачеву, тот сразу его принял, попросил чаю, посадил в кресло – да, мол, жаль, что мы с вами тогда так и не поговорили, а теперь-то чего, вот – и вручил бумагу за собственной подписью, что ваш сын Щукин Юрий был такого-то числа доставлен в областное управление допрошен и отпущен за недостаточностью улик.
– А уж почему он домой не пришел – извините, не знаю, – вздыхал Башлачев, глядя в глаза Щукину-отцу. – Вы заявление о пропаже писали?
Щукин-отец теперь искренне хотел убить этого человека. Если Юра действительно имеет отношение к этим убийствам милиционеров, и если действительно это прямо какая-то банда, скрывающаяся в лесах, то было бы неплохо к ней присоединиться – да, ему уже под шестьдесят, но он вполне мог бы быть полезен этим ребятам, старый корабел.
А Щукин-сын тем временем спал, обняв щуплого антифашиста, на продавленном диванчике в однокомнатной квартире окнами на завод «Буммаш». Диванчик – единственное спальное место в этой неизвестно чьей квартире, и поэтому спать надо по очереди, и пока двое спят, другие двое сидят на кухне с охраной, двумя офицерами МВД Чеченской республики, которые здесь зачем-то в командировке, им скучно, и поэтому с ними можно играть в карты, слушать вперемешку чеченских бардов и «Гражданскую оборону», пить крепкий чай и есть пельмени, которых тут полная морозилка и которые непонятно кто купил и почему не забрал. Их привезли сюда сразу с пляжа, а зачем и почему – никто не сказал, и чеченские милиционеры тоже не знали или не говорили. Сказали – ждать.
52
Потом чеченцам кто-то звонил по телефону, они говорили на своем языке, и не было больше ни музыки, ни чая, и почему-то стало ясно, что если они чего-то ждут, то все, уже дождались, сейчас откроется дверь, и из-за двери придут новости.
– Мы ждем кого-то? – волновался нацист. Чеченцы молчали, потом один не выдержал, ответил, что да, полчетвертого придет комиссия. Часы показывали два, еще полтора часа надо сидеть на диване, не вставая и ни в коем случае не подходя к окну.
И они не видели, что за окном уже идет какая-то жизнь, строятся омоновцы, занимают позиции группы захвата, на крыше буммашевского заводоуправления располагаются снайперы, и проходная с утра закрыта, и арендаторов, которые на этом заводе давно вместо рабочих, не пускают на их склады и в их офисы, и все нервничают, и к чему-то готовятся, и в кабинете Башлачева уже лежит бумага, которую сейчас подошьют к уголовному делу, и в бумаге сказано, что оперативным путем установлено местонахождение банды – та самая однокомнатная квартира в пятиэтажке около «Буммаша», и есть уже неподписанный приказ о штурме квартиры, и Башлачев сейчас его подпишет и своими руками подошьет в дело, потому что он обещал Иванову, и это такое обещание, которое обязательно нужно сдержать.
В пятнадцать часов двадцать две минуты в дверь позвонили, Щукин дернулся, чеченец рукой сделал жест – сидеть. Позвонили еще раз. Потом удар в дверь, еще удар, треск, вооруженные люди в омоновской форме.
Стреляли все – и гости, и чеченцы, и кровь на обоях, и мозги на потолке, и четыре трупа на диване, и потом появился тот, льняной, со спортивной сумкой, в которой было четыре автомата, и аккуратно, с нежностью разложил автоматы среди мертвых тел – к оперативной съемке все готово, вечером ее покажут по телевизору.
Мешки с песком увозили грузовиками. Солдаты возвращались в казармы. «Перехвату» и «Вихрю-антиттеррору» дали отбой. Все закончилось.
Щукину-отцу тело так и не выдадут, запрещено законом, террористическая статья.
53
Шиша смотрел на беременную Надю и думал, что правильно, что они уезжают, в Москве и рожать лучше, и возможностей больше – любых, и по работе, и вообще. Рейс задержали на сорок минут, и эти сорок минут получились такие неприятные – разговаривать больше уже не о чем, все немного нервные, но не до такой степени, чтобы ругаться, то есть ты улыбаешься, а сам внутри злишься и хочешь напиться.
– Может, вискарика? – спросил Шиша, а Химич мотнул головой – нет, мол, не до того, но если ты хочешь, то пей сам, мы поддержим.
– Тогда я лучше дома, – Шиша еще раз нехотя улыбнулся и еще раз сказал, что ему, конечно, жаль, что они уезжают, но он все понимает, да и сам, наверное, рано или поздно уедет, только не в Москву, а куда-нибудь в другую сторону – может, в Испанию, там тепло.
– В Португалии дешевле, лучше в Португалию, – Химич не помнил, откуда он это знает и так ли оно на самом деле, но уже включил москвича, а москвич – это такой человек, который всегда готов дать полезный совет другу из регионов.
– Ладно, чуваки, давайте, – Шиша полез обниматься, потом чмокнул Надю, – не скучайте и пишите, – и они ушли на досмотр, а он пошел к стоянке. Пожилой сторож возился со шлагбаумом, и Шиша, конечно, вспомнил того старика Романовского – сумел бы он тогда вырваться, нажал бы на свою тревожную кнопку, приехала бы милиция, и сидели бы они сейчас с Химичем где-нибудь на Урале, и ничего бы вообще не было. Он вспоминал Романовского, как он хрипел и булькал, и был, наверное, в шаге от того, чтобы начать его жалеть, хотя бы его, но потом подумал о тех четверых, про которых читал в газете – теперь в убийстве Романовского и во всех других убийствах считались виноватыми они и, хоть это и некрасиво, Шиша против этого не возражал. Он понимал, что это несправедливо и нечестно, но у него не получалось всерьез думать о несправедливости по отношению к каким-то другим, незнакомым людям. Ну вот так устроен человек, ничего не поделаешь. Сел в машину, завелся, поехал.
Старик у шлагбаума, уволенный с судостроительного завода инженер Щукин, посторонился, пропуская Шишу и снова присел на корточки – в шлагбауме что-то сломалось, и надо было понять, как его чинить. Сторож стоянки в аэропорту – отличная должность, много встреч, много знакомств, много возможностей. Все они еще пригодятся старику Щукину, он знает, он не сомневается, и он обязательно отомстит.
Стрелять по кокардам (авторское послесловие)
У многих такое бывает – видишь по телевизору какого-нибудь знаменитого человека и понимаешь, что ты, скорее всего, с ним был когда-то знаком, где-то виделись, выпивали, о чем-то разговаривали. Теперь он настолько знаменит, что любое воспоминание о нем, любое свидетельство безусловно ценно, и ты морщишь лоб, пытаясь вспомнить что-нибудь («а потом он попросил меня передать соль»), и понимаешь, что не помнишь вообще ничего. Может быть даже, тебе вообще показалось, и это был не он.
У меня с тем парнем – все именно так, я вообще про него ничего не помню, но, в отличие от других аналогичных случаев, доказать наше знакомство я могу – оно запротоколировано, подписано мною собственноручно и должно храниться в архиве московского ОВД «Мещанский», если, конечно, его с другими бумагами не утилизировали за давностью лет.
Нас вместе задерживали 3 марта 2004 года. Я тогда работал журналистом и, помимо прочего, освещал акции одной ныне запрещенной за экстремизм партии. Очередная акция была – «мирный захват» офиса «Единой России», знаменитого, главного, в Банном переулке. Как потом станет ясно, это были последние месяцы существования той партии в ее привычном виде – наступит лето, и участников акций будут сажать на годы в тюрьму, саму партию запретят, и газету ее запретят, и флаг, и все на свете, но той весной об этом никто еще не думал, а если кто-то и думал, то ему не верили.
«Единую Россию» тогда охраняли плохо, единственный охранник упал на пол, и несколько десятков молодых людей прямо по охраннику пробежали на третий или четвертый этаж, распахнули там окна, вывесили в них свои флаги, стали бросать из окон листовки. Я помню те листовки, одна у меня даже хранится – слоган «Я положил на выборы» и хвостик буквы «Я» превращается в согнутую в локте руку, и поперек локтя нарисована ладонь, получается такой неприличный жест. Пожалуй, та буква «Я» – одно из выдающихся достижений русского дизайна начала нулевых.
Листовки разбрасывали и на улице. Там осталось еще несколько десятков молодых людей, они приковались наручниками к решетками окон, приковались к двери, чтобы никто не прошел, жгли огонь. Я думаю, это все были молодые партийцы – те, которым не доверили проходить внутрь здания. Тот парень был именно там, на улице, но об этом я узнаю уже несколько лет спустя, когда прочитаю в газетах его биографию. Тогда шестнадцатилетний юноша из Приморского края, он автостопом приехал в Москву с девушкой, то ли сестрой, то ли просто подругой, они жили в партийном бункере, тогда еще не разгромленном, и та акция в Банном переулке была единственная, в которой он успел поучаствовать – потом его отправят обратно в Приморье, слишком молодой, мало ли что с ним случится. То есть наше с ним задержание было единственным его задержанием московской милицией.
Милиция их отпиливала болгарками от оконных решеток, дверей и батарей отопления, потом нас везли в автозаке по Москве, и я, будучи, кажется, единственным беспартийным среди задержанных, вместе со всеми в том автозаке читал вслух клятву члена партии – я знал ее наизусть, – а потом в отделении, пока составляли протоколы, все задержанные вслух читали стихи от Цветаевой до Емелина, о существовании которого я, кажется, именно тогда впервые в жизни и узнал, и через полгода, когда их начнут сажать уже по-взрослому, один из тех задержанных, уже осужденный на три, что ли, года, позвонит мне ночью из колонии и попросит прочитать ему «Экфразу» Емелина – «Их убаюкивали газом, как песней колыбельной мать, им, обезвреженным спецназом, не удалось себя взорвать», я диктовал ему это по телефону, он записывал, чтобы потом выучить наизусть и читать в отряде. Это была такая партия про поэзию, сейчас таких не делают.
В общем, стихи я помню, а того парня – нет, но он был где-то рядом, это написано в его биографии и в милицейских протоколах, и в том числе поэтому я часто о нем думаю.
Его звали Андрей Сухорада; как считается, он застрелился 11 июня 2010 года во время штурма снятой им и его друзьями квартиры в Уссурийске. Я почему-то склонен думать, что его убили сами милиционеры во время штурма, но это, наверное, не имеет значения. На правах покойника он теперь числится лидером той неформальной организации, которая в начале лет 2010 года перемещалась по Приморскому краю, убивая по пути разных сотрудников российского МВД.
Есть такое заезженное выражение – «Власть испугалась». Так обычно говорили, когда в Москве собирался большой митинг, чаще всего санкционированный, и когда, отмитинговав, люди гордо расходились по домам, покидая металлические загончики с монограммой «УВД ЦАО». Сейчас «власть испугалась» говорят, когда провинциальные избиркомы отказывают в регистрации демократическим партиям, зачем-то решившим участвовать в выборах областных законодательных собраний.
Но только один русский регион видел и помнит, как выглядит настоящий испуг власти – когда на перекрестках дежурят бронетранспортеры, и на въезде в самый глухой поселок свалены по-кавказски на блокпосту мешки с песком, и из-за мешков выглядывает вооруженный солдат внутренних войск в армейской каске. Кровавый штурм съемной квартиры в хрущевской пятиэтажке – вот как выглядит настоящий испуг российской власти, и это было пять лет назад в Приморском крае.
Государственные СМИ подчеркнуто называют их бандитами, в прессе было много подробностей по поводу их политических взглядов – писали и о фашизме, и о радикальном исламе, и, смотря запрещенные ныне видеоролики с их обращениями, зрители в Москве и других городах гадали, случайно ли кто-то из них поднял кверху указательный палец. Много усилий предпринято, чтобы доказать, что в их истории не было никакой политики, но чем больше таких усилий, тем сильнее ощущение, что вообще-то да, так и выглядит настоящая политика – та, в которой нет места политическим технологиям.
Никто не имеет права восхищаться ими, никто не имеет права говорить, что они что-то делали правильно. Но их история почему-то не забывается, и очередной суд по их делу, тянущемуся уже пять лет – это просто формальный повод вспомнить о них, хотя и без повода многие их прекрасно помнят и думают о них.
Год войны в Донбассе снял некоторые табу, и какой бы грязной ни была российско-украинская игра, но виды разрушенных аэропортов и пятиэтажек – это тот пейзаж, в котором мы теперь живем все, включая тех, кто не был в Донбассе и не собирается туда. Многие считают, что те парни из Приморья, если бы они потерпели пять лет, нашли бы себя сегодня где-нибудь там, на донецком фронте. Я не знаю, но и это не имеет значения – донецкая история показала, как много в России людей, готовых стрелять, а парни из Приморья просто опередили время, первыми заявили о том, что стало сегодня общим местом.
Шкаф со сценариями для будущего России почти пуст, в нем лежит всего несколько тоненьких папочек и, может быть, два или три тома Сорокина. Один из таких сценариев написан Андреем Сухорадой и его товарищами. Сценарий страшный, но у нас вся история страшная.
***
Не решившись документально описывать приключения парней, которые однажды решили «стрелять по кокардам», я перенес место действия с Дальнего востока на дальний запад России, пусть вместо сопок будут дюны, а вместо Амурского залива (к которому настоящие партизаны, впрочем, так и не вышли) – скучная Балтика. Приморским делом я занимался совсем немного, и в доме, где убили Андрея Сухораду, оказался только через неделю после того, как все закончилось.
История про подростков, которые пытают друг друга, чтобы понять, что чувствует задержанный в милицейском отделе – она подлинная и как раз оттуда, из той командировки, Кировский район Приморского края. Пенсионер, доставший ружье во время ссоры с женой и застреленный за это во время самого настоящего штурма квартиры – тоже подлинная, но уже из Ставрополя, я когда-то писал и об этом пенсионере. Подмосковный парень, забитый до смерти за то, что клеил на фонарных столбах запрещенные стикеры – это Подмосковье, Серпухов, 2007 год, а антитеррористическая операция «Автобус» – непридуманная история милицейской погони за автобусом, в котором друзья и родственники ехали его хоронить. Начальник ГУВД, снимающий куртку и лично залезающий в мусорный бак в поисках орудия убийства – это тоже было в Москве, в 2010 году, после покушения на меня. Соседка, надевающая во время обыска норковую шубу, чтобы понравиться майору из центра «Э» – я видел такую соседку, когда в Нижнем Новгороде эшники ломились в квартиру к местному лимоновцу, и его отец, инженер с судостроительного завода, произносящий речь перед милицейским генералом – я слушал этого отца в темном подъезде нижегородского дома, и его речь воспроизвожу по сохранившейся с тех пор собственной записи. Все именно так и было.
Я рассказываю это сейчас, потому что боюсь, что именно подлинные истории, которых в этой книге много, покажутся кому-нибудь самыми неправдоподобными, выдуманными. Но за годы репортерской практики я давно привык, что чаще всего выдуманным как раз и кажется настоящее, всем проще думать, что так на самом деле не бывает.
Но бывает почему-то именно так. Я переживал, что неправдоподобной окажется полностью мною выдуманная сцена с мачете – где я, а где мачете, я никогда не видел, как отрубают голову латиноамериканским клинком. Но уже когда книга была дописана, слово «мачете» зазвучало в новостях – кто-то в Москве гонялся с этим оружием за несчастным спасателем из МЧС, отрубая ему в этой погоне руки и ноги. На фоне таких (совершенно реальных!) новостей моя история про милиционера, отрубающего голову сослуживцу, выглядит едва ли не более реалистичной. То же самое – с изнасилованным в отделении задержанным. Я уверен, что рано или поздно это произойдет, к людям выйдет человек, не скрывающий своего лица и имени и скажет, что его изнасиловали полицейские, и он им этого так не оставит, дойдет до Европейского суда. Пока такого не было, пока даже рассказы об угрозе изнасилованием публика встречает смешками, как во время суда над крымским кинорежиссером, когда следы пыток в протоколе официально оформили как последствия БДСМ-игр. Наши потешные каминг-ауты с участием деятелей шоу-бизнеса и телевидения – это, конечно, пародия. Непародией будет первый выживший после изнасилования в полиции – тот, кому Россия первому решится посмотреть в глаза, если хватит сил, конечно.
Уже дописав эту книгу, я познакомился в Москве с молодой чиновницей, которую по линии культурного ведомства перевели из Москвы в Казань. Милая девушка, она рассказывала об аппаратных особенностях татарской власти, жаловалась на ленивых чиновников, восхищалась теми, кто много и хорошо работает. Среди тех, кем восхищалась – работающий теперь у местного президента бывший министр внутренних дел республики, отправленный в отставку за то, что в подведомственном ему ОВД «Дальний» полицейские запытали до смерти задержанного Сергея Назарова. Орудием пытки, как известно, была бутылка от шампанского, благодаря этой бутылке (давайте честно – только благодаря ей, без нее это была просто одна из множества смертей во множестве УВД, две строчки в хронике происшествий) о преступлении в «Дальнем» заговорила вся страна, дело дошло до суда и до отставок, и главу татарского МВД тоже сняли, отправив в ссылку, как часто у нас бывает, в аппарат президента большим начальником. Теперь им восхищаются молодые чиновники – внятный, адекватный, держит слово, большой молодец, как жаль, что карьера дала сбой. Жаль именно карьеры, а не убитого Назарова. Все, что вы хотели знать о банальности зла, но не у кого было спросить.
Противостояние граждан с полицейскими, чаще всего тихое, молчаливое, буквально – стараться не смотреть в глаза, если люди в полицейской форме идут по улице, – по-моему, это самое важное и самое интересное, что происходит сегодня в России. Иногда это противостояние принимает открытые и страшные формы, как в 2010 году в Приморье или годом раньше в московском супермаркете, когда майор Евсюков, гуляя между стеллажами, убивал покупателей. Но это экстремальные случаи, типичным по-прежнему остается строчка в полицейской сводке: «Задержанному внезапно стало плохо, сотрудники ОВД пытались оказать помощь, но он скончался до приезда врачей». Любой шаг в сторону от сложившегося положения дел обязательно станет потрясением и для системы, и для граждан. Моя книга – о том, как могло бы выглядеть такое потрясение.






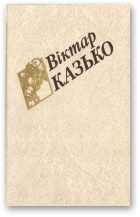



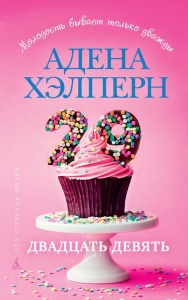

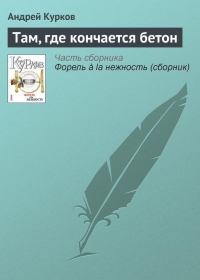

Комментарии к книге «Приморские партизаны», Олег Владимирович Кашин
Всего 0 комментариев