Максанс Фермин Черная скрипка
Истинная музыка укрыта между нотами.
Вольфганг Амадей МоцартI
1
По странной душевной наклонности, граничившей порою с безумием, Иоганн Карельски посвятил всего себя одной цели, и цель эта была — претворить свою жизнь в музыку. Иными словами, его душа была недописанной партитурой, которую он разбирал с каждым днем все талантливей.
Иоганн Карельски был скрипачом. Он виртуозно исполнял музыкальные пиесы, которые все слушали с удовольствием, но никто по-настоящему не понимал.
В 1795 году, когда ему исполнилось тридцать один, он достиг вершин искусства. Жить ему оставалось еще тридцать один год.
Он проживал во Франции, в городе, который называется Париж, но который на самом деле не город, а симфония звуков и света.
Его почитали музыкантом. Однако в действительности он был немного больше, чем просто музыкант. Иоганн Карельски был гений, достигший почти божественных высот. Втайне он мечтал сочинить оперу, несказанно прекрасную оперу, обращенную к небесам, в которой он говорил бы с Богом.
2
Чтобы стать скрипачом-виртуозом, необходимы два качества: умение слушать и умение слышать.
Иоганн обладал обоими этими качествами. Он умел слушать свой инструмент. И умел услышать его вибрацию в себе самом.
Все дни с восхода до заката он посвящал музыке. Иногда он мог целый день, закрыв глаза, самозабвенно играть и вслушиваться в собственные переживания. Погруженный в себя и в музыку, он тем не менее видел мир лучше, чем любой другой, ибо сердце его оставалось открытым свету.
3
Случайная встреча в пятилетием возрасте пробудила в Иоганне Карельском любовь к музыке и решила его судьбу.
Однажды летним утром в саду Тюильри цыган-скрипач научил его языку блаженства.
Иоганн играл у пруда, как вдруг на повороте аллеи появился черноволосый, чернобородый человек. Не произнеся ни слова, он остановился посреди дорожки и вынул из футляра скрипку. Человек этот был так огромен, что скрипка в его руках выглядела игрушечной. Несколько зевак, заинтригованных обликом бродячего музыканта, тотчас окружили его. Зачарованный Иоганн тоже подошел к ним.
Отбивая ногой ритм, цыган заиграл такую захватывающую мелодию, что мальчик замер с разинутым ртом и изумленно, словно это было какое-то небесное видение, смотрел на бродячего музыканта. Долго еще Иоганн стоял не шелохнувшись, околдованный музыкой, ведь такую он слышал впервые в жизни.
Наверное, этот цыган был не самым лучшим скрипачом, и играть он явно учился по слуху, но в нем ощущалось такое душевное напряжение, что, казалось, каждая нота, которую он извлекает из скрипки, пропущена через его сердце. В плаче скрипки звучал голос музыканта, та щемящая тоска и те возгласы радости и счастья, какие можно услышать от всех цыган на свете. И Иоганн знал это. Он слышал это явственней, чем кто бы то ни было. Ему был внятен голос скрипки.
Цыган тоже это знал, как знал и то, что они с Иоганном принадлежат к одному племени — племени тех, у кого в душе музыка. Он взглянул на мальчика и только для него заиграл полонез, бесконечно лирический и поразительно красивый, но звучащий так необычно, что понять его были способны лишь немногие посвященные. Иоганн внезапно понял: это его язык, единственный, которым он уже овладел и который навсегда связал его с миром. И, слушая, он постиг обращенное к нему послание. Цыган не просто играл какую-то музыку, он рассказывал свою жизнь. И мальчик, закрыв глаза, отдался его фантазиям.
Он видел дороги Богемии, видел заснеженные ели, видел цыган, сидящих ночью у костра, видел, как пляшут цыганки. Познал, что значит брести от деревни к деревне, испытывать страдания, лишения, стужу, голод, терпеть оскорбления, враждебность. А еще он узнал, какую радость дарят не захлопнутая перед носом дверь, горящий очаг, обмен улыбками, кусок хлеба, поданный крестьянином, музыка, которая согревает сердца, смех, а иногда любовь.
Иоганн видел все это. И это было ясно по его глазам.
Кончив играть, цыган обошел слушателей с плошкой, собирая подаяние. Несколько монет серебристо звякнули, упав на ее жестяное дно. Подойдя к мальчику, цыган наклонился и ласково погладил его по голове:
— А ты, малыш, своими горящими глазами заплатил мне в сто раз больше, чем все они вместе.
И он ушел так же, как пришел.
С того дня Иоганн твердо знал, что он — музыкант.
А уже через два года он стал скрипачом.
4
У Иоганна не было наставника в буквальном смысле этого слова, просто несколько учителей помогли ему освоиться со скрипкой. Очень рано он стал играть сам, часто даже без нот, ради удовольствия. Да, этот мальчик был не похож на других детей, обучающихся музыке. Он подражал учителям, копировал их технику, но внутри, в душе, он уже был великим скрипачом. Не рука водила его смычком, а сердце.
Очень скоро учителя поняли, что им уже нечему его учить.
— Нет смысла продолжать уроки, — сказал один из них матери Иоганна. — Не могу же я учить его тому, что он и без того знает.
Г-жа Карельски в музыке не понимала ничего, но она поверила музыканту на слово. А так как она недавно потеряла мужа и состояние, то решила зарабатывать деньги на своем отпрыске.
Вот так Иоганн Карельски в возрасте семи лет дал свой первый концерт в церкви Сен-Луизан-л’Иль в Париже.
В тот вечер церковь была набита битком. Слух о ребенке, который превзошел своих учителей, разошелся с быстротой молнии, и все хотели увидеть это чудо.
Сперва оркестр сыграл симфонию, потом наступил черед Иоганна. Он появился в нарядном кафтанчике — длинные черные волосы до плеч, мечтательные большие голубые глаза, — и по залу пробежал легкий шум. На многих лицах читалось недоумение: Иоганн выглядел таким хрупким, таким эфирным. Какой музыки можно ждать от этого маленького мальчика?
Держа в руках скрипку, оробевший Иоганн дошел до подмостков и поднялся на них. Он поднес скрипку к плечу, прижал ее подбородком и заиграл. Уже с первых нот всем стало ясно, что перед ними выдающийся скрипач.
Мальчик играл, закрыв глаза и раскачиваясь. Каждое движение пальцев вдоль грифа, каждое движение смычка, каждое движение тела высвобождало энергию, таившуюся в нем. Иоганн и инструмент составляли единое целое. Хрустально-чистые звуки скрипки взлетали и растворялись в облаках. Маленький виртуоз поразил слушателей своей блистательной техникой. Потрясенные люди сидели, замерев. Длилось это всего несколько минут, но все это время потрясение не проходило. Так продолжалось до последней ноты.
Когда Иоганн закончил играть, несколько секунд царила полнейшая тишина. А потом — взрыв ликования и бурная овация.
После концерта все бросились поздравлять маленького скрипача. К счастью, среди восторженных поклонников оказалось несколько известных музыкантов. Один из них, потрясенный талантом чудо-ребенка, тут же объявил г-же Карельски, что если она не против, он озаботится карьерой ее сына. Она сперва сделала вид, будто намерена отказаться, потом изобразила колебания, попыталась заломить какую-то несусветную цену и в конце концов дала согласие.
С той поры концерты в безумном темпе следовали один за другим, и все проходили с огромным успехом.
Спустя несколько месяцев в парижских салонах все задавали друг другу один и тот же вопрос:
— Откуда взялся этот ребенок, который так божественно играет?
Кто такой этот вундеркинд? Каким чудом появился этот Иоганн Карельски?
Для таланта Иоганна Франция оказалась тесна. Его приглашали в Вену, в Мадрид, ко всем европейским дворам. Иоганн вместе с матерью, которая следовала за ним как тень, открывали Европу.
Англия была одной из первых стран, в которую он отправился и где его ждал триумфальный успех. Казалось, для музыки не существует границ, она заставляет забыть любые политические распри. В Лондоне его концерт произвел такое впечатление, что ему пришлось выступить еще семь раз, и на каждое выступление все билеты были распроданы заранее.
Во время ужина, который был дан в честь Иоганна, некая леди восторженно обратилась к г-же Карельски:
— У вас просто необыкновенный сын! Его друзья, наверное, гордятся им.
Г-жа Карельски с любезной улыбкой поблагодарила ее за комплимент и сказала:
— Насколько я знаю, у Иоганна нету друзей.
Леди была чрезвычайно удивлена:
— У мальчика в таком возрасте нет друзей?
— Нет. Впрочем, можете сами спросить у него.
Англичанка повернулась к Иоганну, который изнывал от скуки, сидя рядом с каким-то молодым лордом, и спросила:
— Дитя мое, кто ваш лучший друг?
Иоганн, не задумываясь, тут же ответил:
— Моя скрипка.
Каждый вечер после концерта Иоганн возвращался в свое детское одиночество. Никогда он не чувствовал себя так одиноко, как теперь, когда к нему пришла известность.
5
Такая жизнь, полная успехов, продолжалась десять лет. До смерти г-жи Карельски. Потеряв мать, Иоганн лишился единственной нити, что связывала его с миром людей. И оттого он испытывал глубокую печаль, которая окончательно так никогда и не прошла.
Устав быть одной из тех ученых обезьян, которых показывают при всех европейских дворах, Иоганн решил прекратить гастроли и поселиться в Париже, где он изредка давал концерты с благотворительными целями. Ему было семнадцать, он по-прежнему великолепно играл, но это уже не было чудом.
А потом все вообще позабыли про мальчика, которым восхищались монархи Европы. Времена наступили тревожные, королевская власть шаталась. Людям не хватало хлеба, и очень скоро они перестали интересоваться музыкой.
Шли годы.
Для заработка Иоганн давал уроки игры на скрипке нескольким детям. А чтобы придать жизни какой-то смысл, он стал сочинять музыку.
Отныне его единственной целью, единственной страстью стала опера, которую он хотел написать.
6
Однако Иоганн Карельски не успел встать на новую жизненную стезю. За него все решила война, и случилось это в один из первых дней весны 1796 года.
Ему совсем недавно исполнился тридцать один год.
Ранним мартовским утром в мансарду на Монмартре, где он тогда жил, принесли повестку. На площадь тихо падал запоздалый снег. Казалось, время остановилось.
Почтарь поднялся на седьмой этаж и, тяжело дыша, остановился у двери музыканта. Словно бы с сожалением, он постучался. Иоганн открыл и по взгляду пришедшего понял, что тот принес плохую весть.
— Похоже, Франция нуждается в вас, — сообщил почтарь.
С некоторой нерешительностью он протянул повестку. Иоганн спокойно встретил его взгляд, взял пакет, распечатал. Прочтя, он побледнел, поднял глаза на вестника и сказал:
— Вы оказались правы. Она действительно нуждается во мне. Но что я могу ей предложить, кроме жизни?
Почтарь ответил сочувственной улыбкой, и Иоганн прочел в ней что-то наподобие сострадания. И оттого ощутил непонятную неловкость.
Через несколько минут Иоганн спустился в кафе, где уже сидели другие новобранцы, и многим из них не терпелось поскорей отправиться вместе с тем двадцативосьмилетним генералом, которого Баррас[1] посылал вести итальянскую кампанию. Они выпили по стаканчику абсента, потом по второму, по третьему, жадно лаская взглядом пышную грудь хозяйки кафе, которая наконец-то стала смотреть на них как на мужчин.
— За Бонапарта!
— За Бонапарта!
— За Итальянскую армию!
Иоганн не стал предлагать тост. Он ограничился тем, что выпил вместе со всеми, после чего откланялся и поднялся к себе.
У себя в комнате он долго разглядывал те несколько вещиц, что остались после матери, попытался перебирать вспоминания, но ему стало так грустно, что он бросился на кровать, и очень скоро усталость и выпитое сморили его, и он заснул.
Когда он проснулся, день уже клонился к концу. На Париж опускались сумерки, в окнах загорались огни. Все было тихо и спокойно.
Иоганн достал из футляра скрипку, натер канифолью смычок и заиграл. Чудесная музыка напомнила ему былые успехи и былое великолепие.
Он знал, что жизнь его кончилась. На войне у него не будет досуга, чтобы следовать своей страсти. И он никогда не напишет задуманную оперу.
Ему был тридцать один год, он был переполнен мечтами и замыслами. Но война сделала выбор за него.
7
В Ницце, где Бонапарт назначил сборный пункт для своей армии, Иоганн Карельски распрощался с музыкой, славой, успехами. В эти тревожные времена искусство довольно долго удерживало его вдали от войны. Но на сей раз она его настигла.
По замыслу полководца, война эта должна была стать форсированным маршем на Вену. Первым делом следовало обойти Альпы.
2 апреля 1796 года армия выступила в поход. Итальянская кампания началась.
Но Италия не могла быть просто случайностью.
В этой стране родилась опера. Только этот сладостный, мелодичный язык способен был наилучшим образом передать всю красоту пения. Иоганн думал об этом с радостью, смешанной с печалью.
— Какое было бы счастье жить на этой земле!
Вот только пришел он в Италию не для того, чтобы жить; он здесь, чтобы умереть. Тут его ждет совсем другая музыка. Военный марш, скомпонованный из стрельбы, канонады, крови и смерти.
8
Значит, вот что такое война? Непрекращающаяся бойня, раненые и убитые вокруг, постоянный привкус грязи и крови во рту? Оборванные, грязные, вонючие солдаты, у которых не осталось ни хлеба, ни души? И этот оглушающий грохот, от которого чуть ли не лопаются барабанные перепонки, так что едва сдерживаешься, чтобы не заорать от боли?
Куда подевалась музыка, совсем еще недавно баюкавшая жизнь звуками его скрипки? Неужто же война — это всепожирающая, вечно ненасытная пасть?
Но его война продолжалась всего четырнадцать дней. 16 апреля в самом начале сражения при Монтенотте Иоганн был тяжело ранен. Он наступал в первой линии, и австрийский гусар вонзил ему в правый бок саблю. В тот же миг самого гусара поразила случайная пуля, и он выпустил клинок, который остался торчать в боку Иоганна. Уставившись тускнеющим взглядом в глаза того, кого он собирался убить, австрияк вцепился в Иоганна, жутко захрипел и медленно сполз с лошади на землю. Иоганн тоже рухнул наземь и потерял сознание.
Сражение вскоре закончилось, стрельба, пушечные залпы и звон оружия сменились тишиной.
Иоганн пришел в себя ночью. Поле битвы накрывал туман, и лишь иногда сквозь него пробивалась луна, рождая пугающие тени. Иоганн попробовал встать, но попытка эта отдалась жестокой режущей болью в паху. Сабля, пронзившая его насквозь, никуда не делась, и ее эфес возвышался у него над животом, словно крест, наспех поставленный над павшим. При любом движении, даже от пробегавшей по телу дрожи, лезвие все глубже и глубже входило в рану. От пронзительного холода кровь запеклась, и кровотечение остановилось. Однако стоит пошевелиться, и рана откроется, а это чревато смертоносной потерей крови.
Иоганн понимал: настал его смертный час Противиться бесполезно. Он в последний раз оглядел ужасное это поле, на котором мертвецы отплясывали вокруг него недвижную пляску смерти. Австрияк по-прежнему был рядом и по-прежнему безнадежно тянул руку к выпущенной сабле, и он так оскалился, словно смеялся над смертью. Справа на валуне лежал улан со вспоротым животом, несколькими шагами дальше валялся на боку его конь, и в ноздрях у него еще была пена после бешеной скачки. А слева на ветви дерева висела половина трупа пехотинца, которого разорвало пополам пушечное ядро. И все это дополнялось золой, столбами дыма, развороченными фурами, брошенным оружием, частями человеческих тел.
Вдали санитары с носилками искали раненых, чтобы отнести их в лазарет. Но чаще всего лежащие на поле битвы не подавали признаков жизни.
Иоганн увидел, что санитары проходят в нескольких шагах от него. Он попытался позвать их, но не смог издать ни звука. Горло так пересохло, что казалось, будто вместо языка у него жесткий камень с привкусом крови.
Санитары прошли мимо, и опять настала тишина.
Иоганн в последний раз взглянул на луну, на эфес сабли, поблескивающий над животом, и закрыл глаза.
Вдруг он услышал неподалеку шорох, что-то наподобие шелеста ткани на ветру. Может, легкое дуновение шевельнуло полу мундира застреленного рядом гренадера? Или это просто дыхание смерти?
Он открыл глаза.
На него смотрела женщина. Наездница в длинном черном плаще. Она неподвижно стояла, держа за уздечку черную кобылу. Иоганн чувствовал, что незнакомка пристально разглядывает его. В темноте глаза ее блестели, как два золотистых огонька.
Как ей удалось бесшумно подойти к нему? Уж не легчайший ли шелест, выдавший ее присутствие, сделал ее реальностью? Иоганн почувствовал какое-то таинственное дуновение, исходящее от этой женщины.
А она стояла, все так же не шелохнувшись. Казалось, женщина эта пришла наблюдать его агонию.
Иоганн вздрогнул, но тут же подумал, что пугаться чего бы то ни было уже поздно.
А незнакомка привязала лошадь к дереву, достала фляжку, подошла к Иоганну, приподняла ему голову и стала поить.
Потом женщина запела — в этом апокалиптическом окружении, среди ужаса и смерти. И пела она таким чистым, таким завораживающим голосом, что Иоганн забыл и про свою рану, и про боль от нее. Она пела долго, быть может, даже всю ночь, и только ему одному.
А закончив петь, она наклонилась к нему и поцеловала. В тот миг, когда ее губы коснулись его, Иоганн снова погрузился в забытье.
9
Когда Иоганн очнулся, старший лекарь в лазарете при главной квартире перевязывал ему раны, дыша в лицо табаком и чесноком.
При этом он разговаривал с человеком, перепоясанным генеральским шарфом, на лицо которого падал свет сальной свечки.
— Скажите, доктор, этот солдат уже вне опасности?
— Для него, мой генерал, война закончена. Можете считать, что это герой… потому что до завтра он не доживет.
Иоганн схватил лекаря за руку и из последних сил прохрипел:
— Я хочу умереть прямо сейчас! Мне больно! Помогите мне умереть!
Доктор взял его ладонь в обе руки и стал успокаивать:
— Не возбуждайтесь так, поберегите силы. Это ничего вам не даст. Могу вам поклясться, вы умрете очень скоро.
— Я больше не хочу приходить в себя. Послушайте, скажите генералу, что я больше не желаю воевать. Скажите Бонапарту, что я уже умер!
Хирург вытер пот со лба Иоганна, поднял голову и взглянул на офицера, который по-прежнему стоял рядом. Казалось, он о чем-то молит Бонапарта взглядом.
— Мой генерал, прошу вас, скажите что-нибудь этому человеку.
Генерал безразлично глянул на раненого и бросил:
— Отваги! Не падать духом! Нам не страшны ни смерть, ни враги!
Но Иоганн уже потерял сознание. Он так и не услышал, что изрек Бонапарт.
10
Иоганну Карельски не дано было стать героем. Он выжил.
На следующий день к нему вернулось сознание, а еще через день жизнь его была вне опасности.
Сражаться он был не способен и потому пребывал в арьергарде с другими ранеными. Несколько долгих месяцев он выздоравливал, потихоньку набирался сил. Несколько долгих месяцев единственным его занятием было ждать, когда заживет рана, хотя в душе у него полностью она так никогда и не зарубцевалась.
Итальянская кампания шла более чем успешно. Сражения следовали одно за другим, и неприятель нес тяжелые потери. Армия непрерывно продвигалась вперед. Каждый день в лазарет поступало множество новых раненых. Издалека доносились крики гренадеров.
Иногда по вечерам Иоганн брал скрипку и играл для своих товарищей. Главным образом для раненых и умирающих. Несколько раз приходил священник со святыми дарами, желая облегчить умирающим отход в иной мир. И музыка пусть чуть-чуть, но смягчала печаль этих мгновений.
А потом Иоганн решил ходить вместе с санитарами на поле боя. И, стоя на вершине холма, он при свете луны играл для раненых, но в глубине души лелеял надежду, что и мертвые тоже слышат его.
Когда же рана закрылась, зарубцевалась, он возвратился в свой полк. Возвратился в мир живых, в мир крепких, здоровых людей, которые, казалось, были отлиты из стали, людей, ставших бесчувственными от ужасов войны.
В палатке в первый же вечер Иоганн взял скрипку и заиграл. Однополчане бросали на него испепеляющие взгляды. Для них война звучала совершенно иначе, и в их сердцах, привычных к канонаде, к ярости сражений, не осталось места для доброты.
— Кончай! — бросил Иоганну один из них. — От твоей музыки впору завыть. Сыграй-ка нам лучше сигнал атаки.
Смычок замер в воздухе, затем опустился на струны, заглушив их звучание. Без единого слова Карельски улегся на походную кровать.
Проснувшись утром, он увидел возле кровати сломанную скрипку. Карельски так никогда и не узнал, кто это сделал.
Он никого не расспрашивал и даже не пытался найти совершившего это злодеяние.
Иоганн знал, что в конце концов война уничтожит и его самого, как она уничтожила его скрипку.
11
16 мая 1797 года, когда французская армия вошла в Венецию, ощущение было, будто она поражена молчанием. Грабежи, вопли и людская ярость кристаллизовались под воздействием красоты и недвижности этого дивного города. Но более всего Иоганна потряс покой, каким дышала любая улочка, мир и спокойствие, которых он не знал уже много месяцев.
Светлейшая республика[2] одиннадцать столетий противостояла вторжениям варваров и благодаря могучему флоту распространила свое влияние даже на Ближний Восток. Но внезапно она оказалась стертой с карты Европы. И теперь вооруженные чужестранцы полагали себя ее владыками.
— Венеция, — сказал Карельски старшему лекарю, — это не город. Это сон, возникший на берегу моря.
Впервые после ранения война подарила ему чуточку радости. Радости вступить победителем в город своих снов.
Столько чудес, пришедших из глубины веков, столько золота, столько шедевров, явленных взорам этих грязных, вонючих, изнемогающих от усталости людей, поистине могли родиться только в сновидении.
Вслушавшись в тишину города, Иоганн воскликнул:
— Вот она, великолепная Венеция, которую я ждал!
На самом деле он ошибался. Но не знал про то. Да, Венеция — это был величественный корабль. Но только корабль этот во многих местах давал течь.
Венеция прекрасна. Она изобилует золотом, драгоценностями, картинами, дворцами, тишиной и водой. В течение нескольких дней французская армия реквизировала золото, драгоценности и картины. Она заняла дворцы, нарушила тишину. А затем продолжила свой поход на еще не завоеванную Европу. Бонапарт, целью которого была Вена, не хотел, чтобы армия задерживалась в Венеции. Он прекрасно помнил, чего стоило Ганнибалу пребывание его войска в Капуе.
Армия свернула лагерь и покинула окрестности города. Но несколько частей были оставлены в городе гарнизоном. Раненный в сражении Иоганн Карельский был приписан к одной из них.
Ему предстояло пробыть полгода в самом молчаливом городе мира. В идеальном месте, чтобы вернуться к музыке. В городе, словно созданном для того, чтобы писать в нем оперу.
12
Квартировать ему назначили у старика, владевшего большим домом на улице Моисея неподалеку от площади Святого Марка.
Когда он явился туда с выданным в комендатуре билетом на постой, то понял, что война затронула отнюдь не всех.
— Иоганн Карельски. Рад, сударь, познакомиться с вами.
— Эразм. Чему, сударь, могу быть полезен?
— Я — француз. Мне назначили квартировать у вас на все время, что я пробуду в Венеции.
Старик не произнес ни слова в ответ. Он стоял, словно остолбенев.
— Мне бы не хотелось, сударь, чтобы мое вторжение доставило вам неприятности, — сказал Иоганн. — Я постараюсь быть как можно незаметнее и не причинять вам беспокойства.
При этих словах чуть заметная улыбка тронула губы Эразма, но этого оказалось достаточно, чтобы в сердце Иоганна шевельнулась радость.
— Благодарю вас, сударь, за вашу предупредительность, но просто я уже слишком стар, чтобы интересоваться этой войной. Мне довелось слышать разговоры про Бонапарта, и если Венеция теперь принадлежит французам, что ж, мне ничего не остается, кроме как смириться с этим.
Старик изъяснялся на хорошем французском. Он посторонился и пригласил Иоганна войти. Карельски кивком поблагодарил его и улыбнулся:
— Где вы научились так замечательно говорить на нашем языке?
— В Париже. Но это было давно.
— Не сочтите за нескромность с моей стороны, но что вы делали в Париже?
— Делал скрипки. Я — скрипичный мастер.
Иоганн с изумлением взглянул на Эразма:
— Вы сказали, скрипичный мастер?
— Да. Вам это кажется странным или смешным?
— Нет, нет, ни в коем случае. Просто я подумал, что наша встреча произошла не без участия богов.
На том плоту тишины, какой являет собой Венеция и который с каждым днем все глубже погружается в море, без счета музыкальных душ.
И первой в их ряду была душа Иоганна Карельского.
Второй — душа Эразма.
Третьей же была душа войны.
Но о музыке, что мила ей, Иоганн и Эразм никогда не говорили.
Каждое утро Иоганн с огромным сожалением уходил из дома скрипичного мастера и отправлялся в штаб гарнизона. Там он изнывал от скуки. В сущности, делать ему было нечего. Несколько раз ему поручали заполнять какие-то формуляры, но это было еще тоскливей, чем безделье.
Четвертого июня, в Троицын день, на площади Святого Марка был устроен пышный праздник, в котором участвовали и французские и итальянские офицеры. Штандарты Венеции были заменены трехцветными флагами Французской республики. А в завершение торжества были преданы сожжению «Золотая книга»[3] и знаки власти дожа.
В театре «Ла Фениче»[4] дали великолепный оперный спектакль. То была выставка роскоши и богатства. Куда ни глянь — шелка, парча, кружева. Венеция хотела чувствовать себя счастливой под властью нового господина.
Иоганн участвовал в этих празднествах нехотя и лишь по долгу службы. Он страшно устал от ужасов и грязи войны. По вечерам он не оставался пьянствовать с однополчанами, а спешил вернуться в дом Эразма.
— Так что же, вам безразлично, кем быть — австрийским, французским или итальянским подданным? — полюбопытствовал Иоганн у Эразма в первый же день их знакомства.
Склонясь над верстаком, скрипичный мастер старательно и осторожно полировал деку[5].
— Моя истинная родина — музыка. Все прочее меня мало интересует. Но вы человек военный, и вам, вероятно, этого не понять.
— Вы заблуждаетесь, сударь. Солдатом я стал лишь по несчастному стечению обстоятельств. А на самом деле я — музыкант.
Удивленный Эразм поднял глаза и внимательно посмотрел на Иоганна:
— И на каком же инструменте вы играете?
Наступило долгое молчание, во время которого оба не отводили друг от друга глаз. Наконец скрипичный мастер снова принялся полировать деку, которую он не выпускал из рук, и тут Иоганн произнес:
— На скрипке.
Эразм прекратил работать. Голос Иоганна, когда он произносил слово «скрипка», чуть заметно дрогнул. Старик взглянул в глаза французу и понял, что тот говорит правду. Он снял скрипку, что висела над верстаком, и протянул ее Иоганну со словами:
— Продемонстрируйте же ваше искусство.
Карельски, который уже несколько месяцев не прикасался к инструменту, неторопливо вдохнул запах покрытого лаком дерева и долго гладил скрипку с такой нежностью, словно это была женщина. Затем привычным, грациозным движением он поднес скрипку к плечу, прижал ее подбородком, взял смычок и заиграл. Негромко и медленно. А потом все быстрей и быстрей. Стремительно до головокружения. Играл он недолго, но блистательно, а когда после серии пиццикато, исполненных со сверхъестественной скоростью, прекратил, то еще несколько долгих секунд стоял, замерев, с закрытыми глазами, внутренне трепеща от счастья и словно бы одурманенный музыкой.
Он открыл глаза и увидел, что старый мастер впился в него взглядом. Внешне невозмутимый Эразм, похоже, не находил слов. Он неподвижно сидел в кресле. Наконец на губах у него появилась улыбка и после бесконечного, как показалось Иоганну, молчания он воскликнул:
— Добро пожаловать в страну музыки! Добро пожаловать в обитель Эразма!
14
Дом скрипичного мастера Эразма, вне всяких сомнений, принадлежал к самым старым и самым неудобным во всей Венеции, но зато он обладал самой фантастической душой. Стоял он на улочке, уровень которой был ниже уровня лагуны, так что ему суждено было исчезнуть одному из первых в тот день, когда Венеция будет поглощена морем.
В жизни Эразм довольствовался самой малостью. Смело можно было бы утверждать, что питался он в основном музыкой. И очень скоро Эразм уже не мог обходиться без Иоганна.
Эразм похвастался, что он является обладателем трех вещей, каких нет ни у кого, — черной скрипки, обладающей необыкновенным звучанием, шахматной доски с фигурами, которую он называл волшебной, и исключительной водки. А ко всему прочему он был одарен тремя талантами: во-первых, он бесспорно был лучшим скрипичным мастером в Венеции, во-вторых, никогда не проигрывал в шахматы, и в-третьих, гнал самую замечательную водку в Италии. Для этого в задней комнате при мастерской у него был установлен перегонный куб. С утра он реставрировал скрипки или делал новые, днем гнал водку, а вечером играл в шахматы в состоянии радостного хмеля, какой дарили ему эти три его страсти.
Ему незнакомо было чувство голода. Эразм неизменно бывал сыт, и неважно чем — музыкой, исключительной своей водкой или игрой в шахматы.
Когда же он бывал навеселе, то становился безумно словоохотлив. И если он говорил не о скрипках, то, значит, говорил о водке. Ну, а если не о водке, то о шахматах. Но если не о шахматах, то о музыке. А если уж не о музыке, то, значит, просто молчал.
Именно в мастерской старого мастера, ставшего его другом, Иоганн за бесконечной партией в шахматы ежевечерне набирался вдохновения, необходимого для создания задуманной им оперы.
15
— А это интересно — гнать водку? — поинтересовался в один из вечеров Карельски у своего нового друга.
— Восхитительно! — ответил Эразм.
На шахматной доске черный слон защищал королеву.
— Чтобы получить водку исключительного качества, необходимы любовь и время.
Иоганн оторвал взгляд от шахматных фигур и, глядя Эразму в глаза, задумчиво повторил:
— Любовь и время…
Он пошел конем и открыл своего короля, чем немедленно воспользовался Эразм, объявив шах. Через три хода последовал мат.
— И много нужно любви и времени?
— Не слишком много, но и не слишком мало. Зависит от возраста. Мат!
Эразм встал, взял два бокала, наполнил их напитком медового цвета и один протянул скрипачу:
— Попробуйте, Иоганн! Первый глоток — это огонь! Второй — бархат! А третий — вообще сказка!
Карельски выпил ровно три глотка с расчетливой неспешностью, и скрипичный мастер отечески поглядывал на него.
— Времени, — словно бы с сожалением промолвил Эразм, — у меня не так уж много… Ну, а что до любви…
Он нахмурил брови, поморщился и протяжно вздохнул.
16
— А шахматы — действительно интересно? — полюбопытствовал на следующий день Иоганн.
— Захватывающе! Но чтобы стать хорошим игроком в шахматы, нужно быть немножко сумасшедшим. Надо мысленно представлять себе шахматную доску с шестьюдесятью четырьмя черными и белыми клетками до тех пор, пока не стронешься от этого рассудком. Это единственная игра, которая взывает к безумию. Потому-то я и играю в шахматы.
— Не уверен, достаточно ли я безумен для этой игры.
— Если вы каждый день будете играть против воображаемого противника, как это делаю я вот уже пятьдесят четыре года, можете быть уверены: вы станете сумасшедшим.
На самом-то деле Иоганн был безразличен и к спиртному и к шахматам. Он заводил о них разговор лишь для того, чтобы сделать приятное Эразму. Единственно, что его по-настоящему захватывало, это музыка. И больше всего интересовала его черная скрипка, что висела на стене над верстаком мастера. Такая прекрасная, такая влекущая, такая очеловеченная, что Иоганну она временами казалась прямо-таки живым существом.
17
— А играть на черной скрипке интересно? — спросил Иоганн на третий день.
Эразм взглянул на него и чуть побледнел.
— Я не советовал бы вам даже прикасаться к ее струнам.
— Почему? Неужто она настолько плоха, что даже не заслуживает того, чтобы на ней играли?
— Совсем напротив! Это самый лучший инструмент из всех, что я знаю. Достаточно даже вздоха, чтобы вызвать в ней вибрацию. Но музыка, которую она рождает, до того необычна, что может полностью переменить жизнь того, кто играет на ней. Это как счастье. Стоит однажды изведать его, и оно метит вас, точно каленым клеймом. Примерно то же самое происходит, если играешь на черной скрипке.
— А вы играли на ней?
— Один-единственный раз. Но страшно давно. После этого я ни разу не брал ее в руки. Это подобно любви. Когда единожды испытаешь ее — я говорю о настоящей, о великой любви, — не остается ничего другого, кроме как заставлять себя забыть о ней. Нет ничего ужасней, чем единственный раз в жизни испытать счастье. После этого все прочее, даже самые незначительные события, воспринимаешь как безмерное несчастье.
18
В тот вечер, придя к себе в комнату, Иоганн приписал несколько нот к партитуре своей оперы. После чего лег спать, и всю ночь ему снилась черная скрипка.
Встав утром, он бросил рассеянный взгляд на свой труд и обнаружил нечто совершенно невероятное: тетрадь его была столь же девственно чиста, как и в тот день, когда он ее купил. За ночь весь его труд испарился.
Чуть ли не с минуту Иоганн стоял, словно пораженный громом, не в силах собрать мысли. И тут ему вспомнился вчерашний разговор с Эразмом и сон, который ночью снился ему. Что-то во всем этом было тревожное. Но может, ему вообще все приснилось? Может, он ничего и не записывал в тетрадь?
Весь день Иоганн пребывал при исполнении служебных обязанностей и не думал о том, что случилось. Однако вечером, вернувшись в дом Эразма, он первым делом направился в мастерскую, чтобы взглянуть на висящую на стене черную скрипку.
И тут Иоганн понял, что именно она и есть причина всего. А принимает это его рассудок или нет, не имеет никакого значения.
19
А спустя несколько дней Иоганн говорил о вдохновении, о музыке, рождение которой он ощущает в себе, но которую по каким-то таинственным причинам ему никак не удается перенести на бумагу, и вдруг с удивлением услыхал, как Эразм задает ему вопрос:
— А когда же можно будет услышать вашу оперу?
Иоганн так растерялся, что не мог выдавить ни слова. Впервые Эразм заговорил с ним о его музыке. Обыкновенно старик-мастер, слушая его, лишь кивал головой, так что Иоганн долго пребывал в убеждении, что Эразм даже не пытается вникать в его слова, а может, вовсе и не слышит их.
Эразм повторил вопрос:
— Так когда же вы завершите свою оперу?
— Сейчас пока рано об этом говорить. Но если все пойдет хорошо, через месяц-другой.
Месяца через два скрипичный мастер снова задал вопрос о его опере.
— Сколько же страниц в вашей партитуре?
Иоганн не без удивления услышал свой ответ, причем произнесенный самым серьезным тоном:
— Сто шестьдесят семь.
— И сколько нот?
— Семнадцать тысяч шестьсот двадцать три, не считая пауз.
— И сколько вы уже написали?
Тут Иоганн промолчал.
По правде сказать, чем дальше он продвигался в сочинении своей оперы, тем все более призрачной и воображаемой становилась она.
20
Иоганн очень долго не решался признаться в этом старику-мастеру.
И однако как-то вечером все-таки не удержался. Семь раз он пытался записывать сочиненную музыку в тетрадь. И семь раз опера испарялась с ее страниц.
Они сидели за столом, ели фазанью курочку, запивая ее «вальполичеллой»[6]. Уже пошел октябрь. Каждый вечер солнце чуть раньше скрывалось за лагуной. Особых поводов для пиршества не было, разве что смерть лета и появление первого инея. Вино, вобравшее в себя благоухание итальянской земли, было как мягкое напоминание о летнем зное и так стремительно отлетевшем блаженстве.
Иоганн уже было решился облегчить душу.
Эразм однако опередил его:
— Я чувствую, вы что-то хотите мне сказать.
Молодой человек долго сидел, не отрывая глаз от тарелки, прежде чем нашел в себе силы спросить:
— Как ты догадался?
Впервые Иоганн обратился к скрипичному мастеру на «ты». Но Эразм не оскорбился. В этот миг они чувствовали себя настолько близкими друг другу, что для того, чтобы воспринимать некоторые вещи, слова были лишними.
— Ну, это было несложно. Последнее время у тебя такой озабоченный вид. Скажи, что у тебя не так.
Карельски отпил глоток вина и в нескольких словах поведал историю с тетрадью.
— Иоганн, тебе, должно быть, приснилось. Подобные вещи случаются только во сне.
— Клянусь тебе, вовсе нет. Должно быть, существует нечто, не дающее мне писать.
— Чары?
Иоганн хотел сказать про черную скрипку, но в последний момент остановился.
— Быть может…
Он чувствовал за спиной ее присутствие, и оно наполняло его непонятной тревогой.
— В таком случае придется ждать, — произнес Эразм, вставая из-за стола и усаживаясь в кресло.
На шахматной доске черный конь защищал королеву. Иоганн тоже поднялся из-за обеденного стола и уселся напротив скрипичного мастера. Тот достал бутылку водки, и они продолжили партию, прерванную накануне вечером.
— Чего ждать?
— Что что-то произойдет.
— Не понимаю.
— Это называется надеяться. Придет день, и ты напишешь свою оперу. И сыграешь ее. Быть может, всего один-единственный раз, только для себя, но все равно сыграешь. Без надежды счастье на земле невозможно.
Иоганн медленно повторил вслед за Эразмом:
— …счастье на земле невозможно… Но счастье существует только в снах! Знаешь, я тебе об этом никогда не рассказывал, но, представь себе, ночью — той самой ночью, когда я лежал раненый на поле битвы, — ко мне пришла женщина… думаю, мне это приснилось, но с тех пор она является в мои сны…
— Подожди, когда сон осуществится и ты освободишься. В конце концов так происходит всегда. Надо только ждать.
— Долго?
— А время тут не имеет значения. Несколько секунд или несколько столетий, это одно и то же. Ожидание всегда кончается освобождением.
— Всегда? — спросил Иоганн.
— Всегда! — ответил Эразм.
Иоганн вздохнул и сделал ход. Черной королевой.
— Не знаю, хватит ли у меня терпения, — промолвил он.
Но решил ждать.
21
На следующий день, усаживаясь за шахматную доску, чтобы продолжить партию, которую они прерывали каждый вечер, Эразм сказал Иоганну:
— Прежде чем написать оперу, тебе нужно ее прожить.
— А знаешь, ты прав, — согласился Иоганн. — Мне это и в голову даже не приходило. Более того, я никогда не думал, что от того, что живешь, тоже может быть какой-то прок.
— Более того, я знаю, как сделать твою жизнь интересной.
— Да? И как?
— Тебе нужно отправиться на поиски сна, который постоянно возвращается к тебе.
— И где же его искать?
— Да где угодно по всему свету. Но главным образом в себе.
Иоганн удивленно взглянул на старого мастера. Потом, не думая, сделал ход слоном, отведя его на семь горизонталей назад.
— Каждой душе положен свой сон. И, видя каждую ночь в сновидениях эту прекрасную и странную женщину, ты подтверждаешь это правило.
— Прекрасней всего в снах то, что они не ставят никаких пределов и одаряют тебя любыми возможностями.
— Разумеется. Во сне возможно все.
— И как же сделать, чтобы так же было и в жизни?
Эразм ответил не сразу. Он долго не отрывал глаз от шахматной доски. Взял королевой слона Иоганна. Потом выпил глоток водки, взглянул на висящую на стене черную скрипку. И только после этого повернулся к Иоганну и произнес:
— Видишь ли, в конце концов сны необходимо разрушать.
22
В одно из ноябрьских воскресений, когда Венецию засыпал снег, Иоганн Карельски отправился в церковь Сан-Дзаккария, где отслушал вечерню. Когда же она закончилась, он, оставшись один в доме Божьем, опустился на колени и погрузился в молитву.
И тут он внезапно услышал, как зазвучал женский голос, исполняющий прекрасную хрупкую мелодию. Дрожь пробежала по его телу. То был какой-то неземной голос. Услышав его, Иоганн невольно подумал о Боге.
Он не знал, откуда доносится этот напев и к кому он обращается. Для него это оставалось тайной. Но в одном Иоганн был совершенно уверен: голос этот в точности был похож на голос незнакомки, которая в ночь после сражения при Монтенотте подкрепила его тело водой, а душу пением и тем самым спасла от неминуемой смерти. И эта мелодия, и этот тембр, которые так часто звучали в его снах, могли принадлежать только той прекрасной женщине. Это несомненно была она.
Иоганн потихоньку приходил в себя от ошеломления, а музыка заполнила церковь, заполнила его душу, завладела и умом его, и телом. Он столько раз надеялся, что это произойдет, хотя еще несколько секунд назад был уверен в неисполнимости своих надежд.
Голос этот звучал не только для Бога. Иоганн знал, что он звучит и для него. Он был твердо убежден в этом. То был голос из его оперы, но ведь и опера его создавалась ради этого голоса. Эта женщина, эта незнакомка была в определенной мере владычицей сна, что жил в нем. А он владел частью ее души. И это было бесспорно.
Потрясенный Иоганн не поднимался с колен, и по телу его пробегал трепет счастья и наслаждения. Он не осмеливался открыть глаз, боясь, что чары исчезнут и голос смолкнет. Ему так не хотелось, чтобы пение прекратилось. Надо немножко подождать, чуть-чуть подождать, чтобы что-то произошло, чтобы нечто сформировалось, возникло и выросло в нем. Это будет как нарождение. Как роды. Как боль. Как рождение на свет в муках и наслаждении некой части его души.
Но пение смолкло, и он открыл глаза. Медленно, нерешительно встал с колен и принялся искать взглядом незнакомку. Но никого не было. Даже признаков присутствия человека. Было только отсутствие музыки и молчание этого голоса.
Он был один. Один — с этим голосом в себе и вокруг себя.
И опять она ускользнула.
Близкий к помешательству, Иоганн бежал до самого дома Эразма.
23
Рассказывая скрипичному мастеру о голосе, что звучал в церкви, Иоганн обратил внимание, как заблестели у того глаза.
— Значит, и ты тоже встретил ее? Ты тоже наконец разрушил сон?
Наступило молчание. Иоганн не знал, что ответить.
— Ты знаешь, кто она? — продолжал задавать вопросы Эразм. — Знаешь, что это за голос?
Ответом опять было молчание.
— Очень я опасаюсь…
Их взгляды одновременно устремились к инструменту, висящему на стене.
— Сядь, Иоганн, мне нужно тебе кое-что рассказать.
Молодой человек сел, и пока Эразм наливал ему рюмку водки, его вдруг осенило, что старик-мастер счел, что настал момент открыть ему тайну черной скрипки.
II
24
По странной душевной наклонности, граничившей порою с безумием, я посвятил всего себя одной цели, и цель эта была — претворить музыку в жизнь. Я хотел, чтобы обо мне говорили: «Эразм, величайший скрипичный мастер всех времен». Я знал, что во мне есть толика гениальности.
Когда начиналась эта история, я был совсем еще юн. Жил я далеко от Венеции, в городе, который называется Кремона и который является тем местом, где впервые начали изготавливать скрипки. Именно там в начале шестнадцатого века и появилась скрипка. И там я научился искусству скрипичного мастера.
Мне было предназначено учиться на скрипичного мастера, но я мечтал о большем. О стократ более значительном, великом. Я хотел создать самую прекрасную скрипку на свете, идеальную скрипку, обладающую столь совершенным звучанием, что любой играющий на ней обращался бы ее звуками к небесам и говорил с Богом.
25
С детства я любил музыку и служил ей. И, служа музыке, я хотел служить Богу. Вовсе не из тщеславия, а убежденный, что я наделен неординарным талантом и небывалой волей, а также тем настроем души, который делает некоторых людей гениями или безумцами, что, как известно, в сущности, одно и то же.
Всю жизнь я посвятил одному — совершенствованию в своем искусстве. Я вставал по утрам, ел, пил, прогуливался, спал, — но все это я делал ради музыки. Небывалой музыки, которую я хотел заключить в мои скрипки.
Эта совершенная музыка, по сути дела, человеческий голос. Голос женщины. Женщины, которую я знал лучше, чем себя самого. Голос, который я знал лучше, чем собственный. Однако голос этот, к величайшему моему сожалению, я слышал только во сне.
26
Я знаю лишь один инструмент, звучание которого сродни человеческому голосу. Это скрипка. С того самого момента, когда я впервые ощутил вибрацию, которую порождает соприкосновение смычка с четырьмя струнами скрипки, моя страстная любовь к этому инструменту ни на йоту не уменьшилась. Скрипка — это голос.
Как-то отец исполнил при мне пиесу, взволновавшую меня до глубины души.
— Вот именно такое я и хотел бы делать, — сказал я ему, как только он отложил смычок.
— Ты хочешь стать скрипачом?
— Не только. Я хотел бы создавать скрипки, которые обращаются к человеческому сердцу. А еще — сделать самую прекрасную скрипку на свете.
Он как-то строго смотрел на меня, правда, строгость эта смягчена была интересом, который вызвали у него мои слова.
— Ты и впрямь хотел бы заниматься этим ремеслом?
— Да, — решительно ответил я.
— Что ж, прекрасно. Завтра пойдем поглядим, есть ли у тебя к нему способности.
На другой день он привел меня в мастерскую Франческо Страдивари, отец которого, прославленный Антонио Страдивари, недавно умер.
27
Франческо Страдивари был человеком другого времени. Обладая большими познаниями, он, однако, не был одарен гениальностью своего знаменитого родителя. Когда он принимал меня в ученики, семейное их дело клонилось к упадку. Самому же Франческо оставалось жить чуть более года. Золотой век кремонских скрипичных мастерских подходил к концу.
Франческо был немногословен. Свои радости и горести он выражал музыкой. Играл он много и подолгу, сложив заботы по изготовлению скрипок на подмастерьев. Правда, подписывал он инструменты своим именем, а иногда, когда дело касалось исполнения заказа какой-нибудь высокопоставленной особы, так даже отцовским именем.
Великие мира сего уже с давних пор стремились быть обладателями «Страдивари», сколь бы ни была высока цена. К придворному оркестру, если в нем не было инструментов мэтра Антонио, относились чаще всего с пренебрежением, и знаменитые солисты просто-напросто отказывались играть в нем. Так что короли, князья и герцоги, как истые меценаты, готовы были платить огромные деньги, лишь бы приобрести для своей капеллы одну или несколько скрипок, сделанных великим Страдивари.
Как-то шведский король прислал своего капельмейстера приобрести небольшой альт для своего сына. Посланец уточнил, что, само собой разумеется, король желает иметь только «Страдивари». Однако все инструменты мастера Антонио были давно уже проданы. Но Франческо решил проблему, отдав королевскому посланцу за очень неплохую цену инструмент, который он только что закончил. Табличка на альте гласила:
Franciscus Stradivarius Cremonencis
Filius Antonii facebiat Anno 1742 [7]
Через два месяца посланец шведского короля приехал снова.
— Его величество король Швеции в бешенстве, — объявил он. — Купленный им альт оказался не настоящим «Страдивари».
После чего он достал набитый золотом кошелек и бросил на стол.
— Полагаю, этого вам хватит?
Не промолвив ни слова, Франческо взял альт и с грустью оглядел его.
Посланец с тревогой смотрел на мастера, который, похоже, был в ярости.
— Ах, не настоящий «Страдивари»! — пробормотал Франческо сквозь зубы. — Ну что ж, вы получите у меня настоящего «Страдивари»!
Он стремительно направился в мастерскую и заперся в ней. Слышно было, как он что-то там делает. Но вот после довольно долгого отсутствия он вышел, держа в руках инструмент, почти в точности похожий на тот, который ему возвратили. Но на табличке этого альта было написано:
Antonius Stradivarius Cremonensis
Facebiat anno 1737 [8]
Рассказывают, будто шведский король оповестил чуть ли не всю Европу о том, что купил буквально на вес золота последний инструмент, сделанный мастером из Кремоны.
Франческо же, разумеется, всего-навсего сменил табличку на альте, увеличив этой простейшей операцией стоимость инструмента в десятки раз.
Вот так благодаря королю Швеции Франческо разбогател. Но одновременно с богатством к нему пришла желчность.
Франческо Страдивари утратил иллюзии и был исполнен горечи, что, в сущности, свойственно человеку, который понимает, что является хранителем беспримерного знания, но видит, как с каждым днем оно понемногу растрачивается впустую. Слава великого отца бросала на него тень, мешавшую ему исполнять в полную силу и с чувством удовлетворения свой труд художника. А вскоре он вообще перестал брать в руки рабочие инструменты, ограничившись надзором за тем, как трудятся подмастерья.
Поутру, проснувшись, он первым делом брался за скрипку и играл для разминки пальцев арпеджио. Затем переходил к более трудным пиесам и под вечер наконец решался сыграть несколько мелодий собственного сочинения.
Когда кто-нибудь из учеников набирался смелости задать ему вопрос, Франческо брал скрипку и играл до тех пор, пока не чувствовал, что в слушателе рождается волнение. Тогда он останавливался и наставительно говорил:
— Когда вы сможете своей игрой на скрипке вызвать слезы, вы поймете, что голос ваш вам абсолютно без надобности.
Думаю, Франческо понимал, что является всего лишь сыном величайшего скрипичного мастера всех времен, и это повергало его в глубокое отчаяние.
В отличие от своего молчаливого учителя, я был юноша весьма кипучего нрава. Моя внутренняя музыка проявлялась в беспрестанной болтовне, криках, гневе, взрывах смеха, одним словом, в звуковых колебаниях всевозможного рода. Если душа Франческо Страдивари жаждала тишины, моя впитывала в себя звуки, как губка.
Между пустотой и вибрацией не было у музыки инструмента лучшего, нежели моя страстная любовь к скрипке. Страстная любовь сродни той, какую испытывал великий Страдивари, которого я ни разу не видел, но которого — и в этом я был убежден — знал лучше, чем кто-либо другой.
28
Долго еще после смерти Антонио Страдивари мастерская была наполнена вибрацией его необыкновенной энергии.
То была вибрация, неощутимая для большинства смертных, но явственная для некоторых чувствительных душ, и меня она пронизывала всякий раз, когда я входил в помещение, где трудился мастер. В то время как Франческо в разбросанных по всей мастерской частях инструментов — дек, грифов, завитков — видел всего лишь свалку деревянных деталей, что предназначены для изготовления вещи, производящей звуки, пусть даже особенные и необыкновенные, я провидел в них чудесное проявление равновесия, позволяющего сотворять звук, который соединяет человеческий мир с миром небесным.
29
Привел меня к созданию черной скрипки сон.
Я был неисправимый сновидец. Днем я грезил с открытыми глазами в мастерской, а всю ночь смотрел сны. То было единственное занятие на земле, кроме изготовления скрипок, которое дарило мне счастье.
Причем каждую ночь я видел один и тот же сон. Этакую историю без начала и конца.
Мне являлась женщина. Я не знал о ней ничего, не знал, как она выглядит, какое у нее лицо, фигура. Но ее золотой голос, звучавший в моих сновидениях, пронзал мне сердце, стоило только мне его услышать.
В сущности говоря, я был влюблен в несуществующую женщину.
Каждую ночь ко мне возвращался один и тот же сон. И так продолжалось долгие годы. Я иду по незнакомому городу и, свернув за угол узкой улочки, вдруг слышу скрипку. Влекомый ее голосом, я спешу по пустынным улицам, залитым ледяным лунным светом, и подхожу к каменному мосту через канал, в черной недвижной воде которого отражается маска, скрывающая лицо. На мосту стоит женщина, играющая на скрипке. Она стоит ко мне спиной. Телом и душой очарованный этой музыкой, я приближаюсь к женщине и касаюсь рукой ее плеча. Она поворачивается, и мне открывается нечто невероятное: она вовсе не играет на скрипке! На самом деле она сама — скрипка! Вся — от бедер до талии, от талии до шеи. Тело ее, плавное и округлое, имеет форму скрипки. А у голоса, который я принял за скрипичный, такое хрустальное звучание, что он кажется сверхчеловеческим. В руках она держит партитуру оперы и поет арию — дивная, божественная музыка просто льется из нее. Она раскрывает мне объятия, призывая меня к себе, и в тот момент, когда я готов ее обнять, прижать к себе, и женщина-скрипка, и музыка, и сон исчезают в пламени. С криком я просыпаюсь.
Каждое утро я пытался воспроизвести на одной из своих скрипок необыкновенное звучание того голоса, однако мне ни разу не удавалось достичь такой степени совершенства.
Я никому не рассказывал этот странный сон. Ни Франческо Страдивари, к которому я испытывал подлинную и нежную дружбу, ни товарищам по мастерской, которые работали рядом со мною.
В 1743 году Франческо умер, и с ним угас прославленный род Страдивари.
Подмастерья, работавшие в его мастерской, покинули Кремону и разъехались искать счастья по другим городам Европы.
В мастерской остался я один. Дела шли все хуже и хуже.
Однажды граф Ференци, венецианец, бывший проездом в Кремоне, пришел заказать скрипку. Был он безмерно богат, преисполнен надменного сознания собственной значительности и вызывал какое-то тревожное чувство. Граф путешествовал в собственной карете с двумя слугами, которые повсюду сопутствовали ему. В мастерской он пробыл недолго, объяснив, что ему срочно надо возвращаться в Венецию.
— Работать вам придется быстро, так как я желаю, чтобы инструмент мне был доставлен в первое воскресенье октября. Это мое непременное условие.
— Но у меня остается совсем мало времени…
— Назовите вашу цену, я не намерен торговаться.
Я на секунду задумался и понял, что выбора у меня нет. Но опыта и знаний у меня было вполне достаточно, чтобы в одиночку исполнить графский заказ.
— Если потребуется, я буду работать днем и ночью, — пообещал я. — Я сам приеду в Венецию и вручу вам заказанный инструмент в назначенный вами день и час.
Заплатив мне, граф откланялся.
Я заперся в мастерской и в тот же день приступил к работе.
Скрипку я решил делать по образцу, который начертил Антонио Страдивари. Но чтобы сделать по нему инструмент, необходимо было следовать многим сложным требованиям, установленным мастером, и прежде чем взяться за дело, мне пришлось долго их изучать. Через несколько недель инструмент вчерне был готов. Я проверил его акустические свойства, нашел их превосходными и приступил к нанесению лака. Наконец я натянул струны. Моя первая скрипка была готова, я держал ее в руках. Я заиграл на ней и не без гордости понял, что из меня получился недюжинный скрипичный мастер.
Да, мне удалось, трудясь днем и ночью, в невероятно короткий срок сделать очень неплохую скрипку.
В первое октябрьское воскресенье я на рассвете отправился в Венецию.
31
Мне было в тот день двадцать лет, и я впервые приехал в Венецию. Я был тогда обладателем двух чистых и прекрасных вещей — скрипки и сердца. Откуда мне было знать, что и та, и другое будут разбиты. Навсегда.
32
Больше всего меня поразила, когда я оказался в Венеции, легкость, которую я ощутил во всем своем существе, а еще экзальтация чувств, неожиданная радость бытия, жажда любви. О, Венеция была великолепной декорацией для любви.
Настала осень. И как раз начинался карнавал, то был его первый день. Венецианцы были счастливы. На полгода Венеция превращалась в какое-то фантастическое место. До самого Великого поста все будут швыряться деньгами только ради того, чтобы потешить глаз.
До города я добрался на гондоле, которая причалила у дворца Ференци. То было красивое, истинно венецианское здание в три этажа, парадный вход которого выходил на Большой канал. Фасад цвета охры, хоть местами и облупившийся, величественно отражался в черной воде. Я выпрыгнул из гондолы и позвонил в дверь. Мне открыл ливрейный лакей.
— Мое имя Эразм. Я приехал к графу Ференци и должен отдать ему скрипку.
— Извольте, сударь, подождать. Я доложу его сиятельству графу. Ежели желаете, соблаговолите…
Я прошел в огромный вестибюль. Лакей попросил меня подождать здесь, а сам пошел наверх. Я воспользовался его отсутствием, чтобы осмотреться, причем я не упускал ни малейшей подробности.
Пол в вестибюле был выложен из прекрасных фаянсовых плиток черного и белого цвета, чередующихся на манер шахматной доски. На стенах, окрашенных в теплые цвета, висело много картин, по большей частью изображающих виды лагуны в разное время года. В углах стояли мраморные скульптуры, представляющие обнаженных женщин. Из сводчатых окон, выходящих на канал, открывался, несмотря на утренний туман, великолепный вид. У подножия лестницы я заметил прекрасную консоль из розового мрамора, на которой лежала серебряная табакерка. Этот вестибюль как бы давал первое представление о чудесах, скрытых во дворце.
Однако невозможно было отделаться от мысли, что дворец графов Ференци, эта архитектурная жемчужина, стоит, как и вся Венеция, на сваях, забитых в ил, и все золото мира не сможет спасти его от погружения в море. Постаревший город скрывал свои морщины роскошью, шелками и драпировками. Ему хотелось видеть себя прекрасным и сильным, а меж тем от него осталась одна лишь былая слава. Я заметил, что лестничная стена местами потрескалась и что блеск давнего великолепия этого здания уже не способен скрыть безжалостные следы, оставленные временем.
Вскоре вышел граф.
Мне он показался таким же странным, как и в прошлую нашу встречу. В точности как и его дом, он хотел бы производить впечатление цветущего, однако чувствовалось, что он нездоров и стар.
— Чему я обязан?
— Мое имя Эразм. Я привез вам скрипку, которую вы заказали мне сделать.
— Ах да, припоминаю. Но я заказал ее не для себя, а для моей дочери Карлы. Она предназначена в подарок Карле на день рождения, который совпадает с первым днем карнавала. Каждый год у меня одна и та же проблема. У нее уже столько всего! Всякий раз я мучительно придумываю, что бы ей подарить — украшения, драгоценности, наряды?.. Но, надеюсь, на сей раз я нашел действительно оригинальное решение.
Граф понизил голос, как бы подчеркивая этим доверительность:
— Она приедет только сегодня вечером, и мне хотелось бы, чтобы вы собственноручно преподнесли ей скрипку. Что же до меня, я вынужден немедленно отправиться в Верону, куда меня, к сожалению, призывают дела. И отсутствовать я, увы, буду довольно долго. Могу ли я позволить себе еще раз вас затруднить?
— К вашим услугам.
— Прекрасно. Приходите сюда сегодня вечером, когда стемнеет. Я даю большой праздник по поводу начавшегося карнавала. Маскарадный костюм можете выбрать по вашему усмотрению. И преподнесите от моего имени эту скрипку Карле. Я вам буду безмерно признателен.
— Хорошо, ваше сиятельство, вечером я буду.
Граф поблагодарил меня и произнес, словно бы обращаясь к самому себе:
— Тут ведь еще одно дело накладывается. Завтра моя дочь поет в театре «Ла Фениче», и мне бы очень хотелось ее послушать.
— Ваша дочь — певица?
— Нет, нет, просто я снимаю для нее на вечер «Ла Фениче». У нее сопрано очень красивого тембра. Если у вас будет досуг, не преминьте, сходите послушайте ее. Говорят, у нее золотой голос. Если вы однажды услышите его, вы его никогда не сможете забыть.
Я обещал последовать его совету.
— Очень хорошо, просто прекрасно. А сейчас прошу меня простить, но время не ждет. Прощайте, сударь.
Я откланялся и покинул дворец.
33
До вечера я бродил по Венеции. Праздник только-только начинался. В воздухе чувствовался запах свободы, и кое-где уже ощущались игривые, легкомысленные ароматы.
На террасе траттории неподалеку от площади Сан-Анджело я отведал каракатицу, сваренную в ее собственных чернилах.
Во второй половине дня я без всякой цели бродил по улочкам, переходил через мосты, не выбирая маршрута, стараясь затеряться в городе.
Несколько раз мне встречались куртизанки в черных домино, треуголках и белых масках, и все они смеялись над моим видом.
Чтобы не подвергаться больше насмешкам, я осведомился, где можно приобрести маскарадный костюм.
Облачившись в него, я прошел в центр города, где праздник был уже в самом разгаре и было полно маскированных, жонглеров, акробатов и музыкантов.
Карнавал начался дождем конфетти и серпантина. На набережной давал представление глотатель огня, которого вскорости сменила труппа актеров.
Я смешался с толпой и иногда даже осмеливался заводить разговор с незнакомцами. Когда все в масках, неизвестно, к кому ты обращаешься. С кем пытаешься заговорить — с герцогиней, с прачкой, с мужчиной, с женщиной? И кто кроется под твоим костюмом? Разве, спрятавшийся под черной полумаской, я не могу оказаться одним из здешних вельмож, почтенным старцем, а то и самим дожем? Или, скажем, лазутчиком? А почему уж тогда не разбойником наихудшего свойства?
Приехав в этот город, я тут же погрузился в веселое безумство карнавала. И отныне не существовало ничего невозможного.
Я свернул на какую-то улочку, а там шла игра в кости. Один из игроков придвигал к себе кучу цехинов, меж тем как остальные, пытаясь пересилить судьбу, угрюмо извлекали из карманов последние деньги, чтобы поставить их на кон. Привалясь к перилам моста, маскированные цепляли прохожих, высмеивая их и крича дерзости. Веселые гондольеры с шутками-прибаутками пытались вытянуть у меня монету-другую. Канатоходец в белом медленно скользил по канату над водой. За углом следующей улочки я услыхал звуки флейты, и какой-то назойливый Пульчинелла схватил меня за руку и втянул в хоровод. Весь город превратился в безграничный театр, где соперничали сновидение и безумие.
Спустились сумерки.
Каналы потемнели, их чернильная вода поглощала отражение луны. Улицы опустели, и во дворцах стали зажигаться окна.
Заметно похолодало. Пришло время продолжать праздник в домах.
Перед дворцом Ференци меня встретил Арлекин.
— С маскарадным костюмом запрещается носить шпагу, — объявил он мне.
Я удивленно взглянул на свой бок и тут же понял, почему он мне это сказал.
— Это не шпага, — рассмеялся я, — это скрипка!
И я показал ее.
— Вы опаздываете. Музыканты уже давно пришли.
Я не стал объясняться. Арлекин исчез, а я вошел во дворец.
Праздник проходил в салонах. В трех из них, расположенных анфиладой, около огромных мраморных каминов стояли столы. В глубине на эстраде оркестр играл вальс.
На столах царила невероятная роскошь: золотые блюда со множеством всевозможных яств, сластей, закусок, хрустальные графины с белым и красным вином; столовая посуда из позолоченного серебра. И совершенно сказочными были туалеты дам. Каждая старалась превзойти остальных яркостью красок и оригинальностью фасона.
Я пребывал в некоторой растерянности. К счастью, я заметил того самого лакея, который утром докладывал обо мне графу.
— Где мне найти дочку графа, синьорину Карлу?
Лакей воздел руки к небу:
— Откуда же мне, сударь, знать? Все в масках!
И он заторопился в сторону кухни.
Я осмотрелся вокруг. Было больше двухсот приглашенных, и все переодеты, все в масках. Как найти Карлу Ференци?
Окончательно обескураженный, я решил передать инструмент слугам и уйти, но тут мне в голову пришла одна мысль. Я достал скрипку и заиграл печальную и томную мелодию.
Меня окружили несколько человек. Они перешептывались, пытаясь угадать, кто скрывается под маской.
Когда я кончил играть, молодая женщина, очарованная мелодией, спросила у меня:
— Кто вы? Мне в жизни не доводилось слышать такой чудесной музыки.
— А вы случайно не Карла Ференци?
Женщина рассмеялась:
— Вполне возможно.
И она растворилась в праздничной толпе.
— Вы ищете Карлу? — вполголоса поинтересовалось какое-то странное существо, получеловек, полуптица, слышавшее наш разговор.
— Да. Я должен вручить ей от имени ее отца эту скрипку.
— Вы найдете ее у себя в комнате. Это туда, — сообщил маскированный, махнув рукой в сторону монументальной лестницы.
— А она разве не участвует в празднике?
— Карла? Да что вы! Это может повредить ее голосу. Завтра вечером она поет в «Ла Фениче».
— Вы хотите сказать, что она сидит у себя в комнате, когда весь город веселится? И все потому, что это может повредить ее голосу?
Под птичьей маской, скрывающей лицо моего собеседника, раздался звук, напоминающий смешок. Его явно развеселило мое невежество.
— Сразу видно, что вы никогда не слышали, как поет наша prima donna[9].
34
Я покинул салон и поднялся по лестнице.
На втором этаже я увидел дверь, приоткрытую в неярко освещенную комнату. Стараясь ступать бесшумно, я вошел в нее.
Карла сидела в просторном кресле и словно бы дремала. В ней не было ничего от тех фантастических масок, среди которых я находился всего минуту назад. Но, оказывается, она не спала и обнаружила мое присутствие в комнате почти в ту же секунду, когда я вошел. Она подняла на меня глаза, и я мгновенно был пленен их красотой. Глаза у нее были черные-черные, бесконечно глубокие, а главное, необыкновенно живые. Волосы, тоже черные, составляли контраст белой коже. На ней было платье из черного бархата, ниспадавшее мягкими складками до самого пола.
Она посмотрела на меня довольно холодно, словно спрашивая, на каком основании я вторгся к ней в комнату. И я как будто со стороны услышал, как лепечу объяснения:
— Синьорина, эту скрипку ваш отец заказал мне сделать для вас. В подарок к вашему дню рождения. И он также настоял, чтобы я самолично вручил ее вам.
Чувствовалось, что она испытала облегчение.
— Скрипку? Какая чудесная мысль! А то я уже подумала, что отец забыл про мой день рождения.
Стоило мне услышать ее голос, как я понял, что передо мной женщина, которая является ко мне в сны вот уже несколько лет, и почувствовал, что готов умереть за нее.
Я приблизился к Карле, достал из футляра скрипку и протянул ей.
Она сказала:
— Как любезно с вашей стороны, что вы ее мне принесли.
Она подняла скрипку, прижала ее подбородком и спросила:
— Я могу испробовать ее прямо сейчас?
— О, прошу вас.
Я подал ей смычок, и она заиграла. Играла она довольно слабо, но в движениях ее была какая-то необыкновенная грациозность.
— У этого инструмента поразительный звук, — сказала она, прекратив играть. — Я могу только поздравить вас с тем, что вы смогли сделать такую скрипку. Но вы, наверное, считаете, что я играю чудовищно скверно?
Да, так оно и было, но то, что она плохо играет на скрипке, для меня не имело никакого значения.
— Этот инструмент сделан специально для вас. Я убежден, вы очень быстро освоитесь с ним.
Она еще немножко поиграла, потом положила смычок и скрипку на низкий столик рядом с деревянными шахматами тонкой работы.
— Прекрасная вещь, — заметил я, рассматривая фигуры.
Карла улыбнулась.
— Вы играете в шахматы? — поинтересовалась она.
— К сожалению, нет.
— Если хотите, я могу вас научить.
— О, я был бы безмерно счастлив. А я буду учить вас играть на скрипке.
Карла издала короткий смешок и повернулась ко мне. Своими черными глазами она впилась в мои глаза и, казалось, проникла в самые душевные глубины. Сквозь полуоткрытую дверь доносились голоса, музыка.
— А этот шум, эта суматоха не мешают вам отдыхать?
— Нет, — ответила она. — Мне нравится, когда звучат музыка, пение, смех. От этого я испытываю счастье.
— И вы не скучаете тут в одиночестве, когда весь дом веселится?
— Ничего не поделаешь, сегодня вечером я должна отдыхать. А потом, карнавал только-только начинается. Позже я возьму свое.
— Вы так оберегаете голос, да?
— Значит, отец уже рассказал вам, что я пою?
— Да. И более того, он сообщил мне, что у вас необыкновенный, незабываемый голос. Золотой.
— Он, как всегда, преувеличивает. Да, у меня сопрано, и мне часто случается петь для моих друзей у них в домах либо здесь, во дворце Ференци. Но завтра вечером я по случаю своего дня рождения буду петь в театре «Ла Фениче». Отец снял его для меня. Не соблаговолите ли прийти послушать?
Я довольно долго не отвечал, но только ради удовольствия молчать и любоваться ею.
— Вынужден признаться, синьорина, что я безумно заинтригован и сгораю от нетерпения услышать ваш голос. Можете быть уверены в том, что завтра я непременно буду в театре.
— В таком случае до завтрашнего вечера.
— До свидания.
Я поклонился, вышел, пятясь, из комнаты и, бесконечно взволнованный, сбежал по лестнице.
В залах веселье было в самом разгаре. Но мыслями и сердцем я был не с развлекающимися гостями.
35
Всю ночь я не сомкнул глаз: так много места в моих мыслях занимали воспоминания об этой женщине. Карла стояла перед моим взором настолько живая и реальная, что я просто не мог замкнуть ее в сновидении.
Ранним утром я отправился ко дворцу Ференци. Сидя в покачивающейся на волнах гондоле, я высматривал малейшие признаки жизни в окне на втором этаже, но оно еще было закрыто ставнями.
Над Большим каналом, охваченным утренней дремой, стелилась легкая пелена туманной дымки. Гондольеры, развозившие товары на рынки, в молчании проплывали мимо меня, скользя по воде, как испуганные тени, и исчезали в лабиринте этого необыкновенного города.
Я долго сидел так, не сводя глаз с окна Карлы. Я был влюблен, как влюбляются только в юности, и бег времени для меня ничего не значил.
За всю свою жизнь я ни разу не был так счастлив, как в то утро, во время затаенного ожидания, отрешенный от всего, что не есть любимое существо. Никогда еще не было у меня такого напряженного, наполненного ощущения жизни, как в те минуты. Я больше не был один.
Наконец Карла открыла ставни своей комнаты и заметила меня. Похоже, она удивилась, увидев меня под своими окнами.
— Что вы тут делаете? — крикнула она.
Смущенный, я не нашел ничего лучше, чем соврать:
— Вчера вечером я, кажется, забыл футляр.
Через минуту она спустилась вниз и разговаривала со мной, стоя в дверях:
— Футляр? Какой футляр?
— Той скрипки, что я вам принес.
— А, понятно. Я знаю, где он.
Она собралась подняться наверх за футляром, но я удержал ее за руку.
— Не надо, — сказал я. — Он вам пригодится. А у меня в Кремоне много других футляров.
Она улыбнулась.
— Ну, раз вы так щедры… Подождите меня, я сейчас вернусь.
Она отсутствовала несколько минут и возвратилась с теми самыми шахматами.
— Примите эти шахматы. Мне помнится, вчера вечером вы ими восхищались. А вам еще не поздно научиться в них играть. Ну что ж, мы квиты.
Мне столько хотелось сказать ей. Но я сумел лишь пролепетать:
— Карла… я хотел бы сказать вам… Вы самая…
Она положила палец мне на губы:
— Прошу вас, не надо ничего говорить. Возьмите шахматы и уходите. Мы увидимся сегодня вечером в театре.
Смеясь, она захлопнула дверь. На Венецию и на лагуну лег густой туман.
36
Жизнь — это театр, и дается в нем одно единственное представление.
В тот вечер голос Карлы Ференци был самым чистым и самым божественным из всех людских голосов. Он был в точности подобен голосу, звучавшему в моих сновидениях.
Вся Венеция собралась в «Ла Фениче» ради наслаждения послушать этот голос. Вход был свободный при условии, что вы будете в маске.
Театр был забит — от балкона до оркестровой ямы; все перемешались, все шумели, напевали, разговаривали. Тема разговоров была одна — Карла.
— Говорят, это самый красивый голос на свете!
Вскоре погас свет, и все смолкли. Поднялся занавес. Оркестр заиграл увертюру, и опера началась.
Несколько певцов и певиц сменяли друг друга с переменным успехом. К концу первого акта публика принялась кричать:
— Prima donna! Prima donna!
Все ждали Карлу. Ведь все пришли сюда ради нее.
Выход Карлы был только во втором акте. Когда она появилась на сцене, по театру пробежал ропот:
— Наконец-то!
— Это она! Карла Ференци!
Всеобщее напряжение и возбуждение дошли до предела.
Карла, вся необычайно воздушная, подошла к рампе и запела. В тот же миг на лицах зрителей отразилось волнение. Ее голос заполнил театр.
В конце арии она взяла такую высокую ноту и держала ее так долго, что у меня даже сердце захолонуло.
На мгновение весь театр затаил дыхание. Подобно странному всеобщему оцепенению, повисла тягостная тишина. Затем раздался шепот, несмелые комментарии, почти сразу же сменившиеся всеобщим гулом одобрения.
А потом — это было как взрыв — крики, аплодисменты, перешедшие в громовую овацию.
— Brava!
— Evviva la prima donna![10]
У Карлы был еще один выход — всего-навсего! И она опять пела. И опять повторилось волшебство.
Чуть только упал занавес, я помчался к ней в уборную.
Она, едва увидев меня и почувствовав, что я сейчас заговорю, даже не дала мне открыть рта:
— Ради Бога, молчите! Никогда ничего не говорите! Ни слова о моем голосе!
Как все прочие, я был восхищен, и она это знала.
— Я не провалилась, нет? Кажется, я держала ноту на несколько мгновений меньше, чем следует?
— Вы были просто великолепны! Какой триумф!
— А вы знаете, один скрипач из оркестра играл на вашей скрипке и говорит, что он в восторге от инструмента.
Я поблагодарил ее за комплимент и пробормотал что-то невразумительное. Она же, поправляя прическу, повернулась ко мне:
— Чтобы отметить мой успех, я сегодня вечером устраиваю еще один небольшой праздник. Не хотите ли присоединиться к нашей компании?
Я не знал, что ответить.
— Можете быть спокойны, никакой официальности и торжественности. Я пригласила только нескольких друзей, все будет очень просто.
— Я буду безмерно счастлив. Это моя последняя ночь в Венеции, и для меня не будет большего удовольствия, чем провести ее в вашем обществе.
— В таком случае договорились. Приходите в полночь. Я вас жду.
Он улыбнулась мне и повернулась к зеркалу. В дверь постучали. А вскоре уборная была буквально взята приступом, и толпа восхищенных поклонников скрыла от меня Карлу.
Я тихо удалился, но еще долго до меня долетали голоса из уборной Карлы.
Я вышел из театра, и душа моя разрывалась от двух противоположных чувств: счастья, оттого что я скоро опять увижу Карлу, и горя, оттого что затем я расстанусь с нею навеки.
37
Когда пробило полночь и я постучал в дверь дворца Ференци, у меня не было ни малейших иллюзий, я знал, что Карла никогда не будет моей и навсегда останется недостижимым сном. Кто был я? Всего лишь скромный скрипичный мастер, а она — дочь венецианского графа. Я — никому не ведомый ремесленник, который в полной безвестности трудится у себя мастерской, а ей только что вся Венеция аплодировала — да как! — в «Ла Фениче». Какой коварный бес подстроил так, что я встретил Карлу и влюбился в нее?
Открывший мне лакей узнал меня.
— Синьорина ждет вас, — сообщил он.
Я вошел и, еще снимая плащ, услыхал доносящийся из гостиной смех. Неслышно ступая, я прошел туда.
Карла, когда я вошел в гостиную, полулежала на кушетке, одна нога подогнута, вторая — прямая — положена на подушку, левая рука на подлокотнике, а правой она медленно поглаживала свои черные как смоль волосы. А вокруг стояли шестеро молодых людей и восхищенно впивали, как нектар, каждое ее слово. Но очень скоро мое присутствие было обнаружено и разговор смолк.
— Господа, это Эразм, тот самый скрипичный мастер, о котором я вам рассказывала, — объявила Карла.
— Ваш покорный слуга, синьорина.
Начался обряд представления, и я почувствовал, что этим молодым венецианским дворянам и дела нет до скромного скрипичного мастера, пусть даже он выходец из лучшей кремонской школы.
Едва я со всеми раскланялся, как тут же один из них бросил мне:
— Карла утверждает, что вы, несмотря на вашу молодость, один из самых даровитых скрипичных мастеров своего поколения и что скрипке, сделанной вами для нее, просто цены нет. Должен ли я понимать это так, что вы обучались своему искусству у великого Антонио Страдивари?
— Не непосредственно у него, однако я действительно прошел учение в его мастерской. Я — ученик его сына Франческо.
— А, значит, все так, как я и думал, — вступил в беседу второй. — Этот инструмент похож на один из тех, что я имел возможность видеть в Кремоне. Вы, как я полагаю, всем обязаны таланту ваших предшественников. Надо думать, вы ограничиваетесь тем, что подражаете им, работаете по их образцам?
Я повернулся к наглецу и смерил его взглядом:
— Хорошенько запомните: скрипичный мастер должен обладать совершенно иными талантами, нежели дар подражательства. У каждой скрипки свое особое звучание и ни с чем не сравнимые свойства, которыми она обязана только своему создателю. И еще накрепко зарубите, что хотя все скрипки похожи, каждая из них уникальна.
— Прекратите, господа, прекратите, — вмешалась Карла, явно забавляясь нашей стычкой. — Когда же мужчины перестанут ссориться, пытаясь удовлетворить свое тщеславие?
Воцарилось довольно тягостное молчание.
— Карла, — попросил кто-то, — а может, вы нам споете?
— Спойте, спойте что-нибудь!
Некоторое время она отнекивалась, но мы настаивали, и она, понимая, что нужно несколько разрядить атмосферу, уступила нам.
— Но только чуть-чуть, господа, потому что я боюсь, что голоса у меня осталось совсем немного.
Закрыв глаза, она некоторое время собиралась, потом чуть разомкнула губы, и полился дивный напев.
О, этот голос! О, звук ее голоса! Я был совершенно без ума от него. Я хмелел от музыки, потрясенный ее колдовским голосом, доставлявшим мне такое безмерное счастье.
А когда она закончила петь, я, разумеется, аплодировал громче всех.
— Ну сейчас-то вы спорить со мной не станете, — внезапно обратился ко мне тот самый наглец, — если я скажу: вот голос, с которым никогда не сравняется ни один инструмент.
Я же довольно язвительно ответил:
— Вы ошибаетесь. Скрипка — это тот инструмент, который ближе всего к женскому голосу. Причем она покрывает весь регистр от сопрано до контральто. И между прочим, существует несомненное сходство между женской фигурой и формой скрипки.
— Вы хотите сказать, что скрипка и женщина это одно и то же?
— Да, я так считаю.
— Пожалуй, вы правы, — согласился мой оппонент. — Надо признать, что между ними существует поразительное сходство. Но на этом основании думать, будто возможно в деревяшке воспроизвести голос — да еще какой голос! — это уже слишком даже для вас.
— Я вовсе не думаю, я утверждаю это, — решительным тоном объявил я.
— Ну, тут вы хватили, синьор скрипичный мастер!
Понимая, что спор наш вот-вот может непозволительно обостриться, Карла решила его прервать. Глядя на меня своими бездонными глазами, она спросила:
— Значит ли это, дорогой Эразм, что вы готовы подтвердить делом свои слова и воспроизвести мой голос в одном из ваших инструментов?
Мой оппонент, решив, что Карла встала на его сторону, расхохотался, чуть ли не в лицо мне.
Наступила долгая чудовищная пауза, во время которой я буквально кожей чувствовал устремленные на меня взгляды.
— Пожалуйста, Эразм, ответьте, — настаивала девушка.
Наверно я слишком далеко зашел в своей гордыне, но у меня не было иных способов объясниться в любви к этой женщине. Я произнес безрассудную фразу:
— Карла, я сделаю самую прекрасную в мире скрипку. Сделаю только для вас одной. И у нее будет ваш голос.
Я не знал, что, совершив это, я погублю ее, да и себя тоже.
38
Я возвратился в Кремону и тотчас набросился на работу.
Голос Карлы и ее изящный силуэт запали мне в память. Я решил создать единственную в мире скрипку, основываясь на этих воспоминаниях.
Я выписал из Тироля благороднейшую древесину ели, чтобы выточить верхнюю деку и душку[11]. Для изготовления нижней деки, обечайки[12], кобылки[13] и грифа я выбрал клен из Богемии, самый прочный, какой только может быть. Верхнее покрытие грифа, струнодержатель и порожек были сделаны из самого твердого эбенового дерева. И вот наконец после нескольких месяцев упорного труда, после сборки всех деталей скрипки воедино я принялся за изготовление лака, составив его из растительных субстанций.
Несколько недель выжидал я, прежде чем осмелился сыграть на этой скрипке. Ранним утром, исполненный беспокойства, я извлек первую ноту. Это была катастрофа.
Я сделал совсем не то. Звучание скрипки ничуть не было похоже на голос Карлы.
В бешенстве я швырнул инструмент на пол, да так, что корпус раскололся, а струны лопнули.
И тогда-то я произнес клятву, о которой не перестаю сожалеть и сегодня:
— Клянусь, я не успокоюсь до тех пор, пока не воспроизведу ее голос на скрипке такой же черной, как ее глаза.
Да, именно тогда мне и пришла в голову мысль сделать черную скрипку.
39
Я стоял у верстака, и тут меня озарило.
А почему не создать скрипку, полностью подобную Карле? Ведь ежели я хочу воспроизвести ее голос, разве не должен я вдохновляться линиями ее тела и начинать именно с этого? Но мне надо было, и теперь-то я это понимал, делать скрипку черную, как ее глаза и волосы.
Я вспомнил, что в библиотеке мастерской находится небольшой трактат, написанный рукой Антонио Страдивари, и в нем есть упоминание о том, как изготовить скрипку, основным материалом для которой служит эбеновое дерево. Я отыскал его и, к своей безмерной радости, обнаружил в нем секретный рецепт изготовления черного лака, лака, который я до сей поры ни разу не использовал. Пользуясь этими бесценными сведениями, я погрузился в работу.
Изготовление корпуса инструмента, а главное, резонатора оказалось делом очень непростым. Эбен, или черное дерево, отличается невероятной твердостью и при работе с ним требует значительных усилий и абсолютной точности. Сборка тоже оказалась чрезвычайно трудной, но я был безмерно терпелив и благополучно справился с ней. Наконец, лакирование, а я производил его тщательно и не торопясь, тоже заняло у меня несколько недель.
Но вот спустя еще два месяца я впервые в жизни держал в руках великолепную черную скрипку.
Испробовать ее я решил вечером в грозу.
За окном дул свирепый порывистый ветер, и молнии раздирали небо. Последний слой лака высох, и уже можно было проверить звучание инструмента.
Я взял скрипку и ласково погладил лаковую поверхность. Дерево запело у меня под рукой. И я понял, что держу незаурядный, единственный в своем роде инструмент.
Я схватил смычок и стал играть.
Смычок скользнул по струнам, как оброненное птицей перо по муаровой поверхности воды. Раздался первый звук — то был женский голос. Сопрано.
Трепеща от счастья, я несколько мгновений стоял в полной отрешенности, осознав, что все-таки исполнил свою самую заветную мечту.
Всю ночь я играл на черной скрипке, как не играл ни на каком другом инструменте. Мне чудилось, что я сжимаю в руках тело Карлы.
40
Спустя несколько дней я опять приехал в Венецию. Была зима. Acqua alta[14] затопила город, и на некоторых улочках Светлейшей глубина воды достигала метра. Но горестная эта картина оставила меня безразличным. Я думал только об одном: чтобы Карла поскорей услышала звучание черной скрипки.
Казалось, будто дворец Ференци медленно опускается в воды лагуны. Гондолу мне пришлось причалить к решеткам окна, поскольку набережная была вся под водой. Волны набросали зеленые водоросли на высокие ступени крыльца.
На сей раз дверь открыл мне не лакей, а сам граф Ференци. К моему великому удивлению, щеки у него ввалились, лицо стало желто-воскового цвета, и взгляд был какой-то остекленевший. Выглядел он так, словно на него свалилось безмерное горе.
— Синьор Эразм, — промолвил он, увидев меня, — само небо посылает мне вас. Быть может, вы сможете нам помочь.
— Что случилось? Вы заболели?
Он извлек из кармана носовой платок и промокнул лоб.
— Нет, не я. Я чувствую себя по-прежнему неплохо.
Граф прикрыл ладонью рот и прошептал:
— Речь о Карле.
— О Карле? Что с ней?
— Ах, если бы я знал. Внезапно она заболела. И вот уже десять дней не встает с постели.
— Могу я видеть ее?
Не дожидаясь ответа, я прошел в вестибюль, устремился к лестнице и, перескакивая через три ступеньки, помчался наверх. Распахнул дверь и увидел Карлу, лежащую в постели, бледную, больную. Видно было, что ей плохо. Ступая на цыпочках, я приблизился к ней.
— Что с вами, Карла? — с трудом выдавил я.
Она медленно повернула ко мне голову, и по выражению ее глаз я понял, как она страдает.
— Взгляните, я привез вам обещанную скрипку. Послушайте, как она звучит! Послушайте этот дивный инструмент!
Я всего-навсего провел смычком по одной струне, но этого оказалось достаточно, чтобы Карла ужаснулась. Пытаясь удержать меня, она коснулась моей руки, а взглядом, казалось, умоляла не играть больше.
— Ужасное несчастье поразило нас, — сообщил присоединившийся к нам граф. — У дочери, после того как она заболела, не проходит лихорадка, и врачи не могут найти причину болезни. Вот уже больше недели бедная моя девочка пребывает между жизнью и смертью.
Я смотрел на Карлу, на ее печальное лицо.
— А главное, — продолжал граф Ференци, — и это самое ужасное, после того проклятого вечера, когда она заболела, у нее пропал голос!
В голове у меня помутилось, я почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног, и мне пришлось, чтобы не упасть, ухватиться за притолоку.
— Что с вами? — встревожился граф.
— Ничего страшного. Небольшая слабость.
Я бросил последний взгляд на лицо Карлы и увидел, что она плачет. Неверным шагом я вышел из комнаты и выбежал из дворца.
III
41
Иоганн долго сидел, не произнося ни слова.
Он выпил рюмку водки, глядя в глаза Эразму, после чего они начали очередную партию в шахматы.
— Ты потом видел ее?
— Нет, ни разу.
— Так, значит, в Венеции ты поселился из-за Карлы Ференци?
— Да. Из-за нее. Но я не сразу переехал в Венецию. Я же тебе рассказывал. Я путешествовал. Из Кремоны поехал в Париж, там делал скрипки, однако главная причина моего бегства — попытка забыть эту историю. Но когда я понял, что забыть мне ее никогда не удастся, я отправился в Венецию. Только было уже поздно. Карла умерла.
Эразм замолчал, и Иоганн понял, что старик-мастер больше ни слова не скажет.
В этот вечер Эразм проиграл партию. Такое случилось впервые.
Но ведь впервые он и рассказывал о себе. Рассказал о себе нечто существенное.
С первыми лучами рассвета, когда партия была закончена, Эразм сказал Иоганну:
— А ты знаешь, что это волшебные шахматы?
— Нет.
— На этой доске и с этими фигурами ты никогда не проиграешь. До тех пор, пока ты им не изменишь. Бери, отныне они твои.
42
Зимние дни еле-еле ползли. Ни Иоганн, ни Эразм больше ни разу не упомянули про Карлу.
В конце декабря Эразм слег от какой-то непонятной болезни. Лихорадка не отпускала его.
В бреду, преодолевая одышку, он повторял имя:
— Карла… Карла… Карла…
Три раза.
Иоганн молча сидел у постели Эразма, и сердце у него сжималось.
На следующий день у Эразма отнялся язык.
43
Эразм умер во сне утром 1 января 1798 года.
На заупокойной службе по нему пел хор мальчиков. У одного из них был голос поразительного тембра, исполненный печали, с оттенками глубинной скорби, передать которую способны были бы только лучшие скрипки усопшего мастера. Вместе с Эразмом, достойным учеником Антонио Страдивари, ушел секрет изготовления самых великолепных скрипок на свете.
После отпевания в церкви Сан-Дзаккария гроб погрузили на черную гондолу, и погребальная эта ладья поплыла из города к кладбищу Сан-Микеле. Иоганн Карельски был одним из участников траурного кортежа, и у него было такое чувство, будто он присутствует на собственных похоронах.
В Венеции шел дождь. Мелкий, частый дождь. Слышался только стук капель, падающих на Большой канал, плеск волн, бьющихся о борта гондол, да иногда жалобный плач ветра среди камней.
Погребальный кортеж причалил к пристани некрополя, и гроб был опущен в могилу. Скрипач бросил на гроб скрипичного мастера горсть черной земли и осенил себя крестным знамением. Затем торопливо покинул кладбищенский остров и до самой Венеции ни разу не оглянулся.
44
Возвратясь в мастерскую Эразма, Иоганн принялся расхаживать по ней, внимательно рассматривая каждую вещь, принадлежавшую покойному мастеру. Сердце у него сжималось от скорби, и через некоторое время он сел за шахматную доску, но вдруг одним исполненным горечи движением сбросил все фигуры на пол.
В тот же миг он услышал странные звуки. Музыку, доносящуюся непонятно откуда.
Иоганн медленно прошел к темному углу, где, как ему казалось, и звучала эта музыка. Он зажег свечи в канделябре и осторожно приблизился к таинственному источнику звуков. Им оказалась черная скрипка.
С тысячей предосторожностей Иоганн снял ее со стены, осмотрел со всех сторон, взял смычок и, закрыв глаза, заиграл. Первая же нота заставила его вздрогнуть. Как ни невероятно это может показаться, но черная скрипка — и теперь Иоганн был полностью уверен в этом — обладала способностью сводить с ума того, кто играл на ней.
Но Иоганн продолжил играть на ней, словно из вызова, правда, очень недолго, а потом с яростью размахнулся и швырнул ее на пол.
Ударясь об пол, инструмент раскололся, издав странный звук, похожий на женский крик.
Не помня себя, Иоганн выскочил из дома и бежал, пока хватило дыхания.
45
Через несколько дней французская армия оставила Венецию, и вместе с нею Иоганн вернулся в Париж.
Ему не суждено было больше увидеть Италию.
Иоганн Карельски еще тридцать один год сочинял свою единственную оперу. Тридцать один год он пытался освободиться от голоса, от сна, пытался забыть историю, рассказанную Эразмом, и забыть про черную скрипку.
И все эти годы он ни разу не взял в руки смычок.
В тот день, когда Иоганн Карельски написал последнюю ноту последнего такта своей оперы, он вдруг понял, что весь его труд был напрасен. Ибо никто никогда не сможет спеть его произведение так, как спела бы Карла Ференци.
И тогда по странной душевной настроенности, поистине граничившей с безумием, он взял тетрадь, в которую тридцать один год записывал ноты, и бросил ее в камин. И через несколько секунд труд его жизни исчез в огне.
— Ну вот, — прошептал Иоганн Карельски, — я и покончил с этой историей.
Он растянулся на кровати, ощущая в теле усталость, но в душе был покой, и тут впервые в жизни Иоганн Карельски понял, что он счастлив.
Он написал свою воображаемую оперу.
В ту же ночь он умер — умер, даже не осознав этого, во сне, всецело захваченный сновидением.
И никто никогда не узнал, что он был гений.
Примечания
1
Баррас Поль (1755–1829) — французский государственный деятель, один из руководителей термидорианского переворота 1794 г., самый влиятельный член Исполнительной Директории, управлявшей после переворота Французской республикой; покровительствовал молодому Наполеону Бонапарту, а затем способствовал захвату им власти. (Здесь и далее примеч. переводчика.)
(обратно)2
Светлейшая республика — наименование Венецианской республики в XV–XVI вв.
(обратно)3
Золотая книга — регистр всех благородных фамилий Венеции, члены которых могли занимать высшие государственные посты в республике.
(обратно)4
Ла Фениче (Феникс) — главный городской театр Венеции, открытый в 1792 г. на месте сгоревшего в 1773 к самого большого венецианского театра Сан Бенедетто (откуда и название — Феникс).
(обратно)5
Дека (от нем. Decke — крышка) — верхняя (с резонансными отверстиями) и нижняя часть корпуса скрипки, служащая для усиления и отражения звука; изготавливается из т. н. резонансной древесины.
(обратно)6
Вино из Ломбардии.
(обратно)7
Франческо Страдивари из Кремоны Сын Антонио. Сделал в году 1742 (лат.).
(обратно)8
Антонио Страдивари из Кремоны. Сделал в году 1737 (лат.).
(обратно)9
Примадонна (итал.).
(обратно)10
Браво!
Да здравствует примадонна! (итал.)
(обратно)11
Душка — деталь скрипки, представляющая собой деревянный цилиндрический стержень, который устанавливается вертикально между деками, служа распором между ними. Душка способствует передаче звуковых колебаний на нижнюю деку, усиливая резонанс и улучшая тембр инструмента. От ее размеров и места установки зависит качество звучания.
(обратно)12
Обечайка — боковая часть корпуса скрипки, состоит из шести тонких деревянных пластин, которые выгибаются по форме дек и приклеиваются к их внутренним краям.
(обратно)13
Кобылка (подставка) — деревянная пластинка, которая устанавливается на верхней деке в качестве опоры для струн, ограничения их звучащей части и передачи вибрации от струн к корпусу.
(обратно)14
Высокая вода (итал.).
(обратно)






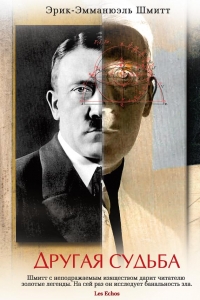





Комментарии к книге «Черная скрипка», Максанс Фермин
Всего 0 комментариев