Грузовик катил будто по облакам. Над горами сгущался запах дождя. Далекие безгромовые молнии дробили даль, будто экран телевизора. И все это проходило перед глазами, ничего не оставляя в памяти. Только какой-то внутренний сейсмограф механически записывал все, чтобы старательно воспроизвести потом.
Грузовик заносит на поворотах, и я невольно ищу плечо моего спутника. Он старый, лицо с впалыми щеками в глубоких морщинах. В глазах туманная наволочь осеннего неба, потерянность душевно сломленного человека. Опустошенность. Страшная опустошенность, способная вызвать растерянность у любого, на ком они остановятся. В сущности, это ощущение приходит от того, что они смотрят и не видят тебя. Не потому, что старик слепой, нет, а просто ты для него не существуешь. Наверно, у него есть свой собственный мир, который держит его в кулаке, и он не может из него вырваться.
Не раз я старался заговорить с ним, но мои попытки оказались напрасными. Он продолжал смотреть на меня словно сквозь пустоту.
Дождь нагнал нас у корчмы «Кривой хан», и шофер пожалел нас — остановился. Впрочем, и сам он был голоден.
— Сойдем, что ли?
В ответ лишь сильнее забарабанил дождь по верху грузовика.
— Сойдем, спрашиваю?
Старик даже не шевельнулся. Спрыгивая с грузовика, успеваю заметить, как он подтягивает старинную пастушью бурку, чтобы плотнее завернуться в нее. В том же положении я застаю его, когда снова залезаю в кузов.
Дождь промыл камни, прополоскал листья бора, и тучи свалились к горным хребтам. Небо медленно светлело — такое вымытое, причесанное вершинами сосен. На острых гребнях гор еще виднелись кучки облаков, обтрепанных и серых, как клочья шерсти каракачанских отар.
Шофер задерживался, и я снова пробую заговорить с моим молчаливым спутником. Но и на этот раз безуспешно. Мои слова вместо того, чтобы расшевелить его, заставили еще плотнее завернуться в бурку: кажется, он все глубже проваливался в какое-то темное дупло. Лицо его, продолговатое и небритое, еще больше потемнело, когда из низкой корчмы вышел пьяный кривоногий человек. Синий комбинезон его был протерт на локтях и коленях, а в волосах белеют стружки. Пьяный облокотился на кузов:
— Ого, вот кого зрят мстительные глаза Трицаря! Убийцу моего брата! Люди, держите меня или я сверну ему шею! Трицарь ничего не забыл! — Пьяный попробовал залезть в кузов, но свалился на землю. Из корчмы и соседней лесопилки сбежались любопытные. Трицарь продолжал кричать, пытаясь снова взобраться на грузовик, но ноги не слушались, а руки были слишком слабы, чтобы поднять отяжелевшее тело.
— Дайте мне железные вилы. Я сделаю с ним то, что сделал он с моим братом!
Я невольно взглянул на старика в бурке и вздрогнул. Как он изменился, стал неузнаваем. Куда делось его равнодушие. Он стоял в углу грузовика выпрямившись, его жилистые руки налились неожиданной силой. Мне делается не по себе, и я слезаю с грузовика. И только когда шофер завел мотор, я снова занимаю свое место наверху, рядом с незнакомцем. Но стараюсь держаться подальше от него, не ищу плеча, когда машину кренит на поворотах. Это обидело старика. Не глядя на меня, он спросил:
— Что, испугался?
— Кого?
— Меня! Рядом с тобой — душегуб!
Признаться, я вздрогнул от внутреннего холода. И это старик заметил. Он плотнее завернулся в бурку и, словно себе, сказал:
— Человек так создан… По какому месту ты бы его ни ударил, ударяешь по душе. И все зависит от удара. А я должен был ударить сильно. И ударил… Слушай…
Она была не как все дети, добрая и милостивая была. Когда она мне говорила «папа», как бы ни было у меня тяжко на душе, сразу же делалось легче. Говорил себе: Горан, есть у тебя ради кого жить на этом свете, ради кого ворочать камни. Да и лицом она была красивая, в мать, только черты у нее более утонченные, чистые, а вот глаза — не знаю откуда она их взяла. У нас, известно, были какие-то бесцветные, а у нее — зеленые, как весенний ивовый листочек, не наглядишься. Как взглянет на меня — будто весна пришла, и я слышу запах травы, весенних полей. Не потому, что я очень уж чувствителен к запахам земли, нет. Я каменотес, но за лугом наблюдал там внизу, у Бозувой излучины. Луг остался от ее матери: приданое! Думал его распахать, но пастбище доброе, травяное, вот и оставил. А она любила ходить на этот луг, когда наступал первый сенокос. Цветы соперничали с красками неба. Синее, зеленое, белое, розовое — от дикой вики до красного мака по межам. Сядет под грушей и плетет венки, букетики вяжет. Я пойду вроде бы воды попить, присяду и вставать не хочется — на дитя свое радуюсь. Говорю ей, Ружа, деточка, если ты так терпеливо по зернышку будешь постигать науку, — последнюю рубашку свою продам, а на учительницу тебя выучу. Она смеется. Попробую, папа… Пробуй, говорю, Ружа, пробуй, пусть все знают, что и у Горана, каменотеса, может быть ученая дочь… И послал ее. Дальше послал ее учиться. С Марийкой, дочкой кума Крыстогорова, вместе записались в гимназию. Но Марийка не выдержала. Отец ее староста, зажиточный человек, бегал, устраивал дочь, подмазывал там, сям, но если ребенку не идет учение, не надо его насиловать. Вот так… Ушла Марийка из гимназии, а моя осталась. И все хорошо у нее шло. Бывало, вернусь я вечером после работы усталый, будто камнями придавленный, сяду под лозой, поставлю перед собой бутылочку ракии, позову кума — ведь одному что — ни водка не идет, ни разговоры. И расскажу что-нибудь о Руже, но вижу, не по нутру ему, больно за свою дочь. И говорит, Горан, хорошо, что моя Марийка осталась дома. Город не для девочек. Разные бездельники, говорит, крутятся, только гляди: поиграют с девушкой и бросят… А после этого она не женщина, не девушка. Может, слышал, спрашивает, как одна ученица из Белореченска родила ребенка, испугалась, взяла да и спустила его в Юрталанов колодец… Увидели ее Гроздановы, попытались схватить, но не догнали. Мужчина поджидал ее на шоссе, посадил на велосипед, и они скрылись. Будто бы нашли их и засадили в каталажку. Слушаю я разговоры кума и думаю о моей Руже: не глупая она, но под сердцем все же остался тяжелый камень. Собрался в воскресенье в город. Вхожу на цыпочках в ее квартиру. Сидит над книгами — читает. Покрутился, порадовался и снова домой, к своему молотку, к бурам, к фитилям и пороху. Известно, каменотесное дело. Вкалываю весь день, а вечером сажусь под лозницей[1]. Кум, говорю, я был у Ружи, скажу тебе, не теряет времени попусту, на ветер не пускает, читает, говорю… Хорошая, отвечает, твоя Ружа, Горан, хорошая. Только бы не увлеклась политикой. А если женщина в нее впутается, трудно оторвать. Эти, которые сейчас шляются по горам, говорит, и женщин увели с собой. Смотри, чтобы и Ружу не утащили. Нормальный человек что — у него свое дело, а те, которые много читают, разной чертовщиной забивают себе голову. Смотри… Уйдет она, кум. Ветер прогуливается в листве. Какой-то червяк скрипит в темноте, словно скоблит мне сердце. Говорю себе, а если я ошибся, послав дочь в этот проклятый город? Вдруг с ней что-нибудь случится? И случилось. Незадолго до окончания гимназии ушла в горы. Вызывают меня в общину. Кум, староста, волнуется. Говорит: Горан, вот дождались самого, самого лиха… Ушла она… Не верю, говорю… Верь, не верь, а ушла. До экзаменов на аттестат зрелости десять человек ушли в партизаны, и она с ними. Полиция напала на их след, но не настигла. Не поверил я, бросил работу и в город. Хожу по улицам в надежде встретить Ружу, но ее нет нигде. Нет! А летнее солнце так раскалило мостовую, что дышать нечем. Листья на деревьях белы от пыли, в окнах стекла мутные. Никогда я не видел город таким грязным. Мне хотелось схватить его за черепичные крыши и окунуть в реку да хорошенько прополоскать. Иду. Под ногами — моя тень, а за ней брат кума — Трицарь. Тогда он не был трицарем, а служил в тайной полиции. Прилип ко мне, тащится, как оглушенная солнечным ударом овца. Говорю ему, не считай мои шаги, а скажи мне, где Ружа… Может, ты ее арестовал? Лучше бы мы, говорит, ее арестовали, Горан, сейчас я не волочился бы за тобой по жаре, а пил бы ракию возле источника. Я поверил ему и вернулся в село. А в селе пустота. Сажусь вечером под лозницей, хочу выпить ракии — не идет. Смотрю на бутылку и не вижу ее. Лягу в комнате, зажгу лампу, повешу рядом с фотографией. На ней мы трое — ее мать, Ружа и я. Снимались на ярмарке, незадолго до смерти моей жены. Ружа такая худенькая, стройная, я — молодой, с засученными рукавами рубашки. Жена — прекрасная, ожерелье из золотых монет на шее — как молодое деревце. Трудно поверить, что так скоро она угасла. Но так случается и с молодым деревцем. Я замечал, когда засыхает дерево, в последний год дает обилие плодов. Наверно, чувствует свой конец, начинает бороться и в этой борьбе становится прекрасным, как никогда. Так было и с моей женой. Завидовали мне: Горан, каменотес, удачно женился. Красивую жену взял. И это было правдой. А я знаю от своего отца, что если завистливый глаз появился у тебя на дворе, не жди добра. Как-то вдруг жена моя стала чахнуть, пожелтела, вскоре слегла. Высохла от забот и тревог, стала тоненькая и легкая, как тростинка. Болезнь! Горан, говорит, я рассчитывала, что ожерелье останется для Ружи, но ты продай его и положи меня в больницу. Хорошо, говорю, хорошо. Беру ожерелье, и к ювелиру в город. Тот посмотрел на него, поворочал так и эдак и вернул. Фальшивое, говорит, ничего не стоит. Не может быть, говорю, от матери осталось, старинное… Старинное — скажешь, новенькое. Кто-то подменил… Кому давали, спрашивает… Давали… И вспомнил: кум его брал, чтобы сделать такое же для своей Марийки… Иду и думаю. Кум не мог подменить. А может, оно таким и было, фальшивым с давних пор? Возвращаюсь домой и боюсь войти к жене. Какими глазами она на меня посмотрит. «Что?» — скажет. Топчусь около двери и вдруг слышу тихий плач, будто маленький щенок скулит, прерывисто так. Вхожу — Ружа. Плачет над своей матерью. А та, как открыла глаза, так и не успела закрыть, а они на дверь — меня ждут. Смотрю, и какая-то тяжесть падает с моего сердца — по крайней мере не буду ее обманывать насчет ожерелья из золотых монет. А руки у меня дрожат. Челюсть свело, не могу сглотнуть. Убрали ее по-христиански. Проводили. Хоть бы меня проводили так…
Грузовик яростно взревел на повороте, нас сильно подбросило — я поспешил схватиться за боковую доску, как утопающий. Но старик и не заметил толчка. Мне почудилось, что он живет вне времени, что окружающее для него не существует. Его взгляд давно приобрел внутреннюю глубину, похожую на пустоту. Все, что я слышал, он рассказывал для себя, чтобы убедить себя в том, что жив, что все еще может говорить, что время не отняло у него воспоминания. Его не интересовали ни прекрасная горная природа, ни серпентины дороги, ни могучие стволы сосен. Он шагал по серпентинам своей собственной жизни. Гул мотора не мог его отвлечь, заглушить голоса тех, кто жил в нем. У него были высоко поднятые брови, характерные для наивных, добрых и открытых людей. Как я не заметил этой подробности в самом начале. Как?..
Убираю свечку, кладу в сундук рядом со свадебными свечами и думаю. Придет тот день, когда я постучу в ее двери, ведущие в ту, другую жизнь. И тогда скажу ей, что ожерелье фальшивое. А сейчас пусть уходит с радостью, что оставила дочери это желтенькое тепло. Пусть думает! Хорошая была у меня жена, душистая, как осенняя айва. Душа у нее — ясная, как искорка. А Ружа плачет. Поплачь, говорю, Ружа, чтобы тебе полегчало, потому что слезы как камушки. Если ты их не выплачешь вовремя, всю жизнь будут давить душу, измотают болью. И я пробую плакать, но все пересохло во мне, нету родничка — есть рана, а в ране осталась только соль от слез. Болит. Это похоже на солончаки у моря. Вода ушла, соль осталась. И говорю себе: Горан, только работа вылечит твою боль. Берись за молот и иди в карьер. Сжимай зубы и вкалывай до упаду. Хорошо, что у тебя есть здоровье и кроткая дочь. Есть люди, у которых и этого нет. Тебе еще могут в чем-то позавидовать. Дробишь камень, силы твои идут в стены домов, придет время, и в каком-нибудь из них будет жить твоя дочь, обзаведясь семьей. Тогда и ты почувствуешь себя среди своих. Фальшивым ожерельем станут играть ее дети, а она расскажет им о своей матери, о тонком запахе поздней айвы. Доживи, Горан, до того времени. И я поднимаю молот, размахиваюсь, ударяю еще и еще, пока не образуется белая трещина в синем камне. Когда паутиной побегут трещины, сяду отдохнуть, попробовать вкус хлеба, послушать голос Ружи. Дочка, говорю, смотри, как добывают хлеб, знай его цену. Я забыл сказать, что каменный карьер принадлежал куму. И хорошо он мне платил, не стоит кривить душой. Да и был он не гордым. Если я его приглашал посидеть, он не избегал моей лозницы. Обменяемся длинношеими бутылочками и разговариваем. Точнее, говорил он, я был молчаливым, замкнутым. А он загорелся покупкой корабля. И купил его. Брат его стал капитаном. В торговлю его потянуло, но что-то у них не шло. Старым корытом оказался корабль, расхлябанным. Много денег он съел. Снимали фильм, потребовалась старая посудина, и он как раз сгодился. В фильме хотели показать, как топят русский черноморский флот, и потому купили его. Корабль назывался «Черноморец». При потоплении он так перевернулся, что надпись можно было прочитать. Когда фильм шел в городе, все село ходило, чтобы посмотреть на корабль кума. После полиция арестовала бывшего капитана, который всем говорил: вот наш корабль! Его выпустили, и вскоре он поступил на службу в тайную полицию. С тех пор как Ружа ушла в горы, он не переставал меня навещать. Нес службу! Выспрашивал меня о Руже, но что я мог ему сказать? Сколько камни в карьере знали, столько и я. Работал за троих и словно не по камням бил, а по своим мыслям, по своей душе. Иногда я бросал молот и шагал через виноградники, через кустарники и все ждал, что встречу зеленые глаза дочери. Ловил себя на том, что зову ее. Это чаще всего случалось в темном ущелье под каменной вершиной горы. И странно, я не узнавал своего голоса, он был каким-то пугливым и смятым, как обветшалая одежа, которая долгое время тащилась за своим хозяином, а он не замечал, что она тащится. После такого открытия я вдруг заметил, что делаюсь еще более замкнутым, руки мои будто огромные молоты, а мысли вертятся вокруг динамита и фитиля. Не лучше ли разлететься с треском наподобие камня, превратиться в облако пыли? Случалось, я заворачивался в бурку, ложился на нагретые камни и целыми ночами не смыкал глаз; хорошо, если бы ко мне пришли нежданные гости и среди них я увидел бы Ружу. А ночи бесконечные, вроде летние, но более длинных ночей я еще не переживал. Лежу и слышу, ночь борется с шумами, как побеждает их и все стихает вокруг, и лишь перед восходом солнца слышится, как лопаются от холода камни. Не знаю, думал ли ты над тем, что каждая живность и камень имеют душу. Чтобы в душе вспыхнули паутинки трещин, возьми в руки молот — и все. Ударь по ней, но только посильнее ударь, не выдержит, рассыплется. Говорю себе, Горан, твоя душа еще держится, но до каких пор? Есть ли тот, кто сказал бы тебе «папа», кто встретил бы тебя и проводил, кто бы обстирал тебя. А дочь? Она есть у тебя, и ее нет. Она как фальшивое ожерелье, и ты знаешь, что оно фальшивое, но не можешь выбросить. Думаешь, а вдруг тебя ювелиры обманули, чтобы взять его за бесценок. Попробуй разберись. Мир так запутан. Но мир меня не очень-то интересует. Пусть все вертится, пусть люди бегают друг за другом и убивают друг друга. Только бы от моей дочки были подальше. Запуталась она, совсем запуталась. На петров день я чуть с ума не сошел. Кум вбегает в корчму «Кривой хан» и кричит: угощаю, всем по кружке пива, угощаю… Наши, говорит, разбили тех, в лесу и в горах, уничтожили, размолотили, как фасолевые стручки. И мою Ружу, спрашиваю, кум?.. Твоя дочь, Горан, говорит, спаслась, убежала. А если бы поймали, будь спокоен, ничего бы ей не сделали, ведь мы же свои люди… Пей, говорит, за доброе дело… И я пью, но не идет пиво, что-то сдавило мне горло, как во время смерти моей жены. Кум, говорю, а ты уверен? Больше чем уверен, говорит, наш Иван был там и все мне рассказал. Он вернулся ночью, с ног валился от беготни по горам. Они напали на них неожиданно, когда те спали, но все-таки многим удалось спастись… Говорю себе, Горан, держись, радуйся, раз твоя спаслась, будет кому зажечь свечку, когда ты соберешься надолго переселиться к своей жене. Пью, смотрю, как молодежь танцует хоро около корчмы, а перед моими глазами прыгают вершины гор, качаются туда-сюда. Что-то происходит со мной. Говорю себе, Горан, ты что, пьян? Но не столько, чтобы заплясали вершины. А кум говорит: когда я уходил, наказал Ивану, если увидит Ружу, пусть бережет ее, война не дело для учительниц. В глазах кума что-то дрожит, но говорит он вполне серьезно. Говорю ему, кум, ты как будто глумишься над моей болью? Как можно, Горан, говорит, как ты можешь такое подумать? Если бы моя Марийка была на ее месте, ты что бы сделал? Не берег бы ее? Берег бы, говорю, берег!.. Тогда прости меня, говорю кум, за недоверие… Ничего, говорит, Горан, понимаю тебя… Отец ведь ты, тревога твоя законна.
Кружатся серпентины дороги, кружится гора, прыгают сосны, как мысли в рассказе старика. Мне кажется, что идет мелкий дождь из его слов, упрямый осенний дождь, сотканный из безнадежности долгого и мрачного сезона. Сыплются слова монотонно, упрямо, заполняют кузов грузовика, переливаются через борта и пятнают пустынную дорогу. И там по ней шагает Горан-каменотес, сгорбленный, с руками до коленей, сильный и наивный, грустный и до глупости добрый.
…Однажды вечером она взяла и пришла. Слышу, кто-то стучит в окно, еле-еле стучит. Не спрашивая, кто, выхожу, смотрю — лежит под окном Ружа. Подхватываю ее, а она ни жива ни мертва. Пуля попала ей под ключицу, рана покрылась коркой, загноилась. Лечу ее бабкиными средствами и не подумаю упрятать. Староста, то есть мой кум, свой человек, не побежит же меня выдавать. Я намеревался даже попросить его прислать врача. На второй день она пришла в себя, посмотрела на меня зеленью глаз, а они помутились от боли и страданий, и говорит: папа, спрячь меня! Для чего, говорю тебя прятать, от кого? От кума? И от него, говорит спрячь. Хорошо, говорю, хорошо. Под своей кроватью соорудил ей убежище. Целыми ночами не сплю, брожу по дому, а она — иди на работу. Зачем, говорю. Чтобы не было никаких подозрений, говорит, иди… Кто, говорю, заподозрит?.. Есть кому, говорит. Иду на работу, бью камень, но что-то не работается. Слетает молот, искры бьют в лицо. Выпрямлюсь, задумаюсь, стою как столб. Мысли мои там, в доме. Похудел. Без конца курю. Бегу домой. Меняю ей перевязку, а она выйди, говорит, под лозницу, пусть думают, что у нас все, как раньше. Беру я длинношеюю бутылочку с ракией, сажусь. Тлеет моя сигарета. Бабочки крутятся вокруг фонаря, бьются о стекло, я их не замечаю. Если бы человек о меня споткнулся, и его я бы не заметил. А рана у нее… Сначала вроде все шло хорошо, но тут вижу, загноилась. Надо очистить острым ножом, а сердце мне не позволяет, как это ковырять рану собственного ребенка! Поискать доктора? Говорю ей, а она и слушать не хочет о докторе. Худеет. Ешь, говорю. Вижу, старается, но не может. А кум зачастил. Может, догадывался о чем-то, но только сажусь под лозницей, он тут как тут. Обмениваемся бутылочками. Говорит, береги здоровье. Дети, они дети и есть, поскитаются, вернутся — у них жизнь впереди, а наша к концу подходит. Мы как записная книжка в корчме, где пишут, что ты взял и что уплатил. Чистых страниц там уже жалкие остаточки. Давай подумаем, как нам заполнить еще несколько страниц. На здоровье! — поднимает бутылочку, отпивает. Тебе, кум, говорю, хорошо, ты староста, пристроил детей, переженил их всех на богатых да влиятельных, деньги у тебя есть — на счастье тебе, а моя, моя… Что твоя, говорит, поскитается девчонка, вернется, поможем, чтобы все было хорошо. Ведь на то мы и свои люди… Это так, да трудно помочь моей. Оговоренных, кто их простит… Кто их простит, говоришь. Правительство. Амнистия, говорит, есть. Для раскаявшихся — амнистия. Если только добровольно сдадутся. Писали об этом в газетах и по радио говорили, да ты ведь в ссоре с грамотой, должно, не понял. Кто сдастся добровольно, допросят, подержат немного — и свобода. Если он ученый — пусть идет в науку, если пахарь — к плугу, любитель женщин — к женщине. Государству нет выгоды, если люди сидят в тюрьмах и по лесам шляются, а не работают… Правда, говорю, кум! Обрадовал ты меня, успокоил. Хорошо, если бы Ружа объявилась, не пустил бы я ее больше в горы. Скажу, чтобы раскаялась. А то разве жизнь у нее? И чуть-чуть не сболтнул о ней, хорошо, сдержался. Говорю себе, Горан, время тебе расшевелиться, порасспросить об амнистии. Может, к лучшему. Иду в корчму, а там только об этом и говорят. Одни — с недоверием, другие — с надеждой. Покрутился я, покрутился и прямо домой. Ружа совсем пожелтела. Амнистия, говорю, есть… Для меня, говорит, папа, нет амнистии… Не говори так, дочка! Да, это так, папа! Когда умру, тогда меня и амнистируют… Думаю, больная, чего другого от нее ждать. Не так это, говорю. Именно так, говорит… Замолчал я, а амнистия, как живая, кружит по дому, стучит в окна, не дает мне спать. Говорит: дядя Горан, не отмахивайся от меня. Так и так умрет, хоть используй меня как последнюю надежду, авось поможет тебе. Закроюсь с головой и до утра не сомкну глаз. Лишь на рассвете засну на полчасика, и все. Остались от меня кожа да кости, а все от мыслей. А Ружа с каждым днем слабеет, но и слова не дает сказать об амнистии — у меня есть товарищи, за идею вместе боролись, хочу, говорит, умереть чистой. А я будто на огне горю. Вскоре узнаю, сдался Калинчо. Они вместе с Ружей были в горах. Бросил свой пост и сдался. Все сошло ему с рук. Только поводили его по селу, чтобы он рассказал, как плохо в горах, у партизан.
Прихожу домой, сажусь рядом с Ружей, глажу ее горячий лоб, говорю: так и так, Калинчо вернулся. Мелким воришкой, говорит, он был, таким и остался. Рядом с ним стоять не хочу, папа… А сама на глазах тает, как свеча. Направился было к куму, расскажу все — и вернулся. Не хватило смелости. Беда пришла после разговора под лозницей. Выпил я лишнее и высказал все, чем болела душа. Проговорился и тут же пожалел. Но кум поспешил меня успокоить, будто я сделал самое разумное. Назавтра ее возьмут в больницу, вылечат… И ее взяли…
Я гляжу на него и думаю: ее взяли или его? Скорее всего именно его. С тех пор он и стал тем, кого я сейчас вижу. Один на один с собственной виной и болью. И рассказывает он не мне, нет, а тому, кто сидит в нем, к нему и обращает он свой взгляд, к нему устремляет свои чувства. Он ничего не видит вокруг: ни зеленые леса у дороги, ни быструю речку, ни мои отчаянные усилия сохранить равновесие в кузове. Наш грузовик уже в низине. Город с темно-зелеными пятнами соснового леса на холмах бежит к нам навстречу.
Забрали ее утром. Пришла машина. И белый халат был. Сказали — врач. Когда она поняла, кто приехал, сунула руку под подушку за пистолетом, но я его еще раньше спрятал, чтобы она не выкинула какую-нибудь глупость. Так я ее и запомнил с рукой под подушкой, с двумя крупными слезинками на лице и со словами: «Папа, не ожидала…» И взяли ее. Пошел я по следам машины, вышел за село. Пыль разнесло ветром. Сел я на камень и заплакал. По матери ее не уронил ни слезы, а по ней заплакал. Горан, что ты сделал, говорю себе, что? Дитя свое предал… Поднимаюсь и тихо иду в управу. Кум, говорю, что мы сделали? Хорошо ты сделал, говорит, что нам сообщил. Вылечат ее, поправится, вернется домой, песни тебе будет петь. Не переживай! Вернулся я домой и стал ждать вестей. Но кто их принесет? Некому! Кругом — обман. Бессонница все больше угнетала меня. Допоздна сидел под лозницей, но кум не заходил, старался проскочить мимо. Если встречал — смотрел в сторону. Спрашиваю, кум, есть что-нибудь новое? Скоро, говорит, ее вылечат. А могу ли я пойти ее навестить, кум? Ты не представляешь себе это дело, говорит… не гражданская там больница, там… люди, но не совсем обычные люди… Всякого туда не пускают… Тогда что же это, говорю. Подождем когда вылечится, говорит. И стал я ждать, а тревога моя не унималась, а росла. Однажды вхожу в корчму — такой стоял шум и гам, и вдруг — тишина. Оглядываюсь, хочу понять, почему все замолчали, и не могу понять. Спрашиваю Тромбу, чем я не угодил, а он испуганно отодвигается и что-то невнятно бормочет. Ничего я не понял. Вернулся домой, но не сидится и дома. Снял косу с балки, наточил, бросил железные вилы в тележку, запряг ослика и направился в луга. Решил, скошу позднее сено, для осла пригодится. Косил до заката. Набросал сена в телегу, воткнул вилы и поехал. Возле управы остановился, чтобы повидаться с кумом. Вхожу в канцелярию. Он и старший сержант. Добрый день, добрый день. И молчат. Потом старший сержант вышел. Стою у дверей, но староста не приглашает меня сесть. Он и не смотрит на меня. Что-то тут не так думаю, и говорю:
— Ну, кум?.. — будто знаю что-то.
— Что? — спрашивает.
— Ты староста, кум, ты и скажи…
— Что я тебе могу сказать… ты же знаешь…
— Знаю, знаю, — говорю, с трудом проглатываю слюну. — Знаю, но лучше ты мне скажи…
— Да ты что от меня хочешь? Дочь твоя убивала наших людей… Ты ее предал, а я тебе должен что-то сказать! Что я тебе скажу? Конечно, ее расстреляют, не будут по головке гладить…
Я чуть не грохнулся там, где стоял. Помню только, как дошел до тележки с сеном и как руки мои сами потянулись к железным вилам. Остальное не помню. Рассказывали мне, что я заколол кума вилами… Умер он. Судили меня за душегубство, и от смерти меня спасла победа — Девятое сентября. И снова я стал искать утешение в камне, но теперь при ударах молотка паутина трещин не появлялась так легко, как раньше. Не за что было бить по его душе, ведь камень был во мне…
Грузовик продолжал нас швырять из стороны в сторону.
Примечания
1
Лозница — навес из винограда.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

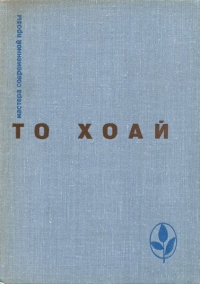


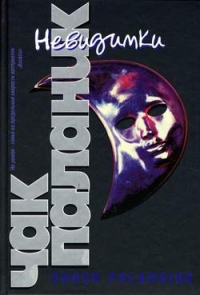

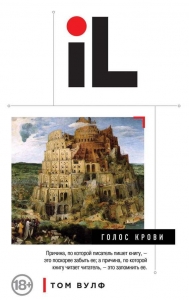


Комментарии к книге «Душегуб», Слав Христов Караславов
Всего 0 комментариев