1
Шофер газанул. Глухой рев мотора покатился по шоссе в пыльном облаке и затих вдали.
Тома бросил лопату, отряхнул выгоревшие штанины и зашагал к реке. Кончился еще один мучительный день, закатился, как усталое солнце, за горные вершины. Скинув одежду, Тома бросился в теплую воду. Она окатила его мягкой лаской и, гладя тело, тихо закачала. Лежа на спине, он смотрел в небо, где медленно вызревали крупные звезды. Они походили на речные камешки, к которым прикоснулись лучи невидимого светила, и звезды затеплились голубым огнем. Некоторые из них так расхрабрились, что оказались рядом с ним, дрожа на воде, то текуче-подвижные, то спокойные, как палые осенние листья. Это было всего-навсего отражение тех, небесных, звезд, которые качались в его глазах и слепили его. Вдоволь накупавшись, Тома вышел на берег и, стряхнув с себя капли воды, стал одеваться. Движения его были быстрые и точные. Закинув на плечо свою синюю рабочую куртку, он направился к шалашу. Неподалеку от него горел костер. Желтое пламя лизало черное дно котелка. Рядом темнела фигура отца, задумчивого, словно задремавшая птица. Рука его время от времени шевелила хворост. Старик любил так помечтать в одиночестве. Не то чтоб это было его внутренней потребностью, нет, просто он хотел показать свою выдержку. Вообще-то он был замкнут, порой даже жесток. Таким его сделали годы. А после того, как он ушел из кооператива, все больше стал нуждаться в разговорах у костра. Они были необходимы ему, как хлеб, как самое удобное место, чтобы втолковать сыну свою жизненную философию. Тома догадывался об этих его намерениях, но то, о чем мечтал отец, не занимало его. Он любил свою работу. Его волновали новые песни сверстников. Бывало, мимо них проезжали парни и девушки на телегах, он вслушивался в их песни, забывая о лопате, и долго смотрел им вслед. В таких случаях он не сразу замечал, как отец начинал сопеть, жаловаться на старость, на влажность воздуха и на свое больное сердце.
Как только сумерки окутывали вершины гор, Старик спешил к костру, и начинались его мечтания вслух. Сегодня он отлучался в город, чтобы положить на хранение деньги от последнего поденного заработка. И потому Старик был доволен, настроен мечтательно.
«Еще один месяц — и конец», — думал он, и огонек его сигареты мерцал, словно крупный светлячок.
Тома бросил куртку на землю и опустился на нее. Летняя ночь понесла его на крыльях звуков, сверчки оплели его трескучими мелодиями, а перезревший желтый зверобой опьянил дурманящим запахом. Крупная рыба выплеснулась из реки, блеснула в лунном свете, словно подброшенный серп, и плюхнулась обратно в воду. Дремота, кажется, подползла по траве, расслабила тело парня, опустила его веки, но голос Старика прогнал ее.
— Налаживается…
— Что? — сонно вздрогнул сын.
— Дело, говорю, идет на лад…
— Сколько уже?
— Достаточно. Хватит на покупку двух буйволов… Кстати, на обратном пути я заглянул к обходчику. Узнал от него, что весной начнут мостить большую дорогу. Работа как раз по нам. Увидишь, какую деньгу загребем.
Тома промолчал. Он подтянул серую бурку, и сонные глаза его споткнулись на грубой, в морщинах, руке Старика. Отблеск огня, кажется, еще глубже прорезал на ней эти морщины-борозды. Рука отца выпестовала его, своенравная, но честная рука. Он ее уважал и ценил. Несколько лет тому назад Старик выгнал из дома мать Томы, «показал на порог», как он потом говорил. За что? Тома понял это позже и зарекся думать о ней. Для себя он оправдал поступок отца. И когда суд оставил ребенка матери, Старик не примирился. Пять раз он крал его из соседнего села, где жила она, пять раз полиция возвращала его обратно. Но на шестой мать опустила руки: не хватило сил побороть непреклонного крестьянина. С тех пор его руки не переставали заботиться о нем. Они работали для него.
Тома помнит, будто это случилось вчера. Он был еще мальчонкой, когда к ним зашел Дако Делиданев. Они ужинали. Пригласили его за стол, а он в ответ улыбнулся:
— Богато живете — соления на столе. Не рано ли? С хлебом и перцем туго вам ныне придется. Отпусти Тому поработать у меня лето. Я расплачусь на димитров день.
Несмышленыш был, но понял, в чем дело, и кусок застрял у него в горле. Поднял глаза на отца. Увидел, как у Старика дрогнула рука и вилка звякнула о медное блюдо.
— Слушай, дядя Дако… Если ты пришел в гости, то уважай мой хлеб. Но если насчет мальчика, то послушай, что я тебе скажу. Видишь вяз на току? Вдруг моему ребенку станет грозить голодная смерть, тогда я повешу качели на том вязе и буду его качать, пока он не умрет. Но батраком он не будет! А ты уходи!..
Давно это было, но Тома не может забыть. За одни те слова он готов тысячу раз целовать руку отца. Она приносила ему хлеб, когда он учился в гимназии, сколотила ему солдатский чемодан, писала ему кривые, иногда бессвязные, но теплые слова, посылала выстраданные трудом деньги, чтобы он чувствовал себя, как другие, не знавшие нищеты. Эта рука никогда не приносила ему зла. Все это Тома знает. Но влечет его другая жизнь. Он мечтает о шумных студенческих вечерах, о тихих и таинственных университетских аудиториях. Придет ли это когда-нибудь? Вряд ли! Старик расплевался с кооперативом, с односельчанами и этим загородил дорогу сыну. Кто его примет сейчас в университет? А деньги?.. Деньги, пожалуй, можно найти. Их легче заработать, нежели доверие… Вернувшись с военной службы, Тома думал, что все пойдет у него легко: «Поговорю с председателем, и делу конец…» Но вышло иначе, председатель не захотел с ним говорить. Бросил: «Яблоко от яблони недалеко падает», — и захлопнул перед ним дверь. Так закончилась их встреча. Вечером Тома присел рядом с отцом и издалека начал разговор, но Старик задумчиво посмотрел на него и вдруг прервал:
— Ты хочешь понять, почему я ушел из кооператива?.. — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — До того, как это случилось, я работал на овчарне. Главным у нас был председательский шурин. Однажды он пришел и забрал ягненка. Для банкета, сказал. Ладно, забылся этот случай. Но вдруг я узнаю: его делают бригадиром рыбного хозяйства. Когда он сдавал дела другому, я, улучив удобный момент, спросил его про ягненка. А он: «Ничего не знаю. Новый начальник пускай отвечает». А сам в бухгалтерию заявил, что у меня не хватает одного ягненка и с меня надо удержать деньги. Правда, узнал я об этом позже. Забегал туда-сюда. И заварилась каша. Пожаловался председателю, но он лишь посмеялся надо мной: «Где, — говорит, — у тебя были глаза? Надо было смотреть в оба. А теперь нельзя ничего исправить…» Я не выдержал, погорячился. На следующий день в канцелярии заявил, чтобы взяли с меня за пропажу, швырнул заявление о выходе из кооператива и поминай как меня звали. Что ж, голодными мы не остались. Без них обойдемся! — отрезал Старик, и на его лице сурово застыли морщины, глубокие, как от удара топора. Жизнь его не миловала, и он привык смотреть на нее исподлобья.
Сейчас он опустил руки, молчаливый и задумчивый, как скиталец на распутье, не знающий, куда идти. Тома смотрел на его суровое лицо, и нежность завладевала его сердцем. Он готов был крикнуть: «Отец, почему ты такой, отец?..»
Но, не привыкший к нежным чувствам, он отвел взгляд, скользнул по горящим углям и зажмурился.
2
Утром, с первым грузовиком, приехали трое других рабочих бригады. Все они были из Димитровграда и каждый день ездили ночевать домой.
Тома и его отец работали аккордно, отдельно от них. Вставали до рассвета и по холодку готовили сита. Соседи заставали их за работой, с лопатами в руках. Они уже перебросали по целой куче песка.
— Погубит вас жадность, — ворчал Цоко Длинный. Он был высок ростом, сутулый, с тонкими болтающимися, как веревки, руками.
«Будто десять лет висел на крюке», — думал Тома, оглядывая Цоко. Цоко не любил работать. То, опершись на лопату, философствовал, то подолгу просиживал на корточках за кустами. Эти бесстыдные хитрости злили его напарника Динку, сухопарого, с морщинистым, но моложавым лицом мужчину.
— Пойду посмотрю, не свалился ли он в уборную, — шутил он, хотя ему было не до шуток. В конце концов Динка и Цоко стали работать каждый сам по себе. В первое время Цоко не изменял своим правилам, по-прежнему медленно двигалась в его руках лопата, так же подолгу он пропадал за кустами. Но в день получки Цоко явно расстроился — карман его оказался полупустым. На другой день он не отправился на грузовике на ночлег в Димитровград, а напросился спать к отцу Томы.
Со временем Цоко еще больше похудел, весь как-то заострился.
— Вижу, ты решил фигуру беречь! — подшучивал над ним Динка.
Длинный не отвечал, делая вид, что не слышит. Оживал он лишь тогда, когда в кустах подавала голос какая-нибудь птаха, он вторил ей, мастерски подражая. Его товарищи удивлялись:
— Смотри-ка!
— Ну и ну!
— Лопата — не твое занятие!
— Тебе бы в цирк! Почему не идешь?
При упоминании цирка Длинный не выдерживал, с нескрываемой гордостью произносил:
— Бывал я там…
Однажды ночью Тома спросил его:
— А что ты делал в цирке?
— Играл…
— На чем?
— На барабане…
Ответ охладил любопытство парня, и он больше не спрашивал. Но Цоко не мог так легко отказаться от прекрасных воспоминаний о своей музыкальной карьере.
— Какое время было! — умилялся он. — Журчат карусели. Гремят ружья по тирам. А мы — на трибуне цирка. Все глаза устремлены на нас. Огни блестят на флигорнах, а под удары твоей руки выходят артисты… Вот это жизнь!
Длинный весь уходил в воспоминания, забывал о том, о чем только что рассказывал, начинал с истинным вдохновением врать и фантазировать. Вспоминал о наезднице, которая чуть-чуть из-за него не повесилась — так любила… И, сам поверив в свои рассказы, он умолкал, вслушиваясь в шум реки, глядя в заманчивую даль.
Однажды Тома спросил у своего отца, есть ли хоть капля правды в рассказах Цоко.
— Да врет эта баба!.. — с нажимом проговорил Старик и скупо улыбнулся. — Был такой случай, сам тому свидетель. Почему-то цирковая музыка не подоспела вовремя, тогда директор цирка нанял наш оркестр на одно представление. И надо же: я в тот вечер оказался в цирке. Выходит конферансье и объявляет номер. И тут грохнул наш оркестр. Ну, думаю, развалится цирк! И что играли? «Осталась Лалка молодой вдовой»… Была такая песенка в наше время. Ну, с грехом пополам прошел первый номер. Выходит конферансье, объявляет второй… А наши опять — «Осталась Лалка»… Взвыл циркач. Но снова — «Лалка»… Тогда он исчез, а мы ждем, что же будет дальше. Вдруг раздается шум, циркач врывается со стулом в руках — и на музыкантов. А те, схватив свои инструменты, задали стрекача. Только Цоко болтается под трибуной и извивается штопором: провалился между досками и повис на ремне от барабана, застрявшего наверху… Долгое время весь район буквально валялся от смеха, а он нам тут пули отливает…
Тому развеселила эта история. После, отдыхая, опершись на лопату, он часто вспоминал ее, мысленно видя перед собой, как несчастный барабанщик стыл от страха и ужаса, болтаясь на ремне. Рот Томы невольно растягивался в широкой улыбке.
— Что ты ухмыляешься? — слышал он голос рядом и вздрагивал. Это говорил третий из димитровградских рабочих, маленький ростом, с покоробившимся от морщин лбом и острыми подозрительными глазами. Все его звали — Политический.
Он не дружил ни с кем из строительной бригады. Обедать садился обычно в сторонке, ревниво сжимая коленями еду. Тома не раз пытался заговорить с ним, но тот проходил мимо, будто глухонемой, или с хриплым ворчаньем поворачивался к нему спиной.
Свое странное прозвище он получил в канун Девятого сентября сорок четвертого года. О нем рассказывали невероятные истории. Что в них было выдумкой и что правдой, никто не знал. Только об одной из них можно говорить с уверенностью. Ее помнило все село. В те годы он был бедным из бедных. До каких же пор? И он решился на хитрый и отчаянный шаг. Каждую ночь, когда село засыпало с надеждой на близкую победу, Политический отправлялся будить богачей. Выдавая себя за подпольщика, крепко связанного с партизанами, он приказывал:
— Гони тридцать тысяч левов!
— С тебя — двадцать тысяч!
— С тебя — мешок муки!
А того, кто пробовал отвертеться, предупреждал:
— Рассчитаемся с тобой как-нибудь ночью!.. Жди наших!
Напуганные сельские богатеи раскошеливались.
Все это стало известно лишь после победы, но кому было дело до него? Народ посмеивался над богатеями, а его чтили как героя. Так продолжалось до тех пор, пока однажды не увидели, как Политический вдруг разбогател. Он построил добротный дом, обзавелся скотиной. Стал шататься по собраниям оппозиции и болтать о попранной правде. Так деньги богачей привели его к ним же. И пошла молва:
— Самый смелый подпольщик пристал к оппозиции!..
— Слыхали, что говорит Политический?..
Но мутные воды оппозиции схлынули. Потом пьянство, и дальше — вечная подозрительность к людям: этот дрянь, тому — не верю, третий — за мной шпионит. И среди рабочих здесь, на строительстве дороги, он остался один со своими страхами и надеждами. В конце работы он первым забирался в грузовик, приваливался спиной к кабине и затихал, прикрыв глаза. Динка, единственный коммунист среди нас, однажды пошутил над ним:
— Ты не сделал политической карьеры, но сможешь построить Димитровград. Это уж точно.
Политический не снес шутки, сверкнув белками глаз, бросил лопату.
— Если ты партийный, то лучше меня, что ли? Пишешь такой же ручкой, как и я, — и кивнул на лопату.
— По-твоему, мне больше идет портфель под мышкой? — рассмеялся Динка.
Политический не ответил. Он сразу как бы съежился, залез в свою толстую скорлупу надежд и страха, заперся замком недоверия и злобы.
3
Засох перед шалашом красный золототысячник. Запах его прочно укоренился на каменистом берегу. В воскресные дни грузовики не приходили. Поработав вдоволь в часы утренней прохлады, отец и сын бросали лопаты и долго валялись в тени ивы. Иногда по воскресеньям Тома ездил в маленький городок, покупал кое-что из еды и спешил вернуться. Его не привлекали пыльные и пустые улицы. Пыльными были и крыши, и два высоких тополя у въезда в городок, даже люди в каменных холодных магазинах казались пыльными.
Тома задерживался ненадолго перед книжным магазином, бродил по главной улице в надежде встретить кого-нибудь из своих одноклассников или прежних знакомых. В шалаш к отцу возвращался не спеша. Его ждала знакомая заводь под мостом. Ивы обрадованно махали ему. И только блеск раскаленного песка наваливался какой-то странной желтой пустотой, наполнял душу грустью по тому, что должно было прийти к нему, но лишь пролетело перед глазами, как белогрудые ласточки, которые вырыли себе гнезда в противоположном крутом берегу.
Тома выкладывал покупки, уходил к реке, падал в теплые объятия заводи. Шаловливые усачи извивались рядом с ним. Пескари отдыхали на мели, в наивной доброте пучили глаза на белые облака в синеве неба. Наверно, им представлялся океан, о котором они мечтали всю жизнь.
Ниже по течению, там, где река вольно делала поворот, под склоненной ивой синел глубокий омут. Вода там была холодной даже в самые жаркие дни. Тома не ахти как плавал и потому остерегался купаться в омуте. Каждое воскресенье здесь было полно рыбаков, нагрянувших из города, чтобы в молчании убить свою скуку. Они рассаживались на корнях ивы. Если они и открывали рты, то только затем, чтобы высказать свое мнение об огромном соме, который обитает на дне омута. Они смахивали на старинных кладоискателей с их россказнями о фантастических блуждающих огнях над несуществующими сокровищами.
Вечером, когда рыбаки обычно сматывали удочки, на дороге из города появлялась нескладная фигура Цоко Длинного. Весь пропахший ракией, он шатался из стороны в сторону, оставляя в дорожной пыли глубокие косолапые следы. С трудом добирался до шалаша, покрытого папоротником, и, опершись на толстую дуплистую иву, пел длинно и тягуче:
От Росицы До Марицы Нет прекраснее девицы. Ой, лю-ли, ой, лю-ли, Ой, люли-люли… Я сказал тебе, Рассказал тебе. И начну все сначала.И песня снова тянулась, бесконечная и надоедливая.
Наконец, устав от однообразного повторения, певец приподымался на носки, наклонялся к фонарю и с невиданным упорством пытался раскурить старую медную монету, держа ее губами вместо сигареты. Потом опускался на траву, и губы его обвисали, как у очень уставшей рабочей лошади, и до утра мир переставал для него существовать. Так каждую неделю…
И этот воскресный день медленно догорал. Глухое ворчание тракторного мотора эхом катилось по стерням, а дым из выхлопной трубы постепенно накапливался в белесое облако, которое непрестанно разрасталось, разносилось ветром и повисало легким туманом над полем, над рекой, над дорогой и над людьми. Рыбаки давно отчалили в город, но Длинный все еще не появлялся. Не вернулся он и утром. Бригада заволновалась. Динка, втыкая в землю лопату, то и дело вглядывался в дорогу, ведущую из города. Зной дрожал над пыльной дорогой, обволакивал маревом тополя, тонкую одинокую трубу фабрики, словно старался скрыть всякие следы существования Длинного.
— Запил, — тряс головой Динка.
— Что вы печетесь, не ребенок, — поднимал брови Старик.
— Да, загулял…
— Раньше был умнее! — заключил Тома.
И только лопата Политического не переставала звенеть о камни, равнодушно и вяло. Ничто его не интересовало, ничто не трогало. Он смотрел на решетчатые тени на земле от железного сита, на горку влажного песка, которая все росла и росла, на его глазах вырисовывая свежую могилу. Всякая забота о другом ему всегда казалась ложью, фальшивым сочувствием и ничем другим.
После обеда Динка бросил лопату, поехал в город и вернулся довольно поздно. Отправился последний грузовик, когда он присел возле костра.
— Ну что?
Ничего определенного… Пил допоздна, потом куда-то ушел. С собой у него были миниатюрные дамские часики, которые он купил для дочери. Больше никто его не видел…
Цоко Длинный давно собирался порадовать дочь подарком. Она училась на юриста, и ее успехи вызывали у отца гордость. Во время работы он, бывало, посматривал на согнутую спину Томы и с ехидцей бросал: «Серьезная наука — это не лопата… Потруднее…»
— Куда он провалился? — вздыхал Динка.
— Кто знает! — пожимал плечами Старик, пасмурный и задумчивый.
Летняя ночь звала ко сну. Издавна она была знакома Старику своими звуками, ночными птицами, силуэтами предметов, но он молчаливо не замечал ничего. Между тем Тома, лежа в стороне от костра, думал о сверкающей огнями столице — мечте своей, о заманчивой студенческой жизни, о красивой девушке, которая ждет его где-то, думает о нем, неизвестном парне, затерявшемся среди речных песков, вдали от учения и науки, от любви… Любовь… А что он знает о ней? Ничего! Неужели школьные стычки, случайные взгляды и робкие свидания — это и есть любовь? Нет! Какая же это любовь, если она не могла выдержать даже трехмесячного испытания разлукой. Они переписывались именно три месяца. Солдатская жизнь стерла из памяти образ девушки. Теперь она замужем за другим, ну и пусть. Жаль только, что годы летят, а большая любовь, которая принесла бы ему настоящее волнение и трепет, все еще бродит где-то. Одинокий человек ждет ее, свою любовь. А Тома чувствовал себя одиноким среди этих усталых людей. И если бы не Динка с его веселым нравом, то даже желтые пески посерели бы от скуки.
Ужинали молча. Задымленный фонарь тихо качался над их головами. Рой мошкары толкся вокруг него. Тонко и протяжно ныли комары, а бабочки с обгоревшими крыльями падали и ползали по земле. Лягушки прыгали из темноты в круг света, переворачивались акробатами и уносили свою добычу. Ночная жизнь, полная победителей и жертв, билась в кажущемся спокойствии.
Динка стряхнул крошки еды. Еще раз затянулся догоревшей сигаретой и бросил окурок в сторону. Огонек описал дугу, но не успел упасть, как прожорливая лягушка, прыгнув, проглотила его и, сделав отчаянный бросок, охваченная ужасом, пропала в темноте.
— Приняла за светлячка, — с сожалением проговорил Тома и положил ложку.
— Почему не ешь? — кольнул его взглядом отец.
— Надоела мне эта фасоль.
— Может, тебе рыбки захотелось, а? — съязвил Динка.
— Была бы…
— А ну вставай!
— Сейчас?
— Сейчас!
Динка вскинул на спину ветхий ранец, взял фонарь. Когда они проходили мимо сита, он вытащил большие железные вилы.
— А они для чего?
— Для сома…
Они перешли реку вброд и оказались на противоположном берегу. В ночном сумраке ивы казались наслоенными темными пятнами на чернильном фоне неба. В ветвях деревьев над головами рыбаков забила крыльями ночная птица, под ноги прыгнула крупная лягушка, словно подскочил ком земли, осыпая мелкие камешки. Фонарь танцевал в руках Динки, желтый круг взад и вперед прыгал по земле, точно охотничья собака. Вот он скользнул по воде и остановился на омуте. Глубоко на дне, среди черных камушков, лениво шевельнулся крупный усач н замер. Сеть легко пошла по воде, и рыбалка началась…
Тома собирал рыбу и светил фонарем. Высвеченное речное дно казалось фантастическим. Даже ничтожные водоросли кидали самые причудливые тени. Они сплетались, дрожа, и пропадали. Ночь и свет создавали новый незнакомый мир. Даже темные своды моста, подсвеченные фонарем снизу, казались странно необычными, как ворота в старинную крепость.
Увлеченные делом, молчаливые друзья незаметно приблизились к самой глубине. Черные ивовые корни торчали ребрами допотопного животного, которое припало к воде, чтобы утолить жажду. Вдруг Динка крепко сжал в руке вилы, и губы его дрогнули:
— Ш-ш-ш-ш!..
Он шагнул к самой глубине и дал знак рукой, чтобы Тома светил лучше. Желтый лучик скользнул по воде, высветил черные корневища, пробежал по песчаному дну и, будто чуткими пальцами, ощутил что-то неподвижно-темное. Динка вскинул вилы, готовясь ударить, и вдруг замер: свет качнулся и выхватил из глубинной тьмы бледную человеческую ногу.
4
В пустынном небе — жаркое полуденное солнце. Короткие тени казались сплющенными. Они беспомощно лежали на выгоревших травах рядом с людьми и деревьями. Только белый домик дорожного обходчика в своих прохладных комнатах еще хранил свежесть, так нужную для отдыха. Дверь входных ворот болталась на одной петле, а среди пестрого садика фонтанчик журчал о чем-то своем, старом и добром
Тома перепрыгнул через прозрачную воду, попил и, плеснув в лицо пригоршни холодиной влаги, сел на лежавший в стороне камень. Смутная, не испытанная еще усталость овладела его сознанием. Эта глупая смерть Длинного удивила его и обескуражила. Неожиданная, нелепая и жестокая, она потрясла его душу. В тот момент это тяжелое чувство усилилось под таинственной тишиной вечера и спокойным светом фонаря.
Тома и сейчас, стоит лишь прикрыть глаза, видит длинное тело утопленника, распростертое на песке, поцарапанное лицо и опухшие ладони, а рядом с ним, как выпавший искусственный глаз, блестели маленькие дамские часики — последний подарок запоздалой отцовской любви. Человек исчез с лица земли. Он пил, был вертопрахом, всю жизнь искал, где полегче. И все-таки были люди, которые горевали по нем. Одна женщина осталась без мужа, дочь — без отца. Два сердца, полные горечи.
Тома видел их и не мог не поверить в искренность их печали. Там, на окраине нового города, навечно остался лежать Длинный. Теперь ему наплевать на тяжелые носилки, железные решета и шутки Динки. «Вот так каждый упадет последней каплей высохшего источника, — подумал Тома и, чтобы успокоить себя, закончил: — А город останется…»
Да, белый город, выросший на берегах Марицы, останется и после них. Это радовало.
Тома поднялся и, снова плеснув в лицо холодной водой из фонтанчика, взглянул на солнце, жаркое и пронзительное. Из низкого двора вышел обходчик, зевнул лениво.
— Куда ты ездил?
— На похороны…
— Умер, значит…
— Умер, — подтвердил Тома.
Услышав их разговор, из окна высунулась темноволосая девушка.
— Кто умер, отец?
— Цоко Длинный, — резко сказал обходчик. — Ты его не знаешь.
Девушка не обиделась на сердитый ответ отца, облокотилась на подоконник и незаметно посмотрела на Тому. Глаза их неожиданно встретились, она смутилась и, робко улыбнувшись, быстро скрылась.
Что-то затрепетало в груди Томы. Уходить расхотелось, и он снова сел на камень.
Обходчик, должно быть, заметил эту перемену, покрутился по двору, долго возился со старым своим велосипедом, а когда подошел к криво висящей двери, оглянулся, сердито позвал:
— Марга!
В окне быстро показалась темноволосая голова.
— Что, отец?
— Занимайся! Хватит вертеться!
Голова тотчас исчезла, из глубины домика долетел голос девушки:
— Ладно… Слышала!
На дворе стало тихо. Тома наблюдал, как обходчик вскочил на свой обшарпанный велосипед, как блеснул на солнце спицами и пропал за поворотом дороги, ведущей к реке. Тома знал, что там ждут и его, но не стал спешить. Все равно рабочий день потерян. После кладбища вообще не было желания работать. К тому же робкая улыбка девушки заставила забыть обо всем. Он то и дело поглядывал на окно, ждал, что в нем снова появится девушка, но напрасно. Только однажды дрогнула занавеска, и Томе показалось, что за ней кто-то спрятался. Нет, наверно, он вообразил.
— Что изучаешь? — наугад крикнул он.
Ему никто не ответил. Голос его коротким эхом отозвался в пустом домике и погас. Но вскоре занавеска все же качнулась.
— Догадываюсь, тебе не очень-то хочется зубрить? — подразнил Тома.
— А тебе?
— Очень…
— Даже французский?
— И французский.
Из окна долетел тяжелый вздох, и после короткого молчания жалоба:
— Не везет же мне! Ну, никак…
— У тебя переэкзаменовка? — сказал Тома.
— Угадал…
Тома собрал всю свою смелость и, оглянувшись, глухим от волнения голосом проговорил:
— Выйди, я тебе помогу.
На этот раз девушка замолчала, должно быть, раздумывала. И когда Тома решил, что она рассердилась и не ответит, голос ее раздался вновь:
— Не хочу…
— Почему?
— Боюсь…
— Меня?..
— И тебя…
И только Тома собрался крикнуть, что он не людоед и ее не съест, как с огорода долетел чей-то голос:
— Марга, с кем ты болтаешь?
— Мама… — дрогнул голос девушки.
Тома встал с камня, виновато взглянул на домик и зашагал к воротам. Проходя мимо окон, замедлил шаг и бросил:
— До свидания!
Девушка не ответила. Дойдя до развилки дорог, он оглянулся и увидел, как в окне мелькнула темноволосая девушка и исчезла в глубине комнаты.
Он шагал по шоссе, и жаркий день был ему уже не в тягость; наоборот, радовал чудесными красками сентября. И жизнь ему виделась сейчас полной смысла и неожиданностей, ради которых стоит побыть на этом свете.
5
Белогрудые ласточки на крутом берегу растревожились не на шутку. Они стрелой носились низко над водой и шумно щебетали.
— Быть дождю! — Старик взглянул на небо. — Завтра, непременно. Уберем сита, а то река взыграет и унесет их.
— Кто знает, будет ли? — Тома не поверил в предсказание, а в душе обрадовался. На работу не идти, можно сбегать к обходчику, а то попробуй жди воскресенья.
Тома воткнул лопату. Они бросили на носилки сита, перенесли их поближе к шалашу и сели отдыхать, каждый занятый своими мыслями. Старик, как всегда, думал о заработке. Он ладонью пригладил песок перед собой, взял прутик и стал писать столбики цифр. Чем больше он писал, тем заметнее менялось выражение его лица, разглаживались морщины, а выцветшие глаза загорались надеждой.
Надежда согревала их обоих. Тома вспоминал робкую улыбку девушки, ее темноволосую голову в раме окна, качающуюся, будто от ветра, занавеску. Тяжелая работа сделала его молчаливым, но теперешнее молчание таило большой смысл, оно было наполнено мечтой, близкой и вполне осуществимой. В этот вечер у обоих было хорошее настроение. Они легли в шалаше спать, но сон не шел.
Первый удар грома качнулся где-то за горами, прокатился по темным вершинам Родоп и угас под крупными каплями дождя. Тома выглянул из шалаша. На горизонте, там, где горы, подобно медвежьим ушам, упирались двумя вершинами в небо, молнии рвали черный мрак и гром катился руслом реки. Дождь припустил в полную силу, и Тома спрятался в шалаше. Струи воды барабанили по крыше, и под их монотонное звучание сон быстро нашел свой приют.
Утром реку было не узнать. Мутная, она рыла берега, несла смытые водой огромные деревья, грохотала, гневная и страшная. Не зря называли ее Медведица. В тех случаях, когда вода прибывала стремительно, река выходила из берегов, разливалась почти что до далеких приземистых мельниц у подножия холмов. Но даже после обильных летних дождей такого не случалось. А тут…
— Унесет песок аж в Марицу, — переживал Старик.
Вода билась об опоры моста, пенилась. Прибежало множество ребят, чтобы полюбоваться стихией. Оживленные, они столпились на мосту, переваливаясь через перила, заглядывали вниз, на бурлящий поток, кричали от восторга, и крики их тонули в грохоте воды.
Тома вышел из-за ив и повернул к шоссе. И тут он увидел прислоненный к высокому километровому столбу велосипед и чуть в стороне заглядевшуюся на ревущую стихию Маргу. Как бы почувствовав его взгляд, она вздрогнула, посмотрела на него, и ее щеки окатил предательский румянец.
— Здравствуй… — хрипло проговорил Тома. Он хотел еще сказать «Марга», но ему не хватило голоса. Откашлялся. — Как французский?
— Не идет, — тихо ответила она.
Тома слышал ответ, но ему хотелось освободиться от сковавшего его смущения. Он склонился к ней и, стараясь перекрыть шум воды, прокричал, переспрашивая:
— Что?
Марта поняла его хитрость, улыбнулась задиристо и тоже повысила голос:
— Не иде-е-т!
— В каком ты классе?
— Я закончила школу.
— А французский? Пересдавать?
— Да, — смутилась девушка. Избегая его взгляда, добавила: — Провалюсь, и конец…
Они прошли на мост.
— Сдашь, — успокоил ее Тома. — Знаю вас, девчонок. Всегда жалуетесь, а сдаете куда с добром.
И, торопясь, чтобы не упустить нить разговора, начал рассказывать о своих учителях, об одной своей соседке, которая все пищала, что ничего не знает, а отвечала на «отлично». Потом стал вспоминать службу в армии. И вдруг замолчал, зло оборвав себя: «Ну и болтун!..» Сбоку взглянул на девушку. Облокотившись на перила, она улыбалась.
«Болван, так тебе и надо», — подумал он о себе.
Марга выпрямилась и серьезно спросила:
— Ты шутишь?
— О чем?
— О военной службе…
— Почему же? Я старше тебя. Зови меня старший брат, — мрачно проговорил он.
Марга, не ответив, направилась к велосипеду. Тома последовал за ней. А когда девушка оперлась ногой на педаль, он набрался смелости и выпалил:
— В воскресенье опять приду…
— Не надо! — возразила она. И, боясь его обидеть, добавила: — Меня будут бранить… потому… не надо…
Но Тома словно не слышал ее. Он крепко схватился за руль.
— После полудня… Верхняя сторона вашего сада… Хочешь, приходи, поговорим… — И, чтобы как-то смягчить свою выходку, не выглядеть перед девушкой нахальным, проговорил извинительно: — До того я дошел у этой реки… Не с кем и словом переброситься…
Девушка взглянула на него сочувственно, нажала на педали и, покачиваясь с боку на бок, покатилась по шоссе. Вот она остановилась, помахала ему рукой и тронулась дальше.
6
Верхняя сторона сада. Забор по взгорку. Густая заросль ржавых акаций. Тома выбрал куст скумпии и сел под ним. Отсюда был виден весь двор обходчика с говорливым фонтанчиком, тяжелыми гроздьями винограда и пустыми бочками из-под асфальта, сваленными у забора. Крупные ягоды блестели из-под листьев: казалось, прозрачные глаза смотрели на Тому. Они звали его, но он не смел перепрыгнуть через чужой забор. Грозно торчали высокие цементные столбы с натянутой колючей проволокой. С внутренней стороны, должно быть, заботливой рукой хозяйки были посажены синяя повилика и хмель. Проворные их плети взобрались по кольям, оплели проволоку, образовав чудесную завесу.
Тома поудобней устроился в тени скумпии и стал ждать. Послеобеденная дремотность, казалось, обволакивала маленький домик и все вокруг него. Окна раскрыты, занавески опущены. Наверно, обходчик отдыхал.
Он не спускал глаз с дверей домика. Ждал, в любой момент могла появиться Марга. К своему большому удивлению, замечал, что волнуется, что ему хочется хорошо выглядеть перед девушкой, понравиться ей. Надеялся, встреча принесет ему нечто большое, неизведанное. А время шло, он начал нервничать. Чтобы отвлечься и успокоиться, добрался до ближней бочки, взял кусок размягченного асфальта и вернулся под куст. Еще раньше он обнаружил темный колодец паука. Стенки колодца были мастерски заглажены. Значит, хозяин дома был отъевшийся и тяжелый. Тома сорвал стебелек, прилепил к концу его шарик из асфальта и начал дразнить паука. Это нехитрое занятие вернуло его к поре детства. Он вспомнил своих босоногих сверстников, увидел их глаза, горевшие охотничьей страстью, и спичечные коробки, полные пауков. Однажды Тома, ложась спать, забыл закрыть коробку, и многоногие пленники расползлись по всей комнате. Наутро Старик готов был убить его и строго-настрого запретил заниматься охотой на пауков. Сейчас давнишняя страсть вдруг снова овладела им. Паук оказался хитрюгой. И если у пауков есть нервы, то этот владел ими в совершенстве. Он не выходил из себя, в гневе не бросался на липкий шарик, осторожничал. На асфальте были едва видны царапины от его лапок. Стебелек сломался, а паук не выходил.
Тома поднял голову, чтобы поискать другой стебелек, и тут увидел Маргу. Она спустилась со ступенек крылечка и с раскрытой книгой в руках медленно пошла по тропе. Ее платье мелькнуло за ветлами. Вот рука потянулась к тяжелой грозди винограда на ближнем кусте, сорвала. Потом девушка подошла к фонтанчику, вымыла гроздь и замерла, прислушиваясь к плеску воды.
Тома решил, что она не заметила его, и готов был окликнуть, как вдруг раздался голос ее матери:
— Марга, куда ты опять?..
— Да здесь я, здесь!
— Только и норовишь улизнуть…
Марга не ответила. Подошла к забору и приложила палец к губам. Тома понял и кивнул на жилище паука и на сломанную соломинку. Девушка засмеялась. Смех ее был похож на шепот осиновых листьев — тихий и нежный. Она села так, чтобы видеть двор, и сквозь изгородь протянула ему прозрачную гроздь.
— Возьми…
— Спасибо.
Тома подошел, присел у забора и взял гроздь. Ягоды мокро блестели, и каждая отражала его глаза, его улыбку. Сколько было ягод, столько и лиц было у него сейчас. И ему казалось, что не ягоды он рвет, а свою счастливую улыбку.
— Какой виноград! — тихо проговорил Тома.
— Есть и получше, — шепотом ответила девушка. — Но папа не позволяет его рвать.
— Такой страшный у тебя отец? — пошутил он.
— Очень! — ответила Марга.
Они рассмеялись. Книга скатилась с коленей девушки, и она нагнулась, чтобы поднять ее. Тома увидел, как тяжелые косы скользнули по ее груди, упали на туго натянутую юбку. Взгляд его наткнулся на ее ноги, обутые в простые сандалии, стройные и загорелые на летнем солнце. Марга перехватила этот его по-мужски любопытный взгляд и смутилась. Смутился и Тома. Неловко замолчали. И лишь виноградные листья шептали о чем-то, наверно, смеялись над ними. Тома опустил шарик в колодец и начал дразнить паука. Вдруг стебелек потяжелел и вынес паука наружу. Он схватил ртом асфальт и прилип. На его спине был нарисован красивый крест.
— Какой? — спросила Марга.
— Крестовик…
Паук пытался освободиться. Упирался лапками в шарик, но чем больше он старался, тем сильнее прилеплялся к мягкому асфальту. Марга придвинулась поближе к забору. Хотела рассмотреть его и, кто знает зачем, запомнить. Протянула сквозь хмель свою смуглую руку и взяла стебелек с пауком. Насекомое примирилось со своей судьбой, успокоилось, и только крест тревожно лежал на его спине, словно деля его на четыре части. Но вдруг паук вытянулся, напрягаясь, отлепился и упал на землю. Девушка почему-то испугалась, обернулась и тут увидела отца. Он шел по тропинке. Прямо к ним. Девушка села и раскрыла книгу. Обходчик остановился возле ветел, отрезал несколько веток и строго сказал:
— Домой!
Марта встала, нехотя отряхивая платье.
— В воскресенье… Опять здесь? — тихо проговорил Тома.
7
Проходило воскресенье, а с ним и удивительное чувство, которое взошло в сердце Томы. В нем жило ясное, как светлый день, ощущение радости, вызванное мимолетной улыбкой девушки.
Последний луч закатного солнца красным огнем зажег окна дома обходчика, а Марта так и не появилась.
Предвечерние звуки слабели, переходя в шепот. Тома долго стоял у фонтанчика, прислушиваясь, не раздадутся ли голоса за темными окнами, но дом молчал, и ни одна занавеска не дрогнула от прикосновения чьей-то руки. Во дворе было пусто, неуютно. Кусты перца в огороде лихо закрутили листья от дневного зноя, а стручки пылали, точно раскаленная жаровня. Наступали сумерки, а Тома все еще ждал. Он считал, что Марга ушла в город и вот-вот вернется. Эта надежда и держала его. Только бы вернулась… Он помахал бы ей рукой, кивнул, приветствуя ее, и ушел.
Но надежды, кажется, не оставалось, и он поднялся с каменного края фонтанчика и, глядя в окно, свистнул раз-другой и направился к воротам с повисшей на одной петле двери. Он не пошел к реке, повернул в сторону города. А вдруг встретит ее? Парень нуждался в ее дружбе. Разве бы стал он с таким упорством осаждать дом обходчика, если бы в шалаше его не ждало все одно и то же: Старик с его вечными столбцами денежных расчетов…
Одиночество подавляло Тому. Перед ним вдалеке один за другим вспыхивали огни города. Туда пришла вечерняя прохлада и позвала всех влюбленных на главную улицу, а он снова один в этом сумеречном поле, среди едва слышного шума ветвей и трав.
Последующие дни не принесли ничего нового. Вечером, как только исчезал последний грузовик, Тома уходил берегом реки, чтобы Старик не заметил его, потом сворачивал в поле и на краю его опускался на палую листву. Он глядел на светлое окно знакомого домика, и трудные думы одолевали его. Засохшие травы вокруг напоминали о том, что уходит лето и на пороге уже другое время года. Травы были похожи на людей. Разные высотой, с разным запахом и разным предназначением, они по-разному умирали и по-разному прощались с жизнью. Возможно, Тома непохож на них. Вот он остался один в поле, в стороне от своих товарищей, от молодежного коллектива и загрустил. А в армии он был одним из любимцев командира. И товарищи уважали его. Все в нем души не чаяли. Веселый характером, он умел быстро сдружиться. Не оттого ли так тяжко ему одиночество?
День ото дня вечерние прогулки в поле стали неосознанной привычкой. Тома садился под кустом красной скумпии и думал о дорогах в широком поле жизни. В том поле, где земля сливается с небом, стояла девушка и ждала его. Она сильно походила на Маргу, но все же это была другая девушка, красивее и стройнее Марги. Только глаза ее были такие же — темные, с длинными ресницами и робким взглядом… Встретит ли он ее когда-нибудь? Парень не знал этого. Он перестал наблюдать за жизнью дома обходчика. Порой там на дворе появлялся хозяин, приходили рабочие-ремонтники. Но ни разу не показалась темноволосая девушка и ее мать. Наверно, они жили в городе.
В последнее время Тома не думал о том, что с кем-нибудь он может тут столкнуться, потому появление обходчика застало его врасплох. Он заметил его лишь тогда, когда огонек сигареты блеснул совсем рядом. Обходчик поздоровался и, не садясь, долго смотрел на звездное небо, затем глухо проговорил.
— Пришел поговорить по-мужски… Давно ты околачиваешься тут. Но тому, что ты задумал, не бывать… Знай, у меня нет лишней дочери, чтобы дарить ее грузчику.
Последнее слово он проговорил сквозь зубы, будто выплюнул. То, что сказал обходчик, было так неожиданно и обидно, что в первое мгновение Тома не мог осмыслить, а когда до него дошло, обходчика уже и след простыл. Еще раз спина его мелькнула в освещенной двери домика и пропала.
Тома встал и, не разбирая дороги, поплелся к своему шалашу. Лицо его горело, будто от пощечины. В голове роились суматошные планы отмщения, а обида постепенно переплавлялась то в ненависть, то в гнев, то в презрение к самому себе. Это над ним насмехаются какой-то обходчик и его дочь? Что они из себя воображают? А мне что так уж приспичило? Мало ли на свете девушек?.. Но вечером, когда он смежил веки, гнев его притаился, в памяти всплыли испуганные глаза Марги… И он долго пытался прогнать их.
Тома старался забыть о той прискорбной встрече с обходчиком. Пробовал казаться веселым, шутить, но шутки не получались. Вместо того чтобы рассмешить людей, они обостряли отношение к нему. Одна такая неуклюжая шутка чуть было не стала причиной драки с Политическим. Увидев поднятые для баталии лопаты, Динка бросился разнимать драчунов. Какой-то плоский и в то же время широкогрудый, Политический был похож на карпа, выброшенного на песок. Задыхаясь от бессильной ярости, он норовил подскочить поближе к Томе, но Динка не давал ему…
— Слюнтяй, ну обзови, обзови еще меня кулацким прихвостнем! Попробуй, слюнтяй!..
Тома, подняв лопату, не отрывал взгляда от его плоской шеи. «Шарахну — и конец… Сделает еще один шаг, и я ударю…» Но Политический разгадал его намерения и вдруг обмяк. Огромная лопата его загребла кучу тяжелого мокрого песка, остановилась, как бы раздумывая, куда двинуться, затем привычным движением кинула груз на решето. И снова он закачался, подчиняясь ритму работы. Настороженный Тома греб нагнувшись. Все было против него, весь мир. Руки чесались сломать лопату, в щепки разнести тяжелые носилки. Провалиться бы, что ли, сквозь землю? Обида, нанесенная обходчиком, душила его. «Грузчик! Какой я грузчик!» Но вот на глаза попадалась широкая спина Политического, и неожиданная мысль сражала его: а ведь прав он, этот путаный человек… Все сверстники Томы определились в жизни, нашли профессию, и только он отдает свои лучшие годы лопате, рядом с этим кулацким прихвостнем, живет умом Старика. Всегда это, что ли, будет? Разве он не видит, как у него на глазах вырастает сказочный город, трубы прут, как грибы после дождя, а он жарится тут попусту. Видите ли, отцу буйволы нужны… Ну раз ему нужны, то вот к его услугам решето, лопата, река в придачу, пусть зарабатывает… При этой дерзкой мысли Тома распрямился, и был миг, когда он решительно сбросил бы с себя опекунство Старика. Но когда взглянул на загоревшую до черноты спину, старческие узловатые руки, то стыд опалил его. Жалость к этому сгорбленному трудом человеку сжала сердце, стеснила дыхание, и звон лопаты о гальку снова показался ему малиновым звоном.
Грузчик!.. Значит, и Динка грузчик?.. Пусть не думает паршивый обходчик, что если он ездит на государственном велосипеде, то полезнее нас.
И работа и усталость скоро погасили мысли. Остался лишь скрежет лопаты, раскаленные солнцем камни, пестрые тени сита и песок, этот желтый мелкий песок — от нестерпимого блеска его так устают глаза.
8
Похолодали вечера. По утрам Тома просыпался от стариковского кашля и прохладного ветерка. От его дуновения вот уже несколько дней как перестала шуршать камышовая крыша, влажная от дождя и росы. Даже восходы сделались какими-то ненастоящими. Утреннее солнце иной раз смахивало на красневший глаз заспанного человека.
Наступала осень. Редкими гостьями стали грозы. Посерело небо. Далекие горные вершины Медвежьи Уши спрятались за белесой дымкой. А вода в реке неудержимо поднималась, угрожая в скором времени выжить с берега добытчиков песка. Река наступала медленно, но уверенно. Как расчетливый землемер, она ежедневно раскраивала пойму на маленькие островки, а потом стирала их.
Этот день был последним. К обеду река стала полновластной хозяйкой своих владений.
Тома оттащил мокрые носилки на берег и вздохнул:
— Конец!..
Река, покачивая своей охристой спиной, волокла на себе валежник, и текла, текла. Она знала, куда торопится, готовилась к этому путешествию все лето, и теперь никто не мог ее остановить.
Рабочие, бессильные против стихии, разбрелись по берегу, каждый занятый своими мыслями. Еще одно лето прошло-прокатилось, еще одну частицу жизни оставили они на берегу, и река спешила смыть, стереть ее навсегда.
А они прощались… Каждый с чем-то прощался. Старик заглядывал в свой шалаш, оглядывал закопченные ивовые прутья, и ему было жаль оставлять их. Динка не мог оторвать взгляда от глубокого омута и, наверно, заново переживал смерть Длинного. Тома исподтишка поглядывал в сторону дома обходчика. И только Политический торопился убраться, смешаться с однообразным потоком людей. Он забросил за плечи сумку и не сводил глаз с серой полоски шоссе. Его настораживал еще совсем далекий шум мотора, и он из-под ладони подолгу вглядывался в осеннюю даль.
Он долго проработал бок о бок с этими людьми, они много узнали о нем, и это не могло его не тревожить. Ему казалось, что в эти последние мгновения кто-нибудь их предостережет: «Он никогда не простит вам самую малую шутку, самую пустяковую обиду».
«Смотаться бы поскорее отсюда», — думал он. И когда увидел, как темная точка грузовика с шоссе перекатилась на полевую дорогу, его треволнения кончились.
— Идет!
— Кто? — вздрогнул Динка. Но, поняв радость Политического, проговорил: — Да, завершили… — Подошел расслабленно, дернул Тому: — Разлука, значит?
— Разлука… — грустно подтвердил Тома
Динка улыбнулся:
— Говоришь это словно нам, а прощаешься с дочкой обходчика. — И, многозначительно подмигнув, сказал: — Белая печаль, юноша, белая печаль!.. Ну-ка, выкладывай, что ты собираешься делать дальше? Всю жизнь песок перегребать? Не пойдет! А ты что думаешь?
— Ничего не знаю, — пожал плечами Тома. — Разве не видишь, что Старик без меня не может?
— Старик! — нахмурился Динка. — Старик прожил свое. А у тебя все впереди. Я вот поступаю на завод. Ты, если надумаешь, дай знать. Можешь на инженера выучиться. Кадры во как нужны…
— Понятно, да кто же меня пустит… Меня!
— Почему? — взглянул на него Динка.
— Как почему? Ты же знаешь историю с кооперативом…
— А какое отношение имеешь ты к этому?
— Никакого, но…
Динка смял только что закуренную сигарету и тряхнул головой:
— Ты только реши, а в остальном положись на меня… Я займусь…
Он бросил короткий взгляд в сторону грузовика и неожиданно засмеялся. Старик тащил за собой шалаш и переругивался с шофером:
— Ничего тебе не стоит… Всего один поворот… Вон оно, село…
— Да зачем тебе это барахло? — удивлялся шофер.
— В хозяйстве пригодится…
— Хорошо… но угощение за тобой…
— Согласен!..
Старик забросил стены и крышу шалаша на сита, сел на них и тяжело вздохнул:
— Кто бы подумал, что река будет меня кормить…
— Что плачешься? Или мало денег заработал? — незлобиво спросил шофер.
— Заработал, — проговорил Старик и, подумав, словно снова подсчитывая левы, отрезал: — Что правда, то правда, деньгу хорошую заработал. Эх, был бы я молодой, какой дом поднял бы среди села…
— Вон чего ему захотелось! — усмехнулся Динка. — А я думал, ты собираешься жениться второй раз.
Эта неуместная шутка испортила настроение Старика. Веселый настрой разговора смешался. Казалось, небо сразу осело, горизонт сузился, словно угасающая улыбка.
— Давай трогай, трогай!.. Хватит скалиться!.. — прорычал он.
Шофер недоумевающе взглянул на сердитое лицо Старика, обежал грузовик и влез в кабину…
Ехали молча. Разговор не клеился.
Когда они подъехали к воротам дома Старика, Динка подал Томе шершавую руку:
— До свидания… и подумай!..
Тома улыбнулся неопределенно:
— Посмотрим.
9
В первые дни Тома совсем забыл о Динке и их последнем разговоре. После полудня он обычно отправлялся в клуб. Там с каким-то ожесточением рылся в газетах и журналах, но это занятие скоро надоело ему. Его сверстников не было в селе. Все они разлетелись по университетам, стройкам, заводам, шахтам. В клубе собирались школьники и старики. Комсомольцы проводили свои собрания, устраивали молодежные вечера. Тома однажды зашел на такой вечер, но больше его туда не тянуло. Не потому, что не хотел потанцевать, вовсе нет. Но каково ему было находиться среди ребят и девушек, которые моложе его. У них свои компании, свои интересы и желания. И вели они себя друг с другом совсем по-детски, и он чувствовал себя между ними еще более одиноким, а то и смешным… Среди темно-синих шинелей и круглых фуражек учеников, среди беретов и сатиновых платьиц учениц Тома видел себя аистом на мелководье, где вода была темна от мальков. И чем бесшабашнее веселилась молодежь, тем острее чувствовал Тома свою взрослость как человек степенный, испытавший и повидавший многое.
Кроме школы, за его спиной еще три года службы в армии и одно лето, последнее лето, полное размышлений и тайных тревог за свое будущее.
С каждым днем Тома открывал в себе другого человека. Этот, другой, немногим отличался от первого. Он тоже хотел веселиться, быть любимым, но все, чего он хотел, должно быть не мимолетным, а прочным. И сейчас этот другой человек все чаще и чаще начинал возвращаться к своему разговору с Динкой. Динка тогда велел ему подумать… найти его… сообщить. Обещал помочь. А сможет ли? Тома не сомневался — сможет! Динка был не из тех, кто бросает слова на ветер. Он знал, что Динка сделает для него все возможное, как брату подаст руку, только бы он захотел, осмелился… Беда была в том, что Тома все еще не мог решиться, не хотел огорчать Старика, чего-то боялся… Чувство, которое их связывало, все еще не потеряло силу. Хотя Тома понимал, что Динка был прав, когда говорил ему о будущем, но как махнешь рукой на все то, что окружало его здесь, дома? Как только он входил во двор, сразу же воскресало его детство. Кричало о себе из каждого угла. Воспоминания хватали за руку и вели по комнатам. В памяти откуда-то появлялись два вола, которых Старик сделал ему из кукурузных початков, слышался перелив узорчатой дудочки, которую он принес ему с чипровской ярмарки. Горбатый вяз напоминал ему о Дако… Так раз от разу развеиваются осенние листья под свист гайдуцкого ветра.
Из-за этих мыслей ему не сиделось дома.
Едва закончив работы по хозяйству, Тома удирал со двора и отправлялся к холму, на виноградники. Осенние краски захватывали его своим разнообразием. Пламя акаций переплеталось с желтизной шелковиц и вязов. Еще живая кое-где зелень сливалась с ультрамарином неба, а медные шапки дубов грозно нависали над поздним румянцем диких груш. Тома вбирал в себя эти цвета, и ему казалось, что он попал в какой-то фантастический мир, где он чувствовал себя сильным, бесстрашным путником, который должен достигнуть своей цели. Кто знает почему, в эти минуты в сознании его всплывал образ Марги. Улыбаясь, она звала его, говорила дорогие ему слова, но тут откуда-то возникал обходчик с острым огоньком своей сигареты, и мир вокруг гас, обретая прежние цвета и формы. Осенние краски мешались, поле умирало, погребенное в собственной тишине, и только потрескивание падающих сухих виноградных листьев напоминало о вечном круговороте, одинаковом и для людей, и растений, и птиц. Тома бессознательно жевал подобранный виноградный лист. Сладковатый вкус стебелька сливался с терпким привкусом купороса, но он не чувствовал этого. Шагал, задумавшийся, сосредоточенный. Люди, лица мелькали в его памяти. Всплывали образы тех людей, которых он хорошо знал. Одни всплывали лишь на миг, другие задерживались дольше. И только Динка больше всех оставался вместе с ним. Он видел его согнувшимся над лопатой, худощавого, с морщинистым, но моложавым лицом, с маленькими вытянутыми назад ушами. Когда Тома впервые встретил его, то подумал, что они сверстники, и удивился, узнав, что Динка бывший партизан.
— Сколько тебе было, когда ты ушел в горы?
— Девятнадцать…
Потом много раз Динка рассказывал о партизанской борьбе, но никто из его товарищей не чувствовал, что он хочет возвыситься над ними, а ведь ему было чем похвалиться, нарисовать себя героем. Эта скромность нравилась Томе, и он привязался к нему. Тома знал людей, которые не прочь были приписать себе невиданные заслуги, хотя их помощь партизанам была весьма скромной: всего-то дал немного хлеба. Эти люди бегали по всем инстанциям, трубили во все горло, просили удостоверить, грозили и, получив наконец нужные бумаги, старались дорваться до теплого местечка. А он, который не меньше года скитался по горам, ел щавель, зеленые листья с деревьев, спал на камнях, укрывшись облаками, теперь вертел лопатой, как и все из их бригады, таскал тяжелые сита и вместе с ними делил заботы и неурядицы. Поначалу Томе виделось что-то ненормальное, обидное для Динки. Почему он, бывший партизан, должен копать песок рядом с таким типом, как Политический? «Может, он в чем-то провинился?» — думал Тома. В конце концов не выдержал и, улыбаясь смущенно, спросил:
— Тебе дали по шапке? За что?
— По шапке? Нет. Почему спрашиваешь? — Динка в первый момент не понял подоплеки вопроса.
— Ты бывший партизан, а работаешь с нами на песке.
— Сейчас — да, работаю на песке, а когда будет готов завод, стану к машине. — Динка засмеялся. — Не думай, что стройка легче ратного партизанского труда. И тут нужны люди, юноша, и там…
Тома понял: это была большая правда, высказанная самыми обыкновенными словами.
В эту ночь Тома вернулся рано. Решил поговорить с отцом. Надеялся: старик поймет его. Что было скверного в том, что он хотел учиться или поступить на завод? Кто из парней остался в селе? Все они ушли учиться, строить. А он что, обсевок в поле?
С такими острыми мыслями Тома перешагнул порог своего дома. В нос ударил запах ракии, крепкого табака. У Старика был гость, пастух кооператива дядя Ставри. Он, не переставая, курил большую самокрутку и шумно сморкался. Старик сидел на низком стуле, глухо покашливая, то и дело прикладывался к плоской бутылочке.
— Будь здоров! — говорил Старик.
— На здоровье не жалуюсь! — отвечал пастух.
Они были сверстниками, вместе росли, женихались и теперь легко находили общие темы для разговора. Пастуха тянуло на воспоминания о прошлом. Вдруг он вспомнил о часовне св. Петки и о какой-то украденной козе, спрятанной там.
— Коней ей пришел… Вечером надели на вертело. Поджарили и съели. — Пастух поднимал свои необычные русые брови, а каждую фразу заканчивал грубым матом. Отец слушал его улыбаясь. А там, где рассказ был особенно интересен, он бил ладонью по колену и громко восторгался. На его настроение явно влияла плоская бутылочка. Она была уже ополовинена, значит, старики сидят уже давно.
Увидав Тому, пастух прервал рассказ и подал ему руку.
— Давно мы не виделись с твоим батей, а ведь одногодки. Дай-ка, думаю, зайду, угощу своей сливодрянкой. Настоящий денатурат из сливы и кизила. Ну а ты как? Растешь, а? Растешь! Расти, расти, скоро мы тебя оженим. — И, мысленно повторяя свои последние слова, подмигнул шутливо и потянулся к бутылке. — Женихов на селе раз-два, и обчелся, так что девчонки заглотят тебя, как просфору. Так вот, приметил я одну молодую учительницу, не знаю, откуда она появилась. Глаза такие — так и зыркают во все стороны. Гоню я стадо намедни. Возле собака трусит — мирно, спокойно. А она вдруг как закричит, заплачет… Ужас! — Пастух запрокинул голову, отпил и подал бутылку Томе: — Попробуй… — И, вернувшись к разговору об учительнице, добавил: — Я слышал, что такие, которые пугаются, хорошие…
Тома смутился и поспешил глотнуть из бутылки. Ракия обожгла горло, выжала из глаз слезы.
— Какова? Огонь, а?
Тома согласно кивнул.
— Такая ракия была у меня только один раз. Давно-давно. Жила у меня тогда огромная собака Караман. Придумал я ее сфотографировать. Позвал из города фотографа. Помню, по фамилии Лучков. Снял он мою собаку, и я угостил его. Собрался он уходить, а встать не может. Все же поднялся, шагнул и растянулся на лестнице. Понимаешь, пластинка, на которую была снята собака, разлетелась на куски. Стыдно стало человеку, так и не показался больше. Привез я другого, из Чирпана.
— Сохранилась ли фотография? — полюбопытствовал Тома.
— А почему бы нет! — удивился пастух. — В рамку вставил! По правде, рамка была не для собаки. Тейко, прости его бог, приготовил ее для себя. Так уж получилось, сняться не смог, вот и досталась рамка Караману. Когда зайдешь ко мне, то сразу увидишь. Снимок выгорел, но видно, что собака была хорошая.
Тома слушал пастуха, но думал о своем. Старик захмелел. Он все громче хмыкал, хлопал ладонью по колену, то и дело поднимал бутылочку. Тома понял, что задуманный разговор с отцом придется отложить. Он еще посидел немного и ушел в соседнюю комнату. Лег, но пьяное бормотание за стеной не давало уснуть. И, когда он задремал, уже в полусне, уловил голос отца:
— А что, учительница, говоришь, стоящая?
Тома улыбнулся, да так и заснул с улыбкой на лице. Утром он дождался отца у колодца и рассказал ему о советах Динки. Старик выслушал, нахмурился и отрезал:
— Пустяки! Если он мог, то первым делом устроил бы себя. А об учебе подумаю. Если обзаведемся буйволами, разбогатеем, тогда и будем думать о науке. А сейчас тебе достаточно и того, что есть…
— Но… — попробовал возразить сын.
— Никаких «но», — одернул его Старик. — Сколько мог — я тебя учил. Больше не могу! Стар уже…
— Но я не прошу у тебя денег.
— А куда пойдешь? Некуда! Выброси из головы эти глупости. Да смотри, не забудь про учителку. Покрутись вокруг нее. Что ни говори, каждый месяц зарплата в дом пойдет. Я сказал все! — И, не выслушав доводов сына, он повернулся к нему спиной и зашагал к хлеву.
10
Запестрели по городам и селам осенние ярмарки.
Люди готовились к ним все лето. Ребята собирали оброненные в полях початки кукурузы, чтобы продать и скопить левы. Хромой певец Петко Топалал штопал старый зонтик и подбирал в свой репертуар кто знает откуда выкопанные песенки о страшных событиях и душещипательных историях. Софийский цирк натягивал свой белый купол. За неделю до открытия ярмарки уже вертелись «чертовы колеса». Новые выставочные павильоны готовились показать достижения кооператоров.
Ночами тесная немощеная площадь городка кишела народом. Сверкали на качелях разноцветные лампочки. Кашляли, захлебывались движки. С плоских стен тиров улыбались накрашенные девицы, сзывая деревенских женихов.
Каждый веселился как душе угодно. В набитых до отказа пивных музыканты глохли от собственной музыки, задыхались от едкого запаха кебаба.
Томе нравилось толкаться в толпе, задерживаться у тиров и, как всякому парню, пробовать меткость своего глаза.
Тут, среди крика фокусников и хриплых голосов модных певцов, он чувствовал себя как рыба в воде.
Нынешняя ярмарка была для него долгожданным событием. Уже с раннего утра он смешивался с оживленной толпой, на какое-то время забывал о том упрямом чувстве, которое зрело в его душе все это лето. Шутил со случайно встреченными старыми знакомыми, заигрывал с девушками, а глаза его не переставали шарить по лицам людей. Иногда он прибавлял шаг, устремляясь за каким-нибудь пестрым платьем, но вдруг останавливался, разочарованный и опечаленный. Девушка и вправду походила на Маргу, но от этого было не легче. И странное дело, к вечеру обострялось непривычное для него чувство одиночества.
Наступал вечер, темный и влажный. Зажглись первые лампы. Пестрая базарная толпа стала еще плотней. И хотя недавно прошел дождь, над головами людей клубилась пыль, поднятая сотнями ног. В свете ламп она казалась маленькими облачками молочно-белой сахарной кудельки.
«Куда пойти? — Тома остановился в самой гуще толпы. — Туда, где Старик приценивается к волам? Но что мне там делать?»
С тех пор как открылась ярмарка, отец с утра до ночи вертелся вокруг волов, ожесточенно торговался с их хозяевами, быстро загорался и так же быстро остывал. Твердым кулаком толкал в ребра худую скотину, ругался, как последний извозчик, незнакомым осипшим голосом:
— Черт подери! Нет прежней скотины. Разве это буйволы? Слезы одни. Падаль…
«Ну его, пусть сам торгуется», — отмахнулся Тома. И пока он соображал, как убить время, за ближним тиром раздались удары барабана, запищали флигорны, и толпа понеслась, увлекая его. Что там такое? Он приподнялся на носки и оглядел натянутый брезент. Перед входом крупными буквами объявлялось о показательной борьбе местных силачей. Каждый болельщик всего за несколько левов может пережить незабываемые минуты. Музыканты — все они цыгане из Хаскова — ожесточенно дули в блестящие флигорны, а барабанщик, склонив набок голову, с силой бил по натянутой коже, будто молотил коноплю. Вдруг шум стих, занавес раздвинулся, и на низком помосте появился толстый с крутыми бицепсами борец.
«Дервиш!» — поморщился Тома. Он бывал на его выступлениях много раз, знал его спортивные возможности и потому, решительно повернувшись, стал пробиваться вперед. Добравшись до первых рядов, Тома, удивленный и смущенный, остановился. Перед ним была Марга. Взгляды их встретились, и они отпрянули друг от друга, смущенные и в то же время обрадованные.
— Здравствуй!..
— Здравствуй!.. — чуть слышно ответила она.
И тут, под крики ярмарочных торговцев, под тугие выхлопы движков они стояли молчаливые, как люди, которые долго искали друг друга, а когда добрый случай свел их, они не знают, что сказать.
Отгремела ярмарка, а Тома все еще не мог прийти в себя, вернуть себе прежнее душевное равновесие. Он чувствовал себя путником в незнакомом мире и потому не мог найти покоя. В каждом звуке он открывал нотку голоса Марги, в каждом предмете замечал что-то от нее: или цвет ее глаз, или нежность ее робкой руки. В который раз он мысленно все переживает заново.
Вот они пробираются сквозь толпу и, чтобы не потеряться, стараются держаться друг друга, но люди вокруг будто сговорились толкать их и мешать им. А они натыкаются друг на друга и при каждом прикосновении смущаются, испытывая неловкость. Вдвоем поворачивают за тир, идут мимо цирка, показываются у палаток мелких торговцев. Тут светло как днем, и это вызывает у обоих еще большую неуверенность. Куда-то исчезли все слова, и они подолгу думают, прежде чем сказать что-то. Но непринужденный рассказ Марги о том, как она пересдавала французский, рассеял их стеснительность. Тома покупает пестрого сахарного петуха и, кланяясь, говорит:
— По случаю успешной сдачи экзамена…
Марта улыбается, а петух неожиданно клюет ее в губы, как бы целует. Его маленькая тень скользит по ее лицу. Она вдруг спохватывается: потеряла подругу, надо идти искать. Тома успокаивает ее, а потом они вместе отправляются на поиски ее подруги. Долго толкаются среди многоголосой толпы, и каждый про себя думает: хоть бы ее не встретить. Толпа все больше редеет, и они идут через городской сад, сворачивают на темную узкую улочку и подходят к дому Марги.
— Я здесь живу, — говорит она.
Тома хочет проводить ее до ворот, но Марга останавливает его:
— Не надо, увидят…
При этих словах старая ненависть к отцу Марги снова вспыхивает в груди Томы, но неизвестно почему она сейчас какая-то отдаленно-расплывчатая. Он хочет рассказать девушке об обидном разговоре с ее отцом, но, подумав, решает, что лучше сделать это в другой раз. А сейчас он сжимает ее руку:
— Завтра я тебя буду ждать!..
— Где? — спрашивает она.
— У цирка… В то же время…
Они оба пришли раньше назначенного часа. Снова плутают в пестрой толпе и, чтобы не потерять друг друга, держатся за руки, как маленькие дети.
— Только бы меня не увидели свои! — пугается она.
— Ну и пусть! — успокаивает ее Тома. И, улыбаясь, с неожиданной легкостью рассказывает о случае с ее отцом. Понятно, он не упоминает, что его назвали «грузчиком». Да ему и самому теперь кажется, что было сказано другое слово, совсем другое, безобидное, и он его не может вспомнить.
— А меня отправили в город из-за тебя… Запретили встречаться, потому что…
Она не досказала, но он понял все и нежно сжал ее маленькую ладонь. Это его пожатие и разрушило преграду между ними. Она сказала вслух о том, о чем они еще не говорили, что уже жило, связывало их. И, может быть, оно и только оно на следующий вечер побудило Тому поцеловать ее. В сущности, поцелуя еще не было, а была лишь неумелая попытка. Но для начала — это необыкновенно. Прежде чем расстаться, он обнял ее неловко, и, когда в темноте губы их стали искать друг друга, она испуганно отстранилась и он успел лишь чуть прикоснуться губами к ее волосам.
Этим закончилась ярмарка, оставив Томе то прекрасное чувство. Встречи их продолжались. Каждый вечер Тома мерил дорогу от села до городка, чтобы встретиться с ней, постоять вдвоем где-нибудь в укромном месте, сказать друг другу то, что они долгое время таили в своих сердцах.
А когда деревенские петухи отсчитывали полночь, он возвращался домой усталый, но счастливый. Подолгу не мог заснуть. Ночь проходила за его закрытыми веками, напоенная запахом влаги, наполненная легким шелестом шагов Марги. Утром Старик с трудом будил его. Наказывал, что нужно сделать по хозяйству, а сам торопился в хлев. Осень подходила к концу, а буйволы, о которых мечтал отец, еще не были куплены. И все же он решил подновить ясли, привести в порядок пол. Топор так и играл в его руках. За несколько дней ясли были отремонтированы, обвалившиеся стены выложены вновь, обмазаны глиной. Даже старый фитиль у маленького керосинового фонаря был сменен. Тома таскал ведра глины, дыханием отогревая замерзшие руки. Он удивлялся искусности и силе Старика. Рука у него была тяжелая, удар точен. И вот собраны щепки, подметен и засыпан желтой соломой пол. Отец распрямился, радостным взглядом оглядел все вокруг и проговорил:
— Завтра готовься в поездку… — И, помолчав, сообщил: Сват Калофер говорит, что в Сливенском округе есть хорошие буйволы. Можно выгодно купить.
— Это точно?
— Да, не станет же меня обманывать человек!
Тома замолчал. Бесполезно отговаривать Старика. Он со злостью пнул ведро.
А мысли его полетели к городку, к тому маленькому домику.
Долгой иль короткой будет их разлука?..
11
Всю неделю они ездили по сливенским селам в поисках подходящего товара. Хозяева обычно встречали их приветливо, но вскоре, не скрывая раздражения, выпроваживали. Старик был капризным покупателем. Его опытный взгляд тотчас находил у буйволов изъяны, и он предлагал мизерную цену. Хозяин, конечно, был удивлен и обескуражен. А когда приходил в себя от такого удара, то уже не скрывал свою неприязнь.
— Что? — переспрашивал он. — Ты хочешь, чтобы я их тебе подарил?
— Если подаришь, я их не возьму, — говорил Старик. Он обходил вокруг буйвола и указывал на копыта: — Взгляни, побитые. Разве это работник?
И, направляясь к воротам, оставлял разгневанного хозяина в растерянности метаться по двору. Однажды купля чуть было не состоялась. Буйволы были одно загляденье — откормленные, сильные. Спины их блестели, как голенища начищенных сапог. Старик загорелся. Похлопал их по крутым бокам, в глазах его так и прыгали веселые огоньки. Понравились, видно, ему. В таких случаях он готов был выложить, сколько бы ни попросили, лишь бы скорее погнать их домой. Хозяин так и застыл на пороге с напряженным неспокойным лицом. За ним, опершись на дверь, стояла его дочь, молодая красивая девушка. Она не спускала глаз со Старика. Сразу видно: хочет что-то сказать ему, но как скажешь при отце? И только тогда, когда Старик собрался заговорить о цене, девушка набралась храбрости и, прячась за спиной отца, показала на шеи буйволов. И хотя Старик не понял ее жеста, но, удивленно подняв брови, насторожился. Что он проглядел? И вдруг неожиданная догадка осенила его. Он подошел к животным и снова стал их оглядывать. Те лениво смотрели на него огромными глазами, спокойные и послушные.
Старик остановился у буйвола, более упитанного и гладкого, и нажал пальцами на его затвердевшую шею. Животное вздрогнуло, а белки его глаз помутнели от боли. То же произошло и с другим. И только сейчас Старик понял предупреждение девушки: шеи у буйволов сбиты, и они были непригодны для работы. Старик поискал девушку глазами, но та исчезла. В дверях стоял лишь ее отец, подавленный и расстроенный.
— Не годятся, — грустно процедил Старик.
— Что поделать, — ответил тот.
Больше они не сказали ни слова. Хозяин не провожал их. Когда они уже закрывали за собой ворота, откуда ни возьмись — девушка. Она вызывающе смотрела на Тому и была неотразимо красивой. Глаза ее встревожили, опьянили парня. Она ему нравилась! Но вдруг он вспомнил Маргу и рассердился на себя: «Этого еще не хватало!» Он еще не решил, чем ответить девушке на ее настойчивый взгляд, как раздался голос отца:
— А ты, девушка, почему меня упредила?
Она оглянулась, боясь, что ее услышат родные, тихо сказала:
— Отец не хочет вступать в кооператив. А я… и… — Тут она заикнулась и вдруг выпалила: — Твой сын мне приглянулся… — И бросилась к дому.
Тома стоял ошарашенный, а Старик погладил свои усы и покашлял многозначительно. Шли они молча, каждый занятый своими мыслями.
«Смотри ты, какой цыпленок вылупился… В кооператив ей захотелось. — Старик морщился. — Такая войдет в дом, все перевернет вверх дном… Перец-девка…» А Тома, вяло переставляя ноги, чувствовал себя униженным и осмеянным. Какая-то девчонка борется за свое, а он вот живет умом отца, отщепенцем делается…
Весь день эта мысль не давала ему покоя.
12
И вот буйволы найдены и куплены. Правда, не хватило денег, но хозяин оказался сговорчивым. Условились, что, когда он получит недостающие левы, тогда и вышлет справку о продаже. На этом заботы кончились, отец и сын рано утром отправились в дорогу. Сначала буйволы упирались, не шли, вынуждали вести их на веревке, но вскоре попривыкли и зашагали охотно. Теперь отец н сын тащились позади, подгоняли легонько. По сторонам дороги чернели пашней поля. Они тянулись к низкому горизонту, сливаясь с ним и делая его черным. Одинокие колючки качались на ветру. К полудню пошел дождь. Он моросил не больше часа. Небо посерело, опустилось, словно припало к земле. Старику казалось, что, если он взмахнет посохом и нечаянно заденет, оно зазвенит как жесть. К вечеру в небе загомонили стаи ворон. С надрывным карканьем они неслись над полем, предвещая раннюю зиму. Путников ждала впереди плохая погода и длинная дорога. В кромешной темноте, грязные и уставшие, вошли они в тот вечер в попавшееся на пути ямбольское село. Привязали буйволов к забору и, чтобы согреться, забежали в корчму и выпили вина. Пошли поискать навес для скотины.
— Справьтесь в сельсовете, — посоветовал корчмарь.
Старик долго колебался, пойти или нет. На руках не было справки о купле буйволов, и это пугало его. Конечно, он был прав. Мало ли за кого могли их принять?
И все же решили пойти вдвоем. Председатель выслушал их просьбу, оглядел подозрительно, задержал взгляд на раскрасневшихся от вина лицах и бросил:
— Кулакам услуг не делаю!
Прежде Старик подскочил бы, ударил кулаком по столу, но сейчас схитрил:
— Видишь ли, товарищ председатель, мы не кулаки, а рабочие из Димитровграда. Завод послал нас, вот мы и купили буйволов для его нужд. Очень-то нам приятно скитаться по бездорожью, под колючим ветром. А ты сразу — обижать…
Он говорил, а глаза его беспрестанно ощупывали лицо председателя, замечали, как глубокая складка делалась все тоньше, сглаживалась, как поднимались навесы выцветших бровей, и не спешил замолчать:
— Кулака, товарищ председатель, в такую погоду не увидишь на дороге. Его и кнутом не выгонишь из дому. Попивает ракию, и плевать ему на общественные заботы… А такие, как мы, топчут дорогу в любое время, только бы дело шло… Так?
И, выждав, когда Председатель кивнул в знак согласия, продолжил:
— Что мне стоило отказаться, а вот на тебе, согласился… На прошлой неделе зовет мой начальник Кара-ински. Посидели, поговорили, ну, выпили под конец. И тут он говорит: «Ты думаешь, дядя Даньо, для праздных разговоров позвал я тебя? Нам вот так нужны два буйвола. Осень, дожди, на реках начинается паводок, на грузовике к пескам не подберешься. Буксуют. Так что нас могут спасти только буйволы. У тебя, говорит, верный глаз, поброди по кооперативам, пригляди пару буйволов». Подумал я, подумал, товарищ председатель, и согласился…
Во время разговора Старик придвинул свободный стул, сел к печке, зябко потирая руки. Было видно, что он не собирался кончать разговор. Брови председателя перестали хмуриться, и из-под них взглянули два чистых доверчивых глаза.
— Вот и пошли с сыном… Туда, сюда, вплоть до Сливена. Торговля, товарищ председатель, как охота, увлекает. Идешь — идешь, а оглянешься — удивление возьмет: как осилил такой путь. Вот и с нами случилось то же самое…
Старик ударил рукой по колену и подмигнул по-свойски:
— Дивлюсь моим ревматическим лошадкам. Все еще служат мне. — Он вытянул свои промокшие ноги и продолжил: — А на каких буйволов напали? Цены им нет. Если на этот раз Караински не раскошелится на угощение, грех ему на душу…
— Как он сейчас? — неожиданно спросил председатель.
— Кто? — не сразу понял Старик.
— Караински… Мы с ним знакомы…
— В добром виде… Начальник, что ему? И машина у него — как машина, и жена — как жена…
— Так-то оно так, но и ему нелегко. Обо всем надо думать… Техника и вот эти буйволы… Ответственность — не шуточное дело! — подчеркнул председатель.
— Прав ты… Все точно, — поспешил согласиться Старик.
Он уже не боялся за ночлег. Председатель был завоеван. Крыша обеспечена. Охота вести разговор вдруг пропала. Тепло чугунной печки разморило, его клонило ко сну. Это не укрылось от добродушного взгляда хозяина, и он велел рассыльному отвести буйволов в пустой общественный хлев, а сам проводил гостей в маленькую комнату с двумя жесткими кроватями.
Председатель оказался сердечным и любопытным человеком. Он с интересом слушал рассказ и о заводах и о стройках.
— Ну и размахнулись! — дивился он. — Как подумаешь, целый город надо построить, так оторопь берет. Раньше только одну школу смастеришь, с ума посходишь. А тут — город!.. А в общем — чему удивляться? Раз государство взялось…
И он улыбался своей особенной светлой улыбкой, преображающей суровое крестьянское лицо.
— Теперь человеку, если он молод, скучать и киснуть не приходится. — И, бросив взгляд на Тому, хлопнул парня по плечу. — Завидую вам, молодым, мой младший тоже на стройке. Может быть, вы встречались… Вроде бы в шутку уехал, а прижился и, если судить по письмам, не собирается обратно… Да и что ему делать в селе? Машины заменили буйволов, а о пахарях и не говорю. — Председатель вынул пачку сигарет, угостил их и, пожелав спокойной ночи, осторожно прикрыл за собой дверь.
Тома долго ворочался. Добрая улыбка председателя, казалось, все еще присутствовала в комнатушке и волновала его. Это «завидую вам, молодым» дрожало, как пестрая бабочка, и билось о решетку его ресниц. Если председатель поймет, что Старик его обманул, то нетрудно представить, как он их выпроводит.
С утра у Томы было плохое настроение. Умылся у колодца и стал настаивать поскорее отправляться дальше. Небо, темное и тяжелое, жалось к земле, напрочь закрыв солнце. Ржавая крыша колокольни темнела рассевшимися воронами. Их хриплые крики толкались в низкое небо и беспомощно падали во дворы.
— Пойдем, что ли! — торопил Тома. А Старик все вертелся и вертелся вокруг буйволов. Он то и дело поглядывал в сторону сельсовета. Ждал председателя, чтобы проститься, сказать спасибо. Что, если он воспримет поспешный уход как бегство и усомнится в чем-то?
«Что он подумает, если мы уйдем?»
И вот пришел председатель. Он немного проводил их, наказал передать привет своему сыну. Осветил их своей солнечной улыбкой и помахал рукой. Прежде чем сделать шаг, Старик вытащил из кармана клочок бумаги, протянул председателю: в знак благодарности свой адрес. Конечно, он был фальшивый. Долго жал председателю руку и говорил:
— Возьми, возьми, ведь мы же люди! Вдруг придется завернуть к нам. Разве ж человек знает, где его застигнет беда.
Тома стоял за буйволами и готов был провалиться сквозь землю. Впервые он видел своего отца таким неблагодарным и бесстыдным.
Тронулись.
Тома шел мрачный и задумчивый. Его преследовал крик ворон. Старик, наоборот, был веселый и довольный. Он то покрикивал на буйволов, то хлопал их по крупам широкой ладонью. Не выдержал, подмигнул сыну:
— Видел, как я его облапошил…
— Видел! Но как тебе было не стыдно?
— За что? — вскинулся отец. — А он имел право называть меня кулаком?
— А кто еще сейчас покупает буйволов!..
— Да ты что? — Старик остановился.
— Ничего! — мрачно ответил Тома.
Этот неопределенный ответ и тон, каким он был произнесен, окончательно обозлили Старика. Он гневно взглянул на сына и шагнул к нему:
— Мал еще меня учить!
— Я не учу, только говорю!
— Когда будешь кормить, тогда и говори.
— А ты что, меня кормишь и на этом основании постоянно вправляешь мозги! — вскипел Тома. Его покорность и уважение к отцу вдруг испарились. — Если ты настоящий отец, как ты всегда твердил, ты бы позаботился, чтобы сын твой получил образование, а не надрывался бы на реке.
— Неблагодарный! — взревел Старик и размахнулся посохом.
Удар был неожиданным для обоих. Тома отскочил в канаву, и губы его задрожали.
— Если замахнешься еще раз…
— И что же?
— Возьму и переломаю о… — Парень едва сдержался, не сказал главное, но Старик догадался:
— О меня? Нет у тебя стыда!
Спотыкаясь, он заспешил по дороге.
Тома потащился за ним. Он чувствовал себя униженным, раздавленным. Случилось то непоправимое, что должно было случиться. Но он не хотел, чтобы это произошло тут, на этой грязной дороге, под этим мрачным небом… Сыновние добрые чувства к отцу разлеглись, на их место хлынули гнев и разочарование. Удар посоха подсек последние корни покорности. Между ними легла глубокая пропасть, и Тома видел ее ясно. Первую трещину в их отношения бросила его служба в армии. Если Старик оставался таким, каким и был, то сын заглянул далеко за сельский горизонт и понял, что мир не кончается за ближними холмами. Томе казалось, что последние три года подняли его на какую-то удивительную высоту и он никогда не захочет спуститься с нее, чтобы вернуться к тому, откуда началось восхождение. И все-таки если он вернулся, то только из-за любви к Старику. Отец жил в его памяти как сильный и справедливый человек, который когда-то показал Делиданеву, где раки зимуют, нашел силы порвать со своей женой, матерью Томы. Слово и дело его никогда не расходились. Он считал его самым умным. И вот теперь эти впечатления детства и юности подвергались переоценке. В своем гневе Тома видел отца очень грубым и самоуверенным. Такой не мог быть справедливым и умным.
«Может, я ошибаюсь? — спрашивал себя Тома и сам отвечал: — Нет и нет!»
В такие минуты человек начинает переоценивать ценности, отвергать все, чем жил до сегодняшнего дня. Еще вчера верил в это, принимал, а теперь оно кажется ничтожным, не заслуживающим и малейшего внимания.
То же самое переживал и Тома. Сомнения влекли его назад, возвращали в юность. Память воскресила далекий весенний день, дрожащую руку, заплаканные глаза. Это была рука матери, ее глаза. Она появилась в гимназии на перемене. Когда ему сообщили, что к нему кто-то пришел, он со всех ног бросился бежать, не зная, кто бы это мог быть. И когда он увидел в коридоре мать, ее глаза, его будто что-то подтолкнуло к испитой бледной женщине, и губы его готовы были крикнуть: «Мама!» Но все, что он слышал о ней от отца, вдруг встало между ними. Он повернулся и скрылся в классе. От этой первой и последней встречи память оставила ее испуганные глаза и дрожащую руку, сжимающую бумажку. Деньги. Наверно, для него…
Давно это было. Он не возвращался к этому воспоминанию, гнал сто. Все, что он знал о своей матери, он знал от Старика. А ему Тома слепо верил.
Сейчас отношение отца к матери Томы казалось парню чудовищным, страшным, но ничего уже нельзя исправить. Ее уже не было. О ее смерти он узнал, когда служил в армии. Сообщил ему об этом не кто иной, как его сводный брат, которого он и не знал.
«Мамы уже нет», — писал тот. И из всего письма Тома помнил сейчас лишь три эти слова.
Он думал, что то, что он знал о матери, не могло быть правдой, что виновата не она, а его отец. Это его деспотизм стал причиной ее ухода. «Нет, женщина с такой грустью в глазах не могла быть плохой», — думал Тома. Гнев и муки рвали его сердце. Он смотрел на согбенную спину Старика, но сочувствия и сожаления к нему уже не было. Он их оставил где-то по дороге, не нужные никому.
«Бить меня вздумал, потому что кормил меня! Смотрите-ка! Захочется ему, и завтра врежет мне за буйволов. Скажет, я подбил его купить их… Люди что делают? Заводы строят, города. А он собрался скотиной мир удивить. Ну разве не выжил из ума старик!»
Тома впервые так думал о своем отце. Мрачная осенняя погода как бы аккомпанировала его мыслям. Дорога извивалась среди голой полысевшей рощи. На высоких деревьях маячили колючие сорочиные гнезда. Меж стволами просвечивались огни ближнего села, и гнезда походили на фонари грубой работы.
У околицы их нагнали двое мужчин, по всему видно, крестьяне. Поравнявшись, они поздоровались со Стариком. Широкие бурки как бы уравнивали их возраст, но лица, освещаемые короткими вспышками сигарет, говорили о разнице их лет. Старику было не до разговоров. Шлепая по грязи, он молчал. Отозвался лишь тогда, когда речь зашла о погоде. Запалив самокрутку, спросил, как называется село. Тот, что был постарше, не удовлетворился коротким ответом, а стал подробно объяснять, почему село так называется и с каких пор. Его особенно никто не слушал, но и не перебивал. Когда тот кончил, Старик попыхал самокруткой и как бы между прочим ввернул, что тут жил его приятель. Сколько лет он собирался к нему в гости, но все не приходился удобный случай.
— У него самый видный дом, — закончил он.
— А как его зовут? — полюбопытствовал молодой.
— Коста Костандов…
При упоминании этого имени крестьяне замолчали. Тот, что постарше, процедил сквозь зубы:
— Был самый видный! — И, указав пальцем на огонек, чуть брезживший на холме, прибавил: — Вон там… Видите?
От словоохотливости попутчиков и следа не осталось. Молодой кулаком ткнул в бок ближнему от него буйволу, шумно сплюнул и, не попрощавшись, торопливо зашагал вперед. Старший последовал за ним. Но прежде чем скрыться во мраке, обронил:
— Не тог человек этот твой знакомый!..
Тома усмехнулся. И если бы отец видел эту усмешку, он непременно бы рассердился. Но Старик шагал, будто ничего не слышал, и грязь булькала под его ногами. Буйволы сливались с темнотой, и только кляцание копыт выдавало их присутствие.
Высокие крепкие ворота были наглухо закрыты. Старик постучал. Внутри кто-то засуетился, долго переспрашивал, кто и зачем, наконец открыл. Это был хозяин, толстощекий и упитанный.
Встретили их приветливо. Дом — красивый, с чердаком и верандой, выгодно поставленный на виду у всех, — был просторен. Все в нем говорило о прошлом благополучии и довольстве. Поужинав и выпив вместе с гостями, хозяин пустился в разговоры, охотно и откровенно, очевидно, впервые хотел выговориться перед чужими. У него забрали мельницу, национализировали чесальную машину, не пустили в кооператив. Но, если они его сейчас покличут, он не отзовется. Дурак он, что ли, батрачить? И, щуря острые глаза, говорил с угрозой:
— Поплатятся товарищи за чужое. Отец мой, прости его бог, говаривал: твое вернется к тебе сторицей. Придет время, придет. На грешной земле ничто не забывается.
Тома слушал и хмурился. Старик, сидя за столом, неопределенно кивал, очевидно, чтобы не обидеть хозяина. И болтовня хозяина, и молчаливое поддакивание отца раздражали и злили Тому.
Спать улеглись поздно и молча. Старик долго устраивался на мягкой кровати. Усталость и мрачные думы мешали ему заснуть. Ветер завывал под черепицей, в его голос вплетались собачий лай и лошадиное ржание. Но когда порывы ветра усиливались, все вокруг начинало свистеть, подвывать, хохотать и плакать, пока постепенно звуки не превращались в один тонкий и плаксивый, и он, достигнув самой высокой точки, обрывался, будто струна годулки. После этой драматической развязки наступала такая тишина, что слышался скрип червяка в чердачной балке.
Прислушиваясь, как червяк точит дерево, Старик думал о себе, о годах, потерянных в работе. Он сравнивал себя с червяком. Сколько бурь пронеслось над его головой, сколько людей получили свои три аршина земли, а он все еще стоит на ногах, борется, грызет балку жизни, как тот неугомонный червяк, страдающий бессонницей. А для кого старался? Все пошло на ветер.
Успокоение не явилось и во сне. Теперь его захватили сновидения — они понесли его по грани между реальным и фантазией, закружили в водовороте былей и небылиц. Сначала ему приснился отец. Он молча, легко и просто проломил стену дома и потащил его через пшеничное поле по высокой стерне. Перед ними черным облаком летели кузнечики. Еще не успев опуститься на землю, они начинали скрипеть на огромных скрипках. Все вокруг звенело и пело, будто наступил потоп звуков. Когда они поднялись на поле Хаджова, звуки стихли. Оглядев равнину, отец проговорил чужим осипшим голосом:
— Твоя земля, сын. Вся…
— Моя! — Старик не поверил своим ушам и глазам, задохнулся от радости. Он нагнулся, взял горсть земли, но когда выпрямился, отца рядом не было. Там, где он стоял, лежали тяжелые носилки для песка. Равнина до горизонта была залита мутной водой. Вода подхватила и понесла носилки. И чтобы их не упустить, Старик прыгнул в них. В спешке он потерял равновесие, упал в воду и стал тонуть.
Ужас охватил его. Тело начала бить крупная дрожь. Он вскинул руки и… проснулся. Инстинктивно схватился за сердце. Оно молчало. Наверно, в это мгновение ему хотелось показать свою власть, и потому оно выжидало. Но вдруг оно подпрыгнуло, словно вырвалось из жесткой костистой руки, и забилось ровно и послушно. Старик облегченно вздохнул и оглядел комнату. Тома стоял у окна, словно ничего не замечая вокруг.
Сквозь стекла сочился мутный утренний свет, напоминая о дождливой погоде.
Вставать Старику не хотелось. Из тела, казалось, ушли последние силы. Невидимые острые сверла рвали его всего. Поясница, руки, колени — чужие, непослушные. Смутная тревога овладела им. Наверно, виной тому был сон, ведь Старик все же был суеверен и боялся несчастья. К тому же его отец после своей смерти впервые навестил его.
«Не к добру все это… Должно быть, скоро позовет меня к себе», — встревожился Старик.
Он отбросил одеяло и, кряхтя и отдуваясь, стал растирать сухие жилистые ноги.
— И зачем понесло нас в такую дорогу… Лучше всего подождать бы до весны…
По привычке Старик говорил за двоих.
В стекла ударили капли дождя, Старик встрепенулся и стал поспешно одеваться.
Внизу хозяйка сзывала кур. Они дрались, хлопая крыльями, и приглушенно кудахтали. Им не было дела до погоды.
Тома отвернулся от окна.
Собирались молча. Хозяин юлой вертелся возле них. Вчера пооткровенничал и вот сейчас переживал, боялся и потому старался выпроводить их поскорее и поаккуратнее.
И снова серое небо. И снова сердитые взгляды. И снова мелкий противный дождь.
Старик шагал сгорбленный и еще больше состарившийся. Козья бурка терла ему шею, и он шел, нагнув голову. Это мучило, мешало при движении, но больше всего угнетали тяжелые мысли. Прислушиваясь к кляцанью копыт буйволов и размеренным шагам сына, он чувствовал себя человеком, с которым обошлись несправедливо. Тот, ради которого он всю жизнь гнул спину, чуть не поднял на него руку и чуть не плюнул ему в лицо. На старости лет он тащится по бездорожью покупать для него буйволов, отдает ему последние силы, чтобы он был счастлив. «Зачем все это? Затем, чтобы он угрожал? Упрекал?.. Неблагодарный!» — мысленно казнил себя Старик. Размахнуться бы сейчас и переломить посох о твердолобую его башку. Он, пожалуй, так бы и сделал, если бы вдруг не почувствовал себя перед ним бессильным, потерявшим свою власть. Что он может сделать против крепких рук Томы? Они запросто перехватят палку…
«До чего дожил, а? Какие годы наступили!» — вздыхал Старик.
Его гнев постепенно угасал, уступая место досаде, одиночеству, жалости к самому себе.
«Зачем я не жил, как люди?.. Зачем не женился в свое время, а всю жизнь отдал этому… этому…»
Усталость от долгого пути еще больше усиливала его тягостное состояние. Он уже не раз спотыкался, едва не валясь с ног, но снова шагал и шагал, не глядя на Тому и не произнося ни слова.
Занятый своими мыслями, Старик не заметил, как дождь постепенно перешел в мокрый снег. И только тогда, когда ветер стал бить в лицо, он вздрогнул, будто пробужденный ото сна, и огляделся. Все вокруг заволокло белой мутью липкого снега. Он едва переставлял тяжелые мокрые ноги. Последние три дня ревматизм вывертывал его суставы, а сердце сбивалось с ритма. Сейчас все это слилось в свинцовую бесконечную усталость.
Мокрый снег валил все сильнее. Он залепил, выбелив, придорожные деревья, головы буйволов. Темные их туловища качались перед его глазами, то закрывая перед ним весь мир, то проваливаясь куда-то. Замерзшими руками Старик ухватился за шею буйвола, медленно и мучительно потащился по грязной дороге. Вокруг лежали пустые поля. Черным рваным ковром скатилась воронья стая. Тревожное карканье заглохло в липком снегопаде. Мир спешил встретить зиму, немой и нахмуренный. О Старике словно все забыли. Ноги его заплетались, дышать не хватало воздуха. И вдруг он почувствовал, как все вокруг поплыло, закружилось. Попробовал найти ногам опору, но споткнулся и упал вниз лицом.
— Отец, отец! Что с тобой?..
Старик был безгласен.
Буйволы повернулись задом к ветру, уткнулись головами и стали лениво жевать жвачку. Среди пустого поля они были похожи на двух больших грустных ворон.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg





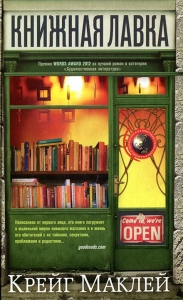

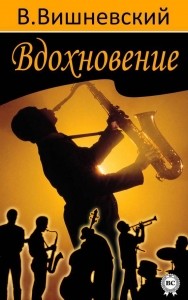

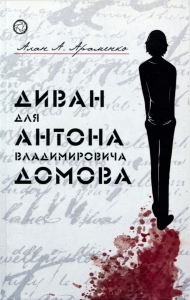


Комментарии к книге «Одиночество», Слав Христов Караславов
Всего 0 комментариев