Ханс-Ульрих Трайхель Тристан-Аккорд
Три коробки с клеймом «La Grange Neuve de Figeac» стояли на самом краю пирса, рядом с железной тумбой, к которой пришвартовался паром. Из всех пассажиров он единственный оказался туристом, все остальные были, судя по отсутствию багажа, местными жителями и сразу заторопились к оставленным на берегу автомобилям и велосипедам. Паром, недолго простояв, отчалил. Август был в самом разгаре, европейский континент изнемогал от жары, но на острове Льюис шел дождь, и в Глазго, где он пересел на «Airshuttle», чтобы лететь на остров Скай, тоже было дождливо. Лишь когда он переправлялся со Ская, стало сухо, и почти все время он просидел на палубе, изучая береговой пейзаж — зеленые луга и невзрачные белые домики, примечательные разве тем, что над каждой крышей возвышалось по две дымовых трубы. Едва он высадился на берег, как снова зарядил дождь. Впрочем, это его не смутило: догадываясь, какая погода его ожидает в Шотландии, он предусмотрительно запасся непромокаемой одеждой. Тогда он еще не мог знать, что шотландский дождь — это не признак плохой погоды. Шотландский дождливый день бывает солнечным и пасмурным. Хорошая погода — это когда светит солнце, плохая — когда небо затянуто облаками. Сегодня «плохая» погода неожиданно сменилась «хорошей». Дождь продолжался, но облака в считанные секунды разбежались, приоткрыв голубой просвет, откуда выглянуло нежаркое августовское солнце. После некоторых колебаний решив все-таки не снимать куртку, он увидел, что по асфальтированной дороге, спускающейся к пристани по склону невысокого холма, едет автомобиль. Это наверняка за ним. Приняв подъезжающий черный лимузин за «роллс-ройс», он занервничал и, понимая, что «роллс-ройс» — это не повод для волнения, тем не менее почувствовал учащенное сердцебиение, сухость во рту и ком в горле. Только когда машина подъехала к самому пирсу, стало понятно, что это не «роллс-ройс», а «бентли». По необъяснимым причинам ему тотчас стало легче, хотя «бентли» был, на его взгляд, ничем не хуже «роллс-ройса». Ожидая приглашения в машину, он нагнулся было, чтобы поднять рюкзак, но дверца распахнулась, и из автомобиля вышел водитель. На нем был серый костюм, светло-серые перчатки и форменная фуражка. Водитель двинулся навстречу, но, явно не собираясь ни произносить приветствие, ни обмениваться рукопожатием, целеустремленно поглядел в сторону и, вперив взгляд в коробки, произнес: «The wine». После чего открыл багажник и погрузил туда все три. Действовал он очень осторожно: коробки под дождем подмокли, и приходилось, чтобы они не развалились, придерживать их снизу обеими руками. Закрыв багажник, водитель сел за руль и нажал на газ, так и не удостоив приезжего ни единым взглядом. Меж тем «хорошая» шотландская погода опять испортилась. Солнце скрылось, с моря подул сырой ветер, дождь незаметно превратился в ливень — он забеспокоился, что водонепроницаемая экипировка его не спасет. Уже и сейчас было холодно, ноги промокли. Он попытался укрыться от дождя под козырьком кассовой будки. Придется ждать, ничего не поделаешь. Адреса ему не дали, все что у него было — это телеграмма, в которой сообщалось, что его встретят на причале, по прибытии вечернего парома. Вот он и приплыл на вечернем и, кстати говоря, единственном здесь пароме, понятия не имея, где его поселят и где живет тот, кто его сюда пригласил. Он знал только, что это шотландская резиденция одного знаменитого английского композитора, коллеги его патрона, композитора не менее знаменитого. Ради своей страдающей депрессиями жены англичанин переехал на юг Франции и пригласил немецкого коллегу погостить в пустующем доме. Англичанина звали Роберт Лич, но музыки Роберта Лича он никогда не слышал. В Германии Роберта Лича никто не слушает, а он и подавно. Можно было бы поискать в телефонном справочнике номер композитора и попробовать дозвониться, но таксофона поблизости не нашлось. А ведь на пристани должен бы быть телефон! — с досадой подумал он. Но телефона не было. Вглядываясь в даль, он видел лишь терявшуюся за травянистым холмом серую, обрамленную овечьими пастбищами асфальтовую ленту, вдоль которой не было не то что телефонов, но и домов. Дождь тем временем стих, и плотная, словно отлитая из бетона серая пелена растворилась, оставив на небе лишь несколько барашков. Сверху все еще капало, однако безнадежный ливень превратился в веселую морось, в водяной пыли играли солнечные лучи, и блуждающими огоньками вспыхивали там и сям радужные сполохи. Еще не успев осознать очередной перемены погоды, он увидел, как вдали вырастает огромная, роскошная радуга: словно триумфальная арка, она празднично освещала всю округу и была ничуть не менее эффектна, чем все то, что обычно видишь на экране телевизора, глянцевых открытках и рекламных плакатах. Но это был не экран телевизора, радуга была настоящая, как и черный «бентли» — вот он опять вынырнул из-за холма и плавно и бесшумно проехал прямо под ней, приближаясь к пристани. Машина вновь подкатила к самому пирсу, и из нее вышел все тот же водитель. Однако на сей раз он приложил руку к козырьку и сказал по-немецки, что его зовут Бруно, что он рад приветствовать на острове гостя и что господин Бергман ждет. «Я тоже рад, — отозвался гость. — Меня зовут Георг Циммер». Дождавшись, пока водитель подойдет поближе, Георг протянул ему руку, но тот уклонился от рукопожатия, нагнувшись за рюкзаком. Георг покраснел до ушей и, хотя водитель уже повернулся к нему спиной, несколько секунд держал руку протянутой. А затем, усевшись на заднее сиденье и вытянув ноги — благо места было достаточно, — задумался о тайной причине, заставившей Бруно манкировать рукопожатием. Из-за перчаток, наверное. Видимо, не принято пожимать руку шоферу, когда он в перчатках. Перчатку положено снять, иначе это невежливо. А шоферу перчатки снимать не следует. Впредь нужно быть осмотрительнее, внушал себе Георг, пока автомобиль удалялся от берега и сворачивал вглубь острова, не следует повторять прошлых ошибок. «А вы всегда были шофером?» — спросил он, чувствуя необходимость сказать что-нибудь вслух. «Нет!» — отрезал водитель. После столь лаконичного ответа Георг решил наслаждаться ездой молча. За окном тянулась гряда однообразных зеленых холмов: из таких, наверное, и состоит вся Шотландия. Не самый приятный пейзаж. Похож на север Германии, места его детства. Только холмов там не было, но даже если бы и были, это нисколько бы не прибавило ему любви к родному краю. В детстве, отчаянно гоняя на велосипеде по бескрайним окрестным полям и лугам, он называл его Зеленым Адом. Если бы местность была холмистой, то от велогонок пришлось бы отказаться. Или стать совсем уж отчаянным сорвиголовой. Но сейчас он не на велосипеде: черный «бентли» везет его по узкой дороге, в глубь одного из Гебридских островов. И он уже не мальчик, а молодой человек, новоиспеченный выпускник университета — смотрящий в будущее с надеждой, хоть и не без робости. Робость связана с тем, что после окончания кафедры германистики перед ним открылась только одна возможность — отнести диплом с очень убедительной квалификацией «Magister Artium» и, увы, гораздо менее убедительной оценкой «хорошо» сперва на биржу труда, а затем в отдел социального обеспечения. Впрочем, даже если бы в дипломе красовалось «отлично» (что на самом деле означает «хорошо», а «хорошо» означает «посредственно»), работники биржи труда все равно не смогли бы ему помочь, почему и направили в социальный отдел, который без проволочек согласился оплачивать квартиру (включая свет и отопление) и медицинскую страховку. Квартиру он делил с двумя бывшими сокурсниками, и поскольку договор об аренде был заключен с одним из них, Георг без труда заполучил бумагу, где указанная сумма арендной платы в два раза превышала реальную. По первым числам каждого месяца нужно было являться в социальный отдел Кройцберга (в бывшей больнице «Вифания» на Марианнен-плац), чтобы получать в кассе некую сумму — на карманные, так сказать, расходы. Итак, половина арендной платы, страховка и сумма на карманные расходы — такие деньги ему никогда и не снились. Пособие можно рассматривать как стартовую зарплату магистра, которая позволит трудиться над сборником стихов и авторефератом будущей диссертации, необходимым для того, чтобы подать на стипендию. Стихи текли свободно и легко, скоро даже нашлось одно небольшое издательство, с авторефератом же пришлось помучиться. Во-первых, ему не верилось, что можно на нескольких страницах внятно изложить суть еще не написанной диссертации, во-вторых, в автореферате нужно обосновать выбор темы и доказать, что работа принадлежит к числу «исследовательских desiderata». Пришлось лезть в словарь иностранных слов: как доказать, что твоя будущая диссертация — desiderata, когда не знаешь, что это такое? «Дезидерабельный — желательный», гласил словарь. Итак, desiderata — это исследования желательные, а не такие, которые оставляют желать лучшего; нечто такое, чего пока нет и появление чего желательно. «Дезидерабельна» ли его диссертация? — на этот вопрос предстояло ответить специальной комиссии. Тема ненаписанной диссертации выглядела так: «Мотив забвения в художественной литературе». Не найдя трудов по этой теме, Георг уверился в ее дезидерабельности. Профессор не только не возражал, но даже подбодрил будущего соискателя дружелюбным: «Что ж, весьма любопытно!» Георг решил заниматься забвением не только потому, что на эту тему нет исследований. Он был убежден, что забвение играет в изящной словесности ничуть не менее важную роль, чем память. Забвение многоаспектно. Во-первых, рецептивно-эстетический аспект, самый понятный и близкий: забвение читателем прочитанного. Естественным образом напрашивается следующий, генеративно-эстетический: забвение автором написанного. Он уже не столь понятен и близок — прочитано и забыто много, создан же всего один поэтический сборник, и каждая его строчка свежа в памяти. Скорее всего, с генеративно-эстетическим аспектом придется повозиться, хотя множество литераторов писали и говорили, что как только сдаешь рукопись, так сразу же все забываешь. У Георга были далеко идущие планы, касающиеся прежде всего второго аспекта: он не просто покажет, что писатель забывает собственные тексты. Он докажет, что письменные тексты только затем и пишутся — чтобы писателю было что забывать. И наконец третий аспект, мотивно-исторический. В нем вся соль, ибо Георг собирался учесть все существующие тексты с мотивом забвения, предполагая, что им несть числа. Правда, пока сколько ни искал, он так ни одного и не выявил. Пробегая глазами один за другим тексты в надежде встретить мотив забвения, он то и дело натыкался на мотив памяти. Но не защищаться же ему по теме «память». Вот уж чему точно несть числа… Нынче все кому не лень пишут диссертации о памяти, и написать еще одну значит допустить серьезную тактическую ошибку, загубить на корню карьеру и все остальное. Профессор сказал ему: «Не Мнемозина, а Лета!», и по его лицу скользнула лукавая улыбка. С Летой у Георга проблем не было, однако Мнемозина его встревожила, и смущенно бормоча: «Ну да, конечно, Лета», он подумал, что неплохо бы справиться насчет Мнемозины в «Словаре греческой и римской мифологии» Хунгера. С Летой все было и без словаря давно понятно; его детство прошло на эмсских берегах, а Эмс, каким он рисовался его детскому воображению, очень напоминал легендарную реку. Будучи маленьким мальчиком и совсем еще не разбираясь в мифологии, он видел в родном Эмсе реку забвения. Он подолгу просиживал на берегу: за спиной — пасущиеся коровьи стада и голая плоская равнина, перед глазами — вода с зеленоватым отливом, — и радовался, как младенец, ощущению легкости и пустоты. Он видел, как по широкому разливу проплывает его жизнь, как течение гонит его табели успеваемости и как они опавшими листьями кружатся по воде, видел легкое, будто из бамбука, черное пианино, видел красно-бурый плюшевый диванчик — тот, что стоит на кухне — и бархатный пуфик, на котором в очередной раз без спросу устроилась собака, видел черную кожаную перчатку отцовского протеза, торчащего из воды почти под прямым углом и, наконец, самого себя — некрасивого, тучного, с лоснящимися от бриолина волосами, зализанными на прямой пробор, — и все это плыло в сторону Эмсфельде, крупнейшего из ближайших населенных пунктов. И вот, проводив глазами свою жизнь, семью и себя самого, он становился легким, как птица, как один из стрижей, что летом снуют в воздухе, кружа над межами полей и лесными тропинками, и, переполняясь счастьем, забывал обо всем на свете. Забывал о пианино и табелях, забывал об отце и протезе, забывал о плюшевом диванчике, зализанном проборе, лоснящихся волосах и бархатном пуфике. Помнил только собаку и что все плывет куда-то к Эмсфельде. Перед глазами стояли эмсские воды, и почему-то вдруг вспомнилось, как однажды родители повезли его в Эмсфельде покупать костюм для конфирмации и как на обратном пути они заглянули в небольшую сельскую церковь, где были выставлены на всеобщее обозрение старинные кухонные очаги (считалось, что нигде во всем мире нет столь полной коллекции), — как вдруг лимузин резко затормозил, прервав ход его мыслей. Впереди струился вовсе не Эмс, а пролив, отделявший Льюис от следующего острова. Водитель вырулил к причалу, остановил машину и сообщил, что с минуты на минуту подойдет паром. Они оказались на противоположном конце острова, но, судя по всему, все еще не достигли цели. «Разве мы не остаемся на Льюисе?» — спросил Георг. «Нет, — ответил водитель, — Бергман живет на Скарпе». Затем он вышел из автомобиля и закурил. Пока он прохаживался взад-вперед по причалу, Георг сидел в автомобиле, радуясь, что не нужно ни о чем говорить. Сказывалось отсутствие опыта: он начинал слегка нервничать. Прежде Георг выезжал куда-нибудь только на каникулы. И вот первый раз в жизни ехал работать. Работу устроил ему приятель. Вообще-то говоря, как раз этот самый приятель и должен был ехать, но внезапно заболел и решил, что обязан подыскать себе замену. Георг, особо не раздумывая, принял предложение. Ведь работодатель — знаменитый композитор, да и работа не обременительная — для него, безработного германиста, лучше и не придумаешь. Композитору нужно помочь отредактировать мемуары, которые он собирается опубликовать в следующем году. Георг уяснил, что Бергман — очень известный композитор, но масштабов его известности не представлял, покуда не рассказал о поездке на Гебриды сокурснику, с которым при одном упоминании имени Бергмана чуть не случился сердечный приступ. Как только прозвучало имя «Бергман», бедняга резко побледнел (как будто кровь отхлынула от головы и мощным потоком двинулась по сосудам вниз). Слегка оправившись от потрясения, он торжественно объявил, что сказать о современном немецком композиторе Бергмане «известный» — это все равно что ничего не сказать. Потому что Бергман — это квинтэссенция современной немецкой музыки. Есть, правда, еще одна квинтэссенция, композитор по имени Нерлингер, но если Нерлингера считают великим только его поклонники, то величие Бергмана признает весь музыкальный мир, за исключением, естественно, обожателей Нерлингера. Он, сказал однокурсник, к обожателям Нерлингера не относится, но и Бергмана тоже не боготворит, и именно поэтому может с известной долей объективности и беспристрастия утверждать, что Бергман — самый значительный, а Нерлингер — второй по значению из ныне живущих немецких композиторов. И то, что Георг будет работать на Бергмана — это не какая-то заурядная работенка, а большая жизненная удача. Работать на Бергмана — это все равно что на Брамса. Или на Бетховена. Теперь уже Георгу стало дурно, и он почувствовал, как у него подгибаются ноги и сердце уходит в пятки. Приятель, предложивший ему работу, предупреждал, что Бергман — знаменитость. Но о Брамсе и Бетховене он и не заикался. К брамсам и бетховенам он не готов. Как и о чем с ними разговаривать? Перед отъездом Георг заскочил в библиотеку музыковедческого факультета Свободного университета, чтобы хоть как-то подготовиться. На вопрос, нет ли у них чего-нибудь о Бергмане, композиторе, — библиотекарша ответила, что за последние тридцать лет ни о ком из ныне живущих немецких композиторов не опубликовано столько, сколько о Бергмане. Не говоря уже о том, что ни один из ныне живущих немецких композиторов не сравнится с Бергманом количеством публикаций. В их каталоге около трехсот наименований «Бергман, о нем» и более ста двадцати сочинений Бергмана, включая, разумеется, журнальные и газетные статьи, выступления и прочее. Для первоначального ознакомления с темой она рекомендует ему заглянуть в специализированные словари, в первую очередь в «МПН» и в «Гроува». Оказалось, что «МПН» — это «Музыка: прошлое и настоящее», а «Гроув» — «Музыкальный словарь» Гроува. В обоих изданиях обнаружились обширные очерки жизни и творчества композитора, причем выяснились две немаловажные детали: во-первых, обе статьи о Бергмане длиннее статей о Нерлингере, во-вторых, Бергман тоже родился на Эмсе. Оказывается, он родом из Шредеборга, небольшого городка, до Эмсфельде оттуда — рукой подать. Георг возликовал: у них общие корни, они дышали одним воздухом, росли под одним небом. Правда, Бергман недолго прожил в Шредеборге: родители его переехали сначала в Берлин, а потом, когда он был еще подростком, эмигрировали в Швецию: отец Бергмана подвергся преследованиям за свои социал-демократические взгляды. Когда война кончилась, Бергман не вернулся в Германию, а перебрался в Италию. Некоторое время жил во Флоренции, затем переехал на Сицилию, где и живет по сей день — близ Сан-Вито-Ло-Капо, небольшого приморского городка, среди холмов и оливковых рощ, на собственной вилле. Из Шредеборга — в Сан-Вито-Ло-Капо! А теперь вот и Гебридские острова, где Бергман, судя по всему, обычно проводит лето. Георг почувствовал восторг. Он восторгался не только сицилийской виллой и Гебридскими островами, но и списком опубликованных сочинений, занимавшем в «Гроуве» несколько столбцов. У Георга списка публикаций не было. Все, что он мог на текущий момент предъявить — это автореферат ненаписанной диссертации да стихотворный сборник, который выйдет в крохотном берлинском издательстве «Аусвег»[1]. Он издавал его все же не за свой счет, но и на гонорар рассчитывать не приходилось: расплатятся с ним натурой, то есть авторскими экземплярами. Он решился на этот шаг (поэту, как известно, выбирать не приходится), но понимал, что «Аусвег» — это тупик. Ему не привыкать: ступая на стезю художественного творчества, он всякий раз оказывался в тупике. С самого детства его тянуло к прекрасному, особенно к музыке, но он так ничего и не добился. Сочинительством занялся после того, как потерпел фиаско на музыкальном поприще, — хотя карьера музыканта казалась куда более заманчивой. Хорошо быть гитаристом. Поп-гитаристом. Или пианистом-виртуозом. Такая направленность его интересов во многом объяснялась тем, что в начальной школе Георг занимался блок-флейтой. Впрочем, занятия эти свелись исключительно к разучиванию гамм. Да и в самой флейте Георг (как и большинство его соучеников) видел скорее средство дисциплинарного воздействия, нежели музыкальный инструмент. Играть на флейте — это значило приходить после школы к учительнице, в свежей рубашке, с чистыми пальцами и твердым намерением сидеть с прямой спиной. Кто криво сидит, говорила учительница, тот навсегда потерян для флейты. Кто криво сидит, тот плохо дышит, преграждает путь воздуху. А кто плохо дышит и преграждает путь воздуху, тот поступает дурно и преграждает путь себе. А посему уроки музыки — это больше чем музыка. Уроки музыки, говорила учительница, это путеводные уроки. Благодаря им молодежи открывается дорога в жизнь и путь к себе. И заодно, конечно, к флейте. Путь, по которому учительница вела Георга, указывая ему дорогу в жизнь и к самому себе, был вымощен страданиями. Одно из них доставляло не только душевную, но и физическую боль. Дело в том, что учительница имела обыкновение щипать учеников за щеки. Фальшивишь — щипок, сутулишься — щипок, валяешь дурака на уроке — опять же щипок. За злостные нарушения полагался особо болезненный щипок — с подкруткой. Поскольку уроки музыки — это больше чем музыка, в юном флейтисте важно воспитать чистоплотность. Если не принимать профилактических мер, то игра на флейте (сопровождаемая, как известно, обильным слюнотечением) превращается в малоаппетитную процедуру. Профилактические меры именовались «слюноконтролем»: особо пристальное внимание учительница требовала уделять контролю за состоянием уголков рта, где первым делом выступает слюна. Уголки рта следует держать плотно сомкнутыми, но ни в коем случае не зажатыми, ибо от зажима деформируется воздушная струя, что пагубно сказывается на полноте и насыщенности звука. Но это постоянное «Смычка, а не зажим!» вело к тому, что у Георга, так же как и у всех остальных, от напряжения сводило челюсти, а в какой-то момент начиналось неудержимое слюнотечение. Наступала очередь носового платка: чистый носовой платок — железное правило, явиться на урок без платка — немыслимое дело. Еще один мучительный момент — это «уход за инструментом». Уход за своим инструментом — это воспитание характера, говорила учительница. Небрежное отношение к своему инструменту — это неуважение к себе. Будучи еще совсем мальчишками (латентный период), Георг и его соученики все же сумели заметить сексуальный оттенок выражения «уход за своим инструментом», и физиономии их непроизвольно расплывались в ухмылках всякий раз, когда учительница обращалась к этой теме. Вряд ли кто-то из них осознавал в те годы фаллообразность флейты, являющейся порождением той эпохи, когда известная свобода нравов была в порядке вещей. Ухмыляться-то они ухмылялись, но от эроса флейты оставались чрезвычайно далеки, — если инструмент и пробуждал в Георге смутное томление, то это было лишь томление по тому светлому дню, когда он раз и навсегда покончит со слюнявым музицированием. Выдержав музыкальную паузу, длившуюся несколько лет, Георг попытался освоить гитару. Он заболел гитарой после того, как ему в руки попалась пластинка с зеленой этикеткой и надписью «Odeon». На этой пластинке была записана первая в его жизни песня «Битлз». Длилась она две минуты двадцать семь секунд и называлась «I want to hold your hand». Эта песня сразила его наповал, он сразу же сказал себе: «Я — битл». Оставалось лишь научиться играть на гитаре. В школе как раз открыли кружок игры на гитаре, и вскорости Георг обрел свой круг — небольшую компанию сверстников, вообразивших себя Джонами, джорджами и полами. Никто из них ни разу в жизни не брал в руки гитары, что служило идеальной предпосылкой для основательного ее изучения. Флейта усугубляет застенчивость, требует рабского служения и несовместима с карьерой поп-музыканта — то ли дело гитара с ее мятежной аурой! На нее стоило возлагать надежды! Он не хотел больше быть слюнявым флейтистом, он хотел превратиться в героя гитары. Но после первых же аккордов вожделенный струнный инструмент обернулся все той же блок-флейтой, то есть опять потребовал рабского служения. Он мечтал о том, как зарядит воздух электричеством, как будет рассылать в небеса звуковые молнии, но вот уже который месяц корпел над жалким «Auld lang syne» в самой что ни на есть бесхитростной обработке. Не продвинувшись, несмотря на все свое трудолюбие, ни на шаг дальше «Auld lang syne», Георг повесил деревянную гитару на гвоздь и переключился на гитару «воздушную». Воздушная гитара, как следует из названия, на сто процентов состоит из воздуха. Висит на воздушном кожаном ремне и подсоединяется к воздушному усилителю и воздушным колонкам: как правило, речь идет об электрогитаре. Публика, перед которой играют на воздушной гитаре, тоже, понятное дело, воздушная. Лишь отчаянные смельчаки решаются делать это перед зеркалом. Изредка и Георг это себе позволял. Но однажды он разглядел, что из зеркала на него смотрит не ослепительный гитарист-виртуоз, а чересчур упитанный пубертатный юнец, бледный, нескладный, весь в испарине. Георг решил избегать встреч с этим молодым человеком. Для этого он завесил зеркало полотенцем и стал слушать пластинки. Слушая пластинки, Георг забывал о своем отражении. Более того: в песнях Джими Хендрикса и «Битлз» он узнавал не столько Хендрикса и «Битлз», сколько самого себя. Песни «Hey Joe» или «Do you want to know a secret» становились его личным творческим достижением. Если гётевский юный Вертер ощущал себя великим художником всякий раз, когда отправлялся на вольные просторы, садился на вершину холма и наблюдал за восходом солнца, то Георга это ощущение посещало всякий раз, когда он ставил пластинку. Прослушать пластинку — все равно что выступить с концертом. Лежание на диване становилось творческим процессом, напряженной работой. Но ни одной музыкальной композиции он так и не создал. Кроме того, любая пластинка когда-нибудь кончалась. И как только она кончалась, счастье воображаемого творчества сменялось глубокой печалью. Против этой печали существовало только одно средство: немедленно поставить новую пластинку, — и в этот период своей юности Георг только тем и занимался, что целыми днями, неделями и месяцами лежал на диване, слушал пластинки и ощущал себя творцом. Родители первыми поняли, что этого недостаточно, и, видя, что с каждым днем сын выглядит все более вялым и апатичным, пригрозили изъять проигрыватель. Вскоре, впрочем, сын и сам почувствовал, что лежачей жизни недостаточно, даже если все время слушать пластинки, — он ждал от себя большего. Ему хотелось чего-то нового. Но чего? Прошло совсем немного времени, и он понял — хочется играть на пианино. Прежде чем приблизиться к настоящему пианино, Георг попробовал свои силы на воздушном. Любимой пьесой для воздушного пианино стал Первый фортепьянный концерт Чайковского си-бемоль-минор. Без конца слушая пластинку с записью концерта, Георг научился не только мысленному проигрыванию, но и воздушному исполнению произведения Чайковского. Особенно ему нравились первые такты вступления — казалось, что именно они наконец-то открыли перед ним путь к тому, что составляет святая святых музыки — этой незримой, но динамичной материи, которая рождает в душе благородные порывы; этой воздушной струи, что наполняет тебя изнутри и приподнимает над землей. Бесконечно слушая один и тот же концерт, Георг почувствовал себя знатоком, укрепившись в этом ощущении благодаря приобретению новой пластинки, на которой концерт исполнял уже не Святослав Рихтер, а Ван Клиберн. Потратив немало времени на сравнительный анализ (много раз прослушав первую пластинку и много-много раз — вторую), Георг пришел к выводу, что по количеству царапин Рихтер явно опережает Клиберна. А в остальном пластинки совершенно идентичны. При этом все друзья и знакомые, кому он давал их послушать, в один голос твердили, что разница колоссальная, не переставая удивляться: надо же, как музыка зависит от исполнения! На этом месте Георг обычно советовал друзьям и знакомым обратить особое внимание на «туше», и они, как правило, слушались, тут же подтверждая его (а заодно и свою собственную) музыкальную эрудицию проникновенным «Потрясающе!» Но педагог, с которым Георг вскоре стал заниматься фортепиано, о Чайковском и слушать не желал. Приходской органист, он отождествлял музыку с именем Иоганна Себастьяна Баха. О любимом си-бемоль-минорном концерте он сказал только: «Развлекательная музыка». На этом тема была закрыта. Но, молясь на Баха как на Бога, органист пичкал Георга этюдами Черни. Играть на пианино — значит играть Карла Черни, «160 восьмитактовых этюдов». Георг довольно долго так и делал, понимая, что к воздушным инструментам возврата быть не может. Он должен терпеть, чтобы выдержать экзамен перед самим собой, и он дотерпел до дня, когда учитель торжественно объявил ученику, что он, ученик, наконец-то созрел — если не до Баха, то до Бетховена. Бетховен обладал в глазах учителя меньшей ценностью, чем Бах. Но все же большей, чем Черни. Кроме того, Бетховен — это, главным образом, пьеса «Элизе», промучившись над которой, Георг четко осознал границы своего таланта. По клавишам он, положим, попадал. Но все равно, как выразился однажды учитель: «механически барабанил», не более того. «Это не заслуживает того, чтобы называться музыкой», — отрезал учитель и посоветовал ученику подумать о родителях, которые и так уже вложили в музыкальное образование своего сына внушительные средства: зачем же им тешить себя иллюзиями, что у ребенка способности, если ребенок способен лишь механически барабанить по клавишам. Услышав во второй раз слово «барабанить», Георг так расстроился, что отказался от уроков, даже не дождавшись конца недели. Но упражняться не бросил — гордость не позволила. И опять же из гордости, он приобрел «Хорошо темперированный клавир», мечтая о том дне, когда сможет сыграть по этим нотам с таким виртуозным блеском, что учитель не забудет об этом событии до конца своих дней. Но так далеко дело не зашло. Впрочем, полистать «Хорошо темперированный клавир» и немного поупражняться Георг успел. Открыв Первую прелюдию до-мажор, он с удивлением обнаружил, что Бах, оказывается, проще Бетховена. «Элизе» он ведь так и не одолел, а с прелюдией номер один — справился. Воодушевленный своим открытием, Георг попробовал пойти дальше, но, приступив к прелюдии номер два, столкнулся с такими трудностями, что вынужден был опять вернуться к номеру один. Теперь он играл Первую прелюдию Баха с той же регулярностью, с какой раньше слушал Первый концерт Чайковского. И чем чаще он ее играл, тем безупречнее ему казалась его игра. Сыграть эту пьесу лучше, чем играет ее он, невозможно. Но Георгу хотелось совершенства. Нельзя останавливаться на достигнутом. Надо наращивать темп. Чем быстрее, тем лучше, сказал он себе, и вскоре стал отыгрывать Первую прелюдию в два раза быстрее обычного. В особенно счастливые дни удавалось сократить ее продолжительность еще секунд на десять, так что скоро в Эмсфельде, а то и во всем Эмсском крае, не осталось никого, кто мог бы сравниться с Георгом в скорости исполнения Первой прелюдии.
Хорошо, что Бергман ничего не знает об этих музыкальных попытках, — подумалось ему в ту минуту, когда водитель со словами: «Паром приближается!» открыл перед ним дверцу машины. На небольшом пассажирском судне смогло бы разместиться человек двенадцать, но Георгу, видно, предстояло плыть в одиночестве — водитель не выказывал намерения взойти на борт. «А вы не едете?» — удивился Георг и услышал в ответ, что необходимо сперва отогнать на стоянку «бентли» (на Скарпе нет машин), Бруно с багажом подъедет попозже. А Георга на том берегу встретит сам композитор. Паром с одиноким пассажиром на борту медленно скользил по воде в сгущающихся сумерках. По цвету эта вода заметно отличалась от эмсской. Вместо зеленоватого отлива — глухая чернота: здесь наверняка гораздо холоднее и глубже. Георгу стало зябко, во рту пересохло, к горлу подступил ком. Состояние было такое же, как и при появлении черного лимузина. Переправа заняла не более пятнадцати минут. Как только Георг сошел на берег, паром развернулся и поплыл в обратном направлении — видимо, за водителем с вещами. На первый взгляд Скарп мало чем отличался от предыдущего острова. Те же зеленые холмы, прибитый ветрами кустарник и сложенные из скальной породы возвышения вдоль узкой дороги, начинавшейся прямо у пристани. Бергмана на берегу не было. Дул прохладный ветер, но дождь, по счастью, закончился. Чтобы скоротать время, Георг принялся провожать глазами удаляющееся судно, но вскоре оно повернуло куда-то и пропало из виду. Тогда Георг обернулся и увидел, что кто-то спускается по дорожке к пристани. Сомнений нет — это Бергман. Георг знал композитора по фотографиям, но разглядеть что бы то ни было с такого расстояния было невозможно. К тому же незнакомец нахлобучил на голову картуз с козырьком и закутался в шарф по самые уши. Только потом, когда при входе в дом Бергман снял картуз и размотал шарф, Георг узнал в нем человека с фотографий: характерного южанина с темными, тронутыми сединой волосами, бронзовым, слегка обветренным лицом и аристократическим профилем. Какой уж там Эмсфельде! — промелькнуло в голове. — Ни дать ни взять Мадрид или Севилья. Вот по нему сразу видно, что он из Эмсфельде: белая, склонная к красноте кожа лица, блеклая голубизна глаз, неопределенные пухлые щеки… Бергман медленно спускался к пристани, то и дело замирая на месте и принимаясь загребать в воздухе руками. Затем, не прекращая этих странных движений, он делал шаг вперед, но тут же резко останавливался. Сейчас он стоял как вкопанный, не двигая руками и потупив голову. Если он и дальше будет продвигаться в таком темпе, то придется стоять тут до глубокой ночи, подумал Георг. Но вскоре Бергман ступил на пирс. Правда, не дойдя нескольких метров, он снова остановился и застыл в неподвижности. А потом опять замахал руками, бросил взгляд на пролив и, поворачиваясь наконец к Георгу — так, словно он, Георг, всегда, всю жизнь стоит на этом пирсе, — задал вопрос: «Where’s the wine?» Георг сконфузился. Бергман обратился к нему по-английски, но этот английский был совсем не похож на тот, какому их учили в эмсфельдской школе. Это был английский, на котором говорят в центре Лондона. Найтсбридж, вспомнил Георг. Блумсбери! В обоих районах он побывал, когда в последний школьный год ездил в Лондон, но сейчас это не помогало побороть робость. Очень хотелось ответить по-немецки. Но чтобы не срамиться, Георг все же собрался с силами и, старательно выговаривая, произнес: «The wine is in the car». Ответа не последовало. Бергман напряженно всматривался в даль, словно ожидая, что «бентли» в любую минуту может прикатить к нему по глади вод. Затем он вновь обратился к Георгу, на сей раз уже по-немецки: «Вы из Вестфалии?» Георг сконфузился еще больше. Неужели его английский настолько плох, что по нему берутся вычислить, откуда он родом? «Из северных земель», — уклончиво ответил он, делая вид, что не заметил подпущенной шпильки. «А что вы тут делаете?» — в голосе Бергмана послышалось нетерпение. Тогда, не тратя лишних слов, Георг вытащил из кармана посланную от имени Бергмана телеграмму и молча вручил ее композитору. Бергман прочел телеграмму, протянул ее обратно, извинился за свою рассеянность, сказал: «Добро пожаловать» и «Очень приятно». Просто есть кое-какие проблемы. «О! Мне очень жаль! — воскликнул Георг. — Что-то случилось?» — «Вино кончилось», — ответил Бергман. Узнав, что Георг своими глазами видел, как Бруно ставил в багажник три коробки вина, Бергман успокоился, и они двинулись в путь. По дороге он осведомился, чем, интересно было бы узнать, занимается молодой человек. Георг сообщил, что является автором сборника стихов и автореферата будущей диссертации. И какова же тема будущей диссертации? — продолжал расспрашивать Бергман. Обрадованный Георг повел рассказ о диссертации. Он ожидал чего угодно, но только не того, что знаменитость ею заинтересуется. Впервые кто-то проявил интерес к его научной работе. Из университетских людей никому, кроме профессора, не было до нее никакого дела. Стоит только заикнуться о том, что пишешь диссертацию, как тебе тут же дадут понять, что ты не один такой — соискатель, — и начинают мучить замысловатыми и, скорее всего, выдуманными подробностями собственных диссертаций. Каждый печется только о себе, чужие достижения никому не интересны. Если же тобой вдруг заинтересовались, то держи ухо востро. Однажды Георг уже испытал это на себе, встретив в студенческой столовой одного бывшего сокурсника, ныне соискателя, который вдруг проявил такой живейший интерес к работе Георга, что он не удержался и прямо за обедом разболтал кучу ценной информации, включая библиографические ссылки (не выдуманные, а вполне реальные, добытые ценой нелегкого труда). И когда за десертом случайно выяснилось, что тема у коллеги сходная — «Мотив и процесс петрификации[2]», Георга прошиб холодный пот. Петрификация, положим, не совсем то же, что забвение, но даже и дураку понятно, что это вещь аналогичная. И соискатель, ясное дело, руководился не коллегиальными, а сугубо эгоистическими побуждениями. Теперь, когда тот выведал все что мог, Георгу оставалось лишь надеяться, что за оставшееся время — десерт еще не съеден и кофе не выпит — удастся хоть как-то восполнить причиненный ущерб. И если пять минут назад, поглощая суп и второе, он соловьем разливался, хвастаясь актуальностью своей темы, то теперь, вычерпывая ревеневое варенье, старался (по возможности незаметно) умалить ее значение. «Когда пишешь о забвении, — рассуждал Георг, — то неизбежно упираешься в память». Но про память, видишь ли, столько всего понаписано — он поначалу и сам хотел ею заниматься, да передумал, поменял тему, а теперь вот опять сомнения грызут — оказалось, что забвение, как тля на зеленом листе, на ней же, памяти, и паразитирует. Ни один мускул на лице коллеги не шевельнулся, и пришлось Георгу ужесточить аргументацию: всем бы хороша тема петрификации, не будь она так завязана на теме амортификации[3]. «Петрификация — частный случай амортификации», — заявил он. Но амортификация — это ведь такая безвкусица и тягомотина. Еще, неровен час, засядешь за тему смерти или что-нибудь в этом духе, и прости-прощай научная карьера. Тема смерти, заявил Георг, устарела еще в конце пятидесятых. Все эти «тристаны», «смерти в риме»… сколько можно мусолить одно и то же, говорил Георг, подбирая со стенок своей розетки остатки варенья. «Разве что только лингвисты еще способны выудить что-то из смерти — всякие там вымершие Tempi, Tempora и Temporalien». Георг попытался скаламбурить, но соискатель не понял, да Георг уже и сам почувствовал, что перестарался. Стало мучительно стыдно, особенно когда визави бесцеремонно спросил, нельзя ли получить копию библиографии. С напускным спокойствием Георг ответил, что, разумеется, можно, но прежде нужно ее распечатать, а с этим как раз проблема — принтер сломан. А что за принтер? — не отставал соискатель. Этот вопрос поставил Георга в тупик: принтера у него отродясь не было, печатать приходилось на электрической саморегулируемой машинке — по сравнению с традиционными она являла собой последнее слово техники, но на фоне компьютера казалась негодной рухлядью. И если до сих пор коллега-соискатель со смиренной (даже, в некотором роде, туповатой) покорностью терпел его нервные разглагольствования, то теперь он раздражился — можно даже сказать, рассвирепел. Залпом хлебнул обжигающего кофе, обвинил Георга в сволочном карьеризме и заявил, что плевать он хотел на идиотское Георгово забывание. На идиотскую петрификацию — тоже, но это Георга уже не касается. Прицелился, ловко метнул стаканчик в пластмассовое ведро, стоявшее, между прочим, довольно далеко, и зашагал, не оглядываясь, прочь. После этого инцидента Георг долго не ходил в столовую. Хорошо, что сейчас он не в Берлине, а на шотландских просторах. Бергману можно рассказывать все как есть. Потому что Бергман — это не конкурент, а живой памятник, обширный очерк в «Гроуве» и, еще обширнее, — в «МПН». Опасения, что Бергман будет подавлять его своим величием и что единственный способ этому противостоять — добровольное самопожертвование, — рассеялись, сменившись ощущением, что все как раз наоборот: на фоне бергмановского величия ему, безымянному, гораздо легче быть собой. Ведь терять-то нечего. У Георга словно крылья выросли: войдя в повествовательный раж, он буквально бомбардировал Бергмана сведениями о забвении, почерпнутыми из книг и консультаций с профессором, а под конец процитировал не без гордости, словно свое личное достижение, придуманную профессором формулу: «Не Мнемозина, а Лета!» В ответ на это Бергман, который всю дорогу молчал, внезапно вскинул руки и стал, как давеча, загребать ими в воздухе. Георг, из соображений приличия, примолк, хотя охотно поделился бы всем, что знал о Лете и Мнемозине, благо соответствующие статьи в «Словаре греческой и римской мифологии» были досконально изучены. Но Бергман был занят исключительно движением собственных рук, и Георг стал опасаться, что присутствие постороннего может оказаться композитору в тягость. Впрочем, Бергман, похоже, и не замечал его присутствия. Он размахивал руками, временами исторгая шипящие и свистящие звуки, и наконец отбил в воздухе некий чрезвычайно форсированный и, должно быть, крайне сложный такт. При этом не раз сбивался и начинал все сначала, отмахивая и высвистывая все новые и новые вариации. И вдруг Георг сообразил, что это не отмашка, а взмахи дирижерской палочки. Бергман дирижирует музыкой, которой пока не существует, — музыкой, которая в эти минуты рождается у него в голове. Иными словами: Бергман творит. А он, Георг, — свидетель творческого процесса. Георг пытался успокоиться, смиряя вскипавшее в глубине души раздражение: ведь не затем же тащился он в эту Шотландию, чтобы плестись, таким, с позволения сказать, безмолвным статистом, вслед за композитором, который знай себе сочиняет. Их передвижение трудно было назвать ходьбой: Бергман то и дело застывал на одном месте — видно, какой-то особо замысловатый пассаж требовал полной сосредоточенности. Вот и сейчас он в очередной раз замер и, выбивая рукой такт и ритмически шипя, заглянул Георгу прямо в глаза. Он буквально сверлил его взглядом, желая, видимо, что-то услышать. Бергману нужен комментарий. Но как откомментировать шип и отмашку? Георг с трудом отличает трехдольный такт от четырехдольного. Что он понимает в сложных размерах, которые отбивает и высвистывает Бергман? Композитор смотрел, не отводя глаз, с торжествующей миной, словно ожидая немедленного одобрения. А Георг не мог выдавить из себя ни единого слова. Он попытался было улыбнуться, но вышла жалкая гримаса, и тогда он вконец смутился, покраснел до ушей и покрылся испариной. Бергман буравил его взглядом, шипел и махал руками, покуда Георг, окончательно обессилев, не промямлил: «Это ваше новое сочинение?» Вместо ответа композитор медленно повернулся, двинулся вперед, небрежно взмахнул напоследок руками и, засовывая их в карманы, изрек: «Не Лета, а Пирифлегетон!» К счастью, в этот момент они уже стояли перед дверью, и отвечать было не обязательно. Георг не знал, что такое Пирифлегетон. Вот был бы здесь словарь Хунгера — можно было бы оперативно навести справку. Едва они переступили порог дома, как навстречу вышел Бруно, очевидно, умевший проникать на остров каким-то своим особым путем. Господин Бергман ждет в гостиной, сказал Бруно, проводив Георга до комнаты. Просьба не задерживаться. Георг не стал разбирать рюкзак, сполоснул руки и ринулся в гостиную, но там, как оказалось, никто его не ждал. Гостиная была пуста. Усевшись в кресло, Георг увидел лежащие на соседнем круглом столике концертные программки, фотоальбом и журнал под названием «The Gardener». По программкам можно было составить полное представление о том, в каких городах Европы, США и Японии будет в ближайшее время исполняться музыка Бергмана. Здесь даже фигурировал фестиваль в калифорнийском Сан-Диего, где несколько недель подряд играли его одного. И впрямь — Брамс, подумал Георг, — Бетховен. Он специально вызвал в себе эту мысль, пытаясь подавить раздражение, связанное с тем, что Бергман, забыв о госте, преспокойно занялся своими делами. Вот, значит, как надо себя вести, чтобы считаться Брамсом и Бетховеном. Но ведь Бергман поступает так не ради себя, а ради Музыки. Мысль о том, что эгоизм большого художника — это не эгоизм частного лица, а эгоизм Искусства (оно, так сказать, требует жертв), была утешительна. Но чем дольше он ждал, тем более она казалась сомнительной, и минут через двадцать Георг вновь почувствовал недовольство. В альбоме были собраны снимки итальянца Тацио Секкьяроли, родоначальника всех папарацци. Георг узнал Софи Лорен и Марчелло Мастрояни (на крыше римского доходного дома: она в фартуке домохозяйки, он в костюмчике рекламного агента), узнал Аву Гарднер на Пьяцца ди Спанья и турецкую танцовщицу Айше Нана — полуголую, в каком-то заведении в квартале Трастевере. А потом — увидел Клинта Иствуда. Верхом на жеребце, в пончо, с сигарой в зубах. В одной руке поводья, в другой винчестер. Спокойным, но пристальным взором глядел Иствуд в неведомую даль. Он глядел в бесконечность. И конечно не видел унылого пейзажа у себя за спиной, который был прекрасно виден зрителю: выезд на автостраду, желтовато-серые каменные стены, чахлые кустики, одинокие деревца — типичная городская окраина. Снимок, сделанный на задворках Рима близ киностудии «Чинечитта», был призван очаровать поклонников Иствуда. Георг очаровался. Он не пропустил ни одного фильма с участием великого актера, многажды смотрел «За пригоршню долларов», и одна сцена навсегда запечатлелась в его памяти: на ковбоя бросается науськанный врагами волкодав, герой защищается яростным плевком — табачная жвачка влепляется твари прямо в глаз, волкодав, поджав хвост, с визгом улепетывает. Но ковбой на этом снимке — это совсем не тот ковбой, которому обратить врага в бегство — раз плюнуть. У этого ковбоя нет ни врагов ни друзей. Он, бедный, сам, как пес приблудный. Пес посреди автострады. На следующей странице были изображены выходящие из ресторана трое мужчин, одетые в летние одежды свободного покроя. Фотография, сделанная, судя по подписи, на Капри, запечатлела сцену выхода из ресторана «Де Марио» греческого судовладельца Аристотелиса Онассиса в сопровождении двух неизвестных. Георг лишь мельком глянул на этот снимок, характерный образчик стиля папарацци, и перелистнул было страницу, но тут его осенило. Вернувшись обратно, он убедился, что замыкающий процессию мужчина ему знаком. Это Бруно. На снимке он выглядел, конечно, помоложе (пятнадцать лет прошло), но этот почти квадратный череп и обрамленную коротко стриженым венчиком волос лысину ни с чем не спутаешь. Раньше Бруно был постройнее, но разве что самую малость — он и сейчас в потрясающей форме, настоящий атлет; нисколько не раздобрел, просто стал чуть плотнее. И еще — обзавелся отсутствующим на снимке шрамом, рассекающим бровь над правым глазом и придающим ему вид римского легионера, знающего толк в техниках рукопашного боя. Георг ликовал. Надо же, как ему удалось опознать неизвестного. А Бруно-то каков! Отныне он будет смотреть на него другими глазами. Ведь Онассис принадлежал к числу богатейших людей мира, был женат на вдове Кеннеди. Не говоря уже о Марии Каллас. И с этим человеком Бруно ходил в ресторан! Отложив альбом в сторону, Георг вспомнил, что ничего не ел с самого Глазго. В доме стояла гробовая тишина. Бергман, наверное, трудится. Записывает все то, что сочинил по дороге. Георг почувствовал желание тоже что-нибудь записать. С тех пор как он занялся сочинительством, небольшой блокнотик в осьмушку листа был при нем неотлучно. Поэзия — умение поймать мгновение, поэт должен быть готов к этому всегда. Но это не так-то просто: Георг по опыту знал, что испытать внезапное озарение он способен, но записать удачную мысль никогда не успевает: только выхватишь блокнот, а ее и след простыл. Потянуться за блокнотом — верное средство прогнать вдохновение. Если не тянуться за блокнотом, то оно никуда не денется. Но отказаться от привычки носить с собой блокнот было выше его сил: на всякий случай, думал он, вдруг понадобится… Сейчас рука сама потянулась за блокнотиком. Не то чтобы его посетила вдруг какая-то особенно удачная мысль — просто хотелось ощутить себя человеком искусства, который хоть чего-нибудь да стоит. А так он испытывал лишь голод, одиночество и острое, как никогда, чувство собственной ненужности. Но вместо блокнота в руках оказался «Gardener». Журнал пестрел видами садов и примыкающих к ним вилл, бассейнов, теннисных кортов и конюшен. Тем, кого волнует, как выращивать шпинат, культивировать капустные грядки и готовить яблочный мусс, не стоит читать подобные журналы. В «Gardener» не было ни слова о яблочном муссе. Об этом писал журнальчик, который регулярно читала его мама. Он назывался «Садовод-любитель», был, собственно говоря, приложением к местной газетенке и выходил раз в пару месяцев. Однажды мама решила поучаствовать в одном из регулярно проводившихся «Садоводом» конкурсов: «У кого же из наших читателей самое красивое растение в кадке?» — вопрошал «Садовод». Победителям были обещаны денежные премии (триста, двести и сто марок) и дюжина «наборов универсальных удобрений» в придачу. В родительском доме было полным-полно растений в кадках, если верить маме — одно другого прекраснее. В конце концов она выбрала фуксию, хотя еще у нее рос один олеандр, в котором она тоже души не чаяла. Отец сфотографировал фуксию и напечатал снимок в формате почтовой открытки, а мама послала его в редакцию и в одном из очередных выпусков прочла, что почти на всех присланных снимках (девяносто процентов) изображены фуксии и олеандры и что большинство фотографий свидетельствуют о выдающихся достижениях в области кадочного садоводства. Награды маме, конечно, не досталось, хотя первую премию получила чья-то фуксия, а вторую — олеандр, да и фуксия-победительница, судя по фотографии, была как две капли воды похожа на сфотографированную отцом, даже кадка была точно такая же. О кадочном садоводстве в «Gardener» тоже не было ни слова. Веса в нем было до килограмма, обложка сияла как зеркало, на ощупь напоминая глянцевитый лист фикуса, а наугад открытая статья повествовала о мхах. Автор статьи, человек по имени Бёртон Филиппc, происходил из Лос-Анджелеса и являлся философом мха, создателем книги «The Mossy Way». Георг узнал, что основная часть адептов этого учения сосредоточена в Калифорнии, где до сих пор не изгладилась память о средневековых японских дзэн-буддистах, что разводили мох в своих храмовых садах. Монахи ценили мох за его спокойствие, серьезность и невзыскательность, а главное — за отсутствие корней. Достижение состояния неукорененности — одна из целей дзэн-буддистского жизнестроительства, и мох служил здесь примером для подражания. Но отсутствие корней ни в коем случае нельзя путать с неустойчивостью, развивал свою мысль Бёртон Филиппc: мох — это организм, который, хоть и не образует корневой системы, но зато обладает тончайшими щупальцеобразными ризоидами. С помощью этих волосков лишенный корней мох создает себе опору, подчас на удивление надежную. В Шотландии Георг уже успел налюбоваться мхами — если у философии «The Mossy Way» и есть последователи, то это шотландцы. Вряд ли они, конечно, отдают себе отчет в том, что идут «путем мха», книги американца здесь никто, небось, и в глаза не видел. В родительском садике мхи росли в изобилии, несмотря на то, что мама питала к ним такую же нежность, какую она питала к паутине, крапиве и улиткам. А вот в Калифорнии со мхами не борются, мхи культивируют. Тому, у кого в палисаднике растет мох, завидуют соседи. В садах большинства калифорнийских жителей — зеленые лужайки, в которых, как утверждалось в статье, есть что-то лубочное. Мох же, напротив, скромен и традиционен, вызывает ассоциации с Оксфордом и принцем Чарльзом, поэтому всем владельцам «старинных поместий» (интересно, что это означает в Калифорнии?) мистер Филиппc рекомендовал заняться его разведением. Но будет ли мох нормально развиваться в калифорнийских садах? — задумался Георг. На родных эмсских болотах мох рос прекрасно, что не удивительно, ибо на Эмсе круглый год холодно, сыро и пасмурно. Тамошние температурные и световые показатели соответствовали климату картофельного погреба в родительском доме. Но в садах Калифорнии нежатся на солнышке ящерицы, а ящериц на фоне мха Георгу было не представить. Однако автор статьи настаивал, что мох есть в любой климатической зоне, и некий калифорнийский сад служил тому примером. Это, по выражению Бёртона Филиппса, «одно из авторитетнейших частных владений Америки». Хозяева сада, супруги Фред и Эрнеста Ролстоны, происходили из Филадельфии, разбогатели, занявшись компьютерным бизнесом, и, испытав сильнейшее влияние Киото, стали убежденными сторонниками «мшистого пути». Бывшие газоны были засажены мхом, дорожки замшели, даже деревянная крыша позеленела. Впрочем, по фотографии ведь не поймешь, мох это или зеленая краска. Уникальное хобби Ролстонов — разведение мха на корнях и комлях деревьев — соответствовало духу эстетики бонсай и подчеркивалось в статье особым образом. Тут же помещалась фотография: запечатленный на ней пожилой мистер (в темно-коричневом вельветовом костюме и с галстуком), кажется, обрабатывал мох в своем садике. Проделывал он это не граблями, а чем-то вроде просяной метелки, что придавало всей этой сценке нечто очень киотское и дзэн-буддистское. Подметающий мох мистер Ролстон пришелся Георгу по душе, ролстоновский «путь мха» — это стиль. Томительное ожидание в гостиной — тоже стиль. Стиль Бергмана и стиль Георга. Стиль Бергмана — в изяществе, с которым он заставляет себя ждать. А стиль Георга — в терпении, с которым он ждет у моря погоды. Но ничего не поделаешь, придется потерпеть. Перелистывая «Gardener», Георг обнаружил, что в журнале обсуждается не только моховодство, но и «Beautiful Homes», и даже почти не удивился, когда наткнулся на щедро иллюстрированный репортаж о вилле Бергмана в Сан-Вито-Ло-Капо. Дом и прилегающие к нему постройки выдержаны в средиземноморском стиле. Выкрашенный в тон «earthy-peachy» (судя по фотографиям — нечто среднее между светло-коричневым и песочным), дом окружен террасами и увенчан башней, именуемой «башней Маэстро». Сад обнесен каменной стеной красновато-бурого оттенка. Среди растений имеются, например, такие, как Aristolochia gigantea (собственноручно вывезенная композитором из Панамы), Melianthus maior и Verbesina turbacensis. В общем и целом, писал репортер, в саду преобладают оттенки синевато-серебристо-розовых тонов, и только сумрачные, устремленные ввысь кипарисовики Лавсона выпадают из общей гаммы. Уникальная особенность сада, продолжал автор статьи, это произрастающее в самых разных его уголках Barbara-Tinguy-Oregano[4] — растение, о существовании которого (равно как об Aristolochia gigantea и кипарисовиках Лавсона) Георг никогда раньше не подозревал. А вот мха в саду, похоже, нет. Видимо, Бергман не считает нужным следовать советам калифорнийца. И тут Георг, который мало что понимал в растениях и ничего, даже отдаленно напоминающего «Gardener», прежде не читал, вдруг подумал, что для стильного сада растения вроде Aristolochia gigantea и Melianthus maior, пожалуй, слишком широколиственные. Газон, сверкнувший сочной зеленью с одной из страниц, показался ему аляповатым. Правда, репортер отзывался о газоне положительно, объясняя читателю, что выбор сорта травы обусловлен пристрастием к «англосаксонским краскам». Но Георг чувствовал несогласие с этим выбором. Будь он на месте садовника, он посоветовал бы Бергману побольше мха — если не вместо газона, то хотя бы на корнях и комлях кипарисовиков Лавсона! Вот появись сейчас Бергман в гостиной, он бы ему предложил. И не успел он это подумать, как Бергман появился в гостиной. Скоро позовут к столу. В руке у него был стакан, до половины наполненный виски. Не хочет ли Георг тоже выпить виски? Георг отвечал, что вообще-то он виски не пьет, но сейчас с удовольствием. «Так где же виски?» — спросил Бергман. Георг не знал, где виски, хотя во взгляде Бергмана ясно читалось: кому же и знать, как не Георгу? «Бруно, наверное, знает», — предположил Георг. «Бруно готовит, — возразил Бергман, — пасту с брокколи». Глотнув из стакана, он сел в кресло и погрузился в разбор свежей корреспонденции. Перед ним на столе лежала целая стопка писем — Георгу пришлось бы ждать не одну неделю, прежде чем скопилась бы такая пачка, а Бергману почтальон, должно быть, ежедневно приносит дюжины. Водрузив на нос очки для чтения, Бергман углубился в почту: конверты он не вскрывал, а лишь внимательно читал, что на них написано. Но проделывал это крайне обстоятельно, так обстоятельно, что Георг заскучал. «Gardener» по-прежнему лежал перед ним на столике, и Бергман, судя по всему, сразу же это подметил: не прерывая своего занятия, он буркнул, что никогда не вывозил из Панамы на Сицилию никаких растений, все это вздор. Да он никогда и не бывал в Панаме. А репортер из «Gardener» — продувная бестия, Бергман сразу его раскусил. Впрочем, в появлении этой статьи виноват не репортер, а супруги Ролстоны, с которыми он знаком по фестивалю в Сан-Диего, где его частенько исполняют и где он некоторое время был Composer-in-Residence. Сан-Диего — место, где, с позволения сказать, тучами роятся его поклонники, Ролстоны же числились среди спонсоров прошлогоднего фестиваля. Они-то и попросили его принять репортера, и ему просто не хотелось отказывать, хотя, по большому счету, все эти home-garden-stories никому, мягко говоря, не нужны. В том же номере есть, кстати, статейка и о самих Ролстонах, которые, с одной стороны, люди симпатичные (пожертвовали фестивалю пятнадцать тысяч долларов), но не без странностей. Странность Ролстонов, сказал Бергман, их, так сказать, причуда, чтобы не сказать чокнутость, — состоит в нездоровом пристрастии к разведению мха: как-то раз он был у них в доме, а там, куда ни глянь, повсюду мох. В саду, на деревьях, на крыше — повсюду. После этого посещения он несколько дней не мог избавиться от ощущения осклизлости, замшелости, заплесневелости — и это в Калифорнии! «Кошмар!» — воскликнул Бергман и вновь принялся за письма. Внезапно Георгу показалось, что за Ролстонов нужно вступиться. Как-никак, люди пожертвовали пятнадцать тысяч, да и потом этот мистер Ролстон, который так трогательно сдувает пылинки со своих мшистых лужаек, он и впрямь симпатичный старичок. «Но в газонной траве есть что-то аляповатое!» — сказал он во весь голос. Бергман поднял глаза, снял очки, потянулся за стаканом, сделал глоток виски и, пристально глядя на Георга, тщательно прополоскал рот, прежде чем проглотить. Потом он отставил стакан в сторону, и его руки снова заходили ходуном. Очевидно, он умудрился за секунду перейти в иной частотный диапазон. Георгу захотелось сделать то же самое. «Ну и пусть себе машет на здоровье, — сказал себе Георг. — Я буду сочинять. Если Бергман думает только о музыке, то и я буду думать только о стихах». Георг настроился обдумывать будущее шотландское стихотворение, но едва начал думать, как на пороге возник Бруно. С возгласом: «Dinner is served!» он распахнул дверь, соединявшую гостиную со столовой. За ужином Бергман временно прекратил размахивать руками и отбивать размеры, целиком сосредоточившись на обсуждении того, что назвал «винной проблемой». До сих пор, сказал Бергман, пригубив вина, он полагал, будто винная проблема решена. Но теперь вынужден заявить, что проблема осталась. «Сперва вина не было, теперь появилось это», — сказал Бергман. «Что заказывали, то и появилось», — ответил Бруно. «Появилось то, что прислали, — парировал Бергман, — а заказывали нечто совсем другое». Он заказывал так называемое «второе вино» Figeac[5]. А это — «первое вино» Figeac. Когда он покупает вино, ему вечно норовят всучить первое, даже когда он просит второе. А все потому, что лондонский виноторговец — сноб, и полагает, будто композитор Бергман обязан при любых обстоятельствах пить исключительно первое. Но он, композитор Бергман, — сам сноб почище лондонского виноторговца. И будучи таковым, давным-давно понял, что второе вино замка ничем не хуже первого. Хотя и вдвое дешевле. Он совсем не прочь заплатить в два раза меньше, а получить в два раза больше, сказал Бергман. В таком снобизме он себе не отказывает. Как бы то ни было, он взял себе в привычку пить или вино с собственного виноградника в Сицилии, или же второе. «Зацикленность на первом просто возмутительна!» — гневно воскликнул Бергман и потребовал принести другого вина, но другого в доме не оказалось. В доме было только то, что доставили на пароме, но пить его Бергман отказывался категорически. Георгу оно, напротив, показалось необычайно вкусным, ему не часто доводилось пить такое качественное вино, обычно он пил пиво, а если не пиво, то дешевый кьянти из супермаркета. Но Бергман объявил вину бойкот, и поднести ко рту бокал Георг не решался. К счастью, композитор вскоре одумался и, то и дело веля Бруно подливать, наконец-то заговорил о деле, которое предстоит сделать Георгу — проверке уже готовых страниц мемуаров на предмет ошибок и неточностей. Пусть начинает завтра утром. При известном прилежании можно управиться за неделю. А за оставшиеся дни нужно составить именной указатель. Объем машинописи — триста страниц. Вряд ли там так уж много ошибок. Днем Бергман трудится над своим сочинением, а по вечерам будет работать с Георгом. Писать попутно стихи не возбраняется, но просьба соблюдать меру, прибавил Бергман напоследок. Тут он улыбнулся, и Бруно вслед за ним тоже улыбнулся. Уже успевший порядочно выпить, Георг увидел, что Бергман превращается в Бетховена, Бруно — в Брамса, а сам он остается упитанным юным эмсфельдцем, который ходит заниматься к флейтистке.
На то, чтобы просмотреть рукопись от начала до конца, Георгу потребовалась ровно неделя. Георг правил текст, Бергман сочинял музыку. Произведение называлось «Пирифлегетон для большого симфонического оркестра», и композитор объяснил, что Пирифлегетон — это огненная река, омывающая берега Тартара. В Тартар определяют нечестивцев — души праведников переселяются на Елисейские поля. Это Георг и так знал, и что берега Элизиума омывает Лета — тоже. Но только теперь он наконец понял, что имелось в виду под изречением: «Не Лета, а Пирифлегетон!» Георгу казалось, что музыка об огненной реке должна быть очень бурной, шумной, громовой. Тем большее недоумение вызывала тишина, царившая в доме круглые сутки. Бергман работал этажом выше, прямо над ним, но почти не подавал признаков жизни. Единственным звуком, который регулярно просачивался сверху, было слабое жужжание электрической точилки для карандашей. Работа над текстом продвигалась бойко, ошибок действительно оказалось немного, и правкой Георг занимался только по утрам, решив послеобеденные часы посвящать собственному творчеству. Какое необычайное везение, мысленно говорил Георг, возвращаясь после обеда в комнату и глядя из окна на пролив: Бергман сидит наверху и пишет музыку, Бруно хлопочет по дому и возится с садом, море светится всеми мыслимыми оттенками серого и голубого, на небесах каждый день разыгрывается новая грандиозная мистерия. Природа, тишина и сознание, что ему выпало трудиться рядом со знаменитым композитором, — все это приятно согревало душу. Бергман пишет музыку, а я пишу стихи, мысленно говорил Георг, садясь за письменный стол и ощущая, как им овладевает новое незнакомое чувство (культурное, говорил он себе). С ним он подходил к столу, но едва садился — впадал в ступор. Он хотел написать свое первое шотландское стихотворение, положить начало шотландскому циклу, но ни одного двустишия так до сих пор и не создал. Писал, например: «Облака бегут надо мною…» или: «Мхи каменисты, как скалы…», а дальше — ни с места. После многочисленных тщетных попыток породить вторую строчку Георг решился на хитрость. Он будет писать не про Шотландию, а про то, как ему не дается шотландская тема. Но не тут-то было: строчки «Пролив передо мною, Бумаги белой лист…» ничего, кроме стыда, у него не вызывали. Пришлось отказаться от хитроумного приема и переключиться на созерцание неба, ландшафтов и всего прочего. Георгу хотелось писать, но что-то мешало. Спустя некоторое время он понял причину. Дело не в выси шотландского неба. И не в эмсских воспоминаниях, которые, бывало, одолевали его в студенческие годы, не давая сосредоточиться за письменным столом. И не в этом, давящем на виски, «гебридском» одиночестве, которое после обеда становится особенно невыносимым. Дело совсем в другом. В жужжании электроточилки. Жужжащий звук был еле слышен, но назойлив, и раздражал, даже когда замолкал, поскольку было ясно, что молчание продлится недолго. К тому же Георг вообразил, что, как только смолкает электроточилка, слышится шорох карандаша. Звуки не прекращались ни на миг. Бергман или писал, или точил карандаш. Сокращение интервалов между жужжанием означало, что Бергман наращивает темп. Но чем большую скорость развивал Бергман, тем хуже повиновалась Георгу его правая рука. Большую часть времени он бесцельно просиживал за рабочим столом, глядя на пролив и прислушиваясь к доносящимся из кабинета Бергмана звукам. Когда становилось совсем скучно — заново пробегал глазами страницы, над которыми работал до обеда. Он сможет вручить композитору безупречно отредактированный текст, это точно. Но не сможет показать ни одного стихотворения. С каждым днем это становилось все очевиднее. Дважды пройдясь по всему тексту, Георг принялся составлять именной указатель, для чего мемуары пришлось прочесть в третий раз. Закончив указатель, он пришел к Бергману и сообщил, что работа сделана. «Прекрасно! — сказал Бергман. — Только вот проблема: как найти время для обсуждения?» Это Георга поразило. Их здесь, казалось бы, никто не беспокоит, а у Бергмана — проблемы со временем. «Я готов в любой момент!» — выпалил он, наверное, чересчур услужливо; в ответ Бергман заверил Георга, что как-нибудь и у него отыщется свободная минутка, непременно должна отыскаться. Еще бы, подумал Георг: ведь они видятся каждый день, вместе обедают и ужинают, по вечерам часто сидят у камина. Но время шло, а любые попытки напомнить Бергману, что надо бы обсудить правку, встречали все более заметное недовольство. Еще не хватало испортить из-за этого отношения, со страхом подумал Георг. Он был готов поверить в то, что со стороны Бергмана это, должно быть, любезность — обсуждать с ним рукопись. Тогда он прикусил язык и прекратил напоминания, тем более что вскоре Бергману и Бруно стало не до того: новая проблема потребовала напряжения всех сил. К «винной» проблеме, которая оставалась нерешенной, хотя Бергман каждый вечер благополучно выпивал, добавилась, как выразился композитор, проблема «рояльная». В доме не было рояля. Бергман полагал, что рояль у англичанина есть. Но рояля не оказалось. Не оказалось даже пианино. Беда нагрянула внезапно, в разгар обеда. Бросив взгляд в сторону Бруно, Бергман внезапно сказал: «Здесь нет рояля». — «Нет», — подтвердил Бруно. Он собирал со стола глубокие тарелки и готовился принести второе. Бруно ответил невозмутимым голосом, но Георг, который наблюдал за сбором тарелок, заметил, что у Бруно трясутся руки. Когда Бруно внес второе — шотландскую белую куропатку с тушеными овощами и картофелем, — Бергман заявил, что без рояля работать невозможно. «Никто не вправе требовать от него, чтобы он работал без рояля. А шотландцы требуют!» — сказал Бергман. Но ведь он сюда не баранов пасти, не лососевых ловить, не на волынке дудеть приехал! Было не очень понятно, что это — шутка или начало приступа гнева. Георг склонялся к тому, что шутка, но Бруно, видимо, решил иначе: заметно побледнев, он попытался успокоить Бергмана, говоря, что постарается уладить проблему с роялем. В принципе, сказал Бергман, рояль необходим уже сегодня. Вместо ответа Бруно молча скрылся на кухне. Когда он с каменным лицом вышел и внес на десерт «печенье из Роуи и Абердина», возникла новая проблема. Бергман заявил, что «абердинское» едят на завтрак, но никак не на десерт после ланча. Он хотел на десерт простеньких shortbreads. Но простенькие shortbreads — самые обыкновенные, ничем не примечательные — в этой стране, похоже, отсутствуют. «Что ж…» — скорбно сказал Бергман, отодвинул от себя печенье и с видом человека, смирившегося с неизбежным, молча покинул столовую. Бруно тоже вдруг исчез, и Георг остался в полном одиночестве. За неимением кофе, который Бруно почему-то не принес, Георг продолжал пить Figeac, налегая на «абердинское». Спустя некоторое время Бруно снова возник в столовой и наконец-то предложил кофе. Его голос был певуч, глаза туманились — было очевидно, что Бруно слегка подшофе. Видимо, он выпивал на кухне, потому и кофе подать забыл. До этой минуты Бруно вел себя образцово-показательно, и заподозрить его в слабости, пусть даже самой пустяковой, было невозможно. Бруно не тот человек, чтобы тайком выпивать на кухне. Скорее уж можно представить, как он бросается к гантелям, уединяясь на кухне. Георг предложил Бруно выпить еще вина. «Разве что самую малость, — откликнулся Бруно. — Надо срочно искать рояль». — «Наверное, это будет непросто», — посочувствовал Георг. «А я позвоню в Эдинбург», — возразил Бруно. Потом он замолчал, и Георг спросил, давно ли он у Бергмана. «Уже не первый год, — ответил Бруно. — До этого работал в Лондоне, до Лондона — вообще нигде не работал, а еще раньше, было дело, служил у Онассиса». «Шутит», — подумал Георг, но Бруно говорил серьезно и восторга по поводу прежней своей работы не обнаруживал. «Так вот откуда фотография в альбоме!» — догадался Георг. «Капри», — кивнул Бруно и прибавил, что бесконечные круизы очень изнурительны. От кораблей его тошнит, музыку он и то переносит легче. Онассис, наоборот, без кораблей жить не мог, а музыку переносил с большим трудом. В музыкальном плане, сказал Бруно, их союз с Марией был сплошной пыткой. Георгу было приятно, что Бруно говорит: «с Марией». Вскоре он и сам сказал: «Мария». И вот уже Мария Каллас словно превратилась в их давнюю общую подружку — Бруно, судя по всему, действительно был ее конфидентом. «Пыткой», — повторил Бруно. Для Онассиса. И для Марии. Поначалу Онассис был преисполнен благих намерений. Ходил в оперу, слушал пластинки, под конец твердо уверовал в свою оперную эрудицию. Как услышит по радио женский голос, исполняющий арию, так сразу вскрикивает: «Мария!» и делает погромче, и никто, конечно, не спорит — ни работники, ни клиенты, никто. Каждый поход в оперу был для него мукой мученической, но он был вынужден туда ходить, потому что ни один оперный театр не мог позволить себе таких банкетов, какие умел устраивать и был в состоянии оплатить он. В минуту откровенности он как-то признался, что музыка — это еще полбеды. Главная проблема заключается в том, что в опере поют. И поют очень подолгу. Онассис не мог высидеть в опере больше полутора часов кряду. Но где это видано, чтобы опера длилась меньше полутора часов? Страдал он потому, что не мог спокойно усидеть на месте. Привык названивать, диктовать, носиться туда-сюда, всходить на борт, подниматься по трапу, тратить деньги, курить сигары. И всегда быть в центре внимания. А в опере на него обращали внимание только перед началом спектакля и во время антракта. Были бы антракты длиннее, спектакли короче, а в зале светло — не исключено, что Онассис и смирился бы с оперным жанром. Он терпеть не мог сидеть в темноте, сказал Бруно. Поэтому так и любил летние спектакли под открытым небом, в греческих амфитеатрах, где можно курить. «Вот какой он был, наш Daddy О.», — на этом Бруно закончил свой рассказ и, залпом опустошив бокал, пошел звонить в Эдинбург. День клонился к вечеру, но рояль никто, конечно, так и не привез. За ужином Бруно сообщил, что позвонил в Эдинбургскую оперу и спросил, нельзя ли одолжить рояль. Рояль для композитора Бергмана. В ответ они велели кланяться композитору и просили передать, что они бы с удовольствием, но сейчас у них, как назло, ни одного свободного рояля нет. «Ноги моей больше не будет в Эдинбурге», — отрезал Бергман. Эдинбург не дает ему возможности работать. Объявляет ему откровенный бойкот. Если эдинбуржцы вознамерились его уничтожить, то пусть пеняют на себя. Ему все равно. Пусть Бруно звонит в Глазго. Назавтра Бруно позвонил в Глазго и за обедом представил подробный отчет о результатах звонка. Велено передать, что проблем нет и быть не может, для театра это огромная честь, завтра они вышлют грузовик, послезавтра встречайте рояль. «Давно бы так», — сказал Бергман и похвалил «scottish enlightenment» — явление, типичное вовсе не для Эдинбурга, как твердят все вокруг, а именно для Глазго. Георг впервые услышал о существовании «scottish enlightenment» и не отказался бы узнать о нем подробнее. «То-то Эдинбург удивится», — хмыкнул Бергман. На следующий день рояль прибыл. От Глазго его везли грузовиком, затем на автомобильном пароме переправляли на Льюис. На последнем отрезке пути, от Льюиса до Скарпа, в операции задействовали уже знакомый Георгу пассажирский паром. Когда грузовик подъехал к пристани, команда грузчиков вынесла инструмент, поставила его на ребро и, подкатив на платформе с колесиками к парому, на ремнях втащила на борт. На другом берегу рояль, опять-таки на ремнях, вынесли, взгромоздили на ту же платформу и покатили в горку. Георг отправился к пристани и с некоторого отдаления наблюдал за ходом событий, Бергман остался в доме, чтобы готовиться к пресс-конференции, Бруно стоял у главных ворот, ожидая прибытия грузчиков с роялем. Все происходило так, как оно и должно было происходить: грузчики тянули и толкали, фотографы фотографировали, репортеры, покуривая, шагали следом. Мужчин было человек десять. С ними прибыла дама: пресс-атташе Оперы Глазго, она должна была руководить официальной церемонией. Бергман вышел в галстуке и чрезвычайно изысканном (наверное, очень дорогом) костюме, — не из харрис-твида, как могло показаться на первый взгляд, а из кашемира. «Терпеть не могу харрис-твид, — заявил он в ответ на уговоры Бруно и прибавил, — равно как деревянные башмаки и утыканные гвоздями доски». Бруно рассказал об этом Георгу еще вчера, готовя закуски для сегодняшнего приема. Бергман поблагодарил за доставленный рояль, после чего слово взяла пресс-атташе. Она передала композитору сердечный привет от артистов Оперы Глазго, отдала дань выдающимся заслугам Бергмана на музыкальном поприще, подчеркнула, что в Шотландии знают и ценят его творчество, и выразила композитору признательность за то, что он удостоил Шотландию и остров Скарп своим визитом. Затем фотографы снова принялись фотографировать, рабочие потянулись к буфету, а Бергман пошел давать пресс-конференцию. Все вопросы, как он потом рассказал, вертелись вокруг Шотландии или, представьте себе, вокруг Гебридских островов. Особенно вопросы репортеров «Глазго Геральд» и «Скотсмен». Им хотелось удостовериться в том, что Шотландия — это единственное место на всем земном шаре, где такой видный композитор, как Бергман, способен испытать прилив творческих сил. Из вежливости Бергман не стал противоречить. Он мог бы, конечно, упомянуть между делом, что на его вилле в Сан-Вито-Ло-Капо в настоящее время устанавливается кондиционер и что, как только кондиционер будет установлен, у него появится наконец возможность летом спокойно работать дома, вместо того чтобы ехать Бог весть куда, на край света. Но обо всем этом, сказал Бергман, он умолчал; назвал Шотландию средоточием творческого духа, упомянул «Гебриды» и «Шотландскую симфонию» Мендельсона. Об Эдинбурге тоже умолчал. То есть полностью его проигнорировал. Но похвалил широту шотландской души. В особенности — щедрость Оперы города Глазго. На заявление Бергмана, что щедрость, по всей видимости, можно считать национальной чертой шотландского народа, все три репортера, дюжие краснощекие молодцы в вислозадых вельветовых штанах с пузырями на коленках, просияли от восторга. Но один из них — тот, что пишет в «Шетланд Пост» — Бергмана рассердил. Сперва он зачем-то спросил про Нерлингера, которому, дескать, вот уже второй раз посвящают отдельную программу на Эдинбургском фестивале. А потом — про Вагнера. Почему Бергман упомянул Мендельсона и не упомянул Вагнера? Ведь Вагнер тоже бывал в Шотландии. Правда, не на Гебридских островах, а на Шетландских. «Вздор! — сказал Бергман. — Чепуха». Но репортер, оказавшийся на редкость настырным, бубнил о том, что на одном из Шетландских островов якобы был найден автограф Вагнера шестидесятых годов XIX века. Некое послание, нацарапанное на стене беседки, расположенной рядом с каким-то знаменитым водопадом. Репортер, сказал Бергман, первые строки помнил наизусть и принялся сходу декламировать: «Я возвращаюсь в Германию. Прощайте, дивные Шетландские острова! Прощай, любезная Шотландия, благородная и одухотворенная нация!» Далее, по утверждению репортера, Вагнер благодарил шотландцев, в первую очередь жителей Шетландских островов, за то, что они сумели по достоинству оценить его музыку, — в отличие от французов, особенно парижан, доставлявших ему сплошные неприятности. За это он обещал шотландцам сочинить оперу, центральное место в которой займет этот самый (уже тогда известный во всем мире) водопад. Водопад станет действующим лицом оперы, вместе с рыбами, скалами, елями и белыми куропатками. Возможно, писал Вагнер, придется вывести на сцену человека. Он пока не решил. Под текстом стояла подпись «Рихард Вагнер», опубликован он был 14 августа 1896 года в «Шетланд Пост». С тех самых пор, сообщил репортер, на Шетландских островах существует Вагнеровское общество, которое и по сей день играет видную роль в шотландской вагнеристике, предпринимая деятельные шаги для разыскания «водопадной» оперы. Специалисты, понимаете ли, уверены, что опера — если не в полном объеме, то хотя бы во фрагментах — сохранилась. Бергман ответил репортеру, что единственная водная опера Вагнера называется «Золото Рейна» и что он советует юноше как-нибудь выбрать время и прослушать это сочинение. Кроме того, достоверно известно, что в Шотландии Вагнер никогда не бывал. «Прежде чем отправляться в Шотландию или же на Шетландские острова, — произнес Бергман с демоническим смешком, — Вагнер непременно заехал бы в Финляндию. Сарматы его обожают». Георгу было не понятно, что имел в виду Бергман, про сарматов он слышал впервые, да и репортер, видимо, тоже. Разговор увял, а на вопрос о Нерлингере (интересоваться Нерлингером — еще более вопиющая наглость, чем интересоваться Вагнером) Бергман отрезал: «Нерлингер — гений!» Чем окончательно отбил у репортера желание продолжать беседу. Георг пришел в восторг. Да, Бергман за словом в карман не полезет! И надо же, с какой ловкостью превратил он доставку рояля в официальную церемонию чествования собственной персоны. И пресс-конференцию в придачу. Именно в этом ключе освещали событие «Глазго Геральд» и «Скотсмен», правда, не на первых полосах, а всего лишь там, где речь шла о северо-западном регионе. К тому же «Глазго Геральд» дословно процитировала высказывание о Нерлингере. А «Шетланд Пост» написала, что Бергман назвал Гебридские и Шетландские острова обителью муз и отметил значение Гебридских в творчестве Мендельсона и Шетландских — в творчестве Вагнера. Кроме того, она не без колкости отметила, что Бергман не выказал восторга по поводу того, что Эдинбургский фестиваль посвящает творчеству Нерлингера отдельную программу. Рассерженный Бергман начал было обдумывать опровержение, но потом махнул рукой: не много ли чести стараться ради нескольких шотландских пони, кроме которых «Шетланд Пост» все равно никто не читает. Было видно, что Бергман не на шутку рассердился, но вряд ли досада на публикацию послужила причиной того, что он так ни разу и не подошел к роялю. За все время пребывания на Скарпе Георг услышал один-единственный аккорд в его исполнении. Этот аккорд не был похож на те характерные для новой музыки созвучия, что режут ухо и бьют по нервам. Это был не самый простой, но все же внятный аккорд, в котором слышалось такое томление, такая безысходная печаль, что Георг тут же решил: это Тристан-аккорд. Других аккордов он не знал, а потому взял себе в привычку: при исполнении Вагнера или кого-нибудь из вагнеровской плеяды, едва заслышится томительно-грустный и во всех смыслах неразрешимый аккорд — восклицать: «О! Тристан-аккорд!» Иногда это действовало, особенно на филологических барышень, но однажды Георга угораздило познакомиться с одной германисткой, которая специализировалась еще и в музыковедении. Он пригласил ее к себе на квартиру — приготовить что-нибудь и поужинать вместе. Готовили они под Майлса Дэвиса, а ужинали под «Тристана и Изольду», и Георг все время, словно бы невзначай, ронял: «О! Тристан-аккорд!» Когда очередь дошла до десерта и Георг, в очередной раз воскликнув: «О! Тристан-аккорд!», хотел накрыть ладонью ее кисть, девушка отдернула руку и высказалась со всей определенностью: «Так дело не пойдет!» Потом она стремительно распрощалась и с тех пор никогда больше не звонила. В тот вечер Тристан-аккорд комом застрял у него в горле, и он пообещал себе изучить вопрос досконально и запомнить те места в вагнеровской опере, где он действительно звучит. А то получается, будто он повторяется в «Тристане» чуть ли не каждые десять минут. Заказав по межбиблиотечному абонементу полемику Джона Стюарта («The Tristan Chord: Identity and Origin») и Вильяма Стерна («The Tristan Chord in Historical Context: A Response to John Steward»), Георг сперва ознакомился со Стюартом, а затем перешел к Стерну. Не требовалось глубоких музыковедческих познаний, чтобы уяснить простую истину — изнутри Тристан-аккорд непонятен, для его уразумения необходимо понять следующее за ним, прикрытое им созвучие. Некоторую ясность вносит первый выход Энея в опере Пёрселла «Дидона и Эней». Еще большую — четвертый речитатив Восемьдесят второй кантаты Баха под названием «С меня довольно». («Так дело не пойдет!» — сказала девушка, а могла бы, между прочим, сказать: «С меня довольно!») Для окончательного прояснения ситуации с Тристан-аккордом (хотя темные места все равно останутся) следует обратиться к сонатам Скарлатти (К. 460 и К. 462) и прослушать тот пассаж в вагнеровской опере «Тангейзер» (3 акт, 3 сцена), когда Вольфрам спрашивает Тангейзера: «Где был? Скажи, не в Рим ли ты ходил?» (Между прочим, можно было бы съездить с той девушкой в Рим. Сам себе все испортил своим Тристан-пижонством.) Углубляясь в дебри полемики Стерна со Стюартом, Георг все отчетливее осознавал тот факт, что наука о Тристан-аккорде стремится к универсализму. Исследователю Тристан-аккорда не обойтись без Пёрселла, Баха, Скарлатти и «Тангейзера». Но при изучении Пёрселла, Баха, Скарлатти и «Тангейзера» не миновать Бетховена — Бетховена в целом и Бетховена в частности: по утверждению Стерна, в бетховенской фортепьянной сонате ми-бемоль-мажор (опус 31) Тристан-аккорд выдержан в том же тоновом расположении, что и в опере Вагнера. Слово «выдержан» Георгу понравилось. Тристан-аккорды представились ему чем-то вроде изысканных красных вин, которые надо подолгу выдерживать в разных сочинениях, как в дубовых бочках. Если верить Стерну, утверждавшему, что Тристан-аккорды встречаются у Гильома де Машо (ок. 1300–1377) и Джезуальдо да Веноза (ок. 1560–1613), то получается, что они бывают и пятисотлетней выдержки, как в первом случае. Вино бы скисло. А Тристан-аккорды — держатся. Ясно конечно, что аккорд — это не вино и не уксус, а сочетание звуков. Проштудировав полемику Стюарта и Стерна, Георг так и не смог понять, из каких звуков состоит Тристан-аккорд. И что это за созвучие, которое следует за Тристан-аккордом, он тоже не понял. Стерн со Стюартом обходили этот вопрос молчанием. Но зато они просветили Георга относительно аббревиатуры «ТА». Стерн и Стюарт одинаково заменяли слово «Тристан-аккорд» буквами «ТА». Интересно, что сказала бы девушка, если бы вместо своего «О! Тристан-аккорд!» он повторял бы: «О! ТА! ТА!» Надо бы при случае отработать этот ход. И спросить Бергмана, из каких звуков состоит Тристан-аккорд. Совсем было решившись задать этот вопрос (за ужином накануне отъезда), Георг в последний момент все же передумал. Не спрашивать же Бетховена, в какой тональности написана его Пятая симфония, особенно если сидишь с ним за одним столом. И тогда он задал совсем другой вопрос: не сможет ли Бруно подвезти его завтра до пристани. Ведь ему пора уезжать. «Как это уезжать? — удивился Бергман. — А мемуары?» Пока они не обсудили правку и именной указатель, Георг никуда ехать не может. Пусть Бруно утром обменяет билет, а Георг останется еще на два дня, в смысле расписания так будет гораздо удобнее. «Но расписание довольно удобное», — возразил Георг. Оказалось, что Бергман имел в виду не расписание самолетов, а график прибытия гостей. Через три дня на острове появится его сын Антуан, который учится в Университете Брауна в Провиденсе и с которым он давно не виделся. Сына зовут Антуаном, поскольку его мать (Бергман с ней разошелся) — француженка. Антуан изучает «engineering», круг его интересов — баскетбол, автомобили и спортивные единоборства. «Конечно, ему будет скучновато, — сказал Бергман, — хотя, с другой стороны, есть Бруно с „бентли“. Георг представил себе картинку: Антуан с Бруно в саду совершенствуют боевые техники (отрабатывают друг на друге захват с удушением или удар ребром ладони), а Бергман из окна своего кабинета наблюдает за происходящим. Возможно, Антуану взбредет в голову разобрать „бентли“ по винтикам, а потом снова его собрать. Или он станет гонять туда-сюда по Льюису. Уловив сарказм в реплике Бергмана, Георг предпочел не углубляться в вопрос об Антуане. Лучше спросить о жене, с которой Бергман, видимо, официально не развелся, хотя она давно живет в Париже, где имеет частную практику: лечит музыкантов. Помимо оркестрантов, составляющих основной контингент ее пациентов, к ней обращаются солисты, дирижеры и композиторы. Поначалу, сказал Бергман, она была невропатологом, но, получив соответствующее образование, переквалифицировалась в психоаналитики, некоторое время лечила всю Парижскую оперу. Там-то они и встретились, сказал Бергман, но вот уже несколько лет как разъехались. Семья и творчество несовместимы, заявил Бергман. Или творить — или жить семейной жизнью. Он, правда, знает нескольких коллег, которые совмещают эти два занятия: Нерлингер, скажем, — но всегда прекрасно слышно, как плохо им это удается. С годами жена окончательно переключилась на те недуги, которые приводят к утрате работоспособности, а его, Бергмана, работоспособность год от года только росла. Жена занималась спастическими расстройствами, в то время как он, Бергман, к ним интереса не испытывал. Еще в пору их совместной жизни она написала пособие под названием „Qu’est-ce que la dystonie“, сегодня оно считается классическим. Но месяцами с ней можно было говорить только о дистониях, а больше ни о чем. „Клинический случай, — подытожил Бергман. — Очень тяжелый“. На вопрос Георга Бергман ответил, что жена занималась спастическими расстройствами музыкантов, это всевозможные судороги и спазмы, он не помнит их разновидностей. Например, искривлением шеи, которое часто бывает у скрипачей, или нарушениями речи, которыми иногда страдают вокалисты. У одного из ее пациентов, довольно молодого солиста Парижской Оперы, была искривлена шея, дергался глаз и вдобавок ко всему он заикался. Можно представить себе роли, на которые годился этот несчастный, сказал Бергман. Он мог бы петь разве что в операх Витте и Шеера. Но вот незадача: ни Шеер, ни Витте не пишут опер. Нерлингер пишет! — подсказал Георг. Судороги и спазмы, которые могли бы пригодиться Нерлингеру, в медицине еще не описаны, возразил Бергман. Как бы то ни было, настал день, когда композитор понял, что он не в состоянии больше выносить разговоры о спазмах. Это случилось после того, как супруга увлеклась писчим спазмом, а уж об этой болезни он и подавно знать не хотел. Однажды за завтраком она поведала ему об одной разновидности писчего спазма, которая выражается в том, что мизинец на руке непроизвольно оттопыривается. И вот, только они позавтракали и он сел за работу, как у него начались проблемы с мизинцем. Мизинец стал мешать ему при письме, и это продолжалось несколько дней, пока он не затеял крупной ссоры, которая, собственно, и стала началом конца их супружества. „Никто, кроме вас, об этом не знает“, — сказал Бергман. Георг пообещал соблюдать конфиденциальность. Теперь, когда Георг согласился остаться, настала пора обсудить правку и именной указатель. Обсуждение правки ограничилось тем, что Бергман заглянул в рукопись и, пробежав глазами несколько исправлений, сказал, что выглядит все на первый взгляд недурно. Но этим он займется позже. Сейчас важнее проработать именной указатель. Было не очень понятно, что он, собственно говоря, собирается прорабатывать, если все персоналии уже выписаны в алфавитном порядке. В кабинете они уселись за бергмановский рабочий стол, словно соседи по школьной парте. Никогда еще не сидели они так близко друг к другу. Георга не покидало ощущение, что рядом с ним — Брамс или Бетховен. А самого себя он чувствовал теперь брамсовым младшим братом или бетховенским сыном, а может быть, близким другом обоих. Он был взволнован тем, что сидит рядом с Бергманом, локоть к локтю, и это волнение достигло апогея, когда Бергман придвинул к нему партитуру „Пирифлегетона“ и попросил без церемоний переложить ее со стола куда-нибудь на пол. Взяв в руки партитуру и бросив взгляд на испещренный карандашом лист, Георг был поражен искусной вязью, образованной переплетениями нотных знаков, — чем ближе к центру, тем плотнее становились строчки, сгущаясь в нотный ком, чернящий белый лист. Вот оно, пекло, стремнина огненной реки, место, где поток пузырится, клокочет, бурлит и кипит, принося пропащим душам особенно тяжкие муки, решил Георг. Он бережно положил листы на ковер. Бергман пишет эту оперу на заказ, премьера состоится в нью-йоркском Линкольн-центре. А я, подумал Георг, положил ее на ковер». Очистив письменный стол, Бергман начал просматривать именной указатель. Список вышел весьма внушительный, и Бергман сделал удивленное лицо, когда оказалось, что на страницах его мемуаров упомянуто около трехсот лиц. Но еще больше удивило его то, что попадаются среди них такие, с кем он давно рассорился, а также ничтожества и бездарности, коим не место в указателе. Натыкаясь на очередную фамилию, Бергман нередко отрицал, что данное лицо упомянуто в книге, требуя от Георга доказательств. Как ни настаивал Георг на том, что именной указатель — это полный перечень всех упомянутых в книге людей, независимо от отношения к ним автора, Бергман настаивал на необходимости вычеркнуть кое-какие имена. Тогда Георг сказал, что устранить неугодные имена, конечно, можно. Но нельзя устранять имена из указателя, не устраняя их из книги. Потому что в таком случае это уже не именной указатель, а прямо какая-то tabula gratulatoria шиворот-навыворот. О существовании такого жанра, как tabula gratulatoria, Георг знал по юбилейным сборникам профессоров-германистов. В поисках статей о забвении он просмотрел уйму таких сборников. Чего в них только нет! — думал он. Наверняка и по его теме что-нибудь найдется. Но ничего так и не нашлось. Зато на последних страницах его всякий раз ждала tabula gratulatoria. Казалось бы, ничего особенного: список профессоров-германистов, поздравивших коллегу-юбиляра, только и всего, но изучать и сличать эти списки было весьма занятно. Особенно любопытно встречать в разных сборниках одних и тех же персонажей. Некоторые фамилии повторялись чуть ли не в каждом списке. Примечательно, что самых усердных поздравителей не очень-то усердно поздравляют. Если они, усердные поздравители, вообще дослуживают до юбилейного сборника. Чем длиннее список поздравителей, тем почетнее для почтенного юбиляра. Но это — одна сторона медали. Чем список длиннее, тем больше в нем профессоров, которые поздравить-то поздравили, а вот статьи в сборник не написали. Зачастую это связано с тем, что юбиляр в свое время тоже не соизволил ничего написать для сборника коллеги. Идея перевернутой tabula gratulatoria Бергману понравилась. «Вот мы и сделаем tabula gratulatoria!» — сказал он. Георг попытался было возразить, что выборочный именной указатель — это все же не tabula gratulatoria, а скорее Доска почета, попадание на которую означает признание заслуг. «Вот и хорошо, — сказал Бергман. — Вот и прекрасно, так и поступим», — и склонился над указателем. Георг сомневался, что Бергман его услышал, но возражать не стал, и они пошли дальше по списку. Обсуждение вышло длинное, но забавное: вычеркивая очередное нежелательное имя, Бергман тут же припоминал какой-нибудь случай, объяснявший причины нежелательности. В итоге он отказался включить в указатель около половины упомянутых в мемуарах лиц. «Остальные — пусть». Это прозвучало так, словно каждое лишнее имя — дружеская уступка Георгу. И Георг стал вести себя соответствующим образом. Если Бергман не возражал против кандидатуры и говорил: «Пусть будет», то Георг, ставя напротив фамилии плюсик, бормотал восторженное: «Здорово!», радостное: «Очень хорошо!», а то и вовсе благодарное: «Спасибо!» Попадались, конечно, спорные случаи, которые заставляли Бергмана задуматься. Один из них — Нерлингер. Вот уж кого незачем упоминать, так это Нерлингера. По всем статьям — известность, популярность и слава в веках — Нерлингер является опаснейшим соперником. Есть, конечно, еще Шеер и Витте: сверстники Бергмана, они вот уже несколько десятилетий известны на мировой сцене, но Бергману они не конкуренты. Сидя в один из вечеров у камина, Бергман разговорился о своих коллегах, и поначалу отзывался о них, казалось бы, вполне благодушно. Шеера с Витте хвалил особенно — за последовательное, как он выразился, упрямство. Упрямец Шеер норовит задействовать в своих композициях подъемные краны и чугунные молоты, невозможные, естественно, ни в одном концертном зале. А упрямец Витте прибегает к помощи научно-исследовательских институтов и вычислительных центров. В создании одного из самых его известных оркестровых сочинений, «Пифагорова корня из единицы», участвовал женевский Европейский центр ядерных исследований. «Без ядерных исследований, — сказал Бергман, — Витте уже не может». Бергману вполне достаточно карандаша, точилки и бумаги, а Витте нужен циклотрон. Что ж, пусть они сочиняют для чугунных молотов, подъемных кранов, циклотронов и вычислительных центров. «Всячески это приветствую», — сказал Бергман. В репертуарных планах освобождается место для музыки Бергмана, и все довольны. Бергман со спокойной душой признал заслуги Витте и Шеера. Признать заслуги Нерлингера — совсем иное дело. Нерлингер тоже пишет оперы и симфонии. Карандашом. Для оперного или концертного зала. Он предпочел бы не упоминать Нерлингера вовсе. Но это бы слишком бросалось в глаза. Поэтому Бергман упомянул Нерлингера, но всего один раз, да и то лишь затем, чтобы рассказать, как однажды (это было в шестидесятых) они неожиданно встретились на приеме у президента: Нерлингер стоял в очереди прямо перед ним. «Передо мной стоял Нерлингер, за мной — Зепп Хербергер» — вот и все. В этом сквозила откровенная неприязнь. Бергман это и сам понимал, хотя уверял, что написал чистую правду. Георг был согласен, что умалчивать Нерлингера ни в коем случае нельзя. Лишняя зацепка для прессы. На несколько секунд он попытался представить, что Бергман попросту запамятовал эпизоды, связанные с соперником. Но как отличить замалчивание от запамятования? С помощью каких художественных приемов проводится это разграничение? Надо иметь это в виду, когда он приступит к диссертации. Как ни крути, проблемы Нерлингера не решишь «по умолчанию». Остается вспоминать его как можно чаще. Тогда Георг предложил ввести дополнительные упоминания — пусть имя Нерлингера встречается в мемуарах на каждой десятой странице. Вроде того как в «Тристане и Изольде» каждые десять минут повторяется Тристан-аккорд. Услышав предложение Георга, Бергман воскликнул: «Это невозможно!», а затем, немножко помолчав, сказал, что, кажется, он кое-что придумал. Поскольку книга кончается пребыванием в Шотландии и завершением «Пирифлегетона», он ведь может написать о рояле, пресс-конференции, краснощеких репортерах и гениальном ответе на вопрос о Нерлингере. «Это решение проблемы», — сказал Бергман. Георг согласился с композитором, но робко заметил, что Нерлингера в таком случае надо бы оставить. «Пусть остается», — кивнул Бергман. Георг решил немедленно прояснить и вопрос о Зеппе Хербергере. «И он тоже», — великодушно позволил Бергман. Но поистине верхом великодушия явилось его внезапное решение — внести в указатель имя Георга! Георг сделал вид, что ему все равно, но в глубине души возликовал и снова почувствовал сухость во рту и ком в горле, как тогда, когда впервые увидел черный лимузин.
Вскоре после возвращения в Берлин, в комнатушку неподалеку от Ландверканала, стало ясно, что пребывание в Шотландии не прошло бесследно: посреди обшарпанного, воняющего гарью, летнего Кройцберга Георг сумел написать с полдюжины прозрачных, пронизанных мерцающим светом Скарпского пролива шотландских стихотворений. Дав стихам немного отлежаться, он послал их Бергману на итальянский адрес и через несколько дней получил написанное от руки письмо, в котором Бергман благодарил за посылку лаконичным, по-прусски отрывистым: «Так держать!» и напоминал, что обсудить исправления они так и не успели. В отдельных случаях правка неразборчива. Перед тем как отправлять рукопись в издательство, необходимо еще раз пройтись по тексту. Скоро он поедет в Нью-Йорк, где состоится премьера «Пирифлегетона», так что и встречаться удобнее всего в Нью-Йорке. О билетах позаботится контора. Если для композитора Нью-Йорк был только удобным местом встречи, то для Георга побывать в этом городе стало бы осуществлением давней мечты, до сих пор неисполненной. Во-первых, из-за отсутствия финансов, во-вторых — из-за странного рода стыдливости. Весь мир, все его знакомые в Нью-Йорке уже побывали и дружно восхищались этим городом. Если раньше все ездили в Италию, Грецию, на Кубу и Ямайку, то теперь валом валили в Нью-Йорк. Обрывки чужих рассказов о Нью-Йорке доносились до Георга не только в университетской библиотеке или в студенческой столовой. Любили поболтать о заокеанском мегаполисе и клиенты социального отдела — коротко стриженые, с трехдневными бородками, в черных костюмах поверх маек, эти ребята были не очень похожи на скромных получателей социального пособия, смахивая скорее на режиссеров и модных дизайнеров. Один из них, как подозревал Георг, переселился в Нью-Йорк окончательно и наведывался на Марианнен-плац только за пособием. Из бесед с нью-йоркскими знатоками Георг твердо уяснил, что Нью-Йорк — это Манхэттен. «Говоришь Нью-Йорк — подразумеваешь Манхэттен». Эту фразу он слышал от самых разных людей. Но однажды он встретил сокурсницу, и эта огненно-рыжая особа (дочь приличных родителей, щеголявшая в драных джинсах и белых мужских рубахах на голое тело и писавшая магистерскую работу под названием «Тема преследуемой невинности в творчестве Софи фон Ларош и Сэмюэла Ричардсона») заявила, что последние два раза из тех семи, что она бывала в Нью-Йорке, она даже не заезжала в Манхэттен. «Как-то пока не хочется», — сказала она. Бывает она в Бруклине — временами в Бронксе, но в основном в Бруклине, а жить любит в ДАМБО[6]. Сочетание «ДАМБО» Георгу ничего не говорило, да и при слове «Бруклин» в голове возникала только одна ассоциация: «Бруклин — горячая точка». Он злился, но ничего не мог с собой поделать. У сокурсницы, видимо, были совсем другие ассоциации. На вопрос: «Ну и как там, в Бруклине?» она поморщилась, левой рукой откинула со лба прядь волос, усмехнулась, показав безупречно ровный ряд зубов, и протянула: «Съезди-как ты для начала в Манхэттен…» Бросив ему напоследок неподражаемо прохладное «Счастливо оставаться!», она удалилась в библиотеку, он же поплелся в кафе, изучать листовки студенческого профсоюза. И все же Георг с радостью ждал встречи с Манхэттеном. Особую значимость придавало этой встрече то, что он отправится в Америку не как турист, а по делам. Чтобы подготовиться, Георг зашел в книжный магазин и полистал путеводители. Один из них продавщица рекомендовала так настойчиво, что отказаться он не смог — это был «Нью-Йорк для женщин». Вскоре по почте пришли билеты и уведомление о том, что для него забронирован номер в «Вашингтон-сквер отеле», расположенном, судя по путеводителю, в самом сердце Манхэттена. Работники бергмановской конторы сообщали Георгу, что сам композитор остановится в «Плазе». В первый же день своего пребывания в Нью-Йорке, в пять часов вечера, Георг должен явиться туда для обсуждения рукописи. Перелет через Франкфурт оказался не более волнующим, чем поездка ночным поездом. Только когда самолет стал приближаться к Нью-Йорку, Георга охватило волнение, и он ощутил знакомую сухость во рту и ком в горле. Когда показались первые огни и высветился силуэт цепного моста, волнение усилилось еще больше. «О! Бруклинский мост!» — воскликнул Георг, обращаясь к соседу, уже не первый раз летевшему в США электронщику из Штутгарта. Электронщик не ответил, и Георг удивился было столь вопиющей неучтивости, как вдруг внизу показался еще один мост, как две капли воды похожий на первый. На сей раз Георг промолчал и поступил, как выяснилось, благоразумно: когда самолет стал снижаться над аэропортом имени Кеннеди, перед его глазами предстал третий подвесной мост, точная копия первых двух. Еще в самолете Георг решил забыть все то, что ему рассказывали о Нью-Йорке, и смотреть на город свежим непредвзятым взглядом. И к тому же надоело бояться строгого пограничного контроля, которым его столько пугали в Берлине. Заполняя зеленую въездную карточку, он быстро ответил на все вопросы, подивившись тому, что в примечании подробно расписано время, которое понадобится въезжающему на ее заполнение. «Необходимый для заполнения данной анкеты отрезок времени исчисляется следующим образом: две минуты на беглый просмотр анкеты; четыре минуты на фиксацию ответов; около шести минут на размышление над каждым». Георг удивился. Как странно въезжать в страну, где тебе заранее сообщают, сколько времени ты потратишь на заполнение анкеты, да еще и дают время на раздумья. Неужели кому-то нужно по шесть минут думать, отвечая на вопросы про участие в диверсиях, наркобизнесе и похищениях малолетних. Георгу, по крайней мере, не нужно. Таможенник тоже долго не раздумывал: приняв анкету и проштамповав паспорт, он отпустил ступившего на американскую землю немецкого гостя на все четыре стороны. Въехать в Америку — проще не бывает, подумал Георг. Поймать в Америке такси — тоже проще простого. Так утверждал подробно изученный во время полета путеводитель. Он обещал, что перед нью-йоркским аэропортом гостей встречает и рассаживает по такси специальный диспетчер. Подойдя к стоянке, Георг встал в очередь, и обещания путеводителя сбылись. Человек в темно-синей униформе — очевидно, тот самый диспетчер — руководил посадкой, следя, чтобы никто не влезал без очереди и каждый сел в такси, когда положено. Разве это не предел мечтаний — в полночь прибыть в незнакомый и небезопасный мегаполис и тут же получить такси? Наблюдая за налаженной работой стоянки, Георг размышлял о том, что Нью-Йорк — это не тот город, где, выходя из дому, нужно надевать бронежилет. Нью-Йорк — это город, где всех приезжих сажают в такси. Это открытие подействовало на него успокаивающе. Торопиться было некуда, он полной грудью вдыхал теплый вязковатый ночной воздух, разглядывал стоящих в очереди людей и любовался ясным звездным небом, простершимся над аэропортом. Но чем дольше он ждал, наслаждаясь мирным сценарием, тем тревожнее ему становилось. Что-то во всем этом не то. Что-то в этом странное. Может, тут слишком яркие звезды? Или чересчур жаркие летние ночи? Не замечая, казалось бы, ничего необычного, Георг никак не мог избавиться от ощущения странной безмятежности, даже нереальности всего происходящего. «Как в кино, как в каком-нибудь film noir, где хрипло подвывают трубы», — подумал он и чуть было не попросил у себя прощения за то, что в голову лезут такие заурядные пошлые мысли. Только когда подошла его очередь и таксист, повинуясь указаниям диспетчера, подъехал и остановился рядом, Георг осознал причину своей тревоги. Здесь совсем не слышно шума моторов! Нью-йоркские автомобили движутся тихо, почти беззвучно. Не едут, а парят на воздушных подушках. Эта обволакивающая их тишина действует угнетающе. И медлительность — тоже. Здесь никто никого не обгоняет, никто не жмет на газ или тормоз, — автомобили словно плывут над асфальтом, покойно и бесшумно. Вот и его машина подъехала тихонько, словно желая остаться незамеченной. Она буквально подкралась к нему. Теперь Георгу было никак не избавиться от ощущения, что в поведении нью-йоркских автомобилей, особенно таксомоторов, таится какой-то подвох. Они делают вид, будто движутся в гипнотическом сне, а на самом деле не теряют бдительности. И тогда он решил, что невзирая на усталость, вызванную долгим перелетом и разницей во времени, он глаз не сомкнет, пока не доберется до гостиницы. Во-первых, было бы обидно проспать приезд в город, о котором так долго мечтал; во-вторых, нужно присматривать за таксистом: индиец, цейлонец или пакистанец, он не говорил по-английски и никак не мог разобрать адреса, который выкрикивал Георг, прильнув к отверстиям в перегородке, отделявшей салон от кабины водителя. Вот уже который раз он повторял: «Washington Square», а таксист только плечами пожимал. В ответ на слово «Manhattan» он кивнул было: «Yes, Sir», но тут же снова пожал плечами, и Георгу пришлось лезть в карман за уведомлением, где был указан адрес гостиницы. Однако все старания просунуть бумажку в одно из отверстий оказались напрасными. Эти дырочки, наверное, затем такие крошечные, чтобы пуля не прошла. Тем временем таксист попытался открыть окошко, через которое пассажиры расплачиваются с водителем, но механизм заело. Тогда он вышел, открыл заднюю дверь и взял бумажку. Ему хватило беглого взгляда, он молча отдал уведомление Георгу и сел за руль. Читать он, похоже, умел, и местонахождение Вашингтон-сквер было ему известно. Едва машина тронулась, таксист включил радио и произнес длинную фразу, назвав некую сумму. Сперва Георг расслышал: «Forty dollars», потом: «thirty dollars», потом снова: «forty dollars». Но смысл этих цифр оставался ему непонятен. Он чувствовал, что еще немного, и станет совсем невмоготу: давала о себе знать смена часового пояса, на биологических часах было не двенадцать ночи, а шесть утра, и спать хотелось нестерпимо. Чтобы побыстрее завершить переговоры мирным путем, Георг решился на более крупную сумму и сказал: «forty dollars». В ответ на это таксист отключил счетчик. Георгу совсем не понравилась выходка таксиста. С какой стати его втягивают в противоправные действия? И вообще-то говоря, таксист должен был отключить счетчик, если бы речь шла о меньшей сумме, а не о большей. Так, по крайней мере, принято в Европе. Но как по-английски будет «счетчик», Георг не знал, и оставалось только прокричать: «thirty dollars». Проигнорировав новое предложение, таксист прибавил громкость, вцепился в руль и так напряженно уставился вперед, словно в любой момент на дороге может показаться дикий зверь или лихач, едущий по встречной полосе. Однако ни зверей, ни лихачей, ни, собственно говоря, дорожного движения не было. Ночной Нью-Йорк всегда представлялся Георгу пульсирующим организмом, пронизанным фосфоресцирующими артериями оживленных улиц. Но здешние улицы были темны и безлюдны, и чем ближе к городу, тем темнее и безлюднее становилось вокруг. Георг почувствовал страх и тревогу. Неужели весь Нью-Йорк — это пустынная скудно освещенная трасса, на которой ты чувствуешь себя маленьким потерянным существом? Неприятное ощущение обострялось за счет того, что заднее сиденье было очень глубоким, и Георгу приходилось, как в детстве, вытягивать шею, чтобы хоть что-нибудь разглядеть в окне. Пустынная трасса и глубокое сиденье были виновны в том, что в душу все глубже закрадывались сомнения: а верно ли, что этот таксист везет его в город? В путеводителе же было сказано, что при посадке в такси следует соблюдать осторожность. Нужно садиться только в «yellow cab», но ни в коем случае не в «gipsy cab». А разве это yellow cab? Садясь в такси, он целиком положился на диспетчера и на цвет внимания не обратил. Изнутри автомобиль был блекло-серым. Георгу стало казаться, что он и снаружи вовсе не желтый, а серый. Должно быть, он в «gipsy cab»: «цыганское такси», мысленно перевел Георг. Наверное, это не смертельно. Но только зачем этот парень то и дело поглядывает на него в зеркало заднего вида? Георгу хотелось смотреть на ночной Нью-Йорк и совсем не хотелось, чтобы на него смотрел таксист. Однако всякий раз, когда Георг отворачивался от своего окна и смотрел вперед, он видел, что таксист отводит глаза, и было понятно, что как только Георг повернется к боковому окну, шофер снова уставится на своего пассажира. За окном тянулись мрачные бетонные заграждения, прерываемые лишь съездами на боковые дороги. О Нью-Йорке напоминали разве что зеленые указатели, на которых мелькало то «Квинс», то «Бруклин». Увидев их, Георг воспрял духом и вспомнил о рыжей сокурснице. Однако указателей с надписью «Манхэттен» все не было, и Георг, наверное, скоро бы опять разнервничался, но тут показался указатель «Flushing Meadows», и он успокоился. Известно, что Flushing Meadows — это стадион, расположенный примерно на полпути от аэропорта имени Кеннеди до Манхэттена; вскоре показалось и само круглое здание. Значит, везут его правильно, и к экстренным мерам прибегать не придется. Экстренная мера против нечестного таксиста — это, если верить путеводителю, потребовать квитанцию: «May I have a receipt please». Но не затем, чтобы раздобыть лишний чек для предъявления налоговому инспектору, а чтобы косвенным путем выяснить номер лицензии, который должен быть отпечатан на бланке квитанции. Сейчас, когда они наконец свернули с трассы и въехали в жилой район — такой же безжизненный, как и все остальное, — Георг вспомнил о квитанции и о правилах поведения в нештатных ситуациях. Направляя жалобы в «Taxi & Limousine Commission», путеводитель рекомендовал пассажиру использовать прилагаемый образец заявления. Георг попытался вспомнить этот образец (во время полета он прочел его несколько раз) и вспоминал, пока не уснул. Очнувшись, он увидел прямо перед собой лицо — цейлонское, индийское или пакистанское, которое кричало ему прямо в ухо: «Washington Sguare Hotel!» Георг не сразу сообразил, что над ним нависает таксист, просунувший голову в заднюю дверь машины. Багаж был уже выгружен, Георг дал таксисту сорок долларов и чаевые, но квитанцию спросить забыл. А уже в лифте, поднимаясь на десятый этаж, вдруг вспомнил, что ему только что снилось, будто он таксист, занятый извозом одного и того же пассажира. И этот пассажир — он сам.
Промаявшись полночи без сна, он спустился к завтраку и неожиданно встретил в буфете бывшего сокурсника. Похоже, «Вашингтон-сквер отель» — местечко не для избранных. Того и гляди, встретишь здесь кройцбергских знакомых или эмсфельдского товарища по песочнице. Сокурсник поведал Георгу о том, что германистику он бросил, выучился на столяра и поступил затем на архитектуру. Пока Георг поедал свою первую в жизни маффин[7], сокурсник успел сообщить, что архитектором он работать не стал — ушел в журналистику, занимается архитектурной критикой. Так что четыре семестра германистики, считай, пригодились. «В стилистическом плане», как он выразился. Сейчас бывший сокурсник составляет путеводитель, рабочее название — «Тайны нью-йоркской архитектуры». Такого еще никто никогда не писал — по крайней мере, так он думал до вчерашнего дня… Но вот вчера в «Берлингтоне» на Мэдисон-авеню ему попалась в руки книжка, которая называется, не больше не меньше, «Secret Architectural Treasures». В принципе, можно хоть сейчас ехать домой и навсегда забыть о проекте. Но подписан договор, и его надо выполнять. Кроме того, проведена серьезнейшая работа. И вот выясняется, что значительная часть исследования проделана напрасно, прочел бы вовремя «Secret Architectural Treasures», и незачем было бы ехать в Нью-Йорк. Он открыл столько заповедных уголков, а выясняется, что все они уже собраны в чужой книге. Один Даунтаун-атлетик-клаб чего стоит, с гольф-площадкой на седьмом этаже. Или Брилл-билдинг. Или демонстрационный салон «Мерседес-Бенц» на Парк-авеню. И не успел Георг поинтересоваться, что же такого особенного — тем более таинственного и заповедного — может быть в салоне «Мерседес-Бенц», как бывший соученик объяснил, что все дело там в гламурном, совершенно ласвегасском интерьере, разработанном таким, в общем-то, далеким от гламурности человеком, как Фрэнк Ллойд Райт. Взять хотя бы круглый красный подиум, на котором, как хищные самодовольные коты, позируют новенькие лимузины. Да, именно так он это и сформулировал: как хищные самодовольные коты. Правда, в «Treasures» наткнулся на точно такую же формулировку, почти слово в слово, и получается, если он использует ее в своей книге, то все подумают, что это плагиат. Не хочется, конечно, рисковать. Но деваться некуда, писать все равно придется. А с каким удовольствием он послал бы заповедные уголки куда подальше. Теперь, после выхода «Treasures», заповедные уголки превратились в мейнстрим. Отозвавшись на ключевое слово, Георг сказал, что в его путеводителе и «Вашингтон-сквер отель», и даже одноименная площадь тоже преподносятся как заповедные уголки. Так можно преподнести все что угодно, с раздражением буркнул сокурсник, хоть Эйфелеву башню, хоть Большой канал в Венеции. Подозвав официанта, он попросил еще чашку кофе. На самом-то деле, все эти вещи ему глубоко безразличны. «Мейнстрим», «не-мейнстрим», «пространство», «не-пространство» — какая, черт побери, разница? Важно совсем другое: выйти на новый уровень, освободиться от методологических и экзистенциальных пут, которые накладывает на нас использование таких категорий, как «мейнстрим-не-мейнстрим», «пространство-не-пространство», «интерьер-экстерьер» или (в последнее время это вошло в моду) «суб-, мега- и эксурбанизация». Но вся архитектурная критика, вольно или невольно, мается на прокрустовом ложе подобных искусственных оппозиций, а потому интересоваться чем бы то ни было совершенно бессмысленно. Георг попытался возразить, что некоторый смысл, как ему кажется, все-таки есть: вот он, Георг, интересуется классикой модернизма и мечтает поглядеть, к примеру, на Рокфеллер-центр, на Вулворт-билдинг и, конечно, на Всемирный торговый центр. А вот с этим все как раз непросто, протянул сокурсник. В каком смысле? — переспросил Георг. Не любишь Рокфеллер-центр? «Непросто с этим все!» — несколько более агрессивно повторил сокурсник. Каждый вправе делать что хочет. Никто не может запретить Георгу глядеть на Рокфеллер-центр. Но глядеть на Всемирный торговый центр он, бывший сокурсник, категорически Георгу не советует. Сам он этого Центра никогда в глаза не видел и в будущем намерен избегать. Он попросту его отвергает! Когда ему случается плыть на пароме к Стейтен-айленд, то, обозревая манхэттенский «скайлайн», он в упор не видит Всемирного торгового центра. Не видит, и все тут. «В упор не вижу! И баста!» — повторил он, в ответ на удивленный взгляд Георга. Он произнес это в полный голос, срываясь на крик, так что даже соседи обернулись. Похоже, у парня не только с работой не все в порядке, сообразил Георг и решил срочно откланяться. Он уже стоял в дверях, когда из другого конца вытянутого зала вдруг донеслось: «Увидимся завтра!» Это означало, что в ближайшие дни от завтраков в отеле придется отказаться. Нельзя же так бездарно тратить драгоценные нью-йоркские дни. Сегодня он пока свободен. В пять нужно явиться к Бергману. А через два дня — премьера «Пирифлегетона», и билет для него уже забронирован. Выйдя из гостиницы, Георг отправился к Рокфеллер-центру — глазеть на черный мрамор, золотые узоры и огромные кованого железа двери. В путеводителе все это называлось «арт деко», но у Георга было такое чувство, словно он оказался внутри гробницы египетского фараона, обставленной с расточительной роскошью. Чтобы поближе познакомиться с жизнью этого здания и хотя бы одним глазком взглянуть на его обитателей, он сел в лифт и наугад нажал кнопку одного из верхних этажей. Однако когда двери открылись, в проеме возник охранник: вам назначено? Георг извинился — назначено ему не было — и поднялся еще этажей на десять, но при попытке выйти из лифта столкнулся со следующим охранником, который повторил вопрос своего предшественника. Нет, ответил Георг, не назначено. Да и кто бы стал ему здесь назначать… Просто хотел побродить… Вслух он этого не сказал — охранник недвусмысленно дал понять, что выходить из лифта лучше не стоит. Георг нажал кнопку последнего этажа (там обычно бывают смотровые площадки), и лифт плавно и бесшумно взмыл ввысь. Уши заложило, Георг подвигал челюстью, пытаясь избавиться от противного ощущения. Смотровой площадки наверху не оказалось. Перед ним тянулся тускло освещенный коридор, устланный мягким ковром. Это поднебесье, находившееся на высоте семидесятого этажа, больше напоминало подземелье. Коридор упирался в широкую дверь, на темном стекле виднелась затейливая гравировка Rainbow Room. Заинтригованный заманчивой надписью, Георг направился к двери. Путь был свободен. Когда примерно две трети коридора остались позади, дверь сама собой распахнулась, и его взору предстал конторский стол, за которым восседали две дамы. Обыкновенные, должно быть, секретарши, они показались Георгу первейшими нью-йоркскими красавицами. Одна женщина была белая, другая — черная, обе в облегающих платьях с глубокими декольте, обе поглощены собой. Белая придирчиво разглядывала свои ногти, черная поправляла прическу. Остановившись на секунду, они обменялись парой слов, хихикнули, а затем снова углубились каждая в свое занятие. Теперь черная стала изучать ногти, а белая — поправлять волосы. Потоптавшись в нерешительности на одном месте, Георг наконец собрался с духом и двинулся к столу. Женщины на его приближение не реагировали. Белая взяла помаду и стала подкрашивать губы, хотя они у нее, как заметил Георг, и так уже были накрашены. Он обратил внимание, что помада слегка размазалась — легкий, чуть заметный след над верхней губой напоминал микроскопическую ссадинку и наводил на мысли о греховнейших излишествах. Тем временем белая женщина уже и сама заметила непорядок. Пока она поправляла макияж и заново наносила помаду, черная женщина закурила. Ногти ее сверкнули, словно покрытые бриллиантовой пылью. Сделав затяжку, она наконец обратила свой взор на Георга, который тем временем подошел уже совсем близко. Белая женщина спрятала помаду и тоже подняла глаза. Не произнося ни слова, Георг лихорадочно соображал, как лучше поздороваться: «Hello!» или: «Hi!» При этом он смотрел на женщин и видел, как при каждом вдохе у обеих вздымаются груди и как прохладно поблескивают, выступая из глубоких декольте, упругие, почти мускулистые округлости. С трудом оторвав глаза от этого удивительного зрелища, он уже открыл было рот, решившись на непринужденное «Hi!», как вдруг услышал неожиданно высокий, почти писклявый голос блондинки. «It’s closed», — сказала она и тут же обратилась к своим косметическим принадлежностям. Черная самозабвенно курила, выпуская изо рта и ноздрей клубы дыма. С белой разговаривать бесполезно, подумал Георг. Лучше ориентироваться на черную. Сейчас она была похожа на дракона — внушающее ужас, но исполненное невероятной прелести огнедышащее существо, что сидит у входа в пещеру, охраняя неведомые сокровища. Пунцовость полости рта черной женщины, поражавшая его всякий раз, когда женщина выпускала дым, усиливала эту ассоциацию. Но когда Георг сказал черной женщине «Hi!», она отвернулась и, бросив взгляд через левое плечо, издала глухое и протяжное: «Топу». Через мгновение из глубины выдвинулся молодец в черном костюме с короткой военной стрижкой. «It’s closed, Sir!» — сказал он и повлек Георга к лифту. Двери автоматически открылись. Георгу хотелось взглянуть напоследок на обеих красавиц, но он не успел: двери сомкнулись, лифт полетел вниз. Оказавшись в наводненном туристами вестибюле, Георг не сразу пришел в себя. Уши опять заложило. От рук, волос и одежды пахло ароматным запахом двух женщин с верхнего этажа. Или, если точнее, двумя ароматами — казалось, он в силах их различить. Что же они охраняют, подумал он, рай или преисподнюю? Как бы то ни было, он не был допущен в их царство: и рай и ад ему заказаны. Удивление сменилось обидой, что его так несправедливо и грубо выдворили из Rainbow Room. Георг почувствовал в себе желание снова подняться наверх, дабы предъявить претензию, но вспомнил Тони и свой неуклюжий английский. Аргументы «против» перевесили. Однако из гордости (и психотерапевтических соображений) он решил не уходить, несолоно хлебавши. Послонялся еще немного, спустился в так называемый «basement» и заметил табличку с надписью «NBC Studio Tours». Пошел по указателям, поднялся по эскалатору, увидел очередь и встал в хвост. Здесь он был желанным гостем, это было видно сразу. Он купил входной билет, девушка в фирменной кепке с надписью «NBC» вручила ему наклейку с логотипом и велела прилепить ее к лацкану пиджака. Затем появился молодой человек, назвавшийся Дэвидом. Черный костюм, белая рубашка, галстук и короткая стрижка делали его похожим на Тони с верхнего этажа. Дэвид сообщил собравшимся, что он экскурсовод и покажет им студию канала NBC. Говорил он быстро, с техасским выговором — или с каким-то другим, показавшимся Георгу похожим на техасский. Первое, что он показал своим экскурсантам, был лифт. На нем они поднялись в съемочные павильоны. При выходе из лифта он проверил, у всех ли наклейки, и объяснил, что на логотипе изображен стилизованный павлиний хвост и что носить его рекомендуется, как минимум, месяц. Потом, если очень хочется, можно и отклеить. Гостей из Юты и Арканзаса это тоже касается. Последнее замечание вызвало взрыв всеобщего веселья, особенно обрадовалась одна чрезмерно яркая блондинка, сообщившая, что ее зовут Беверли и что она из Иллинойса. Точнее, из Эванстона, это недалеко от Чикаго. Дэвид ответил блондинке, что у него самого в Эванстоне живет родной дядя. Тут в разговор вступил старичок в техасской шляпе: выяснилось, что его брат преподает в Северо-западном университете Эванстона. Это сообщение опять-таки вызвало взрыв жизнерадостности, так что к осмотру экскурсанты приступили в самом радужном настроении. Экскурсия несколько разочаровала Георга: студия состояла из узких коридорчиков с низкими потолками и тесных комнат, в которых томились клерки и технический персонал. Экскурсантам было предложено поглядеть на секретарш за пишущими машинками и звукотехников за монтажными столами, и у большинства это предложение вызвало явный интерес. Ведя группу по узким коридорам, Дэвид рассказывал об истории корпорации NBC, о популярных радио-шоу и всевозможных сериалах, названия которых Георгу ничего не говорили. Любимым его сериалом был «Мистер Эд», фильм про говорящую лошадь, но мистер Эд так ни разу и не всплыл в рассказах Дэвида. Когда их привели в павильон, где снимаются ток-шоу, Георг слегка оживился, хотя вид у помещения был довольно-таки жалкий. В зале между стульями валялся мусор, отстающее от пола ковровое покрытие пузырилось, местами не хватало целых кусков, сцена тоже производила далеко не блестящее впечатление. Кресло для гостя было намертво привинчено к полу. Обойдя кресло, Георг увидел, что материала не хватило и обивка наспех прикреплена к спинке. Стол ведущего, издалека выглядевший массивным деревянным сооружением, оказался при ближайшем рассмотрении складным столиком из чего-то похожего на папье-машье, который, казалось, можно поднять одним пальцем. Но Дэвид, будто не замечая окружающего убожества, бойко перечислял имена сидевших за этим столом знаменитостей, отчего экскурсанты пришли в полный восторг. Наверное, это кульминация экскурсии, подумал Георг, скоро пора на выход. Но оказалось, что кульминация — это павильон для съемок новостей, где Дэвид задумал показать группе несколько трюков из области звукотехники. Сперва было продемонстрировано жестяное ведро с коленчатой рукояткой, служащее для имитации полицейской сирены. Затем — две соединенные шарниром деревянные дощечки. Постукивание дощечек друг о друга имитировало пистолетную стрельбу. Дэвид воспроизвел сирену, потом стрельбу, и Георг был единственным, кого этот фокус оставил равнодушным. Места для публики были предусмотрены и здесь, экскурсанты расселись. Дэвид объявил, что сейчас он проведет небольшую викторину, но сперва хочет знать, кто откуда приехал. Теперь, когда Беверли и старик в техасской шляпе о себе уже рассказали, представились и все остальные: ни одного жителя Нью-Йорка в группе не оказалось, почти все приехали издалека, большинство были в Нью-Йорке впервые в жизни. Дошла очередь и до Георга. «I am from Berlin», — сказал Георг. «North or South?» — спросил Дэвид. Шутка застигла Георга врасплох. «South-east», — ответил он. Он имел в виду не северо-восток западного Берлина и не юг Берлина восточного. Он жил на юго-востоке Кройцберга, в районе, именуемом на карте «SO 36». «Southeast thirty six», — уточнил он для пущей ясности. Теперь уже растерялся Дэвид, и ему оставалось только спросить Георга, нравится ли ему Нью-Йорк. Георг затруднился с ответом. Пока что его нью-йоркские впечатления ограничивались общением с таксистом, завтраком с психически надломленным сокурсником, изгнанием из Rainbow Room и лицезрением неопрятного павильона корпорации NBC. А теперь еще эти вопросы Дэвида. «It’s okay», — ответил Георг, чтобы поскорее закруглиться. Но, видимо, от него ожидалось «It’s just great!» или «It’s marvellous, it’s wonderful!»: Беверли, а следом за ней и все остальные, вдруг засвистели и затопали. Георг решил было, что это следующий номер программы, но вскоре сообразил, что его освистывают. Он был в нью-йоркской телестудии, и группа америкашек безжалостно его освистала. Когда-нибудь он расскажет это как анекдот, но сейчас было не до смеха, кровь ударила в голову, он отчетливо увидел себя со стороны. Он стоял красный как рак. Голову апоплексически распирало, казалось, что кровь густеет и останавливается в сосудах. Это, очевидно, спазм мозга, если такое вообще бывает. В этот момент, к счастью, началась викторина: Дэвид наигрывал одну за другой мелодии из сериалов, а группа должна была отгадывать названия. В общей сложности прозвучало около двадцати мелодий, и каждый раз после первых же тактов все хором кричали название. В какой-то момент Георг узнал было музыку из «Флиппера», но промолчал и правильно сделал: оказалось, что это не «Флиппер», а какой-то никому не известный фильм, который смотрят только американцы. Когда же действительно прозвучала мелодия из «Флиппера», Георг ее уже не услышал, припоминая, каковы его дальнейшие планы. Сейчас он отправится в Центральный парк, там перекусит и слегка передохнет. Затем пойдет встречаться с Бергманом. Жаль, что нельзя уйти отсюда прямо сейчас: передвигаться по телестудии без сопровождения экскурсовода запрещается. Пришлось дожидаться, пока экскурсия закончится. Напоследок Дэвид припас для экскурсантов сюрприз и предложил поиграть в диктора — прочесть прогноз погоды. Первым вызвался старичок в техасской шляпе. Дэвид велел ему встать на фоне метеорологической карты и считывать с экрана текст. Разумеется, это был не настоящий прогноз, а незамысловатый юмористический текст, в котором фигурировали «осадки в виде хот-догов» и «снегопады на Багамских островах». Что и говорить, забава для воспитанников детсада, но старичок, надо отдать ему должное, отлично справился с поставленной задачей. Действовал как профессиональный диктор, сохраняя полнейшую бесстрастность и будто не замечая, что все вокруг умирают от хохота. Его наградили бурными овациями, он раскланялся и нахлобучил свою техасскую шляпу, снятую перед началом выступления, с довольным видом человека, которому во всем сопутствует успех и который только что завершил труд всей своей жизни. Вслед за ним и все остальные изобразили на своих лицах довольство, один лишь Георг куксился. От этого ему было неуютно, но он ничего не мог с собой поделать — такова уж его эмсландская натура. Конечно, куда приятнее лучиться счастьем и добродушием, каким лучились в эту минуту старичок, Беверли и все остальные. Отбросить мысль: «Какие же они простаки, эти американцы!» Заявить во всеуслышание, что способность предаваться бесхитростным радостям — признак духовной зрелости и житейской мудрости. Покинув наконец Рокфеллер-центр, Георг почувствовал такую усталость, что даже позволил себе взять такси. У одного из входов в Центральный парк он попросил, чтобы его высадили, и после изучения плана-схемы остановил свой выбор на ресторане, располагавшемся на берегу озера. Путеводитель, который Георг на всякий случай взял с собой, предупреждал туристов, что по Центральному парку прогуливается самая разная публика: банкиры с Уолл-стрит и гувернантки с острова Тринидад, бегуны-марафонцы и колченогие инвалиды, миллионеры и бездомные, равно как художники-дилетанты, несостоявшиеся оперные звезды и профессиональные сказочники. Увидев вокруг нормальных людей, Георг вздохнул с облегчением. Разношерстная толпа из путеводителя была бы ему не по силам. Ресторанчик тоже оказался вполне заурядным; Георг быстро нашел свободное место на террасе и удивился лишь черной венецианской гондоле, которая покачивалась на воде прямо перед ним. Он пил охлажденное, почти ледяное белое вино (на столе стояла целая бутылка), ел приготовленное на гриле мясо и чувствовал, что наконец-то он в Нью-Йорке. Огорчительно было только одно: сидеть одному, без компании. На полуденном солнце вино сильно ударило в голову. Если бы не это, то сейчас бы в самый раз достать блокнотик. Но Георг предпочел наслаждаться мгновением. «Я наслаждаюсь мгновением», — сказал изнутри механический голос. От этого сразу стало неуютно. Он хотел наслаждаться жизнью, а не выслушивать сентенции, произносимые механическим магнитофонным голосом. С каждым выпитым бокалом голос звучал все глуше. Опустошив бутылку и убедившись, что голос смолк, Георг решил выпить еще немного вина и подозвал официанта. «Open wine», — сказал он, в ответ на что официант принес меню десертов. Вина в меню не значилось, пришлось взять еще бутылку прежнего. Оно было легким и прохладным, бутылка запотела, Георг смачивал талой водой лоб и виски, пил, наслаждался мгновением, голоса больше не слышал и, глядя на гондолу, вдруг подумал, что это ладья Харона, на которой переправляются на тот свет души умерших. Как же называется тот водоем, на берегу которого он оказался: Стикс, Лета, Эмс, Тибр или, может быть, Большой канал? Его разбудили звуки детских голосов и передвигаемых за соседним столиком стульев. Очевидно, он задремал: обеденное время закончилось, ресторанчик заполнялся мамашами с детьми. Обещанных тринидадских гувернанток пока не видать. Официант проявил любезность и не стал будить клиента, но положил на столик счет, который мгновенно заставил Георга проснуться. Сумма составляла примерно треть его ежемесячного пособия. Видимо, чиновники из Кройцберга считают, что трех обедов в Центральном парке достаточно, а остаток месяца можно и попоститься. Георг заплатил по счету, как пижон, но официант не обнаружил удивления и бесстрастно принял чаевые, на которые в Эмсфельде можно было бы оплатить поход в ресторан. Георг вышел в парк. Проклятый счет камнем лег на дно желудка. Вот она, мелочная эмсландская натура, Георг почувствовал, что ненавидит себя за тяжесть в желудке, и на душе у него заскребли кошки. Хмель улетучился, он шагал по направлению к «Плазе», чувствуя себя совершенно разбитым. От ходьбы ему стало легче, у одного из киосков он остановился и выпил то, что в Америке называется средним кофе. Пластиковый стакан вмещал как минимум пол-литра, но сейчас это было как раз то, что нужно: кофе снизил содержание алкоголя в крови. К Бергману хотелось прийти с ясной головой. До «Плазы» оставалось недалеко. Парк потихоньку оживал, заполняясь любителями спортивного бега и роликовых коньков. Георг увидел сперва цветную гувернантку, а затем подозрительного субъекта лет сорока: бледный, рыхлый, небритый, он слонялся по аллеям, плаксиво и хищно косясь по сторонам, — вылитый англосаксонский маньяк из Центрального парка. Георг обернулся вслед подозрительному субъекту, и тот, вмиг почувствовав, что за ним следят, тоже обернулся. Глаза их встретились, Георг попятился и со всего размаху наступил кому-то на ногу. Обернувшись, он вздрогнул от ужаса: перед ним стоял огромный чернокожий детина, в майке, с радиоприемником на плече. На его голове красовалась шляпа с серебристой подкладкой, мускулистые предплечья были покрыты татуировкой. Этот типаж был знаком Георгу по фильмам: вожак латиноамериканского гетто, крайне нервозный, обидчивый и злопамятный. Угораздило же наступить такому на пятку. Но чернокожий детина не стал пускать в ход нож или пистолет или же вколачивать обидчика в землю, от боли он лишь издал громкое: «Autsch!» — «Sorry, Sir!» — воскликнул Георг, но великан ничего не ответил и, даже не обернувшись, быстро заковылял прочь, вполголоса бормоча проклятья. Шел он тоже в сторону «Плазы», и некоторое время Георг плелся за ним, держась на расстоянии — на тот случай, если великану что-нибудь вдруг взбредет в голову. Наконец пути их разошлись, и в гостиницу Георгу удалось прийти вовремя. На часах было без трех минут пять. Не задавая лишних вопросов, портье в униформе впустил его в вестибюль. Подойдя к столу дежурного администратора и представившись, Георг вошел в лифт и поднялся наверх; Бергман снимал апартаменты на одном из последних этажей. Через несколько минут он уже стучался в дверь. В некотором отдалении по коридору прохаживались двое в черных костюмах. В чем-то они походили на Тони из Rainbow Room. Они то и дело на него поглядывали, он же мысленно просил, чтобы они подошли и спросили, с кем у него назначено. Но они, к сожалению, ни о чем таком не спрашивали, лишь продолжали поглядывать. Георгу становилось не по себе от того, что дверь так долго не открывают. Затылком он чувствовал пристальные взгляды братьев-близнецов Тони. Он еще раз постучал, но реакции не последовало. Близнецы стояли не шевелясь, неподвижно глядя в его сторону. И только тут Георг заметил кнопку звонка. Он позвонил, дверь открылась — на пороге стоял Бруно. До этого момента у Георга были весьма четкие представления о том, как выглядит гостиничный номер. Но то, что предстало его взору, перевернуло все его представления с ног на голову. Здесь не было ни кровати, ни телевизора, ни ночного столика, ни платяного шкафа. Зато была антикварная мебель — диван и пара кресел, секретер и журнальный столик, — а также несколько громадных фарфоровых ваз, фарфоровая же борзая в натуральную величину и камин, над которым висело огромное, почти под потолок зеркало в золоченой раме. В камине даже лежали поленья, но огонь, по случаю летней жары, не горел. Люстра под потолком и тканые обои с красно-золотыми узорами напоминали дворцовое убранство. Бруно предложил гостю присесть и сказал, что Бергман скоро будет. «Красивая комната», — произнес Георг. Бруно ничего не ответил и кашлянул. Георг замолчал. Он поймал себя на том, что снова чувствует скованность в присутствии Бруно: видимо, это объясняется той небрежностью, с которой Бруно его поприветствовал — так, словно они соседи и видятся каждый божий день. То, что за плечами у Георга долгий перелет (самый долгий за всю его жизнь) и что встретились они в Нью-Йорке, расставшись, между прочим, на Гебридских островах, никак не отразилось на его приветствии. «Кажется, идет!» — внезапно сказал Бруно и посмотрел на дверь рядом с камином — видимо, гостиная сообщалась с другими комнатами. Но вместо Бергмана оттуда вышел незнакомый молодой человек лет тридцати, в голубом блейзере с гербом на нагрудном кармане и полосатом галстуке. Молодой человек был новым секретарем Бергмана. Его звали Стивеном, он был из Лондона. Итак, у Бергмана теперь два секретаря: один Бруно, другой Стивен. Из того, как приветливо общается Бруно с новым коллегой, Георг заключил, что Бруно в этих нововведениях проблемы не видит. Стивен сообщил, что у них с композитором масса дел, с момента своего приезда в Нью-Йорк Бергман не имел ни минуты свободного времени. Встречи с прессой, репетиции, переговоры с организаторами концертов в Торонто и Сан-Франциско, переговоры с издательством о публикации американского перевода мемуаров, приготовления к церемонии вручения награды Американской академии искусств, где Бергману нужно будет сказать благодарственную речь, и прочая и прочая. «Господин Циммер приехал в связи с мемуарами», — пояснил Бруно, в ответ на что Стивен сообщил, что в настоящий момент в шести странах заключены предварительные договоры на перевод мемуаров. Только вот рукопись не готова. Тут раздался звонок, Бруно открыл дверь, и в комнату вошла девушка. Ее звали Мэри, она была жительницей Манхэттена и бывшей ученицей Бергмана. Сейчас, сказал Бруно, она помогает композитору — переписывает набело партитуры. Получалось, что Мэри занимается примерно тем же, чем и Георг, только работает не с мемуарами, а с музыкальными сочинениями. Георга обрадовало, что они коллеги. Мэри была весьма привлекательной девушкой. Привлекательность ее была совсем иного рода, нежели красота тех двух — то ли небесных, то ли инфернальных дам, что сидели на страже у входа в Rainbow Room. Впрочем, сейчас они уже не казались Георгу красавицами. Противные, высокомерные, испорченные, мысленно перечислял он их недостатки, но вспоминая прохладно поблескивавшие мускулистые округлости, признавался себе в том, что при виде этого зрелища у него и сейчас бы ноги подкосились. Мэри была совсем другая. Спортивная, с грустинкой в зеленых глазах и мелкими морщинками вокруг рта. Узкие джинсы, светлая блузка и белокурые, чуть рыжеватые волосы делали ее похожей на хорошенькую обитательницу предместья, но стоило ей открыть рот, как становилось ясно, что эта душечка — прожженная бестия, и что такой искрометной иронии на всей Вашингтон-сквер больше не сыскать. Одним словом, Мэри была совершенством. Зашла она, к сожалению, ненадолго, только чтобы занести Бергману несколько переписанных страниц. «Все еще Пирифлегетон?» — спросил Георг, когда она достала из папки большие листы и положила их на стол. Спросил вопреки здравому смыслу; просто чтобы она знала, что он в курсе; нетрудно догадаться, что за день до премьеры черновик уже не переписывают. Мэри округлила глаза, но проявила галантность и мягко объяснила, что «Пирифлегетон» давно закончен, в настоящий момент Бергман работает над новым сочинением, которое будет называться «Елисейские поля». Это симфоническая композиция и, в некотором роде, продолжение «Пирифлегетона». Музыка не о страданиях — о счастье. О вечном покое Элизиума. О спасении души. Более трудной задачи для композитора не существует. Тут за дверью рядом с камином послышались шаги, и Бруно опять сказал: «Кажется, идет!» Мэри замолчала, Георг тоже, а Стивен и до этого не блистал красноречием. Все ожидали Бергмана, но Бергман не появился. В гостиную вошла миниатюрная азиатка: вежливо поклонившись во все стороны, она тут же покинула апартаменты. «Госпожа Лин», — сказал Бруно так, словно этим все сказано. Госпожа Лин — музыкант? — спросил Георг. Физиотерапевт, ответил Бруно. Лечит Бергмана, владеет самыми разными, восточными и западными методами, и однажды, много лет назад, уже помогла композитору. Бергмана мучили спазмы — но не в плечах или затылочной области, как это нередко бывает, а в пальцах, особенно правой руки. И вот, стоило ему завершить «Пирифлегетон» и приступить к «Елисейским полям», как спазмы вернулись. Елисейские поля пошли Бергману не на пользу, подумал Георг. Вечное спасение вызывает у него спазматические явления. «Спазмы, — продолжал Бруно, — особенно неприятны тем, что Бергман не в состоянии держать в руке карандаш». При этих словах все трое обменялись быстрыми взглядами, и Георгу вдруг показалось, что им известно что-то еще, о чем они молчат. Интересно было бы знать, что? По лицу Стивена скользнула тень улыбки — пожалуй, даже ухмылки. Впрочем, едва появившись, ухмылка тотчас исчезла, ибо за дверью внезапно снова послышался шорох. И не успел Бруно в очередной раз возвестить: «Кажется, идет!», как дверь распахнулась, и Бергман переступил порог гостиной. Композитор изменился. Тогда, на Скарпе, он не казался таким мрачным, как сейчас. В его взгляде и фигуре чувствовалась еще большая неподвижность. Шевелюра явственно отливала серебром, а точеный профиль испанского аристократа стал еще тоньше, словно по нему прошелся тонкий резец скульптора. Сумрачность придавала его облику еще большую значимость. Он выглядел еще внушительнее, чем прежде. «Брамс, — привычно подумал Георг, — Бетховен». Но тут же в голове гулко раздалось: «Бергман» — имя богочеловека, что временами спускается с небес, дабы дарить свое искусство смертным. Вид у Бергмана был отсутствующий, казалось, он занят какими-то поисками и ему не до гостей. «Мэри и Георг уже тут», — сказал Бруно. «Замечательно», — отозвался Бергман. Пожав руку сперва Мэри, затем Георгу, композитор повернулся к Бруно и сообщил, что куда-то запропастился его жилет. «Какой жилет?» — переспросил Бруно. «Тот самый!» — раздраженно ответил Бергман. В глазах Бруно читался вопрос, и Бергман, теряя терпение, воскликнул: «Черный, боже ты мой! С зеленоватой свилью!» Со словами: «Не буду вам мешать» Мэри встала и попрощалась. «Уже уходите?» — бросил на ходу Бергман. Он направлялся в другую комнату, чтобы продолжать поиски жилета. «Мы поможем», — сказал Бруно и дал Стивену и Георгу знак следовать за ним. Соседняя комната: рабочий кабинет и одновременно гардеробная — оказалась просторным, похожим на холл помещением, сообщавшимся со спальней. Увидев испещренные карандашом листы партитуры, разложенные на одном из столов, Георг узнал руку Бергмана. Это были «Елисейские поля». Здесь (по крайней мере, на странице, лежавшей сверху) нотные знаки уже не лепились в комки, ничто не пузырилось, не бурлило, не кипело и не пульсировало. Легко и свободно, как редкие снежинки, ложились знаки на лист партитуры. Рядом лежала и рукопись. Покосившись на верхнюю страницу, Георг понял, что со времен Шотландии к рукописи никто не притрагивался. Сегодня они собирались работать над текстом, но Бергман, казалось, начисто забыл о цели их свидания. Распахнув шкаф, он вываливал на пол свои костюмы, рубашки, брюки и пиджаки. Бруно с каменным лицом наблюдал за происходящим. Видя, что Бруно не выказывает готовности прийти Бергману на помощь, Стивен проявил инициативу и принялся складывать одежду на канапе. Не обнаружив жилета в шкафу, Бергман заявил, что следует проверить пустые чемоданы. Стивен достал из кладовой несколько чемоданов, разложил их на полу, открыл и, после того как Бергман заглянул в каждый, унес обратно. Не найдя жилета, Бергман разразился проклятиями в адрес неба, земли и безалаберной сицилийской прислуги. Стивена эта вспышка гнева так напугала, что он зачем-то пустился в извинения, хотя никоим образом не был повинен в исчезновении жилета. Но Бергмана это не успокоило, он кипятился, чертыхался и в конце концов велел Георгу набрать номер Сан-Вито-Ло-Капо — тамошняя экономка обязана знать, где жилет. Обратиться с этой просьбой к Бруно, который наблюдал за происходящим с явным неодобрением, он, видимо, не решился. Георг не понимал, какой смысл Бергману узнавать, что жилет, предположим, висит в сицилийском шкафу, и попытался было возразить, но реакции не последовало. Тогда он послушно набрал продиктованный номер, сказал подошедшей к телефону экономке: «Un momento» и протянул трубку композитору. Тот строгим голосом приказал женщине немедленно идти искать жилет, положил трубку на телефонный столик и, проклиная все на свете, продолжил поиски. После того как была прочесана ванная комната и проверены все крючки в гардеробной, Бергман велел Георгу открыть бар и принести виски. Желательно ирландского. В баре обнаружилась целая батарея маленьких бутылочек, здесь было канадское, английское, шотландское виски — какое угодно, только не ирландское, не говоря уже о предпочитаемом Бергманом легком и мягком «Tullamore», которое продается в Ирландии на каждом углу. Георгу пришлось налить шотландского, но его Бергман брезгливо отверг и велел Стивену звонить горничным, чтобы принесли ирландского. Из телефонной трубки, которая так и осталась лежать на столике, неслись отчаянные крики сицилийской экономки. Стивен растерялся. Он поднес трубку к уху, беспомощно глянул на Бруно, потом на Георга, потом снова на Бруно, сказал в трубку: «Un momento per favore» и со словами: «Это Сан-Вито» протянул ее Бергману. «Что с жилетом?» — спросил композитор и, услышав, что жилета нигде нет: ни в шкафу, ни в кладовке, с неостывшим гневом и раздражением приказал идти в гладильную и поискать там — не мог ведь жилет провалиться сквозь землю. Понимая, что Бергман, очевидно, потерял всякое представление о времени и пространстве — жилет, даже если найдется, не сможет в мгновение ока перенестись из Сицилии в Нью-Йорк, — никто тем не менее не решался указать композитору на эту явную неувязку, опасаясь стать мишенью его гнева. Все молча уставились на телефон. Георг представил, как экономка в поисках жилета снует, словно серая мышь, по извилистым переходам внутри этой маленькой белой клетки. Тут Бергман вспомнил про виски и принялся ругать ленивых горничных, которые не в состоянии выполнить простейший заказ, так что невольно задаешься вопросом, кому могло прийти в голову поселить его в такой, с позволения сказать, жалкий сарай. Стивен осторожно напомнил Бергману, что заказать виски они не успели, но Бергман уже схватил со столика трубку и прокричал, чтобы в номер 2312 поскорее принесли три ирландских виски. Громкие, слышные даже из самого дальнего угла вопли насмерть перепуганной экономки привели Бергмана в чувство и вернули его на пространственно-временную ось земного бытия. «К жилету мы еще вернемся!» — сказал он и, бросив трубку на столик, призвал всех срочно спуститься в бар. Не дожидаясь ничьего согласия, он развернулся и направился к лифту. Бруно, Стивен и Георг рысцой побежали следом. Лифт уже скользил вниз, плавно и бесшумно, когда Бруно решился напомнить Бергману, что трубка осталась лежать на столике. Они снова поднялись наверх, и Бергман приложил трубку к уху. Оказалось, что фразу «К жилету мы еще вернемся!» экономка поняла буквально и трубку повесить не решилась, опасаясь новой вспышки. Чуть более мягким голосом Бергман пожелал женщине спокойной ночи, повесил трубку и в сопровождении Бруно, Стивена и Георга снова вышел в коридор. Братья-близнецы Тони по-прежнему слонялись по коридору. «Body-guards», — вполголоса объяснил Бруно, отвечая на вопрос Бергмана. Судя по всему, он был осведомлен лучше своего хозяина, который поинтересовался, кто оплачивает охранников: «Плаза» или Линкольн-центр. Бруно пришлось разъяснить недоразумение: близнецы охраняли не Бергмана, а некоего известного американского политика, остановившегося на том же этаже. После этого интерес Бергмана к охранникам мгновенно угас, и даже не полюбопытствовав, как зовут политика, он вскинул руки и зашипел. Георг догадался, что это, видимо, такты из «Елисейских полей», и даже вообразил, что улавливает разницу с «Пирифлегетоном». Бруно со Стивеном тоже навострили уши. Привыкли, должно быть, наблюдать за творческим процессом. Ни в лифте, ни по дороге в бар никто не произнес ни слова, только Бергман размахивал руками, шипя, свистя и пофыркивая. Когда они вошли в бар, тапер энергично ударил по клавишам. Бруно заказал три порции виски, Бергман замолчал и поднес стакан ко рту. Сделав глоток, он обратил взгляд на Бруно и спросил, зачем в баре тапер. Бруно переадресовал вопрос Стивену, а тот переполошился и, не найдясь что ответить, переспросил с запинкой: «Как зачем?» — «Уходим!» — скомандовал Бергман и стремительно пошел прочь. Им оставалось лишь последовать за ним. В лифте Бергман сказал, что единственное место, где можно быть уверенным в качестве таперов, — это «Ритц» в Барселоне; очень жаль, что так редко приходится бывать в этом городе. «Нужно побольше работать с Барселоной», — сказал он Стивену. Привыкший ловить каждое слово маэстро, ассистент и к этому пожеланию отнесся серьезно, изобразив на своем лице готовность немедленно привести в действие все нужные пружины, дабы обеспечить Бергману концерт в Барселоне. Вернувшись в номер, Бергман сказал, что пора садиться за работу: времени в обрез, вечером у него встреча. С директором Чикагского симфонического оркестра, коего он намерен прельстить перспективой исполнения «Елисейских полей». «То-то он удивится», — загадочно прибавил Бергман. Из гостиной они прошли в просторный, похожий на холл кабинет и вместе уселись за письменный стол, чтобы лучше видеть текст. Снова сидели они за одним столом, словно соседи по парте, локоть к локтю, и снова Георг чувствовал, как глубоко трогает его эта дружеская близость. Не успели они обсудить первые исправления, как раздался телефонный звонок. Бергман снял трубку и заговорил по-французски, единственное, что понял Георг — это неоднократно повторенное радостное «Merveilleux! Merveilleux!» Беседа затягивалась, пришлось ждать. Наконец разговор закончился, и Бергман, повесив трубку, сообщил, что в ознаменование его заслуг французское правительство собирается присудить ему звание Chevalier des Arts et des Lettres. Денежной премии награда не предполагает, но зато ему будет оказана честь отужинать вместе с президентом. «Нерлингера они уже наградили, — бросил Бергман и со знакомым демоническим смешком добавил, — но я, так и быть, соглашусь. Из человеколюбия…» Едва они склонились над рукописью, как появился Бруно: через двадцать минут нужно выходить, а Бергману еще необходимо успеть переодеться. «Продолжим завтра», — сказал Бергман. Тоже в районе пяти часов — вечером он приглашен на шоу Дика Раймонда, и Георг, если хочет, может присоединиться. Георг готов был пуститься в пляс, но ограничился сдержанным: «С удовольствием». Он представил, как, вернувшись в Берлин, небрежно бросит в разговоре с рыжеволосой сокурсницей, что вот, дескать, ходил на шоу Дика Раймонда. И не забудет, конечно, упомянуть, что пригласил его один хороший знакомый, которого, в свою очередь, пригласил сам ведущий. Рыжая сокурсница станет белая как мел, это точно. Имени «хорошего знакомого» Георг, конечно, не назовет. Он скажет: это к делу не относится, а она опять, как в прошлый раз, скривится и подумает, что он пижон и хвастун. А он снова отправится в студенческое кафе. Но теперь уже не как побежденный, а как победитель. С гордым видом шагая по Бродвею в направлении гостиницы, Георг вышел на Вашингтон-сквер и остановился поглядеть на толкотню на площади и вокруг фонтана. Был теплый летний вечер, и вся толпа, что, судя по путеводителю, должна была прогуливаться по аллеям Центрального парка, высыпала на площадь: бегуны-марафонцы и колченогие инвалиды, миллионеры и бездомные, художники-дилетанты и тринидадские гувернантки, не-состоявшиеся оперные звезды и профессиональные сказочники — все они прогуливались сейчас по Вашингтон-сквер. На отгороженном участке под названием «Dog Run» встречались собачники: там им разрешалось спускать своих питомцев с поводка. Впрочем, большинство питомцев, казалось, не горели желанием оказаться на свободе. Если собаки отличались невероятной чинностью, то двуногие вели себя довольно разнузданно: Вашингтон-сквер была запружена торговцами наркотиками, уличными музыкантами всех мастей и интернациональной молодежью, отуманенной гашишем и алкогольными парами. Собаки же, вместо того чтобы носиться по посыпанной песком площадке, влезали на скамейки и, усевшись к хозяину под бочок, равнодушно взирали на резвящихся собратьев. Порой возникало ощущение, что резвящихся очень мало, и большинство собак сидит на скамейках. Одни хозяева пытались по-хорошему уговорить собак вести себя как подобает племени четвероногих, другие силой стаскивали лентяев вниз, но на псин это не действовало, и при малейшей возможности они снова взбирались на скамейки, занимая свои наблюдательные посты. Одним словом — истинные обитатели мегаполиса. Как, кстати говоря, и населявшие газоны белки, которые с удовольствием подъедали жареную картошку из Макдональдса и кетчупом тоже не брезговали. Только к арахису были равнодушны. Георг долго следил за одной белкой: даже не притронувшись к валявшимся на земле орешкам, она грациозным движением взяла передними лапками стаканчик из-под кетчупа и тщательно его вылизала.
Всю ночь Георга мучили кошмары, и выспаться ему так и не удалось. Позавтракав в ближайшем кафе недалеко от площади и вернувшись в номер, он благополучно задремал и проснулся как раз вовремя, чтобы дойти до «Плазы» не спеша. В гостиницу он вошел уверенным шагом давнего постояльца, и портье приветствовал его соответствующим образом. Сообщив о своем прибытии дежурному администратору, Георг поднялся на лифте. На сей раз дверь открыл сам Бергман. Он был облачен в какой-то японский халат и соломенные сандалии — наверное, недавно проснулся. Казалось, его ничуть не смутило, что Георг застал его в таком виде. Георг расценил это как знак доверия. Даже на Скарпе Бергман всегда появлялся в безупречном костюме, к ужину нередко выходил в галстуке. Только что с постели, объяснил Бергман, сейчас приведу себя в порядок, это быстро. Пока Георг ждал, в гостиную вошел Бруно, со стопкой свежих газет и охапкой букетов. В той же небрежной манере — так, словно они виделись сегодня уже раз десять, — Бруно поприветствовал Георга американским «Hi!» — «Hi!» — отозвался Георг и стал наблюдать, как Бруно расставляет букеты и разносит вазы по комнатам. Нужно позаботиться о лимузине, сказал Бруно и вышел из комнаты. Через некоторое время появился Бергман — в черном костюме и серебристом галстуке, он был готов к вечернему выходу. На работу оставалось около двух часов. Георг зачитывал неудачные, с его точки зрения, места, предлагал корректуру, а Бергман или соглашался, или диктовал Георгу новый вариант, который тот сразу же вносил в текст. Если работать в таком темпе, то двух встреч должно хватить. Георг чувствовал удовлетворение, Бергман, видимо, тоже. Правда, не прошло и часу, как композитор заерзал, принялся то и дело вскакивать со стула и прохаживаться по комнате. Руками он пока не размахивал, свиста и шипения не издавал, но Георг уже чувствовал, что все идет к тому. Они дошли было до места, где мемуарист ошибочно назвал мирт — миррой, когда Бергман, в очередной раз вскочив со стула, вдруг сообщил, что Стивен, его новый секретарь, изучал в Лондоне музыковедение и сейчас пишет диссертацию — о нем. Дабы облегчить молодому человеку эту непростую задачу, он предложил Стивену поработать его секретарем. А Георг на кого учится? — осведомился Бергман. Обомлевший от удивления Георг промямлил, что университет у него позади, он пишет диссертацию. «Интересно!» — бросил Бергман и замолчал. Если минуту назад Георг был растроган тем, как доверительно они сидят за одним рабочим столом, то сейчас его сильно задело то обстоятельство, что композитор, очевидно, напрочь забыл все то, о чем ему рассказывалось на Скарпе. Все забыл: Мнемозину, Лету, диссертацию о забвении. Забывчивость Бергмана расстроила Георга, хотя всех ненаписанных диссертаций, естественно, не упомнишь: у бетховенов и брамсов есть дела и поважнее. Кроме того, Бергман, кажется, ценит его и так, без диссертации. Это стало понятно, когда Бергман, в который уже раз вскочив со стула, задумчиво прошелся по комнате и неожиданно сообщил: «Мне нужен гимн!» — «Для мемуаров?» — переспросил Георг. «Нет, — ответил Бергман. — Для „Елисейских полей“. Четвертая часть будет хоровой, это решение он принял только что. Он сделает финал апофеозом. Во славу мира, счастья и вечного спасения. Апофеоз в эпоху раздробленности и разобщенности. Гимн смутных времен. Но гимн! „Чрезвычайно несвоевременно, — сказал Бергман, — анахронизм, да и только“. Шеер с Витте перевернулись бы в гробах, не будь они до сих пор живы. Но вот беда, нет подходящего гимна. „Вы ведь пишете стихи, — сказал Бергман. — Значит, и гимн сумеете“. Само собой разумеется, гимн должен быть мощен и великолепен; вспоминается, главным образом, Гёльдерлин — даже не Шиллер, а именно Гёльдерлин; Гёльдерлин наших дней. „Гёльдерлин, — сказал Бергман, — который странствует по Швабии, но при этом имеет пентхаус в Нью-Йорке… Ну хорошо, пусть не пентхаус. Небольшую квартирку в Гринвич-виллидж или в ДАМБО“. Опять ДАМБО! Бергман, значит, тоже в курсе — не подвело чутье рыжеволосую сокурсницу. „Нью-Йорк и Нюртинген[8], — сказал Бергман, — чтобы вам было понятнее, что я имею в виду“. Понятнее не стало, но признаться в этом Георг не отважился. „Но Штутгарт тут ни при чем!“ — прибавил Бергман и замолчал. Георг почувствовал, как кровь ударила в голову и сердце бешено заколотилось. Во рту пересохло, хотелось глотнуть воды или свежего воздуха. „Гимн, но не штутгартский!“ — выпалил он вдруг. „С чего вы взяли?“ — серьезным голосом спросил Бергман и изумленно взглянул на Георга. Впрочем, детали можно обговорить после. Лучше всего — на Сицилии. „С удовольствием“, — с усилием выдавил Георг, судорожно глотая воздух: кровь стучала в висках, в голове закручивались спиралеобразные вихри. Только он попытался отдышаться, чтобы прийти в себя, как появился Бруно: лимузин готов, можно ехать. Стивен уже проводит осмотр на месте — шоу состоится в театре „Одеон“. Бергман немедленно откликнулся на призыв Бруно, Георг последовал за ним. Бруно на секунду задержался, чтобы взять кое-какие вещи, и поспешил следом. Внизу, в вестибюле, их поджидал человек в лыжном костюме. Он назвался Фредериком и сообщил, что отвечает за сопровождение гостей Дика Раймонда и что ему поручено доставить господина Бергмана. „Фредерик увлекается зимними видами спорта?“ — не удержался Бергман. „Только не летом“, — прозвучало в ответ. Лето было в самом разгаре, но ответ Фредерика удовлетворил Бергмана. Всем своим видом композитор давал понять, что он всемирная знаменитость, которую волнует только Искусство. Посмотрел на облака, сосредоточенно вгляделся вдаль Пятой авеню и только потом равнодушно уставился на автомобиль, стоявший у него перед носом. Это был удлиненный лимузин кремового цвета — как минимум в два раза длиннее „бентли“, — за рулем которого сидел водитель в униформе. Сегодня Бруно не нужно было вести машину, он распахнул перед Бергманом дверцу. „А это еще что такое?“ — спросил Бергман, указывая взглядом на лимузин и не двигаясь с места. „Машина“, — ответил Бруно. В такую машину, заявил Бергман, он не сядет ни за что на свете. „Слишком вульгарно. Лучше уж на метро или пешком“. Расправив плечи и закинув голову, Бергман решительно двинулся по Пятой авеню — в северном и, видимо, неверном направлении. Бруно побежал вдогонку. После долгих уговоров ему наконец-то удалось убедить Бергмана отправиться к машине. Георг порадовался сговорчивости Бергмана. За два дня он уже успел обратить внимание на длиннющие нью-йоркские лимузины, полагая, что на таких автомобилях должны разъезжать лихие разудалые личности, которым все трын-трава. Заглянуть внутрь было невозможно: окна этих машин всегда затемнены или занавешены, но Георг без труда представлял себе роскошный салон, пушистые ковры и кресла с мягкими подлокотниками. Но кремовый лимузин не оправдал ожиданий: меблировка оказалась скудной, ковров не было и в помине. Вместо мягких кожаных сидений — две клеенчатые скамьи вдоль стен. Пассажирам приходилось сидеть друг напротив друга, как в метро. Полное сходство с метро придавали этому салону свисающие петли, за которые можно держаться. „Кошмар!“ — кратко сказал Бергман, уселся на скамью и замолчал со значением. Георгу хотелось расспросить Фредерика о том, чем он занимается и что такое шоу Дика Раймонда, но из боязни потревожить Бергмана он не проронил ни слова. Ехали они недолго, и вскоре взорам открылось здание театра с длинной очередью перед входом. Обогнув его, Фредерик остановился у служебного подъезда со стороны улицы. Бруно и Стивену было позволено сопровождать Бергмана, к Георгу же подошла молоденькая билетерша, которая подвела его к главному входу и протащила внутрь. Продираясь сквозь толпу, Георг видел, как многочисленные коллеги его провожатой небольшими порциями пропускают публику внутрь. Оказавшись за заветной дверью, публика издавала дружный радостный вопль и со всех ног неслась вперед — занимать места поближе к сцене. Георгу тоже досталось место впереди, рядом с ансамблем. Музыканты еще не вышли, но перед сценой и в боковых проходах стояло множество людей, судя по всему — стражей порядка; все они, подобно Фредерику, были одеты в лыжные костюмы и утепленные куртки. По мере того как заполнялся зал, Георг все отчетливее понимал, почему они все так тепло одеты. Температура воздуха в „Одеоне“ была ощутимо ниже нормы. В зале стоял такой холод, что Георг начинал побаиваться за свое здоровье. Персонал, по всей видимости, тоже побаивался. Публика же проявляла легкомысленность: большинство зрителей явилось в легкой летней одежде, многие в шортах. Вскоре вспыхнули софиты, ансамбль сыграл вступление, специальный „разогревающий“ конферансье поприветствовал зал и огласил программу — оказалось, что речь идет о телешоу, — но в зале от этого не потеплело. Встреченный неистовыми овациями Дик Раймонд — сухопарый, энергичного вида человек в темном костюме и ослепительно белой рубашке (Георг вспомнил белые крахмальные рубашки отца) — холода не страшился. Свое шоу он начал с юмористического монолога, от которого публика пришла в бурный восторг. Георг ничего не понимал. Ни любимых американцами и недоступных иностранцам спортивных (футбольно-бейсбольных) анекдотов, ни политических острот, понятных лишь узкому кругу посвященных. Одна из шуточек касалась прически нью-йоркского мэра. Но тот, кто ни разу не видел нью-йоркского мэра, вряд ли найдет эту шутку смешной. Однако зал ликовал: монолог еще не закончился, а всюду, куда ни глянь, расцветали счастливые улыбки. Георгу было по-прежнему холодно, но ведущий, кажется, согрелся. Когда объявили первую рекламную паузу и на нескольких экранах начался показ рекламных роликов, Дик Раймонд, совещаясь о чем-то с помощником, снял пиджак и бросил его на спинку стула. Он хоть и согрелся, но ни испарины на лбу, ни темных пятен под мышками у него не появилось, Георг обратил на это внимание. И еще он обратил внимание на резкую перемену в выражении лица и во всем облике ведущего, едва тот снял пиджак. Сейчас Дик Раймонд уже не казался ни приветливым, ни тем более комичным — он стал похож на менеджера, которому срочно нужно решить важный кадровый вопрос. Своеобразные флюиды, исходившие от его фигуры и словно передававшиеся непосредственно в камеру, вмиг исчезли. Вылитый председатель правления крупного промышленного концерна во время краткого перерыва между заседаниями. Между тем последний ролик подходил к концу, на экранах показалась заставка с анонсом телешоу. Как только это произошло, Дик Раймонд — секунда в секунду — надел пиджак, сделал веселое лицо и объявил первого гостя. Всего их ожидалось трое: телезвезда из сериала, фотомодель и Бергман. Какое разочарование! Он-то ждал встречи со знаменитостями вроде Вуди Аллена, Мадонны, Арнольда Шварценеггера или, скажем, Пола Маккартни. И вот на тебе! При появлении телезвезды — актер снимался в новом фильме про Лесси — зал разразился столь же бурными аплодисментами, что и при появлении самого Дика Раймонда. О самом фильме, который так и назывался — „The New Lassie“, актер смог сообщить только то, что Лесси играет не один пес, а целая свора. Для Георга это известие не было неожиданностью: с предыдущим сериалом дело обстояло точно так же. Кроме того, он был к нему равнодушен. Его любимым сериалом был „Мистер Эд“. Вот если бы вдруг выяснилось, что в роли мистера Эда снимался табун, тогда он, может, и удивился бы. Но этого никогда бы не случилось. На роль Лесси понадобилось много собак, поскольку главная героиня, умнейшая псина, знала такое количество трюков, на которое ни одна нормальная собака не способна. Не слишком ли много для одной колли? Да и характер у Лесси непростой: то ласковая тихоня, то энергичная задира, то дурачится, то грустит — это тоже чересчур. Персонаж фильма был самкой, но в некоторых сценах, чтобы подчеркнуть определенные грани ее характера, задействовали кобелей. При этом, естественно, нужно скрыть от зрителя гениталии. Впрочем, скрыть гениталии колли — дело нехитрое. Что же до мистера Эда, он не умел выполнять трюки. Он вообще ничего не умел. Только говорить. Но это был даже не трюк, а сверхъестественная способность. Георг с раннего детства знал, что говорить человеческим голосом лошади не умеют. Но это знание нисколько не умаляло его восхищения мистером Эдом, который хоть и понарошку, но все же говорил: скалил зубы и безостановочно шевелил губами. Следя за движениями его губ, специалист по озвучанию изъяснялся за мистера Эда. Сейчас, по прошествии многих лет, Георгу приходило в голову, что за непрерывным подергиванием губ крылась психическая аномалия. Вдруг это было проявление невроза? Или навязчивых состояний? А может, мистеру Эду мешал какой-нибудь нарост во рту, который специально не удаляли, чтобы он не перестал перебирать губами? После второй рекламной паузы на сцене появилась фотомодель. Девица незаурядных способностей — фотомодель, манекенщица и рекордсменка по погружениям. Она могла по несколько минут просиживать под водой без воздуха и уже не раз становилась лауреатом соответствующих конкурсов. Сегодня ныряльщица собиралась поставить очередной рекорд, для чего в студию вкатили стеклянную емкость, наполненную водой. Видимо, процедура проходила не вполне гладко — Дик Раймонд занервничал и позвал на подмогу еще рабочих. Некоторое время они копошились вокруг стеклянного, похожего на огромную пробирку, бассейна, устанавливая его на сцене. Наконец фотомодель сбросила халатик, под которым обнаружился красный купальный костюм со свинцовым ремешком, и погрузилась. Сопровождал ее некий длинноволосый юнец в специальном снаряжении, с маской и кислородным баллоном. О нем было известно, что это тренер, который, в случае чего, окажет помощь своей подопечной. Не успела парочка погрузиться, как Дик Раймонд объявил третьего гостя. Похоже, он экономил время и не хотел терять те несколько минут, что девица просидит под водой. Когда на сцену вышел Бергман, зал встретил его аплодисментами — не столь бурными, как при появлении актера, но все же доброжелательными. Однако Бергман был хмур. Двигался крайне медленно и еще более, чем обычно, походил на изваяние. Серебрящаяся в лучах прожекторов седина, внушительный строгий профиль, оливковая кожа; элегантный вечерний костюм дополнял эффектную картину. Выйдя на сцену — чуть помедлив, а затем державной поступью направившись к Раймонду, который тут же вскочил и протянул гостю руку, — Бергман напоминал статью из музыкальной энциклопедии. Солидную статью, сошедшую со страниц „Гроува“ или „МПН“. Аура Бергмана отчетливо ощущалась в зале: Георг ощущал ее, может быть, даже чересчур отчетливо, однако Дик Раймонд, казалось, не ощущал ее вовсе. Поприветствовав гостя рукопожатием и предложив ему сесть, ведущий атаковал его вопросом. Каково мнение мистера Бергмана, удастся ли фотомодели побить прежний рекорд? Вместо ответа Бергман с таким недоумением повернулся к бассейну, словно он не понимает, что здесь такое происходит. Дело в том, промолвил он наконец, что он композитор, все остальное — не по его части. После этих слов Дик Раймонд повернулся к публике и объявил, что завтра в Линкольн-центре состоится мировая премьера нового сочинения маэстро, которую всем рекомендуется посетить. „Все билеты проданы“, — отрезал маэстро. „Проданы! — истерично, на манер балаганного зазывалы, завопил Дик Раймонд. — Неужто ни одного ни осталось?!“ На десятую долю секунды он замолчал и впервые за вечер как будто даже растерялся. Но десятая доля секунды быстро миновала, Дик Раймонд взял себя в руки. „Напомните, маэстро, как называется ваше сочинение?“ — спросил он. „Пирифлегетон для большого симфонического оркестра“, — нехотя ответил Бергман. Тут раздался громкий удар гонга, возвестивший о том, что предыдущий рекорд побит. Теперь каждая секунда была на счету, Дик Раймонд отошел от стола и придвинулся к бассейну, чтобы лучше видеть все, что происходит за стеклом. Драматизм достиг кульминации, когда девица вдруг ухватилась за своего длинноволосого тренера, и теперь они стояли на дне бассейна рядом, держась за руки. Публика, естественно, растрогалась: бывают же такие прелестные пары. Не отрывая глаз от циферблата, Раймонд громким голосом отсчитывал секунды; все шло к тому, что фотомодель превзойдет самое себя на полминуты. Публика, из солидарности с фотомоделью, дрожала мелкой дрожью, желая победы спортсменке. Один только Бергман даже головы не повернул. Остановившимся взглядом смотрел он прямо перед собой, на его лице читалось страдание. Но никто, кроме Георга, этого не видел. Сперва лимузин, теперь это шоу… К счастью, Бергману не пришлось мучиться слишком долго. Раздался новый сигнал: прежний рекорд был превзойден на тридцать четыре секунды, фотомодель отстегнула ремешок и вынырнула. Овации, счастливый Раймонд, чемпионка хватает ртом воздух, ассистент подает халатик, поклоны, поздравления ведущего, уход со сцены. Юный тренер не торопился. Подхватил свинцовый ремешок и только потом вынырнул на поверхность. Ансамбль заиграл финальную мелодию, Дик Раймонд сказал: „Good night, folks!“, на экране поплыли титры, двери распахнулись, на сцену вышли рабочие и технический персонал. Кто-то подошел к Бергману, чтобы отцепить от лацкана микрофон. Бергман не сопротивлялся. Когда музыка смолкла и занавес закрылся, Георг покинул зал. Опасаясь дурного настроения Бергмана, он предпочел не дожидаться у служебного входа. Сел в метро, доехал до гостиницы и с мыслью о завтрашней премьере провалился в сон. Наутро он отправился на южную оконечность Манхэттена, в Батери-парк, где толпились туристы, желающие съездить на Эллис-айленд или же полюбоваться статуей Свободы. Георг был и сам не прочь побывать на Эллис-айленде и полюбоваться статуей Свободы, но, увидев длинную очередь за билетами, предпочел отправиться на Стейтен-айленд. Здесь очереди не было, к тому же переправа не стоила ни цента. На пароме оказалось мало туристов и много бездомных. Туристы сгрудились у поручней, любуясь видами Манхэттена, бездомные немедленно отправились в салон — посидеть просто так или почитать газетку. Едва паром причалил к берегу и Георг, неуверенно озираясь по сторонам, ступил на землю Стейтен-айленда, как механический голос внутри сказал: „Я был на Стейтен-айленде“. Механический голос раздражал Георга. Голос принадлежал будущему. Он лишал его настоящего. А хотелось ощущать настоящее, пусть безрадостное и тоскливое, но — настоящее. Сейчас оно явилось Георгу в образе полуразрушенного склада, свалки рядом с причалом и груды старых грузовиков, годных разве что в металлолом. Завидев наверху деревянные коттеджи, Георг вскарабкался по склону холма. Большинство домов пустовало. Деревянные американские коттеджи он знал по фильмам и очень любил. В этих домах пахнет свежемолотым кофе, в них живут молодые веселые матери и деловитые добродушные отцы. Здесь обитает Лесси, здесь тянется к кухонному окошку и получает свою морковку мистер Эд. Деревянные дома напоминали телевизионный рай. Но Стейтен-айленд не походил на райское местечко. Георгу бросились в глаза разбитые оконные стекла, поломанный стул посреди палисадника, развевающийся на ветру край ветхой занавески, застрявший между створками окна. Чуть повыше коттеджи кончались, сменяясь унылыми многоэтажками. Вот уж где точно не встретишь молодых веселых матерей и деловитых добродушных отцов. Вокруг не было ни единой живой души, лишь вдалеке виднелась стайка темнокожих подростков, возившихся с припаркованным на улице автомобилем. Каковы цели этой возни: ремонт, снятие деталей на запчасти, кража со взломом или угон — Георгу было не видно. Он шел вперед, навстречу подросткам, на ватных ногах, внушая себе, что бояться нечего. Только туристам в каждом чернокожем мальчишке мерещится опасный преступник. Но он-то не турист, в Америку приехал по делам — по делам искусства, — и нужно дать им понять, что ему не впервой гулять по таким улицам. Вчера он отдавил ногу черному громиле, и все обошлось. И сегодня обойдется, успокаивал себя Георг, как вдруг увидел, что один из мальчишек поднял голову и следит за его приближением. Георг продолжал свой путь, тем временем остальные тоже подняли головы: что ни шаг, то новый взгляд, — вскоре взоры всей группы были устремлены на чужака. Утратив всякий интерес к своему автомобилю, они сосредоточились на Георге. Более того. Они заняли позиции. Выстроились в тесную шеренгу и ждали его приближения. На лбу выступили капли пота, в растерянности Георг замедлил шаг. Честь его задета. Неужели он даст деру, неужели он капитулирует — только из-за того, что пара-тройка малолеток стоит посреди дороги и пялится на него во все глаза? Хотелось проявить мужество, не сдаваться, иначе потом будет стыдно — и едва это решение вызрело, как он развернулся и со всех ног припустил обратно к пристани. Оказавшись на безопасной территории, он отважился оглянуться. Никто его не преследовал. Видно, дал маху — малолетки оказались безобидные. А он капитулировал, как последний трус. Георгу было стыдно, он ругал себя последними словами. Хорошо хоть, что никто не видел. „Прощай навеки, Стейтен-айленд!“ — мысленно произнес он, стоя на палубе и окидывая гавань прощальным взглядом. Никакого желания любоваться видами Манхэттена он не испытывал. Подобрав экземпляр „Нью-Йорк Таймс“, оставленный кем-то из пассажиров, Георг мрачно листал газету. Со страниц, посвященных новостям культурной жизни, на него глянул портрет Бергмана, рядом с которым был помещен анонс премьеры „Пирифлегетона“. Добравшись до гостиницы, Георг прилег отдохнуть, а вечером отправился в „Плазу“, откуда они договорились все вместе ехать в Линкольн-центр. По дороге он продолжал ругать себя за трусость. Интересно, Бергман когда-нибудь трусил? Бежал от опасности? Конечно, нет. Бергман из породы тех, кто цепенеет, почуяв опасность. Или впадает в ярость и берет врага на испуг. Есть ли у Бергмана недруги? Один, похоже, есть: поднявшись в апартаменты, Георг застал Бергмана в состоянии сильного возбуждения. Поводом послужило опубликованное в „Ле Монд“ интервью с Нерлингером, который на вопрос о том, что он думает о присуждении Бергману звания Chevalier des Arts et des Lettres, воскликнул, недолго думая: „Бергман — гений!“. Статья в „Шетланд Пост“, видимо, все же попалась ему на глаза, и он решил поквитаться. Бергман от бешенства места себе не находил. На нем был парадный черный костюм и лакированные ботинки, и Бруно пришлось ослабить ему бабочку и расстегнуть верхнюю пуговицу, в такое он пришел волнение. Сейчас Бергман со всей серьезностью обдумывал, не направить ли письмо в редакцию „Шетланд Пост“. Или в дирекцию Эдинбургского фестиваля. Или шотландскому министру культуры. Но имеется ли у шотландцев министр культуры? Бруно не знал, Стивен тоже. В ответ на замечание Бергмана, что шотландцы, наверное, вместо одного министра культуры держат двух министров сельского хозяйства, Бруно посоветовал не принимать эту историю так близко к сердцу и осведомился, не пора ли застегнуть верхнюю пуговицу и повязать бабочку. Предоставив Бруно заниматься его туалетом, Бергман потребовал виски и напоследок сказал, что хорошо бы все же подать на Нерлингера в суд. „За злостный плагиат!“ — пояснил он. Стивен, не откликаясь на замечание Бергмана, молча налил композитору виски. После виски к Бергману вновь вернулось чувство юмора, благодаря чему дорога в Линкольн-центр оказалась довольно сносной; на сей раз их вез не длинный лимузин, а черный „линкольн“. Словно впав в эйфорию в предвкушении премьеры, композитор охотно отвечал на вопросы Стивена, который проявил неожиданную говорливость, затеяв разговор об использовании „плагального каданса“ в одной из ранних композиций Бергмана. Впервые слыша термин „плагальный каданс“, Георг преисполнился уважением к Стивену, который непринужденно оперирует такими сложными словами — до сих пор Стивен напоминал ему скорее запуганного камердинера, нежели грамотного музыковеда. Но сейчас он будто преобразился. Казалось, впервые за все время он наконец-то может побеседовать с Бергманом о его творчестве и, соответственно, о собственной диссертации. Но счастье недолго улыбалось Стивену. Лимузин свернул на площадь перед Линкольн-центром, и Бергман завершил беседу подчеркнутым: „Аминь“, в ответ на что Стивен понимающе хихикнул. Наверное, „Аминь“ как-то связан с „кадансом“, и специалисту эта шутка понятна. У артистического подъезда лимузин затормозил, и все повторилось по вчерашней схеме: Бергман вместе с Бруно и Стивеном вошли по служебному, а Георг, взяв у Бруно билет, направился к общему входу. В фойе было полным-полно народу, кто-то держал над головой записки: „Куплю билет!“, кто-то стоял у кассы, дожидаясь брони или возврата. Бергман не ошибся, когда говорил, что концерт пройдет при полном аншлаге и, войдя в зал, Георг окончательно в этом убедился. У него было место в партере, с левой стороны, не очень близко от сцены. Бруно и Стивен уже разместились неподалеку. Видимо, этот уголок зала был предназначен сегодня для друзей и соратников. Ни одного знакомого лица Георг, естественно, не видел, смутные ассоциации вызывала в нем лишь одна пожилая супружеская чета, но откуда он знает этих двоих, Георг не помнил. Мэри в зале не было, это Георга расстроило — он так надеялся на встречу. Предвкушая этот вечер, он радовался, откровенно говоря, не столько тому, что наконец услышит музыку Бергмана, сколько тому, что снова увидит зеленые глаза Мэри. Тем временем оркестранты расселись по своим местам, свет убавили, гул голосов затих. Самое время появиться дирижеру, но он почему-то не появлялся. Повисла мучительно долгая пауза. Внезапно дверь внизу отворилась, и в зал вошли Бергман и Мэри. Болтая о чем-то, они медленно направились к своим местам. Зал зааплодировал, и Бергману, который уже успел сесть, пришлось привстать и поклониться. Когда Бергман окончательно уселся, появился наконец дирижер, сэр Джон Филдс, американец с титулом английского аристократа, что большая редкость: должно быть, у него английский паспорт. Нью-йоркская публика приветствовала сэра Джона с большим энтузиазмом. Георг, конечно, тоже аплодировал. Но он рукоплескал не дирижеру и не композитору, а Мэри, — Мэри, которая походила сегодня не на „колледж-герл“, в джинсах и блузке, а на элегантную юную леди из лучших кругов Манхэттена. На ней было черное облегающее платье с узкими бретельками; волосы убраны наверх. Уже дирижер взмахнул палочкой, оркестр заиграл, а Георг все не сводил глаз с Мэри, любуясь прекрасной анатомией ее плеч, затылка и шеи. „Пирифлегетон“ оказался совсем не похож на то, что он ожидал услышать. Особенно — начало. Вступив еле слышно, струнные вдруг заскрипели и заскрежетали, за ними сухо отбарабанили ударные, затем снова раздался скрип и скрежет струнных — все громче и громче, он постепенно превращался в нечто более или менее знакомое. Но едва Георг услышал это привычное уху звучание, как оно тут же исчезло, выродившись в болезненный, дергающий металлический лязг, который тоже вскоре оборвался, сменившись звуками, похожими не то на выстрелы, не то на щелчки бича. Когда бич отщелкал, отрывисто и кратко, снова заныли и заскрежетали струнные. Теперь они тянули за собой измученную флейту: устало похныкав, она стушевалась, и тут же вслед за ней — даже не протрубили, а, скорее, выдохнули, одна за другой, трубы. Вот они, дальние пределы преисподней. Долины огненной реки, пойменные луга. Георга одолевали сомнения. Нет, это не то. Это что-то другое. Привычка фантазировать под музыку была его всегдашней ошибкой. Но без этого он не мог ее слушать — ни классическую, ни современную — и раньше, в школьные годы, под музыку перед его мысленным взором всегда что-нибудь возникало. Бах, к примеру, всегда ассоциировался у него с жесткими скамьями эмсфельдской церкви и пасмурным небом, которым Бог покарал Эмсский край за его грехи. (Грехи были такие, какие Эмсскому краю никогда и не снились). Он вспоминал, как однажды вытащил деньги из маминого кошелька и мучился потом бесконечными угрызениями совести. Матушка, надо сказать, так ничего и не заметила. Но Георг терзался, и стоило ему услышать Баха, он тут же вспоминал свои детские мучения. Под Бетховена ему казалось, будто он скачет на коне по полям и проселочным дорогам. Ни лошадьми, ни, собственно говоря, Бетховеном он никогда не увлекался. Предпочитал Шопена, последние два года перед выпускными экзаменами слушал его постоянно. Слушая Шопена, Георг понимал, что провалит экзамен на аттестат зрелости. Но это его не угнетало, а странным образом успокаивало. Без Шопена плохие оценки вгоняли его в тоску. С Шопеном он утешался и забывал свою тоску. Но чем старше становился Георг, тем хуже работало его музыкальное воображение. Дело, должно быть, в образовании. Зачем образованному человеку воображение? Образованный человек самозабвенно слушает музыку ради самой музыки, ибо она, как объясняли Георгу еще на первом курсе университета, есть искусство sui generis. После десяти семестров образы уже не являлись, но слушать музыку ради музыки Георг так и не научился. Сидя в зале (он исправно ходил на концерты, поскольку так делали все знакомые), Георг нередко задумывался над тем, что же он, собственно говоря, слышит, когда слушает музыку. Понятно, что это музыкальные звуки, извлекаемые разными инструментами. Но о чем они, эти звуки, ему говорят? О чем говорят симфонии Моцарта или струнные квартеты Бетховена? А Малер, Барток, Бергман? Вот в чем вопрос. Сидя в концертном зале, он спрашивал себя, как же все остальные, что слышат они. Неужели все те, кто сидит сейчас рядом с ним, улавливают в музыке исключительно этот самый sui generis? У большинства это крупными буквами написано на лбу. Сразу видно: культурные люди, умеют слушать. Георгу очень хотелось ощущать свою принадлежность к этому сообществу. Но приходилось сознаться, что культурного человека он всего лишь разыгрывает. Особенно в концертном зале. Как только поднималась дирижерская палочка и раздавались первые такты, Георг делал сосредоточенное лицо, будто от всего отключился и ничего, кроме музыки, не слышит. Это было непросто, ибо он знал, что, как только со сцены или из оркестровой ямы польются звуки, на него навалится смертельная усталость. Эта усталость была так сильна, что сильнее не бывает, и лишь тяжкое бремя культурной ответственности, знакомое любителям опер и концертов, мешало ему заснуть. Тогда его начинала одолевать зевота, и он сидел, испепеляемый неприязненными, а порой и презрительными взглядами соседей. Гораздо легче высидеть концерт, если в зале светло и можно полистать программку или почитать книжку. Стоит сосредоточиться на чтении, усталость как рукой снимает. Мало того: если рядом играет симфонический оркестр, то читаешь гораздо вдумчивее. Пытаясь сосредоточиться на музыке, Георг мгновенно уставал. Чтение помогало ему взбодриться. С книгой в руках он лучше воспринимал музыку, изредка даже получал удовольствие. Георг вспоминал, как однажды он отправился в Берлинскую филармонию слушать Девятую симфонию Малера и, зная, что света в этом зале достаточно, прихватил с собой книгу. И вот он сидел, углубившись в чтение и наслаждаясь музыкой — вечер удался бы на славу, если бы сосед слева вдруг не потребовал, чтобы Георг прекратил. „Мешает“, — прошипел он, указывая взглядом на книгу. „В каком смысле?!“ — удивился Георг, но в ответ раздалось лишь грозное шиканье соседа справа. Оба соседа — не знакомые Георгу мужчины средних лет — принадлежали, видимо, к числу филармонических завсегдатаев, которые умеют отключаться и знают, как надо слушать. В филармонии таких полным-полно, и спорить Георг не осмелился. Захлопнув книгу, он стал поджидать приступа усталости. Но в этот раз случилось иначе: сперва у него защекотало под нёбом, потом запершило в горле, а потом так сильно сдавило в груди, что он стал кашлять и разразился страшным приступом, от которого сотрясалось его кресло и кресла обоих соседей. И тогда он снова ощутил на себе их взгляды. Неприязнь сменилась в них ненавистью, готовностью к насилию. Он испортил им Девятую симфонию Малера, и они бы его убили, будь это в их власти. Георг уцелел, но с тех пор всегда, приходя на концерты, боялся повторения приступа. Вот и сейчас он вдруг почувствовал то самое легкое щекотание в горле, с которого тогда все начиналось. Вскоре щекотание переросло в першение, сопровождаемое довольно ощутимым спазмом в бронхах. Но кашлять Георг не собирался. Сегодня у него не было причин кашлять. Во-первых, он сидел на этом концерте не просто так, он пришел в Линкольн-центр не из любви к искусству, а по работе. Во-вторых, можно было переключиться на созерцание плеч, затылка и шеи Мэри, что позволяло забыть о желании кашлять. Уставившись на оголенные участки ее тела, Георг краем уха слушал, как звучит крещендо: видимо, приближалось то самое место, которое он запомнил тогда на Скарпе, когда положил партитуру на ковер. Струнные уже не поскрипывали, а выли, как безумные. Флейта тоже не хныкала, а громко визжала, истошно голосила, всасывая и мощными толчками выплевывая воздух. Вступили трубы, повелительно и полнозвучно, словно небесные врата вот-вот приотворятся, для того чтобы в следующую секунду с мрачным медным лязгом захлопнуться, оказавшись вратами ада. И тут, после секундной тишины, нарушаемой лишь позвякиванием тарелок, до Георга донеслись голоса бездны: медные, струнные, и гобои нагрелись, раскалились добела — казалось, еще немного — и вздуются, а потом опасно лопнут волдыри от ожогов. Вот он, центр огненной реки, пекло, эпицентр огня, — то место, где душам суждено претерпеть тягчайшие муки, — на плечах Мэри выступила блескучая влага, кожа ее позолотела; оркестр впал в остервенение, и Георг заметил, что спинные мускулы Мэри чуть заметно пружинятся, то напрягаясь, то расслабляясь, то напрягаясь вновь. Смотреть на мерцающую позолоту кожи и игру мускулов спины Мэри было мучительно. Георг решил не обращать на Мэри внимания и сосредоточиться на музыке: вокруг гремело и грохотало, но вдруг, совершенно неожиданно, все смолкло — остался один гобой. Необычайно долго он верещал на одной ноте и вдруг оборвался. Стало тихо. Оцепенение зала длилось примерно столько же, сколько верещание гобоя. Вот он, волшебный миг перед началом аплодисментов, догадался Георг. Если он продлится чуть дольше, чем следует, то Бергману придется понервничать. Но в тот момент, когда тишина достигла критической точки, подготавливая достойное завершение концерта, зал разразился рукоплесканиями. Словно вторя отзвучавшей музыке, аплодисменты нарастали и чуть было не переродились в шум и хаос, но упорядочились, как только дирижер поклонился и музыканты поднялись со своих мест. Затем оркестранты сели, дирижер ушел за кулисы, и накатила новая волна оваций. Георг взглянул было на Бергмана, но того уже и след простыл. Как-то умудрился улизнуть. Наверное, сейчас он появится в дверях, где только что скрылся дирижер. Но Бергман не появился. Вместо него из-за кулис снова вышел сэр Джон. Он поклонился, дал знак оркестрантам, те поднялись, им зааплодировали. Когда он снова удалился, аплодисменты, начавшие было затихать, грянули с новой силой. Публика вызывала автора, желала его славить. А Бергмана все не было. Шум нарастал, и в ту секунду, когда восторг зала грозил пойти на спад или обернуться недовольством, он вышел из-за кулис. Размеренным шагом, как и вчера, прошествовал по сцене. Казалось, он полностью погружен в себя. Однако не сутулился — вышагивал прямо, напрягшись всем телом, закинув голову к звездам (софитам на потолке). Дойдя до середины сцены, Бергман повернулся к публике — взгляд был по-прежнему устремлен ввысь, но глаза наполовину закрыты, — на секунду замер и совершил изящнейший из всех когда-либо виденных Георгом поклонов. Он поклонился не так, как кланяются публике. Он поклонился не так, как кланяются королю. Он поклонился так, как может поклониться только сам король. Он преклонил голову перед Искусством, отдав тем самым дань уважения своему ремеслу. Зал аплодировал без устали, а когда композитор исчез за кулисами, зааплодировал еще сильнее. Тогда Бергман снова появился и, возведя очи горе, выступил вперед. Теперь он уже не кланялся, а стоял неподвижно, словно боясь, как бы его не опрокинуло волной ликования. На него несся ураган восторженных воплей и криков „браво“ — он лишь потупил голову. И в этот триумфальный миг Георг вдруг заметил, что взгляд композитора скользит по передним рядам. Бергман словно искал кого-то. Наверное, Мэри, подумал Георг. Однако, обшарив взглядом первые ряды, композитор стал поднимать глаза все выше и выше. Да ведь он не Мэри, он меня ищет, осенило Георга. И не успел он отогнать эту крамольную мысль, как взгляды их встретились. Взгляд Бергмана был теплым, дружеским, даже слегка заговорщицким: Георг заметил, как композитор ему подмигнул. Подмигивание великого Бергмана на вершине славы — это доказательство доверия. Бергман принял его в свой мир, в мир Славы и Искусства. Георг гордился триумфом Бергмана. Он гордился не только за Бергмана, но и за себя. Он понимал, что это всего лишь глупые фантазии, но ничего не мог с собой поделать, чувствуя всем телом, как успех Бергмана теплом разливается по жилам и мурашками бежит по спине. Он где-то читал, что современный человек до сих пор обладает способностью чувствовать, как на его спине и загривке дыбом встает утраченная в ходе эволюции шерсть. Сейчас он понял, что это за чувство. Шерсть на его спине вздыбилась. Наверное, Бергман чувствует сейчас то же самое. Вот оно, чувство славы. Приятное, эйфорическое, слегка волчье. Как у голодного волка, вонзающего клыки в еще неостывшую глотку своей добычи. Вместе с постепенно затихавшими аплодисментами улеглось и чувство славы. Георг вышел из зала и дождался в фойе Бруно и Стивена. Им наверняка известна дальнейшая программа. Стивен казался глубоко потрясенным: „масштабная музыка“, „итог творческого пути“, „технически безупречно“, — Бруно же сохранял полнейшую невозмутимость. Должно быть, на своем веку он повидал немало чужих триумфов: сперва Каллас, теперь Бергман. „Отличная публика“, — бросил он, не обращая внимания на восторги Стивена. „Великолепная! — подхватил Стивен, — честная, неиспорченная, при этом снобистская, донельзя избалованная“. Кто завоевал Нью-Йорк, тот завоевал весь мир. „Сейчас в столовой будет фуршет, — сказал Бруно. — Линкольн-центр платит“. Они пересекли фойе и, обменявшись парой слов со стоявшим в дверях охранником, перешли в соседний флигель, где размещалась дирекция и артистические уборные, и вскоре достигли столовой. Почти все гости уже прибыли, не хватало лишь Бергмана и дирижера. Отсутствие Мэри взволновало Георга. Ее присутствие, впрочем, взволновало бы его еще сильнее. Он огляделся, но знакомых лиц не встретил. Из людей его круга здесь можно было бы представить разве что рыжую сокурсницу — с нее станется. Внезапно в толпе снова мелькнула пожилая чета, на которую он обратил внимание перед концертом. Да это же Ролстоны из „Gardener“! „Чокнутые“, как выразился Бергман, помешавшиеся на мхах и, очевидно, приехавшие в Нью-Йорк специально ради премьеры. На Бергмане они, должно быть, тоже слегка чокнулись, но об этом композитор умолчал. Помимо Ролстонов, в зале оказался еще один человек, не узнать которого было невозможно. Это был сильно поседевший, а в остальном ничуть не изменившийся актер, некогда исполнявший роль Виннету — вождя апачей, которого Георг обожал не меньше мистера Эда. „Смотри, там Виннету!“ — воскликнул Георг, в ответ на что Стивен сказал, что „Пирифлегетон“, особенно звучание гобоя, не идет у него из головы. Бергман очень специфически использует гобой. Георг попытался поддержать беседу и сказал, что гобой в финале показался ему необычным, но Стивен возразил, что финал — это как раз единственное место с неспецифическим гобоем. Для Бергмана, скажем так, нехарактерное. Кроме того — это цитата. „Ага, понятно“, — сказал сконфуженный Георг. Мог бы и сам догадаться. Когда речь идет о музыке, всегда полезно выявить цитату-другую. Нужно только уметь их выявлять. Все беседы, которые вели после концертов его музыкально просвещенные знакомые, сводились к выявлению цитат. Чем больше цитат ты выявишь, тем прочнее укрепится за тобой почетная репутация знатока и эрудита. Чем больше ты стремишься к тому, чтобы тебя считали знатоком и эрудитом, тем больше цитат тебе нужно обнаружить. Поэтому всякий раз среди участников начиналась самая настоящая охота на цитаты. Стоило кому-нибудь найти цитату, как другой тут же находил две. Цитата цеплялась за цитату, и вскоре сочинение превращалось в сплошной центон. На Георга эти обсуждения производили сильнейшее впечатление, тем более что сам-то он был по части цитат не силен. Впрочем, парочку удалось обнаружить и ему тоже: „Твердыня Веры — наш Господь“ в Пятой симфонии Мендельсона и тему из моцартовского „Дон Жуана“ в бетховенской Двадцать седьмой вариации на тему Диабелли. Но никак, увы, не мог подвернуться случай удивить кого-нибудь этим своим открытием. Знатоков не удивишь, щеголять хрестоматийно известными цитатами — верх безвкусицы. По правилам хорошего тона их следовало не замечать, обращая внимание лишь на скрытые, забытые, лучше всего — никем не распознанные. Высоко ценилось умение отличить цитату от автоцитаты. Обнаружение автоцитат — свидетельство мощной эрудиции: выявить автоцитату может лишь тот, кто разбирается в хронологии и уверен, что цитируемая вещь написана раньше. Будучи, конечно, не способен на такие подвиги, Георг подумал, что это не мешает ему поинтересоваться у Стивена, не является ли автоцитатой финал „Пирифлегетона“. Ответ был краток: „Вагнер!“ На Вагнера у него давным-давно выработался условный рефлекс. При упоминании Вагнера Георг сразу же вспоминал Тристан-аккорд. Но произнести это сейчас вслух было бы непростительной оплошностью. Участвует ли в Тристан-аккорде гобой? Георг не знал наверняка и на всякий случай промолчал, тем более что в этот момент присутствующие захлопали и можно было не опасаться, что молчание будет слишком заметно. Наверное, буфет открыли, подумал Георг. Но это был не буфет: аплодисменты предназначались Бергману и сэру Джону, которые в этот момент входили в столовую. За ними, отставая на шаг, шла Мэри. Поклонившись, Бергман и сэр Джон двинулись к круглому столу для почетных гостей. Мэри уселась рядом и что-то прошептала сэру Джону, тот в ответ улыбнулся и погладил девушку тыльной стороной ладони по щеке. Георг со Стивеном переглянулись, и Стивен, в ответ на вопросительный взгляд Георга, объяснил, что Мэри — не только бывшая ученица, а ныне ассистентка Бергмана, которая переписывает набело его партитуры, но еще и дочь сэра Джона. Теперь, когда все встало на свои места, Георг пытался убедить себя, что восторгаться совершенством Мэри — просто-напросто неумно. От Эмсфельде до дочери сэра Джона — гигантское расстояние. В эту минуту к нему подошел Бруно и пригласил к столу для почетных гостей. Последних там сидело уже с дюжину, и Георг занял единственное свободное место; слева от него оказались Ролстоны, справа же — сердце екнуло в груди — Виннету. Разносить кушанья и напитки еще не начали, лишь перед Бергманом уже стояла початая бутылка красного, заказанная, видимо, персонально для маэстро. Бергман был в ударе и развлекал общество забавными историями. Воспользовавшись случаем, он представил Георга: „Господин доктор Циммер из берлинского Свободного университета. Литератор“. Георг не стал поправлять Бергмана. Было очевидно, что маэстро искренне верит в то, что говорит. Еще недавно он забыл про диссертацию, а теперь вдруг взял и присвоил Георгу научную степень. Но этим он не ограничился. „Мой гимнограф“, — с пафосом добавил Бергман. Фраза прозвучала двусмысленно, Георг почувствовал на себе скептические взгляды. Все молчали, только один Виннету, с непосредственностью индейского вождя и легким испанским акцентом, полюбопытствовал: „Вы пишете гимны в честь Бергмана?“ — „Да вроде бы нет“, — промямлил Георг, и Виннету, не удовлетворенный нерешительным ответом, вопросительно взглянул на Бергмана. Тут композитор, к счастью, пришел на помощь Георгу. „Не в мою честь, а для моих сочинений. Хотя было бы недурно…“ — сказал он, после чего все снова оживились, кое-кто приветливо улыбнулся Георгу, но в некоторых взглядах по-прежнему читалось ехидство, и ощущение уюта исчезло. Георг сердился на Виннету, хотя вопрос, конечно же, был задан без злого умысла. Вскоре наконец-то принесли еду, можно было опустить глаза в тарелку и слушать чужие разговоры. Особенно отчетливо были слышны голоса обоих Ролстонов, которые через его голову рассказывали Виннету о своем доме и саде. У Виннету в Испании тоже оказался домик с садом, и теперь все трое делились друг с другом полезными советами. О мхах, впрочем, не было сказано ни слова — говорили об акантусах, мотыльковых и лечении пострадавших от заморозков олив. Георга так и подмывало спросить про мхи, но он не решался, тем более что теперь, приглядевшись, он не был уверен, что это те самые старички, о которых писал „Gardener“. Он не испытывал потребности вновь стать предметом застольной беседы и предпочитал держаться в тени. Поначалу все складывалось благополучно, но внезапно Бергман, подобравшийся ко второй бутылке красного и, очевидно, упомянувший Георга в беседе с Мэри и сэром Джоном, громко, во весь голос произнес: „Блейзер и вязаный галстук! Типичный Эмсфельде!“ Камень был пущен в его огород: на нем был голубой блейзер с металлическими пуговицами и бордовый вязаный галстук. Он уже и сам почувствовал, что одет не вполне подобающим образом. Темно-коричневые вельветовые джинсы и ботинки на микропоре также случаю не соответствовали. И вот зоркий на слабости окружающих Бергман безжалостно обратил на это внимание всего стола. Георг почувствовал, что покраснел, и от одной мысли об этом покраснел еще больше. Совсем недавно они были друзьями, объединенными общим триумфом. Он разделил успех композитора так, как если бы это был его собственный. Кажется, Бергман даже подмигивал ему. А теперь взял да осрамил. Есть несколько железных правил, услышал Георг, которые он, Бергман, неукоснительно соблюдает. Одно из них состоит в том, чтобы не носить вязаных галстуков. После этого Бергман снова повернулся к сэру Джону и заговорил на какие-то музыкальные темы. Но дирижеру, который, видимо, уже предчувствовал перелом в настроении композитора, явно не терпелось уйти, и Мэри тоже засобиралась. Бергман, слегка покачиваясь, встал, чтобы попрощаться с обоими. На прощание Мэри и сэр Джон помахали всем рукой, и Георг посмотрел девушке вслед, уверенный, что видит ее в последний раз. Оттого ли, что Мэри почувствовала этот взгляд, или по причине присущей ей деликатности, — так или иначе, она вдруг обернулась и, обращаясь к Георгу, крикнула: „See you in Sicily!“ Он так опешил, что выдавил из себя лишь жалкое: „Okay!“ Вслед за сэром Джоном и Мэри все остальные тоже стали расходиться. Первым удалился Виннету, за ним мнимые Ролстоны, а потом и прочие гости, чьи имена остались Георгу неизвестными: должно быть, оркестранты и люди из Линкольн-центра. Георг тоже бы с удовольствием ушел — хотя бы из-за вязаного галстука, — но Бергман внезапно потребовал еще вина. Постепенно он впадал в состояние, которое было смесью каталептического оцепенения и внезапных приступов вселенского омерзения. Омерзительно было все — и главный администратор Линкольн-центра, который до сих пор ни в одном разговоре ни разу не упоминался и которого Бергман назвал занудой, и заставленный фарфоровыми собаками номер в „Плазе“, и Виннету, которого, между прочим, никто не приглашал за стол для почетных гостей, и наконец, нью-йоркская публика, „по-детски прямодушная“ и не идущая ни в какое сравнение с чикагской. Присутствующих Бергман, слава Богу, пощадил. За Бруно, впрочем, можно было не бояться. Он нарочито громко зевал, давая понять, что скучает и что пора уходить. Выпив виски, Бергман наконец-то смирился с необходимостью ухода, и они покинули столовую Линкольн-центра. У служебного подъезда стоял лимузин. Даже не попрощавшись с Георгом, державшим перед Бергманом дверь, троица села в машину, и лимузин тронулся. Может быть, предполагалось, что он тоже сядет в машину. Или что завтра они увидятся. А может, они его просто забыли. Вычеркнули из памяти. Всему виной вязаный галстук. И ботинки на микропоре. Избыток Эмсфельде, нехватка Нью-Йорка — так бы, наверное, отозвался о нем Бергман. Но ведь никто никогда не спросит Бергмана, что он думает о Георге. В этом можно не сомневаться. Сев в такси, чтобы добраться до Вашингтон-сквер, Георг твердо решил забыть Бергмана и все, что с ним связано, — точно так же, как они только что забыли его перед Линкольн-центром. Он помнил данное себе слово и на следующий день, когда самолет поднялся в воздух. Страдания по поводу вязаного галстука слегка улеглись. В глубине души еще таилась обида, но Георг признавал, что гардеробу следует уделять побольше внимания. Летом он ведь не разгуливает повсюду в сандалиях и белых носках. И дернул же черт напялить вязаный галстук! Может, стоит перейти на кожаные? Не успел он об этом подумать, как понял, что опять просчитался. В будущем ему вообще не понадобятся галстуки! За пособием он ходит без галстука. В библиотеку тоже. Даже в берлинской филармонии галстук не нужен. А на премьеру в Линкольн-центр его больше никогда не пригласят. Еще в самолете Георг заметил, как воспоминания о Линкольн-центре, Виннету, „Плазе“ и лимузине блекнут и угасают, а когда сел в автобус, чтобы доехать из аэропорта Тегель до ближайшей станции метро, то ему уже не верилось, что все это было на самом деле. Не блекло лишь воспоминание о Мэри, отнимая столько сил, что несколько дней он не мог заставить себя приступить к работе. Но тут из университета пришло известие о том, что ему выделили стипендию, и Георг оживился. Два года, восемьсот марок ежемесячно, с возможностью продления. Правда, это деньги в кредит, то есть через три года он, возможно, станет обладателем ученой степени и огромного долга в придачу. Но сейчас это не омрачало его радости. Восемьсот марок это конечно не ахти, но при условии, что комната в Кройцберге останется за ним, этих денег может оказаться достаточно. Радостное известие так вдохновило Георга, что он немедленно возобновил свои разыскания и наткнулся на богатые залежи там, где до сих пор искал безрезультатно. Так, в предметном каталоге, который он обшарил вдоль и поперек в поиске „забвения“ и „Леты“, вдруг обнаружилась ссылка на книгу „Литература и забвение“. Книга была новая, видимо, ее приобрели совсем недавно, название в точности совпадало с темой диссертации. Георг записал шифр, спустился в подвал, где стоял фонд свободного доступа, и найдя на полке нужный том, взял его в руки с таким чувством, словно это официальный документ, подтверждающий скоропостижную кончину его академической карьеры. То есть стипендия-то у него будет, но вот „дезидерабельной“ темы он может лишиться. Не отходя от стеллажа, Георг с лихорадочно бьющимся сердцем раскрыл книгу. Пробежав глазами оглавление, он убедился в том, что тема совпадает, но понял, что исследование проведено не на германском, а на романском материале. Книга была посвящена мотиву забвения во французской, испанской и итальянской литературах. Речь шла о Рабле, Монтене, Сервантесе, Уарте, Прусте и Пиранделло. Вступительная статья была написана неким видным специалистом по романской филологии, который, судя по всему, являлся научным руководителем автора. Он объявлял книгу своего ученика „новаторским исследованием“, значительным вкладом в изучение „обливионизма“[9] в романской литературе, первым, претендующим на полноту, описанием большого корпуса текстов в „амнестически-летаргическом ракурсе“. Он призывал специалистов по иным, нероманским литературам также заняться этой проблематикой, дабы готовить почву для создания целостной научной типологии „общеевропейского обливионизма“. Георг вздохнул с облегчением. На серьезную конкуренцию книга не тянула, хотя человеку, у которого такой понимающий научный руководитель, можно, конечно, только позавидовать. Встревожила Георга лишь одна сноска, которую он заметил не сразу, а лишь при втором прочтении. В примечании говорилось, что в настоящий момент на кафедре германистики „ведется работа над диссертацией, посвященной теме обливионизма в немецкой литературе“. Сердце бешено заколотилось. Неизвестно, что стоит за словами „ведется работа“, но ясно одно: конкуренты не дремлют, нужно спешить. Начать следует завтра же, причем с самого главного — с мотивно-исторического аспекта. Несколько дней Георг не выходил из библиотеки, в который раз обшаривая каталоги и библиографии на предмет „Леты“ и „забвения“. Он по-прежнему не знал, в каких текстах встречаются оба мотива. К сожалению, улов был небогат: в каталоге обнаружилась ссылка на статью в одном из старых номеров „Философише Рундшау“, посвященную гегелевской „Феноменологии духа“. Статья содержала трактовку фрагмента, состоявшего из двух предложений. Для начала цитировался сам пассаж: „Примирение противоположности собою есть Лета подземного мира в смерти, или Лета вашего мира как оправдание — не оправдание вины, ибо сознание, так как оно совершало поступки, отрицать ее не может, а оправдание преступления и его искупительное умиротворение. И та и другая Лета есть забвение, исчезновение действительности и проявления сил субстанции, их индивидуальностей и сил абстрактной мысли о добре и зле; ибо ни одна из них для себя не есть сущность, последняя же есть покой целого внутри себя самого, неподвижное единство судьбы, опирающееся на личное бытие, а следовательно, бездеятельность и нежизненность семьи и правительства, и равный почет, а следовательно, равнодушная недействительность Аполлона и Эриний и возвращение их одушевления и деятельности в простого Зевса“. Вот и все. Георг отложил статью и подумал, что нужно как-нибудь выбрать время и вернуться к этому тексту (эта мысль посещала его всякий раз, когда он сталкивался с Гегелем). Но разделение между Летой подземного и Летой высшего мира стоило взять на заметку: возможно, оно пригодится. Помимо этого, Георг обнаружил в каталоге отсылку к статье „Память и забвение в автобиографической прозе Гёте“. Некто взял на себя труд изучить автобиографические тексты Гёте („Поэзия и правда“, „Итальянское путешествие“, „Кампания во Франции“ и „Осада Майнца“) на предмет частотности употребления в них лексем „забвение“, „воспоминание“, „забывать“ и „вспоминать“. Оказалось, что слова „забвение“ и „забывать“ встречаются в „Поэзии и правде“ шестнадцать раз, в „Итальянском путешествии“ — двенадцать, в „Кампании во Франции“ — дважды, в „Осаде Майнца“ — четырежды. А „воспоминание“ и „вспоминать“ — в „Поэзии и правде“ тридцать девять раз, в „Итальянском путешествии“ тридцать, в „Кампании во Франции“ девять, в „Осаде Майнца“ дважды. Точности ради следует отметить, что в „Осаде Майнца“ Гёте оба раза использует не глагол, а существительное. Результаты данного „словарно-эмпирического“ исследования позволяли, по мнению автора, с уверенностью говорить о „преобладании в автобиографической прозе И. В. Гёте мотива памяти“. Забвение преобладало лишь в „Осаде Майнца“ („забывать“ четырежды, „воспоминание“ дважды), что объяснялось, конечно же, пацифистскими убеждениями классика. Георг сдал книгу, даже не сделав ксерокопии. Он на ложном пути. На обратном пути из Далема в Кройцберг, сидя в вагоне метро, Георг понял, что выхода нет, придется начитывать тексты самостоятельно, а это — гигантский труд. Кроме того, выискивать глаголы вроде „забывать“ и „вспоминать“ совершенно бессмысленно. Они могут встретиться где угодно, и если в тексте, к примеру, попадется выражение: „наплевать и забыть“, это еще не значит, что оно имеет отношение к его теме. Поезд вынырнул из туннеля и понесся над цементно-серыми водами Ландвер-канала, когда Георга вдруг осенило, что спасение — в Лете. Вместо главы о забвении он напишет главу о Лете. „Мотив Леты в художественной литературе“. Нужно лишь накопать побольше текстов, в которых упоминается река забвения. На библиографии надежды нет, читать придется самому. Наутро Георг засел в читальном зале библиотеки германской кафедры с твердым намерением просмотреть сперва Гёте, а затем Шиллера. Для этого он разработал особую методику — рассеянно пробегать страницы, наводя резкость только при слове „Лета“. Ему потребовалось почти три недели непрерывного чтения — прозы, драматургии и, наконец, лирики Гёте, — чтобы прийти к весьма неутешительному результату: Лета упоминалась у Гёте один-единственный раз, а именно в десятой „Римской элегии“: „Будь же ты счастлив, живущий, гнездом, согретым любовью, В Лету доколь на бегу не окунул ты стопы“.[10] Этого решительно недостаточно. Придется взять за основу Шиллера. Хотя если уж у Гёте Лета упоминается всего раз, то на Шиллера и вовсе рассчитывать не приходится. Но драмы вселили в него надежду: Лета упоминалась в них трижды: два раза в „Разбойниках“ (песня Амалии завершалась словами: „Леты нет для Гектора любви“) и один раз — в „Орлеанской деве“: „Да канет в Лету прошлое навеки“. Это все-таки лучше, чем ничего. Чтение прозы оказалось безрезультатным. Оставалась лирика, и тут, как ни странно, упоминания Леты хлынули как из рога изобилия: шесть случаев! Плюс упоминание в „Ксениях“, которое Георг поначалу упустил. К сожалению, шесть упоминаний вскоре сократились до пяти: в „Прощании Гектора“ Георгу встретилась уже знакомая строка из „Разбойников“: „Леты нет для Гектора любви“. Интересно, обращалось ли на это внимание раньше? Знают ли об этом шиллероведы? Но не успел Георг обрадоваться, что совершил научное открытие, как обнаружил подробный комментарий на этот счет. Тогда он совсем приуныл. Не столько из-за того, что открытие уже сделал кто-то другой, сколько из-за ощущения тупика. Он на ложном пути. И в довершение всего, в один из летних, пламенеющих закатным солнцем вечеров накануне субботы, он, незадолго до закрытия библиотеки, обнаружил у Шиллера, словно в насмешку, еще одно упоминание Леты, которое читалось как очевидная эпиграмма на все его потуги: „Стикс вброд мы переходим, А в Лете — застреваем“.[11] Так ему и надо. Шиллер прав. Не судьба ему выкарабкаться из Леты. Окончательно разуверившись в успехе своего диссертационного проекта, Георг вышел из зала и прошелся по знакомым университетским коридорам, по которым ходил уже не первый год, но никогда еще не слонялся так бесцельно. Это могли позволить себе разве что не стеснявшиеся ученой публики бездомные да местные сумасшедшие. В том числе небезызвестная „графиня“ — бывшая ассистентка философского семинара, которая в кругах гуманитариев Свободного университета слыла чем-то вроде привидения или домового. И еще — недоучившийся английский филолог, таскавший за собой повсюду коробку, набитую скоросшивателями. У Георга тоже было много скоросшивателей, однако он никогда не испытывал желания упаковать их в коробку и таскать повсюду за собой. Но тем вечером, после панического шестинедельного чтения Гёте и Шиллера, эта потребность показалась ему вовсе не такой уж странной.
Уже на следующее утро, в субботу, Георг был спасен. Так он, по крайней мере, решил, обнаружив в почтовом ящике письмо из Италии. Бергман ему написал. Собственноручно! В очень личном, даже сердечном письме он рассказывал о своей работе над „Елисейскими полями“. Подробно разъяснял замысел и структуру сочинения, касаясь не только оркестровки, темпов, тембров, но и значения новой вещи для него самого. „Елисейские поля“ — признание в том, что молодость прошла. Только достигнув зрелости, осмелился он подступиться к теме утопии и красоты. Отчаиваться — привилегия незрелой юности. Долг человека взрослого — не поддаваться отчаянию. Сейчас, продолжал Бергман, подходит к концу работа над третьей частью, и гимн для четвертой нужен как можно скорее. Необходимо спешить: даты премьер — не одной, а сразу нескольких — уже назначены: „Елисейские поля“ будут исполнены в Чикаго, Мадриде и Берлине одновременно. „Сенсация сезона“, — пояснял Бергман в свойственной ему манере. Соответственно, и гимн должен быть сенсационным. Такое по плечу только Георгу, в этом Бергман не сомневается. Поэту предлагается как можно скорее приехать на Сицилию и поработать на месте. Лучше всего — в следующую субботу. Через неделю Георг уже летел в Палермо. Стоял сентябрь, идеальное время для путешествия на Сицилию. Георг радостно предвкушал поездку. Диссертация и Лета были временно забыты. „Да канет в Лету прошлое навеки…“, — вспоминал он, наслаждаясь тем, что вновь безраздельно служит Искусству. И Бергману! Судя по всему, композитор простил ему вязаный галстук и эмсфельдскую неотесанность. В Палермо самолет приземлился у самой кромки взлетно-посадочной полосы, еще несколько метров — и он рухнул бы в море, но никто из пассажиров и бровью не повел. В зале прибытия Георг увидел незнакомого мужчину, который держал над головой объявление: „Синьор Георг“. За ним прислали водителя. Жаль, что не Бруно. Георг сгорал от нетерпения вновь увидеть „бентли“. Но пришлось довольствоваться „дизель-мерседесом“ и незнакомым шофером, неразговорчивым сицилийцем с крестьянской внешностью. Имевшихся в распоряжении Георга ресурсов итальянского хватило лишь на пару дежурных фраз, и усевшись на заднее сиденье, он молча уставился в окно. Здесь, в береговой зоне, сицилийские пейзажи мало отличались от шотландских. Скудная растительность, трава да скалы. Разве что трава не зеленая, а грязно-серая, выжженная солнцем. До Сан-Вито-Ло-Капо оказалось довольно далеко, окруженная холмами вилла стояла не в самом городке, а слегка на отшибе. Когда большая часть пути осталась позади, вдали показалась широкая четырехугольная башня. Видимо, это та самая „башня Маэстро“, о которой писал „Gardener“. Имение казалось довольно большим: за оградой, сложенной из нетесаного камня, виднелись оливковая рощица и пинии. Водитель подъехал к железным воротам и дал двойной гудок. Женщина в кухонном переднике и поварском колпаке — должно быть, кухарка или экономка — открыла ворота. Водитель, видимо, тоже состоял в штате: въехав во двор, он отогнал машину в гараж, где уже стояли незнакомый бежевый джип и „бентли“. Поздоровавшись по-итальянски, женщина отвела Георга в боковой флигель, где для него была приготовлена целая небольшая квартирка, состоявшая из кабинета, спальни и ванной. Из кабинета можно было выйти прямо в сад, на террасе стоял письменный стол и несколько стульев. Вот где гимны-то писать! — подумал Георг, поставив вещи и выйдя на террасу. Конечно, ему придется несладко. На оплаченном Бергманом билете, который ему вручили в аэропорту Тегель, была проставлена дата обратного рейса — следующий четверг. Итак, не считая сегодняшнего дня и дня отъезда, у него всего четыре дня в запасе. Он успел только разобрать рюкзак и, выйдя на террасу, полной грудью вдохнуть пропитанный благоуханием пиний и трав воздух Сицилии, как зазвонил телефон. На проводе был Бруно. Приветствие его, как и в прошлый раз, было столь лаконично и небрежно, будто они только вчера расстались. Бергман ждет Георга в гостиной. Пройти можно через сад и большую террасу. Все двери открыты. Георг вышел в сад, пересек ухоженную и, несмотря на сицилийское лето, ярко-зеленую лужайку, приблизился к дому, увидел большую террасу, на которой стоял каменный обеденный стол и несколько кованых стульев, и вошел в гостиную. Она была очень похожа на гостиную в „Плазе“, разве что просторнее. Но все детали интерьера — камин, зеркала от пола до потолка и обилие антикварной мебели — ничем не отличались от нью-йоркских. Георгу бросился в глаза рояль и громадный книжный шкаф, заставленный внушительными томами. Присмотревшись, он разглядел на корешках имена Баха, Моцарта, Вагнера и Бергмана. Если первые три композитора были представлены полными собраниями, то наследие Бергмана стояло на полках в виде разрозненных изданий: при жизни полное собрание, должно быть, не положено. Да и потом, его пришлось бы постоянно дополнять — учитывая невероятную продуктивность Бергмана. По количеству сочинений, это было видно невооруженным глазом, Бергман уже и сейчас не уступал своим великим собратьям. Музыкантом Георг не был, партитуры ему мало что говорили, но вагнеровского „Тристана“ он опознал довольно быстро. Это навело его на мысль взглянуть наконец-то на Тристан-аккорд. Вагнер стоял довольно высоко. Взобравшись по невысокой старинной деревянной стремянке, он потянулся за партитурой. Чтобы ее достать, пришлось встать на цыпочки. Левой рукой он ухватился за полку, а правой начал было вытаскивать переплет, но том оказался таким тяжелым, что одной рукой его было не удержать. Пытаясь помочь себе другой рукой, Георг потерял равновесие, снова вцепился в полку, и партитура, конечно же, выскользнула и с грохотом упала на пол. Спрыгнув на пол и уже нагнувшись, чтобы ее поднять, Георг заметил Бергмана. Композитор стоял у камина и наблюдал за происходящим. „Хэллоу!“ — с чуть заметным американским акцентом сказал Бергман. „Здравствуйте, — откликнулся Георг. — „Тристан“ упал“. „Как закончите — побеседуем“, — сказал Бергман и удалился. Георг поднял партитуру и со всей осторожностью, на какую только был способен, водрузил ее на прежнее место. Затем он стал ждать Бергмана, и ожидание его длилось довольно долго. Композитор появился лишь минут через двадцать, держа в руке стакан виски. „Хотите виски?“ — спросил он. „Нет, спасибо“, — предусмотрительно отказался Георг, помня о том, как однажды на Скарпе Бергман уже пытался его угостить. Пригубив виски, Бергман поставил стакан на каминную полку и предложил пройтись по саду и там все обсудить. Сад был похож на парк, ландшафты сменяли друг друга: миновав цветник, оливковую рощицу и небольшой виноградник, они оказались в лесочке, где среди пиний стоял добротный и с виду очень комфортабельный деревянный дом. „Студия Стивена“ — Бергман подошел к двери и постучал. Стивен открыл дверь. Он был очень бледен, словно после бессонной ночи, за его спиной виднелся заваленный нотными листами письменный стол. „Господин Циммер приехал“, — сообщил Бергман. Поздоровавшись с Георгом, Стивен первым делом спросил про диссертацию. „Пока в стадии предварительных набросков“, — ответил Георг и, предупреждая любопытство Стивена, поскорее задал встречный вопрос: „А как ваш диссер?“ Он специально сказал „диссер“ вместо „диссертация“. Принятое в университетских кругах словцо задавало интимный доверительный тон. „В целом неплохо“, — ответил Стивен. Но сейчас руки не доходят. Нужно проанализировать „Елисейские поля“ для программки премьерного концерта. Притом что вещь еще не готова. Но Бергман отдает ему свои наброски, так что анализировать и комментировать можно, так сказать, по ходу дела. Поразительная эффективность труда! Бергман сочиняет, Стивен анализирует, а теперь вот и он подъехал, чтобы писать гимн. Тут у Бергмана, молча следившего за диалогом, видимо, кончилось терпение, и пожелав Стивену „Buon lavoro“, он развернулся и повел Георга на нижнюю лужайку, где в укромном уголке располагался бассейн. У воды стояли плетеные кресла, Бергман уселся в одно из них, Георг присел рядом. Здесь тоже был телефон. Бергман набрал номер и велел экономке принести оставленный на каминной полке стакан с виски. О цели приезда Георга пока не было сказано ни слова. В саду Бергман то и дело склонялся к растениям или придирчиво проверял состояние садовых лесенок, клумб и каменной кладки ограды. Но сейчас он прямиком заговорил о деле, то есть о требуемом гимне. Его представления о тексте носили самый общий, но при этом предельно конкретный характер. Услышав эпитеты „чарующий“ и „прекрасный“, Георг испугался. Чем чаще повторял Бергман, что гимн должен быть чарующ и прекрасен, тем сильнее сомневался Георг, что задача ему по плечу. Кроме того, Бергман желал, чтобы гимн был написан определенным размером. Хорошо бы дактиль, еще лучше — элегический дистих. „Ага, понятно“, — поспешно кивнул Георг. (О существовании элегического дистиха он за двенадцать семестров теории литературы ни разу не слышал). Далее. В гимне должно быть не менее четырнадцати строк, в крайнем случае — шестнадцать, но лучше четырнадцать; пусть он воспевает земное творение, красоту природы, гармонию звездного неба, блаженство любви и так далее; некоторая экзальтация допустима, но кич — ни в коем случае; кончаться он должен на „а“. „А?“-переспросил Георг, которому показалось, что он ослышался. „А“, — прозвучало в ответ. — Для певкости». Затем Бергман сказал: «Приступайте к работе», встал и стремительно зашагал прочь. Георг не сразу его догнал. По пути им встретилась экономка со стаканом виски, но Бергман бросил: «Поздно!» — и женщине пришлось повернуть обратно. Миновав террасу, Бергман направился к «башне Маэстро». У входа он остановился. Поляну перед башней окружали сумрачные высокие деревья — видимо, те самые кипарисовики Лавсона, о которых писал «Gardener». Стоя в дверях, Бергман добавил, что времени мало, придется потрудиться, к воскресному ланчу ожидаются гости, а в понедельник Мэри приедет переписывать партитуру набело. Дверь закрылась, и Георг, растерявшийся от острой незнакомой боли, вызванной именем Мэри, остался один. Охваченный паникой, он на секунду ощутил смертельный страх. Легкие и бронхи словно парализовало. Он сделал глубокий вдох, в груди отпустило, и только тогда он нашел в себе силы обрадоваться скорой встрече с Мэри. Не зря она прокричала ему в Нью-Йорке: «See you in Sicily!» Георг еще немного послонялся по саду и забрел на небольшой птичий двор, где увидел уток, голубей и дюжину белых павлинов. «Павлинья стая? — задумался он. — Или все-таки стадо?» Как бы то ни было, благородные белоснежные создания (хоть они совсем не благородно толклись среди кур, да и повадками почти не отличались от последних), были очень хороши собой. Дойдя наконец до своего флигеля, Георг решил немедля браться за работу. Четырнадцать строк за четыре дня… ничего себе задачка. В качестве подспорья он захватил с собой объемистую антологию западноевропейской лирики и томик Гёльдерлина. Тому, кто пишет стихи, не обойтись без чтения других поэтов, ибо это важный источник вдохновения. Живая жизнь Георга вдохновляла, но чужие тексты вдохновляли его куда больше. По опыту он знал, что чтение обычно помогает, и надеялся, что оно поможет и в этот раз. Помня слова Бергмана, сказанные в Нью-Йорке, Георг взял Гёльдерлина, хотя этот поэт всегда оставался ему чужд и непонятен. Сейчас, перелистывая гимны Гёльдерлина, Георг наконец осознал, что ему в нем так мешало. Патетический тон! Патетика гёльдерлиновских гимнов действовала ему на нервы. К тому же ему было неприятно, что многие стихи начинаются возгласом: «Благо мне!» или: «Так возликуйте!» Но ведь это и делает гимн — гимном. Впрочем, строчки «Я в сияньи Сонма Орионов, Гордо льется пение Плеяд»[12] приглянулись Георгу. Здесь, по крайней мере, была гармония звездного неба, которой требовал Бергман. Но это не элегический дистих. Видимо, Гёльдерлин не поможет, подумал Георг и вышел на террасу. Смеркалось, сад потемнел. Вокруг стояла такая тишина, что казалось, слышно, как бьется сердце. С террасы хорошо просматривалась башня, в окнах которой уже горел свет, и кипарисы, возвышающиеся в сумерках, как надгробные памятники. Георг вернулся в дом и щелкнул выключателем. Сноп света упал на пустой, ослепительно белый лист на письменном столе. Какая идиллия! Он на юге. В прекрасном, райском саду, в гостях у прославленного композитора, без пяти минут его сотрудник. Единственное, что от него требуется — это четырнадцать строк, и толика бессмертия обеспечена. Капля в море, конечно. Полстрочки в «Гроуве» или «МПН», да и то в скобках. Проехаться на подножке чужого бессмертия. И все-таки… Но четырнадцати строк все не было. Пока не было ни одной. Георг еще раз рассеянно перелистал Гёльдерлина и, невольно вспомнив метод несфокусированного чтения, вскоре обнаружил искомое. «Позабыто на обрыве в Лету, Скопленное втуне в давний год, Плеском соприродное рассвету, Манием богини восстает».[13] Строки были туманны, но притягательны. Не патетичны, но исполнены оптимизма. А против оптимизма Георг не возражал. Не в силах затормозить механический поиск Леты, он продолжал перелистывать страницы, и тут вдруг наткнулся на Мнемозину. Профессор же говорил: «Не Мнемозина, а Лета!» Стихотворение называлось «Мнемозина», но тронуло его до глубины души. Очень уж подходило оно к этим сицилийским сумеркам, стремительно сгущавшимся в кромешную тьму. «Мы только знак, но невнятен смысл, Боли в нас нет, мы в изгнанье едва ль Родной язык не забыли…»[14] Георг закрыл книгу и вышел в сад. Почему бы Бергману не положить на музыку «Мнемозину»? Правда это не гимн и не ода. Но зато очень точно передает его, Георга, состояние. Ему показалось, что темнота пришла в движение, и черный сгусток, становясь еще чернее и гуще, проплыл мимо террасы. Телефонный звонок вернул его к реальности. Бруно звал к столу. Георг совсем не был голоден, поддерживать застольную беседу тоже не хотелось. Единственное, что радовало в связи с предстоящим ужином — это вино. К счастью, застолье протекало без лишних церемоний и бесед. Один только Бергман, державший в руках похожий на допотопную рацию беспроводной телефон с длинной металлической антенной, вел бесконечные телефонные переговоры. Бруно, Стивен и Георг молча жевали. Сегодня за столом прислуживала экономка, сменившая поварской колпак на наколку официантки-горничной. Завершив очередной разговор и вкратце изложив присутствующим его содержание, Бергман хватал трубку и набирал следующий номер. Он продолжал свои переговоры и тогда, когда ужин кончился и женщина вынесла блюдо с фруктами. От фруктов Георг отказался, предпочтя еще один бокал красного. Вино было отменное, Георг еще за ужином оценил его достоинства. Он залпом осушил последний бокал и, попрощавшись, отправился спать. Бергман остался завершать свои переговоры. Наутро Георг первым делом спустился к бассейну. Голова гудела, купание должно было помочь. В саду ему встретился давешний шофер, который хлопотал у цветочной клумбы, исполняя заодно и роль садовника. После бассейна экономка принесла кофе, хлеба, масла и повидла; Георг позавтракал и решил приступать. Бергман, видимо, уже работал. По дороге в бассейн он слышал, что из распахнутых окон башни доносятся звуки рояля. Это были разрозненные аккорды, и Георг, имевший за плечами опыт Скарпа, сразу понял их значение. Бергман сочиняет музыку. Отложив Гёльдерлина и взяв западноевропейскую антологию, он перелистывал страницу за страницей. На стихотворении Георга Гейма «Гимн» он остановился. Вот что можно взять за основу! «Гимн», конечно, мрачен и зловещ — настоящий антигимн, закатная песнь, но ведь его можно переиначить, переделать в анти-антигимн, который, по всем законам логики, есть не что иное, как самый настоящий гимн. «Бескрайние воды захлестывают горные гребни, Бескрайние ночи идут как кромешные рати»[15], — писал Гейм. «Иссиня-черным морем оборачивается пустыня, Светозарные дни выпрастывает недвижный прах»[16], — переписывал Георг. Какое счастье! Он вышел на верный путь. Теперь нужно идти по нему, не сворачивая. В тот же день, еще до обеда, гимн во славу земного творения был завершен — сходство с Геймом чувствовалось, но разве что самую малость. Да и кто в наше время помнит Гейма? Правда, это не элегический дистих, и за это с Георга спросится. Но есть надежда, что Бергман не заметит. О концовке на «а» Георг позаботился. Гимн завершался словом «прах», оставалось уповать на то, что «ах» сойдет за «а». Завершив гимн в честь земного творения, он почувствовал себя словно заново рожденным. Встреченный где-то оборот «эйфория обновления» выражал это ощущение как нельзя лучше. Когда текст немного отлежится, он покажет его Бергману. Но по существу, он уверен, дело сделано. Вспомнив, что скоро обед, Георг обрадовался: сегодня воскресенье, будут гости. Певец и пианист; приехали из Франции; аудиенцию устроила жена Бергмана. «Она мне про них несколько недель твердила, все уши прожужжала, вечно сажает мне на шею своих клиентов…» — жаловался Бергман, когда они вдвоем шли по саду. Он не испытывал ни малейшего желания принимать гостей, особенно какого-то певца, который питает надежды на его покровительство. Под «клиентами» Бергман имел в виду пациентов супруги. Поскольку супруга специализировалась на спазмах, то общаться с ее пациентами означало иметь дело с людьми, которые или страдали спазматическими расстройствами, или же — благодаря стараниям жены — недавно излечились и стремились вернуться к профессиональной деятельности. В этом Бергман мог им посодействовать, поэтому жена без конца просила его принять то одного, то другого, то третьего. И Бергман, человек отнюдь не безотказный, похоже, не умел отказывать супруге. Они шли по саду, когда громкий голос экономки возвестил о том, что гости прибыли. Но Бергман не торопился, даже наоборот замедлил шаг. Впервые в жизни Георг совершал столь неспешную прогулку по саду. Все растения — каждый кустик, каждое деревцо — словно таили в себе неожиданные открытия, и Бергман то и дело останавливался, исследуя непознанные тайны. Когда ресурс ботанических открытий был исчерпан, он переключился на проблемы музыкальные, пытаясь со всей возможной точностью сформулировать ряд трудностей, связанных с его нынешней работой. То, что Георг в этих, как правило, очень специальных вещах ничего не смыслит, Бергмана не останавливало. Но несмотря на все старания Бергмана оттянуть встречу с гостями, в конце концов они достигли большой террасы и переступили порог гостиной. Гости изучали содержимое книжного шкафа, но к «Тристану» не прикасались. Все пожали друг другу руки и представились. Пианиста звали Джованни, он был родом из Флоренции и переехал жить в Париж. Певца звали Жозе-Антонио, он родился в Португалии, пению учился в Бразилии, и с некоторых пор тоже жил во французской столице. Джованни был молодым мужчиной лет тридцати, в шляпе, с трехдневной щетиной. Бергман такого не любит, подумал Георг. Да и потом шляпу следовало передать прислуге, а он положил ее на крышку рояля… Жозе-Антонио был гладко выбрит, но толстоват и говорил девически тоненьким голосом. Беседа велась по-английски, и Георг худо-бедно мог следить за разговором. Поначалу беседовали о всякой всячине — Флоренции, Париже; Жозе-Антонио передал Бергману привет от супруги; гости поинтересовались, над чем работает маэстро, Бергман рассказал о «Елисейских полях» и о роли Георга в этом предприятии. Гости были любезны до подобострастия, ни разу не обратились к Бергману по имени, именуя его исключительно «маэстро». Казалось, еще немного, они и Георга переименуют в «маэстро» — так потрясло их то, что композитор заказал ему гимн. Георгу льстило это внимание гостей, и чем дальше, тем большей симпатией он к ним проникался. Бергман же явно томился, брезгливо косясь на шляпу, по-прежнему лежавшую на крышке рояля. Наконец-то появился Бруно и пригласил всех к столу. Сегодня он выглядел как самый настоящий дворецкий и даже надел белые перчатки. Он не ел вместе со всеми, а лишь прислуживал и уже начал было разносить пасту, когда появился Стивен, такой же бледный и невыспавшийся, как и вчера. Он извинился за опоздание: работа над программкой в самом разгаре, ему срочно необходимы пояснения по поводу смены размера во второй части. Пока все остальные ели, Бергман давал Стивену необходимые пояснения, а Стивен, не церемонясь, конспектировал. Потом все опять принялись болтать о том о сем — все больше о музыке и начинающих вокалистах. Гости обнаружили незаурядную осведомленность, успев поучиться и побывать чуть ли не во всех музыкальных академиях мира. Они рассказывали о Флоренции, Риме и Париже, о Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. В качестве аккомпаниатора Джованни умудрился доехать до Египта, а потому прекрасно знал Каирскую академию и всю тамошнюю оперную сцену. На словах «каирская оперная сцена» Бергман усмехнулся и не без ехидства протянул: «Могу себе представить». Джованни то ли не заметил, то ли не понял его сарказма; Георг тоже не вполне уяснил, на что направлена ирония. Впрочем, сочетание «каирская оперная сцена» и для его уха звучало диковато. Каир — это смог, нападения на туристов и живущие на помойках нищие. Но послушать Джованни — все обстоит совсем не так. Каир наводнен снобами и оперными знатоками. Некий меломан проживает в небоскребе на берегу Нила. Там масса всего примечательного, в частности — лифт, на котором меломан поднимается в свой пентхаус, не выходя из автомобиля. Машина стоит под дверью, хотя дверь расположена на тридцатом этаже. Поймав недоверчивый взгляд Георга, Джованни заверил его, что в Каире есть масса вещей, в реальность которых трудно поверить. Георгу было, конечно же, любопытно узнать, что это за вещи, но он, как и все прочие, уже заметил, что Бергман заскучал. Пентхаус и автомобильный лифт не произвели на него впечатления, и на лице его читалось желание поскорее добраться до телефона и сделать пару нужных звонков. Вскоре он довольно резко прервал рассказ Джованни, осведомившись о цели визита уважаемых гостей. Слово взял Жозе-Антонио и, пока Бруно разносил тарелки со вторым (чисто вегетарианское блюдо: картофель и овощи), португалец изложил суть дела. Сообщил без предисловий, что из-за проблем со здоровьем долго не выступал. Затем пролечился у супруги Бергмана, которая посоветовала ему показаться композитору и что-нибудь исполнить. Возможно, это окажется небесполезно. Заболевание не сказалось на голосовом регистре, оно заключалось в нарушении дыхания. Зачем же вы выбрали такой высокий регистр? — спросил Бергман, ведь контртеноры так мало востребованы. Сам он только однажды написал партию для контртенора. На это Жозе-Антонио ответил, что выбора не было, ибо в пубертатный период у него попросту не произошло ломки голоса. Голос сохранился в прежнем звучании. «Как это — в прежнем?» — переспросил Георг, наивно не догадываясь, о сколь деликатных обстоятельствах идет речь. Не изменился не только голос, но и физические данные, пояснил Жозе-Антонио. Вот пополнел только. «Разве полнота сказывается на голосе?» — спросил Стивен, тоже, по всей видимости, не искушенный в таких проблемах. На голосе это сказалось постольку, объяснил певец, поскольку не претерпели изменений яички. «У меня недоразвитие тестикул», — уточнил он без тени смущения. Тут Бергман кликнул Бруно, который уже готовился вынести десерт, и велел принести еще вина. Георга шокировало, что певец оказался чем-то вроде кастрата, но виду он не подал. Все остальные — тоже, и Жозе-Антонио успел сообщить, что сколько его ни обследовали, проверяя функцию яичек и проводя измерения, диагноз оставался неизменен. Недоразвитие тестикул. «С десертом мы пока повременим, — прервал Бергман рассказчика. — Спойте-ка нам что-нибудь». Прихватив с собой бокалы — Бергман с Георгом пили вино, Стивен воду, — все перешли в гостиную, пианист сел за рояль, (шляпа по-прежнему лежала на крышке), певец приосанился. Не успел он объявить арию «Потерял я Эвридику…» из оперы Глюка «Орфей и Эвридика», как Бергман, видимо, из профилактических соображений, принялся тереть виски, словно борясь с подступающей мигренью. Все время, пока исполнялась ария, Бергману стоило заметного труда время от времени отрывать руки от висков. Убирая руки от висков, он тут же принимался приглаживать волосы, а затем немедленно брал бокал, но не глотал, а долго и тщательно смаковал, словно на дегустации, где предложено отведать вина столетней выдержки. Ария длилась довольно долго, и манера ее исполнения действительно напоминала кастратное пение. Голос был мальчишеским, но при этом каким-то чересчур резким и пронзительным. Словно мужчина, втайне стремящийся к женскому звучанию, пытается имитировать мальчика. Георг никогда ничего подобного не слышал. Стивену, видимо, уже приходилось сталкиваться с пением такого рода — вытянув шею, он с видом знатока ловил каждый звук. Только Бергману приходилось туго. Ему и не слушалось, и не сиделось. Покончив с дегустацией, он уже несколько раз порывался встать и не уходил только из вежливости. Певец, театрально глядя в даль, но при этом следя за каждым движением маэстро, давно заметил нетерпение последнего. В итоге он удвоил свои старания, и мужчина, имитирующий мальчика, превратился в очень истеричного мужчину, имитирующего чрезвычайно истеричного мальчика. Наконец ария кончилась, артисты раскланялись, Стивен с Георгом захлопали, Бергман же встал, сказал: «Я сейчас» и вышел. Артисты растерянно глядели ему вслед, не зная что сказать. Георг и Стивен безмолвствовали. Сперва Георг подумал, что он обязан что-нибудь сказать; в конце концов, артисты старались не только ради Бергмана. Но, с другой стороны, это ведь не его гости. С какой стати он будет изображать хозяина? В результате роль хозяина сыграл Стивен: предложив гостям вина и получив их согласие, он сходил на кухню и принес графин. На дипломатичное заявление Стивена, что Глюк, вообще говоря, значительно сложнее, чем принято думать, Жозе-Антонио не откликнулся. Бергман все не появлялся, и после неловкой паузы Стивен сказал, что он, пожалуй, пойдет его поищет. Георг остался наедине с гостями. Вина в графине было предостаточно, прошло, наверное, минут пятнадцать, а они все сидели и ждали, молча потягивая вино. Но Стивен и не думал возвращаться, и Георг понял, что это западня. Как он влип с этим кастратом. Но гости тоже влипли. Попались в ловушку Маэстро. Ехали в такую даль, а Бергман не удостоил их ни единым словом. Им бы давно следовало раскланяться и уйти восвояси. Но их держала надежда на то, что все как-нибудь образуется. Единственной ниточкой, связывавшей их с Бергманом, был Георг. Он был их спасательным кругом. Поэтому им захотелось узнать всю подноготную его отношений с Бергманом. Давно ли они сотрудничают, дружны ли и насколько тесно, часто ли Георг навещает композитора, бывают ли здесь другие исполнители, всегда ли Бергман уходит, не попрощавшись, и так далее. Георгу не нравилось играть роль спасательного круга. Какое ему дело до кастрата и его аккомпаниатора? Он, если уж на то пошло, и сам нуждается в спасении. Неужели придется сидеть с ними весь вечер? Дождаться, пока Бергман выйдет к ужину, они могут и без него. Чтобы поскорее избавиться от артистов, Георг выставил свои отношения с Бергманом в самом невыгодном свете. С композитором он едва знаком, сюда приехал впервые, представится ли такой случай еще хоть раз — неизвестно, а то, что Бергман заказал ему гимн, так это чистая случайность. Обычно на Бергмана работают люди совсем иного калибра. К Георгу он обратился по какой-то странной прихоти. Должно быть, это некий художественный и социальный эксперимент — Георг пока и сам не понимает. Очевидно только то, что композитору это удобно. Если гимном занимается Георг, то не нужно ни платить, ни заботиться о правах: он накропает гимн, вручит его Бергману, и дело с концом. Всего этого оказалось достаточно, чтобы гости утратили всякий интерес к персоне Георга. Соверши в очередную попытку выяснить, куда запропастился Стивен, и окончательно убедившись, что проку от Георга никакого, они наконец откланялись. Бергмана Георг увидел только за ужином. Композитор был напряжен, но кастрата с пианистом не упомянул ни единым словом — так, словно их и не было. Ничего не было: ни его внезапного ухода, ни предательского исчезновения Стивена, и Георгу не пришлось расхлебывать все одному. Георг не стал напоминать о случившемся и в расстроенных чувствах отправился спать. Расстроил его, впрочем, не столько инцидент с кастратом, сколько раздавшийся за ужином телефонный звонок. Это звонила Мэри, которая сообщала, что задерживается и приедет на день позже, чем планировалось, — значит, они увидятся лишь мельком… Весь следующий день Георг купался и читал, наслаждаясь прелестью сицилийского бабьего лета. Бергман появился лишь за обеденным столом, Стивена с Бруно было не видно, и в какой-то момент ему даже показалось, что он остался на вилле совсем один. Вернувшись после бассейна к себе, он еще раз на всякий случай перечитал текст. Работой своей он по-прежнему был доволен и собирался вручить ее Бергману завтра, за день до отъезда. На следующее утро он, хоть и волновался, но по-прежнему не сомневался в ее качестве. О встрече они уже договорились. Найти свободное время опять оказалось непросто, хотя Бергман неоднократно говорил, что текст требуется как можно скорее. Наконец все было готово, и за час до обеда они встретились на большой террасе. Бергман велел Бруно принести два бокала и графин красного — того самого, что обычно пили за обедом, — и Бруно, пользуясь случаем, доложил, что Мэри появится после обеда; водитель уже на пути в аэропорт. Георг протянул Бергману лист с гимном. Текст был отпечатан на портативной машинке, Георг специально вставил новую ленту. Бергман отпил вина, взял в руки лист, глянул было в текст, но тут же отложил его в сторону и потянулся к телефонной трубке. Набрал номер, подождал, пробормотал: «Нет никого» и снова взял в руки листок с гимном. Только он начал читать, как сзади послышался шорох. Это был садовник. «В оливах он еще кое-что понимает, но в цветах ничего не смыслит. Только дотронется, как цветок тут же вянет. Истинный сицилиец», — пожаловался Бергман. Георг молча ждал отзыва. И наконец, пробежав глазами по строчкам, Бергман тихим бесцветным голосом произнес: «Ну что ж, неплохо». Георг почувствовал облегчение и в то же время разочарование. Это не разгромная критика. Но и не похвала. Это какой-то удрученный вздох, только не очень понятно, к чему он относится — к гимну или же к чему-то еще. Тут опять раздались шаги, и Бергман снова отвлекся. По лужайке шел Бруно. В правой руке у него что-то белело — не то полотенце, не то ветошь, — приглядевшись, Георг понял, что это павлин, которого Бруно держит за безжизненно обмякшую шею. Павлин был мертв. Неужели Бруно свернул ему шею? Разве павлины съедобны? Занятый размышлениями о вкусе павлиньего мяса, Георг не сразу услышал восклицание Бергмана: «Что, опять?» Остановившись посреди лужайки, Бруно прокричал: «Третий за неделю!» — «У нас павлины мрут», — объяснил Бергман, когда Бруно скрылся в низинной части сада. Видимо, вирус. Трупы двух других павлинов, что сдохли на этой неделе, уже исследуются в ветеринарном управлении. Георг заметил, что, говоря о павлиньем море, композитор побледнел, словно ему стало дурно. Затем он снова взял в руки текст и, обращаясь не столько к Георгу, сколько к самому себе, воскликнул: «Какой кошмар!» Слабая надежда на то, что речь идет о гибели павлинов, быстро улетучилась. Гимн, в принципе, неплох, сказал Бергман. В чем-то даже превосходен, но заданной теме решительно не соответствует. Первая проблема — это избыток праха. Он, Бергман, разумеется, не против праха, но гимн, воспевающий или, наоборот, разоблачающий прах, не входил в его планы. Кроме того, он кончается на «ах», а не на «а». Ну да ладно, это не суть важно, однако коли уж зашла об этом речь, то необходимо отметить, что к элегическому дистиху текст отношения не имеет. А в остальном — прекрасный гимн, замечательный, сомнений нет — у Георга все получится, просто текст требует доработки. Гейму подражать не стоит, но это и так очевидно. «Продолжайте работать. К концу недели пошлете курьерской почтой», — сказал Бергман и покинул террасу. Листок он оставил на столе. Георг почувствовал, что бледнеет — кровь отхлынула от лица, голова закружилась. Перед глазами возникла громадная ручища с еще более громадным ластиком, которая стирала со страниц «Гроува» и «МПН» имя Георга Циммера. Маловероятно, что до конца недели он сможет породить новый гимн. Чем большие сомнения одолевали Георга, тем старательнее внушал он себе, что писать гимны — не его призвание. Он не создан для того, чтобы сидеть на чужих сицилийских виллах и строчить заказные гимны. Его призвание — серьезная научная работа. Пусть даже шиллероведение, если уж на то пошло. От упоминаний в «Гроуве» и «МПН» можно и отказаться. В чью-нибудь пользу. Если гимн, то только в честь Мэри. Вспомнив о Мэри, Георг вновь почувствовал спазм в легких и бронхах и вздрогнул от боли. Это страдание посильнее боли за неудавшийся гимн. Гимн — это литература. А Мэри — это жизнь. Георг сидел на террасе, тщетно пытаясь утешиться и взбодриться. Он подливал вина, выпил бокал, второй, третий, пошел к себе, бросился на кровать и провалился в сон. Под вечер, проспав обед, он очнулся — в холодном поту, задыхаясь от кошмарных снов, в которых за ним гнались ластики. Постепенно он пришел в себя. Он на Сицилии, на вилле знаменитого композитора, но у него, видимо, нет права здесь находиться. К выходным это выяснится окончательно. Георг лежал на кровати, глядя в сад, открывавшийся за распахнутой дверью террасы. На землю опускались ранние сицилийские сумерки. Солнце все еще жгло, но начинало клониться к закату, превращая ослепительную полуденную яркость в золотистое свечение, в котором угадывалось наступление вечера. Георг глядел в сад, на траву, на деревья, в глубине которых виднелось полуразрушенное, оплетенное вьюнком каменное изваяние. Он наблюдал, как медленно меняется цвет травы, как в теряющих яркость лучах танцуют пылинки, — и внезапно увидел Мэри: босиком, заколов волосы наверх и обернувшись полотенцем, она шла в сторону бассейна. Сон как рукой сняло, Георг пулей выскочил из кровати. Подбежав к двери, он выглянул в сад, но девушка уже исчезла. Чтобы смыть остатки сна, он встал под холодный душ. Только что он упустил прекрасную возможность помахать Мэри рукой прямо с террасы. Может, она предложила бы искупаться вместе. Нужно прокрасться следом и там внизу, у бассейна, поздороваться. Георг накинул на себя одежду и стал спускаться к бассейну, и чем ближе, тем сильнее стучало сердце и суше становилось во рту. Спустившись по каменным ступенькам мимо увешенной тяжелыми плодами айвы, Георг услышал характерные всплески — похоже, Мэри неплохо плавает кролем. Сердце билось в такт всплескам. Георг остановился, чтобы отдышаться. Он стоял, прислушиваясь к доносящимся из бассейна звукам и ругая себя за нерасторопность. Проклятый эмсфельдский синдром. Через какое-то время всплески прекратились. Стало тихо — так тихо, что Георг решил на цыпочках подкрасться поближе к стене. С камня испуганно юркнула вниз гревшаяся на солнце ящерица. Отсюда можно было видеть весь бассейн, оставаясь при этом незамеченным. В воде никого не было. Георг поднял глаза и посмотрел туда, где стояли топчаны. И тут он увидел Мэри. Она лежала нагишом, положив руки под голову, на ней не было ничего, кроме солнечных очков. Мэри безмятежно грелась в лучах предзакатного солнца. Она еще не успела как следует обсохнуть — должно быть, лишь слегка промокнула тело полотенцем, — и было видно, как под мышками, у сосков, вокруг пупка и даже на треугольнике между ног дрожат жемчужины капель. Георг смотрел на девушку, не осмеливаясь шевельнуться. Он не мог ни о чем думать и предпочел бы ничего не чувствовать: от накатившего возбуждения виски и лоб так сильно сдавило, что даже слезы выступили. Побежать бы сейчас вниз да броситься с разбега в воду. Бесстрашно и отважно. А потом вынырнуть, весело прокричать: «Nice to meet you in Sicily!» и растянуться на соседнем топчане. Но в нем слишком мало от настоящего мужчины. Слишком мало Нью-Йорка, не говоря уж о Манхэттене. Эмсфельде побеждает. И Эмсфельде наверняка бы победил, и в конце концов, парализованный болью вожделения, Георг превратился бы в деревянный чурбан или каменную глыбу, если бы вдруг не заметил — прямо напротив, на другой стороне бассейна, между двух кустов, осыпанных белыми дудочками экзотических цветов, — сперва чуть заметное шевеление, потом два блестящих глаза, а потом и знакомую бледную физиономию. Это был Стивен. Он тоже увидел Георга и побледнел еще сильнее, Георг же почувствовал, что заливается краской. Заметив друг друга, молодые люди поспешили ретироваться. Стивен скрылся в ложбине за бассейном, где Георг еще ни разу не бывал — там, куда Бруно отнес мертвого павлина. Поднявшись по лесенке и миновав айву, Георг побрел к пиниям. Все равно куда — только не в дом. Тем временем стало смеркаться, тени удлинились, на востоке уже показался бледный лунный серп, а на западе еще алело солнце. Пройдя мимо своего флигеля, Георг вышел на большую поляну перед «башней маэстро», окруженную черной колоннадой кипарисов. Подняв глаза, он снова ужаснулся. Окна кабинета были открыты настежь, в одном из них стоял Бергман и смотрел вниз. Наверху Георг никогда не бывал, но можно было предположить, что оттуда прекрасно просматривался весь сад, включая бассейн. Георг вжался в стену, пытаясь спрятаться от взгляда Бергмана, и замер в ожидании. Солнце пламенело за пиниями. Он видел, как оно опускалось все ниже и ниже, скользило по ветвям, по стволам и наконец погасло в траве между корней. Черная сицилийская ночь поднялась, как река, и затопила сад. Георг отошел от стены и взглянул наверх, но Бергмана в окне уже не было. В кабинете зажегся свет, открытое окно было задернуто занавеской. Георга обступила темнота, он оказался в самом ее центре, и только попытался было продолжить свой путь к пиниям, как вдруг услышал, что Бергман взял аккорд. Этот аккорд прозвучал глухо, мрачно и оборвался в никуда. Он словно донесся из бездны. За ним ничего не последовало. Только тишина, и ничего больше.
Примечания
1
«Аусвег» (от нем. Ausweg) — «Выход».
(обратно)2
Петрификация — окаменение.
(обратно)3
Амортификация — омертвение.
(обратно)4
Латинские названия экзотических растений.
(обратно)5
Перед разливом по бутылкам специалисты пробуют вино из разных бочек, и тот напиток, который на их взгляд лучше, получает исходное название, а другое вино называют «вторым».
(обратно)6
ДАМБО (от англ. Down under the Manhatten Bridge Overpass) — район Бруклина, расположенный под мостом на Ист-Ривер.
(обратно)7
Маффин (от англ. Muffin) — горячая сдоба.
(обратно)8
Нюртинген — захолустный швабский городок, где прошло детство И. X. Ф. Гёльдерлина.
(обратно)9
«Обливионизм» — от лат. oblivio — забвение.
(обратно)10
Пер. Н. Болтиной.
(обратно)11
Пер. В. Топорова.
(обратно)12
Пер. В. Топорова.
(обратно)13
Пер. В. Топорова.
(обратно)14
Пер. С. Аверинцева.
(обратно)15
Пер. В. Топорова.
(обратно)16
Пер. В. Топорова.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg







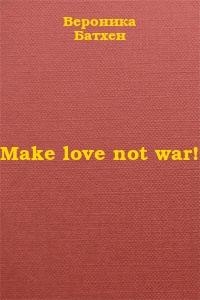




Комментарии к книге «Тристан-Аккорд», Ханс-Ульрих Трайхель
Всего 0 комментариев