Брендан Кили Евангелие зимы
© Brendan Kiely, 2014
© Перевод. О. Мышакова, 2016
© Издание на русском языке AST Publishers, 2016
* * *
Посвящается Джесси, сказавшей однажды: «А что, если…»
Вопрос не в том, во что мне верить, а в том, что мне делать.
Сёрен КьеркегорГлава 1
Чтобы рассказать вам, что произошло на самом деле, чего вы не знаете и о чем не писали в газетах, мне придется начать с традиционной рождественской вечеринки моей матери. За два дня до этого, будто вселенная стала сопродюсером ее шоу, выпал снег, выбелив наш богом забытый уголок Коннектикута. Мать пришла в восторг. Электросвечи в окнах, венки на дверях, живописно занесенный снегом дом – подруги придут в восторг. Настроение поднимется до небес – хотя бы с виду. В этом вся мать («выживают самые жизнерадостные»), и подруги рады были высосать до дна ее праздничную панацею. Мы готовились принять больше полутораста гостей, решив не обращать внимания на то, что на разосланных в конце октября приглашениях рядом с именем матери вытиснено имя отца, а между тем Донован-старший провел большую часть года в Европе и намеревался осесть там навсегда.
Мне не дозволялось заходить в кабинет Донована-старшего, но, раз он уже не жил дома, я сделал его кабинет своим, окопавшись среди его книг и безделушек со всего света в надежде почерпнуть толику мудрости и заполнить зияющую пустоту внутри. Если бы не вечеринка, я бы просидел в кабинете всю ночь, читая «Франкенштейна» к уроку мистера Вайнстейна, но вечеринка имела место быть, мать удалилась наверх прихорашиваться, и я сказал – да пошло оно все. Если я намерен выдержать до конца, нужно чем-то подкрепиться.
Я запер дверь кабинета и уселся в кресло перед письменным столом Донована-старшего. Кабинет освещался лишь ожерельями белых лампочек, развешанных на кустах за окном. Я посидел в полумраке, слушая, как персонал обслуживающий банкеты, снует по всему дому, затем включил маленькую лампу – только чтобы видеть, что делаю. Страницы перекидного календаря не переворачивали уже много недель, я подтянул его к себе по настольному планшету и положил разворотом вниз. Металлическая основа поблескивала в свете лампы. Я вытряхнул на ладонь пару таблеток аддерола и уложил на календарь. С помощью тяжелых ручек Донована-старшего раздавил таблетки, разделил образовавшуюся кучку на несколько поменьше, развинтил одну ручку и втянул дорожку через пустой корпус.
В голове словно взорвалась пулеметная очередь мыслей и воспоминаний. Я представил себе появление Донована-старшего из мрака – бледная лысая голова и острый взгляд, пристальный, испытующий. Подавшись ко мне, он ворчливо повторил одно из своих изречений: «Мальчик, ты можешь стать тем, кто создает реальность для других, или же тем, кто живет в реальности, созданной для него». Донован-старший был из тех людей, о которых пишут в газетах: они собираются в Давосе, Пекине или Мумбае, и их рукопожатия влияют на мировую экономику. Думай глобально, действуй локально, ответил бы я, но Донован-старший никогда не бывал дома, чтобы поработать над локальной частью. Да и когда я ему что-нибудь говорил, а он спрашивал?
Я прикончил еще одну дорожку, и воспоминание материализовалось в кабинете: призрак старины Донована уселся в кресло с номером «Бэррона». Затолкав носки в ботинки, стоявшие возле него на полу, он пристроил босые ноги на оттоманку. Ступни его казались полупрозрачными, как белый изюм, скукожившийся и высохший у камина. Донован-старший потел и скреб коротко стриженные волосы над ушами. Рядом на столе лежала кипа газет, сложенных под пепельницей с раздавленными окурками – надгробными памятниками, торчавшими из мини-кургана. На широком подлокотнике кресла стоял бокал, в котором оставалось еще много, но Донован-старший, расплющив крупный нос о край бокала, высосал все до дна. Как обычно, густая жидкость застряла у него в горле, и он попытался откашляться. «Мальчик, тебе повезет, если в истории тебя упомянут хоть петитом, – большинство людей ведут жизнь незначительную и бессмысленную. Я стараюсь тебе помочь».
Я сосредоточился, и вскоре остался лишь голос, звучавший у меня в ушах. Голос походил на мой. По крайней мере, казался знакомым.
– Я здесь, – сказал я в пустоту кабинета.
Но в комнате был только я и тишина вокруг меня, и в этой пустоте я испугался. Я страшно боялся других людей и собственного проклятого «я». Страх был всепоглощающим, он брал в кольцо и приводил в оцепенение, как нечто сопящее, подобравшееся вплотную. Не знаю, как бы я думал о чем-то еще, кроме своих страхов, без химической подпитки. Я вдохнул последнюю дорожку аддерола, вытер стол и тихо вышел из кабинета, наконец-то готовый к сегодняшнему вечеру.
Перила парадной лестницы, ведущей из фойе на галерею, были увиты гирляндами зелени. Повсюду лихорадочно шли последние приготовления: под большой елкой в гостиной два официанта в смокингах взбивали тюль, изображавший снег, в библиотеке бармен расставлял ряды бокалов на переносном баре, установленном в дверях на кухню. Фирмы по обслуживанию банкетов никогда не присылали на вечеринки матери одних и тех же официантов, но все знали, как себя вести. В продолжение всего праздника этот безмолвный ансамбль будет появляться по малейшему знаку и исчезать по команде, сливаясь с обстановкой. Как только приехали гости, я, добросовестно играя свою роль, вышел на сцену, но на меня никто не обратил внимания.
В кухне Елена на повышенных тонах общалась с приглашенной обслугой, с содроганием оглядывая устроенный ими бардак, но, увидев меня, сразу подошла. На ней была блузка с белым воротничком, которую Елена всегда надевала, когда мать закатывала вечеринки. Волосы были стянуты в тугой узел. Нагнувшись, чтобы обнять ее, я постарался не помять каскад мелких оборок вдоль застежки.
– Будешь веселиться? – спросила Елена по-испански.
– Нет.
Она поправила мне воротник.
– Тебе нужно больше думать о себе.
– Для этого есть ты, – ответил я.
– Ах, m’ijo[1], перестань, – проворчала она.
Конечно, при родителях Елена никогда не называла меня сынком, и при них мы не говорили по-испански. Я упражнялся в испанском, когда мы оставались в доме одни, и теперь, после проведенного с Еленой времени, изъясняюсь по-испански почти бегло.
Она поцеловала кончики пальцев и коснулась или моего лица. Глаза ее превратились в щелочки – яблочки щек приподнялись в улыбке.
– Пожалуйста, будь благоразумным.
– Посмотри на меня, – сказал я, указывая на пиджак и галстук, которые выбрала мать. – Я готов играть свою роль. – Елена смотрела, как обслуга возится со встроенными одна под другой духовками. Я тронул ее за руку: – Нельзя ли все же переждать в твоей квартире? Нашего отсутствия даже не заметят. Видишь, сколько народу она наняла? Мы ей не нужны.
Елена пристально посмотрела на меня.
– Что с тобой? Что у тебя с глазами?
– Ничего.
Глаза у меня, конечно, покраснели, но Елена, как обычно, лишь покачала головой и больше не спрашивала. Она обняла меня, потом отступила и коснулась ладонями моих щек.
– Пожалуйста, помоги сегодня своей матери. Сделай это для нее. – Она поцеловала меня и снова крепко обняла, как часто делала.
Я и дольше простоял бы в ее объятиях, но тут официант смахнул со стола тарелку. Она разбилась, осколки разлетелись по кухонному полу. Елена резко обернулась.
– Ай, диос мио. – Она обожгла официанта гневным взглядом. – Ну конечно, чужое добро… – И прошла в чулан за щеткой.
С чувством долга, повисшим камнем на моей шее, я отправился искать мать. Ее голос доносился из гостиной.
– Совиньона нет! – бранилась она с призраком, видимым ей одной. Покрой темно-красного вечернего платья открывал почти всю ее спину. – Шардоне и совиньон! И совиньон! Я говорила Елене – и, и, и! У нас не ужин в пользу бедных, мы отмечаем Рождество! Выбор меню – показатель элегантности! – У матери был талант прицепиться к спущенной петле и приравнять бесценный ковер к массе перепутанных ниток. Вина в доме больше, чем гости способны выпить, даже если очень постараются; хватит и официантам, которые, как всегда на вечеринках, не дадут пропасть открытым бутылкам и под утро нетвердой походкой расползутся по своим фургонам.
– Она заказала, – возразил я. – Я видел, как бармен ставил вино в холодильник.
– Что ты там жмешься за мебелью? – спросила мать. – Ты же вроде собирался мне помогать!
– Кто жмется? Я здесь. И вовсе не обязательно вечно ее обвинять.
– А-а, ты у нас адвокат, как обычно! Святая Елена!
Мать размеренно задышала через нос, считая про себя. Этому так называемому черепашьему дыханию ее обучали на йоге, тай-чи, пилатесе, растяжке-вытяжке души, или что там у нее на повестке дня.
– Ладно, – сказала она новым, мажорным тоном. – Давай-ка улыбнись, все-таки у нас праздник. Ты будешь встречать гостей.
– Я и так улыбаюсь.
– Расслабься. – Мать уперла руку в бок. – Держись развязнее, как отец, не будь букой. У нас сегодня будут только друзья, Эйден.
Не помню, чтобы на прошлое Рождество Донован-старший склабился, как политик.
– Я не он, – произнес я.
– Не он, – негромко согласилась мать, – но ты притворись. – Взглянув через окно на двор, она вздохнула: – Пожалуйста.
Мне очень хотелось притвориться. Ради нее.
На подоконниках и журнальных столиках трепетали огоньки свечей, а в очаге, потрескивая и рассыпая искры, горели толстые поленья. В свете живого огня светлая мебель и стены цвета слоновой кости приобрели оранжевый оттенок. Когда мать снова повернулась ко мне, я дал ей то, чего она хотела.
– С Рождеством, – сказал я.
– Ну вот! Так-то лучше. Вот что все хотят видеть.
– Да будет праздник.
Мать торжествующе улыбнулась.
В дверь позвонили. Мать пригладила платье на талии и часто заморгала. Пора. Один из приглашенных официантов поправил галстук-бабочку и открыл входную дверь. Я спохватился, что стою с руками в карманах – надо бы их вынуть, – но это оказалась всего лишь Синди, одна из близких маминых подруг. Мать выплыла в фойе, как на сцену – словно и не было этих двадцати лет. Они сразу направились к бару, и Синди, едва получив бокал, высоко подняла руку.
– За новую великолепную вечеринку Гвен! – произнесла она. – И пусть Джек со своей бельгийской шлюхой катятся к чертям!
Они выросли в одном городе, но познакомились, только воцарившись в коннектикутском высшем обществе. Синди была еще миниатюрнее матери, зато с широченной, от уха до уха, улыбкой. Я иногда встречал ее семью в церкви Драгоценнейшей Крови Христовой, а ее сын Джеймс учился в нашей частной школе, гордо именовавшейся Коннектикутской академией, на два класса младше меня. Единственный способ вести счет маминым подругам – приписать их к разным социальным кружкам. Когда кружков накапливалось достаточно, я начинал помнить лица и какие-то факты биографии, вроде статистики на обороте карточек бейсболистов. Вместо очков или пропущенных ранов здесь значились категории «личное имущество», «благотворительная деятельность» и «число посещений вечеринок Донован», что в случае Синди равнялось ста процентам.
На крыльце снова позвонили. Я открыл, поздоровался – и понеслось: я едва успевал приветствовать хлынувших в двери гостей. Я часто моргал, ощущая, как глаза лезут из орбит, словно яйца в глазунье. Вошедшие сверкали неоновыми улыбками и все прибывали.
– Здравствуйте, – говорил я очередному гостю. – Здравствуйте.
Растянув в улыбке губы до отказа, я подсказывал, куда пройти, постепенно отключаясь и уходя в тоскливую пустоту, где на меня наваливались мысли о «Франкенштейне» в мягкой обложке, оставшемся на кресле в кабинете. Я представлял, как это существо пробуждается и смотрит со стола злобным взглядом.
Гости все прибывали. Пробираясь в толпе, я то и дело кого-нибудь задевал. Люди поспешно, чтобы не пролить, глотали свои коктейли и наклонялись ко мне, разговаривая самым мажорным тоном.
– Оценки прекрасные! – кричал я, перекрывая шум: – Йель, только Йель!
Вживаясь в роль, я почти освоил странный акцент, который порой прорезается у американцев: как бы британский, но с несомненной примесью верхне-истсайдского. Я переходил из комнаты в комнату, соображая, как бы незаметно смыться – по дому волнами перекатывался натужный, агрессивный смех.
Я хотел незаметно пробраться мимо группы гостей у пианино, подняться в кабинет и хоть немного посидеть спокойно, но меня перехватил бывший коллега Донована-старшего, Майк Ковольски. Переваливаясь, он поспешил через фойе, балансируя брюхом. Его сын Марк шел сзади. Если бы не фамильный, кувалдой, папашин подбородок, трудно было бы поверить, что Марк – его родной сын. В академии он держался с невозмутимой, уверенной отстраненностью, которую я привык принимать за пресыщенность. Мы встретились у парадной лестницы. Майк больно хлопнул меня по плечу.
– Смотрите, как он обрабатывает вечеринку – вылитый адвокат! Да-а, Эйден, давненько не виделись. Ты уже с меня ростом, и когда это твой старикан разрешил тебе ходить с такими патлами? Не к лицу мужчине прятать глаза. – Он помахал между нами пальцем. – Представишь Марка кое-кому? Или самому не терпится захапать все престижные стажировки, обогнав приятеля, а?
– Как твое ничего, Донован? – спросил Марк.
В академии мы оба учились в десятом, но в последний раз Марк со мной здоровался на обязательном зачете по плаванию в сентябре. Назвать нас приятелями можно было разве что в шутку. Как капитану команды пловцов, ему пришлось приветствовать нас одного за другим, когда мы прыгали в воду и доказывали, что можем проплыть до бортика и обратно, не утонув. Я же считал его человеком из бронзы: натуральный цвет кожи у Марка круглый год был янтарно-смуглый, а плотная шапка кудрявых волос никогда не казалась ни отросшей, ни стриженой. Мы вместе ходили в воскресную школу, но уже в средних классах общались, только когда наши отцы заставляли наши семьи встречаться за обедом, то есть давным-давно, еще до того, как мой родитель ушел из компании и открыл свою фирму.
– Марк тут кое с кем пообщается, – продолжал Майк. – Без этого никак нельзя. Здесь не просто вечеринка, а ярмарка вакансий, – бросил он сыну.
– Пап, я знаю.
– Все зависит от того, как смотреть на вещи, мальчики. Надо во всем видеть лишнюю возможность. – Майк ткнул меня в грудь.
Марк посмотрел на меня, на отца и снова на меня.
– Может, Эйден покажет мне дом? – Майк взял Марка повыше локтя. – Carpe diem, – отозвался Марк, – я понял. Но можно мне просто пообщаться с Эйденом? Было бы круто.
– Я покажу ему обстановку, – предложил я как можно хладнокровнее.
Марк попытался вырваться из папашиной хватки, но Майк не отпускал.
– Главное – целеустремленность. Зевать будем в другом месте. Цель, цель, цель. Увидел, что нужно – подошел и хапнул, черт возьми. – Он улыбнулся и подтянул поближе и меня, так что мы с Марком оказались прижатыми друг к другу. Изо рта у Майка пахло креветками. – Правильно я говорю? – спросил он.
– А как же, – отозвался я.
Марк благодарно улыбнулся. Майк пихнул сына к кружку мужчин у камина. Хотя те расступились, освобождая ему место, Марк отчего-то искал меня глазами. Взгляд этих удивительно светлых голубых глаз красноречиво молил: «Вытащи меня отсюда!» А я как-то не привык, чтобы на меня смотрели с мольбой о помощи. Но вскоре Марк вынужденно приступил к упражнению, которое и я десятки раз исполнял на вечеринках матери, – стал отбарабанивать резюме, и с этой секунды его уже было не спасти.
Снимите маски, сказал бы я не только Майку, но и многим в нашей академии. Снимите большие, пластмассовые, погано улыбающиеся личины, в которых вы с ноги открываете любую дверь. Мне тоже случается общаться с ровесниками, когда дискуссионный или шахматный клуб собирается за обедом у кого-нибудь дома или когда мы болеем с трибуны на матче по хоккею на траве и футболу. Я слушаю, как другие разговаривают между собой – можно подумать, уверенность родилась раньше их. Никто никогда не скажет: «Я не знаю» или «Я боюсь»; они ведут себя так, будто маски – их настоящие лица и они прекрасно проживут со своей самонадеянностью, искренне полагая, что никто больше им не нужен. Как там называется стих Джона Донна, который мы читали на уроке Вайнстейна? «Человек – не остров»? Ну, это не про нас. Мы – проклятый социальный архипелаг, называющий себя обществом. Почему мне кажется, что только я живу в кошмаре? Ведь я точно знаю, что на самом деле их тоже мучает страх. Я видел его осенью на лицах учащихся нашей академии, когда в одно солнечное ясное утро, в четверг, мы начали бояться самолетов и слова «джихад». С того дня страх стал нашим образом жизни – и у детей, и у взрослых, без разницы. Я слышал, как педагоги тихо переговаривались между собой: «Ну что я могу сказать этим детям? Я тоже боюсь!» Так почему мне кажется, будто я один ищу стабильности, нормальной жизни, того, кто способен остановить лавину вранья и пообещать мне, что все будет хорошо?
Оставив Марка отдуваться самому, я пробрался в библиотеку кружным путем – через боковой холл – и присел у лестницы возле наспех сооруженного бара. Снимите маски, хотелось сказать мне сегодняшним гостям матери. Они ничуть не лучше учеников нашей академии. Мать решила, что в этом году Рождество мы будем отмечать с неслыханным размахом. «Нам это нужно, – заявила она. – Всем нам». Гости, не сговариваясь, дружно ее поддержали: как на мексиканском Дне мертвых или на карнавале, которые я видел по телевизору, лица у всех были кричаще размалеваны или покраснели от алкоголя.
Вскоре ко мне подошла мать. Я удивился, как она отыскала меня в такой толпе, но мать была настроена решительно. Она пробилась сквозь осаждавших бар мужчин, ведя за собой двух девушек из нашей академии. При этом она так сияла, что я понял: она их специально пригласила, только мне не сказала.
Я сразу выпрямился. Джози Фентон и Софи Харрингтон знала каждая собака. В академии они считались знаменитостями; можно подумать, жизнь автоматически станет гламурной, если вести себя а-ля селебрити. Джози осенью встречалась со старшеклассником, но порвала с ним всего через месяц. Я привык смотреть на Джози и мысленно с ней разговаривать – она сидела передо мной на углубленном курсе английского. Я представлял, как провожу рукой по ее длинным каштановым волосам. Она наклоняла голову набок, когда писала, отчего волосы спадали на одну сторону, открывая красивую гладкую щеку – нет лучше места, куда поцеловать девушку. У Софи была иная репутация, которой хвастались слишком многие. Парни вечно на нее пялились, а Софи уверенно выдерживала их взгляды, не отводя своих темных глаз и чуть усмехаясь тонкими губами. От этого она казалась старше сверстниц или, по крайней мере, опытнее.
Моя мать явно заблуждалась, думая, что, как дочери ее подруг, Джози и Софи общаются со мной в школе, и протащила девчонок через всю комнату с радостной улыбкой, которую я не имел права погасить.
– Ну, будь хорошим хозяином, – заключила она, отходя. – У тебя тоже сегодня гости.
Джози и Софи остались стоять рядом со мной, разглядывая толпу, будто ища кого-то. На каблуках и в облегающих юбках они выглядели совсем взрослыми. Я поднялся и вытер ладони о брючины.
– Вот уж не знал, что вы сегодня придете, – бросил я и сразу понял, что упустил единственный момент, когда следовало сказать что-то остроумное или любезное.
– В последнюю минуту пригласили, – объяснила Софи. Единственная веснушка на ее бледной щеке приподнялась, когда она улыбнулась.
– Надеюсь, вам не пришлось пожертвовать своими планами?
– Какая разница, – вздохнула Софи.
Джози на миг улыбнулась. В ушах у нее были серебряные сережки с голубыми, цвета ее глаз, бусинами.
– Надеюсь, вас не пришлось подкупать, чтобы заманить сюда?
– Да ладно, – округлила глаза Джози. В ее голосе прозвучала усталость. – Вечеринки твоей матери славятся на весь город, никто не откажется от ее приглашения. – Она поглядела на бар. – Ого, сколько спиртного!
Даже если она ничего такого не имела в виду, я остался благодарен за подсказку.
– Вы позволите вас угостить? – предложил я.
Джози засмотрелась на что-то на другом конце комнаты и не ответила. Софи посмотрела на нее.
– Может, диетическую колу?
– А если серьезно? – сказал я.
– Что? – сразу очнулась Джози. – Правда, что ли?
– Ну, праздник все-таки.
– Было бы круто, – сказала Софи. – Мать будет в ауте.
– А моя только обрадуется, что у меня такая компания.
Девочки переглянулись, поджав губы, и я поспешил добавить:
– Марк тоже здесь.
– Марк Ковольски? – переспросила Джози.
– Но его придется сначала оторвать от папаши. Майк держит его на коротком поводке при нужных людях в гостиной.
– А-а, спасательная операция, – поняла Софи. – С этим мы справимся. Где встречаемся бухать?
Я объяснил, как через фойе дойти до кабинета Донована-старшего. Софи и Джози обняли друг друга за талию и слаженно пошли через толпу. Это выглядело как танец, и – возможно, потому, что дело происходило у меня дома, – я подумал, что могу к ним присоединиться.
Я выпросил у бармена пару неоткрытых бутылок содовой и бокалы и пробился через плотно стоявших гостей. В кабинете Донована-старшего меня уже ждали. Джози и Софи, бродившие вдоль книжных стеллажей, не нахмурились и не замолчали при моем появлении. Я даже удивился: казалось, они и вправду хорошо проводят время. Марк остановился у гигантского, всех оттенков сепии, глобуса, стоявшего между двумя кожаными креслами.
– Твой папа любит читать? – спросила Джози. – Там у него тоже кабинет с библиотекой?
– А что такое папа? – отозвался я, ставя бутылки на стол.
Софи обернулась и сочувственно на меня посмотрела. Джози кивнула.
– Босс, – пояснил Марк. – У меня такой же. Результат ему подавай, и точка.
– Может, у него будет нервный срыв, – сказала Джози. – Как у моего. Теперь он весь в аюрведе и виньясе.
– Может, – согласился Марк.
– Ну, если бы Донован-старший не уехал, мы бы не смогли воспользоваться его кабинетом, – сказал я. – Гляньте-ка. – Я открыл защелку на глобусе, поднял верхнее полушарие и продемонстрировал содержимое потайного бара. – Водку с содовой? – спросил я, вынимая бутылку из гнезда. – Можно выпить за наших отцов, уже отчаливших, и тех, кто никак не отчалит.
– Серьезный тост, – заметила Джози.
– Эй, вы башку включите, – вмешался Марк, – Спалимся же! Запах! В прошлый раз мой унюхал от меня перегар и чуть не придушил. Посадил дома, как на цепь, на целый месяц. Разве нет ничего другого? – пихнул он меня. – У тебя же точно что-нибудь найдется! Травка? Все хотят курнуть дури. Они ни разу не просекли, когда я накуривался.
На это я улыбнулся и охотно поделился таблетками.
– Но начнем с выпивки. Не спалимся, меня вот ни разу не поймали.
Все расселись возле глобуса, и я начал смешивать коктейли, радуясь, что есть чем занять руки: сердце билось так, будто я нюхнул повторно. Я понятия не имел, что говорить Джози, Софи или Марку. Разговор требует спонтанности, а спонтанность заставляла меня нервничать. Я боялся сморозить какую-нибудь глупость или сказать то, о чем потом пожалею.
– Как на ваш вкус? – спросил я, раздав бокалы.
– «Бельведер»? – поинтересовалась Джози, попробовав. – Мягкая.
– А я думала, ты любишь только «Кетель уан», – засмеялась Софи и тоже сделала глоток. – Помнишь, у Дастина? Боже, как мы тогда упились!
Я поднял бокал, как некоторые взрослые гости, – за основание, а не за ножку:
– Ну что, за нас?
Мы чокнулись и посмеялись над остальными гостями, которые сейчас ощутимо набираются. Я старался не улыбаться, но сдержаться не мог. Когда я слушаю или курю сигарету, у меня нормальное лицо: я пробовал делать и то и другое перед зеркалом – физиономия вполне сносная. Но когда я улыбаюсь, у меня вид законченного психа.
Я удивлялся всякий раз, когда мне удавалось их рассмешить, и надеялся, что запас слов у меня не иссякнет. Я выпил половину коктейля, прежде чем заметил, что остальные почти не пьют. Марк вообще поставил бокал на письменный стол Донована-старшего. Воцарилось молчание. Софи смотрела в пол, Джози встала и подошла к окну, выходящему во двор, обрамленный живой изгородью, за которой начиналась земля Филдингов.
– Что мы делаем на этой вечеринке для старперов? – спросил Марк. Софи согласно вытаращила глаза. – Не обижайся, Донован, но что хорошего прятаться в трех шагах от родителей?
– А мне без разницы, – ответил я. – Вот мой помощник на сегодняшний вечер. – Я вынул пузырек аддерола из внутреннего кармана и потряс. – Меня уже прет.
Софи прищурилась:
– Неужели глотаешь, как витамины?
– Нет, – догадалась Джози, – нюхает! – Она снова подошла ко мне и хитро улыбнулась: – Каждый день?
– Не, не каждый, – ухмыльнулся я.
Она засмеялась. Строго говоря, я не солгал: я нюхал аддерол, если не спал ночь и боялся отключиться на уроке.
– Рискнем? – спросил я.
– Не моя тема, – отказался Марк. – Может, в другой раз… Черт, я порчу все веселье! Но вы же знаете, я не обломщик…
– Ну и пожалуйста, – сказала Софи. – А я буду. Я всегда готова. – Она подняла бокал. – Только сначала допьем.
Я сделал большой глоток, но проглотил слишком много кубиков льда, один застрял в глотке, и дыхательное горло будто заклинило. Рот полон, дышать нечем, от содовой щипало в носу. Я давился и не мог дышать.
– Господи! Что с тобой? – Софи подалась ко мне.
Я глубоко вдохнул через нос, но воздух в легкие не прошел, а если и прошел, я не почувствовал. Я судорожно хрюкнул. Содовая шипела во рту и носу, глаза щипало. Шею и грудь словно опоясало тугим ремнем, который все затягивался. Во мне поднялся страх – голова стала легкой, как в той игре, когда от нечего делать доводишь себя до краткой потери сознания, но после того, как в глазах потемнеет, спохватываешься: а не зашел ли я слишком далеко? Что, если я не смогу вернуться?
– У тебя гипервентиляция, что ли? – не поняла Джози.
– Он подавился, – пояснила Софи. – Ты задыхаешься?
Я хотел помотать головой и наклонился, чтобы выплюнуть содовую обратно в бокал, но вспенившаяся жидкость вырвалась изо рта фонтаном, и я забрызгал блузку и юбку Софи.
– Черт! – заорала она.
Сквозь выступившие на глазах слезы я ничего не видел.
– Извини, – выдавил я. – Мне очень жаль.
– Заткнись! – велела ей Джози. – Возьми себя в руки и не закатывай сцену, а то в самом деле спалимся.
– Мне правда очень жаль…
– Он что, мне юбку испортил? – вопросила Софи. – А на блузку посмотри! Нет, какого фига?!
– Заглохни, сказано!
Марк подошел к двери и прислушался к звукам из коридора. Я вытер глаза. В горле еще жгло, поэтому я инстинктивно сделал еще глоток и вдруг, без явной причины, выпил все до дна, цедя жидкость сквозь зубы, чтобы защититься от льда. Меня пробрало с ног до головы, но ощущение было приятным – густая водка, как жирный сироп, скользила под содовой. Я поставил бокал, взял пригоршню салфеток из коробки на столе и протянул Софи, хотя они и были бесполезны. В других комнатах гремела музыка, гости пытались перекричать ее и друг друга. Никто нас не слышал.
Джози за руку вытянула Софи из кресла, и они осмотрели темные пятна на зеленой юбке.
– И что я матери скажу? – спросила Софи. – Ну что ты за человек после этого? – завелась она вполголоса.
Джози схватила меня за локоть:
– Сделай что-нибудь! Нам надо в ванную как можно скорее!
С пылающим лицом я повел девушек по коридору. Марк шел сзади. Нас заметили субтильные подруги моей матери, стоявшие в фойе.
– Барбара, Барбара, вот он, – сказала одна из них. Я шел впереди Джози и Софи, но сразу представил, как они нахмурились при этих словах. Я сделал вид, что не слышу, хотя внутри снова возникло тоскливое, сосущее чувство, и поманил своих гостей за собой. Мы удалились в одну из свободных комнат, где Донован-старший спал несколько месяцев перед тем, как уйти совсем.
Я распахнул дверь в ванную и сказал:
– Здесь вам никто не помешает.
Джози сразу прошла внутрь. Я отступил, пропуская Софи.
– Давай мы к тебе чуть позже выйдем? – предложила Джози. – Я приведу ее в порядок. – Она поставила принесенные с собой бокалы на столешницу рядом с раковиной.
– А я прослежу, чтобы с ними все было в порядке, – сказал Марк. Дверь закрылась. Я слышал, как они перешептывались, затем зажурчала вода. Наконец кран закрыли, но из ванной никто выходить не спешил. Слышался приглушенный смех и звяканье бокалов. Мне захотелось что-нибудь разбить. Снимите маски, твари, подмывало меня сказать, хотя бы и через эту треклятую дверь. «Эйден лох», – нацарапано в кабинке мужского туалета в нашей академии, и я не сомневался, что в ванной сейчас звучало нечто похожее.
Снова послышался смех, на этот раз из коридора. Одна из женщин, заметивших, как мы вышли из кабинета Донована-старшего, возникла на пороге, заслонив свет, и поманила тех, кто шел за ней.
– Они здесь, – сказала она, прислонившись к дверному косяку. Я не мог разглядеть ее лица. Передо мной был лишь женский силуэт. Из мрака прозвучало: – Эйден, почему вы прячетесь в темноте?
В ее голосе слышалось что-то холодное и категоричное, отчего меня вдруг повело. Она едва меня различала, но все равно казалось, что меня застали голым. Пустота внутри росла, вытекая в комнату, покрывая пятнами ковер, постель и плетеную мебель. Подошла другая женщина, третья, и кто-то из них спросил:
– Что вы тут делаете?
Одна из пришедших решительно растолкала остальных и включила люстру. Барбара Ковольски, мать Марка, уставилась на меня глазками, прятавшимися в полных румяных щеках.
– Что это с тобой? – спросила она.
Я молчал, не в силах справиться с приступом страха. Женщины в коридоре засмеялись, послышались разговоры, но Барбара уперлась руками в бока.
– Где Марк? Где девочки? – Она взглянула на дверь ванной и ткнула туда пальцем. Браслеты звякнули. – Они там? Марк что, в ванной с девочками?
Я силился выдавить «Нет», но она прошла мимо меня и подергала дверь, оказавшуюся запертой. Барбара посмотрела в коридор. Остальные женщины уже ушли.
– Марк! – негромко позвала она.
В ванной на секунду открылся кран, послышался звук смываемой в унитазе воды, затем открылась дверь, и вышла Джози.
– Здравствуйте, миссис Ковольски. – Щеки у нее горели.
Вышла Софи с пустым бокалом в руках, а за ней – Марк, сунув руки в карманы и ссутулившись. Он выглядел гораздо младше и напоминал собаку, съежившуюся при виде замахнувшейся руки.
– Молодой человек… – выразительно начала Барбара.
На меня никто из них не взглянул.
– Миссис Ковольски, – сказала Джози, – мы просто поболтали. Как дела, как поживаете?
Барбара нахмурилась. Покрытая искусственным загаром кожа была так натянута, что от движения губ лицо двигалось, словно аккордеон.
– Нечего паинькой прикидываться! – бросила она и повернулась к Марку: – Тебя отец ищет, хочет кому-то представить. Но в таком виде?.. – Барбара снова бросила взгляд на дверь. – Значит, так. Ничего не было. Не будем говорить вашим родителям и ни слова не скажем Майку. Ни о чем из случившегося. Вы все меня поняли?
– Они не виноваты, – выдавил я наконец. – Это я принес выпить.
Барбара обернулась и направила палец с кроваво-красным ногтем мне в лицо:
– Я прекрасно знаю, чья это вина, Эйден.
– Не срывайся на нем, – сказал Марк. Хотя он выпил меньше всех, глаза у него казались стеклянными. Или это выступили слезы? – Эйден не виноват.
– Еще как виноват, – отрезала Барбара. – И хватит дискуссий, дома поговорим. Я вас всех отвезу домой.
– Ма, – начал Марк. – Ну, перестань!
– Все, – сказала Барбара. – Вам же лучше будет. Я обо всем позабочусь. – Она обняла Марка – коротко и сухо. – Ты же знаешь своего папу, милый, так что не глупи. – Она вытолкала Марка и девушек в коридор, прервав его попытки попрощаться, и сказала мне: – Если твой отец ушел, это не значит, что ты можешь делать все, что в голову взбредет. Кто-то должен был тебе это сказать.
Она вышла. Я выключил свет в ванной, потом люстру в комнате и посидел в темноте на кровати. В доме бушевала вечеринка. Наконец я поднялся, подошел к окну и выглянул во двор. В лунном свете снежная корка превратилась в лунный пейзаж – серый и безжизненный. Такой я представлял себе смерть – пейзаж, где неизбежно окажешься в вечном одиночестве.
Мне очень хотелось уйти – хотя бы и во двор, но в коридоре и на лестнице были гости. Вечеринка заполонила весь дом, вторгаясь в одну комнату за другой. Сколько людей, а поговорить не с кем, подумал я, и тут из фойе донесся знакомый смех. Я знал этот смех с тех пор, как его обладатель впервые появился в приходе Драгоценнейшей Крови Христовой и отслужил мессу вместо отца Дули, превратив проповедь в час историй. Его голос, густой, низкий и ровный, как противотуманная сирена в ночи, показался мне родным и домашним, и я с облегчением пошел на него сквозь толпу.
Ни у кого нет такого смеха, как у отца Грега – раскатистого и бурлящего, как газировка. Отец Грег стоял у парадной лестницы; румяное лицо и серебристая бородка блестели в свете огромной люстры. Держа в руке толстый бокал со скотчем и кубиками льда, он покачивал его круговыми движениями и говорил с собравшейся толпой. Большинство смотрели на него снизу вверх, потому что отец Грег привлекал внимание не только своим голосом: если выпустить его на ринг с нашим учителем физкультуры Рэндольфом, тому придется долго собираться с мужеством, прежде чем затянуть перчатки. При виде отца Грега невольно думалось, что он играл в регби до того, как в обиход вошли накладки для плеч и шлемы, и пробегал с мячом, не получив ни царапины.
Он смеялся собственному рассказу, а заметив меня, кивком подозвал к себе. Я сразу послушался. Отец Грег был завсегдатаем вечеринок, и все его любили. Он не опускался до нотаций типа «танцевать – дьявола тешить», прекрасно понимал, что в нашем католическом городишке любят поесть в последний вторник перед Великим постом и на Пасху, забывая поститься между ними, и сам никогда не пропускал вечеринок.
– Но дело не только в деньгах, – продолжал отец Грег, когда я подошел. – Знаете, что труднее всего? Любить. Любовь – это нелегкий труд, может быть, самый нелегкий, но в конечном счете только любовь имеет значение. Вот в чем суть нашей работы с такими ребятами. Научить человека удить рыбу? Ха! – Он махнул рукой. – Учите любить, Ричард. Научите ребенка любить – любить учебу, любить людей – и посмотрите, что получится. – Он опустил мне руку на плечо: – Правильно я говорю, Эйден?
Он ходил по вечеринкам ради сбора пожертвований. Я был его помощником, хотя начал работать в приходе всего полгода назад.
– Да, дети. – Ричард через силу улыбнулся. – О них-то я и думаю, когда каждый год выписываю чек. – Он ткнул в мою сторону своим большим носом. – Эйден, мне в этом году еще не звонили. Когда ты начнешь обзванивать? Святой отец, вы собираетесь поручить это Эйдену?
Отец Грег улыбнулся мне.
– Ничего страшного, Эйден уже не новичок. Что бы я без него делал? – Отец Грег протянул мне руку, и я машинально хлопнул по ней, будто мы на поле в одной команде. – Эйден знает, в топку нужно подбросить уголька, чтобы поезд ехал дальше.
Я согласно кивнул. Я помогал собирать средства на католические школы. Заполненные мною таблицы в «Экселе» и «Кристал репортс» можно было с натяжкой назвать углем для топки, но, даже открывая конверты и занося суммы пожертвований в базу данных, я вносил свою лепту в это важнейшее начинание.
– Я даже еще не поздоровался с хозяевами дома, – заметил отец Грег.
– Мать где-то здесь, – сказал я, бросив взгляд на библиотеку.
Отец Грег засмеялся:
– Я тебя имел в виду!
– О, – вырвалось у меня. – А, ну да.
Извинившись перед собравшимися, он отвел меня в сторону, к гардеробу. Приятно иногда побыть ведомым. Отец Грег улыбнулся, затем лицо его стало серьезным, как всегда перед тем, как он находил нужные слова и жизнь немного налаживалась.
– Как ты? Держишься?
Первый, черт побери, искренний вопрос за вечер. Мне захотелось оказаться подальше от этого шума, выбрать местечко потише, где не надо притворяться, отгородиться от пустой светской болтовни и поговорить, как люди, о важном. Мне это было необходимо.
– Слушай, я пойду на улицу, воздухом подышать. – Отец Грег выудил номерок и подал его швейцару. – Не хочешь выйти со мной на пару минут? – Пальто он накинул на плечи, не продевая руки в рукава, и вытянул сигарету из нагрудного кармана. От него всегда пахло табаком. – Идем… Ну, если ты сам хочешь, конечно. – Пальто, как парус, надувалось сзади, когда он вышел на крыльцо. Я взял свою лыжную куртку и вышел за ним.
Отец Грег стоял у поворота вымощенной белым камнем полукруглой аллеи и смотрел на покатый заснеженный двор.
– Тебе надо найти повод для веселья на этом празднике, – сказал он.
Я смотрел, как его дыхание превращается в облачко и исчезает в морозном воздухе.
– Это не мой праздник. – Я застегнул молнию на куртке. – Непонятно, что я вообще здесь делаю.
Отец Грег подошел ближе и поставил ногу на ступеньку крыльца. Он выдохнул дым из уголка губ, в сторону от меня.
– Ты делаешь то, что делал всегда, – стараешься помочь. Не будь чересчур строг к себе, Эйден.
Он часто произносил мое имя. Сперва мне казалось странным, что ко мне так много обращаются, но постепенно стало нравиться. От этого я чувствовал себя более реальным – будто отец Грег желал говорить именно со мной, будто я действительно что-то для него значу, словно я ему хоть немного нужен.
Я смотрел на островок подстриженных кустов посреди подъездной аллеи. Отец Грег предложил мне свою сигарету, и я не глядя затянулся. Сразу закружилась голова, и я привалился к колонне.
– Наверное, мне лучше сесть за уроки, – наконец выговорил я.
– Вот умница, трудяга, как всегда.
Я пожал плечами.
– Я все понимаю. Я хорошо знаю, что ты чувствуешь. – Отец Грег снова дал мне затянуться. – Мы об этом уже говорили, – мягко сказал он. – На вечеринках трудно вести серьезные разговоры, к которым мы с тобой привыкли. Большинство из этих людей я могу застать разве что на вечеринках. Не знаю, когда бы я увидел и твоих родителей, если бы они не пригласили меня на Рождество.
– Ага, и один из них вообще не явился.
– Опять ты за свое, – произнес отец Грег, медленно кивая, как всегда, когда слушал меня. Он покатал сигаретный фильтр двумя пальцами, и горящий пепел вишенкой упал у крыльца. Фильтр отец Грег опустил в карман и взглянул на дверь. – Ты не один.
Отец Грег часто объяснял, что присутствие в моей жизни Бога является истинной духовной опорой и залогом подлинной стабильности. Бог всегда со мной, но иногда Богу приходится действовать через людей вроде него, отца Грега, чтобы напомнить о своем присутствии. Бог не особо прочно поселился у меня в голове, но отец Грег занимал в моих мыслях постоянное место, и сейчас мне болезненно хотелось чего-то осязаемого, надежного, определенного.
Отец Грег подул на кулак, согревая руку.
– Ты хорошо держишься, Эйден, зная, что отец ушел из семьи. Кому же понравится чувствовать себя брошенным… Мы об этом говорили, ты знаешь, как я о тебе беспокоюсь. – Он тихо выдохнул через нос и снова изобразил обеспокоенную улыбку. – Тебе выпало взрослеть в страшные времена, Эйден, – продолжал он авторитетным тоном газетной статьи. Его рука легла мне на плечо, придержав у колонны. – Нельзя лукавить, что это не так. В такие времена люди не должны бросать друг друга… – Он сделал паузу и нагнулся ко мне: – Но Бог тебя не оставил, Эйден. И церковь не оставила. И я. – Он отступил на шаг, потер подбородок и взглянул на дом. – Чертовски хорошую работу мы с тобой проделали, а? Кампанию эту. Тебе понравилось? Скучно не было?
– Нет, очень понравилось.
– Так я и думал. – Отец Грег кивнул и повернул меня ко входу. – Странно, что твой отец еще не прислал свой чек, Эйден. Обычно в это время он уже отправлял мне свое пожертвование. Я удивлен.
– Он всю осень провел в Европе.
– Знаю, Эйден, мальчик мой, знаю.
Он повел меня в дом и, когда мы снова сдали пальто и куртку, кивнул группе гостей, стоявших у библиотеки. Придерживая за спину, он повел меня сквозь толпу к центральному столу фойе.
– Или мне уже не с ним надо говорить? – спросил он и снова двинулся в самую тесноту, в гостиную. – Давай-ка найдем твою маму, Эйден. – Он не видел моего лица, потому что я шел впереди, но ему это и не надо было. Над моим плечом ободряюще прозвучало: – Не беспокойся, мы найдем время побеседовать. Ты же будешь помогать нам в каникулы? Обязательно поболтаем, мы уже давно не говорили по душам. Тебе необходимо выговориться.
Я остановился и повернулся к нему. Отец Грег, улыбаясь, оглядывал комнату.
– В каникулы поговорим, – повторил он. – Не беспокойся.
Возникла пауза. Я не знал, как поступить. Я думал, может, он ждет моего ответа, но отец Грег, глядя куда-то поверх моей головы, помахал кому-то за моей спиной.
В глубине гостиной мать, окруженная толпой обожателей вроде Синди и незнакомых мне женщин и мужчин, стояла на табурете с поднятыми во втором арабеске руками, копируя собственный портрет, висевший у лестницы в библиотеке. Потом она опустила руки и огляделась. Я думал, что она заметит меня, но она не заметила.
– Во как приходится себя держать, – объяснила мать. – Иначе разнесет, как бочку.
– Целеустремленность и воля, – подхватила Синди. – Вот в чем класс.
– Класс? – переспросил отец Грег, подходя к ним. – Гвен ежегодно показывает нам класс. – Мать сошла с табурета, и отец Грег поцеловал ее в щеку. – Каждый год вы все выше поднимаете планку. Какой праздник! Только вы можете превзойти себя!
Мать немного смутилась.
– Истинная правда, – снова вмешалась Синди. – Я хочу, чтобы мои мероприятия устраивала ты. Кроме шуток. Проконсультируешь меня по открытию новой выставки?
– В вашем исполнении все кажется легким, не требующим усилий, – продолжил отец Грег. – Это больше, чем умение, – это искусство. Уверен, ваши поклонники согласятся. – Мать сделала плие. – С некоторыми я бы очень хотел пообщаться лично, если вы будете столь любезны, – добавил он.
– Те, кто вам нужен, на террасе, – сказала мать.
Они с Синди засмеялись, а отец Грег изобразил притворно-виноватую мину. Меня замутило от этой игры – словно быть искренним означает проиграть.
Мать предложила его проводить. Отец Грег взял ее под руку, и они пошли на застекленную террасу. В открытую дверь было видно мужчин, развалившихся в креслах с сигарами. Спустившись на пару ступенек, отец Грег приветственно помахал, и в ответ раздались громогласные приветствия. Мать плотно закрыла дверь. В воздухе повисла густая табачная вонь, а за отцом Грегом осталось заряженное негативом пространство, как после животного, которое улепетывает в чащу с треском сучьев и шелестом листвы.
Мы с Синди оказались рядом, и она тут же принялась оглядывать комнату.
– Я слышала, тебе нравится работать с отцом Грегом, – начала она. – По-моему, это прекрасно. Джеймс тоже начал работать в приходе Драгоценнейшей Крови Христовой. Он в восторге и уже прислуживает у алтаря.
Я еще не видел Джеймса в роли алтарника, но, с другой стороны, в последнее время я мало волонтерствовал. Конечно, отец Грег уделяет время и другим – ему нужна помощь не только в сборе средств, он же наш священник, но на душе у меня стало тяжело при мысли, что отец Грег утешает Джеймса. Разве не я, как мне казалось, больше всего нуждаюсь сейчас в нем? Он единственный, который не говорит со мной сквозь зубы, как та же Синди: ее улыбка давала понять, что она меньше всего сейчас хочет стоять рядом со мной.
Я прошел через столовую к буфету. В кухне у встроенных духовок Елена спорила с двумя поварами, размахивая обгорелой деревянной ложкой. Она меня заметила, но не прервала свою тираду. Повара ее не слушали, и она кричала им в спину, пока те продолжали работать.
– Елена, – тихо позвал я, но здесь было слишком шумно и суетно. Я столкнулся с возвращавшимся в кухню официантом. Поднос с очистками от креветок полетел на пол. Официант чертыхнулся, и я поспешил отойти за стол-остров. Из ведра со льдом за спиной бармена я стащил бутылку белого совиньона и незаметно вышел через заднюю дверь. Праздничный шум вылетел за мною во двор. Выйдя из светлого пятна прожектора над дорожкой, я закричал в небо. Никто не ответил – мой голос будто растворился в темноте.
Пройдя через газон ко второму гаражу, я поднялся в квартиру Елены. Дверь оказалась заперта, но через окно я видел ее маленькую комнату с простой мебелью, напоминавшую хорошо обставленную монашескую келью: книжная полка, кресло, гардероб и заправленная, очень опрятная кровать. К подставке лампы прислонены две фотографии в рамках – дочь Елены Тереза и сын Матео. На первой фотографии Терезу обнимал за плечи папаша, Кандидо.
Привалившись к двери, я пил, глядя в ночную темень. Только когда шаги Елены прошелестели по дорожке из кухни и простучали по лестнице, я понял, что меня трясет от холода. Я спрятал бутылку за цветочным горшком на крошечном крыльце. Елена ее все же заметила, но хоть не в моих руках, поэтому ничего не сказала, только обняла меня.
– M’ijo, – сказала она, – не плачь. Пожалуйста, не плачь, – повторяла она, держа меня в объятиях.
Она впустила меня в комнату, усадила на свою маленькую кровать и, продолжая обнимать, что-то бормотала по-испански. Я не сразу разобрал «Аве Марию». «Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей». Не знаю, сколько раз Елена повторила молитву, но в конце концов и я начал повторять за ней, тоже по-испански, хоть и больно было говорить стиснутым горлом.
– Не плачь больше, пожалуйста, – сказала Елена. Встав, она перенесла к двери собранный чемодан, потом достала из-под раковины в маленькой ванной косметичку и начала складывать в нее туалетные принадлежности.
– Может, останешься? – Я проявил малодушие: ведь сейчас канун Рождества, семья Елены ждет ее в Бронксе! Она и так задержалась сегодня. Я знал, что она хотела успеть к полуночной мессе в своей церкви.
Закончив сборы, Елена выключила свет. Комнату освещала только лампочка на крыльце.
– Можешь сегодня спать здесь, – предложила она. – Я не против. Только уж будь умницей. – Елена стояла у двери, и я не видел ее лица. Она была всего лишь силуэтом в свете лампы на маленьком крыльце. – Пожалуйста, – снова сказала она и, ничего не добавив, подхватила вещи и поспешила вниз, в гараж, к своей машине, чтобы поехать наконец в отпуск.
Над кроватью висело распятие, привлекшее мое внимание, еще когда я пил на крыльце из горлышка. Прощение, как меня учили, – это путь к миру, но пока, думал я, сойдет и покой. Проваливаясь в забытье, я чувствовал, как язык становится вялым и толстым. Когда давно пьешь в одиночестве, уже не обольщаешься мыслью, что голова остается ясной и соображаешь ты четко. Ты распадаешься на части и понимаешь это, тебе хочется превратиться в бесформенную груду, подобно тающему снеговику, стать грязной лужей, а потом исчезнуть.
Глава 2
Рождественским утром я с трудом вытащил себя из квартиры Елены и поплелся в дом принять душ. Я был слабым и дерганым и, стоя под горячими струями, надеялся выпарить токсины. Мы с матерью мучились похмельем по отдельности, договорившись не открывать подарки у елки, не пить эгног за завтраком и не есть пшеничные лепешки с топлеными сливками, что столько лет было нашей семейной традицией. Болью било от самых простых, обыденных вещей, и мать пряталась от этой боли под одеялом большую часть дня.
Я несколько раз звонил отцу Грегу и попадал на автоответчик, но сообщения не оставил. Сегодня Рождество – наверняка его пригласили в чей-то дом. Если его нет в приходе, кому мне еще звонить? Вряд ли Донован-старший захочет пообщаться, а если и захочет, я не знаю, как связаться с ним по телефону – как-то ни разу не пришлось.
Вспомнилось утро несколько недель назад, когда я в последний раз видел Донована-старшего. Из очередной длительной поездки по Европе он вернулся в пятницу, когда я уже лег спать. Наутро я встал поздно и застал его в кухне с очередной газетой. Рядом высилась аккуратная стопка уже прочитанных, а из стоявшей рядом пепельницы, истончаясь, вился дымок. На Доноване-старшем была полосатая пижама. Я сел напротив и взял секцию «Таймс», которую он уже отложил. Он откашлялся и глубоко вдохнул своими забитыми мокротой тяжелыми легкими.
– Добро пожаловать домой, – сказал я.
– Ага. – Он зевнул и потер лицо.
– Ты многое пропустил.
– М-да? Ну, я вселял надежду в европейцев. Нефть дешевеет, туристический бизнес разоряется, ВВП за последний квартал снизился и продолжает падать. Все до смерти напуганы и не желают раскрывать карты. Ну вот как можно спасти экономику, во имя Господа? Трудом, упорным трудом! Все всегда упирается в труд. – Донован-старший сердито взглянул на меня, будто рецессия продолжалась по моей вине.
Он был заспанный, взлохмаченный, под глазами багровые мешки. Седые волосы на груди курчавилась на лацканах пижамы. Он пододвинул кофейную кружку к краю стола:
– Не нальешь мне еще?
Я поднялся, взял с большого круглого стола термос, налил себе маленькую чашку и отнес термос на стол, поставив рядом с кружкой. Нахмурившись, Донован-старший налил себе кофе и пододвинул мне газеты:
– Твоя реплика.
В какой-то момент я понял, что, говоря: «Тебе пора начинать участвовать в общем разговоре», Донован-старший прозрачно намекал на то, что мне пора повзрослеть. Но тем утром, просматривая газетные заголовки, я задался вопросом, в каком же мире мне предстоит взрослеть: везде, куда ни глянь, что-то пугающее.
– Гнетущее впечатление, – сказал я наконец.
– Ты говоришь, как твоя мать. Все зависит от твоих намерений, почитай своего Ницше.
Я некоторое время слушал его натужный кашель.
– Не выспался? – спросил я.
– К некоторым кроватям трудно привыкнуть. – Донован-старший попытался отгородиться улыбкой, и я невольно подумал, что у него на уме. – Иногда я просыпаюсь в самолете и не помню, куда, черт побери, лечу.
– Ясно.
– Порой трудно вести правильный образ жизни.
– Ясно.
Мы начали пить кофе.
– Я уже не выдерживаю прежний темп.
– Ясно.
– Черт, я пытаюсь с тобой поговорить, прежде чем спустится твоя мать и заведет свою шарманку. Я хочу, чтобы ты кое-что знал. – Он потер лоб. – Мне всегда было важно, чтобы у меня был сын. Я пытался тебе передать… Мне очень нравилась эта роль… – Донован-старший оборвал фразу, потому что из стереосистемы по всему дому полились гитарные аккорды – что-то из классики. Он покачал головой: – Мне важно тебе сказать… Слушай, в ближайшие дни я не хочу никаких ссор. Давайте все будем помягче друг к другу, если сможем.
Я напрягся. Мы с ним мало общались с тех пор, как у меня начался учебный год, и впервые за всю жизнь он так настойчиво пытался со мной поговорить.
– Я скоро уеду, – продолжал Донован-старший. – Обратно в Брюссель.
– А, ну, это как всегда. – Мне в любом случае не хотелось больше его слушать. – Пойду вызову машину, мне сегодня на работу.
– Разве ты еще не научился водить?
– В этом семестре я не пошел на курсы, работы много.
– А совмещать не пробовал?
– Я не видел тебя больше месяца…
Он снова потер лоб.
– И чего ты ожидаешь от такого non sequitur?[2] Ты ведь еще даже не занимался этим вопросом! Ты принимаешь живое участие в деятельности прихода – это вызывает у меня искреннее восхищение. Это важно, ты это уже понял. Но давай соберем информацию, которой у нас еще нет. Есть ли в автошколе ранние, до школы, занятия? Есть ли частная фирма, которая согласится учить тебя по выходным?
– Не знаю.
– А! Вот и причина non sequitur. Я рад, что мы это выяснили. – Он отпил кофе. – Сколько в тебе все-таки от матери…
– Ладно, я на работу, – сказал я. – Добро пожаловать домой.
– Подожди. Я хочу, чтобы мы все остались сегодня дома, а то разбежимся – ты на работу, твоя мать по делам, и день закончится, не успеешь и глазом моргнуть. Появятся новые дела, и выходные потратятся ни на что. Не уходи сегодня, понял? – Он постучал пальцем по столу. – Пусть это идет вразрез с твоими планами, но мне нужна твоя помощь. Можешь сделать это ради меня?
Над кружками поднимался пар. Донован-старший достал новую сигарету – он курил одну за другой. Молчание надвигалось, как облако дыма, окутывая меня удушливым туманом.
В бытность свою в команде гребцов Донован-старший накачал себе такую спину, что до сих пор держался прямо. Когда мать с ним познакомилась, у него была осанка ее ровесника, но при этом твердость и опыт человека, покорившего бизнес. С возрастом Донован-старший стал более поджарым, но остался сильным, словно бы высох и окостенел.
– Я еду туда не по работе… или не только по работе, – сказал он наконец. – Ты еще мальчишка, но я скажу тебе то, чего ты не должен говорить матери. Сделаешь это для меня? Дай мне возможность доверять тебе, сын! – Я смотрел на него через стол. – В Брюссель я еду к женщине.
Наверное, в такие моменты полагается что-то делать, но я понятия не имел что. Я ничего не хотел делать, только хотел посмотреть, как он снова закашляется и будет кашлять, пока на глазах не выступят слезы и не вздуются вены на лбу.
Донован-старший поднялся и смял сигарету в пепельнице.
– Будь мужчиной, сын, держи это в себе. Осилишь? Считай это контрактом на праздники. Я сказал тебе об этом сейчас, потому что, помнишь, как я говорил о важности иметь сына? Не хочу кривить душой перед собственным сыном.
Я кивнул, и Донован-старший самодовольно улыбнулся, будто только что перевел слепого через дорогу.
Днем случился скандал. Донован-старший сказал матери, что уходит и не будет ни на вечеринке, ни на праздниках. И тут же уехал – даже раньше, чем собирался.
Старая сволочь, подложил мне свинью. Матери я ничего не сказал, но это было нелегко. «С высокой вероятностью сохранит доверенный секрет» – черт, это достижение тянет на высший балл в школьном ежегоднике. Подумать только, такой ценный навык – а я овладел им в два счета! Через несколько дней, по телефону, Донован-старший поделился своим секретом с матерью, и все наконец окончательно рухнуло.
Прошлым летом, когда мне некому было позвонить, я путался под ногами у Елены и, видимо, донял ее окончательно: она убедила меня стать волонтером в приходе Драгоценнейшей Крови Христовой. Она считала, я найду там кого-нибудь для общения и – что было для нее немаловажно – стану хоть немного ближе к Богу. Родители у меня были католиками чисто номинально, и в глазах Елены я шел по жизни без надлежащего религиозного руководства. В любом случае, работать в приходской общине полезнее, чем валяться дома на диване, ожидая, чтобы кто-то пробудил меня к жизни.
Начав работать в приходе Драгоценнейшей Крови Христовой, я стал чаще бывать на мессе. Наша семья была «католиками в культурном отношении», как однажды выразился Донован-старший, то есть мы посещали церковь разве что по большим праздникам. Конфирмацию и первое причастие я принял у отца Дули и знал важность обрядов и цель молитв, но на мессу ходил послушать не его, а отца Грега. Отец Грег не просто отбарабанивал положенные молитвы, как другие: прямо на ступеньках алтаря он выставлял кулак, чтобы я стукнул по нему своим, и говорил о божественной благодати в фильме «На дороге». Формально приход окормлял отец Дули, настоятель церкви Драгоценнейшей Крови Христовой, но когда мы выполняли ритуалы, испрашивали прощения за то, в чем согрешили, и прощали другим их прегрешения по отношению к нам, отец Грег создавал некий мостик от человека, которым я был, к человеку, которым я хотел стать. Веру, о которой в церкви говорили все, я нашел в ежедневных беседах с отцом Грегом: он слушал и этим возвышал меня.
Пустота в доме на следующий день после Рождества просачивалась и в меня: я казался себе опустошенным, полым. Найдя в холодильнике жесткие, заветрившие суши, оставшиеся с вечеринки, я съел их, усевшись на стол и читая «Франкенштейна». Легко было понять, почему чудовище искало друга – иначе ему пришлось бы жить в полном одиночестве. В конце концов я решил не звонить в приход и не искать отца Грега. Я съезжу туда лично и напомню ему о своем существовании.
Сегодня служили вечернюю мессу, и я подумал, что лучше всего найти отца Грега до службы. Вызванная машина доставила меня к началу аллеи, и я долго шел в гору, повторяя тридцать первый псалом, который читают в этот день. Я учил псалом уже некоторое время. Я не был алтарником и не принимал участия в богослужениях, но под влиянием отца Грега научился больше ценить обязательные ритуалы и надеялся, что небольшое добровольное домашнее задание задаст беседе нужный тон.
Дверь приходского дома захлопнулась за мной – тупой толчок эхом разошелся вверх и вниз по лестнице. Большой холл скупо освещался настенными бра и неярким светом зимнего дня, сочившимся в окна. Дверь кабинета отца Грега была закрыта, и я забеспокоился, что его нет. Я снял куртку и шапку и повесил их на стоячую вешалку. Из кухни, шаркая, вышел отец Дули. Старый, сгорбленный, он никогда не признавался, что ему трудно: ездил по городу на одной из приходских машин и решительно отказывался от помощи, кроме как в крайних случаях. Я подошел поздороваться и попытался помочь ему открыть металлические жалюзи на служебных окошках. Он жестом отогнал меня и поднял жалюзи изгибом своей трости.
– Что случилось? – спросил он, растирая и разминая пальцы с шишковатыми суставами. – Тебе сегодня не назначено.
– Назначено, – возразил я.
– По-моему, ты записан на следующую неделю. – Он перехватил мой взгляд на дверь отца Грега.
– Я думал, сегодня есть работа, – ответил я.
– Я знаю расписание. Сегодня у нас телефонный марафон по сбору средств. Приедут волонтеры из дома святого Иосифа.
– А отец Грег здесь?
– У него встреча, я его сегодня практически не видел.
– Можно с ним поздороваться?
– Пока он занят – нет, Эйден, и ты это прекрасно знаешь. – Отец Дули поглядел на кабинет отца Грега. – Его нельзя отвлекать. Жаль, что ты зря проездил…
– Я только что приехал.
– Знаю, знаю. Должно быть, какая-то путаница в расписании. Ума не приложу, что тебе сказать. Нам совсем некогда, я не могу тобой заниматься. Вот-вот приедут волонтеры, потом надо готовиться к сегодняшней службе. Извини, Эйден, но тебе придется приехать в другой раз, в то время, когда ты записан.
– Я подожду отца Грега, – настаивал я. Отец Дули колебался, и я продолжал: – Я могу помочь с марафоном или начну заносить в базу данных благодарственные письма. Он не будет против. – Моя машина уже ушла и вернется только через несколько часов, да и какого черта я буду делать дома? – Вы только скажите ему, что я здесь, а?
– Я не могу врываться без приглашения. – Отец Дули раздраженно засопел. – Эйден, мы заняты, ясно? Прости, но тебе придется отправиться домой. – Положив мне руку между лопаток, он подвел меня к вешалке, вручил мне куртку и шапку и тем же манером вывел в выстланный линолеумом тамбур. – Езжай домой, – сказал он мягко, но мне не понравились эти слова. Я не привык, чтобы меня выпроваживали из приходского дома Драгоценнейшей Крови Христовой.
Он потянулся к двери, но она распахнулась сама.
– Отец Дули! – На пороге стоял такой же пожилой человек, как наш священник. Он кутался в толстое пальто, шерстяная шапка натянута на уши. В дом ворвался ветер. За пришедшим тянулась цепочка престарелых мужчин и женщин, которые медленно брели от автобуса. – Надеюсь, у вас найдется горячий кофе, – сказал старик. – Нам не помешает согреться.
Отец Дули покивал:
– Как раз шел заваривать, Фред. – Он жестом велел мне отойти и пропустить Фреда, а сам, шаркая, поплелся в кухню.
С шапкой и курткой в руках я придерживал дверь для волонтеров. Один за другим они тащились мимо меня в большой холл. Со спины они казались стаей кошек в незнакомом доме: останавливались и с оглядкой ступали вновь – не угадаешь куда.
– Здесь темновато, – крикнула одна из женщин отцу Дули.
– Да будет свет! – Люстры вспыхнули. У дальней стены стоял улыбающийся отец Грег. Только его голос мог заполнить главный холл, взлететь к стропилам, и все равно ему было бы тесно. С серым сводчатым потолком и простой кухней сбоку приходской дом мог показаться безжизненным, если бы не был наполнен ожиданием этого голоса. – Войско прибыло, – продолжал он. – Готовы взяться за канительщиков? – Он потряс стопкой бумаг, которые держал в руке: – У них осталось пять дней, чтобы получить свои подарки и налоговые вычеты. – Он улыбнулся. – Даже те, кто живет на фиксированный доход, вправе требовать причитающихся поблажек. – Послышался приглушенный смех. Отец Грег подошел помочь старикам снять пальто и перекинуть их через спинки стульев, а потом пододвинул стулья к раскладным столам у пианино и музыкального центра. На столах в ряд стояли телефоны.
Я взял в кухне два складных стула и подошел к отцу Грегу.
– Можно, я помогу с обзвоном?
Он смотрел на волонтеров, рассаживавшихся вокруг столов.
– Да нет, необязательно.
– Но я хочу…
Отец Дули поставил на стол корзинку сдобных лепешек и выразительно взглянул на отца Грега. Тот вздохнул и снова повернулся ко мне:
– Не сегодня, Эйден. Мы и так справимся. Я не могу придумывать для тебя занятие.
– Что?
– Слушай, – резко сказал отец Грег, – почему бы тебе не подождать в моем кабинете?
Я подчинился. В кабинете горела только настольная лампа, и если бы это был нормальный, спокойный день работы с отцом Грегом, все бы вскоре закончилось и осталось бы время поговорить. Не было бы десятка голосов, задающих вопросы; звучал бы только мой голос или голос отца Грега, к чему я привык и чего жаждал. Но он в главном холле унимал пожилых волонтеров. Слыша, как он излагает стандартный текст предстоящих телефонных обращений, я смотрел на толстый персидский ковер. Отпечатки моих ног вдавились в узор, но поблекли, когда я пошаркал, и вскоре ковер сам вернул себе прежнюю яркость. В ожидании отца Грега я начал повторять тридцать первый псалом:
– Ты мне прибежище от скорби, охватившей меня; Радость моя! Избавь меня от окруживших меня. «Вразумлю тебя и наставлю тебя на этом пути, по которому ты пойдешь, устремлю на тебя очи Мои».
Войдя, отец Грег включил верхний свет и уселся в кресло за письменный стол красного дерева с фаской. Дверь он не закрыл – откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе.
– Хороший будет вечер, – сказал он. В его голосе не было радости. Я знал, что отец Грег задумал масштабную кампанию, и, сколько ни соберет сегодняшний телефонный марафон, это станет лишь бонусом. Он откинул голову и вытянул ноги. Хоть потолок рухни, он бы не дрогнул.
Я взглянул на открытую дверь.
– Я надеялся, мы сможем поговорить.
– Знаю, – ответил отец Грег. – Просто сегодня очень напряженный день.
– Мне не удалось позавчера попрощаться, – сказал я. Отец Грег снова сел прямо. – Я типа прогулял конец вечеринки.
– Все нормально, – отозвался он, и мы немного помолчали.
В холле волонтеры заучивали текст. Отец Грег улыбнулся мне спокойно, почти безучастно, будто ни о чем не думая. Я хотел рассказать, как холод рванулся мне в глотку, когда я кричал в темноте возле дома, в котором шел праздник, и что Джози, Софи и Марк теперь меня наверняка ненавидят и после каникул в академии начнется настоящая травля.
– Вы очень заняты? Я надеялся, вы уделите мне время.
– Очень занят, Эйден, я обязан там присутствовать. Это моя роль, вроде капитана команды приходских чирлидеров.
– Понятно.
– Тебе тоже есть чему радоваться, Эйден, – сказал отец Грег. – Год стал успешным с твоей помощью, в общем деле есть и твой вклад. – Выйдя из-за стола, он подошел к кулеру у дивана и вытянул из подставки пластиковый стакан. Присев на подлокотник дивана, вручил мне стакан воды. – Ты неординарный молодой человек, Эйден. Пора тебе в это поверить и повеселеть.
– Я веселюсь.
– А на вид не скажешь.
Я снова покосился на открытую дверь. Обычно мы закрывались в кабинете, и отец Грег доставал из ящика бутылку «Лафройга». Я уже привык видеть на столе бутыль с янтарным содержимым, подсвеченным настольной лампой, но сегодня все шло не так.
Мне о стольком надо было поговорить – и я не знал, что сказать. Я хотел, чтобы отец Грег вернулся за стол и нашел возможность посидеть со мной в тишине. На подлокотнике дивана он словно балансировал, готовый в любую секунду вскочить на ноги.
– Эйден, у нас будет больше времени. Я обещаю. Разве я хоть раз не сдержал обещания? – Я осушил стакан одним судорожным глотком. – С тобой все будет хорошо. – Отец Грег наклонился и неловко обнял меня одной рукой. Объятие все равно получилось крепким, и я позволил ему задержать руку, потому что, казалось, он этого хотел. – Тебе надо научиться доверять мне, Эйден, – сказал он, отодвинувшись.
– Я доверяю, – тихо ответил я, как и всякий раз, когда подтверждал свое доверие отцу Грегу.
– Ты должен полностью мне доверять. Все будет хорошо.
Я потянулся к нему, но он удержал меня и отстранился. В главном холле стоял гам, будто там галдел целый миллион волонтеров. Они пробудут здесь весь вечер, как на какой-нибудь треклятой вечеринке моей матери. Я думал, что захочу остаться, но теперь мне хотелось убраться отсюда ко всем чертям. Что-то было не так. Я хотел домой, но не конкретно в дом моей матери, а домой в принципе.
– Я должен заботиться о многих, Эйден, – продолжал отец Грег.
– Но вы говорили, что всегда найдете для меня время.
– Да, да. – Он взглянул на открытую дверь. – Ты заметно возмужал, Эйден. Внезапно и так быстро стал мужчиной. Я горжусь тобой, ты же знаешь.
– Но мне все равно одиноко.
– Мы говорили об этом, Эйден. Ты не одинок, в этом суть веры. – Я не ответил. Отец Грег вздохнул: – Слушай, давай потом поговорим.
Я сгорбился, поставив локти на колени, и уставился в пол между ботинками.
– Когда?
– Не знаю, надо проверить расписание.
– Меня уже нет в расписании. Пожалуйста, вы же обещали! Вы сказали, что всегда будете рядом!
– Я и так рядом. Мы поговорим, Эйден, обещаю.
– Когда?
– Надо подумать.
– Завтра! – гаркнул я.
Отец Грег схватил меня за локоть.
– Нет нужды кричать. – Он бросил взгляд на дверь. – Прекрасно, завтра, завтра, только прекрати этот крик и возьми себя в руки. – Я кивнул. Он встал и пересел за стол. – Я думаю, тебе пора идти, – сказал он, скрестив руки на груди.
Я хотел что-то ответить, но он жестом остановил меня и направил на меня палец.
– Эйден, – произнес он, глядя мне в глаза, – помни, что ты мне тоже кое-что обещал. Ты же не нарушишь свое обещание после всего, что я для тебя сделал? После всего, о чем мы говорили?
– Нет.
– Хорошо. – Он кивнул на дверь. Я колебался. Отец Грег молча соединил ладони и положил их на стол. – Не заставляй меня повторять, Эйден, – сказал он, глядя себе на руки.
Я тоже смотрел на его руки, и тут в холле послышался голос Синди, прокричавшей приветствие отцу Дули. Как обычно, она была настолько взвинчена, что втиснула в слово «здравствуйте» лишний слог. Отец Грег молча поднял на меня взгляд. Синди стукнула в открытую дверь и сунула голову в кабинет.
– Мы здесь! – крикнула она и растянула рот в улыбке. – Джеймс готов к своей первой мессе, правда, милый? О-о… Мы вам помешали?
– Нет, – тут же ответил отец Грег. – Вовсе нет.
– Отлично! – Синди подтолкнула Джеймса вперед и вошла следом. Ярко-голубой шарф и такие же туфли подчеркивали холодный блеск ее глаз. Моя мать называла ее «безудержной». – Давай, малыш, – обратилась она к Джеймсу. – Говори громче. Ты же готов? Расскажи, что выучил.
Джеймс изменился с тех пор, как я видел его в последний раз. По-прежнему ниже меня ростом, он еще больше похудел. Бледный, с резкими чертами гота-рокера и копной темных волос, он все же остался тем робким, дерганым мальчишкой, каким я его знал.
– А Эйден тоже помогает? – тихо спросил Джеймс.
– Нет, – ответил отец Грег.
– Сегодня чествуют святого Стефана. – Я взглянул на отца Грега. – Вы будете читать на мессе: «Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать или что говорить; ибо Святой Дух научит вас в тот час, что дóлжно говорить…»
– Эйден, – оборвал меня отец Грег, – хватит.
В комнате стало тихо. Я заучил псалом специально, чтобы произвести на него впечатление, но отец Грег лишь натянуто улыбался. Стоявшая позади Синди не видела его лица и прощебетала сыну:
– Видишь, милый? Только представь, скоро ты будешь не хуже Эйдена!
– Эйден, – сказал отец Грег, – извинись перед Джеймсом.
– Что?! Почему?
– Всезнаек всюду недолюбливают, к тому же ты ведешь себя высокомерно. Здесь церковь, Эйден, здесь полагается держаться так, чтобы каждый чувствовал себя желанным и уважаемым. – Он повернулся к Синди. – Простите мой тон, но иногда детям необходима дисциплина.
– О, святой отец, как я вас понимаю, – сказала она. – Слышишь, Джеймс? Слушайся отца Грега. – Она потрепала сына по спине и снова подтолкнула вперед. – Он вас не подведет. Он всегда хорошо справляется.
Отец Грег встал и проводил Синди и Джеймса к дивану.
– Пожалуйста, присаживайтесь, – пригласил он, заметно оживившись. – Эйден как раз уходит. – Он смотрел на меня с одной из своих улыбок, которыми сверкал на вечеринке. – У меня встреча с Синди и Джеймсом! Какой великий день! – Отец Грег хлопнул в ладоши, а потом, легонько подтолкнув в спину, выпроводил меня из кабинета. – Ну ладно, за работу, – сказал он, закрывая дверь. Я слышал, как он снова хлопнул в ладоши. – Ты отлично справишься, Джеймс! Давай повторим порядок церемонии – хочу убедиться, что ты все помнишь.
В холле престарелые волонтеры дремали над телефонами и кружками с кофе. Я знал чертов сценарий опроса лучше их всех, но никто не предлагал мне остаться. Даже в праздничном убранстве, со статуями, картинами и людьми, разместившимися на стульях или прислонившимися к столам, приходской дом казался холодным и пустым: пышность не могла скрыть эту безжизненность. Мне вспомнился наш дом – огромный кукольный домик, специально созданный для впечатления, что в нем существует нечто реальное, чего там никогда не было. Я не хотел дожидаться вечерни и смотреть, как Джеймс будет кадить ладаном и держать Библию, а отец Грег возденет руки в молитве и улыбнется ему, глядя сверху вниз. Молитва – священное доверие, говорил мне отец Грег, которого ничто не нарушит, если у меня будет вера. «Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас… И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется».
Я повторял это про себя, шагая в одиночестве по длинному покатому газону. Я не понимал, что же это за любовь, если ее так часто испытывают? Разве я не выдержал испытаний? Выдержал, и претерплю до конца, говорил я себе. Придется. Что еще мне оставалось?
Глава 3
Такси должно было забрать меня позже, но я не стал звонить и отменять вызов. Холодный ветер щипал лицо и глаза. Когда мимо проезжали машины, я старался не поднимать головы, чувствуя себя пятном на великолепном загородном пейзаже. Мне хотелось стать соринкой, от которой можно избавиться, просто моргнув. Я мог лишь догадываться, как выгляжу: согнувшись, я шел против ветра в надувавшейся за спиной куртке и с обветренным, в пятнах, лицом. Я так и слышал, как проезжавшие мимо люди спрашивают друг друга: «Кто это? Он здесь живет?»
Ну так вот, сорвите свои маски, потому что я один из вас.
Войдя в дом, я сбросил куртку, нашел что поесть на кухне и собирался просидеть остаток дня в своей комнате. Тем бы день и кончился, если б телефон не зазвонил, когда я еще был внизу. Я схватил трубку, думая, что это отец Грег звонит извиниться и хочет пригласить меня приехать после мессы, и повторит, что гордится мной, и скажет, что, если человек протягивает руку помощи ближнему, он привносит Бога и в свою, и в его жизнь, и от этого становится лучше обоим.
Но в трубке послышался не голос отца Грега. Звонила Джози, и я не сразу опомнился. Я вдруг смутился, не зная почему.
– Весело проводишь праздники? – спросила она.
– О да, – ответил я.
Она колебалась.
– Скажи, подстава? Столько готовиться, ждать, а где веселье, в котором я, по идее, должна купаться?
– Да.
– Боже мой, мама, ну можно не слушать? – Джози задышала громче, когда пошла искать новое уединенное место в доме. Я ждал. – Мне, кстати, у вас понравилось, – сказала она наконец.
– Мне тоже.
– Это все мамаша Марка – психанула на ровном месте и заставила нас уйти по-английски. Даже выпить толком не успели. В общем, мне досадно, как все закончилось. И с тобой не попрощались.
Слушая ее, я вышел из кухни и направился в кабинет Донована-старшего.
– Это ж круто, – сказал я.
– Да не особо. Круто было то, как ты разрулил ситуацию: невозмутимо стоял и принимал огонь на себя. Мы ничего не сделали, застыли, как дураки. Дома я только и думала: ну как я так могла? Я полный отстой. – Я замер с трубкой в руке, не веря своим ушам. – Кроме шуток, – продолжала Джози, – ты даже не оправдывался. Сперва мне это показалось странным, но потом я поняла: ты решил взять вину на себя.
– Но это и была моя вина…
– Але! Спустись с небес на землю! Мы все вместе были!
– Я думал, ты скажешь – с дуба рухнул?
– Иисусе, как ты циничен!
– Слушай, – я, старался говорить как можно мягче, – по-моему, я не сделал ничего особенного…
– А по-моему, сделал, – перебила Джози. – Я считаю, это было круто. И держался ты круто.
Этими словами она словно дотянулась из телефона и погладила меня кончиками пальцев по подбородку. Весь разговор я мерил кабинет шагами.
– Спасибо, – только и выговорил я.
– Мне стало стыдно за мой снобизм, – Джози понизила голос, – и только потом до меня дошло, что из-за нас ты серьезно попал.
– Ну, это маловероятно. Мне пока ничего не предъявили. Вспомни заговор молчания между тобой, Марком, Софи и мной. Типа немой, глухой, слепой и еще тупее.
Смех Джози в телефоне показался мне дружескими объятьями:
– Я рада, что ты в порядке.
Секунду мы оба молчали, слышалось только ее дыхание. Я представил, как Джози проводит рукой по волосам и думает. Я отчетливо видел ее склоненную голову и линию шеи, которую так хорошо изучил на уроках мистера Вайнстейна. Я ждал.
– Слушай, – сказала она, – с сегодняшнего дня я решительно пересмотрю свои планы на новый год. Я решила стать немного человечнее. Это трудно, когда вокруг сплошные стервы, но я буду стараться. Я не хочу быть, как они. Хочу быть другой, понимаешь?
– Да, я понимаю, о чем ты. Я тоже хочу стать другим.
Возникла пауза.
– Так ты это, слушай, мы с Софи хотим позвонить Марку и собраться. Хочешь прийти?
Вот так у меня неожиданно появились планы на вечер. Не волонтерство, не задание и не какое-нибудь хорошо организованное праздничное несчастье, устроенное матерью, – у меня появились планы куда-нибудь сходить, как у нормального парня моего возраста. Меня пригласили. Джози предлагала спуститься с небес на землю, и я гадал, какие они, когда собираются втроем, – какие они настоящие? Для школы у меня был свой сценарий поведения: я мог говорить о домашнем задании или книгах, которые мы читали, или о геометрии, но никогда не упоминал, что теоремы свиваются и переплетаются у меня в голове, как косички, которые Джози иногда себе накручивает. Я никогда не говорил ей, что это замечал. Может, об этом и надо сейчас говорить – что я реально замечаю? Я очень хотел спуститься на землю, но что они во мне увидели? Каков я настоящий? Прежде я только об этом и мечтал, а теперь меня вдруг одолели сомнения.
Вскоре за мной заехали Джози и Софи, и мы отправились домой к Джози. Руби, экономка, сварила горячий шоколад, пока мы ждали Марка. Хотя мы дружили семьями, я ни разу не бывал в одной компании с Марком. Насколько я знал, он, как и я, не общался накоротке с другими ребятами из академии, но его тщательно культивируемая отстраненность создавала впечатление, что ему никто и не нужен. Сейчас меня это еще больше восхищало.
Не постучав, Марк вошел в кухню, чмокнул Руби в знак приветствия и поцеловал Софи и Джози.
– Донован согласился? – спросил он девочек, увидев меня. – Рад снова тебя видеть, чувак, – сказал он мне, протягивая руку, которую я пожал.
– Извини за тот раз, – сказал я.
– Чувак, – перебил Марк, – это моя мать психанула. Давай даже не будем говорить об этом.
Джози вывела нас через черный ход, откуда тянулась дорожка к домику у бассейна, расположенного выше по холму. Мы включили стерео и расселись вокруг барной стойки. Марк встал за стойку, живо соорудил косячок, раскурил его и пустил по кругу. Джози заставила нас выдыхать в маленькую картонную трубку, набитую салфетками с антистатиком.
Я мало говорил с тех пор, как пришел. После первых затяжек Софи и Джози увлеклись приватным разговором, Марк за стойкой играл с диспенсером для содовой, поэтому я включил телевизор. Стоя в двух шагах от экрана, я переключал каналы. Было что-то приятное в том, как люди появляются и исчезают по моей команде. Вдруг из телевизора в нас вперился угрюмый, испуганный Джон Уокер Линд: этот стоп-кадр показывали все каналы новостей после того, как в декабре Линда поймали при попытке побега через тоннели Тора-Бора. На измазанном сажей и заросшем жидкой бородой лице его глаза казались очень светлыми. В уголках рта таилась усмешка. Все уже знали, что Линда с пулей в бедре поймали в горах Афганистана в какой-то норе, куда он зарылся, как крот, – беспутный американец, воевавший за Талибан. Он смотрел с экрана, словно ожидая, когда до меня дойдет эта шутка.
– Во дебил, – сказал Марк из угла.
Я обернулся.
– Не ты, Донован, – засмеялся он, – а этот козел Линд.
– Не знаю, – сказала Джози. – В нем есть что-то жалкое…
– Выключи, – заныла Софи. – Он похож на монстра.
– Он просто испуган, – возразила Джози. – Мне так кажется.
– Боже. – Софи указала мне за спину. – Теперь еще эта дура. Неужели она даст развод Майклу Джордану?
– То есть Майкл Джордан освободился? – спросила Джози, и девушки засмеялись. Новости уже переключились на очередную сенсацию: нет времени медлить, задавать вопросы, анализировать и углубляться – дальше, дальше, дальше, переходим к следующему сюжету.
– Выключи, чувак, – попросил Марк и взял пустой косяк. – Давай забьем по новой.
Я выключил телевизор и подошел к бару.
– По-моему, этот Линд думал, что поступает правильно, пусть это и не так, – сказал я.
– Ну, теперь в его честь назовут тюрьму, – заявил Марк, раскуривая косячок.
– Не смешно, – отрезала Джози.
– Господи, хватит уже о нем, – надулась Софи. – Нашли тему!
Марк глубоко затянулся, а когда Софи подала ему трубку, чтобы выдохнуть, отмахнулся, перегнулся через стойку и посмотрел Софи в глаза. Она хихикнула и подалась вперед. Они поцеловались – дымок вился из их приоткрытых ртов. Наконец Софи оторвалась от губ Марка и выдохнула в трубку.
– А чего добру пропадать? – сказал Марк, поднял руку над головами девушек и ударил по моей ладони. Софи взяла косячок и тут же приникла к губам Джози, которая вскоре выдохнула через трубку маленькое сизое облачко.
– Круто? – спросил Марк. Я кивнул с бьющимся сердцем.
Джози взглянула на меня.
– А ты хоть раз пробовал такой ресайклинг? – спросила она.
Я вообще не курил травку, просто не афишировал этого. Со спиртным и таблетками проще, они есть в каждом доме. Я замялся с ответом. Джози, затянувшись, привлекла меня к себе. Дым попал мне в рот, следуя за ее языком, который нежно потрепетал внутри и выскользнул. Я задержал дыхание и попытался улыбнуться, хотя этот дым был заметно резче табачного. Мне даже показалось, что внутри меня сейчас что-то взорвется. Сколько раз я разглядывал затылок Джози и гадал, каково быть близким с кем-то настолько красивым? А сейчас еще и она смотрела на меня. В глазах защипало. Я замер, шея и плечи напряглись. Спустись с небес на землю. Что видит Джози? Во мне столько Эйденов, один в другом, как русские матрешки, и ни одного из них я не хотел бы ей показывать. Я выдохнул в трубку и закашлялся.
– Хорошо пошло. Когда кашляешь, значит, балдеешь, – похвалил Марк. – Кстати, даже не парься, – добавил он, обращаясь к Джози. – Поделом твоему Дастину.
– Дастину? – переспросил я в надежде сместить с себя фокус всеобщего внимания.
– Да, я с ним типа встречаюсь пару недель, – пояснила Джози.
– Тот самый, который «Доверяйте Дастину»? – спросил я.
Софи и Марк засмеялись.
– Ну, придумано не очень, но он же победил!
Джози была права, но Дастина выбрали представителем от одиннадцатых классов только потому, что вся бейсбольная команда на ушах стояла, добывая для него голоса.
– Он же не узнает обо всем этом, – улыбнулась мне Джози. – Ясно?
Я кивнул.
– Вот и прекрасно, – сказала она и перевела взгляд на Марка. – Твоя очередь.
– Нет, это слишком круто, – возразил я, взглянув на Марка. – Может, пойдем в обратном порядке?
Марк, криво улыбнувшись, прислонился к полкам за барной стойкой.
– Так нельзя, – возразила Джози. – Надо по кругу.
– Правильно, – поддержала Софи. – Девчонки так все время делают, а вы чего капризничаете?
– Да так, – сказал я.
Софи и Джози запротестовали. Марк, развеселившись, смотрел, как мы препираемся. Во мне возникла и росла тупая боль – я не смел поднять взгляд на Марка. Собственное тело казалось мне машиной. Я сделаю все, что прикажут. Не просите только проявлять инициативу, просто поцелуйте меня, и я отвечу. Поцелуй – пустяк. Подумаешь, поцеловаться. Меня страшило то, что последует за этим поцелуем. Я не хотел двигаться, но мне очень хотелось поскорее закрыть дебаты, пусть даже поцеловавшись с Марком, чтобы нас снова объединило ощущение большого секрета маленькой компании. Мне так хотелось, чтобы все шло гладко – и меня бы не выгнали из этого уютного кружка.
– Что-то ты напрягся, чувак, – наконец сказал Марк. Девушки засмеялись.
– Ничего подобного, – возразил я. Я колебался, а они смотрели на меня. – Кажется, меня торкнуло. Что от меня требуется?
– Слушайте, расслабьтесь, – сказал девушкам Марк. – Вы неправильно делаете. – Он шагнул вперед, оттолкнувшись от полок, и показал на косяк в моей руке: – Затянись, пока не погас!
Я так и сделал, и, когда дым наполнил мои легкие, Марк за воротник рубашки подтянул меня к себе через стойку, рывком прижал меня к своим губам и неожиданно открыл мне рот. Дым вырвался наружу. Марк втянул его, отпихнул меня назад, потряс в воздухе кулаком и выдохнул в трубку, подняв ее вверх. Его губы были сухими и твердыми, и я не понял, ждал ли он, что я отвечу на поцелуй. Не могу сказать, хотел я этого сам или нет. Меня пронизывало гудящее электрическое возбуждение, но я не знал, ощущал ли Марк что-то подобное: вид у него был невозмутимый, сосредоточенный, лицо будто высечено из камня. Я покрылся потом. Все взгляды были устремлены на меня – испытующие, пристальные, все глаза в комнате и во всем городе надвигались на меня, замирая у окон гигантскими птицами в ожидании удобного момента, чтобы пробить стекло и нанести удар.
– Как я уже сказал, – ухмыльнулся Марк, – чего добру пропадать, это же трава класса премиум! Не каждый день удается достать такую травку из Колумбии. – Он снова поднял руку, и я машинально шлепнул по ней, ощутив головокружение, смешанное со страхом.
Софи и Джози засмеялись. Комната медленно поплыла.
– Смакотура, – промямлил я. – Ага.
Марк и девушки засмеялись. Я надеялся, они не заметят, что меня трясет. Мокрый от пота, я схватился за барную стойку. Этого я и хотел, уговаривал я себя. Другой жизни. Надо держать себя в руках: если раскроется одна матрешка-Эйден, то же произойдет и со следующей, и я буду терять оболочку за оболочкой, пока взглядам Марка и девчонок не откроется невзрачная крошечная крупица, таящаяся в самом центре. Раньше я не думал о себе как о существе с колодцем мрака внутри. Не хотел об этом думать. Я мешком осел на барный стул и через силу громко рассмеялся смехом «ну, кто такой храбрый, что посмел усомниться во мне», копируя отца Грега.
– Ты что, накурился? – спросила Софи.
– Да, – ответил я.
– Ну и хорошо, – сказал Марк. – Расслабься под кайфом. Добро пожаловать в клуб.
Мы снова ударили ладонью о ладонь, на этот раз, похоже, искренне.
Джози отобрала у меня косяк и раскурила его. Я не знал, полагалось ли мне придвинуться к ней, и она это понимала. Она покачала пальчиком, схватила трубку и дунула прямо на меня через салфетки цвета дерьма. Дым завитками обвил мне лицо. Джози зашла за стойку к Марку.
– Знаете что? – сказала она. – Мой папаша следит за баром, как ястреб, но мы можем отлить немного водки, а в бутылку долить воды. Держу пари, он не догадается.
– Я пить не буду, – сказал Марк. – Мне сегодня еще с родителями общаться. Они устраивают очередной семейный вечер, что бы они под этим ни понимали, черт побери.
– Ты же только что курнул, – удивилась Софи.
– Это другое, – ответил он.
– У тебя все другое, Марк, – заметила Джози.
– Я выпью, – сказал я Джози.
– Точно?
– Точно. Обещаю на этот раз ни на кого не плевать.
Джози захохотала, а за ней и Софи. Я надул щеки и стал дурачиться, а Софи притворилась, что я ее опять окатил. Она так хохотала, что у нее выступили слезы.
Мы выпили, и день заволокло туманом, иногда разрываемым смехом Джози и Софи. Они не успевали сказать друг другу и нескольких слов, как тут же начинали корчиться от смеха и не могли успокоиться. Меня словно подхватило и понесло: я еще нервничал, не вполне освоившись, и гадал, не надо мной ли они смеются, но начинал чувствовать себя своим в их компании.
Я старался не смотреть Марку в глаза, но во время общего разговора он держался совершенно спокойно, все с той же недружелюбной улыбкой, которую я привык видеть в школе, хотя менее отстраненной, чем обычно, будто его насмешка не была адресована мне, а наоборот, делала меня своим. Позже, сочтя, что ему пора домой, Марк предложил мне составить ему компанию.
– Я договорилась встретиться с Дастином, но могу и пропустить, – сказала Джози. – Не ходи ты на свой «семейный вечер», – обратилась она к Марку. – У нас свои дела. Смотри, собрался идеальный квадрат!
– Ничего идеального в природе не бывает, – возразил Марк. – Так мой отец говорит. Считать что-то идеальным – признак лени, когда не хочется работать над совершенствованием.
– Как это понимать, черт возьми? – спросила Софи.
– Никогда не успокаивайся на достигнутом, вот как. Только не начинай. Остынь, ясно? В прошлый раз я возразил в его присутствии – не ему, а всего лишь при нем – и заработал чертову тираду.
Джози и Софи по очереди обняли Марка. Я поцеловал Софи в щеку и потянулся к Джози. Она взяла меня за руку.
– Ты же придешь на Новый год? – хихикнула за ее спиной Софи. Странно, но я вдруг обрел уверенность в себе и на прощанье поцеловал Джози в губы. Она ответила на мой поцелуй и улыбнулась.
Марк положил руку мне на плечо.
– Он пойдет со мной, – сказал он. Мы повернулись, чтобы уйти. – Будет интересно, – тихо добавил он, обращаясь ко мне. – Там будет Дастин.
Мы вышли с черного хода и срезали дорогу вдоль низкой каменной стены с маленьким деревянным щитом. Марк вынул из кармана косячок с марихуаной, и мы по очереди затянулись. Докурив, снова пошли вдоль стены и оказались на улице, проходившей по холму за домом Джози.
– Хорошо, когда второй парень в компании, – произнес Марк через некоторое время. – А то все я да девчонки.
– Это ж круто!
Марк засмеялся.
– Я не то имел в виду. Я только говорю – хорошо, когда рядом еще один парень. Идеальный квадрат. Мне нравится.
– А мне-то как нравится, – подхватил я. – Ясное дело.
Он снова засмеялся.
– А ты ничего, Донован. Очень даже ничего. – Он покачал головой, улыбаясь, и я не знал, что еще сказать.
Мы шли молча. Я был как в тумане – все ломал голову, что это сегодня было и как, черт побери, меня туда занесло. Мы спустились по холму мимо последних девяти лунок загородного клуба «Стоунбрук». В городе снег растаял, но на поле для гольфа у песчаных ловушек еще остались заносы. Солнце пробивалось сквозь облачную пелену, и тогда твердая корка наста загоралась искрами.
Спустившись с холма, мы обошли загородный клуб с другой стороны и вышли к коротенькому мосту совсем недалеко от залива. Отсюда нам нужно было идти в разные стороны, но Марк словно бы уже и не спешил домой.
– Так что там с этим вечером? – решился я.
– Ну, вечер обещает быть. Новый год под пиво у Фейнголда. Там все будут, нельзя не показаться. В этот раз схожу, но вообще я такие мероприятия стараюсь пропускать. Полная фигня. Соберутся, а никто друг с другом не разговаривает, будто все не по-настоящему. – Он помахал перед собой ладонью. – Прости, чувак, я что-то накуренный.
– Нет, – возразил я, – ты прав. Может, все просто слишком боятся?
Марк взглянул на меня:
– Чего?
– Не знаю. Всего. Может, все притворяются, потому что не умеют иначе?
– То есть они разучились себя нормально вести? – уточнил Марк. – Это удручает.
– А ты предложи им сбросить чертовы маски, – сказал я. Странно было говорить об этом как бы между прочим. – Не получится у них, согласен?
Марк смотрел в реку, и я тоже перевел взгляд на воду. Куски льда и мертвая листва выплывали из-под моста и неровными траекториями уносились в залив.
– Зато мы можем, – сказал он. – Мы настоящие.
Я кивнул, но ничего не ответил, привычно замкнувшись. Иначе нельзя. Я боялся говорить дальше из страха сказать что-нибудь лишнее. Мы помолчали. Марк положил мне руку на плечо.
– Чувак, мне пора двигать, я совсем опоздал.
Мы сцепили согнутые пальцы, и каждый прижался плечом к груди другого, как спортсмены в телевизоре.
От моста Марк пошел в другую сторону. Я не торопился, надеясь, что действие травки выветрится и меня отпустит раньше, чем я явлюсь домой. Я стоял на мосту, глядя на черную гладкую полосу реки, уносившейся в океанский залив. Я думал о языке Джози и ее бьющих электричеством губах, о голосе Марка, раздающемся из волевого рта, о смехе Софи. Мысленно я соединял эти части в дробящиеся изображения, как на картинах Пикассо, смещал и перетасовывал в новую мозаику, как цветные стеклышки в калейдоскопе. Я передвигал фрагменты – языки, губы, пальцы, пытаясь понять алгоритм, потому что это же больше, чем просто секс, верно? Видимо, когда тела соединяются, возникает мост к чему-то более глубокому и значительному, сочетание частей ради появления нового, более полного целого. Вот взять дыхание: это не просто вдох и выдох, а единый взаимодополняемый феномен. Я только этого и хотел – стабильности, цельности, уверенности, что любой страх можно прогнать, что одиночество – болезнь, отступающая, если чей-то выдох становится моим вдохом, и что вместе ни один из нас не будет чувствовать себя одиноким.
Стоя на мосту, я все сильнее ощущал тошнотную дурноту. Я только хотел, чтобы мне сказали: все будет хорошо. Я могу отдавать, отдавать и отдавать, идти, идти и идти, но я же буду бродить бесцельно без дорожной карты, где написано: «Эйден, иди вперед, затем поверни направо, затем налево, снова налево, и ты окажешься там, куда хочешь попасть». Не это ли обещал мне отец Грег? «Благой дом», обретение покоя? «Об этом тебя просит наш Господь, Эйден. И я тебя об этом прошу. Ш-ш-ш, ш-ш-ш, скоро тебе будет гораздо легче. Скоро все наладится. Ты узнаешь любовь. Это любовь, Эйден. Это любовь».
Глядя в реку, я слышал этот успокаивающий голос, отдававшийся в ушах бесконечным убаюкиванием. Иногда из-под моста выплывала узкая льдина и скользила по воде, скрываясь в темной дали. Я не мог связно мыслить и сосредоточиться. Я хотел знать дорогу, хотел научиться видеть себя и говорить: «Да-да-да, это я», но мысли наплывали одна на другую, и я не мог разобраться в этом хаосе.
Глава 4
– Все важное в жизни требует веры, – сказал мне однажды отец Грег. – Иисус не превращал камни в хлеб, когда изнывал от голода в пустыне, и не бросался с крыши храма, чтобы доказать, что он сын Божий. Он знал, что сможет выжить на вере, а не на хлебе и что ему не надо испытывать крепость своей веры, чтобы верить в это. Ты должен верить в меня, Эйден. Ты должен верить, что я тебя люблю. Все будет хорошо, если ты будешь верить в любовь между нами. Любовь – это проявление Бога на земле.
И я верил. Я верил ему. Я продолжал ему верить, когда в сентябре он единственный вручил мне открытку на день рождения, когда подарил мне фотографию витража в Англии с изображением святого Эйдена, и когда он разорвал чистый носовой платок, чтобы каждому из нас досталась половина, в тот день, когда у нас был насморк, и когда я смеялся, потому что он меня смешил, и когда он сказал мне, что рано или поздно настроение у меня поменяется, и когда я плакал, а он обнимал меня, не говоря дежурных слов вроде «не плачь» или «береги себя». Я верил ему, когда он говорил: «Ты мне небезразличен» и что немного поплакать – это нормально, ведь это дает ему возможность еще больше заботиться обо мне. От отца Грега исходило странное, болезненное притяжение.
Я был уверен: мы договорились, что я приду на следующий день после того, как он выставил меня из своего кабинета (в первый раз), и не хотел его разочаровать. Я вышел раньше, чем накануне, и снова такси отвезло меня в приход Драгоценнейшей Крови Христовой, и я просил шофера приехать за мной вечером. По дороге я думал, что скажу отцу Грегу. Я хотел рассказать о Джози, Марке и Софи – и не хотел начинать этот разговор. Получается, у меня появилось что-то, с чем можно было сравнивать, и это пугало все больше и больше.
Свет в приходском доме был приглушенный, стояла тишина. Дверь на кухню была притворена, в большом зале ни души. Оставшееся от вчерашнего телефонного марафона сгребли в дальний угол: плакат на мольберте с изображением школьного здания был исчеркан резкими линиями, означавшими увеличивающиеся суммы пожертвований. Наверху зеленым маркером почерком отца Грега было крупно выведено: «Школа Святого Филиппа теперь реальность».
По контуру двери в кабинет отца Грега пробивался свет. Дверь к отцу Дули была открыта, и оттуда слышался его негромкий бубнеж в телефонную трубку. Я не хотел проходить мимо его кабинета, опасаясь, что он меня увидит. Отец Грег знает, что я должен прийти. Даже если я не постучусь, он знает, где меня найти. Я повернул обратно, к лестнице в подвал.
Спустившись, я оглядел в тусклом свете трещины и вздувшиеся от сырости пузыри на стенах коридора, ведущего на склад. Серая металлическая складская дверь выглядела массивнее, чем была на самом деле, и я вдруг подумал, что никогда еще ее не открывал. Это всегда делал отец Грег. Внутри на проводе раскачивалась голая лампочка, отбрасывая желтоватый ореол; слабый свет доходил только до верстака посередине. Под верстаком светилась оранжевая спираль обогревателя, и я понял – отец Грег сюда спустится. Он так уже готовил это помещение и раньше. Он не оттолкнет меня снова.
В темном углу забормотал бойлер. Под потолком тянулись уютно постукивавшие и шипевшие трубы. Сняв куртку и шапку, я подошел к маленьким зарешеченным оконцам у дальней стены, выходившим на канаву вдоль приходского дома. Они едва пропускали дневной свет в эту импровизированную мастерскую. Другие мальчики моего возраста высунулись бы из такого окна и захотели съехать по длинному обледенелому склону холма на подносах из столовой, но я ждал, пока глаза привыкнут к полумраку подвала. Я предпочитал находиться здесь – мне нравился холодный умиротворяющий сумрак. Трубы наконец успокоились, и тишину нарушало лишь зуденье обогревателя. В виде исключения сейчас от меня требовалось ничегонеделание. Он скоро спустится, и больше мне никуда не придется идти.
Я так и стоял под окнами, в тени металлических полок, когда услышал звук открываемой двери. Я прижался к стене, спрятавшись за стеллажом на случай, если пришел отец Дули, но с облегчением услышал голос отца Грега. Однако он с кем-то разговаривал. Они подошли к верстаку, и, хотя их не было видно, я понял, что он привел сюда мальчика моложе меня.
– А сюда можно? – спросил мальчишка.
Отец Грег засмеялся. Я услышал глухой удар по верстаку и звяканье бокалов.
– Нужно, – ответил он. – Только помни, это строго между нами. Другим об этом говорить не надо. Никто больше не должен знать, ни одна живая душа.
– Я понял, – сказал мальчишка, и я узнал эту робость, почти пришибленность. Джеймс, восьмиклассник, сын Синди.
– Вот что пьют настоящие мужчины, – произнес отец Грег.
– Это и я могу выпить, – сказал Джеймс.
– Я знаю.
– Но мне как-то не очень.
– Давай, не трусь. Я с удовольствием выпью с тобой.
– Нет, я чувствую себя не очень, вот и все.
– Да в порядке ты!
– Нет. Можно я пойду?
– Здесь никого нет, – настаивал отец Грег. – Тебе нечего опасаться. Все нормально. Тебе нечего бояться, когда ты со мной.
– Я себя плохо чувствую, – повторил Джеймс. – Извините. – Возникла пауза, и вслед за тем звук резко поставленного на верстак бокала. – Нет, – умолял Джеймс. – Пожалуйста.
– Все нормально, – повторял отец Грег. – Все нормально.
Оттуда, где я стоял, ничего не было видно, но в этом и не было необходимости. Я знал, что отец Грег сейчас наливает в два бокала скотч – себе побольше, Джеймсу поменьше. Даже не подходя ближе, я знал, как пахнет сейчас его дыхание, узнавал исходящий от его тела жар, знал, что скоро его дыхание опалит плечо, горячим ветром поднимется по шее к уху и задержится там, так что невольно задашься вопросом, иссякнет ли оно когда-нибудь или нет.
– Мы же об этом говорили, – увещевал Джеймса отец Грег, и при звуке гладко катившихся знакомых слов меня сковал такой страх, какого я не знал с тех пор, как отец Грег впервые сводил меня в подвал. – Отчасти поэтому то, что происходит между нами, становится таким особенным. Это должно остаться строго между нами, Джеймс, это важно. Ты же не хочешь, чтобы у нас это отняли, а?
– Нет.
– Ты мне небезразличен, Джеймс. Я не хочу тебе навредить. Ты же не хочешь, чтобы кто-нибудь навредил мне?
– Нет.
– Ш-ш-ш, – послышался шепот отца Грега. – Я тебе помогу, вот увидишь. Ш-ш-ш.
Я съехал спиной по стене и подтянул колени к груди. Я прижал к ушам кулаки и зажмурился, хотя все равно не мог ничего разглядеть. Мне необязательно было смотреть – я знал, как объятия отца Грега поглощают тебя, выжимая воздух, пока дыхание не становится чем-то, что ты даешь и ему. Отец Грег был вдвое больше Джеймса. Я знал, какой насыщенный телесный запах сгустился сейчас вокруг Джеймса. Я знал, как пережить это молча, и сжался в комок, пока это продолжалось. Я ничего не слышал, кроме голоса в своей голове, голоса отца Грега, говорившего мне: «Это тоже часть любви – это любовь, наша любовь, любовь между мной и тобой».
В моих глазах стояли слезы. Когда они наконец начали читать «Отче наш», я тоже повторял слова молитвы – про себя. Отец Грег заставлял Джеймса повторять до тех пор, пока тот не стал произносить фразы отчетливо и громко, с напором, будто веря в каждое слово или по крайней мере успокоившись. Затем все стихло. Отец Грег выключил обогреватель и свет и повел Джеймса наверх со словами, которые я столько раз слышал.
– Помни, Джеймс, все это касается только нас с тобой. Никто не должен об этом знать.
Я сидел на корточках в темном углу за стеллажом, и слезы катились по моему лицу. Я ненавидел Джеймса, а ведь это даже не была его вина – я слышал, как он говорил «нет». Его «нет» отдавалось во мне эхом.
Я не произнес этого слова летом, когда отец Грег повел меня в подвал к верстаку и предложил тот первый глоток скотча. Я позволил ему подойти вплотную, закрыл глаза и ушел глубоко в себя. Большой палец отца Грега надавил мне на кадык, и я подумал, уж не собрался ли отец Грег прямо тут оборвать мою жизнь, как вдруг его лицо засветилось от удовольствия, и я почувствовал себя странно – неожиданно важным от сознания, что это я доставил ему это удовольствие. Я мирился с этим снова и снова, пока это не стало казаться вполне обычным.
Я сидел, слыша, как стучат мои зубы, пока в узком оконце у меня над головой не мелькнул свет фар. Я не представлял, сколько просидел в подвале. С парковки раздался сигнал, и я понял, что это за мной. Меня корежило при мысли о том, что придется сесть в машину и разговаривать с водителем, но надо было выбираться отсюда к чертовой бабушке. Машина снова просигналила.
Сжимая куртку и шапку, я побежал к двери. От толчка она распахнулась, гулко ударившись в кирпичную стену, и эхо разлетелось по лестничной шахте. В коридоре было темно, но с первого этажа проникал свет. Я перемахивал через две ступеньки, но на площадке остановился как вкопанный.
Отец Грег стоял у двери, ведущей на парковку, придерживая ее рукой. В темноте я хорошо видел фары фирменного такси, стоявшего перед церковью. С парковки донесся голос, но говоривший был слишком далеко, чтобы разобрать слова.
– Нет, мне очень жаль, – громко ответил отец Грег. – Он сегодня не приходил. – Он обернулся. Его массивная фигура закрывала почти весь проем. Он был в шерстяной вязаной шапке и фланелевой рубашке без своего белого воротничка. Пальто было расстегнуто. Он пристально посмотрел на меня, секунду поколебался и громко повторил в открытую дверь: – Нет, его сегодня точно не было. Извините, что ничем не могу помочь. – Отец Грег помахал шоферу. – Всего наилучшего. С Рождеством!
Он плотно прикрыл дверь и щелкнул замком.
– Эйден? – Его глаза были красны, он тяжело сопел. – Ты меня до смерти напугал. Ты же не должен был приходить сегодня! – Я молчал. – Что ты здесь делаешь? – спросил он. – Ты был внизу?
– Вы сказали водителю, что меня здесь нет. Вы меня видели. Вы смотрели прямо на меня.
Отец Грег скрестил руки на груди.
– Успокойся, – сказал он и поскреб подбородок. – Нам надо поговорить. Я сам отвезу тебя домой.
– Нет, – тихо сказал я.
Отец Грег выпрямился.
– Поговорим у меня в кабинете.
– Я хочу уйти, – сказал я громче.
Отец Грег расслабил плечи, стянул вязаную шапку и сунул ее в карман пальто. Пальцами пригладил волосы, расправляя спутавшиеся пряди.
– Эйден, не надо так. Ты же знаешь, с кем ты говоришь.
– Нет, – повторил я и взглянул через плечо на главный зал. Там была кромешная темнота, только широкая полоса света падала из кабинета отца Грега.
– Таксист сказал, он привез тебя днем. Ты здесь целый день? – Он потер лицо и вздохнул. – О’кей, ладно. Успокойся. Успокойся, Эйден. Успокойся. – В его голосе слышались свист и хрипотца от спиртного.
Говоря, отец Грег подходил ко мне, и не успел я двинуться, как он схватил меня за руку. Я дернулся, но не смог вырваться. Он привел меня в свой кабинет и закрыл дверь.
– Присядь.
– Я не желаю больше здесь находиться.
Отец Грег сбросил пальто и забрал у меня куртку и шапку.
– Слушай, – сказал он, перекинув их через спинку своего стула, – ты успокойся. Давай поговорим.
Он подвел меня к дивану, но я не желал садиться и водил большим пальцем по матовым медным гвоздикам, набитым вдоль шва на подлокотнике. Святой Августин взирал на меня с маленькой картины на стене. Настольная лампа бросала тусклый конус света на стопку благодарственных писем, написанных отцом Грегом. Они ждали меня, вдруг понял я, чтобы сложить их, наклеить марки и разослать. Тыльной стороной ладони отец Грег отодвинул бутылку скотча и два низких стакана по зеленому настольному планшету, прислонился к краю стола и скрестил руки, отчего его рубашка натянулась на груди.
– Почему ты не хочешь присесть? – спросил он.
– Не хочу, и все.
– Успокойся, Эйден, успокойся. Не волнуйся. Присядь.
– Нет, – произнес я громче.
– Мы сейчас обо всем поговорим. Я не знал, что ты здесь.
– Я думал, вы меня ждете. Вы же сказали мне прийти.
Отец Грег потер лицо.
– О Эйден…
– Вчера. Вы сказали: «Завтра». Я и пришел.
– Вчера ты просто не желал уходить…
– Не понимаю!
– Эйден, успокойся.
– Я думал, у нас нечто особенное. Я думал, что я особенный.
– Так и есть, это правда. Дай мне объяснить.
Я шагнул к двери, но отец Грег толкнул меня в грудь. Я упал на диван.
– Хватит! – крикнул он, привалившись к столу и растирая лицо. – Сиди, пока мы не обговорим все как есть!
Я молчал, силясь отдышаться. Отец Грег смотрел себе под ноги, кивая своим мыслям.
– Ты не хочешь идти домой! Ты же этого не хочешь? Ты сам это знаешь.
Я ничего не ответил. Он посмотрел на меня.
– С тобой все будет в порядке.
– Вы всегда так говорите.
– Потому что это правда, Эйден. Это правда.
– Нет, – возразил я. – Вы лгали.
– Неправда. Дай мне все тебе объяснить!
– Вы лгали.
– Нет. – Голос отца Грега показался моложе, в нем появились молящие нотки. – Я хочу, чтобы ты меня понял. – Он подошел, нагнулся положил руку мне на плечо. Потом заговорил тихо, едва не касаясь губами моей головы. – Ш-ш-ш. Ш-ш-ш. Возьми себя в руки. Ты знаешь, с кем ты говоришь. Я никогда тебе не лгал. Ш-ш-ш. Ты мне очень дорог, и ты это знаешь. Ш-ш-ш. – Он вытер лицо пятерней, оттянув отвисающую кожу. – Ну, ну. Успокойся. Подыши. Вот, вот, так хорошо. – Большим пальцем он вытер мне слезы и принялся тереть пальцем в углу рта, прижав ладонь к щеке. – Ты особенный, Эйден, – тихо продолжал он. – Не забывай, как я о тебе забочусь. Просто помни об этом. Мы же все можем понять, да? – Его рука скользнула по моей шее и схватила сзади за волосы. Он мягко потянул за них, задевая рукавом рубашки мой лоб. Его пот. Сдерживаемое, пропитанное скотчем дыхание. Я затрясся. Спустя мгновение он сказал: – Ты же никому не говорил, нет? Ничего не говорил? – Я покачал головой. – Знаешь, что со мной сделают? – продолжал он. – Ты же не хочешь, чтобы мне было плохо?
Он выпрямился, и я снова увидел противоположную стену, увешанную фотографиями из его путешествий по миру – Сальвадор, Кения, Сенегал, Камбоджа, обступившие его с улыбками взрослые и дети. Отец Грег стоял надо мной и тоже улыбался. Он тронул мой лоб тыльной стороной ладони.
– Ты весь горишь, Эйден. У тебя озноб. Дай-ка я принесу тебе стакан воды.
Его рука показалась мне ледяной. Я не смог бы вынести нового прикосновения.
Отец Грег отошел за письменный стол. Я снова взглянул на бутыль скотча, и отец Грег перехватил мой взгляд.
– Ты в порядке? – спросил он. Я кивнул и встал. – Думаю, будет неплохо. Давай по чуть-чуть. Эйден, мы ведь поняли друг друга?
Я снова кивнул, и плечи отца Грега расслабились. Наливая виски, он улыбался. Мы залпом выпили, и я уставился в пустой стакан. В моих глазах стояли слезы.
– Спокойнее, – сказал отец Грег, и я уловил знакомую интонацию.
Вздрогнув, я стиснул стакан обеими руками.
– Эйден, пожалуйста!
Когда он потянулся к моему плечу, я с силой ударил стаканом по краю стола, и осколки разлетелись по комнате. Я попятился и, лишь увидев кровь на руке, почувствовал боль.
Отец Грег сгреб меня в охапку прежде, чем я успел убежать. Он в панике твердил мое имя, он прижимал меня к себе, открывая ящики стола, а я вытер руку о зеленый планшет, задев листки фирменной писчей бумаги, и закричал от боли.
– Пожалуйста, – взмолился отец Грег. – Позволь мне тебе помочь!
Я закашлялся и попытался вырваться, но хватка у него была железная. Наставления закончились. Он достал из ящика кухонное полотенце и промокнул мне рану.
– Эйден, Эйден, – повторял он снова и снова, будто в его лексиконе только и осталось, что это слово. Я застонал. Он поднес мою руку к глазам, ища в ране осколки, но я начал вырываться. Кровь текла сильно, и я мазнул по рукаву отца Грега. Руку обожгло огнем. – Эйден, пожалуйста, разреши о тебе позаботиться!
В ответ в коридоре послышался голос.
– Грег! – Дверь распахнулась, и яркий свет из коридора залил кабинет. – Что здесь происходит, черт побери? – спросил, входя, отец Дули.
– Он порезался, – объяснил отец Грег. Отец Дули уставился на него. – Эйден порезался. Я пытаюсь помочь. – Отец Грег снова промокнул кровь на моей руке полотенцем и туго его затянул. Я не мог ничего сказать.
– Грег, прекрати, – велел отец Дули.
– Нет, нет, это не то, нет…
– Заткнись! – взорвался отец Дули. – Заткнись! Ты болен, Грег. Ты нездоров… – Он замолчал и покачал головой.
– Нет, нет, он просто порезался!
– Грег! Хватит! – перебил его отец Дули. – Эйден, пожалуйста, не бойся. Больше ничего не случится. Позволь, я отвезу тебя домой.
Отец Грег снова забормотал, но отец Дули его оборвал:
– Черт побери, Грег, это уже слишком! Отпусти его сейчас же!
Отец Грег хотел что-то сказать, но не решился, его хватка ослабла, и наконец он меня отпустил.
– Все будет хорошо. – Отец Дули поманил меня к себе. – Пожалуйста, Эйден, подойди сюда. Подойди сюда, ко мне.
Я шагнул вперед – и выскочил из кабинета, оттолкнув отца Дули. Я пробежал через весь приходской дом к выходу и по подъездной аллее на улицу. Заснеженные газоны казались пустыней. Фигурно подстриженные кусты превратились в кактусы, отбрасывавшие нечеткие тени на мелкий снежный песок, а я, как какое-то пучеглазое существо, видимое только лунному свету, как бледная тень, мелькающая по городу, огромными шагами бегал по дворам.
Кровь собиралась лужицей в ладони, подсыхая коричневыми потеками на запястье. Кровь была моя, в этом я не сомневался, но отчего-то казалось, что это и его кровь, будто он дотянулся до меня, схватил и тащит назад: «Эйден». Я сунул руку в сугроб. Кожу обожгло холодом, но кровь остановилась. Вокруг завывал ветер, и в нем тоже слышалось хриплое дыхание, обжигающее шею. Я закричал, чтобы заглушить этот голос, и бежал, пока низко висящая луна не прожгла в облаках оранжевый круг и не повисла зловещим оком, направленным на меня, следящим за мной в ночи.
Вскоре горло начало саднить, лицо щипало от мороза. Я опомнился, остановившись под бледно светящейся вывеской «Мобил». Меня била дрожь: я выбежал из приходского дома без куртки, перчаток и шапки. Воздух был пропитан запахом бензина, и я понял, что город кончился, а я забрел на техническую остановку у выезда на шоссе. На парковке у «Макдоналдса» стояло всего несколько машин. Несмотря на сравнительно ранний час, в «Маке» было мало посетителей. Зубы у меня стучали, руки тряслись. Я зашел в «Мобил март», прошелся по рядам, купил буррито и кофе «Айриш крим» и разогрел буррито в микроволновке, глядя, как оно вспухает в желтом свете.
Продавщица вообще не обращала на меня внимания: сидя за кассой на другом конце «Мобил март», она болтала по сотовому. Я даже не уверен, был ли у нее собеседник: тетка трещала не закрывая рта. Я отнес буррито и кофе к окну и воспользовался невысокой пирамидой из пивных коробок в качестве стола. По шоссе I-95 проносились автомобили. В голове вихрем крутились мысли. Почему-то всё представлялись разные мелочи из кабинета отца Грега: изображение святого Августина на стене, стакан с ручками у планшета на столе, матовые медные гвоздики вдоль швов кожаного дивана – все очень хорошо изученное и знакомое на ощупь.
Белый автобус свернул с шоссе и, громыхая, въехал на парковку, высадив пассажиров у «Макдоналдса». К прилавку выстроилась очередь. Я не отказался бы от второй чашки кофе, а еще лучше – от таблетки «НеСпи», который принимают дальнобойщики, сутками не вылезающие из-за руля.
Автобус выкатился вперед и остановился у дизельной колонки. Заправившись, водитель тоже ушел в «Макдоналдс», и я решился. На боку автобуса были нарисованы ярко-зеленые и красные персонажи китайских мультфильмов, а посередине красовалась синяя эмблема с двумя стрелками, указывающими на Нью-Йорк и Бостон: автобус-экспресс, еще более убитый, чем «Грейхаунды».
Я то и дело оглядывался через плечо, думая, что водитель вот-вот выйдет из «Макдоналдса», но, когда я забрался в автобус и выглянул из окна, он покупал сигареты в «Мобил март» с таким видом, будто ему все безразлично. В хвосте автобуса был тесный туалет без окон; в нем-то я и спрятался. Там пахло так, будто кто-то только что помочился, обрызгав стены снизу доверху и попав всюду, кроме собственно дыры. Туалетная бумага прилипла к стенам размокшими комками. Дверь не запиралась – посетителю предлагалось накинуть крючок троса на ручку, а другой конец зацепить за скобу на противоположной стене. Я стоял там, трясясь от страха и бредовой идеи, что водитель меня видел, но мотор наконец заурчал, автобус дернулся вперед, снова остановился, и я услышал, как заходят пассажиры. Я оставался в туалете, пока мы не выехали на шоссе, и лишь потом решился открыть дверь. Автобус был полупустой, пассажиры дремали. Я присел у туалета, обхватив себя руками за плечи. Автобус медленно прогревался. Мы ехали на юг. Урчанье мотора сливалось с неровным шорохом шин по шоссе. Сиденья пахли «Виндексом», «Баунсом» и освежителем с запахом фруктовой жвачки, но чистыми не казались. Когда я вдохнул этот запах, меня будто толкнуло вперед – и я провалился в пустоту, в ничто.
Нью-Йорк проглотил шоссе, как макаронину: дорога нырнула в ущелье между высокими бетонными стенами и пустилась прорезать кварталы. Наконец автобус остановился в каком-то людном месте под массивными стальными опорами моста. Все вывески – над дверями или приклеенные скотчем к витринам – были на китайском. Пассажиры по одному потянулись на выход; наконец вышел и я и побрел по муравейнику улиц, пахнущих рыбой и бензином. Пожарные лестницы взбегали по фасадам доходных домов, как застежки-молнии. Повсюду люди орали друг на друга. Меня толкали и не замечали. Нос болел от холода, и, сколько бы я ни подтирал его рукавом фуфайки, на верхней губе все равно были сопли.
Я тащился по перекрытому центру Манхэттена, обходя посты национальной гвардии, охранявшей здания финансовых корпораций. Это была территория Донована-старшего, и я представил, как он сидит за столом у одного из этих окон на верхнем этаже офисного небоскреба, глядя на светящийся город далеко внизу, – царит над пейзажем и ничего в нем не различает. Я орал и слушал эхо, отражавшееся в этом рукотворном каньоне, но никто меня не заметил и не услышал, и вскоре из моего горла вылетало лишь сипенье.
Я очень устал. В голове стоял гул – вроде стекла, застрявшего в ране. Грязные коричневые потеки, обвившиеся вокруг пальцев, высохли. Я смотрел на свои руки и не узнавал их. Я нашел тихую, мощенную булыжником улочку с решетками, через которые из метро выходил пар. Рядом была старая кирпичная арка с заброшенной дверью. Я забился туда, но так и не заснул: через решетку лезли серые клубы пара, а механическая какофония гудков, скрипа тормозов и шипенья гидравлических механизмов забивалась в уши, как холодный воздух.
Глава 5
Я очнулся в этой атмосфере насилия, и когда выбрался из своей кирпичной ниши, память вернулась ко мне импульсными вспышками: теплый круг света от настольной лампы, зеленый планшет, брызнувшие осколки массивного стакана, отец Грег, прижимающий к моей руке маленькое кухонное полотенце, кровавый мазок поперек его груди. Отец Дули звал меня, но отчего-то мне казалось, что он обращается к кому-то другому, к незнакомцу, хранителю моих тайн, будто они не были моими, а дожидались своего часа в ком-то еще.
Я умылся в туалете кафе, позавтракал и побрел через весь город на север, смирившись, что другого реального варианта нет: мне нужна Елена. Я никогда у нее не бывал, но знал, где она живет. Ближе к вечеру я наконец собрался с духом и спустился в метро на Юнион-сквер, где сел в поезд четвертого маршрута, идущий в Бронкс. Повсюду я видел национальных гвардейцев, по три-четыре человека: они стояли, расставив ноги, с автоматами стволом вниз на плечах и стоически рассматривали толпу, терпеливо дожидаясь какого-либо нарушения порядка, которое их присутствие делало почти неминуемым. Чем больше вооруженных постов встречалось мне в метро, тем больше я озирался, думая: может, они видят то, чего не замечаю я?
Уже в сумерках я нашел улицу Елены. На углу зашел в магазинчик, купил охапку цветов и вышел, не дожидаясь сдачи. Я не знал, что делаю. На меня смотрели со всех сторон. Никогда еще я так остро не ощущал цвет своей кожи: я оказался единственным белым в квартале. Я стоял на светофоре, желая поскорее войти в дом к Елене и закрыть за собой дверь, оставив весь мир за порогом.
Извилистая Андерклифф-авеню шла через густонаселенный район возле железной дороги, огибая подножие большого холма, застроенного старыми, дощатыми домами. Как и у всех ее соседей, у Елены имелся гараж, отстоявший от тротуара на несколько футов; к порогу вела крутая каменная лестница. Над входной дверью возвышались два этажа, отчего дом походил на маленький маяк, если бывают кубические маяки с двускатной крышей. Даже в декабре трехъярусный садик, взбирающийся вдоль лестницы по склону холма, был ярким и живым – плющ цеплялся за камни и вечнозеленые кусты.
Из глубины дома слышался вибрирующий голос какого-то исполнителя. Я задержал дыхание и позвонил. Открыла Тереза. Я сразу узнал ее по фотографии, она старше меня на два класса. Выбритая посередине головы полоска идеальным пробором делила длинные волосы, но я уставился на ее колоритные кроссовки. Тереза скрестила ноги, не отпуская ручку деревянной двери.
– Гос-споди, чего тебе тут нужно? – Она скептически взглянула на цветы. Я промолчал. – Случилось что-нибудь?
– Я видел твою фотографию, – сказал я. – Ты осенью была в волейбольной команде.
На лице Терезы появилась вызывающая улыбка.
– Я тоже твои фотки видела. У тебя вечно вид как на похоронах. – Она повернула голову и крикнула куда-то вверх: – Мами, твой второй сынок явился! – И снова мне: – У нее вообще-то отпуск!
– Я знаю, я просто вот… – Я приподнял охапку цветов.
Елена появилась на лестнице, спускаясь со второго этажа. На ней был уютный свитер, на ногах мягкие пушистые тапочки. Она просияла, и от ее улыбки мне стало спокойнее, но в ее глазах я прочел тревогу.
– Тере, отойди, дай ему пройти.
– Бьенвенидо аль Бронкс, – саркастически отозвалась Тереза.
Я протиснулся в дверь. Елена сразу меня обняла и долго держала в объятьях.
– M’ijo.
Чувствуя спиной взгляд Терезы, я попытался высвободиться, но Елена обняла меня крепче. Она отпустила меня, только когда Тереза демонстративно протолкалась мимо нас.
Елена укоризненно цокнула языком и под руку повела меня в гостиную, где пахло жареным луком. Задушевная песня закончилась, сменившись энергичной румбой. Я оглядел диван, кресло, высокую птичью клетку у стойки для стерео, целый лес комнатных растений на окне, выходившем на улицу. Над креслом висела большая картина с изображением Пресвятой Девы. Золотой диск нимба слегка светился. Хотя голова Марии была смиренно опущена, глаза искоса смотрели в глубину дома. Круглые, яркие, они следили за мной, куда бы я ни пошел.
– Вот это сюрприз, – сказала Елена, явно нервничая. – Ты один приехал?
– Да.
– Даже не знаю, что сказать.
– Может, «чем обязаны?», – не удержалась Тереза, стоя в дверях между гостиной и кухней.
Я протянул Елене охапку цветов.
– С праздником. Фелиц навидад. Я никогда не дарил тебе подарков.
Елена стиснула подол своего свитера.
– Какой сюрприз, – повторила она. – Грасиас. Грасиас. – С распущенными волосами она выглядела моложе. – Я и не ожидала никаких подарков…
– И приезда в наш дом тоже, – ввернула Тереза.
Я кивнул, жалея, что не придумал, что буду говорить, когда приду, как отбиваться от вопросов. Меня тянуло вслух констатировать факты: «Вот птичья клетка. В ней две птички, одна желтая, другая голубая».
– Тере, – сказала Елена, протянув ей цветы, – найди, куда поставить.
– Весь магазин скупил? – не удержалась Тереза, но взяла цветы и шагнула назад, в кухню.
Оттуда послышалось хлопанье дверец шкафов. Елена подвела меня к дивану и усадила.
– M’ijo, – произнесла она с грустной улыбкой. – Я счастлива тебя видеть. – Она снова обняла меня и села прямо: – Почему ж ты не позвонил? Твоя мать…. – начала Елена, но замолчала и со вздохом посмотрела на окно, превратившееся в темную стену с редкими точками света – светились окна в домах ниже по холму и слабым оранжевым отсветом подсвечивал уличный фонарь. – Я даже растерялась, – добавила она.
– Я тоже, – негромко сказал я. Мне хотелось прижаться к Елене, но я понимал, что в ее доме это будет неуместно. Мы молчали, будто снова вместе смотрели телевизор у меня в комнате, поставив тарелки с ужином на маленькие складные столики. Елена взяла меня за руку и нежно погладила. Ее дом казался настолько теплым, что я чувствовал себя снежным сугробом. Когда Тереза широким шагом вошла в гостиную, я ожидал увидеть у нее в руках две кружки дымящегося горячего шоколада, а не вазу, готовую треснуть от втиснутого в нее букета.
Тереза поставила вазу на кофейный столик и посмотрела на мать.
– Ни один парень ни разу не приходил сюда с букетом для меня, – сказала она, уперевшись рукой в бок. Елена улыбнулась дочери. – Каз даже не знает, где продаются цветы, хотя живет рядом с цветочным магазином.
– Эйден – не Каз, – заметила Елена.
– Не знаю, – отрезала Тереза. – Я сто раз слышала, какой ты замечательный, – добавила она, обращаясь ко мне.
Елена и мне рассказывала об успехах Терезы в Сент-Кэтрин. Глядя, как она покачивает бедрами, разговаривая со мной, я захотел поболтать с ней, но не знал как. Я никогда не умел разговаривать с девочками. Мне нравятся девушки, всегда говорил я себе, но кем же, черт побери, в таком случае я получаюсь с отцом Грегом? Это тоже я? Голова закружилась, и я положил затылок на спинку дивана.
– Ну ладно, – сказала Елена, встав и пригладив брюки ладонями. – Тере, поставь к столу еще стул.
– Ты останешься на ужин? – спросила меня Тереза.
– Да, – отрезала Елена, щелкнув пальцами.
Тере удалилась в кухню.
– M’ijo, – мягко сказала мне Елена, – тут что-то не так. Как ты сюда добрался?
– Спасибо, что оставляешь меня на ужин.
– Что скажет твоя мать?
– Пожалуйста, не выгоняй меня.
– Нет-нет, – заверила Елена и снова обняла меня. – Я счастлива, что ты ко мне приехал.
Я прижался к ней лицом. Край горловины свитера щекотал глаз.
– Прости, – сказал я, смахнув несколько слезинок и удержав остальное.
На пороге послышались голоса, сетчатый экран со скрежетом распахнулся. Я так поспешно вырвался из объятий Елены, что она вздрогнула и задержала мою руку у себя на коленях. Кандидо пропустил Матео в комнату. Тот на бегу успел хлопнуть об пол баскетбольным мячом.
– Эй! – крикнул ему Кандидо, но оба они тут же остановились и уставились на меня. Матео попятился и прижался спиной к отцовским джинсам. – У нас гость? – спросил Кандидо, переводя взгляд с меня на Елену.
Елена подошла к мужу и поцеловала его в губы.
– Ну, места-то хватит, – ответила она по-английски.
Кандидо кивнул.
– А почему он здесь? – вновь спросил он по-испански. – Что случилось?
– Он говорит по-испански, – предостерегла его Елена.
– Я забыл, – отозвался Кандидо и улыбнулся. – Ло сиенто[3], – сказал он мне и не спеша снял и повесил кожаную куртку.
– А ты разве не в отпуске? – спросил Матео у матери.
Елена шикнула на Матео и подтолкнула его вперед.
– Это мальчик из той семьи, в которой я работаю, – сказала она.
– Я знаю, – ответил Матео.
Подошел Кандидо, и я встал, чтобы пожать ему руку.
– Наслышан, – сказал Кандидо. Брюшко выпирало у него над ремнем, но он оказался выше, чем я себе представлял, и в его присутствии комната казалась меньше и теснее. Они с Еленой переглянулись. – Добро пожаловать, – добавил он, извинился и повел Матео наверх умыть перед ужином. Елена потрепала меня по плечу и пошла за ними.
Я снова опустился на диван и уставился на потолок, не желая выпрямлять шею и встречаться взглядом с Девой Марией. Закрыв глаза, я слушал доносившиеся сверху голоса Елены и Кандидо. Трудно было разобрать, что они говорили, при громко включенной в гостиной музыке, но мне не требовалось слов, чтобы понять: они привыкли разговаривать друг с другом и одновременно слушать. Я расслышал свое имя, но это меня не обеспокоило. Я был в доме Елены, и без матери и Донована-старшего над душой мне было удивительно мирно и спокойно.
– Эй, – окликнула меня из-за дивана Тереза, крутившаяся рядом. – Не засыпай, ты только что пришел. – Она тряхнула меня за плечо.
– А что на ужин? – спросил я.
– Не то, что она у вас готовит. – Тереза обошла диван и присела рядом.
– Она иногда делает курятину с красной фасолью и рисом, – сказал я, – если мы с ней ужинаем вдвоем. Обожаю.
– В смысле, доминиканскую кухню?
– Ну, можно и так сказать.
– Я не знала, – протянула Тереза, играя с маленьким золотым крестиком на шее.
– Она научила тебя каким-нибудь рецептам?
– Ирландское рагу, лазанья, супы, чили – ну, такое, что можно есть всю неделю.
– Ясно.
– Правда, однажды показала, как делать lengua picante и lambi guisado[4].
– Как интересно, – сказал я, надеясь закончить этот разговор. – У нас она такого никогда не готовила.
– Я прикалываюсь! Она и здесь такого не готовит. – Я через силу засмеялся. – Мои друзья любят приходить к нам поесть. Делаем уроки, а потом я разогреваю, что осталось в холодильнике. Все знают, какой мама прекрасный повар.
– Ей можно в ресторане работать.
– Даже нужно. – Тереза с вызовом посмотрела на меня.
Я кивнул. Подрастая, я часто фантазировал, что Елена моя настоящая мать. Я завидовал Терезе и Матео, думая, как им повезло с такой нежной и любящей матерью, но, когда я посмотрел на Терезу, сунувшую нос в букет, мне в голову пришло, что у нее может быть иное мнение. Я же вижу ее мать чаще, чем она сама.
– Небось дорогие, – буркнула Тереза.
Подарок получился не ко времени и не к месту. Меня пугало, что я так много знаю о Елене – и не могу поделиться этим с Терезой. Легче было притвориться, что моих воспоминаний о Елене не существует вовсе. Тереза все вертела в руках вазу.
– Надо было купить еще больше, – сказал я. – Сделать букет и для тебя.
– Ничего себе! – засмеялась Тереза и покачала головой: – А я-то думала, ты робкий! – Она улыбнулась, будто зная то, чего не знал я, и стала ждать, когда до меня дойдет. А может, ей просто свойственна легкая смешливая открытость, которая переводится как: «Эй, приятель, расслабься уже! Транквило!» Тереза положила руку мне на бедро и хитро спросила: – Не хочешь помочь налить воды в бокалы к ужину?
– Конечно. – Я быстро встал, не меньше Терезы удивившись своему ответу. Мне здесь было хорошо и спокойно, но я хотел чем-то заняться, прежде чем все испорчу, ляпнув какую-нибудь глупость. В кухне Тереза выставила передо мной стаканы и начала рассказывать о своей учебе в Сент-Кэтрин. Хорошо в последнем классе, говорила она, через несколько месяцев начнется новая жизнь. Она с нетерпением ждала встречи с будущим. Я завидовал ее легкой уверенности в себе. Я восхищался Терезой.
Перед ужином члены семейства Гонсалвес и я взялись за руки вокруг стола. Горячая еда всего в каком-то футе искушала. Я оказался между Еленой и Терезой. Благословили пищу и поблагодарили Бога за то, что я к ним присоединился. Я рискнул подглядеть и открыл глаза. От тарелок поднимался пар, колебавшийся от заклинаний Кандидо, благодарившего Бога за попечение и промысел. Я не мог вторить Кандидо, потому что у меня была своя молитва, и, хотя обычно они кажутся пустыми – просто набор фраз, утишающих боль, мне хотелось крикнуть: «Христос, оставь меня в этой семье!» Я снова закрыл глаза, как раз когда Кандидо договорил молитву: «En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amen».
Елена сидела между «своими мальчиками» – Матео справа и мною слева – и, не торопясь, тонко нарезала мясо у себя на тарелке, пока Кандидо говорил с детьми. Иногда Елена вставляла слово, но в основном ела молча, с улыбкой глядя, как Кандидо и Матео шлепали друг друга по ладоням, говоря о баскетболе. Кандидо подмигивал Елене, когда она его одергивала.
– Надо было тебе принять участие в игре против Сент-Майка. Тренер Карни идиот!
– Канди! – осуждающе произнесла Елена.
– Какой урок ты уже усвоил, папи? – спросила Тереза. – Поиграй в команде, вот тогда научишься негодовать!
Кандидо отправил вилку в рот и медленно начал жевать еду.
– Mira, la pequeña maestra[5], будешь встревать в разговор, когда сходишь и посмотришь игру своего брата.
Тереза привычно-театрально вздохнула.
– Иисусе, папи! Вечные обвинения!
– Придержи язык, – велел Кандидо по-испански. – В этом доме свои правила.
Елена потянулась мимо меня через стол и тронула дочь за локоть.
– Слушайся отца, – сказала она по-испански.
Тереза встала, чтобы принести еще воды.
– Ничего себе, – загремел Кандидо, откинувшись на стуле. – Она показала средний палец!
Тереза пихнула его бедром, идя к раковине, и он засмеялся.
Когда доели ужин, Елена взяла мою тарелку и поставила поверх своей. Кандидо развалился на стуле, бросил салфетку на стол и начал чистить зубы языком. Не успела Елена собрать остальные тарелки, как я встал и спросил, нельзя ли мне помыть посуду. Мне была невыносима мысль, что Елена наденет резиновые перчатки у себя дома. Все и так с ног на голову, так отчего я не могу разок вымыть чертовы тарелки? Но Елена только отмахнулась.
– Пожалуйста, – настаивал я. – Я очень хочу что-то сделать.
Кандидо фыркнул.
– Незачем… – начала Елена, но я, не обращая на нее внимания, собрал оставшиеся тарелки и понес к раковине.
Зазвонил телефон.
– Не берите, – сказал Кандидо. – Мы еще из-за стола не встали, десерта не ели.
Елена вздохнула, опустив голову. Автоответчик включился через четыре звонка. Я со щелчком натянул резиновые перчатки, когда послышался знакомый голос:
– Елена? Это снова отец Дули. Я уже волнуюсь. Вы его не видели? Его по-прежнему ищут. Пожалуйста, перезвоните мне. Я у Гвен, она готова бежать в полицию. Очень жду вашего звонка.
Схватившись за край раковины, я так и застыл спиной к гостиной, не в силах обернуться.
– Что за чертовщина? – спросила Тереза, подходя к столу.
– Вот о чем я и говорил, – заявил Кандидо. – Я сказал – случилось что-то серьезное. – Со скрипом отодвинув стул, он встал. – Почему он сказал «снова»? Что значит «снова»? – Его голос стал громче. – Ты знала об этом?
Елена покачала головой.
– Извини, его здесь не было, когда отец Дули позвонил в первый раз. Он пришел позже. – Она вытерла лицо. – Пришел ко мне.
– Ага, мами, – начала Тереза, – ты знала и нам не сказала? – Она толкнула меня. – Думал, можешь купить мою мами, богатенький мажор? Притащился со своими цветами и грустной мордой? Вали отсюда к своей собственной мамаше, упакованный! – Она снова ударила меня.
– Тере! – крикнула Елена, но Кандидо опередил ее, взяв Терезу за плечо.
– Ладно, ладно, хватит, – сказал он не особо убедительно, встав между нами, и указал на меня: – Ты принес проблемы в мой дом?
– Пожалуйста, – начала Елена, – пожалуйста, он ничего не сделал, – сказала она по-испански. – Он бы не стал.
– Ты не знаешь наверняка, – возразил ее муж.
– Знаю! – крикнула Елена. – Знаю. – Она встала между мной и Кандидо.
Когда я обернулся, Кандидо брал со стены беспроводной телефон.
– Он ничего не сделал, – умоляла Елена. – Это его родители, я тебе рассказывала. Погляди на него, что он может сделать? – Она протянула руку. – Дай я позвоню миссис Донован.
– Конечно, позвонишь, – сказал Кандидо. – Ей и священнику.
Он подал Елене телефон, на который она рассеянно смотрела несколько секунд, затем повернулась ко мне и погладила по щеке.
– Все нормально, m’ijo, все хорошо. С тобой все будет хорошо.
Я обмяк и позволил себя обнять. Дети Елены смотрели на меня во все глаза. Не волнуйтесь, хотел я им сказать, ее хватит для всех. Будто я мог за это ручаться и это не было бы оскорблением.
Говоря по телефону, Елена ходила у раковины. Всем был прекрасно слышен визгливый поток ругани из трубки.
– Нет, мэм, – иногда вставляла Елена.
Она протянула мне телефон, но я не хотел отвечать. Я взял трубку обеими руками и смотрел на нее.
– Милый? – пискнула мать издалека. – Милый? – Я приложил трубку к уху. – С тобой все в порядке?
– Я с Еленой.
– Это я знаю, милый, но с тобой все в порядке? – Голос у нее был осипший. – Все в порядке?
– Конечно, – ответил я. – Я ведь с Еленой.
– Я знаю, знаю, ты сейчас с Еленой, но ты же пропал!
– Нет. Я ушел.
– Ты хоть представляешь, что я передумала? Тебя заберет отец Дули, я не могу сесть за руль в таком состоянии…
Я не знал, что сказать. Было слышно, как мать шмыгнула носом.
– Отец Дули?
– Я ему очень благодарна, он проявил небывалую доброту. Я и не понимала, до какой степени мне нужна поддержка, пока он не пришел сюда. – Она глубоко задышала. – Мне уже легче, – продолжала она спокойнее. – Я рада, что ты скоро приедешь домой.
Я передал трубку Елене. Закончив разговор, она сразу подошла к Кандидо, и он ее обнял.
– Я совершила ошибку, – сказал она ему. – Прости меня. Я должна была сразу сказать.
– А зачем? – возразил он. – У тебя всегда все на лице написано.
– Не понимаю, – задыхаясь, выговорил я. – Она почти не обращала внимания, когда я уходил. Ей же все равно!
Елена резко высвободилась из объятий Кандидо.
– Она тоскует по тебе, – сказала она мне.
– Именно сейчас? – переспросил я. – Когда она вообще по мне тосковала?
– Ты пришел сюда. Уехал и пришел сюда, ко мне. Ей не хватает тебя, m’ijo. Я знаю. Тебя заберет отец Дули, – добавила она. – Он уже выехал.
Кандидо покачал головой.
– Бог за тобой присматривает, – обратился он ко мне. – Всегда.
Должно быть, он хотел меня ободрить, намекая, что это незримое всевидящее око защитит меня в случае чего, но вместо этого мне вспомнились глаза отца Грега, налившиеся кровью от выпитого скотча, мутные от боли и ярости.
– Нет, – ответил я, – нет, я доберусь на поезде. Или вызову машину. Я не хочу возвращаться с ним, пожалуйста!
– Я сделаю так, как просил отец Дули, – настаивала Елена. – Ты уедешь с ним. Тебе нужна помощь.
– Я не могу, я не хочу!
– Довольно! – перебил Кандидо. – Прекрати вопить. В этом доме ты не будешь ей указывать, что делать. – Он шагнул ко мне и схватил за руку. – Ты пришел в мой дом и в моем доме будешь вести себя по моим правилам. – Он встряхнул меня, но сдержался и отпустил. – Мы поступим, как просил священник, ты отправишься домой вместе с ним.
Холодная пустота разверзлась под ложечкой и поползла по телу. Я покачнулся. Я слышал свое имя, но не понимал, откуда меня зовут. Голос казался знакомым, будто отец Грег вдруг оказался в гостиной Елены и повторял мое имя, подзывая меня к себе.
Елена велела Кандидо отвести Матео наверх, а мне позволила помочь ей домыть посуду. Тереза стояла в дверях, прислонившись к косяку.
– Не законченный же ты подонок, – говорила она. – Ты же вон, с обоями сливаешься. Вылитый призрак. Что такого скверного ты мог натворить?
– Тере! Марш наверх сейчас же! Оставь нас одних.
Тереза уловила страх в голосе матери и, подчинившись, с раздражением потопала по лестнице. Хлопнула дверь.
– Прости, – сказал я наконец. – Я не знал, куда еще пойти. Я не мог там оставаться.
Елена долго держала тарелку под струей воды, глядя на нее.
– Твоя мать очень расстроена. – Она покачала головой, закрыла воду и передала мне последнюю тарелку. – Она сердится не только на тебя, но и на меня тоже.
– Прости, – повторил я. – Я думал, ничего страшного…
– По мне, так и есть. – Елена улыбнулась, но как-то натянуто, будто учительница в академии или какая-нибудь гостья вечеринки, перед тем как исчезнуть в круговороте толпы.
– А что, если я не поеду домой? – не выдержал я.
– Нет, тебе надо ехать.
Елена подвела меня к дивану и усадила, а сама встала у лестницы, поглядывая наверх, куда изгнала всю семью. Она стояла, как на часах, словно желая защитить, только не знала, кого и от кого. Откинув голову на спинку дивана, я смотрел в потолок, на неровную краску и трещины – приметы времени и естественного распада. За окном мигнул и погас уличный фонарь, стоявший ниже дома. Я чувствовал на себе взгляды Елены и Девы Марии со стены.
Наверху капризничал Матео, не желавший ложиться спать, но Кандидо утихомирил сына меньше чем за минуту. Он не кричал, но в его голосе была твердость и требование уважения. Вряд ли Кандидо меня ненавидит; скорее, он удивлен, как это можно вот так просто вторгаться в частную жизнь его семьи. Я хотел объяснить, что я и не пытался. Будь мне куда пойти, я бы не пробрался в этот дом как преступник и вообще не поехал бы в Нью-Йорк, но чего уж теперь… Разве не глупо отматывать время назад и корректировать тот или этот выбор? Так можно дойти до самого зачатия и сказать: оно мне вообще надо? Вон что ждет впереди!
Приехал отец Дули: мы услышали, как машина делала разворот в три приема. Елена повела меня вниз по длинной лестнице.
– Мы к вам подойдем, святой отец! – крикнула она.
Дули, сутулясь, неподвижно стоял у машины, опираясь на трость. Фонарь загорелся, но замигал и снова погас. Я различал только его силуэт, и то потому, что пальто слегка колыхалось на ветру. Мне хотелось кинуться по лестнице через две ступеньки и выбежать на улицу, которая вела к железной дороге. В машине было совершенно темно, и я гадал, уж не приехал ли и отец Грег и что они в таком случае со мной сделают. Меня охватила знакомая безысходность, ощущение, что меня ведут по ступеням в беспросветный мрак, где от меня ничего не зависит.
– Бог тебя не оставит, – сказала Елена, пропуская меня вперед. – Он обо всем позаботится. Отец Дули тебе поможет. Он тебе нужен, m’ijo.
Отец Дули шагнул навстречу, глядя на нас с подозрением.
– Спасибо. – Он протянул Елене руку и немного расслабился, когда она пожала ее и доброжелательно заговорила с ним. В ее голосе слышалась почтительность, и это было приятно отцу Дули.
– Пожалуйста, святой отец, не ссорьтесь с ним, – сказала она.
– Он порядком напугал свою мать, – ответил отец Дули. – Вы-то понимаете, каково это.
– Конечно, святой отец.
Отец Дули усадил меня на пассажирское сиденье, но, прежде чем он закрыл дверь, Елена снова взмолилась:
– Святой отец, вы ведь все понимаете, правда? Здесь некого винить, некого!
Отец Дули прекрасно знал, что именно Елена заставила меня предложить свои услуги приходу Драгоценнейшей Крови Христовой. Он с первого взгляда распознал в ней ревностную католичку.
– Мы все отчасти виноваты, Елена, и сейчас, и всегда. Богу все ведомо, он знает, кого прощать. Помолимся, чтобы он вразумил нас, когда мы будем думать о случившемся. – Повернувшись ко мне, он уверенно прибавил: – И тебя, Эйден. – Елена кивнула. Прежде чем она успела сказать что-нибудь еще, отец Дули продолжил: – Меня просили еще раз напомнить вам, о чем вы говорили по телефону с миссис Донован. Дождитесь ее звонка, прежде чем возвращаться на работу.
– Да, святой отец.
– Им нужно побыть своей семьей.
– Я понимаю, святой отец.
Отец Дули кивнул. Меня покоробила снисходительность в его голосе.
– Эй, – сказал я, – нечего на ней отыгрываться! Она ничего не сделала!
Отец Дули улыбнулся.
– Эйден, никто ведь не кричит. Елена все понимает, не правда ли? – спросил он через плечо.
– Да, святой отец. – Она попятилась, но остановилась у лестницы. – M’ijo, я рада, что с тобой все в порядке. Все будет хорошо.
Она постояла пару секунд, но отец Дули коротко попрощался и отправил ее домой. Пальто у нее было длинным, до самых туфель, и казалось, что Елена плывет вверх по ступеням. Она шла, не оглядываясь. Когда отец Дули завел мотор, уличный фонарь мигнул и загорелся, и скрывшуюся в темноте Елену не стало видно.
В юго-западной части Бронкса отец Дули ориентировался по навигатору и быстро доехал до Девяносто пятого шоссе. Как только мы выбрались на шоссе, он заметно приободрился. Его уверенность пугала. На меня он не смотрел, вообще не поворачивал ко мне бледного, в глубоких морщинах, лица. Меня затошнило, и я приоткрыл окно. Ветер наполнил машину желанным шумом. Прижавшись лбом к окну, я чувствовал, как на виске бьется жилка. Что ж, зато он приехал один.
– Мы так и думали, что ты поедешь к ней, – сказал он через некоторое время. – И сразу позвонили Елене. Я удивлен, что она не перезвонила сразу, как ты появился. Ей следовало быть благоразумнее. – Он взглянул на меня. – Однако я рад, что мы можем все уладить.
– Вы везете меня в приход?
– Никоим образом, – резко ответил он. – Я везу тебя к твоей матери. Ты хоть представляешь, что она пережила?
– Она вам позвонила?
Отец Дули нахмурился и ответил не сразу.
– Нет, это я ей позвонил. Так и открылось, что ты пропал.
– Ага, – фыркнул я. – Открылось.
Он посопел.
– Ты не пришел сегодня на работу, помнишь? Тебя ждали, и, когда ты не появился, я позвонил. Твоя мать пришла в ужас. Я предложил помощь. К чему заявлять в полицию, давать пищу сплетням? – Он снова покосился на меня и медленно добавил: – Особенно после того, как твой отец ушел из семьи, Эйден. Нельзя же добивать твою мать. Я решил помочь – не поднимая шума, как ты понимаешь.
Мы уже выехали из Нью-Йорка – по обе стороны шоссе стало больше зелени. Я слушал мерный шорох шин по асфальту.
– Мне бы хотелось, чтобы мы все пришли к согласию, – наконец сказал отец Дули. Меня затошнило сильнее. Пот струился по мне ручьями. – В приходе Драгоценнейшей Крови Христовой я все уладил. Послушай меня, Эйден, пожалуйста. – Отец Дули сбросил скорость.
Я смотрел в окно – мы проезжали заправку «Мобил», – но боковым зрением заметил, что отец Дули смотрит на меня.
– Убежать сюда – это жест отчаянья. Я понимаю, какая тяжесть легла тебе на плечи, – непосильная для юноши. Я решил отчасти облегчить твою ношу. Словом, ты не приходи больше. Ты и так порядком потрудился для кампании. Этого хватит.
– Что?!
– Тебе нет нужды помогать и дальше, Эйден. И на мессу пока не ходи. Сделай перерыв, пожалуйста. – Отец Дули не отрывал взгяд от дороги, хотя машин было мало, и ждал моего ответа. Напряжение росло. – Эйден, пожалуйста, ответь мне. Я хочу, чтобы мы все выяснили. Ты можешь мне доверять. – В его голосе послышалось волнение. – Давай поговорим начистоту. Ты меня слушаешь? Уверяю тебя, это для тебя пройденный этап. Я стараюсь поддержать тебя, Эйден, и хочу знать, что ты это понимаешь. Пора двигаться дальше.
– Вы что, поговорили с ним?
– Эйден, – повысил голос отец Дули, – не приходи больше в приход, ясно? – И добавил тише: – Ты талантливый молодой человек, у тебя большое будущее. Я не хочу, чтобы ты его лишился.
Мы свернули на пригородное шоссе. За окном мелькали темные дома и офисы. Вскоре мы ехали уже по моему району.
– Твоей матери сейчас очень тяжело, – сказал отец Дули. – Она очень расстроена, но пытается как-то наладить вашу жизнь. Как я понял, твой отец уехал в Европу навсегда. – Он помолчал и взглянул на меня. – Эйден, я знаю, тебе хочется поступить так, чтобы хорошо было всем. Ты меня послушай. Я хочу, чтобы ты заглянул в глубину своего сердца и спросил себя, хочешь ли ты еще боли. Ведь ее можно избежать. Мы с тобой можем об этом поговорить.
– Вы хотите, чтобы я молчал?
– Я пытаюсь убедить тебя увидеть картину в целом. Последствия есть у всего.
– Знаю, – сказал я громче, чем собирался. – Я сознаю последствия.
Отец Дули невозмутимо посмотрел на меня:
– Вряд ли, Эйден. Учти, в этом кроются последствия и лично для тебя.
Извилистая дорога плохо освещалась редкими фонарями, поэтому на поворотах в машине то включался, то выключался свет. Не скажу наверняка, но мне показалось, что я заметил улыбку на лице отца Дули. Наконец он свернул на мою улицу. Зеленые ворота распахнулись, и мы подъехали к дому.
– Мне бы хотелось знать, что тебе можно доверять, Эйден, – сказал отец Дули, остановив машину. – Мы пришли к взаимопониманию? Скажи, что я могу тебе доверять.
– Не можете, – отрезал я. – Потому что я сам себе не доверяю.
Я открыл дверь. Мать стояла в дверях, обхватив себя руками, и при ней не было бокала, что меня удивило. Я стал подниматься по ступенькам. Отец Дули что-то бормотал у меня за спиной. Он меня неверно понял, но я не хотел оборачиваться. Если я не стану больше говорить об отце Греге, может, он просто исчезнет, а вместе с ним и та часть меня, которую я не совсем понимаю?
Мать сбежала с крыльца мне навстречу и крепко обняла, ничего не говоря. Она не подкрасилась, и, хотя табаком от нее пахло, спиртного я не учуял. Когда она меня целовала, я ощутил, что у нее на губах остался вкус диетической колы. Не выпуская меня из объятий, она поблагодарила отца Дули и сказала, что завтра мы ему позвоним. Как только мы вошли в дом, мать закрыла дверь и взяла мое лицо в ладони. Глаза у нее были заплаканные и усталые.
– Господи, ты хоть немного представляешь, что я пережила? – Она вытерла глаза и повела меня в гостиную. – Ты и понятия не имеешь, что я передумала. Я боялась, что ты мертв. – Говоря это, она смотрела в пол. – Я думала, ты поехал волонтерствовать, но позвонил отец Дули и сказал, что ты не появлялся. Тогда я решила, что ты еще спишь, представляешь? – Она схватилась за пояс платья. Маленькие костяшки пальцев пожелтели, когда она стиснула руки. – Он был какой-то расстроенный, попросил дать тебе трубку. Дверь у тебя была распахнута, я заглянула и поняла, что ты не ночевал дома. Знаешь, как я испугалась? Я все думала – где ты, где ты, и не знала, кому звонить и куда бежать. Отец Дули ждал на телефоне. В приходе ты не появлялся, значит, прошло уже больше суток, а может, и двое суток. Я понятия не имела, куда ты делся, я просто с ума сходила. К счастью, отец Дули приехал быстро.
– Он приезжал сюда? Что он сказал?
– Он сразу позвонил ей. Ну, Елене. Первым делом он позвонил ей – представляешь, как мне стало неловко?! Что ты там делал? Почему мне не сказал? – Она тяжело дышала, кусая губу и глядя в пол. – Я даже не знала, что ты уехал, – сказала она тише. – Честно. Ты представляешь, что я чувствовала?
Отец Дули и отец Грег всех уверяли, что я не появлялся в приходе Драгоценнейшей Крови Христовой. Они откровенно лгали моей матери. Значит, отец Грег напуган не меньше моего.
Мать обняла меня и начала медленно покачиваться.
– Никогда больше меня не оставляй, – сказала она мне в плечо. – Я не выдержу, если и ты уйдешь.
– Я дома, – сказал я.
Это было все, что ей хотелось слышать, и самая легкая правда, которой я мог поделиться. Похоже, всем хотелось твердой уверенности, и немедленно. Приятно было оказаться тем, кто дарит такую уверенность.
Глава 6
Два дня мы с матерью сидели на ее кровати и смотрели «Эту замечательную жизнь», «Мистер Смит едет в Вашингтон» и «Пригоршню чудес». Если предсказуемость и благонадежность слащаво-оптимистических финалов не служит прекрасным успокоительным, то я уж и не знаю. После просмотра пары таких фильмов подряд начинает казаться, что добиться желаемого вовсе не так сложно, словно оно есть на распродаже в «Мейсис», и единственная проблема – добраться до Тридцать четвертой улицы, прежде чем разберут твои вожделенные мечты. Однако моя новая жизнь не желала начинаться с беготни по скользкой Мэйн-стрит, размахивания шляпой и оповещения всех в кофейне и на почте о том, что я головокружительно влюблен в себя. У меня по-прежнему был шрам на руке, который не сотрешь, а голос отца Грега звучал в ушах.
В воскресенье я немного повалялся в постели, слушая новости. Америка побеждала в войне с терроризмом, Карзай – наш человек в Кабуле. Фрэнк Капра[6] мог бы гордиться: обещания восстановить порядок в кратчайшие сроки раздавались направо и налево. Когда я спустился на кухню, был почти полдень. Рабочий стол был присыпан мукой, рядом с большой миской стояла бутыль ванильного экстракта, а толстая, девственно-чистая кулинарная книга лежала открытой на краю стола. Мать стояла над сковородкой, помахивая деревянным половником под музыку восьмидесятых – из стереосистемы звучал синтезатор, – и своеобразно пританцовывала на месте: легкие толчки проходили от бедер до ступней.
– Мне сегодня надо кое-куда съездить, но я не хотела уходить, пока ты не встанешь.
– А что ты делаешь?
– Жду, пока появятся пузырьки. Когда пойдут пузырьки, значит, можно переворачивать.
– Нет, я про то, что ты печешь блины.
– Я люблю готовить завтрак.
– Обычно в блендере.
Она махнула на меня половником.
– Хватит. Ты проспал, поэтому даже не пробуй острить. Я сорок пять минут занималась на велотренажере и уже сделала себе шейк, спасибо. Это я пеку для тебя.
Мать тоже съела блинчик, но без масла и сиропа. Присев напротив меня за рабочий стол и попивая болотного цвета жижу (полезный для здоровья коктейль), она поделилась бизнес-планами. На рождественском вечере Синди подбросила ей идею, и мать вдруг загорелась.
– Движущееся тело обретает кинетическую энергию, – заявила она. – Простой закон физики. Иди вперед и не оглядывайся.
Синди предложила ей заняться планированием праздников, и мать ухватилась за эту мысль не раздумывая. Прошла всего неделя, а она уже заморочилась с оформлением документов.
– Никто не умеет устраивать праздники так, как ты, – сказал я.
– Это же так интересно, правда? – подхватила мать с маниакальным блеском в глазах.
Однако у нее действительно оказался готовый бизнес-план, и я восхитился ее решимостью начать жизнь заново. Когда-то Синди открыла в городке арт-галерею, давно превратившуюся в процветающий бизнес, и у нее в друзьях имелись нужные люди, которые помогут матери начать. Она уже составила список потенциальных клиентов, прекрасных возможностей и помещений для небольшого шоу-рума.
– Я человек домашний, ну так пусть это и будет мой бизнес! Я не стану избегать людей – наоборот, я буду устраивать праздники на множество гостей, и не только в нашем доме.
– Все так быстро меняется, – заметил я.
– Меняется, и слава богу, Эйден. Я позабочусь о нашей семье.
Хоть бы Елена поскорей вернулась, подумал я. Она поддержала бы детский задор матери или подсказала бы мне, как соответствовать новым реалиям. Мне хотелось заразиться куражом и энтузиазмом матери, но я не знал, как справиться с этим в одиночку.
Мать принялась звонить по делам и закончила уже к вечеру. Она нашла меня в моей комнате за чтением.
– Мне надо ехать, иначе я уже не соберусь, – сказала она. – Поедешь со мной?
– У меня уроки. А тебе удачи, ты отлично справишься.
Мать улыбнулась, подошла к креслу и обняла меня.
– Спасибо, – тихо произнесла она.
Нас прервал звонок в дверь. Мать спустилась в холл открыть. Я поплелся за ней – гораздо медленнее. День уже начал гаснуть, но через узкое окно у двери я увидел у крыльца голубой «Линкольн» и вздрогнул. Я снова ощутил осколки стекла в руке, рядом послышалось его дыхание – горячее, зловонное. Я схватился за перила парадной лестницы, чтобы удержаться на ногах, и стал медленно утекать внутрь себя, будто происходящее переместилось на экран телевизора, а не разворачивалось в той самой комнате, где я находился. Мать открыла дверь, отступила назад и поприветствовала гостя с обычным радушием. Его голос проник в дом раньше его самого и пригвоздил меня к месту. Мать делала мне знаки спуститься и тоже поздороваться.
Я не мог заставить себя подойти ближе, поэтому он сам поднялся и холодно подал мне руку – коротко пожал и тут же отпустил ладонь. Втроем мы оказались у стола в холле, в точности как на рождественской вечеринке. Надо же, словно сто лет прошло.
– Кого-то я недосчитался сегодня на мессе, – сказал отец Грег. Его голос медленно проникал в меня.
– Извините, – машинально произнес я.
– Нет, – засмеялся он, – я говорю с твоей мамой, Эйден. Я думал, может, она придет. Нелегкие выдались праздники, да, Гвен? Вы говорили об этом с отцом Дули?
Мать кивнула:
– Спасибо за вашу заботу.
– Не стоит благодарности. – Отец Грег вдруг как-то заерзал и издал нервный смешок. – Вы одна из моих любимейших семей, и вдруг вас утешает Фрэнк! Не подумайте, что я вами пренебрегаю – я всегда принимал в вас самое живое участие. Можете на меня рассчитывать.
– Вы так добры, святой отец.
– Нет-нет, это мой долг. Я всегда готов вас поддержать, вас обоих. Не хочу показаться невежливым, но порой при материальном достатке мы забываем ухаживать за своим духовным и эмоциональным садом. Порой человеку нужно духовное руководство, пусть даже он понимает это смутно. Это не нотация, Гвен, – поспешил он прибавить, положив руку на плечо моей матери. – Мы же из одной общины. Вы вправе позволить себе принять помощь. – Он засмеялся, искренне и уверенно. – Мы занимаемся этим две тысячи лет, стало быть, некоторый опыт у нас есть.
– Еще раз спасибо, – сказала мать, – но нам с Эйденом требовалось побыть вдвоем, своей семьей. – Она обняла меня за плечи. – Правда?
– Рад слышать, – кивнул отец Грег и на мгновение задумался.
Я хотел, чтобы мать продолжала говорить, перевела бы разговор на свой бизнес, на что угодно, лишь бы выпроводить его за дверь, прочь из нашего дома. От страха я не мог сказать ни слова – ладонь все еще вяло висела после нашего краткого рукопожатия. Но тут заговорил отец Грег:
– Гвен, вот Эйден не даст солгать: мы в Драгоценнейшей Крови Христовой одна семья. Вы всегда были щедрым человеком; позвольте себе получить немного щедрости от других. Вы удивитесь, насколько это целительно. – Он крепко взял меня за плечо – от этой хватки у меня сжалось все внутри: – Ты же хочешь поддержать маму, Эйден? И поддержишь, я знаю, но тебе тоже не справиться одному. У нас вы найдете самую искреннюю поддержку.
Внутри у меня все неистово дрожало, мне захотелось присесть. Я прислонился к мраморной столешнице, но мать стояла прямо, изредка моргая, когда отец Грег говорил с ней. Она выставила перед собой ногу и перенесла на нее вес тела.
– Ну как же, святой отец, об этом мы и говорили целый день, пока были дома.
Отец Грег немного отступил.
– Я лишь по-отечески предложил свою помощь. Я рад, что у вас все хорошо.
– Спасибо за участие, – продолжала мать, – однако у меня сегодня много дел. Простите, что тороплю вас…
– Конечно, конечно, – спохватился отец Грег и взглянул на меня. – К слову сказать, я давно не видел Эйдена за работой. Есть вещи, о которых нам надо переговорить накоротке, да, Эйден? Может, ты бы подъехал в приход?
Они оба пристально на меня посмотрели, но я перевел взгляд на мать, хотя отвечал отцу Грегу.
– Вообще-то я тут поговорил с друзьями, – медленно начал я. – В академии начинаются проекты, в которых я бы хотел участвовать. – По спине побежала струйка пота. Я вытер ладони о брючины. – Вряд ли я снова стану работать в Драгоценнейшей Крови Христовой. К тому же маме может понадобиться помощник, и я хочу иметь побольше свободного времени.
Отец Грег криво улыбнулся.
– Ну, раз так, помоги хоть доделать кое-какие мелочи. Давай все подробно обсудим у меня в кабинете.
– Мне надо доделать домашние задания. Мне в среду в академию.
– Это правда, – подтвердила мать. – И я только рада.
– Понятно. Ясно. Позвольте тогда сразу задать еще один вопрос, раз Эйден не собирается возвращаться к работе… Джека нет, и мне, видимо, придется обратиться к вам, Гвен. Речь идет о ежегодном пожертвовании от вашей семьи… – Мать сквозь зубы втянула воздух и выпрямилась. Отец Грег выставил ладони, словно защищаясь: – Я не имел в виду сейчас, Гвен! Просто Джек проводил это через бухгалтерию до конца года – это влияет на сумму налогов, вы же понимаете. Может, и вам полезно взять это на вооружение в новом бизнесе?
Мать смерила его взглядом.
– Я все прекрасно понимаю. Сейчас мне самой придется принимать решения, святой отец. А теперь вы должны нас извинить, времени уже много…
– Восхищен вашей деловитостью, Гвен, – улыбнулся отец Грег. – Вы живой пример для подражания.
Мы распрощались самым сердечным образом, я даже выдавил что-то вроде улыбки, когда снова пожимал руку отцу Грегу. Жест был таким знакомым, что я чуть не шагнул вперед, чтобы обнять его. Сколько раз я позволял себе упасть в его объятия? Меня замутило, и я ушел в ванную прежде, чем за ним закрылась входная дверь.
Остатки уверенности, поддерживавшие меня в его присутствии, испарились с отъездом матери. На улице было уже темно. Я проводил взглядом скрывшуюся в сумерках машину и поднялся к себе. Однако мысленно я был в кабинете отца Грега. Он цитировал стих из двадцать восьмой главы Евангелия от Матфея: «И се, Я с вами все дни до скончания века», а затем поднимался, обходил стол, присаживался на его край и наклонялся ко мне, обдавая своим дыханием. Он напоминал, что Бог действует через него, что он никогда меня не покинет и что любовь, как и вера, без всякого сомнения, – то, чего мы жаждем. Я верил, что любим.
Меня не покидало болезненное желание, чтобы все стало как раньше – чтобы мы вновь оказались на рождественской вечеринке, и он вывел бы меня подышать, и никого не было бы рядом, когда он смешил меня и давал советы, как не возненавидеть Донована-старшего или мать, и наставлял, как поладить с новыми друзьями, – и еще чтобы я никогда не видел его с Джеймсом, а после не вытирал кровь о его рубашку. Почему я должен принимать правду – что я тоже участвовал во всем этом? Думая теперь об отце Греге, я чувствовал локтями его руки, подтягивавшие меня ближе с такой силой, что оставались синяки, но ведь между нами было гораздо больше! Истина не всегда должна врезаться в нас с размаху, требуя признания, не правда ли?
Я смотрел на стены комнаты – вдруг что-нибудь оживет? Я хотел, чтобы листы бумаги для принтера, сложенные стопкой на письменном столе, взлетели и закружились в воздухе, и чтобы из этого вращающегося дервиша послышался голос, который обратился бы ко мне и подсказал, что делать, и чтобы книги попадали с полок и открылись на нужных местах, выделив отрывки специально для меня. Это была почти молитва – или неистовая мольба об обретении слов, которые я должен сказать матери. Но слова не находились, и я видел себя после признания ее глазами – чудовищем – и искал силы, чтобы нам с ней этого избежать.
Я сидел в кресле и плакал, пока не вспомнил мать в партии Одетты из «Лебединого озера»: блестящая белая пачка, ноги напряжены, она приподнялась на пуантах, готовая к стремительной коде. Она показалась мне гораздо сильнее – я видел ярость в ее глазах. У меня такие же глаза, подумал я. Как и матери, мне придется пробиваться вперед.
Глава 7
К Новыму году мы с матерью готовились по отдельности. Ее сборы начались с самого утра: она соорудила несколько вариантов вечернего наряда и спрашивала мое мнение. Одна из ее подруг встречала Новый год в Нью-Йорке – зарезервировала два места в коктейль-баре в обмен на столик в маленьком итальянском ресторане, о котором я в жизни не слышал, и приняла за них обеих приглашение к одной из бывших коллег матери, жившей на Семьдесят второй улице с видом на парк. Нетерпение матери сказалось на ее способности принимать решения: она перемерила целую гору сапог, балеток и туфель на каблуках, в которых было невозможно передвигаться, и с возродившейся уверенностью расхаживала туда-сюда по галерее над фойе. «Пошел ты знаешь куда?» – кричали все эти шпильки Доновану-старшему через Атлантику.
– Неужели это я? – спрашивала мать, проходя мимо меня.
– А какой ты хочешь быть?
– Вот такой, – засмеялась она. – И выбор за мной!
Они вызвали машину и в сумерках уехали. Вместо того чтобы решать, что надеть, я прикинул, какие бутылки ликера взять из бара Донована-старшего, какие сигары из его хьюмидора и как рассовать все это в карманы куртки вместе с остатками аддерола и другими таблетками из аптечки матери, чтобы при этом не выглядеть клоуном-клептоманом, вперевалку ковыляющим по цирку уродов. Затарившись, я присел на крыльцо, куря сигарету матери в ожидании, пока за мной заедет Марк.
Я почти не верил, что Марк появится, но в конце концов его «Ауди» пронеслась по аллее, плавно обогнув фасад. В машине гремела музыка. Марк открыл пассажирскую дверцу.
– Затуши, а? – попросил он, указывая на сигарету. – Будь это моя машина, то ничего, но она не моя, если ты понимаешь, о чем я.
Я отбросил окурок и сел в машину. Марк мало говорил, пока мы ехали по городу, только спросил, не возражаю ли я против технической остановки. Громкость он не убавил. Обогнув поле для гольфа, мы остановились у самого моста. На грязной дорожке, спускавшейся к прибрежной отмели, к которой кое-как можно было пристать на лодке, Марк выключил мотор. Выйдя, мы прислонились к решетке радиатора, глядя, как воды реки смешиваются с водой залива. Марк поднес зажигалку к тонкому косячку и осторожно его раскурил.
– Чувак, – сказал он, – извини за мое настроение. Меня сегодня малость задолбали. Сегодня бог изрекал свои заповеди. Я даже за руль не могу сесть без мысли, что он где-то рядом, следит за мной и ходит по пятам с этой своей, черт возьми, недовольной складкой меж бровей.
– Бог?
– Мой старикан. Он считает себя богом и ждет, что мы будем повиноваться каждому его дыханию.
– Знакомо, – сказал я, затягиваясь, и задержал дыхание перед тем, как выдохнуть. Это я подсмотрел у Марка. – Только мой уехал навсегда.
– Повезло.
– Может быть, – согласился я.
Докурив, мы сели в машину и поехали к Фейнголду. Ехать туда нужно было по побережью почти до самого океана. Дома в его районе были почти такие же большие, как мой, но стояли теснее. Свет почти нигде не горел, зато фейнголдовский особняк на холме освещал всю округу. По обочинам улицы и подъездной аллеи сплошь стояли машины. Марк проехал дальше и припарковался на углу, в стороне от остальных. Я не заметил, что трясу ногой, пока Марк раздраженно не покосился на меня, и, когда я перестал, мне сразу очень захотелось начать снова. Прежде чем выйти, я показал, что у меня есть.
– Я сегодня ходячая фармацевтическая лавка, – похвастался я. – Хочешь чего-нибудь?
– Не, чувак, – отказался Марк. – Я только травку. Это меня успокаивает. Я кивнул, но не успел убрать пакет, как он добавил: – Но если это твоя тема, я поддержу.
– Есть викодин.
Он кивнул.
– Может, позже.
– Вот это я. – Я вытряхнул на ладонь таблетку аддерола. – С ним я готов ко всему.
– Ясно.
Он молчал, пока я раскрошил таблетку на клочке бумаги на приборной панели, скрутил листок и втянул порошок на одном дыхании. Марк ритмично кивал, будто в машине все еще гремела музыка. Я скомкал бумажку и сунул в карман.
– Все это круто, – сказал Марк, когда мы вышли. – Давай сегодня прикрывать друг друга, а то никогда не знаешь, чего ждать на таких мероприятиях. – Мы взялись за руки, будто собирались мериться силой, и я с облегчением понял, что Марк ведет меня и мне необязательно идти одному.
Мы поднимались к дому, и шум с музыкой становились все громче. На крыльце курила группа подростков. Марк представил меня незнакомым старшеклассникам из нашей академии, вместе с которыми занимался в команде по плаванию. Он прикурил косячок и пустил его по кругу, а я стрельнул у кого-то сигарету. Через окна на первом этаже было видно плотную толпу танцующих; многочисленные гости стояли и у окон второго этажа. Марк прислонился к стене, неопределенно улыбаясь, предоставив беседе идти своим чередом, и иногда кивал, будто зная то, чего не знали мы. Я очень старался общаться на равных, но заметил, что тараторю. После второй сигареты я спросил Марка, не поискать ли нам Джози и Софи, и мы пробились через толпу в дом.
Комнаты освещались тусклыми лампами зеленого, фиолетового и желтого цвета, создавая атмосферу фосфоресцирующей теплицы. В полумраке гости перекрикивали хип-хоп, гремевший в гостиной; некоторые танцевали, переплетаясь ногами с партнером; над головами мотались пластиковые стаканы. На кухне было посветлее. Трое незнакомых парней передавали друг другу бочонок пива и отстукивали ритм, а один вытянул шланг водопроводного крана и орал в него песню, как в микрофон. Софи сидела на кухонном столе; взгляд ее больших глаз метался между двумя парнями, обступившими ее. Ее волосы были короче, чем несколько дней назад, и от этого она казалась старше или как-то опытнее. Один из парней положил руку ей на джинсы.
– Действительно, мягкие, – сказал он, когда мы подошли.
Софи засмеялась, коротко и презрительно. Ее прижали к кухонным шкафам, и она натянуто улыбалась. Увидев нас, она просияла.
– А вот ребята из моей школы, – заявила она, указывая на нас. Махнув ногами вперед, словно давая пинка, она спрыгнула со стола, забросила руки нам на шеи и прошептала: – Бога ради, уведите меня отсюда.
Марк подхватил ее под одну ногу, я под другую, и мы понесли ее через кухню, к бочонку с пивом. Свою чашку Софи держала на отлете, как египетская царица. Она отыскала чистый стакан для меня, мы налили себе выпить и смылись в большую комнату с телевизором, где показывали встречу Нового года в разных городах мира. В Рио-де-Жанейро было начало первого, и на улицах было тесно от красочно одетых гуляющих. Софи рассказывала, что мы пропустили, а я оглядывался и думал: неужели все, кроме меня, вот так проводят праздники? Большинство кричали друг другу всякую чепуху, но какая разница, раз они вместе! На маскараде никому не бывает одиноко, пусть даже кругом незнакомцы. Я на вечеринке! Люди хотят, чтобы я был среди них, и это не сон! Я чувствовал себя как моя мать, словно встал на пуанты и крутил пируэты по диагонали среди кордебалета в белых пачках.
Когда стаканы опустели, я спросил, не поискать ли нам Джози. Софи вытаращила глаза, а Марк впервые после прихода на вечеринку искренне рассмеялся. Софи посмотрела на него:
– Ей, наверное, не помешает компания, пусть она этого и не понимает.
Пробившись сквозь толпу гостей на первом этаже, мы нашли Джози на веранде, где курили девочки из академии. В ее глазах, блестевших, как лед в ночи, отражались огни вечеринки.
– Фейнголд разрешает здесь курить? – удивился Марк.
– Не знаю. Мы же типа не в доме.
– А где, черт побери, сам Фейнголд? – поинтересовался Марк. – Устроил вечеринку, а я с ним еще не поздоровался! – Он оглядел веранду. – Не хочу показаться занудой, но, может, все же спросить у него, нормально ли тут курить. Это все-таки его дом.
– Да нет, ты прав, – сказала Джози. Она затушила сигарету в блюдце горшка с цветком, отодвинула сетчатый экран и выбросила окурок на задний двор. – Я стрельнула сигарету, чтобы передохнуть. Как хорошо на холодке!
– Ага, – ухмыльнулась Софи. – А где Дастин?
– Ушел куда-то. Потом придет меня искать. – Она обнялась с Софи. – Вот еще выпьет и придет.
Джози предложила зарядиться из наших запасов. Мы снова протолкались сквозь толпу гостей и спустились в тускло освещенный цокольный этаж. Дастина там не было, зато оказался еще один бар, где смешивали подозрительные коктейли – со всем, что в голову взбредет. Мы вчетвером устроились у бара, и я налил выпить каждому, кроме Марка. Тут мне на спину легла чья-то рука, а над плечом раздался низкий голос Крейга Риггса.
– Чувак, – тихо сказал он, – рад встрече. Тебя что-нибудь интересует?
Первым моим побуждением было отойти с ним в укромное место, как в академии, когда мы уединялись в его машине на парковке для учащихся или в спортивной раздевалке, когда все были на тренировке, но Риггс заправил длинный каштановый завиток за ухо и наклонился ближе.
– Здесь всем хорошо?
Я купил у Риггса свежий запас аддерола и, смутно ощущая свое лидерство, повел нашу четверку в туалет. Заперев дверь, я раскрошил остатки моего старого запаса, добавил несколько новых таблеток и выложил дорожки на коробке с салфетками. Скатав купюру, я вынюхал первую дорожку, девочки последовали моему примеру, а Марк вновь затянулся травкой. Мы втроем повторили, прежде чем выйти, и я почувствовал, как во мне словно взорвалась и вспенилась бутылка содовой – такого прихода у меня еще никогда не было.
Вернувшись в гостиную, мы узнали, что Новый год вот-вот придет в город Сент-Джон на побережье Канады. Мы лихорадочно танцевали, скрипя зубами и тараторя быстрее, чем губы успевали выговаривать слова. Мы с Марком менялись, танцуя то с Джози, то с Софи, а в какой-то момент и друг с другом (неловкое братское топтанье и перехватывание друг друга за предплечья, как у гладиаторов). Все мы разгорячились и захотели пить, и, только выйдя на веранду с заново наполненными стаканами, поняли, что в Нью-Йорке уже почти полночь.
– Пойти найти этого бойфренда, что ли, – сказала Джози.
Она выгребла полпачки сигарет у девушки, которую тошнило во дворе за кустом, и мы спустились на ступеньку ниже открытой двери и вместе выкурили одну сигарету.
– Это он тебя должен искать, – заметил я.
– Боже мой, – засмеялась Софи. – Джози, а ведь Эйден прав!
– Знаешь что? – сказал Марк. – А пошли-ка ты Дастина подальше!
Джози вздохнула.
– Не говори так.
– Я серьезно. – Марк подошел к ней вплотную и взял за руку повыше локтя. – Дай ему отставку.
Джози с улыбкой наклонила голову набок. Этого ракурса мне не случалось видеть на уроке английского – вид снизу, линия от подбородка до основания шеи. Почему, думал я, самые уязвимые места одновременно наиболее соблазнительные? Я посмотрел в небо, желая уменьшиться, чтобы мои воспоминания стали ничтожными в сравнении с беспредельным простором. Сквозь световое загрязнение я пытался разглядеть звезды, а Марк продолжал:
– Слушай, вот мы все здесь и отлично проводим время без него. И ты тоже.
В доме закричали, что уже пора, прибавили громкость телевизора и выключили музыку. В большую комнату с телевизором набилось еще больше народу. Я подвинулся к Джози.
– В этом году я начинаю новую жизнь, – сказал я. – Моя мать только об этом и говорит, но я, кажется, ее понимаю. – Джози зябко передернула плечами, и я ее приобнял. – Пойдем в дом, здесь холодно.
В комнате, примыкавшей к веранде, было не пройти от гостей, которые веселились у телевизора, подхватывая крики толпы на Таймс-сквер. Меня еще не отпустило после аддерола, и я уверенно вел Джози за руку. Когда мы вошли, она отняла руку, но Марк обнял меня за плечи, между нами протиснулась Софи, и мы снова подняли ее высоко над всеми. Она махала руками, оживляя атмосферу, а я думал: неужели другие люди вот так веселятся и почему внутри меня, хотя я ору под телевизор вместе со всеми, по-прежнему растет черная дыра? Я подхватил общий крик: «Три минуты!» – однако дыра превратилась в тоннель, оставляемый чем-то копошащимся во мне. Это существо внутри меня, карликовое чудовище, с чавканьем прогрызало плоть от желудка к сердцу. Я не хотел думать об отце Греге. Я не хотел, чтобы он находился рядом. Я хотел быть в толпе, среди веселых криков, рядом с Джози, Софи и Марком в кругу крепких объятий, но он оставался внутри меня и шептал: «Я тебя знаю. Я всегда буду рядом, Эйден. Я рядом». На вечеринке словно оказалось два Эйдена: один топал и кричал: «Новый год, Новый год, Новый год!», а второй тихо стоял в темноте, слушая отца Грега, который говорил, что тайна придает значимость их отношениям.
Бутылки пива, вина и шампанского передавались по комнате; стаканы наливались и сталкивались друг с другом раньше времени. Стоял оглушительный шум, и лишь спустя несколько секунд до меня дошло, что Марк кричит мне:
– Куда, черт побери, запропастился этот Фейнголд?
Я попытался оглядеться, но сидевшая на наших плечах Софи покачнулась. Мы удержали ее и восстановили равновесие. Все в комнате хором начали считать оставшиеся секунды. Когда шар времени на экране почти опустился, я подумал о матери, которая с такой же сумасбродной энергией крутится на своей вечеринке в Нью-Йорке и тоже со страстной надеждой твердит про себя: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, люди, замечайте только мое веселье и ничего другого».
Когда шар опустился, комната будто взорвалась. Софи спрыгнула на пол, окатив нас содержимым своего стакана, и поцеловала Марка в губы, а потом и меня. Я завидовал ее свободе и раскованности: печаль словно была болезнью, к которой у Софи был иммунитет. Джози наблюдала за нами. Я наклонился к ней, но она подставила мне щеку. Потом отодвинулась, отбросила волосы за спину, оглядела комнату, снова повернулась ко мне и поцеловала в губы. Нервно засмеявшись, она взглянула на Марка. Он протолкался к ней, и Джози приняла и его поцелуй. Оторвавшись от нее, Марк обнял меня за шею и сказал:
– Донован, а ты ничего чувак.
– Ковольски, – ответил я, копируя его интонацию, – ты тоже ничего. Серьезно, – добавил я и тоже обнял его, задев рукой основание шеи. Марк был мокрым от пота.
Мы неловко простояли так секунду-другую, затем Марк высвободился.
– Вот так и живем, чувак! – крикнул он. – Все через задницу, и командуют нами не те. Добро пожаловать в две тысячи второй год! Мы – поколение отыметых. Нас все имеют.
– Особенно те, кто клянется, что это в наших интересах, – добавил я.
– Да, – согласился Марк. Радости на его лице поубавилось.
– Зато у нас есть хотя бы то, что есть, – сказал я.
– И что же это? – спросил Марк.
Я взял под руку Джози.
– А вот. Мы есть друг у друга. И есть то, что между нами.
Джози подняла свой стакан и постучала им о мой.
– За нас. За всех нас. Где там Софи? – Мы выпили и огляделись. Софи с двумя светящимися лентами, обернутыми вокруг запястий, протискивалась сквозь толпу.
– Суперская вечеринка! – заорала она и пригнулась, вынырнув среди чужих ног. Стакана при ней уже не было, зато она где-то добыла бутылку вина, из которой щедро плеснула мне. В этот момент снова врубили стерео, и все затанцевали под какой-то фанк.
Я протянул свой стакан Марку, но он отмахнулся.
– Ты Фейнголда нигде не видел? – спросил он.
Остальные дергались в танце, но я увидел выражение лица Марка и остановился.
– Пошли поищем, – предложил я.
Марк пошел первым. Мы пробились к дверям и вышли в коридор, где тоже танцевали. Мы спрашивали всех подряд, но Фейнголда никто не видел. Мне показалось, что некоторые из опрошенных вообще не знали, кто это. Среди гостей попадалось все меньше знакомых лиц. Я высунул голову за дверь и оглядел веранду – Фейнголда там не было. Марк пошел наверх, мы последовали за ним. На верхней площадке, не обращая на нас внимания, сладострастно целовалась парочка. В холле, прислонившись к стене у закрытой двери в туалет, стоял Риггс. Глаза у него были осоловевшие, он нас не узнал. Рот его приоткрылся, голова моталась на шее, будто от ветра. Дверь в конце коридора была распахнута, и у меня возникло нехорошее предчувствие, когда Марк направился туда.
Дастин с двумя приятелями в потрепанных бейсболках (они играли в бейсбол за академию) обступили кровать, указывая на обнаженного Фейнголда, распростертого на бежевом покрывале. Он был весь покрыт «татуировками», сделанными несмываемым маркером: на руках и ногах было написано «Пидоры вырубаются первыми», а живот разрисован неумелыми каракулями, изображающими кучки дерьма и мочу. Волосы были вымазаны зубной пастой. Постель в районе поясницы и между ногами была мокрой, пах исчеркан губной помадой, тюбик которой был воткнут в пупок. Дастин, смеясь, направлял фотоаппарат на своих приятелей, Ника и Андре. Ник занес бритву «Бик» над бровью Фейнголда, Андре показывал большой палец, а в другой руке держал маркер. Оба улыбались для снимка. Дастин щелкнул кнопкой как раз в тот момент, когда мы вошли. Обернувшись, он увидел среди нас Джози и сразу сдернул бейсболку, пригладив жидкие светлые волосы. Мальчишеское легкомыслие на его лице немедленно сменилось виноватой миной. Он повернулся к своим приятелям. Ник уже приготовился брить Фейнголду бровь.
– А ну стоять! – заорал Дастин.
Дальше все произошло быстро. Марк бросился на Ника и толкнул его от кровати на шкаф, но, когда он склонился к Фейнголду, лежавшему с закрытыми глазами, его оттащил Андре, скрутив руки за спиной. Софи и Джози закричали на них. Ник поднялся и подошел к Марку вплотную.
– Эй ты, полегче! – сказал он. – Мы просто дурачились. Он сам виноват, первым вырубился.
С другой стороны кровати Дастин успокаивал Джози, но она лишь качала головой и пятилась от него.
– Да что это за хрень? – кричала Софи.
Марк вырывался, но Андре крепко его держал. Марк осыпал всех троих руганью, Ник огрызался. Я двинулся к нему, но Дастин поймал меня за локоть.
– Перестаньте, – сказал он. – Чего вы из мухи слона-то…
– Как можно над кем-то такое устраивать? – спросила его Джози.
– Уроды, – добавил Марк.
Ник крепче сжал мне локоть.
– Заткнись ты!
– Успокоились все! – орал Дастин. – Мы просто пошутили!
– Пошутили? – повторила Джози. – Не смей даже прикасаться ко мне, – сказала она, когда он шагнул к ней.
– Да ладно тебе, – шумно вздохнул Дастин. – Что за фигня?
– Нет, – перебил Марк, – что это за фигня? – Он кивнул на Фейнголда. – Вы от этого кончаете?
– Я, черт возьми, тебе сейчас по-настоящему врежу, если не заткнешься, – пригрозил Ник. – В чем дело? Вы с Эйденом шли отдрочить Фейни или что? Ты поэтому его искал? Я тебя знаю. Я вижу, что ты за птица.
– Как тебе хочется что-нибудь узнать, – саркастически отозвался Марк. – Хочется, а хрен узнаешь.
– Ах ты, педик. – Ник ударил его в живот.
– Хватит! – заорал на Ника Дастин, разжав пальцы.
Я вырвался.
– Успокойтесь! – повторил Дастин, обращаясь ко всем, но мне не требовались его увещевания. Я сомневался, что надаю мощных плюх и вырублю всех врагов. Я никогда еще не дрался, но это было не важно: что-то я сделать мог.
Я пошел на Ника, но он оттолкнул меня в сторону, и я упал возле кровати. Ник снова пнул Марка в живот, но я успел встать и нанести удар. Обернувшись, Ник с разворота сильно двинул мне сбоку в лицо, поднял с пола и снова жестко ударил по голове. Зашатавшись, я повалился на Марка, но его по-прежнему держали за руки, и он не смог меня подхватить. Я съехал по его плечу и рухнул на пол. Девочки завизжали, а я на несколько секунд перестал понимать, где я и что происходит.
Когда я пришел в себя, я лежал на спине. Дастин прижимал Ника к стене. Голова у меня раскалывалась от боли, а Джози с Софи кричали на Андре. Марк подтащил меня к кровати и усадил спиной к ней. Боковым зрением я видел справа свешивающиеся с кровати пальцы Фейнголда. Слева не видел ничего – глаз почти не открывался. В комнате уже находились другие люди, и, хотя разговор становился все громче, превращаясь в гам, обстановка стала спокойнее, чем раньше. Я поглядел на Ника и улыбнулся. Улыбаться было больно, но я не дрогнул. Кровь капала с подбородка на колено.
Джози и Софи присели возле меня на корточки и спрашивали, как я себя чувствую. Я снова улыбнулся.
– Фейнголда-то прикройте, – сказал я.
Марк проворно вскочил на ноги. Софи бросилась ему помогать.
Джози коснулась моего лица, покачала головой и встала.
– Что у тебя вместо мозгов? – спросила она Дастина. Тот отпустил Ника и обернулся.
Ник обошел Дастина и через кровать ткнул пальцем в Марка:
– Я тебя по стенке размажу!
– Никто никого не размажет, – оборвал его Дастин.
– Да пошел ты! – вскинулся Ник. – Сразу хвост поджал, как только твоя девка вошла! А мы ведь как раз о нем говорили…
– Ты оглох? Заткнись! – крикнул Дастин.
Андре схватил Ника за плечо и повел к двери, растолкав собравшихся в коридоре.
– Давай выйдем и поговорим спокойно, – сказал Дастин Джози.
– Не о чем мне с тобой разговаривать, – отрезала она.
Он потянулся к ней, но она ударила его по руке.
– Ну перестань, – заныл он. – Все не так, как тебе показалось, ты должна понять!
Я попытался встать и вмешаться, но меня одолевала слабость, голова кружилась, а Дастин уже обошел меня. Джози пятилась от него по комнате, а он не отставал, умоляя ее не брать в голову. Наконец поднявшись на ноги и увидев в зеркале заплывший глаз и окровавленный рот, я понял, что быстро это не заживет, но не знал, стоило оно того или нет. Два парня и девушка начали одевать Фейнголда. Я кашлянул. Незнакомая девушка подошла ко мне с влажным полотенцем и осторожно приложила его к лицу. Она была ниже меня ростом, прическа у нее напоминала губку, и мне захотелось зарыться в нее лицом и уснуть. Но меня еще потряхивало от аддерола и адреналина – пульс не успевал за скоростью мыслей, мелькавших в голове.
Джози вдруг взяла меня под руку.
– Хочешь, уйдем отсюда?
– Зачем кому-то уходить? – спросил Дастин откуда-то сбоку.
– Тебе уж точно надо отвалить! – сказала «губка».
– Еще чего, никуда я не пойду! Все нормально, пошли веселиться!
– Погляди вокруг, – сказал я. – Где что нормально?
Он двинулся на меня, но Марк его перехватил. Подошли еще двое парней и оттащили Дастина.
Софи остановилась перед Дастином и наставила палец ему в лицо.
– Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты, – произнесла она.
Она подошла ко мне, и я, положив руки на плечи Софи и Джози, поплелся к двери. Они окликнули Марка, и мы вчетвером протиснулись через ставший тесным от сбежавшихся гостей коридор к выходу. Марк перекинулся парой слов с несколькими парнями из команды по плаванию и отправил их приглядывать за Фейнголдом. Прихватив свои куртки и пакет замороженного горошка для моей расквашенной физиономии, мы вышли на крыльцо, где не без некоторой простительной показухи я изобразил тяжело пострадавшего и попросил сигарету на дорожку. Все протянули мне свои пачки.
В машине Джози и Софи твердили, что мне надо ехать домой, но я не хотел. Когда они наконец сдались, Марк сказал, что может отвезти нас на пляж, где прошлым летом тренировался спасать утопающих. Я напомнил, что вечеринку необязательно заканчивать так рано (из меня еще не выветрились спиртное и таблетки).
– Хотите, встретим рассвет? – предложил я. – Я никогда не видел рассвета. Черт возьми, мы же живем, на берегу океана… Суперское начало года. – Я бросил в рот викодин и откинулся на спинку сиденья, предоставив остальным обсуждать идею.
Вскоре мы уже были на берегу. Марк выключил фары и въехал в тень придорожной парковки. Мы быстро прошли по аллее мимо темных, тихих домов и оказались на пляже. Ревел прибой, задувал ледяной ветер. Накануне было полнолуние, и, хотя луна висела в неизмеримой вышине, пляж освещало бледное сияние. Молочно-белесые волны накатывали на песок. Мы шли в нескольких футах от линии прибоя, чтобы не привлекать внимания тех, кто мог проехать по дороге. Шум океана заглушал любые разговоры, к тому же было слишком холодно, чтобы разговаривать. Джози взяла меня под руку и прижалась ко мне. Ее тонкая рука сжала мою через куртку и повела по плотному песку. Я видел только одним глазом, меня мотало между болью и бредом, и ее поддержка не столько помогала мне идти, сколько заставляла оставаться в сознании.
Наконец мы дошли до спасательной станции, и Марк подлез под пандус у неширокого крыльца. Я заглянул внутрь через окно. Комната была достаточно большой, чтобы вместить пару стульев, узкий стол и несколько надувных лодок и досок для серфинга. Марк вылез из-под пандуса с ключом и отпер дверь. Мы были рады убраться с холода – внутри хотя бы не было ветра. Потопав, чтобы ощутить замерзшие ноги, я вынул из внутреннего кармана бутылочку «Мидори» и пустил ее по кругу. Липкая сладость показалась отвратительной, зато внутри стало тепло.
Ветер нашел лазейки в щелях хлипкого домишки и тоненько посвистывал в углах.
– Как дом скрипит, – сказала Софи. – У меня ощущение, что мы в лодке.
Марк прикурил косячок и передал его Софи. Она затянулась и поманила к себе Джози. Они поцеловались, и Джози втянула дым изо рта Софи, затем сама затянулась и подалась ко мне. Ее язык мягко проник в мой рот, и, хотя челюсть ужасно болела, я не отстранился. Дым просачивался наружу, а поцелуй получился долгим, хотя я понял это лишь после того, как он закончился. Софи ухмылялась, а глаза Джози, поднятые на меня, сияли. Мне стало чуть неловко. Я сильно затянулся и, задержав дыхание, наклонился к Марку, поцеловал его и выдохнул как можно быстрее. Он вдохнул и заработал щеками, как кузнечными мехами. Его губы почти не отличались от губ Джози – ну, чуть тоньше и жестче, и он делал это совсем как Джози. Отодвинувшись, он выдохнул мой дым тонкой струйкой из угла рта, улыбнулся и отвел взгляд. Софи и Джози захихикали.
– Да! – протянула Софи.
– Чтоб никого не обделить, – сказал я.
– Не обделить? – Марк засмеялся. – Спасибо за заботу.
Мы обменялись крепким рукопожатием. Марк засмеялся громче и обнял меня за плечи.
– Кроме шуток, спасибо тебе. Иначе ходить бы мне завтра с фингалом. – Он улыбался, и мне показалось, что он снова хочет меня поцеловать.
Комната вдруг накренилась, и я схватился за него, чтобы не упасть.
– Ты чего? – спросил он.
– Да ничего. Воды бы. В горле жжет. – Я сделал еще глоток «Мидори», но это не помогло. Пошатываясь, я дошел до стола у стены и улегся, глядя в окно. Луна стояла еще высоко, но некоторые звезды тоже можно было различить. – Все нормально, не волнуйтесь, – сказал я им.
Джози подошла ко мне.
– Сам с собой разговариваешь? – поддразнила она.
– Не знаю, может, и так. Наверное, это у нас семейное.
Она уселась на стол, скрестив ноги, приподняла мою голову и пододвинулась. Почувствовав затылком ее колени, я улыбнулся. Джози взяла у меня бутылочку, отпила, и мы молча уставились в окно. Она положила руку мне на грудь – полы моей куртки были распахнуты, и принялась нежно ее поглаживать.
– Тебе очень больно? – спросила она наконец.
– Не очень, – соврал я.
– Может, еще обезболивающего?
– Не знаю, – сказал я. – Я вообще не знаю, сколько этого добра я уже сожрал за сегодня. Хоть бы не перебрать.
– А я бы еще одну приняла. Просто так. Я сейчас будто под кайфом, не хочу, чтобы это заканчивалось.
– Слишком много не принимай, ты пила.
– Вау, – засмеялась она. – Неужели заботишься?
– Забочусь. Это же как на льду кататься: весело, прикольно, а потом раз – и проваливаешься в воду.
– И можно умереть.
– Не надо, – попросил я. – Мы, можно сказать, только познакомились.
Джози наклонилась и мягко поцеловала меня в губы.
– Завтра ты будешь как монстр. Ты это понимаешь? Реально страшный.
– Ага, – сказал я. – Но если ты меня еще раз поцелуешь, мне будет все равно.
– Боже мой, – заныла Софи, стоявшая у дальнего окна. – Я вас отсюда слышу, не начинайте!
– Серьезно, чувак, – сказал Марк и закашлялся. Софи похлопала его по спине. – Серьезно, чувак, – прохрипел он снова.
Она засмеялась и затянулась косячком.
Джози улыбнулась.
– Не обращай на них внимания.
– Я ничего, – ответил я. – Мне хорошо.
– Да, – сказала она и взглянула на темные волны далеко от берега. – Мы можем остаться здесь навсегда, вот только замерзнем насмерть.
– Так близко друг к другу не замерзнем, – пообещал я. Мне было радостно это говорить и нравилось, как наши голоса звучат вместе, но у меня возникло странное ощущение, будто говорит кто-то другой, а я прячусь под столом и слушаю этого другого-марионетку, и того меня, который под столом, не покидает предчувствие грядущих бед, словно совсем рядом кто-то или что-то поджидает меня, чтобы все это отнять, и такая развязка неизбежна.
Я прикурил сигарету, и мы курили по очереди, слушая гулкие удары прибоя и свист ветра. Я гадал, нельзя ли стереть все события моей жизни до этой минуты, будто в моих силах было вызвать наводнение, которое все смоет, и начать заново. Я воображал, как океан подступает к песчаному пляжу, окружает маленький домик, затапливает окрестные кварталы, вода поднимается, нас подхватывает, и мы возносимся над этим разгулом стихии. Я бы спас по паре самого важного: два косячка, два мартини, двух девушек и двух парней. Мы бы смотрели в окно, как бурлящая мутная вода захватывает все новые территории, и наша лодка трещала бы и стонала, с плеском и брызгами переваливаясь через гребешки волн. Мы бы вывалили за борт весь мусор: домашние полки, набитые барахлом и финтифлюшками, наши компьютеры, нотные листы с произведениями, которые надо разучивать, нашу одежду и школьную форму, всю целиком латынь и наши худшие воспоминания. Что еще нужно, кроме сияния кожи Марка, электрического гудения в губах Джози и прищура Софи, когда она смеется? Когда вода схлынет и все будет смыто, мы сможем подняться из навоза и расцвести. И, может, тогда вырастет что-то новое.
Но наводнения не было. Ждать рассвета мы не стали: в какой-то момент Джози слезла со стола, поцеловала меня в лоб и отошла к остальным. Я задремал, пока они говорили, но вскоре проснулся оттого, что меня тащат на пронизывающий ветер и ведут по пляжу на дорогу. Марк спотыкался, как и все остальные. Я подумал, что он не привык ходить по песку, но его шаги остались нетвердыми и на асфальте. Я закурил, чтобы проснуться, и успел докурить сигарету, прежде чем мы дошли до машины. По дороге домой девочки заснули, а мы с Марком говорили о Фейнголде. Марк не сомневался, что больше ему никто ничего не сделает, но его возмущала обстановка на вечеринке.
– Никто ни за чем не смотрит, – повторял он. – Полный хаос.
На поворотах Марк описывал слишком широкую дугу. От напряжения я не засыпал. Дважды я опускал стекло, чтобы подставить лицо холодному ветру, и Марк делал то же самое. Он высадил девочек у дома Джози, и они, сонно попрощавшись, поплелись по аллее. Мы с Марком почти не разговаривали, пока он выезжал из их района, направляясь в наши края. Когда у подножия холма он свернул, машину вынесло на встречную полосу. Нас ослепили фары, я заорал, но Марк успел вывернуть руль. Мы вылетели на обочину и ткнулись в деревянный щит у пешеходного перехода.
Марк сидел, стиснув руль.
– Вот черт, вот черт, – повторял он.
Мы вылезли, осмотрели машину и поняли, что легко отделались – Марк ехал медленно. Осталось несколько царапин и вмятин, про которые можно что-нибудь наврать. Но Марк все равно схватился за голову, прислонившись к машине.
– Рано или поздно они все узнают, я это чувствую. Встанут со своими недовольными гримасами, воплощенное неодобрение, и будут качать башками, говоря: «М-да, мы знали, что из него ничего не выйдет, вот знали, и все».
– Ты про кого?
– Про родителей.
– Чувак, – сказал я, указывая на свое лицо, – зато ты хоть не выглядишь как я. – Марк засмеялся и всхлипнул. – Нет, серьезно, – продолжал я, – разве они не хотели, чтобы ты развеялся? Мне, конечно, придется что-нибудь наплести насчет разбитой морды, но когда мать узнает, что я веселился в компании друзей, у нее отляжет от сердца.
– Я не о веселье, – сказал он. – Об этом даже речь не идет. Веселье, видишь ли, надо сперва заслужить, как рай после смерти, а я еще не заслужил. Мне сначала надо стать сенатором.
– Сенаторы как раз знают толк в развлечениях, – возразил я.
– Ха, – ровно произнес Марк. – В нашей семье заведено иначе. Дело прежде всего. Отец считает, пора Ковольским двигать в политику.
– Тогда почему сам не двинет, зачем тебя пихает? Тебе это надо?
– Я не знаю, что мне надо. Я только не хочу никого разочаровывать, пока не разберусь, что мне все же надо.
– Как я тебя понимаю, – сказал я, подумав, сколько раз я слышал эту фразу и что она значит для меня сейчас. Изречение, которое преподносят как правду, а на деле откровенная ложь. Мне хотелось сказать что-нибудь, кроме этой чуши.
Марк теребил подбородок, обхватив себя другой рукой, и глядел в землю. Мне нечем было его подбодрить; я лучше умею принимать удары в лицо, чем вселять надежду. «Да ерунда все это, – хотелось мне сказать. – Возьми себя в руки, чувак, и научись, справляться с ситуацией».
– Поехали отсюда, – сказал я вместо этого. – Только домой меня не вези. Хочу знать, что ты нормально добрался.
Он остался благодарен, а по дороге его благодарность еще возросла, потому что стало ясно, что придется регулировать сход-развал. Ехать было можно, и Марк решил, что починит машину без ведома родителей, но вранья уже накопилось достаточно, и Марк волновался, что половину забудет. Мы подъехали к длинной аллее, огибающей его дом на холме. Марк заехал на газон, не заметив этого, и заглушил двигатель.
– Значит, еще раз: куда мы сегодня ходили?
– Мы ходили ко мне домой. – Я расстегнул куртку и вытащил пакетик. – Хочешь снотворного? Успокоишься и не будешь всю ночь бегать по потолку как сумасшедший.
– У тебя много, – сказал он, забирая у меня с ладони две таблетки.
Одну он проглотил сразу, другую положил в карман и сидел, ожидая, пока подействует, будто затянулся своей травкой. Я улыбнулся и тоже развалился на сиденье. Мне бы пакет со льдом, но в моем распоряжении был только викодин, таблетку которого и я бросил в рот. Я уже готов был прощаться, но мне не хотелось домой, и я некоторое время молча сидел рядом с Марком.
– Тебе пора, – сказал я наконец, но Марк не двинулся с места.
– Слушай, а тебе Джози нравится? – спросил он, чуть приподняв голову. – По-моему, ты ей нравишься.
– Господи, я не знаю. К тому же у нее есть парень.
– Ну да, – сонно засмеялся Марк. Я забеспокоился, но тоже не мог двинуться – тело расслаблялось слишком быстро. – Он уже вчерашний день, – речь Марка немного плыла. – Вот увидишь.
– Ну, я не знаю…
– Я подумал, может, ты гей? – Голос Марка поднялся на последнем слове, будто он задавал вопрос, но я ответил не сразу, потому что не знал как. Я знал, что хочу Джози, но не мог доверять своим желаниям. Отношения с отцом Грегом я никогда не расценивал как секс – мое тело работало по команде. С Джози все было иначе.
Марк съехал набок, уронив голову на подголовник, сонно улыбнулся мне, его рука задела рычаг переключения передач и упала на сиденье рядом со мной. Веки его опускались на глаза и вздрагивали – Марк боролся со сном.
– Так ты того или нет? – спросил он. Сейчас он казался моложе, менее опытным и пресыщенным, чем обычно. Таким я его никогда не видел. Может, наркотики сняли с него броню, или это был поступок, для которого он весь вечер набирался мужества (или я зоркости), но мне показалось, что Марк смотрит на меня с непонятной надеждой.
– Ты нас разве не видел? – спросил я наконец. – Нас с Джози?
Он не ответил. Его губы разомкнулись с чуть слышным «пф», щека смялась о подголовник, плечи расслабились. Дыхание, вырывавшееся из приоткрытых губ, оставляло влажное облачко на кожаной обивке. Я никогда еще не видел, как человек засыпает, не видел такой беззащитности.
Мне тоже очень хотелось спать, и я уснул бы даже в таком холоде, но через силу вылез из машины. Бросить Марка было легче легкого, но я не мог это сделать. Ковольски приедут только завтра, но нельзя же, чтобы они нашли сыночка спящим в машине. Я вынул ключи из зажигания, поднял Марка и попытался его разбудить. Он что-то пробормотал, не открывая глаз. Я забросил его руки себе на плечи и потащил к боковому входу. Его ноги скребли по земле.
Он проснулся и спросил, нельзя ли присесть. Я опустил его на крыльцо. Он наклонился к кустам, и его вырвало. Я отвернулся, чтобы не сделать то же самое, но, когда снова посмотрел туда, Марк лежал лицом в луже рвоты. Я быстро перевернул его на спину.
– Вот черт, – пробормотал он.
Его рубашка и брюки промокли от того, что из него вышло, но куртка была расстегнута и осталась относительно чистой. Я стянул с него куртку. Марк не отреагировал, когда я спросил, легче ему или нет, только улыбнулся с закрытыми глазами.
Один из его ключей подошел к боковой двери, и я втащил Марка в темную прихожую, усадив на скамью. Боковой вход, как и у нас в доме, вел на кухню. Я нашел бумажные полотенца и вытер Марка как мог тщательно, однако от одежды все равно отвратительно пахло.
– Марк, – позвал я.
Он крепко спал. Не без труда я стащил с него туфли, затем штаны и рубашку. Я выгреб открытый пакетик с марихуаной из его кармана и сложил одежду в мешок для мусора. Глядя на вытянувшегося на скамейке Марка, легко было убедиться, что он по любым меркам красив той красотой, о которой мы все мечтали. Плечи и грудные мышцы рельефно обрисовывались под футболкой, бугор в плавках здоровенный. Я мог провести ладонью по длинной линии его ножных мышц, мог потрогать где угодно. Я мог сделать с ним что хочу, вылепить из него, как из глины, орудие для любых целей, и во сне Марк робко улыбался, словно ободряя меня. Передо мной распростерся Человек из бронзы с сияющей кожей, и воздух вокруг дрожал от мольбы и желания.
И я решился – провел рукой по его коже, задержав ладонь в паху. Постояв минуту, я убрал руку: во мне ничего не дрогнуло. Я хотел Джози. Я готов снова поцеловать Марка, если это игра, в которой участвуют и девчонки, но мне не хотелось. Мне не нужно было тело Марка, я желал лишь его дружбы. Мы только-только входили в жизнь. Я хотел знать его мнение об этой жизни, хотел познавать мир вместе с Марком. Разве это тоже не род любви, не имеющей ничего общего с сексом, но в которой важно все остальное, объединяющее двоих людей?
Я подхватил Марка под мышки и поволок почти обнаженное тело через кухню и коридор в «берлогу» с огромным плоским телевизором. Уложив Марка на диван, я накрыл его одеялом и сел у дивана, поглядывая на его спокойное во сне лицо. Я не мог ответить Марку тем, чего он от меня, по-моему, ждал, но он был моим другом. Я восхищался им, но не знал, как ему об этом сказать.
Пульт был рядом, и я включил телевизор. Конфетти, фейерверки, концерты, толпы, дергающие головами в такт музыке. Праздник испускал дух в Нью-Йорке, но ночь закончилась не везде, праздновали по всей Америке, и я еще не хотел ложиться спать. Где-то бодрствовала и моя мать, не засыпая, чтобы не пришлось просыпаться, оттягивая наступление завтра с его неизбежным одиночеством, обнимая кого-нибудь своими по-птичьи тонкими руками. Я ничего не имел против. Я надеялся, что вскоре у нас появится тот, на кого можно хоть временно опереться, вспомнив, что жизнь продолжается.
Глава 8
Вздрогнув, я проснулся и поднял голову – она лежала на голени Марка. Телевизор еще мигал, но голоса, которые я услышал, доносились не оттуда. Голоса кричали на Марка, и в комнате они появились до того, как я смог двинуться и сообразить, что происходит.
В поле зрения вплыло брюхо Майка Ковольски – рубашка поло цвета лаванды заслонила пол-экрана.
– Это что здесь происходит?!
Барбара, вошедшая секундой позже, издала короткий шокированный вскрик. Марк быстро сел, моргая и силясь проснуться. Дневное солнце ярко светило в окно. Я, оказывается, заснул в куртке и сейчас был весь мокрый от пота. Барбара нагнулась и выхватила «Мидори», торчавшую у меня из кармана. Я и не заметил, что бутылка у меня в кармане, и не помнил, чтобы мы столько выпили, но во рту действительно стоял приторный вкус. Барбара показала бутылку мужу, держа ее на отлете.
– Жалкое, ничтожное зрелище, – сказал он.
– Пап, – начал Марк.
– Я не желаю слышать ни единого извинения! Я не желаю знать, что произошло! Посмотри на себя! Боже, Марк, где твои штаны? Чем вы занимались?!
Марк густо покраснел и набросил на бедра край одеяла.
– Нет, пап, но…
– Хватит. Вранье, вранье, вранье – все, что ты можешь сказать о себе непосредственно сейчас. Вранье. Машина всмятку, и ты заехал на газон. Тебе еще повезло, что ты жив! Ты что, пропащий? Ты хочешь бездарно просрать свою жизнь?
– Майкл, – начала Барбара, но замолчала, поймав взгляд мужа. Ничего из того, что говорил Майк, я точно не помню. Тогда я думал, что мы выкрутимся, и обернулся к Марку напомнить, как мы договорились отвечать. Шея ужасно затекла.
– Пап, – снова сказал Марк.
– Я не желаю ничего слушать! Я не хочу знать, как ты скомпрометировал себя и свое имя – и мое заодно! Ради этого я всю свою жизнь пашу как проклятый? Чтобы ты приводил в дом своего оболтуса приятеля и расхаживал перед ним в одних трусах? Ты решил, что можешь все промотать, расшвырять, обгадить все, что я создал?
– Майкл!
– Папа!
– Хватит, – сказал Марку Ковольски-старший, наставив на него короткий толстый палец.
Барбара перешагнула через меня и присела на подлокотник дивана рядом с сыном. Обняв его, она зашептала ему на ухо:
– Расскажи мне, что случилось, дорогой. Я постараюсь не сердиться.
Майк забегал по комнате, бормоча:
– Полное отсутствие уважения! Пол-но-е! – Он потряс рукой и стиснул пухлый кулак.
Барбара мягко покачивалась с сыном в обнимку.
Марк расширенными глазами уставился в пол. Руки лежали на коленях, большой палец едва заметно подергивался, рот был сжат в неподвижную плоскую полоску. За моей спиной Майк на повышенных тонах требовал от меня побыстрее убираться. Барбара согласно кивала, но их вопли пугали меня меньше, чем отстраненность Марка. Он будто покинул свое тело, бросил его, как случайную жертву громогласного насилия, совершавшегося в комнате, и сбежал куда-то в тишину. Это убежище было мне хорошо знакомо – я был не прочь за ним последовать. Я устало поднялся на ноги.
– Наверное, мне нужно позвонить матери, – сказал я.
– Да, и я тоже хочу с ней поговорить, – заявил Майк. – Это, должно быть, она дает тебе спиртное? Захотели втянуть моего сына в свои семейные проблемы, да?
– Семейные проблемы?
– Да. – Он шагнул ко мне. – Тебе необходимо утянуть за собой на дно кого-нибудь еще, в этом все дело?
– Не так бы вы пели, будь мой отец дома, – сказал я, в свою очередь ткнув в него пальцем.
– Да как ты смеешь говорить со мной в таком тоне?!
– Посмотрите сюда. – Я указал на свой опухший глаз. – Думаете, меня что-нибудь волнует?
Майк в гневе бросился к телефону и набрал номер моей матери. Барбара отчитывала меня, но я не слушал.
– Мне очень жаль, чувак, – сказал я Марку. – Ты уж извини.
Пока мы ждали мою мать, Майк в холле читал мне нотацию. Я извинялся, но интонация разоблачала все, что я говорил. Майк пытался объяснить, почему мы должны бояться того, чего люди вроде него велят нам бояться, и почему должны слушаться и уважать тех, кто за нас отвечает. Все, что он говорил, отдавалось оловянным эхом слов, которые однажды произнес отец Грег, и теперь, когда я снова слышал их, они казались еще более неискренними и пустыми.
Я думал, мать пришлет за мной машину, но она приехала сама и окончательно удивила меня, когда, не выключив мотор, побежала по дорожке к дому. Подойдя, она выдержала паузу, подчеркнуто разглядывая мое отекшее лицо, затем за локоть привлекла меня к себе и обняла. Майк попятился, и я увидел, что он сник.
– Гвен, – слабо начал он.
– Сыночек, – сказала она мне, игнорируя Майка, – что случилось? Тебе плохо? Сейчас в больницу поедем. Ты мне не сказал, что он так выглядит, – бросила она Майку через плечо. – Ты что, с ума сошел? Стоял и смотрел, как мой сын истекает кровью у вас на ковре? – Она развернулась и пошла на него: – А где твой сын? Ему тоже нужен врач?
– Так, Гвен, погоди, не увлекайся. Нет никакой необходимости…
– Ты не специалист, Майк Ковольски.
– Гвен, пожалуйста, – обескураженно сказал Майк. – Я думал, мы поговорим об определенных правилах…
– С чего это ты вдруг так нос задрал? Я сумею позаботиться о сыне сама, спасибо! – Она повела меня к двери. Майк шел сзади и что-то говорил, но мать, не слушая, усадила меня в машину. Майк рассыпался в извинениях. Открыв дверцу со своей стороны, мать выпрямилась. Под ее взглядом Майк начал беспомощно заикаться. – Майк, – оборвала она его блеянье, – спасибо за звонок. – Это было сказано раздельно и с безукоризненной вежливостью. – Приятно узнать, что у меня есть друзья, на которых можно положиться. Передай Барбаре, чтобы не беспокоилась: я по-прежнему готова поделиться с ней идеями насчет ее вечеринки. Я приглашу ее ко мне в офис, когда буду готова.
Старый профессионал, она отложила боль и отчаянье и надела маску непробиваемой приветливости. Я невольно восхитился столь деловым подходом. Заткнув Майка, она каждой улыбкой будто отталкивала его к крыльцу. Сев за руль, мать переключила рычаг на драйв, и мы широким виражом выехали на улицу, не попрощавшись.
Я рассказал ей, что получил в лицо исключительно благодаря солидарности с друзьями, и мать кивнула – не без ворчания, но с пониманием и гордостью. Она очень беспокоилась, хотя я уверял, что это только выглядит устрашающе. Пришлось упрашивать ее не везти меня в больницу.
Она рассказала, что по телефону Майк назвал ее матерью-одиночкой.
– Мужчины считают, что во всем разбираются лучше нас. Он возомнил, что теперь, когда ушел твой отец, мною нужно руководить. Можно подумать, твой отец часто бывал рядом!
Мы остановились на красный свет, и мать снова предложила заехать в больницу.
– Ну, пожалуйста, – уговаривала она, – мне будет гораздо спокойнее, если тебя осмотрит специалист.
– Да не надо, Елена завтра что-нибудь придумает, когда вернется.
– Елена?!
– Да, – продолжал я. – Она-то знает, что делать. Давай поедем домой.
– Елена? Вот даже сейчас ты думаешь о Елене?! А почему это я не могу о тебе позаботиться?
– Д-да брось ты, – начал заикаться я. – Ты – это ты, а она – это она, и…
– Как это понимать, черт побери? – заорала мать. Замолчав, она глубоко подышала и продолжала спокойнее: – Послушай, Эйден, я сейчас стараюсь изо всех сил, ты же видишь. Мне бы очень хотелось видеть от тебя хоть какое-то содействие. Я пытаюсь сплотить нашу семью, пусть даже мы с тобой остались вдвоем, и даже малюсенькая поддержка от собственного сына меня бы очень, знаешь, подбодрила. К тому же Елена у нас больше не работает, так что привыкай.
– Ты не уволишь практически родного человека!
– Уже уволила. Осталось договориться, в какой день она приедет за вещами. Елена нам не родня, Эйден, вот что я пытаюсь до тебя донести.
Мне хотелось закатить скандал, но я не знал, что сказать. Фамилию мне дал Донован-старший, но именно Елена вырастила мальчика, которому он дал свою фамилию. Но тогда при чем тут, получается, мать?
– Практически родня, – возразил я. – Нельзя так поступать с человеком.
– Ох, Эйден, когда же ты повзрослеешь…
– Мне хорошо, когда она рядом, – сказал я.
– Я об этом думала.
– Да?
– Да. – Мать покачала головой и улыбнулась. – У меня была педагог, хореограф. Мне казалось, без нее я ничего не могу. Я была юной и не понимала, как танцевать без наставницы. Когда по семейным причинам она вернулась в Вену, я вообще собиралась бросить балет, но потом решила заниматься самостоятельно и подготовилась к экзаменам в Джуллиард[7]. Меня приняли. Это жизнь, Эйден. Понимаешь, можно справиться и самому – необязательно цепляться за людей, без которых, кажется, и дня не проживешь. Мне повезло, я поняла это в юности, но, представляешь, почти забыла тот урок. Твой отец ушел, это факт, но есть и другой факт: он мне не нужен.
Мамина зажигательная речь помогла мало: дома мы избегали друг друга. Я сидел в своей комнате, спускаясь только за льдом для ушиба, и в конце концов почувствовал, что мне необходимо выбраться из дома, и вышел пройтись. Я понимал, что у меня похмелье, обезвоживание, головокружение, и синяк болезненно пульсировал в такт биению сердца, но мне не давал покоя более глубокий, глубинный дискомфорт. Мне хотелось поскорее снова увидеть Джози, Софи, Марка, но я нервничал и боялся возвращаться в академию. Все будут пялиться на меня в коридорах и сквозь черный синяк прочтут мои мысли. Тонкая маска – опухшее лицо – окажется бесполезной и не скроет дефективного, полупомешанного, психованного, запутавшегося пацана. В меня будут тыкать пальцами и говорить: «Мы так и знали, мы догадывались, что он гомик, онанист, игрушка священника. Кто ты, а, Эйден?»
У меня не было ответа. Но я уже стал кем-то для Джози – я по-прежнему ощущал вкус ее губ. Когда она склонилась надо мной в лодочном домике, я чувствовал запах ванильного шампуня от ее волос и едва заметный аромат кокосового масла, исходивший от кожи. Я еще не принимал душ, храня на себе эти запахи, напоминавшие, как моя голова лежала у нее на коленях. Но кто я для Джози? Она так мало обо мне знает, а если узнает больше, что тогда? Зачем ей тратить на меня время? Я увлекся ею, странно и сильно, и желание испытать все это снова сводило меня с ума. Тягостно было думать о Марке – как он глядел на меня со скамьи в прихожей и как я гладил его холодными руками, чтобы доказать себе: его тело не может меня согреть. Помнит ли он об этом? А вдруг он спросит? Что мне ответить, чтобы он не убежал от меня подальше?
Я брел через весь город много раз хоженной дорогой, мысленно возвращаясь к одним и тем же вопросам, пока не оказался напротив прихода Драгоценнейшей Крови Христовой. Как пальцы и руки помнят мелодию на пианино уже после того, как вы забыли пьесу, так ноги сами принесли меня к началу длинной подъездной аллеи, пока я ломал голову, гадая, как ответить на вопросы, которые были мне не по уму. Он там, облизывает губы, размышляет над теми же затрепанными максимами, которые испробовал на несчетном количестве мальчишек. Мне хотелось закричать, взреветь, разнести это заведение вместе с ним, чтобы камня на камне не осталось. Однако тупая боль все еще ворочалась внутри меня – память о тех временах, когда его голос успокаивал меня, его слова обнадеживали меня, а вера в него вела меня. Теперь все это ушло.
Не знаю, сколько я стоял на улице, глядя на приходской дом, но в конце концов заметил, что день понемногу тускнеет, и не мог уже перестать думать о том, как следил за угасающим днем из подвала, когда там побывал Джеймс. Казалось нереальным, что я тоже когда-то был таким мальчишкой. В голове калейдоскопом закружились другие воспоминания, и я никак не мог переключиться, думая только о своем пребывании с отцом Грегом. Я вынул аддерол из внутреннего кармана пиджака, попытался раздавить таблетку в ладони и вдохнул неровные кусочки с кончиков пальцев. Ноздри обожгло, будто я щелкнул под носом зажигалкой «Зиппо». Во рту возник вкус, будто я проглотил пищевой соды, и полились слезы, которые я не сдерживал, говоря себе, что это аддерол, и больше ничего.
Голова качалась, и, пока я пытался взять себя в руки, включились задние габариты приходского «Линкольна», и лимузин задом выехал с парковки. Я бросился в сторону, надеясь, что сидящий в машине меня не заметил. Я торопился под гору, к центру городка, и, сворачивая на Норд-стрит, заметил сзади мелькнувший голубой «Линкольн». Он перестроился, сбросил скорость, но проехал мимо. Я не разглядел сидевшего за рулем, но в этой части города у меня не было выбора, кроме как обогнуть нашу академию, пройти мимо Стоунбрука и срезать путь по шоссе ближе к бухте, чтобы вернуться домой. «Линкольн» скрылся из виду, но я бросился бежать изо всех сил.
Я пробежал до самого Стоунбрука, прежде чем снова увидел его. Я был на мосту, недалеко от квартала, где жил Марк, когда «Линкольн» появился за моей спиной и направился к вершине холма. Он ехал с включенными фарами, и, едва свет мазнул по дороге и нашел меня, прибавил скорость. Я сделал еще несколько десятков шагов, но понял, что автомобиль несется прямо на меня. Я повернулся и побежал обратно через мост, слыша, как приближается машина. Вдоль шоссе, на склоне, спускавшемся к заливу, тянулась жиденькая полоска деревьев, а по другую сторону начиналась территория загородного клуба. «Линкольн» засигналил. Я отскочил на обочину, к деревьям, росшим по границе поля для гольфа.
– Эйден! – раздалось за моей спиной.
От его голоса все еще было больно.
– Эйден! – Я понял, что он вышел из машины. Он повторял мое имя, когда я прорвался через деревья и попал в первую же песчаную ловушку. Я подумал, что если бежать напрямик, то я окажусь на холме быстрее его, но ловушка меня задержала. Выбираясь, я снова услышал его голос. Он тоже выбежал на поле и далеко обошел песок, отрезая мне возможность броситься напрямик через фервей[8]. Он был одет как обычно – в черные брюки и застегнутую до горла рубашку со стоячим белым воротником. Он вперевалку шел за мной, двигаясь неуклюже, но так быстро, что я изумился. Когда я выбрался из песчаной ловушки, он оказался совсем близко. Раскрасневшись и тяжело дыша, он снова закричал:
– Эйден! Мне надо с тобой поговорить! Остановись, пожалуйста!
Я бросился вправо, к другому ряду деревьев, и побежал изо всех сил вверх по склону. По траве я смог увеличить расстояние между нами, но он нагонял меня. У самой вершины я бросился в гущу деревьев, обрамлявших быструю речку, текущую по холму, нырявшую под мост и впадавшую в залив. На поле для гольфа речка сужалась и расширялась только ближе к улице и мосту. Я прыгнул на склон и побежал очертя голову, ломая тощие деревца и ветки, чтобы не сорваться в воду. Оказавшись внизу, я оглянулся. Отец Грег появился на вершине, где я стоял несколько секунд назад. Он остановился, опустился на колени и несколько секунд пытался отдышаться.
– Эйден, – прорычал он. Больше он ничего не смог добавить и начал спускаться.
Я, спотыкаясь, подобрался к большому дереву, упавшему через реку – корни торчали в разные стороны. Вывернутая земля у основания была темнее, чем почва вокруг. Ухватившись за корень, я одним прыжком вскочил на ствол. Отец Грег с треском ломился через кусты над моей головой, и, когда я медленно пошел по стволу, я услышал, как он упал. Он застонал, ударившись о землю, покатился, врезался спиной в дерево и поэтому не упал в реку. Я замер, стоя на стволе. Густой запах влажной земли и плеск быстрой, бурной реки заглушали тишину, пока я ждал, когда он двинется. Он сел, вытер лицо и отряхнулся. Лицо у него было исцарапано; попытавшись встать, он с криком схватился за бок. Подняться он не смог. Привалившись к дереву, он смотрел на меня, кашляя и постанывая. Я ждал.
– Пожалуйста, Эйден, – сказал он, – пожалуйста, выслушай.
Он едва мог двигаться, но с каждой секундой, казалось, приходил в себя. Он овладел собой и взглянул на меня, держа голову прямо. Не далее чем прошлым летом я видел синяки у себя на плечах – он стискивал меня, пока я подчинялся ему и делал, что он говорил. Я представил, как хватаю толстый сук и луплю его, представил, как забиваю его камнями. Где-то глубоко внутри себя я видел, как наши руки тянутся друг к другу, сцепляются и подтягивают нас ближе – от этого до сих пор теплело на сердце. Эта мысль появилась и умерла. Все, чего я хотел, – меньше бояться и не чувствовать себя таким одиноким и несуществующим. Пусть он и вдохнул в меня какое-то подобие жизни, теперь я ему ничего не должен.
– Мне надо с тобой поговорить, – сказал отец Грег, потирая голову.
– Нет, – отрезал я.
– Послушай себя. Ведь необязательно, чтобы все так было.
– Вы сами все таким сделали.
– Я ожидал от тебя большего, Эйден. – Он покачал головой.
– Пожалуйста, держитесь от меня подальше.
Отец Грег тяжело оперся на локоть и сел прямее. Я снова начал говорить, но он поднял руку:
– Нет. Послушай. Ты меня неправильно понял.
– Я не могу и не буду. Не прикасайтесь ко мне. Не подходите ко мне. Держитесь от меня подальше.
Он закашлялся.
– Ничего больше не случится между мной и тобой. Я этого не хочу. Все кончено, Эйден, все кончено.
– Я не хочу иметь с вами ничего общего.
– Нет, нет. Ничего и не было.
– Что?!
– Это же ничего, не правда ли? Несущественный, незначительный эпизод. Случайность. Все кончилось. Все в прошлом. Будто ничего и не было, Эйден. Это же ничего. – Он откашлялся и с помощью обеих рук сел поудобнее.
Я потерял дар речи.
– Но это было! Было!
– Можно сказать, что нет, это же ничего не значило.
– Значило, – сказал я. Горло у меня сжалось помимо воли. – Значило. И это было.
– Все кончено. Ты должен понять, Эйден. Все кончено, тебе надо двигаться дальше. Будь мужчиной, Эйден. Забудь это. Это ничего не значило.
Я присел на стволе. Руки начали дрожать.
– Зачем вы со мной говорите? Перестаньте разговаривать!
– Я пытаюсь тебя защитить, Эйден. Вспомни все наши беседы, как я помог тебе задуматься о твоей семье! Подумай, сколько работы мы вместе сделали, – подумай о всех ребятах, у которых теперь есть школы. Мы столького добились…
– Прекратите, – взмолился я. – Перестаньте, пожалуйста. – Все это было правдой. Все, чем я гордился, все, о чем я мечтал, могло стать трамплином, с которого я прыгну в дальнейшую жизнь.
– Нет, потому что я забочусь о тебе, – продолжал отец Грег. – Если ты расскажешь людям обо мне, они и о тебе узнают. Что они подумают о тебе, Эйден? Я тебе с самого начала говорил – они не поймут. – Он улыбнулся. – Видишь, я тебе не лгал. Нам надо быть осторожными. Я-то уже старею, но ты, Эйден, что станется с тобой, если ты кому-нибудь скажешь? Что будет с твоей матерью? Что о тебе будут говорить, если узнают? Ты уже кому-нибудь рассказал?
– Нет.
Он улыбнулся и шевельнулся, но не поднялся на ноги.
– А твои друзья, которые приходили к вам на праздник? Ты же не открыл им, что было между нами? Ты ничего не говорил Елене, приятелям? Будь осторожен, никому не говори об этом. – Он подался вперед: – Точно не говорил? Ни Марку, ни девочкам?
– Нет, никому.
– Ни о чем?
– Ни о чем.
– Хорошо. Тогда ты в безопасности, – сказал отец Грег, снова привалившись к дереву, и глубоко вздохнул. – Пока это остается тайной. Я забочусь о твоей безопасности, разве ты не понимаешь? Я всегда заботился о тебе, Эйден. Подумай, сколько мы вместе сделали. Вот что важно. Я имею в виду, то, что мы сделали для других. – Его голос звучал механически, как старая запись, а не речь человека, которого я когда-то знал.
– Не могу, – сказал я. – Это тоже бессмысленно. Теперь все потеряло смысл.
– Ты это не всерьез, – не поверил отец Грег. – Не может такого быть.
Он посмотрел в темнеющее небо, втянул воздух, зарычал, откашлялся и сплюнул в грязь. Он вытер кровь от ссадины на шее и стер с костяшек кровь большим пальцем. Я столько раз искал звука его голоса, слушал его с охотой, надеждой и желанием, которое называл любовью, что до сих пор меня тянуло к нему некое подобие любви или того, что остается, когда любовь проходит.
Я остался на стволе, слушая шум воды внизу. Наконец отец Грег встал с земли, опираясь на ствол, и, спотыкаясь, пошел ко мне. Он поскользнулся, но схватился за другой сук. Его волосы были перемазаны и стояли дыбом, рубашка разорвана и выпачкана землей. Ногу он, видимо, повредил, потому что хромал. Меня поразила мысль о том, что отец Грег тоже человек, который однажды умрет, и если события свершатся естественным порядком, то умрет намного раньше меня. Обессилевший старик нетвердыми шагами подобрался к основанию ствола и взялся за один из корней помощнее. Он посмотрел на меня и подергал корень – проверить, стронется ли дерево с места. Ничего не случилось; корень лишь слегка выгнулся от давления.
– Я хотел… – тихо начал он и замолчал. Он искал слова, но они не приходили. – Все это пройдет, забудется, правда? – Он снова подергал корень, и во мне возникла странная уверенность, что он не заберется на ствол, а если и заберется, я теперь гораздо быстрее, чем он. Перейду речку и вернусь на шоссе за две минуты. Он повернулся и с трудом пошел обратно, сквозь чащу, на поле для гольфа. Его плечи тряслись. Отец Грег был сломлен, однако, подумалось мне, стал нормальнее, чем когда-либо.
Глава 9
Разбитое лицо за один день, конечно, не зажило – полумесяц желтой кожи окружал сине-фиолетовый ореол вокруг глаза, но мать в любом случае разрешила мне не ходить в школу в среду. Однако я понимал, что не могу сидеть дома вечно. Чем дольше я был один, тем хуже становилось на душе. Сколько бы болеутоляющих я ни принимал, они лишь приглушали жжение в ушибах. Я не мог прятаться. В четверг, проснувшись, я понял: пора возвращаться в академию. Я посидел на краю кровати, слушая новости. Очередная мечеть разгромлена и разграблена, на этот раз в Колумбусе, штат Огайо. В Кембридже, Массачусетс, начали набирать жюри присяжных для суда над папашей, насмерть забившим другого папашу на хоккейной тренировке. Как мы все умудряемся жить дальше?
Я вызвал такси, не дав себе времени передумать, и запустил телефон в угол, когда договорил. Мне нужно двигаться дальше, и установление абсолютной тишины было единственным способом почувствовать себя в безопасности. Что, если мне остается твердить одно и то же – что ничего не было?
Вовремя в школу я не успел – водитель тянул волынку, крался на разрешенной скорости по каждой улице. Когда мы свернули на Малбери, голубой «Линкольн» отъехал от обочины напротив академии. Я не видел, кто был за рулем, но невольно подумал, что это машина прихода Драгоценнейшей Крови Христовой. Автомобиль пролетел перед нами по Малбери, и, когда мы свернули к академии, я потерял его из виду.
Я ерзал на заднем сиденье с рюкзаком за спиной, пока водитель не откашлялся и не спросил на ломаном, «славянском» английском, не соизволю ли я любезно покинуть автомобиль, чтобы он мог отправиться за следующим пассажиром. Он вышел и открыл мне дверь, но я физически не мог выйти. Перед глазами стоял отец Грег за двойными дверями в вестибюле. Прислонившись к столу миссис Перрич, он забавлял собравшуюся вокруг него толпу и поджидал меня со своей широкой улыбкой, чтобы протянуть руку, схватить меня и подтянуть к себе, вовлечь в разговор.
Я уже хотел просить водителя отвезти меня домой, но на крыльцо вышла миссис Перрич, решившая посмотреть, что происходит и почему водитель так замешкался. Придерживая края своей пашмины, чтобы ее не сдуло ветром, она помахала мне, затем помахала еще, как старому другу, но, когда я наконец вылез из машины, отшатнулась, будто синяки были заразны. Впрочем, она быстро опомнилась, обняла меня одной рукой и повела по лестнице, всячески сочувствуя.
– Я упал с кровати, – сказал я ей, когда мы вошли в вестибюль, в котором никого не было.
Миссис Перрич мне не поверила, но докапываться не стала.
– Надеюсь, это не испортило тебе каникулы? – спросила она.
– Это? Ну что вы. Это ничего, так, ерунда, – сказал я. Это была моя маска, способ держаться на людях и ни о чем постороннем не говорить.
Она заставила меня записаться в список опоздавших и проводила на урок английского, сказав:
– Будет минутка, спустись ко мне и расскажи о своих каникулах. Наверное, было чудесно? Ты куда-нибудь ездил?
Я посмотрел на нее, прежде чем уйти, гадая, в каком таком бодреньком мире она живет. Как и моя мать, миссис Перрич пробивала себе дорогу в жизни улыбками, причем в такой мир, в который она хотела верить. Я улыбнулся миссис Перрич – просто чтобы проверить. Она улыбнулась в ответ.
Когда я открыл дверь в класс мистера Вайнстейна, все уставились на меня. Я прошел на свое место в другом конце комнаты. Вопросы начнутся позже. Вопросы, с которыми я смогу справиться. Вопросы, на которые Джози, Софи и Марк тоже смогут ответить. Мистер Вайнстейн присел на стол и подождал, пока я сяду за Джози, после чего продолжил лекцию.
– Чего это существо хотело больше всего? – обратился он к классу.
– Партнера, – ответил я, не поднимая руки.
Плечо сидевшей передо мной Джози дрогнуло, и я понял, что она улыбается.
– Мистер Донован, за каникулы вы забыли о манерах? Ученики в классе поднимают руки. – Мистер Вайнстейн потер впалую щеку. – К тому же вы опоздали. Еще одно нарушение, и я выставлю вас за дверь. – Он помолчал, глядя мне в лицо. – С вами все в порядке?
Я улыбнулся.
Вскоре стало ясно, что я пропустил вчерашнюю контрольную по «Франкенштейну». Я не поднимал руку, а мистер Вайнстейн меня не спрашивал. Я не записывал, только скреб ручкой, пока она не протыкала страницы, оставляя черно-синие кратеры в моей тетради.
Солнце, бившее в окна, придало рыжеватый оттенок волосам Джози, и я затеял игру, наблюдая, как цвет меняется от темного к светлому при движении ее головы. Но когда первый урок закончился, вместо того чтобы выбежать, как обычно, в коридор, Джози обернулась.
– Привет, – сказала она. – Выглядит не так плохо, как я опасалась. Мы о тебе вчера говорили. Хотели знать, чем ты занят. Хотели тебя повидать.
– Таким?
– Да ладно, говорю тебе, не так уж и плохо. Даже круто. – Она улыбнулась и встала. – Ты прохлопал вчерашний день.
– Да? И что же я прохлопал?
– Меня, – ответила она.
Я засмеялся.
– Это правда.
– По крайней мере, новую меня, – продолжала она. – Меня без парня. Дастин получил отставку, чтоб ты знал. – Она пихнула меня плечом. – Что дальше? Будущее предо мной открыто, – поддразнивала меня она.
– Ты свободна, – выговорил я.
– Пока да. – Она застегнула сумку и забросила ее на плечо. – Короче, я просто хотела тебе сказать. Пока. – И она быстро ушла.
Возле двери класса ее ждала Софи. Они под руку вышли в коридор. Это был подарок. С тем же успехом она могла медленно расстегнуть блузку и показать кружевной край лифчика. Какой смысл предаваться мечтам, сидя за ней на уроках, если не попытаться претворить их в жизнь?
Я медленно собрал сумку и поплелся в коридор, потому что, хоть я и был рад новости Джози, я не мог не думать о других людях, которых увижу в академии. Я выдержал урок химии только потому, что нам неожиданно дали самостоятельную, и у меня не было времени ни на что, кроме формул, но после четвертого урока Ник меня нашел. Я не видел, как он поднимался по лестнице у спортзала. Он схватил меня за плечо и повел в угол лестничной площадки, к окну, выходившему на поле для лакросса и футбола.
– Ты говорил кому-нибудь, что это я тебе врезал? – спросил он.
Момент искушения. Драка, на территории академии или за ее пределами, автоматически становилась причиной для дисциплинарного взыскания.
– Нет. Хотя возможность была.
Ник быстро оглянулся и прижал меня к стене предплечьем.
– Не будь придурком. Если кому вякнешь – учителям, Берну этому треклятому, кому угодно, я всем расскажу, что мы застали тебя и твоего гомика-дружка Ковольски в спальне, где вы намыливали голую задницу Фейнголда и раскрашивали его пьяный хрен.
– Этим занимались вы.
– А мы вас видели. Усек? Поганая групповая мастурбация над потерявшим сознание юношей. Я всем расскажу, и Дастин тоже. И Андре, и остальных заставим пойти в свидетели.
Я попытался вырваться, но он был слишком силен.
– Что ты мелешь? Нас внизу люди видели. Я танцевал с Джози. Нас все видели!
Ник ухмыльнулся.
– Твое слово против моего. И Дастин подтвердит, и все, кому он скажет. Ты что, не понял еще? Мы устанавливаем правила, а не ты. – Он надавил сильнее. – Я говорю, как и что случилось.
У меня дрожали ноги. Я бы упал, если бы он не прижимал меня к стене. Он продолжал что-то говорить, но я уже оказался в лесу, у реки в Стоунбруке, и думал о том, как можно было бы переписать историю.
– Ничего не было, – пробормотал я.
– Вот, правильно, – засмеялся Ник. – Пока я не сказал, что было.
– Ничего не было, – повторил я.
Он коротко и резко ударил меня в грудь.
– Ладно. Нормально. Я на это рассчитываю. Пока я никому не скажу о том, что видел в комнате Фейнголда, и Дастин тоже помолчит. Понял? – Он отступил на шаг и скрестил руки. – Твоя тайна со мной в безопасности, красавчик.
Мимо по лестнице прошли два первокурсника. Ник покосился на них, и они опустили головы. Он снова повернулся ко мне.
– Ничего не было, – сказал я, чтобы услышали все на лестнице. Это стерло ухмылку с лица Ника. – До тебя не доходит? Рассказывать нечего, потому что ничего не было! – Меня трясло, а голова кружилась так, что я будто плавал в невесомости.
– Придержи язык, – тихо сказал он, – или я превращу твою жизнь в чертов ад!
– Ничего не было, Ник, поэтому рассказывать не о чем! – Я уже орал, и Ник покачал головой. Он оглянулся на других учащихся, которые потянулись вниз по лестнице.
– Псих, – пробормотал он.
Я попытался найти укромное место, чтобы успокоиться. Меня трясло от возбуждения и не прошедшего еще страха от угроз Ника, но я знал, что и я его немного напугал, и в глубине души от этого мне было приятно. Я уцелел и, что еще важнее, уцелею и впредь. Я не пошел на ланч, но Софи нашла меня перед последним уроком и незаметно передала записку от Джози: «До вчерашнего вечера я не целовалась с парнем с синяком под глазом. Это было довольно сексуально. У тебя найдется для меня время на этой неделе?» Я смог кивнуть и что-то пробормотать в подтверждение. Софи ничего не заметила, хихикнула и пошла дальше по коридору со своим посланием.
Я был без сил и мокрый от пота, когда декан Берн в конце учебного дня делал традиционные объявления по радио. Я потащился из школы, как зомби. Джози, однако, нагнала меня на ученической парковке. На щеках у нее были ямочки от застенчивой улыбки – нужно было остановиться и оценить ее, чтобы улыбка побыла с вами немного дольше. Это я и сделал, немного шокированный тем, что Джози искала меня.
Она продела свою руку в мою и положила голову мне на плечо.
– Я думала, ты обо мне забыл, – сказала она, глядя на меня снизу вверх и увлекая по дорожке, пока мы чуть не свернули с нее в деревья за парковкой.
– Просто неудачный день.
– О, поняла. Слушай, мне нужно домой, но мы же можем туда не торопиться. Ты же не возражаешь?
– Я только «за», – ответил я и поцеловал ее. Она запела что-то, когда наши губы встретились, и пение проникало в меня, как тепло от горячего душа. Мы не успели отойти далеко от парковки, и я не сомневался, что нас видят. Но мне было все равно. Более того, я желал, чтобы мы стали еще ближе, прямо здесь, посреди ученической парковки, на капоте чьей-нибудь машины.
Я не сознавал, что конкретно я делал, и вскоре слюна, смешавшись вокруг наших ртов, стекла нам на подбородки. Джози отодвинулась и засмеялась.
– Вау, – сказала она, – мне нужно отдышаться. – Она отвернулась, чтобы вытереть лицо.
Я тоже отвернулся, разглядывая парковку. Здесь была пара одноклассников, но в основном у своих машин стояли и разговаривали первокурсники. Образовался небольшой круг, где играли в сокс, перекидывая мешочек с фасолью с ноги на ногу в медленном, волнообразном танце. Стекла в машине Риггса были опущены, и вся парковка была обеспечена музыкой – Боб Марли пел, что сегодня вечером будет шумная вечеринка, а рядом с Риггсом, опираясь на багажник, стояли две девицы, игравшие в хоккей на траве в одной команде. Они указывали на нас, но не насмехались, и это была маленькая победа, которую я был рад одержать. Я чувствовал себя другим человеком: парень с подбитым глазом, все равно как с нашлепкой на глазу, писал собственную историю у всех на виду.
– Пойдем, – сказала Джози, взяв меня под руку. – Давай выбираться отсюда.
Мы неторопливо вышли на Малбери, плотно прижимаясь бедрами, и, хотя ноги у меня длиннее, чем у Джози, мы нашли ритм, который нам подошел. Мы останавливались и целовались, и на третий или четвертый раз уже не обслюнявили друг друга. Мы нашли спокойный, более медленный темп, нежно ища дыхание друг друга. Поцелуи перемешивались с улыбками, и когда я понял, что ей приходится вставать на цыпочки, чтобы дотянуться до меня, я подхватил ее под затылок, а другой рукой поддержал за спину, и мы естественно расслабились рядом друг с другом.
Между поцелуями мы кое-как вели беседу, стараясь найти темы, которых хватило бы надолго, но ни одна не продержалась достаточно, и у почтового ящика, у дерева или прямо на широкой обочине Халверсон-роуд разговор прерывался, и мы прижимались друг к другу, молча улыбаясь. Мы оба понимали, что целью этой прогулки были сами поцелуи, а промежутки между ними только отвлекали.
– Ты читала статью во вчерашней «Таймс» о технике распознавания лиц? – спросил я, когда мы оторвались от каменной ограды соседнего с нами дома. Мы почти дошли до двора Джози, а я не хотел, чтобы этот день заканчивался.
– Нет. Прикольно, ты что, каждый день газеты читаешь? Ты прямо как старик. Это так мило. – Рукой в перчатке она разгладила отворот моей куртки, вздохнула и чмокнула меня в нос. – Жаль, что у меня мать дома.
– Да.
– Она будет стоять у меня над душой весь вечер и следить, чтобы я делала уроки. Я здесь как в тюрьме. – Джози большим пальцем показала за спину, на дом, который заслоняли старые деревья. Между корней еще оставалась грязная снежная корка, а самые толстые стволы покрывал слой льда, в котором мы отражались бледно-серыми тенями, как слившиеся струйки дыма в неподвижном, тяжелом воздухе. – Она даже велела Руби не пускать моих друзей по будним дням, – продолжала Джози. – Нам надо найти какое-то место для встреч. Я не знаю, чем она сейчас занимается, но она с ума сходит. Жаль, что она дома… Ничего, я все равно тебя проведу. – Она хихикнула. – Вот будет забавно!
– А что, если твоя мать одна из тех, кто поддерживает внешнее видеонаблюдение? Может, она весь дом утыкала видеокамерами. И забор. Может, она за нами сейчас следит. – Я пригнулся и натянул воротник куртки на голову.
Джози снова захихикала. Она расстегнула мою куртку и прижалась ко мне, а я запахнул полы поверх нее.
– Вдруг у нее и в моей куртке камера? – шепнул я.
– Тогда ей придется посмотреть, как мы обнимаемся.
Мы снова поцеловались и не отрывались друг от друга довольно долго. Я стряхнул куртку с головы, и мы так и стояли на холоде. Наконец Джози отступила, поблагодарив меня за то, что проводил ее домой. Я смотрел, как мелькает ее голова между веток деревьев, когда она шла по аллее к дому. Когда Джози скрылась из виду, я снова вгляделся в ледяное зеркало, но теперь там ничего не было, только грубая кора подо льдом. Облако заслонило солнце, и сияние исчезло. Я почти не верил, что там мелькало наше отражение. Я не видел себя целующим Джози, это было слишком ново для меня и не укладывалось в голове. Но другие видели. Их можно вызвать как свидетелей. Теперь уже появились какие-то факты, история, которую я хотел рассказывать и в которую хотел поверить.
По дороге домой я мог думать только о будущем. Вдруг стало легко представить, как мы с Джози держимся за руки, идя в столовую, и как она гладит меня под подбородком в коридоре, когда учителей нет рядом, а ее язык нежно трется о мой, и все это наяву, под ярким солнцем. Матери дома не оказалось, но она оставила на кухонном столе блюдо печенья с маленькой запиской: «Твое любимое». С корицей. Да, когда-то я такое любил. Я сунул печенье в рот, будто до сих пор не прочь им полакомиться, и направился через библиотеку в холле к парадной лестнице. Я хотел подняться на второй этаж, но тут в дверь позвонили. Бежать было поздно – меня увидели: отец Дули, прижимая ладонь к стеклу щитком, вглядывался внутрь.
Его губы презрительно кривились.
– Я решил заехать перед мессой, – сказал он, проходя мимо меня в дом, когда я открыл. Он положил трость на стол в центре холла, будто ожидая, что кто-то примет у него пальто. – Хотел убедиться, что с тобой все в порядке.
– Вряд ли в этом была необходимость.
– Ничего, мне было важно увидеть, как ты. – Он пристально смотрел на меня, пытаясь найти интонацию сочувствия, но не вполне ее себе представляя. Он был терпелив и позволил паузе затянуться. – Я хотел предложить тебе свой совет, – наконец сказал он, – если таковой нужен.
– О чем тут советоваться? – не выдержал я.
– Бывает, что нас кто-то обижает, не правда ли? И тогда мы сгоряча говорим то, чего на самом деле не думаем. Поэтому я и приехал. Мое дело – приглядывать за моими прихожанами. Всем порой нужна забота, и мы не должны об этом забывать. – Отец Дули редко улыбался, но сейчас сделал над собой усилие. Выглядело это отвратительно и неискренне.
– Мне не нужна ваша помощь. Я хочу, чтобы меня оставили в покое.
– Но я считаю, нам с тобой есть что обсудить. Некоторые незаконченные дела.
Я не понимал, что он от меня хочет. Неужели он не видит, что я ничего не говорил матери? Неужели ему не ясно, что я не хочу больше говорить и даже думать о случившемся? Разве я и отец Дули не можем заниматься каждый своей жизнью и разорвать отношения, как Донован-старший, – все бросить и уйти не оглядываясь? Я невольно восхитился Донованом-старшим с его умением создать собственную реальность, навязав ее остальным. У него не было времени мудрить с деталями: он изобрел собственную истину и придерживался ее. В этом была некая жестокая справедливость – как у гангстеров или религиозных фанатиков: лес рубят, щепки летят.
При всей моей неприязни к Доновану-старшему, его здравый смысл вдохновлял. Я физически не мог поехать в Драгоценнейшую Кровь Христову. Сама мысль о том, как я вхожу в приходской дом, провоцировала волну эмоций, которые я всячески старался подавить. Я не отец Грег. Я не он. Я не Джеймс и не какой-нибудь другой пацан в подвале. Я вообще ни при чем. Отца Грега не было, и в Драгоценнейшей Крови Христовой я время не проводил. Ничего не было. История стерта. Можно стереть все ее следы. Случившееся может исчезнуть совсем – дело только облегчало то, что отец Дули тоже хотел все замять.
– О’кей. – Я жестом пригласил его последовать за мной и направился в кабинет Донована-старшего. – Давайте тогда присядем.
Отец Дули колебался, но я настоял. Присев в кожаное кресло за письменным столом, я указал отцу Дули на один из стульев с прямыми спинками.
– Я лучше постою.
– Прекрасно, – сказал я, откинувшись на спинку кресла. Минуту он молчал. Я ждал.
Не дождавшись от меня слов, он тихо начал:
– Эйден, я хотел с тобой поговорить. – Он наконец присел.
Я играл с маленьким календарем в серебряной рамке на столе Донована-старшего. Отец Дули кашлянул.
– Церковь, и наш приход в том числе, приносит обществу огромную пользу. – Он снова замолчал. – Эйден, посмотри на меня, пожалуйста. Мне нужно, чтобы ты понял. Отец Грег – сложный человек. Я видел его вчера вечером – он был болен. Он и сейчас болен. Ему станет лучше, но, видимо, где-нибудь в другом месте. В нашем городе ты его больше не увидишь.
Это казалось нереальным. Я не представлял наш городок без отца Грега. Он был знаком буквально с каждым. После него останется пустота, но вместе с печалью я ощутил и гнев. Гнев из-за того пространства, которое он занимал. Выдвинув из прибора тяжелую чернильную ручку, я поднял взгляд на отца Дули, постукивая концом ручки по толстой красновато-коричневой столешнице.
– Он много сделал для нашей общины, – продолжал отец Дули. – Ты знаешь, сколько денег он выручал и для школ. Мы не можем допустить, чтобы его личные проблемы заслонили достижения его карьеры. Только подумай, что скверная история способна сотворить с хорошим человеком. Если мы это сделаем, мы рискуем погубить и то, над чем он работал. Представь все школы, семьи, детей. Мы же не хотим им навредить, правда? – Отец Дули замолчал и постучал тростью об пол. – Есть история нашей церкви, репутация нашей общины. Есть сама святая церковь, она пережила гонения и стала тем, чем является сегодня. Ты меня слушаешь? Я говорю, что нам надлежит прощать и жить дальше.
– Жить дальше, – повторил я.
– Речь не о компенсациях, Эйден. Не может быть, чтобы ты клонил к этому. Иногда приходится жертвовать своими желаниями ради общего блага. Это религия, Эйден, она больше тебя, меня, отца Грега. Она выживет, и церковь будет существовать еще долго после того, как уйдешь ты, я и другие люди. Она будет расти и дальше…
– Без меня, – сказал я. – Я туда не вернусь. Я с этим покончил и обратно не вернусь.
Отец Дули сглотнул.
– Я считаю важно подумать и о прощении. Нам подобает прощать. Когда-нибудь тебе станет легче.
– Легче? Мне легче? – Я стиснул ручку в кулаке и заговорил медленно: – Отец Дули, я не знаю, о чем вы говорите. Мы говорили о работе, помните? Файлы же помечены. Компьютерные файлы легко распознать. – Мой голос треснул. – Я говорю только о работе. Больше говорить не о чем. Я ухожу, вот и все. Конец.
– Я стараюсь говорить с тобой начистоту. – Отец Дули казался хрупким, слишком тощим для висевшей на нем одежды. – Мы сейчас говорим о важных вещах.
– Нет. – Я спохватился, что втыкаю ручку в столешницу и что столешница начала трескаться. Я попытался успокоиться маминым методом – размеренно и медленно дыша. – Я сказал, что нам больше не о чем говорить. Я там все закончил. О’кей? – Отец Дули подался вперед и хотел что-то сказать, но я его перебил: – И я никогда больше не желаю видеть отца Грега.
Отец Дули холодно посмотрел на меня и покачал головой, затем вздохнул, засопев носом.
– Пожалуй, мне пора, – произнес он, неловко сжимая и перехватывая серебряную ручку своей трости. – Мне трудно доверять тебе полностью, Эйден. Я все еще беспокоюсь за тебя.
– Вам необязательно это говорить, – возразил я. – Я не нуждаюсь в вашей заботе.
Отец Дули встал, держась за стул. Он попытался застегнуть пальто, но руки у него тряслись, и он никак не мог найти нужную петлю для верхней пуговицы.
– Еще я бы хотел добавить, что сожалею. Жаль, что ты не можешь взглянуть на ситуацию с моей точки зрения. Мне приходится думать обо всех – о большой общине.
– Я бы хотел, чтобы вы тоже подумали об уходе, – сказал я. – Окажите всем услугу.
Отец Дули направился к дверям. Он пригладил пальто и поднял голову.
– Не трудись меня провожать, – сказал он.
Я остался сидеть в кресле, глядя, как он уходит. Длинная полоса солнечного света протянулась по персидскому ковру к огромному бару-глобусу между стульев. Луч осветил южную часть Тихого океана и Южный полярный круг. Я долго смотрел на него, пытаясь вызвать в памяти образ Донована-старшего, которого я знал. Которым хотел стать. Что произошло между отцом Грегом и мной? Ничего. Если никто об этом не узнает, значит, этого никогда и не было. Этого не было. Не могло быть.
Глава 10
День я прожил как на автопилоте. Каждый смех, который мне удавалось издать, каждый подтверждающий кивок, когда говорил кто-то другой, помогали создать, вылепить нового меня, которого я хотел продемонстрировать окружающим. И сегодня все видели Эйдена, который на глазах становился уверенным в себе. Я поводил плечами, сидя в классе или стоя в коридоре; я выпрямил спину. Я заметил, что люди поднимают глаза, чтобы встретиться со мной взглядом, будто я становлюсь популярен. В пятницу учитель даже хлопнул меня по спине и сказал:
– С Новым годом!
Я оскалился в улыбке – неизменная маска вечеринок Донованов. Носить ее сейчас стало гораздо легче. Все просто за-ме-ча-тель-но.
– Спасибо, – ответил я. – И вас тоже.
Мы с Джози тайком обменивались записками, пока звучали традиционные объявления по окончании занятий. Я написал ей, что она сегодня в той же юбке, блузке и свитере, в которых была на Рождество, а она объяснила, что они с Софи и со своими мамами идут на бродвейское шоу – у них традиционный январский девичник. А сегодняшний наряд – это ее прикид молодой леди. Я ответил, что на ней любая одежда смотрится как мечта, которая изначально пришла в голову дизайнеру, и, что бы она ни надела, все выглядит великолепно. Краска смущения еще не сошла со щек Джози, когда мы вместе спустились по лестнице на улицу и они с Софи сели в ожидавшую их машину. Я писал искренне, но мне было приятно, что я знаю, как сказать правильные слова.
На вечер у всех были планы. Мать собиралась на вечеринку в Рае – такой подарок ей сделали на Рождество. Родители Марка купили билеты в оперу. Они намеревались переночевать в отеле и вернуться только назавтра, поэтому, хотя Марк был наказан и не имел разрешения выходить из дому, он настоял, чтобы мы все равно повеселились. Сказал, что ему это необходимо, и когда я повторил ему мамину фразу: «Нельзя же допускать, чтобы мир веселился без нас», он рассмеялся и согласился. Я был рад, что не придется проводить вечер в одиночестве. Я словно набирал обороты и не хотел, чтобы меня что-то тормозило.
Я мог бы начать праздновать уже в середине дня, но Марку сначала пришлось заехать домой и дождаться, пока уедет его мамаша. Взять машину он не рискнул – Майк мог проверить километраж. Мы условились встретиться на полпути между нашими домами, на спортплощадке начальной школы Кулидж, и, поскольку мне нечем было заняться, я пришел раньше его и спрятался в одном из бетонных блоков для лазания. Были уже сумерки, и я смотрел на небо через квадратное отверстие в крыше. Фонари школьной парковки освещали площадку слабым серовато-оранжевым светом, но я все равно видел тусклые звезды в квадратной раме над головой. Их блеск был слабым и прерывистым, казалось, я вижу, как они медленно плывут в сине-фиолетовой бездне. Я смотрел, как другие звезды появились и замигали среди прежних. Грустно было думать о расстоянии, разделявшем их и меня, потому что я знал: хотя бы одна из звезд, которые я видел в ту ночь, уже мертва и свет – это все, что от нее осталось. Я прикурил одну из сигарет, которые взял у матери, и между затяжками поднимал ее к небу, стараясь зафиксировать свою собственную оранжевую точку в огромной пустоте над головой.
Я почти докурил, когда Марк просунул голову в отверстие. Я не мог разглядеть его лица, но знал, что это он.
– Эй, – сказал он, – ты что делаешь? Подаешь дымовые сигналы?
– Ну да, – ответил я. – Кто-нибудь наблюдает?
– Нет, – успокоил меня Марк, – только я.
Он влез через дыру и, сев рядом со мной, громко засмеялся. Эхо в бетонном кубе усилило его смех. Я попросил его быть потише – вдруг кто-нибудь пройдет мимо – и передал ему пластиковую бутылку из-под газировки, наполненную ромом Донована-старшего. Марк взял бутылку и покачал головой:
– Что за фигня, я уже набрался, чувак. – Он сделал глоток и вытер губы. – Черт возьми!
Я отпил из собственной бутылки – словно взял в рот не тот конец горящей сигареты.
– А еще говорят, хороший напиток, – проворчал я. – Видимо, это дело привычки.
– Как и все остальное в этом дебильном мире, – отозвался Марк. Он отвел взгляд и улыбнулся своим мыслям. Минуту мы молчали. – А почему нет? – сказал он наконец, будто мы продолжали беседу.
Его глаза налились кровью, но он все равно забил косяк. Мы вместе выкурили травку, и я достал сигарету, чтобы не было запаха. Мы сидели в тесном кубе очень тесно, и я встал, наполовину высунувшись в отверстие, чтобы докурить.
– Эй, ты мне весь обзор закрываешь, – сказал Марк, потянув меня за штанину.
– Ты уже какой-то взвинченный. Давай-ка расслабимся. – Я присел, снова скрывшись в кубе, и выставил ногу в открытую заднюю стенку.
– Да, – согласился Марк. – Извини. В последнее время мысли одолевают.
Общаясь с Марком, я успел усвоить, что когда человек пьян, он не заканчивает фраз. Марк озвучивал примерно половину своих мыслей, позволяя мне самому создавать отсутствующие связи в его логике.
– Не важно, под каким углом я смотрю на вещи, – я все равно оказываюсь в одном и том же проклятом месте.
– Ты это о чем? – Марк лишь покачал головой. – Да ладно тебе, не может быть, чтоб все так плохо. Ты же вон выжил, когда я ушел от вас после Нового года. Я тоже это пережил. Сидим же мы здесь сейчас.
– Ага, – кивнул Марк.
– Жаль, что нас нашли в таком виде. Не помню, как я отрубился.
– Да нет, это вообще полная задница. Ты тут ни при чем.
Мы снова замолчали, и я услышал, как машина проехала по улице возле школы. Я знал, что тот, кто за рулем, не может разглядеть площадку за деревьями, но все равно немного занервничал. Марк вроде ничего не заметил. Он был занят своими мыслями.
– От меня ждут больших свершений, – добавил он, очнувшись.
– Помню.
– Чтобы я стал кем-нибудь идеальным.
– Знакомо. Этого от всех ждут.
– Мои предки считают, что ты далек от совершенства.
– Ну, не только они…
– Но они говорят, что ты – дурная компания. Типа, мне нельзя с тобой водиться, потому что ты плохо повлияешь на мое будущее.
– Погано.
– Я уже ничего не понимаю. Они ведь и половины не знают. – Он снова замолчал, ушел в свою скорлупу. Мы снова отпили из бутылок, и он продолжил: – Люди заявляют, что верят в то-то и то-то, но поступают совершенно иначе, делают то, что противоречит всему, что они говорят. – Он вытащил из кармана коротенький косячок и прикурил. – Если бы меня поймали за тем, что я делал хотя бы на тот же Новый год – ну, сел пьяным за руль, – меня бы реально убили. Черт побери, если меня реально застукают, меня точно прикончат. – Он затянулся своим мини-косячком и предложил его мне, но я отказался. Он снова затянулся и продолжал: – Сегодня в классе мы говорили об «обувном террористе», и я все думаю… Знаешь, почему джихадисты в конце концов победят? Потому что они во что-то верят. Искренне. Они искренне во что-то верят. А мы нет, поэтому мы и в заднице.
– Я так не считаю, – заявил я, подтянув колени к груди.
– Ну да, как же, – насмешливо сказал Марк и отпил еще глоток. – Папаша выписал чек кампании Драгоценнейшей Крови Христовой по сбору средств. На десятку. Сказал, не хочет отставать от твоего отца, пусть ты и псих ненормальный. Он, видишь ли, думает, что твой отец гадит золотыми слитками. Короче, отправил он им этот чек, при том что порог церкви в последний раз переступал не помню когда. Как это понимать?
– Никак. Брось, парень, забудь об этом.
Марк покачал головой и снова затянулся. Я снова жестом отказался от протянутого косяка. Он докурил, отбросил окурок, потер глаза и достал флакон «визина». Капли помогли, но не особо.
– Я вот уже давно не был в церкви и не собираюсь. Мой папаша тоже туда не ходит, но ему хочется считать нас частью общины. Типа, нужный значок. Членство в этом клубе – галочка! Членство в том клубе – галочка! Членство в религиозной организации – галочка! – Марк встал, выпрямился и через квадратное отверстие в кубе оглядел в темноте спортивную и бейсбольную площадки. – Я всю жизнь стараюсь угодить другим, стать тем, кем меня хотят видеть, но своих-то идей у меня нет. Мне никто не мешает стать тем, кем я хочу, я просто не знаю, кем я хочу быть. Я никем не хочу быть. Разве не странно?
– Нет.
– Я привык считать, что у других идеи удачнее, что они лучше знают, как мне следует поступать. Мне раньше не приходило в голову, что они такие же, как я, – они все тоже притворяются. Мы же предоставлены сами себе. – Он вдруг нагнулся ко мне и схватил меня за плечи. Он смотрел на мой синяк, и на секунду мне показалось, что он хочет меня туда поцеловать. У меня оборвалось все внутри, и я застыл в знакомой неподвижности. – Чувак, – произнес Марк, – одиночество – такое паскудство… – Он покачал головой, выпрямился и вытер нос.
Мне вдруг показалось неловким находиться с ним вдвоем в тесном кубе. Я вытянул ноги в открытую заднюю стенку и спрыгнул на песок.
– Пошли, – сказал я. – Нечего здесь торчать. Мы слишком громко разговариваем. В конце концов нас услышат и поймают.
– Черт, я не знаю, – отозвался Марк. – Может, меня уже пора поймать? По-настоящему? Может, этого мне и надо?
– Не сходи с ума!
– Ладно, – согласился он, глядя на школу. Ладонью он прикрыл глаз, как щитком, заслоняясь от света фонарей на парковке. – Я знаю место, где нас никто не услышит. – Он выпрыгнул из куба и пошел через спортплощадку к деревьям, росшим сбоку от школы.
Здание формой напоминало сглаженную, тупую устричную раковину: задний фасад узкий, а передний веером расходится вдоль улицы. И этажей спереди больше, чем сзади – крыша наклонная. Пожарная лестница зигзагом шла по боковой стене, ближе к задней части школы, далеко от спортплощадки и света фонарей. Марк подвел меня к железной лестнице и быстро поднялся к запасному выходу.
– Эй, – сказал я, – если мы попремся внутрь, сработает сигнализация.
– Не попремся, – заверил он. – Мы полезем наверх. – Окно возле запасного выхода было забрано металлической решеткой. Марк посмотрел на крышу: – Залезешь?
– Брось, – не поверил я, – ты прикалываешься.
Марк улыбнулся. Впервые за весь день я увидел, как он немного расслабился.
– Я-то смогу, – сказал он. – Но я видел, как ты плаваешь. Сможешь подтянуться? – Не дожидаясь ответа, он полез по решетке. Добравшись до края крыши, поколебался, но всего на несколько секунд. Взявшись за бортик крыши, он подтянулся и перекатился вперед, скрывшись из виду.
Я полез за ним, но куда менее уверенно. Подъем был труднее, чем я ожидал, и, когда я подумал, с какой высоты придется падать, даже не стал смотреть вниз. Когда я подтягивался на дрожащих руках, решетка дребезжала. Было слышно, как от ветра шумят деревья футах в десяти-пятнадцати подо мной. Я изо всех сил цеплялся за решетку и лез медленно. Когда же я наконец добрался до верха и заглянул через каменный выступ, Марк сидел совсем рядом.
– Помощь нужна? – спросил он. Упершись ногами в выступ, он подхватил меня под мышки и втащил на крышу.
Я еще с земли разглядел, что крыша шла уступами. Одна плоская терраса, на которой мы стояли, примыкала к низкой стене, выше была другая огромная плоская поверхность, тоже ограниченная короткой стенкой, а потом уклон крыши резко шел вверх, к переднему фасаду. Мы пристроились у первой низенькой стены и пили из наших бутылок. Я все пытался отдышаться. Обычно Марк вообще не пил, но сегодня тянул ром быстрее меня. Он улыбался, но в его улыбке сквозил еще не улегшийся гнев. Марк допил бутылку и запустил ею в дальний конец крыши.
– Осторожно, это из запасов самого Джей-Пи Донована. В прошлый раз, набухавшись этого добра, я окатил Софи.
Я засмеялся, но Марк меня не поддержал.
– Ха, – невыразительно произнес он. – Вспомнилось, да? Все было хорошо, пока моя мать не прибежала со своими крутыми мерами, как церэушница…
– Слушай. – Я взял его за плечо. – Сейчас мы здесь. Забудь о них. Отдыхаем на свободе. Об этом и думай. Свобода! – Я показал на простиравшуюся перед нами террасу. Фонари парковки внизу мало что освещали. Со школьной крыши действительно лучше было видно звезды: темное небо висело над нами огромной чашей. Мы развернулись и улеглись головами к стене, изменив, так сказать, прежнюю точку зрения.
– Ух ты! – сказал Марк. – Просто глюк.
Он засмеялся, и я тоже, радуясь, что он счастлив. Мы вместе допили ром из моей бутылки и затянулись коротким косячком. Через некоторое время мы уже покатывались от глупого смеха. Я тыкал пальцем в звезды, и, когда я на них показывал, Марк тоже указывал в небо, а другой рукой тыкал в меня. Я помирал со смеху.
Марк встал.
– Давай освободимся по-настоящему. – Он начал снимать одежду. Я перестал смеяться, когда он остался в трусах и носках. Марк смотрел на меня с серьезным видом. – Ты тоже, дуралей!
Я поколебался, но последовал его примеру, радуясь, что Марк хоть трусов не снял. Когда я остался в нижнем белье и носках, ноги сразу замерзли, и я отпил еще рома, чтобы согреться. Марк отобрал у меня бутылку, допил, размахнулся и зашвырнул ее за край крыши. Пластиковая бутылка загромыхала о пожарную лестницу.
– Йе-ху! – заорал он. – К черту!
Мы прыгали по крыше как сумасшедшие, потрясая кулаками в воздухе, в дикой пляске вокруг вороха сброшенной одежды.
– По-моему, можно забраться еще выше, – сказал он. – Смотри!
Он разбежался и запрыгнул на соседнюю террасу.
– Давай, – позвал он, нагнувшись ко мне.
Я последовал его примеру. Тем же способом мы забрались на следующий уступ и на животах поползли по крутому уклону. Добравшись до края, посмотрели вниз. По улице проехала машина, но не притормозила.
– К чертям их всех! – снова крикнул Марк.
Казалось, мир подо мной переворачивается. Чувство равновесия во мне было разбалансировано, и я, хоть и лежал неподвижно, не мог избавиться от ощущения, что меня тянет вперед, за край крыши. Я сполз пониже и перевернулся на спину. Стало легче, но при виде купола ночного неба мне показалось, что я падаю вверх, к звездам.
– Черт! – воскликнул я.
– Да, – согласился Марк. – Мне кажется, будто я лечу.
Я запрокинул голову и посмотрел на него. Он стоял на краю крыши, опустившись на колени и разведя руки в стороны. Я вздрогнул.
– Слушай, давай одеваться, – сказал я. – Я больше не могу.
– Нет, – уперся он. Когда я оглянулся, он придвинулся еще ближе к краю. – Нет.
– Марк!
– Нет. Пошли они все! Пусть поцелуют сенатора Ковольски в жопу. – Он сдернул трусы и сверкнул передо мной задницей. Потом попытался повернуться на коленях и показать зад всей улице, и его ноги взметнулись над крышей и задергались в воздухе над школьным крыльцом. Он засмеялся и свесил голову на грудь, и я не мог понять, плачет он или нет.
– Эй, ты чего? – окликнул я.
– Как у тебя получается? Как ты с ума не сошел? – спросил он тихо, стоя на самом краю в верхней точке крыши.
– Это же ты всегда хладнокровный, собранный.
Руками Марк опирался о крышу перед собой, и, хотя скат был крутым и уклон шел в мою сторону, его ступни торчали над краем и казалось, что его носки вот-вот улетят в родной квартал.
– Эй, – сказал я, – спускайся оттуда, слышишь?
– К черту все это. Это я-то хладнокровный? Скорее отмороженный. И ты это знаешь. Причем лучше, чем другие.
– Чувак, ты набрался. Кроме шуток, ты пьян.
Он поднял голову.
– Ты хочешь сказать, что я тебе небезразличен?
Его голос шел вверх, и я не мог понять, то ли он передразнивал Джози, сказавшую это на новогодней вечеринке, то ли действительно хотел это знать.
– Да ладно тебе, успокойся.
Марк вытянул одну ногу – колено оказалось в воздухе, за краем крыши. Почти голый, перегнувшийся через край крыши, он казался фигурой берсерка с какой-нибудь ладьи викингов, несущейся в темноту. С невеселым безумием во взгляде он спросил:
– А правда, ты бы меня выручил в случае чего?
– Господи Иисусе, парень! – Я встал на четвереньки и пополз к нему. – Ты что, свихнулся?
– Ты это знаешь. – Он оторвал руки от крыши и начал клониться назад. Нога выехала еще дальше за край. Марк улыбнулся, но тут же покачнулся, и его повело вбок. Он вскрикнул.
– Марк!
Он поскользнулся и потерял равновесие – нога соскользнула с карниза. Он изогнулся, ударился о выступ на краю, но я успел схватить его повыше кисти, когда он уже съезжал с крыши. Он не упал – я держал его крепко. Он дрожал всем телом, когда мы забросили руки на плечи друг другу и съехали по скату крыши, как с горки. Марк не сопротивлялся. Я остановил скольжение у первой низенькой стены и без сил лег на холодную крышу.
– Что с тобой творится, черт побери? – спросил я.
Марк молчал, но через мгновение его глаза стали красными и мокрыми. Он приподнялся и сел, опустив голову между коленей, потом привалился ко мне. От ветра кожа у меня покрылась мурашками.
– Пошли, – сказал я, – надо одеться.
Мы спустились с первого уступа. Со второй террасы спортплощадка и парковка открывались как на ладони. Слева на дороге я увидел фары машины, свернувшей к школе. Я торопливо повел Марка к следующей террасе, но не успели мы добежать до нее, как машина въехала на парковку. Я упал на живот и рванул Марка за собой.
– Не поднимайся, – велел я.
Мы ползком добрались до низенькой стенки и, выглянув из-за нее, посмотрели на нижнюю террасу и пришкольную территорию. Машина остановилась перед спортплощадкой; включился дальний свет. Полиция. Из машины вышел коп и поводил лучом фонарика по игровому городку, качелям и бетонным кубам. На кубах он задержался. Наша одежда лежала на следующей террасе, но я боялся, что нас заметят, пока мы будем перелезать через стенку. Лежа на животе за бортиком, мы были невидимы. Я замерз, но двигаться не решался. Марк вниз не смотрел – он лежал на спине с мокрыми от слез щеками и глядел в небо.
Полицейский обошел спортплощадку, посветив в каждый из бетонных кубов. Спустя целую вечность он вернулся в машину и выключил дальний свет. Потом еще посидел, не глуша двигатель, наконец развернулся и уехал. Когда свет фар исчез за поворотом, я поднялся на колени и хлопнул Марка по плечу.
– Пошли.
Мы спрыгнули на нижнюю террасу и молча оделись. Марк казался подавленным. Я часто топал ногами и потирал руки, стараясь согреться, но никак не мог прогнать холод.
– Давай убираться отсюда, – сказал я.
Марк поколебался, потом шагнул ко мне и обнял. Сперва я не шевельнулся, но он сжимал меня все сильнее, и я понял, что это не просто дружеский жест. Я попробовал высвободиться, но он стиснул руки.
– Брось, – сказал я. Он ничего не ответил, и я оттолкнул его. – Пожалуйста, я не буду этого делать.
Марк отступил.
– Ого, как ты умеешь! Включаться и выключаться, когда нужно, да?
– Что?
– Я вот так не могу, – сказал Марк. – Быть совершенно свободным.
– Можешь.
– Что? Да пошел ты!
– Слушай, все нормально, все в порядке. Но об этом, извини, меня не проси.
– Ага, конечно. – Он скрестил руки, глядя на меня в упор.
– Слушай, мы просто друзья. Мы можем быть друзьями, это здорово.
Марк отвел взгляд. Когда он снова посмотрел на меня, его глаза покраснели и казались дикими, взгляд метался.
– Пожалуйста, – взмолился он. – Что, по-твоему, было бы, если б нас здесь застали?
– Ну, не застали же. – Я шагнул к нему и положил руку ему на плечо. – Пошли отсюда.
– Ты не понимаешь. – Марк сбросил мою руку.
– Ты о чем?
Он забегал передо мной, обхватив себя руками.
– Я так больше не могу. Я схожу с ума. Как тебе это удается?
– Возьми себя в руки, я отказываюсь тебя понимать!
– Перестань прикидываться!
– Чего ты взбесился, я не понимаю?
– Что за треп насчет того, чтобы остаться друзьями? Мы же можем обойтись без вранья и объясниться начистоту! Я уже говорил, что никогда в жизни не вернусь в Драгоценнейшую Кровь Христову! Я об этом сказал, а ты пропустил мимо ушей. Хорош выпендриваться!
Несколько мгновений я молчал в надежде, что, если я ничего не отвечу, Марк успокоится и самообладание вернется к нему настолько, что можно будет предложить какой-то план. Молчание меня ужасало. Мне казалось, еще можно что-то сделать, чтобы сменить тему и никогда не возвращаться к этому разговору, но Марк смотрел на меня в упор, и мне хотелось кричать.
– Пожалуйста, – сказал он, – я же пытаюсь тебе сказать. – Он подошел ко мне совсем близко. – Я схожу с ума, чувак, разве ты не видишь? Тебе не кажется, что у нас с тобой общий секрет?
Я взял его за плечо и отодвинул на некоторое расстояние.
– Замолчи. Закрой рот, – велел я. – Ничего не говори. Больше ни слова, пожалуйста.
Марк отшатнулся.
– Зачем ты так? У меня крыша едет, я больше не могу молчать! Это повсюду!
Я протянул к нему руку, но он отступил.
– Что за хрень, ты меня не слышишь, что ли? Я подыхаю от молчания, чувак! Родители хотят пригласить психолога, им нужно знать, что меня можно «спасти», что меня можно починить, прежде чем я окончательно обесценюсь!
– Не говори так, – начал я, но он не слушал.
– Они уже думают, я ни на что не годен. А что подумают остальные? Я не могу ходить на занятия. Я никуда не могу пойти! Я конченый человек. – Он посмотрел в небо и вздохнул. – Я сам не понимаю – это началось, и все. Я был в восьмом классе. Отец Грег сказал мне, что это любовь. Но мне не дает покоя мысль, что с отцом Грегом все было неправильно. Однако я чувствую, я точно знаю, что мне нравятся парни. Он меня не любил. Я думал, что любит, но это не была любовь. Но я могу полюбить другого парня. – Он поднял на меня взгляд: – Брось, ты же знаешь, о чем я! Не можешь не знать! – Я не ответил, хотя Марк повторял это снова и снова. Он подошел ближе: – Ну же, чувак, ответь!
– Замолчи, – сказал я, – ты не понимаешь, что несешь.
– Понимаю! Это и сводит меня с ума. Мне не с кем больше поговорить, кроме тебя. Ты все знаешь. Я не один такой. Ты тоже там работал.
– Перестань говорить об отце Греге. Забудь о нем. Ничего у тебя с ним не было.
– Было, еще как было! Мне надо с кем-то поговорить. Нам необязательно страдать в одиночестве. – Он подошел, и я обнял его. – Ты ведь тоже к нему ходил. Разве тебе не все равно, что ты не один такой? – Его руки напряглись. – Ты меня понимаешь. Зачем нам прятаться друг от друга, мы ведь можем об этом поговорить… – Он прижимал меня к себе и гладил по спине. – Поцелуй ведь многое значит.
– Прекрати. – Я оттолкнул Марка.
– Да ладно тебе. Нас только двое, значит, мы можем поговорить только друг с другом.
– Нет. Прекрати говорить об этом! Ни слова больше об отце Греге. Ничего не было!
Марк потряс кулаками.
– Черт побери, не делай из меня дурака! Я не сумасшедший, это остальные психи! – Он двинулся на меня. – Я видел его на вашей рождественской вечеринке. Я к нему не подходил, но заметил, как он смотрел на тебя через весь зал. Я не сумасшедший, ясно? Я это видел. Значит, это было и с тобой. Я знаю.
Я толкнул Марка, он попятился и сел.
– Ничего подобного! Все совсем не так. Не говори такого никогда! Не начинай больше этот разговор! Со мной ничего подобного не было! И ни с кем, черт возьми, не было! Ясно?!
Марк поднял на меня взгляд.
– Я хочу поговорить об отце Греге, дошло? Я считаю, что ты тоже был с отцом Грегом. Помнишь свою фразу – сорвите свои маски? Сними свою маску, чувак, будь со мной откровенен! Мне надо с кем-то поговорить. Я не один такой!
– Да что с тобой? – не выдержал я. – Ты меня не слышишь, что ли? Я не знаю, о чем ты говоришь. – Я подошел и остановился над ним. – Зачем ты мне это рассказываешь?
Марк заплакал.
– Я не могу быть один!
– Возможно, ты все-таки один, – произнес я. Меня трясло, и я старался унять эту дрожь. – Это не тот отец Грег, которого я знал. Я никогда больше не желаю о нем слышать.
– Пожалуйста, пожалуйста, помоги мне, – всхлипывал Марк. – Мне нужна помощь! Это было! Я чувствую себя чудовищно одиноким. Я не могу больше держать это в себе. Это сжигает меня изнутри, чувак! Это меня убивает. Пожалуйста, мне так нужна помощь! Пожалуйста!
– Слушай, я не такой, как ты, понял? Не такой! Может, ты такого ищешь? В этом дело? Ты это имел в виду? Но я не такой, как ты, понятно? – Я едва смог это выговорить, но повторил: – Перестань об этом говорить. Похорони это в себе. Похорони так глубоко, чтобы даже не думать об этом. Так все делают. – Я заставил Марка подняться на ноги. – Никогда не упоминай при мне об отце Греге. Ты рискуешь испортить жизнь и себе, и другим. Никогда больше не поднимай эту тему. Обещай, что больше никому не скажешь.
Марк покачал головой.
– Ты сам-то себя слышишь? Кто ты?
– Не мели чушь! Начни жить своей жизнью.
Марк долго смотрел на меня, потом отвел взгляд. Он подошел к металлической решетке, ведущей к пожарной лестнице, и перебросил ноги через бортик. Задержавшись на секунду, посмотрел на меня.
– Это и есть моя жизнь, – сказал он. Затем нырнул в темноту и исчез из виду, оставив меня смотреть во мрак без него.
Глава 11
На следующий день я встал очень поздно и нашел мать в кухне за чашкой чая: она просматривала газеты, разбросанные по кухонному столу.
– Я вчера полдня провела в банке, – начала она, будто продолжая разговор.
– При-вет.
– Да-да, привет, но ты дослушай: твой отец согласен помогать. Детали контракта мы еще обсуждаем, но дело решенное, так что у меня наметился прогресс. – Она сидела, положив ногу на ногу и покачивая ступней. – Я уже говорила с Синди. Я-то думала, у нее туго с деньгами, а она вдруг дает мне место в здании галереи! Я уж и не знаю… Ее семья переживает трудные времена…
Мне с трудом удалось не вздрогнуть.
– Почему?
– Из-за Джеймса. Знаешь Джеймса, да? Он учился в Кантри-Дей… до этой недели. Она забрала его из Кантри-Дей и перевела в Буллингтон. Этим же все сказано! Это все равно что повесить на доме объявление: «Соседи, если кто не слышал, у моего ребенка проблемы». Ей кажется, это все ее вина. Мне ее ужасно жаль. Не знаю, почему она себя так казнит. Бедный Джеймс эмоционально раздавлен – когда он не в школе, он в галерее с Синди. Но я не стану совать нос в чужие дела… Нет, ну ты представляешь?!
Мать увлеченно рассказывала, как она оформит будущую витрину и какая мебель ей понадобится, не замечая, что я молчу. Я слушал вполуха, думая только о Джеймсе, и, когда мать сказала, что ей нужно ехать, я среагировал так быстро, что удивился сам себе. Я попросил ее взять и меня и, сверкнув одной из ее собственных улыбок, предназначавшихся для театральной публики, спросил, нельзя ли и мне увидеть ее новый офис. Мать меня обняла. Я продолжал говорить, причем как совершенно незнакомый мне человек.
– Ты молодец, – сказал я. – Я тоже хочу посмотреть.
Мать пришла в восторг. Лгать ей оказалось на редкость легко – даже на душе стало как-то легче.
Приехав, мы постояли на улице, заглядывая в необорудованный офис через большие окна – ключей у матери еще не было. В больших темных очках и модном шарфе цвета лаванды она казалась кинозвездой пятидесятых годов, режиссирующей собственный фильм, когда показывала, где будет сидеть с клиентками и планировать вечеринки, где – хранить свои дизайнерские портфолио, а какую часть превратит в фотогалерею.
– Значит, идея такая, – говорила мать. – Клиентки сами будут выбирать темы и детали праздника. Вечеринка будет в специально подготовленном помещении или у вас дома? Элегантность должна бросаться в глаза или быть неявной, будто вы сами устроили праздник? Это тоже своего рода шоу, причем целиком зависящее от вкуса клиентки, поэтому у нее должна быть возможность сравнить разные варианты.
– Или предложить что-то свое, – подхватил я.
– Вот именно.
Галерея Синди находилась рядом – ей принадлежало все здание. Мы пошли туда. Я ради этого и поехал, но вдруг отчего-то разучился нормально дышать и не мог стоять на месте. Витрина тянулась через весь фасад; яркий отсвет от двух огромных, выполненных кричащими красками картин ложился на тротуар. Матери особенно понравилась одна из работ, но я ни на чем не мог сосредоточиться.
– Фантастическое оформление, – похвалила она. – Мимо не пройдешь.
Стол в приемной был завален брошюрами и каталогами. Мать представила меня помощнице Синди, такой же длинной и современной, как некрашеные двутавровые балки под перекрытиями выставочного зала. Галерею строили в стиле обновленного склада, хотя в этой части города никогда не было промышленных складов, однако это не смущало десяток посетителей, бродивших между перегородок по залу. Глядя на мою мать через толстые линзы очков в черной оправе, секретарша повторила мое имя как непривычное иностранное слово.
Пока мы ждали Синди, я боялся пошевелиться, не обдумав заранее каждый жест. От страха я так скалился в улыбке, что непонятно, как челюсти не выпали на пол. В конце концов я застыл столбом у какого-то рисунка, в сотый раз гадая, признался Джеймс Синди или нет. Кое-как овладев собой, чтобы иметь возможность связно мыслить и не шататься от собственного дыхания, я понял, что по-прежнему не хочу ничего говорить матери. Признаться ей – все равно что открыть дверь и впустить в наш дом отца Грега, а если он вернется, то весть о случившемся облетит весь город, и от этой мысли мне делалось еще хуже, чем если бы нас в свое время застали в подвале. Пока никто не знает, это как если бы ничего и не было. Этой версии я и придерживался: ничего никогда не было.
Не знаю, сколько времени я простоял перед рисунком, когда подошла мать.
– Что ты делаешь? Почему ты ведешь себя как сумасшедший? Здесь, на людях?
– Что? – У меня, должно быть, действительно был вид ненормального.
– Что с тобой происходит? – прошипела мать. Я не видел ее такой взбешенной с тех пор, как вернулся домой от Елены. – Синди разговаривает по телефону, скоро подойдет. – Мать огляделась и сверкнула одной из своих обворожительных, «для публики», улыбок.
Рядом ходили всего один-два человека, а мы с матерью разговаривали очень тихо – вряд ли кто-нибудь что-то расслышал, но за ее внешней оживленностью угадывалась хорошо знакомая прежняя досада.
Я посмотрел на мужской портрет, перед которым стоял. Холст представлял собой симметричную решетку, так что можно было разглядеть и трехмерное изображение молодого человека с кривой полуулыбкой, и плоскую поверхность, разбитую на разноцветные кубы. Мне хотелось прыгнуть в один из этих кубов и слиться с красным или синим цветом, а то, что от меня останется, пусть бы исчезло.
Мать тронула меня за плечо. Я обернулся и увидел Синди, высунувшую голову из-за угла. Я машинально улыбнулся в ответ, чувствуя, как на лице появляется привычная маска. Мне захотелось плакать, но как заплачешь, если углы рта приподняты до отказа и вдвинуты в щеки. Опять моя мать со своим естественным отбором самых жизнерадостных.
Они с Синди обнялись и восхитились тем, как хорошо выглядит каждая из них. В отличие от своей помощницы, Синди вышла не в черном. По-моему, она из тех, кто вообще не носит черное – все-таки владелица арт-галереи. Казалось, Синди рада нашему появлению, но вид у нее был усталый: толстый слой тонального крема не мог скрыть мешки под глазами.
– Извини, что заставила ждать – я разговаривала с Уолтером, – сказала Синди.
– С каких пор он звонит тебе среди дня? – удивилась мать.
– Просто мы сейчас стараемся побольше общаться, – сказала Синди вроде бы с облегчением. – Как хорошо, что ты привезла Эйдена, – добавила она, энергично шагая в глубину галереи (мы старались не отстать). – Джеймс внизу, играет в видеоигры. Эйден, ты спустись к нему, поиграйте вместе, а мы с твоей мамой поговорим.
Я сдерживался изо всех сил, копируя манеру матери. «Действуй по плану, – твердил я себе. – Поговори с ним». В конце галереи узкая лестница вела вниз, в складские помещения внизу. У подножия лестницы я увидел картины в рамах, тесно составленные на стеллаже. Синди перегнулась через перила.
– Милый! – позвала она. Ответа не последовало. Слышались автоматные очереди и болезненный скулеж персонажей видеоигры. Синди силилась улыбнуться, изо всех сил сжимая перила. – Мальчик мой, ты где? – Она спустилась на пару ступенек и заорала: – Джеймс!
По-моему, ее услышали в галерее. Синди потерла лоб и сказала уже другим тоном:
– Извините. Я вся на нервах. Простите. Я в порядке.
– Ну конечно, дорогая, – откликнулась мать.
– Джеймс! – снова позвала Синди.
Автоматная пальба прекратилась, и из недр цокольного этажа донесся голос Джеймса:
– Мам, я здесь, здесь! Я уровень проходил! Я здесь, – повторил он, появляясь из-за поворота.
Он остановился у стеллажа с картинами, спрятав руки под полами зеленой с черным фланелевой рубашки, – худой, жилистый, в черных узких джинсах, кудрявые волосы свисают на лицо. Страшно было слышать от него совершенно взрослые интонации. У меня сжалось горло при мысли о том, что из-за этого заморыша отец Грег ко мне переменился. Даже зная все, что я знал, и понимая, насколько извращенной была привязанность отца Грега, я не мог не ненавидеть Джеймса.
Он заморгал при виде нас троих.
– Здрасьте, – сказал он, когда Синди еще раз нас представила, и по его застывшему лицу – губы со скорбной складкой даже не дрогнули – я понял, что Джеймс не хочет меня видеть.
Синди заставила сына пригласить меня поиграть.
– Нам с твоей мамой нужно многое обсудить, – обратилась она ко мне. – Это может занять некоторое время.
– Вот бы поскорее! – вырвалось у матери.
– Ты шутишь? – Синди овладела собой. – Мы будем соседками. И у меня есть идеи, которые могут оказаться полезными для нас обеих.
– Я играю в «Мир после чумы», – сказал Джеймс. – Ты, наверное, тоже можешь поиграть. – Говорил он негромко, но все равно впечатление было жутковатое: его голос звучал зловещим шепотом.
– Как, в эту игру? – вмешалась Синди.
– Ну, мам! – заныл Джеймс.
– Ладно, ладно, – оборвала его стенания Синди. – Я не критикую, просто спрашиваю. – Она нервно повернулась к моей матери и начала подниматься по ступенькам. – Ох уж эти сегодняшние дети… – На секунду она замолчала и продолжила, когда они отошли от лестницы: – Так из-за них беспокоишься… или за них, не знаю…
Настала пауза, и я понял, что это мне намек оставить их одних. Я сказал Синди, что спущусь к Джеймсу.
– Похоже, там происходит нечто интересное, – заявил я.
Синди расцвела, и я понял, что попал в точку. Мне словно вручили старый сценарий, и я продолжил разговор, не законченный на рождественской вечеринке.
Спустившись, я прошел мимо стеллажей с картинами и шкафов с папками. Джеймс уже вернулся к своей игре. Под потолком импровизированного коридора между «единицами хранения» тянулся ряд тусклых рельсовых светильников; еще два ряда не горели, расходясь в других направлениях. Электронные вопли и выстрелы раздавались откуда-то из-за шкафов. Свернув за угол, я попал в маленький офис, где Джеймс отодвинул мебель и установил видеопроектор и экран. Персонажи на экране были с него ростом. Джеймс играл за героя в красной кожаной куртке, палившего из полуавтоматического пистолета в армаду зомби, которые с завыванием брели вперед, пока им не отстреливали головы. Кровавые брызги то и дело разлетались по экрану. Мне стало не по себе.
– Извини, – тихо сказал я, но Джеймс все равно испуганно дернулся. – Прости, прости. Я вот подумал – спущусь к тебе.
Разноцветные отсветы с экрана играли на бледном лице Джеймса. Он словно бы съежился, спрятался внутрь себя и отступил на шаг. Один из зомби метнул топор в героя в красной куртке, другой поднял его на вилы. Новый удар, вопль, и аватар Джеймса превратился в кровавое месиво. Орда зомби надвинулась на него и начала пожирать труп. Экран затянуло красной пленкой.
На полу между нами был расстелен маленький ковер, и ни Джеймс, ни я не пересекали эту границу.
– В холодильнике есть газировка, – сказал наконец Джеймс, указав на маленькую коричневую дверцу под письменным столом.
В подвале было прохладно, чашка горячего чаю или кофе пришлась бы более кстати, но я все же взял банку колы из холодильника. Прислонившись к столу, я обратил внимание, насколько я выше Джеймса. Он поглядел на экран и покачал головой.
– Ну, раз ты меня убил, можно начать заново. Хочешь быть вторым героем? У меня есть еще один пульт. – Джеймс нажал какие-то кнопки и пролистнул несколько заставок, пока не нашел два профиля, плавающих на сером фоне.
– Второй герой – девушка, что ли? – спросил я. Как и ее товарищ, цифровая воительница была одета в кожаную куртку, только черную. – Ладно, сойдет. Что надо делать?
Джеймс пошарил в ящике стола и извлек второй пульт. Подключая его, он объяснял мне основные функции: как пинать, как бить, как стрелять, как бросать гранату и где брать боеприпасы, потому что их мало и они далеко друг от друга. Он относился ко всему этому очень серьезно и, инструктируя меня, прижимал пульт к груди.
– Спасибо, – сказал я через минуту. – Но это всего лишь игра, разберусь по ходу.
– В общем, да, – согласился Джеймс, – но, раз уж собрался играть, играй правильно. – В свете проектора и экрана он походил на священника, отправляющего богослужение, и я подумал: может, и я так выгляжу в глазах одноклассников, когда отвечаю на вопросы учителя машинально и безучастно. Я потянулся за пультом. Джеймс отпрянул и подал мне пульт на вытянутой руке, чуть ли не бросив его мне в ладонь. – Можешь встать вон там. – Он показал на другую сторону ковра.
Я послушался, и игра началась. Хотя мы боролись с зомби как напарники, большинство из них убил Джеймс, а я только наугад палил по экрану. Если бы игра меня интересовала, я бы порадовался, что мы играем не друг против друга: Джеймс бы меня замочил в два счета – ему не надоедало делать это снова и снова. Он играл хорошо, и я предположил, что он уже не раз проходил все уровни. Он действовал по четкому алгоритму: входит зомби, надо его уничтожить, а для этого нужно достать обойму, вставить и стрелять, стрелять, стрелять. Я знал, как успокаивает нервы многократное выполнение задач на реакцию и скорость: голова занята, посторонние мысли не лезут.
Джеймс по другую сторону ковра стоял неподвижно, только пальцы мелькали на кнопках.
– Говорят, ты пошел в другую школу? – спросил я.
– Мама перевела.
– Да ладно, серьезно? И куда?
– Не знаю, мне все равно. Эй, осторожнее! Гляди, что делаешь! – крикнул Джеймс.
Я позволил моей героине подойти слишком близко к зомби, который укусил ее в плечо.
– Бей с разворота! С разворота бей! – закричал Джеймс.
Я начал нажимать на кнопки и успел заставить аватара крутануться и врезать зомби с ноги. Затем, раз уж он был близко, разнес ему голову. Обезглавленное тело топталось на месте.
– Да, – прошептал Джеймс. Он воспользовался трупом, чтобы блокировать начавшуюся атаку, и разнес группу приближавшихся зомби гранатой. Его аватар рвался вперед и вел нас дальше.
– Ей не нравится академия? Это же хорошая школа.
– Не знаю.
– А что не так?
– Просто мама думает, что мне надо пойти куда-нибудь еще. Я не знаю.
Наши герои выбежали на городскую площадь со старым каменным колодцем в центре. На вид обычные горожане, а на самом деле зомби машинально выполняли привычные дела: дергали за колодезную цепь, хотя на ней не было ведра, собирали яблоки у перевернутой тележки с фруктами, которые кишели червями. Зомби обернулись к нам, когда Джеймс ударил одного из них сзади. Он выстрелил в окна какого-то здания, и оттуда тоже вылетели зомби.
– Я слышал, ты будешь учиться в Буллингтоне. Это правда?
– Хватит болтать, – буркнул он, – сейчас сложное место…
– Нет, серьезно, почему она заставила тебя пойти туда?
– Не знаю. Ты играешь или нет?
– А я думаю, знаешь.
Джеймс покосился на меня, но тут же снова уставился на экран, еще больше сосредоточившись.
– Ты уже не алтарник в Драгоценнейшей Крови Христовой? – Я старался, чтобы мой голос не дрожал. – Ты туда вообще больше не ходишь, да?
Джеймс покачал головой.
– Я тоже там работал. И никогда туда не вернусь.
Джеймс наступил на ковер и выстрелил в очередного зомби. Не чувствуя кнопок под пальцами, я подошел к нему вплотную.
– Джеймс, – тихо позвал я.
Он отступил на шаг и указал на пульт, который я уронил на ковер.
– Пожалуйста, – заикаясь, проговорил он. – Я хочу доиграть.
– Ты матери рассказывал? – спросил я.
Джеймс замотал головой.
– Я не знаю.
– Рассказывал. – Мой голос звучал пронзительно, и я ничего не мог с этим поделать.
– Я хочу поиграть, – всхлипнул Джеймс. Один из аватаров на экране вскрикнул. – Я не хочу разговаривать. Я не могу, не могу!
Я отобрал у него пульт и схватил его за руку повыше локтя.
– Мне нужно знать точно, – сказал я.
Джеймс вырывался, но я не отпускал. Я навис над ним, нашарил его воротник и подтянул к себе.
– Мне ты можешь признаться. Что ты разболтал? Кто-нибудь говорил с отцом Дули? Ты что, не понимаешь? – заорал я.
На экране шайка зомби визгливо завопила. Аватары вскрикнули, когда монстры окружили их, разрывая на части и режа ножами. Джеймс ударил меня свободной рукой, но удар был слабым и бесполезным. Тогда он попытался меня пнуть.
– Ты никому не скажешь?
– Нет, – сказал он.
Я схватил его за волосы и заставил посмотреть на меня.
– Обещай, что никому не скажешь!
Он зажмурился.
– Нет, я никому не скажу, обещаю, – взмолился сказал он. – Нет, нет.
Я замер. Внутри все оборвалось. Пот катился по шее. Костяшками пальцев я чувствовал его грудь сквозь рубашку. Я точно знал, что могу поставить Джеймса на колени. Я мог сделать с ним все, что захочу, и от этого внезапного осознания меня чуть не вырвало.
– Нет! – снова заплакал он.
Я его отпустил. Я загораживал выход и все еще держал его, поэтому Джеймс нагнулся и укусил меня за руку. Моментально освободившись, он бросился под стол и забился в угол рядом с мини-холодильником. Я хотел его ударить. Я хотел его обнять.
Зомби жадно пировали на трупах наших аватаров – кровь брызгала на экран безобразными, слишком реалистичными каплями. Джеймс сидел под столом, словно стараясь укрыться от кровавого душа.
– Пожалуйста, – услышал я собственный голос, – я тебя не обижу, пожалуйста, извини, я не хотел. – Я чуть не подавился этими словами, слыша себя со стороны. – Я не такой, как он, Джеймс! Я не такой! Нет!
– Я не стану об этом говорить! – закричал Джеймс. Он всхлипнул и вытер щеки.
Я оперся о тумбочку с папками и сполз на пол. Надо мной работал проектор. Кровавая пелена снова затянула весь экран, и музыкальная тема «Чумы» бубнила под гротескное чавканье. Джеймс всхлипывал, и я тоже заплакал. Пылинки кружились в ярком коническом луче света, а я думал о песчинках, впившихся в мои колени в церковном подвале, и о том, как рука отца Грега рванула меня за волосы. Я вспомнил запах вонючего пота, и глотки скотча, и жжение в горле, и палец с обломанным ногтем, прижатый к моей губе, и жесткие усы, царапающие мне шею и подбородок, и мои ребра, стиснутые его хваткой, и холодный воздух, покалывающий обнаженную грудь, и край верстака, впивающийся в спину, оставляя глубокую линию, но я не закричал, не посмел, черт возьми, издать ни единого крика, ни разу ничего громче сдавленного шипения, чтобы это пережить, и вырывавшихся болезненных долгих вздохов, пока это наконец не закончилось, и я сказал себе: я это пережил, и если такова цена и больше от меня ничего не требуется, тогда я смогу выдержать это снова – и выдержу.
Меня замутило. Я нашел свою колу и выпил залпом, чтобы успокоить желудок, но стало только хуже – я с трудом сдерживал рвотные позывы. Я извинился перед Джеймсом, едва смог опять говорить. Он долго смотрел на меня из-под стола, пока наконец не пришел в себя.
– Я больше тебя не трону, – пообещал я.
Он кивнул. Некоторое время мы сидели неподвижно, и я забеспокоился о наших матерях, оставшихся наверху.
– А они не спустятся? – спросил я.
– Она сперва крикнет, – сказал Джеймс. – Она меня однажды испугала, теперь всегда сначала кричит.
– Хорошо, – заметил я. Мне хотелось предъявить ему какое-то доказательство того, что я больше не побеспокою его, какой-то залог, который значил бы больше, чем все, что я мог ему сказать. В сказке я нашел бы чашу, которая вернула бы румянец его щекам, или плащ, который защитил бы его, но в реальном мире я не мог предложить ничего, кроме доверия, и понимал, почему он не захочет мне доверять.
Когда я поднялся, Джеймс остался сидеть под столом. Я постоял и допил колу. Джеймс все еще колебался.
– Приступим, что ли. – Я взял один пульт и бросил ему другой. – Я снова буду за девушку.
Джеймс подался вперед, чтобы лучше видеть экран, но остался сидеть на полу у стола. Мы снова прошли весь уровень, и я старался играть не хуже Джеймса, чтобы ему не приходилось прикрывать моего аватара. На этот раз мы дошли до центра деревни быстрее, и я сразу выстрелил по верхним окнам, а в колодец бросил гранату. Грохнул взрыв, во все стороны полетели кирпичи.
– Отлично, – удовлетворенно отметил Джеймс. – Иначе они бы оттуда полезли.
– Я учусь, – сказал я, – но я бы облажался, если бы ты не объяснил.
Джеймс улыбнулся.
– Ты здорово играешь.
– Да, – гордо заявил он, – я и сам знаю.
Потом нас позвала Синди, и мы пошли к лестнице. В присутствии наших матерей я поблагодарил Джеймса за то, что он позволил поиграть с ним, и он помахал мне на прощанье. Я поднялся в галерею. Сияющая мать положила мне руку на плечо и пообещала Синди, что приедет во вторник. Я побрел к выходу, а мать повернулась к Синди и обняла ее.
– Как интересно, правда? – сказала она. – Спасибо тебе!
– Давай перестанем говорить друг другу спасибо и займемся делом, – ответила Синди.
Они расцеловались, мать пожала ей руку и быстро пошла ко мне – я ждал у дверей.
– Очень приятно было увидеть вашу галерею. – Я едва удержался от церемонного поклона.
Мы прошли мимо холста, на который я засмотрелся, пока мы ждали Синди. Тогда я разглядывал отдельные кубики, не понимая основной идеи, но теперь заметил, что это многослойная маска: почти исчезнувшие остатки плоти лишь намечали то, что видят все, не показывая настоящего лица. Кто, кроме сопляков, безмолвного дерьма вроде меня или Джеймса, осмелится явить миру мягкую, дрожащую плоть?
Мать держалась с уверенным превосходством. Пока мы были в галерее, солнце село, и мать залюбовалась темным небом и оранжевым светом от фальшивых газовых ламп на тротуаре. Она оглядела обе стороны улицы и зааплодировала руками в перчатках. Я смотрел, как дыхание вырывается у меня изо рта белым облачком и сразу исчезает.
– Еще довольно рано, в «Устричном мосте» должны быть места. Ты же голодный? – продолжала мать, когда мы сели в машину. – Давай отметим в ресторане наше новое начинание. Мы снова обретаем интерес к жизни!
– О да, – сказал я, – еще какой.
– Разве ты не рад? Ты похож на меня больше, чем думаешь. Мы еще прорвемся в первые ряды. В этом городе только о нас и будут говорить.
Я так и видел, как она яростно крутится на сцене, напрягая бедра и готовя ноги к прыжку: взлетай! Я знал: чтобы воспарить в воздух, нужна не только тренировка, мысленно ты тоже должен толкнуть себя вверх. Надо представить себя в воздухе, будто душа выходит из тела и смотрит на тебя со стороны, и далекий голос твердит: лети, лети, ну же, лети, – и ты отрываешься от земли.
Это умение силой воли заставить себя что-то сделать. Видимо, с помощью той же силы воли я лгал себе, подтасовал воспоминания и впихнул себя в другую биографию. Какой-какой Донован? Святой отец, как бишь его? Есть только мы с матерью, упорно пробивающиеся вперед в поисках яркой жизни, о которой всегда мечтали.
После ужина мы приехали домой и включили музыку восьмидесятых. Мать спросила, умею ли я делать мартини, – она выпила несколько бокалов в ресторане. Мне казалось, что коктейли смешивать несложно, но мать сказала, что дело не в рецепте, а в сноровке, и над этим мы и будем работать. Увы, она и не догадывалась, сколько сноровки мне понадобилось, чтобы сделать вид, будто мне страшно интересно. Выпивка – это выпивка, и больше ничего; любой алкоголь приводит к одному результату. Я много вечеров имел возможность наблюдать его у нас дома и знал, что сегодня будет то же самое. Мать велела мне смотреть и смешала новую порцию.
Я тоже налил себе мартини, следуя ее инструкциям. Я едва пригубил свой коктейль, а мать выпила залпом. Отойдя от меня, она прислонилась к пианино. Ноги у нее заплетались.
– Я обязательно добьюсь своего… То есть мы добьемся, – поправилась она, взглянув на меня.
Мне меньше всего хотелось новой зажигательной речи, но мать улыбнулась, и я понял: речь будет, если только не переключиться на старые излюбленные темы.
– Конечно, добьешься, какие твои годы. В смысле, ты выглядишь моложе большинства матерей в нашей академии.
Мать хихикнула.
– Ты очень любезен. Умеешь сказать то, что нужно. И кто тебя воспитывал? – Она неловко засмеялась, отошла от пианино и присела на подлокотник кресла Донована-старшего.
Я молчал, попивая коктейль у каминной полки.
– Я уже не так молода, – продолжала мать. – Мужчины не смотрят на меня, как прежде. Раньше во мне что-то было, а теперь ушло. Мужчина смотрит на тебя, и его мысли как на ладони…
Мать забылась в собственных мечтах, глядя в пустой камин, а я подумал, что это не зависит от пола. Это зависит от того, как на тебя смотрят, как взгляды шарят по тебе, разнимая твое тело на части или отрывая по куску. Любой может нарваться на подобное, ощутить эту тяжесть, узнать и даже хотеть ее. Иногда чужое желание приятно. Мне не понадобился груз прожитых лет, чтобы об этом узнать. Есть много способов желать кого-то и хотеть быть желанным, есть целый спектр желаний, и не все они связаны с телом.
Мать пыталась дать мне совет. Ей казалось, она пережила потери, а я пока нет или не понимаю их так глубоко, как она. Ну как прикажете доверять человеку, устанавливающему свою монополию на участь жертвы?
Она велела налить ей еще мартини.
– Посмотри на меня, – сказала она. – Никто не скажет, что у меня грустный вид. Я не грущу. Я добьюсь успеха. – Она замолчала и опустилась в кресло Донована-старшего.
Пухлое сиденье выпятилось вокруг ее узких бедер. Может, мать почувствовала его запах – запах старого мужчины, кислый запах мертвой кожи и надменности? Вскоре ее голова начала клониться из стороны в сторону, как у куклы, которой поиграли и бросили. В конце концов она нетвердыми шагами пошла наверх, в спальню.
Я немного прибрался и тоже пошел спать. Из-за закрытых дверей большой спальни по темному дому разносились стоны виолончели – мать слушала музыку, вспоминая время, когда музыка была ее партнером в жизни, когда театры были популярны. Я постучал. Мать не ответила, но я все равно вошел. Бледный лунный свет заливал комнату. Длинное зеркало на двери ванной сумрачно отражало кровать. Я не мог разглядеть мать, пока ее нога не двинулась на покрывале. Она не укрылась, лишь натянула край покрывала с пола себе на плечи, как плащ. Тонкие ноги были прижаты к груди – она даже не сняла туфли.
Я подошел, снял с нее туфли и сгреб ее поудобнее. Мне удалось просунуть плечо под ее руку и приподнять, пока я откидывал одеяло. Я положил мать на простыню, избегая смотреть на нее, хотя ей явно было все равно. Юбка у нее задралась до бедер. Я положил ее ноги на кровать и побыстрее прикрыл одеялом, но по-прежнему видел ее нижнее белье. Взгляд у нее блуждал. Я мог бы отвесить ей пощечину, и она бы даже не вздрогнула.
Я стянул у нее из тумбочки сигарету и закурил, привалившись к кровати спиной. Может, мать очнется – пусть даже только для того, чтобы закатить скандал. Сигарета была женская, длинная и тонкая, но мне было все равно, какие курить. Я мог с таким же успехом натянуть и ее шпильки: все равно я не чувствовал себя хозяином в доме.
Я стряхнул пепел на тарелку на тумбочке. Рядом стоял высокий бокал воды и пластиковый пузырек со снотворным. Я подумал было взять одну пилюлю, чтобы провалиться в спасительный туман, в долгий сон без сновидений, но в пузырьке оставалось всего две таблетки. Я обернулся и откинул сбоку одеяло, ища ее руку. Я стиснул руку матери, и, к моему облегчению, она ответила пожатием. Движение было слабым, но в нем оставалась жизнь. Я замерз – или сказал себе, что замерз, – и тоже забрался под одеяло.
Донован-старший не умер, но он оставил ее вдовой, обрек еженощно делить постель с неподъемно тяжелой пустотой. Может, в своем коматозном состоянии мать поверит, что я – это он, или захочет поверить, что я – это он, заполнивший образовавшуюся пустоту. Может, в каком-то смысле я и хотел им стать – или кем-то вроде него. Тем, кому вдруг понадобилась роскошь настоящих чувств.
Ну, в этом направлении я двигаюсь семимильными шагами. Похоже, доска моей памяти наконец очистилась. Я никому не говорил о том, что со мной случилось. Я могу рассказывать о себе другую, лучшую историю, которую можно придумать совершенно самостоятельно.
Глава 12
Проблема в том, что нам не всегда удается написать свою историю. Помимо своей воли мы попадаем в чужие истории, и если вы спросите почему, ответа не будет. От нас ничего не зависит, здесь задействованы силы слишком мощные, чтобы им противостоять, а иногда и слишком масштабные, чтобы их постичь. Когда Донован-старший призывал меня каждый день читать газеты и занимать в жизни активную позицию, я думал о себе как о диванном генерале, наблюдающем за войной со стороны. Я как-то не ожидал, что это меня коснется. Донован-старший, должно быть, привык воспринимать себя как персонажа статьи, чьи действия, замечания и даже ассоциации перечислены в тексте. Все время, пока я просматривал передовицы, мне ни разу не приходило в голову, что однажды и я, можно сказать, попаду в новости.
В понедельник утром, жуя хлопья, я развернул «Таймс». Хлопья успели размокнуть, пока я смотрел на заголовок. Подробности статьи расплывались в черно-белом тумане. Внутри меня разверзлась воронка, и я утонул в ее глубине, откуда невозможно докричаться и где не бывает света. В Бостонской архиепархии возникли проблемы: «Глоуб» напечатал об этом еще вчера. Вначале одного священника обвинили в нескольких случаях совращения малолетних, затем другого, и вот уже вся архиепархия вовлечена в скандал: масштабное замалчивание, выгораживание «своих», эпидемия совращений. Совращение. Я с трудом прочитал это слово – оно казалось неточным, неправильным.
Бывают случаи, когда все говорят: какой ужас, слава богу, что это не с нами и не у нас. Можно игнорировать взрывы бомб и применение силы за океаном, пока небоскребы не начнут падать в твоей стране. Можно выбросить из головы сплетни о соседях, сочтя их преувеличением, пока тумаки и крики, о которых ты слышал, не донесутся сквозь твои стены. Что делать тогда?
Скандал коснулся не только Бостона: начато крупное расследование, волна разоблачений продолжается. Страницы переворачивались сами собой, против моей воли, а я робко просматривал статьи, забывая большую часть информации, едва пробежав глазами строчку, перескакивая через слова, пока не добирался до конца, где упоминались обвиняемые – священники Род-Айленда и Коннектикута. Подробности предлагалось читать в следующих выпусках, и страх принялся когтить меня изнутри.
В газете не говорилось о приходе Драгоценнейшей Крови Христовой или отце Греге – там упоминались другие церкви и священники, но когда я читал, призраки нашего прихода и любимца нашего города проступали на странице остаточным изображением. Произнося про себя перечисленные в статье фамилии, я слышал смех отца Грега. «Общительный сосед, – говорилось там, – заметная фигура местного общества». Так газеты пишут об убийцах: «Мирный обыватель, всегда помогавший соседям».
Я подумал: может, прогулять школу? Прогул не только подогреет праведный гнев мистера Вайнстейна, но и вызовет подозрения. Все же знают, что я работал в Драгоценнейшей Крови Христовой! Мне захотелось побежать к дому Джози, сколоть с дерева ледяную корку и посмотреть, можно ли вернуть отражение нас двоих, прижавшихся друг к другу, восстановить его, как старую фреску, похороненную в склепе забытого города, и увековечить тот миг, когда я был нормальным старшеклассником, которого не надо переводить в Буллингтон, подвергать перекрестному допросу, продергивать в газетных заголовках и превращать в артиста цирка уродов, в чудовище с человеческим лицом, мечущееся в клетке, чтобы зеваки за прутьями спрашивали: «Как он дошел до такого, как допустил, почему ничего не сделал?»
А ведь меня не оставят в покое. Я много раз бывал в магазинах и насмотрелся на таблоиды с фотографиями покалеченных рабочих, изуродованных пластикой знаменитостей или похищенных детей. Каждый рад посплетничать об этих историях, но никому не хочется стать их участником. Есть нечто отталкивающее в людях, замешанных в эти истории, – в преступниках, семьях, в самих жертвах. Каждому приписывают жутковатые качества. Никому неохота знаться с подобными людьми. Мне самому неохота.
Естественно, новость уже разлетелась по академии. С улицы было видно, как в вестибюле кучкуются матери и няни, тихо переговариваясь и провожая взлядом каждого ученика.
– Ужасно, просто ужасно, – сказала одна мамаша, когда я вошел в дверь.
Страх неосязаем и нематериален, но он способен создавать весьма ощутимые эффекты. Он может обладать вкусом и запахом. Тяжелое табачное дыхание отца Грега и обжигающая горло вонь скотча потянулись за мной по школе.
Когда я подошел к столу миссис Перрич, меня заметила Хейзел, мать шестиклассника, которому я помогал в прошлом году. Она тронула подругу за руку, и они отделились от группы мамаш.
– О! – воскликнула Хейзел, цепляя на лицо улыбку, в которой я разглядел все признаки хорошо знакомой мне жалости. Она шагнула ко мне и положила руку мне на плечо. – О боже, – сказала она, поглаживая мне плечо. – Ну и вид. Что с тобой? Ты в порядке?
– Конечно, – ответил я и только после этого сообразил, что она говорит о моем глазе. – Это случайно, на новогоднем празднике.
Хейзел покачала головой.
– А то люди обеспокоены и могут подумать самое худшее. Ну, ты понимаешь. Про церкви, – сказала она наконец. – Про этот скандал. Ужас.
– Трудно поверить, – подхватила ее подруга.
Я не ответил, глядя на ее сапоги. Они доходили ей до середины икры и по верху были отделаны полоской бледного меха. Я видел девочку из нашего класса в таких же сапогах.
– И ведь не предугадаешь, – продолжала она. – Как такое можно предвидеть?
На меня уставились еще две мамаши. Миссис Перрич говорила по телефону, но тоже посматривала на меня поверх очков.
– Ты работаешь в Драгоценнейшей Крови Христовой, верно? – спросила меня одна из женщин.
Хейзел никак не могла убрать от меня руку: теперь она принялась поглаживать мне локоть.
– Наверняка это очень нелегко. Ну, ты же там работаешь, да?
– Денни ходил туда в школу конфирмантов, – сказала еще одна женщина. – Сколько же детей в нашей общине проходят через школу конфирмантов?
– Я знаю, – заявила четвертая и обратилась ко мне: – В каком ты классе?
– Эйден в десятом, – быстро ответила Хейзел.
– О боже, – сказала эта четвертая. – Значит, ты там работаешь? И как там обстановка? Говорят об этом или нет?
– Тил! – одернула ее Хейзел. – Эйден, это не наше дело.
Другие матери немного отодвинулись, но не приблизились к Хейзел, а словно сплотились вокруг Тил, которая стояла, скрестив руки на груди.
Я никого из них толком не знал, даже по именам затруднился бы назвать, однако им уже было известно, что я работал в Драгоценнейшей Крови Христовой.
– Я не верю, чтобы в нашем приходе что-нибудь было, – сказал я. – А если ничего не было, с чего кому-то об этом говорить? – Мой голос повысился, по спине потекла струйка пота. На лбу тоже выступила испарина. Я сжал кулаки и сунул их в карманы, чтобы, не дай бог, не вытереть рукой лицо.
– Мальчик мой, – произнесла Хейзел, – успокойся, все нормально. Мы никого ни в чем не обвиняем.
– Я тоже не обвиняю, – сказал я чересчур громко.
– А я считаю, – заявила мамаша в меховых сапогах, – что родительский комитет все равно должен этим заняться. Нужно, чтобы об этом заговорили, и, соответственно, с детьми тоже нужно провести беседу.
– Обязательно, – согласилась с ней Тил. – Доктор Ридж должен созвать общешкольное собрание.
– Может, лучше в малом формате? – предложила другая мамаша. – Тема, знаете, очень деликатная.
– Вот именно, – подчеркнула Хейзел.
– Вообще-то, – продолжала мамаша в меховых сапогах, – этим должен заняться отец Грег. Это его обязанность, не только перед Драгоценнейшей Кровью Христовой, но и перед всем городом.
– Отец Грег даже на воскресной мессе не появился, – сказала Хейзел. – Ее служил отец Дули.
– Отец Дули? – переспросила Тил. – А он что-нибудь об этом сказал?
– Тил, достаточно! – перебила ее Хейзел. Она попыталась меня обнять, но я попятился.
– Я не знаю, о чем вы говорите, – сказал я.
Происходящее казалось мне сюром: ни одна из этих женщин не бывала в Драгоценнейшей Крови Христовой, так чего они завелись? Некоторые из них вообще не католички.
Я показал на часы в вестибюле и прошел к классам. Если родители громогласно требовали собраний и конференций, ученики вели себя совершенно иначе: в коридорах царило молчание, нарушаемое лишь шепотками о ребятах, занимавшихся волонтерством в приходе. Я старался уклониться от этих разговоров – ведь многие знали, что я работал в Драгоценнейшей Крови Христовой летом и осенью.
Ник с Дастином тоже подошли ко мне в коридоре. Некоторое время Дастин пялился на меня в упор, потом пробормотал что-то своему приятелю на ухо. Мне казалось, я отовсюду слышал свое имя, но, когда я оборачивался, ко мне никто не обращался.
Мистер Вайнстейн дал нам письменную работу, но я весь урок смотрел на чистый лист, опасаясь обуревавших меня воспоминаний. Мистер Вайнстейн сидел в своем кресле, заложив руки за голову совсем как отец Грег, когда тот ораторствовал в своем кабинете, и это напомнило мне наш разговор в самом начале кампании. Отец Грег показывал мне фотографии, которые планировал использовать как агитационные материалы: дети радостно тянут руки на уроке, двое учащихся у компьютера, и один из них указывает на монитор с выражением восторженного узнавания на лице. Были и другие снимки.
– Знаешь, почему я люблю привлекать в проекты ребят вроде тебя? – спросил отец Грег. – Потому что ты совсем как они, а мне важно, чтобы дети помогали друг другу. – Он взял фотографию трех латиноамериканцев в белых лабораторных халатах и защитных очках. – Помогая другим, помогаешь себе.
Отец Грег много раз повторял это во время кампании, и я с готовностью верил, что обязательно получу за это награду. Отец Грег обещал и напоминал, что так заведено у Бога: «Ибо алкал Я, а вы дали Мне есть; жаждал, а вы напоили Меня; был странником, а вы приняли Меня».
А я ему верил, потому что хотел верить. Глядя на чистый лист на уроке мистера Вайнстейна, я думал, как на самом деле возникает вера. Она не поражает человека молнией, так что он падает с лошади и видит мир, враз расцвеченный яркими красками. Вера начинается с желания увидеть что-то в определенном свете, увидеть мир таким, каким тебе хочется его видеть. Почву для веры готовит желание, побуждая поверить, что тучи рассеются, причем рассеются специально для тебя. Тучи тоже нужны, потому что, когда они рассеиваются специально для тебя, это стимул, от которого появляется вдохновение и силы продолжать. Я верил в отца Грега. Он знал, чего я хочу, и убеждал меня в это верить.
Мистер Вайнстейн попросил сдать сочинения. Я протянул пустой лист. Джози оглянулась через плечо и спросила одними губами: «Что случилось?»
– Ничего, – ответил я.
Мистер Вайнстейн попросил соблюдать тишину и начал урок. Я вновь погрузился в свои мысли. Может, отец Грег предлагал мне милосердие? Не было ли это, согласно канону, вершиной учения Иисуса – милосердием, ведь проявление милосердия – это верный билет в рай? Но подлинное ли это милосердие – стараться для других в расчете на награду в будущей жизни? Милосердие перед перспективой небытия не большее ли проявление? Но кто станет так делать? Кто не поступит так, как лучше для него, когда спадут последние покровы и слова «любовь» и «добродетель» предстанут во всем своем неприкрытом лицемерии? Отец Грег так часто манипулировал этими понятиями, что сами слова уже казались растленными, патологическими. А если я теперь захочу воспользоваться этими словами? Почему бы мне не держать их как топор палача, занесенный над чьей-нибудь головой, пока этот человек не сделает то, чего я от него хочу?
Из класса я выходил как в тумане. Я шел по коридору на следующий урок и чувствовал на себе взгляды, но все опускали глаза, стоило мне посмотреть в ответ. Пальцем на меня никто не показывал, но после предложения Тил поднять вопрос о Драгоценнейшей Крови Христовой я весь день прожил в ужасе, что они каким-то образом все узнали, что в статье, где выводили на чистую воду извращенцев, чудовищ в овечьей шкуре, был абзац и обо мне, будто статья указывала на меня, крича: «Не впускайте его, он притащит с собой эту грязь и все осквернит». При этом никто ничего толком не понимал, но кто-то прочел и всем рассказал об этой статье и обо мне, а оповещенные сели на телефон обзванивать семьи старшеклассников, и вот-вот прозвучит объявление по громкой связи – меня вызывают к директору, и все получат право указывать пальцем и глазеть на странное конченое существо, которое в последний раз идет по коридору в кабинет директрисы Экерсон, где мне прямо скажут, что подобными подростками занимаются специалисты в Буллингтоне, вручат особое разрешение на перевод и, не позволив даже напоследок пообедать в столовой, отправят туда на казенной машине.
Поговорить с Джози или Софи я не мог – они бы начали задавать вопросы. Я лишь хотел снова оказаться в домике у бассейна Джози, обмениваясь дымом по кругу, забываясь в легкости, притупляющей все иные чувства, но с тех пор, казалось, прошло много лет, к тому же я очень беспокоился о Марке. В школе его не было, и к третьему уроку я понял, что он не пришел. Мне стало чуть легче. Мы с ним не разговаривали после той ночи на крыше Кулиджа, и я не представлял, что он способен выкинуть. Неужели, говоря, что все узнают, он имел в виду вот это?
На уроке химии я попросился выйти и пошел в туалет на этаж средней школы, чтобы никто из одноклассников ничего не подслушал и никому не растрепал. Меня вырвало. Умывшись, я почувствовал себя лучше, но все равно дождался конца урока, чтобы подняться и забрать книги и сумку. Ланч я пропустил – сидел в кабинке туалета на третьем этаже, стараясь успокоиться. Пот катился по шее – воротник рубашки промок. Я ослабил узел галстука и плеснул холодной водой в лицо. Я умывался снова и снова, смачивая густые кудрявые пряди, потом зализал волосы назад, как гангстер. Я с ненавистью смотрел на свое отражение, ощущая желание врезать по зеркалу кулаком. Вместо этого я снял металлическую скобку с одной из ручек и с силой несколько раз провел по зеркальной поверхности. Белые порезы легли у меня поперек лба и щек, а один – через пожелтевший синяк вокруг глаза.
Когда прозвенел звонок, я промокнул волосы бумажными полотенцами и пошел в класс. Мне стало лучше. Я выдержу, твердил я себе. Никто ничего не узнает.
Я вызвал такси забрать меня после уроков и смылся, не дожидаясь традиционных объявлений. Притворившись снобом, я вообще не смотрел на водителя с заднего сиденья. Снег почти везде растаял – улицы будто покрылись истонченной зубной эмалью в никотиновых пятнах. Когда пройдут холода и растает лед в жалюзи и трещинах тротуаров, земля станет мягкой и жирная грязь выступит на поверхности, городом займутся ландшафтные компании, маляры и асфальтовые катки. С хирургической точностью они восстановят пышность и яркость садов и роскошную растительность на покатых газонах, дороги заделают и сгладят, пострадавшие от погоды дома точными взмахами кисти освежат не хуже цветов, которыми обсажены подъездные аллеи, и признаки разложения исчезнут. Ну почему со мной нельзя сделать то же самое?
Домой я приехал гораздо раньше обычного и с удивлением услышал радио на кухне. Сигаретами матери пахло еще в холле, где я снял куртку.
– Эйден! – крикнула мать, когда я вошел в библиотеку. – Эйден, иди сюда! – Она сидела за обеденным столом, в пепельнице дымилась сигарета. При моем появлении мать вскочила. Она еще была в своем утреннем тренировочном костюме; из тугого хвоста выбились пряди. Мать стиснула руки, потом на секунду разжала, поманила меня к себе, после чего снова стиснула. – О, поди сюда, пожалуйста!
Я не решался.
– Тут такое пишут… – продолжала мать. Она не подошла, но ее ноги чуть подергивались, будто она готова была подбежать ко мне.
Я присел у кухонного стола – на расстоянии я чувствовал себя в большей безопасности. Я призвал на помощь все свое самообладание – оно сидело во мне, как в тюрьме, однако боялся, что не выдержу, если мать подойдет и обнимет меня.
Мать решилась снова присесть.
– Едва увидев газету, я сразу подумала о тебе и о Драгоценнейшей Крови Христовой!
– В школе тоже об этом говорят, – медленно сказал я и сел прямо. Мать никак не могла взглянуть мне в глаза. Я понял, что мне проще смотреть ей в глаза. Я привык ей лгать – зная, что лгу, и не обманывая себя. – Но пока я работал в приходе, там ничего такого не было.
– Точно? – настаивала она. – А то мне позвонили… Ты помнишь Хейзел? Так вот, ходят слухи…
– Слухи, – повторил я, по-прежнему глядя на мать.
Страх в глазах придавал ее обычной красоте какую-то соблазнительную невинность, которую хотелось охранять и защищать. Глазами она молила о помощи, которую привыкла получать – вы чувствовали себя просто обязанным оказать ей эту самую помощь.
– Это инсинуации, – продолжал я как можно медленнее, чтобы казаться спокойным. – Это бестактно, бесцеремонно. Они там не работали, а я работал.
– О Эйден, пожалуйста, – взмолилась мать. – Ты говоришь правду? Это очень серьезно!
– Я тоже серьезен. Ничего не было.
– Но это в газетах по всей стране! Просто эпидемия! Масштабное замалчивание! Неминуемо будет подан коллективный иск!
– Я там ничего такого не видел, – повторил я. – И меня уже тошнит от всего этого.
– Все виновные должны понести наказание как обычные граждане, – продолжала мать. – Не только растлители, но и те, кто содействовал преступлениям. Подонки! – Мать встала, пересекла кухню и обняла меня.
Я прижался лицом к ее груди, чтобы не смотреть ей в лицо. Я не знал, сколько еще продержусь без истерики.
– Все меня только об этом и спрашивают, будто я виноват. Я ничего не сделал, – пробормотал я. – Я там работал, теперь не работаю, больше мне добавить нечего.
Мать держала меня в объятиях, и я не вырывался. Наконец она глубоко вздохнула.
– Я тебе верю, – сказала она. – Не будем больше возвращаться к этой теме. Я боялась, что мы тоже… жертвы.
Мы помолчали. Мать снова крепко меня стиснула. Я задержал дыхание и медленно выдохнул. Наконец она отодвинулась, но осталась стоять рядом. Я едва сдерживался и боялся, что она это заметит.
– И вот еще, Эйден: я помню, ты уже говорил это, но ты никогда больше не пойдешь в ту церковь. И я тоже. Раньше я не была готова, а теперь… С какой стати мне туда ходить? Вся эта организация… В голове не укладывается. – Ее голос стал тише, зазвучал словно издалека. – Хотя все было бы иначе, – сказала она, отходя к столу и прикуривая сигарету, – все было бы иначе, окажись мы среди жертв. – Она затянулась и выдохнула дым, не глядя на меня. – К счастью, мы не жертвы, и это самое важное.
– Правильно, – сказал я. – Точно.
Спокойнее мне не стало. По телу распространялось странное онемение.
Я поднялся к себе в комнату, вынул из сумки учебники и сел заниматься, но задачи по геометрии вдруг превратились в непроходимый лабиринт. Теоремы я знал, но вспомнить не мог. Учебник словно оказался написан языком, который передразнивал то, что я чувствую. Строчки, одна за другой, намекали на простоту и прозрачно указывали направление, которое вело к определенному финалу. В цилиндрах на схеме я видел следящие за мной сузившиеся глаза. Они ждали ответов, но как быть, если ответов нет, и ситуация смешана с неопределенностью и самой гнусной грязью, и ничего нельзя объяснить? Вот почему газетная статья была ложью. Случившееся невозможно уложить в несколько абзацев, напечатанных в форме перевернутой пирамиды.
Попытка взяться за «Нортоновскую антологию» тоже не увенчалась успехом. Я не запоминал предложений и впустую перечитывал текст вновь и вновь. Не дождавшись от класса ответов на свои вопросы, мистер Вайнстейн тряс над головой «Антологией»: «Все ответы здесь! Неужели никто не читал поэму? Ответы здесь, у вас под носом! Придется выучить материал из этой книги, если вы собираетесь сдавать экзамен по программе повышенной сложности!»
Я запустил «Антологией» в угол и попал в книжный шкаф. С полок обрушилась лавина книг. Шкатулка для сигар из сувениров Донована-старшего ударилась об пол и вывалила содержимое на ковер. Снежный шар не разбился, покатившись по полу; радужный снежный вихрь отразился в полированной ножке кровати. Я вскочил, схватил шар и с размаху метнул его в пол, прежде чем понял, что делаю. Стекло будто взорвалось – уцелела лишь черная подставка с надписью «Магия Рейкьявика». Без оболочки от магии осталось жидкое пятно на ковре, а искристый снег обратился в серый прах.
Я забегал по комнате. Здесь все можно было разбить: синтезатор и металлический пюпитр – о столбик кровати, фотографию двух женщин на Бруклинском мосту можно сжечь на спичках. Старый, выцветший экземпляр «Франкенштейна», проехавшийся по полу, можно изодрать и выбросить клочки из окна, как пепел или мелкий сор, падающий с огромной высоты. Даже в своей комнате я уже не был в безопасности.
Мать окликнула меня из коридора, через секунду постучала в дверь и вошла, не дожидаясь ответа.
– Что случилось? Я слышала удар и треск.
– Я хотел отодвинуть полку, ничего не снимая…
– Что? – Она уперлась руками в бока.
– Хотел больше места, чтобы поднять подножку у кресла.
Мать выглядела измученной и постаревшей. Я заметил, что она без макияжа. Она вздохнула:
– С тобой все в порядке?
– Да.
– Я рядом, Эйден. Нужна помощь – говори. – Она постояла еще секунду, и ее губы через силу сложились в улыбку. – Я немного знаю, каково это, когда тебя предают.
– Хорошо. – Я поколебался. – Просто… Я, наверное, тоже невольно лгу. Вся эта работа, которую я для них сделал… Столько работы… Слишком много лжи… Я запутался. – Мне пришлось замолчать, чтобы не сказать лишнего. Казалось, я едва удерживаюсь, чтобы не сблевать.
– Я знаю, дорогой, – сказала мать. – Я знаю. Я рядом. – Она улыбнулась мне. – Слушай, вот что: давай закажем пиццу и посмотрим телевизор. Тебе много задали? Ты успеешь?
– С удовольствием, – ответил я. – Мне ничего другого и не хочется.
– Мне тоже.
Я сказал, что сначала приберу бардак, который устроил, а потом спущусь к ней на пиццу перед телевизором. Большая часть безделушек, которые Донован-старший привозил мне из своих поездок, отправилась в мусорную корзину. Какой смысл их хранить?
Потом мы уселись на маминой кровати, пристроив пиццу со шпинатом и оливками на тумбочку, и посмотрели три серии теледрамы, не получив никакого удовлетворения: за все потраченное на телевизор время мы не пришли ни к какому решению, оставшись в напряженном ожидании и понимая, что скандал только разгорается и затихнет очень не скоро. Но когда я поднялся, чтобы идти к себе, мама схватила меня за руку.
– Я уже говорила и повторяю самым серьезным образом, – сказала она. – Я считаю, мне лучше поверить тебе, Эйден, без всяких колебаний. Я должна это сделать. Я же могу тебе доверять?
– Да, – сказал я. – Доверять и верить.
Глава 13
Но если я собрался и сам себе поверить, надо было регулярно посещать школу. Во вторник на всех уроках я сидел идеально собранно, делая вид, что внимательно слушаю. Мистер Вайнстейн меня не спрашивал; миссис Мартелли ничего не сказала, когда я не сдал домашнюю работу по геометрии. Выкручусь, говорил я себе, справлюсь. Выйду сухим из воды. Подозрения в отношении меня и других, хоть как-то связанных с Драгоценнейшей Кровью Христовой, скоро начнут стихать и сойдут на нет, все вернется на круги своя, каждый займется своими делами. Это же рекомендованный целительный бальзам для преодоления общенационального страха – развейся либо займись делом. Поезди по городу на машине, пройдись по магазинам, сходи в кино или на бродвейское шоу. Прими все как есть и не старайся понять.
Было нечто автоматическое в том, как я шел по коридору на очередной урок – официальный, сухой, я просто переставлял ноги. Я настолько ни на что не обращал внимания, что едва не врезался в Джози в конце учебного дня.
– Эй, – сказала она, – ты весь день такой тихий. Ты что, вдруг решил прикинуться недотрогой? – Я принужденно засмеялся, и Джози продолжала: – Давай смоемся отсюда – вдвоем.
После традиционных объявлений мы с Джози пошли в «Блуберри хилл». Очередь к кофе-бару была небольшой, и пока я забирал кофе с молоком и булочки, Джози нашла столик у дальней стены, где всегда старались сесть подростки – подальше от входа. Это был один из самых маленьких круглых столиков, за которым едва помещались два сетчатых металлических стула. Джози села так, чтобы иметь возможность разглядывать кафе.
Я принес поднос с едой и уселся лицом к ней.
– Слушай, – сказала Джози, – ты с Марком говорил? – Когда я признался, что вообще его не видел, Джози изумилась: – Конечно, не видел и не мог видеть, его второй день нет. Я звонила ему домой, когда у нас был пустой урок, но там никто не берет трубку.
– Ну, это-то понятно, – заметил я. – Я к тому, что не волнуюсь. Наверное, его наказали на все выходные или он заболел. – Я незаметно напрягал и расслаблял мышцы в попытке сидеть спокойно, но по мне волной прошла нервная дурнота. Я не хотел думать о Марке, но не думать не мог.
– Ну да, его же не два года нет, – съязвила Джози.
Я разыграл удивление, но она была категорична.
– Все ведут себя как ненормальные. Будь здесь Марк, он бы пустил по кругу косячок и рассмешил нас чем-нибудь, и мы бы обо всем забыли. Отчего его нет? Не подумай, вдвоем с тобой мне хорошо, – добавила она, – только очень странно, что он не ходит в школу. Вообще много чего странного творится – из-за этого скандала с церковью все просто из кожи вон лезут.
– Можно не говорить об этом?
– Можно, но сложно. Особенно когда рассказывают, что якобы происходило в Драгоценнейшей Крови Христовой.
– Слушай, это все вранье, – сказал я. – Люди распускают сплетни от нечего делать. – Я говорил с Джози, но смотрел в зеркало за ее спиной, в котором отражался весь зал. Зеркало тянулось почти до угла и прекрасно выполняло задачу визуального обмана, зрительно удваивая размеры кафе. В «Блуберри хилл» народ толпился до самого ужина. Вот и сейчас здесь расположилась целая команда женщин с колясками, расставленными по всему залу, но в качестве приятного исключения попадались и мужчины: чтобы позволить себе жить в нашем городке, не всем приходится работать по семьдесят часов в неделю или постоянно находиться в разъездах. Одного из них я даже узнал – это был папаша из нашей академии, активный член родительского комитета. Он всегда ходил в плотной фланелевой рубашке с двумя расстегнутыми верхними пуговицами. Многие мамаши находили его привлекательным, но он ни с кем не заигрывал (по крайней мере, я не замечал).
Он читал газету, сидя за столиком перед остатками уничтоженного сандвича-багета. Кожа вокруг глаз у него была в морщинках; и, просматривая страницы, он улыбался в короткую пепельную бородку, порой покачивая головой с мягким, почти терпеливым недоверием. Вот таким человеком, подумал я, мне хотелось бы стать. Не в смысле профессии, потому что я понятия не имел, чем он зарабатывает на жизнь, а в отношении завидного спокойствия: человеком в ладу с собой. Но идиллия была нарушена: когда мы с Джози начали разговор, над дверью звякнул колокольчик, и я увидел, как бородатый изменился в лице.
Отец Дули, опираясь на трость, медленно тащился к кофе-бару. Бариста поправила бандану и вытерла руки о фартук, когда священник подошел к стойке. Он заговорил тихо, почти шепотом, потому что большинство посетителей ели его глазами.
– Господи, – сказала Джози, подавшись вперед, – как сложно теперь увидеть священника и не задаться вопросом. Впечатление, что они все поголовно виновны.
– Это не так, – тихо возразил я.
Мне хотелось отвести взгляд, зажмуриться или даже выбежать через заднюю дверь, но мужчина с бородкой сложил газету, бросил ее на стол и уставился на отца Дули недобрым взглядом, ероша бороду. Он сидел нога на ногу, но тут поставил ноги на пол. Секунду он сидел так – как спортсмен, свесив сцепленные руки между коленей, затем встал, подошел к отцу Дули и что-то сказал старому священнику – слишком тихо, расслышать было невозможно. Отец Дули покачал головой и так же тихо ответил. Они обменялись еще несколькими репликами, после чего отец Дули обошел бородатого и направился к другому концу стойки, уставившись на шипящую эспрессо-машину.
– Эй! – Мужчина наставил на отца Дули палец. – Я задал вам вопрос, нечего меня игнорировать!
– Пол, не начинайте, – хладнокровно произнес отец Дули. – Я просто выбираю кофе.
– Вы же главный, вы тоже несете ответственность! – не унимался этот Пол.
– Пожалуйста, оставьте меня в покое, – сказал отец Дули и мельком оглядел кафе. – Здесь не место для подобных разговоров.
– Вы мне рот не затыкайте! – крикнул Пол. – Я хожу в Кровь Христову больше десяти лет, я заслуживаю ответов! Мои дети тоже к вам ходили!
Бариста заторопилась и пролила немного кофе. Вставив бумажный стакан в картонную подставку, она пододвинула ее отцу Дули.
– Это возмутительно! – продолжал Пол.
– Правильно, – поддержала женщина, сидевшая рядом со стойкой. – Он прав!
Отец Дули стиснул трость и прижал ее к ноге.
– Я здесь не на судилище. Пожалуйста, не обращайтесь со мной как с преступником. Об этом будут говорить в другое время и в другом месте. Выработкой координированного ответа сейчас занимается вся церковь…
– Разговаривайте со мной человеческим языком, Фрэнк! – закричал Пол, дрожа, и схватился за прилавок. – Думаете, вы неподсудны? Мы требуем ответа. Пусть с нами поговорит отец Грег! Куда он запропастился ни с того ни с сего?
От ближайшего столика подошла одна из мамаш и положила руку Полу на спину.
– Он абсолютно прав, – сказала она отцу Дули. – Вы… Вы… Постыдились бы, вот что! – Ее голос срывался. – Позор! Вы и на мессе ничего не сказали, даже в проповеди не упомянули!
– Я не репортер, я не спекулирую на сенсациях и не будоражу людей без причины, лишь бы развязать массовую истерию! – Отец Дули оглядел кафе. Когда он встретился со мной взглядом в зеркале, я замер. По нему нельзя было сказать, что ему хочется заорать или треснуть по физиономиям оппонентов своей тростью, но на самом деле он этого желал. Мы смотрели друг на друга лишь мгновение, и, судя по тому, как он задрожал, чувства нас обуревали одни и те же. Его взгляд был как рука, протянувшаяся ко мне, схватившая за плечо и тянувшая к нему. Я не мог вырваться. Неожиданно для себя я подумал – а отец Дули при виде меня испытывает то же самое? Кажется, я испугал его еще больше, чем Пол.
Ничего мне не сказав, он повернулся к Полу.
– Поверьте, я делаю все, что в моих силах.
– Этого явно недостаточно! Истерию разжигают не газеты. Вы так мне ничего и не скажете? Где, черт побери, отец Грег? Вот он бы что-нибудь сказал. Где он?
Отец Дули взял подставку с тремя стаканами кофе.
– Отец Грег сейчас болен, давайте не будем его беспокоить. Он не отвечает на звонки. А я отвечаю. По телефону прихода. Всем нам следует заняться куда более важными делами, и прекратите эту травлю.
Сторонник строгих правил, отец Дули всегда ходил с недовольным каменным лицом, но, стоя с серой картонной подставкой, плясавшей в его руке, он утратил обычное хладнокровие, и привычная маска начала трескаться.
Пол ткнул пальцем в грудь отца Дули, и мне показалось, что старый священник сейчас опрокинется навзничь.
– Вы несете ответственность наравне со всей церковью, – сказал Пол. – Вы точно так же виноваты. Вы не можете просто утрясти это со своим начальством. Мы тоже заслуживаем справедливости.
Отец Дули кивнул.
– Извините, – сказал он и повернулся к выходу. – О Господи, – пробормотал он, открывая дверь.
Женщина рядом с Полом погладила его по плечу. Он шлепнул ладонью по прилавку у кассы, и женщина попятилась.
– Ноги моей в этой церкви больше не будет! – крикнул Пол. – В нормальном мире это называется укрывательством преступника, черт побери! – Женщина подвела его к своему столу. Пол подтянул стул и подсел к ней и ее подруге. В кафе поднялся гвалт оживленного обсуждения.
– Нет, ничего себе – сюда пришел! – сказала Джози. – Либо он самый тупой в мире, либо ему все по барабану. Мой отец говорит, это не что иное, как надменность. Кардинал как-его-там поверить не может, что в прессе поднялся такой скандал. Они надеются, что все как-нибудь утрясется. – Она взглянула на меня, и по беспокойству, проступившему на ее лице, я понял, что моя игра разоблачена. – А что ты думаешь? – спросила она. – Ты же работал в Драгоценнейшей Крови Христовой! Что, вот правда ничего не было?
– Честно? – негромко спросил я. – Я хочу, чтобы все это улеглось. Пожалуйста, давай поговорим о чем-нибудь еще.
– Ты же сам всегда говоришь о новостях, – сказала Джози. – А это вообще особый случай. Тут детей касается.
– Почему особый? – спросил я.
Она покачала головой.
– А вот особый. Это как двойное преступление. Детей не просто жестоко оскорбили, им все будущее испортили. Совершенное против них преступление будет преследовать их всю жизнь.
– Так-таки преступление?
– Да, преступление, и хорошо, что мы можем вмешаться. Что, черт побери, происходит в этом мире? Я становлюсь злой, террористы захватили больше половины мира, какие-то типы рассылают сибирскую язву конгрессменам и сенаторам, американцы вступают в «Талибан», а теперь еще и священники начали нападать на детей? Да что это, конец света наступает, что ли?
– Чепуха, – повысил я голос. – Тебе известно, сколько добра делает церковь? Разве можно сбрасывать это со счетов?
– Ты рехнулся? Ты их защищаешь? Ты что это, вдруг стал ревностным католиком и защищаешь общие интересы? Да тут слепому ясно: виновны без всяких оговорок! Подумай о пострадавших детях! Это несправедливо, что им пришлось такое пережить, а мы узнали только потому, что некоторые из них не стали молчать!
– Может, дети не стали молчать, потому что им захотелось внимания? – спросил я и засмеялся, не зная, почему. – Один сказал, а за ним и другие стали повторять, ухватившись за очередную сенсацию?
– Не смешно, – сказала Джози. – Ты что, псих?
– Чего ты ко мне с этим пристала? Почему ты меня допрашиваешь?
– Тебя? – спросила Джози.
Она замолчала и допила кофе. Я ничего не мог придумать – любое слово, приходившее на ум, изобличало меня еще сильнее. Я готов был отрезать себе язык и послать его почтой в Кровь Христову с запиской: «Пополнение для вашей проклятой коллекции».
– Пойдем домой, – сказала Джози. – Все это слишком странно.
– Это уж точно, – согласился я. – Можешь мне поверить. Меня как будто предали, понимаешь? Я там работал, все было нормально, и вдруг все резко стало плохо.
Джози слушала меня, опершись подбородком на сложенные руки, и осталась спокойной, когда я замолчал.
– Прости, я веду себя как дурак, – добавил я. – Я был бы рад объяснить лучше. Я только хочу, чтобы все пришло в норму.
Она потянулась через стол и стиснула мою руку.
– Ты не дурак, – сказала она. – Уж кто-кто, но точно не дурак.
Мы вышли, и Джози повела меня куда-то за угол на довольно уединенную парковку за магазинами. Я почувствовал ее губы у своих губ – они льнули, притягивая меня, – и попытался ответить. Мне казалось, я тоже этого хочу, но пришлось сделать над собой усилие. Джози прижималась, а я словно ускользал, хоть и стоял у самой стены.
– Пожалуйста, обними меня, – сказала она.
Я сделал, как было велено. Губами Джози приоткрыла мой рот и начала работать языком. Я стоял неподвижно.
– В чем дело? – спросила она. – Ты что, не хочешь?
Я хотел, но не так искренне, как Джози, – без ее энтузиазма, без малейшего подъема. Я кивал, улыбался, копировал выражение ее лица. Мы прильнули друг к другу, и я реагировал, как мне казалось, правильно: повторял движения Джози, терся носом о ее нос, перемежая глубокие поцелуи легкими. Я придерживал ее затылок, трогал ухо и целовал по заведенному образцу: раз-два-три, считаем шаги, выполняем заученную комбинацию.
Джози схватила меня за руку и начала водить ею вверх и вниз по своему боку, а сама стала поглаживать мне спину. Я продолжил, как она показала. И вдруг почувствовал, что не понимаю желания, не умею его распознать и выразить, не умею говорить прикосновениями, слушать своим телом и отвечать; я только знал, как быть объектом желания и как подчиняться.
Я шарил руками по ее телу, но Джози не реагировала так, как я рассчитывал. Возбуждение не приходило, ничто во мне не дрогнуло. Джози это почувствовала – или рассердилась. Она несколько раз перекладывала мои руки.
– Трогай меня там.
Я подчинялся, но без эмоций – не было ни желания, ни страха. Я быстрее водил руками и сильнее тискал ее, но это были не мои руки. С самого дна черной бездны внутри меня раздавался голос отца Грега, пыхтящий о боге и о том, что он в нас, и о любви, любви, любви. Сейчас во мне ничего не было. Между нами никогда ничего не было – теперь я точно мог это сказать. В нас ничего не было.
Джози, видимо, почувствовала мою опустошенность.
– В чем дело? – огорченно спросила она. – Чего ты хочешь? Что ты хочешь сделать?
– Не знаю. Я не знаю, что делать. Хочу знать, но не знаю.
Минуту мы стояли молча.
– Не получается, – сказала она тихо.
– Должно, – сказал я.
– Ты меня разве не хочешь?
– Хочу.
Она немного отодвинулась.
– Правда? Что-то непохоже.
Я молчал, слишком смущенный, чтобы придумать ответ. Джози подалась ко мне, схватила за куртку и игриво потянула к себе:
– Разве я не красивая?
– Красивая, конечно.
– Ты не просто так говори, – сказала она. – Ты считаешь меня красивой?
– Да, да. Я хочу тебя.
Это не было ложью. Я хотел целовать ее в шею всякий раз, когда на уроке мистера Вайнстейна она отбрасывала волосы, открывая чистую линию шеи. Джози была первой девушкой, с которой я целовался, и я бы хотел, чтобы она стала первым человеком, с которым у меня был сексуальный опыт. Я хотел бы стереть все, что со мной было до этого, и снова сделаться девственником.
– Докажи, – сказала она.
Она расстегнула пальто, и я обнял ее. Джози расстегнула молнию на моей куртке и прижалась ко мне.
– Я здесь, – мягко сказала она, – я никуда не ухожу. Не торопись.
Когда я обнял ее и повел руками по ее спине, мне попалась застежка бюстгальтера, и я захотел узнать, как ее расстегивать. Джози терлась о меня мягкими волнообразными движениями, и меня изнутри окатило щекочущей нервной волной.
Вскоре Джози задвигалась настойчивее, почувствовав мою эрекцию. Голова у меня кружилась, как в бреду, поцелуи стали настойчивее – я всасывал ее нижнюю губу. Схватив Джози за ягодицы, я прижал ее к себе. Она хихикнула и замерла, часто дыша мне в шею, но тут же вырвалась.
– Ладно, ладно, – сказала она со смехом.
Внутри у меня все прыгало, я заметно дрожал. Джози улыбнулась, но видно было, что и она возбуждена – щеки у нее разгорелись.
– Я… Жаль, что мне надо идти.
К ней быстро вернулось самообладание, и Джози начала дразнить меня, что в следующий раз из уважения к приличиям нам надо будет найти тихое, уединенное место, а не переулок в центре города. Я согласился.
– Укромное место, где можно присесть, – сказал я. У меня подкашивались ноги.
– А лучше лечь, – поправила Джози, целуя меня снова.
– А почему не сейчас? – спросил я.
– Действительно. – Она никак не могла отдышаться. Ее ноздри трепетали. – У матери сейчас встреча в городе. Пошли, я проведу тебя так, что Руби не заметит.
Мы пошли к ней домой тем же маршрутом, что и в прошлый раз, целуясь всю дорогу, только на этот раз торопились и останавливались лишь для легкого поцелуя, а потом Джози хватала меня за руку и тащила за собой. Мы почти не разговаривали. У начала аллеи я захотел увидеть корку льда на вязе в маленькой чаще деревьев, чтобы увидеть, как я выгляжу рядом с Джози, но льда на коре уже не было.
Джози покачивалась на носочках, объясняя мне свой план. Когда она поднялась к дому и закрыла за собой входную дверь, я, согласно ее инструкциям, пробежал мимо дома соседей, свернул, перепрыгнул через низкую каменную стенку, промчался через задний двор к рощице, где начиналась земля семьи Джози, и присел на корточки у толстого вяза. Вскоре Джози вышла с черного входа и направилась к домику у бассейна со школьной сумкой на плече. Она переоделась в ярко-розовые спортивные штаны и куртку с отделанным пушистым мехом капюшоном, туго обтягивающую талию. Я выждал минуту и подобрался к боковому входу.
Джози открыла, едва я постучал.
– Я думала, ты заблудился, – сказала она и поцеловала меня. Она сделала нам горячий шоколад и добавила в него «Калуа» из бара в гостиной. Присев на диван, мы медленно пили из чашек.
Вскоре разговор прервался. Губы Джози коснулись моей шеи, и я отставил шоколад, чтобы не пролить на колени. Ощущая жгучее желание, мы прильнули друг к другу. Сунув руку за спину, Джози помогла мне справиться с лифчиком, а потом расстегнула мне брюки и через разрез в трусах вынула мой член. Ее рука казалась такой маленькой вокруг него, и она водила им по своему плоскому животу, и прижималась, и тянула. Меня словно пронзило электрическим зарядом, и вдруг, непонятно как, я услышал, что бормочу ей, как ей это понравится, что будет приятно, и слова были не мои, они вырвались из темной ямы внутри меня, и я говорил их на ухо Джози, приспустив ей трусы и нажимая, растягивая, вдавливаясь в нее. Она отставила ягодицы, и я надавил сильнее.
Она отпустила меня и попыталась отодвинуться, но оказалась подо мной.
– Ой! Пожалуйста… – сказала она, но я продолжал свое. – Нет!
– Нет? Нет. Ш-ш-ш… – сказал я.
– Прекрати!
– Нет. Ш-ш-ш…
– Ой! Да что за фигня? Прекрати сейчас же! – Джози ударила меня в плечо. Я отшатнулся. Она столкнула меня и согнула колени – будто преграду поставила между нами. Натянув трусы, забилась в угол дивана, глядя на меня поверх коленей.
Сердце у меня болезненно билось. Я смотрел на свои руки – они сильно дрожали. Меня вообще трясло. Тело казалось чужим. Натягивая брюки, я ощутил знакомое онемение чувств, распространяющееся изнутри.
– Что с тобой такое? – сказала Джози. – Ты сделал мне больно!
– Нет, – сказал я.
– Что значит нет? Еще как да! Очень больно!
– Нет в том смысле, что я не хотел. – Горло у меня сжалось, я с трудом подавил слезы и тоже подтянул колени к груди. Огромный телевизор был выключен, в сером экране отражались мы с Джози. – Я не знаю, кем я только что был, но это был не я. Прости меня.
Джози помолчала и наконец сказала:
– С тобой что-то действительно не так.
– Нет, нет. Я хотел этого с тобой.
– Ну, сейчас-то между нами ничего не будет.
– Прости, я не хотел сделать тебе больно. Я не знал, что делаю.
– Что все же с тобой такое? – спросила она.
– Не знаю, – ответил я и уставился в пол. Мне хотелось что-нибудь добавить, но с чего начать, черт побери? Я подался к ней.
Джози, видимо, решила, что я хочу ее поцеловать, потому что вдруг встала и отошла к бару налить себе содовой из сифона.
– Я не шучу, с тобой что-то действительно не так.
Ее интонация изменилась – она уже не спрашивала. Она медленно пила воду и ждала ответа. Я представил, кем теперь я выгляжу в ее глазах.
– Не понимаю, – сказал я.
– Чего ты не понимаешь?
– Я этого хочу. Я хочу, чтобы у нас все получилось. Почему не получается?
– Дело не только в том, чего ты хочешь. У меня в этом тоже есть свой голос. И я говорю: черта с два. – Она поставила стакан и обхватила себя руками, будто ей стало холодно. В ее голосе зазвучала озабоченность: – Ты мне не все сказал.
Я будто тонул и не понимал ее слов. Несмотря на опустошенность, во мне не было места, чтобы принять что-то извне.
– Ты, это, ты хоть в порядке?
– Не знаю. Нет. Я не хочу, чтобы ты думала, что я тебя не хочу. Я хочу. Я тебя хочу. Я не знаю, почему я сейчас такой.
Джози покачала головой, глядя на меня печально и испуганно, но улыбнулась.
– Я не об этом. Слушай, я не пытаюсь вредничать, я просто спрашиваю. Тебе нужно что-нибудь мне сказать? Это поможет? – Со скрещенными на груди руками и чуть склоненной набок головой она выглядела удивительно смелой. Я ей завидовал. И тут во мне что-то сломалось. Я шагнул к бару, обойдя диван.
– Перестань! – заорал я. – Почему все только об этом и спрашивают? Почему я обязан о чем-то рассказывать?
Она попятилась к полкам, уставленным бутылками.
– Я просто пытаюсь понять…
– Я в полном дерьме, ясно? – крикнул я, хватаясь за спинку одного из барных стульев и наклоняясь ближе к Джози. – Почему тебя не устраивает простой факт, почему надо обязательно копать?
– Ты меня пугаешь. Не кричи на меня. – Она стояла за барной стойкой, но говорила с все возрастающей яростью. – Ты только послушай себя. Посмотри на себя. Ты ведешь себя как псих.
– Я не псих, – сказал я.
– Тебе придется уйти. Ты сделал мне больно и напугал до полусмерти. Это не Эйден, которого я знаю. Убирайся из моего дома сейчас же.
Я опустил глаза, по-прежнему опираясь на барный стул. Я не мог говорить и схватился за стойку, не в силах подобрать нужных слов, не зная этого языка.
– Иди, – повторила Джози. – Уходи.
Она не вышла из-за стойки, пока я надевал куртку и выходил с черного хода. По дороге домой я убеждал себя, что испугался не меньше ее, но поверить в это у меня не получалось. Я рисковал потерять все, чего добился. Мне нужно контролировать себя. Я пытался придумать план, чтобы осуществлять этот контроль и не терять голову, как рядом с Джози. Я хотел жить нормальной жизнью, но у меня ничего не получалось и не могло получиться, и всю дорогу домой я думал о Марке, гадая, что такого он прочитал в моем лице на крыше Кулиджа, когда пытался со мной поговорить. Кого он там увидел?
Ночью, когда я пытался заснуть, в ушах раздавались два разных голоса, и я почти решил, что в комнате есть кто-то еще, словно два мозга боролись друг с другом. Один велел позвонить Марку, а другой выкрикивал хорошо знакомые приказы заткнуться и помалкивать. Я испугался мысли, что в комнате действительно кто-то есть, и меня охватило нестерпимое желание включить свет и проверить. Он мог сидеть в кресле, или на корточках у кровати, или терпеливо стоять в шкафу, дожидаясь, пока я открою дверцу, чтобы он мог выкрикнуть: «Ага, попался, маленький гаденыш! Ты не сможешь прятаться вечно!» С бьющимся сердцем я включил лампу и огляделся. Поднявшись с постели, я подошел к шкафу и краем глаза заметил в окне бледного, испуганного мальчишку. Я вскрикнул. В тусклом свете я не мог разобрать лица, но это было мое отражение, с напряженными, согнутыми руками, готовое к драке. Я долго смотрел, как поднимается и опускается призрачная обнаженная грудь, пока я пытался отдышаться.
Я присел на кровать, подобрав под себя ноги, и прислонился к стене, дрожа и что-то еле слышно бормоча. От шока сон прошел – я будто кубарем летел куда-то и не знал, где упаду. Неужели я хотел стать таким? Я возненавидел себя и за то, что так жестоко поступил с Марком. Он был моим другом. Я знал, чего он хочет: чтобы его выслушали. Чтобы я увидел его таким, какой он есть. Чтобы я узнал, что он чувствует. Я тоже этого хочу, понял я. Разве не все мы этого хотим, разве не каждый заслуживает честных отношений?
В добавление к прежним причинам ненавидеть отца Грега у меня появилась еще одна. Джози была права: он не только манипулировал нами и растлил как подростков, он искалечил в нас мужчин, которыми мы станем, наше будущее как друзей и любовников. Он не присутствовал здесь физически, но таинственным образом, безмолвно и невидимо по-прежнему был рядом и требовал нераздельной преданности к себе. Он создал религию с единственной заповедью: бойтесь меня, если не можете в меня верить.
Глава 14
Собираясь утром в школу, я нервничал до тошноты, не представляя, как выдержать дальше, но, выглянув в кухонное окно, перед вторым гаражом увидел маленький автомобиль Елены. Во мне проснулась надежда. Я понятия не имел, давно ли Елена приехала, но догадался, что она явилась за вещами. Свет из ее квартирки пронзал безрадостные утренние сумерки, а силуэт Елены то появлялся в окне, то исчезал, пока я шел по каменной дорожке. Багажник был открыт, и я остановился у машины, чтобы подождать Елену.
Она спустилась через несколько секунд с охапкой одежды в руках и большой спортивной сумкой. При виде меня она остановилась и улыбнулась:
– M’ijo!
Мы неловко обнялись, потом она указала на машину, и я помог ей побросать одежду на заднее сиденье.
Я поднялся за Еленой в ее квартиру и помог укладывать фотографии и книги в коробку.
– Как они? – спросил я, держа фотографию Кандидо и Терезы. На снимке Тереза смеялась, но я помнил бешенство в ее глазах во время нашей последней встречи.
– О, просто счастливы. Тере теперь каждый день после школы остается со мной дома. Сегодня она готовит ужин для всей семьи.
– Тебе придется искать новую работу?
– И скоро. – Она передала мне свою Библию, чтобы я положил ее в коробку. Я некоторое время смотрел на книгу.
– Прости, – сказал я.
– Ну, что ни делается, все к лучшему, верно?
Она стояла по другую сторону кровати. Я хотел ее обнять, но она держалась от меня на расстоянии и поглядывала в окно на дом.
– Эй, – тихо сказал я, – поговорить же мы можем. Что она теперь-то сделает?
Елена вздохнула, удерживая слезы.
– Мне скоро ехать. Мне тяжело видеть тебя, m’ijo. Мне тоже очень жаль. Мне будет тебя не хватать.
Я обошел кровать, и Елена обняла меня, затем отодвинула на расстояние вытянутой руки и подошла к шкафчику собрать оставшиеся туалетные принадлежности.
– Но у тебя в жизни происходит много нового, правда?
– Да, многое меняется, – согласился я, снимая распятие со стены над кроватью. – Я чувствую себя почти что другим человеком.
Елена стояла ко мне спиной, быстро укладывая вещи.
– В смысле, я многое хочу с тобой обсудить. Я давно хотел кое о чем поговорить… – Мой голос дрогнул. Я почти физически не мог начать разговор.
Елена не обернулась.
– Господь тебя не оставит, – сказала она. – Это все, что ты должен помнить. Я найду новую работу, а ты вырастешь, поступишь в хороший колледж и уедешь из дому, слава Богу.
Маленькая коробка наполнилась, Елена наконец обернулась и увидела, что я держу распятие.
– Ты вообще за новостями следишь? – спросил я.
Елена не ответила, взяла крест у меня из рук и положила в коробку сверху. Из-под кровати она достала пару туфель.
– Елена, перестань. Почему ты на меня не смотришь?
– M’ijo, – сказала она наконец, перестав суетиться. – Я не хочу говорить об этом.
– Но мне очень надо об этом поговорить!
– Не со мной! – отрезала она. – Тебе нужно поговорить со священником. Поговори с отцом Дули. Помнишь его?
– С ним?!
– Я каждый день ходила в церковь и молилась. – Елена стояла очень прямо и дышала через нос. – Потому что Господу видней. Он лучше знает, и я в него верю.
Меня бросило в жар.
– Я не знаю, что делать, – сказал я. – Мне надо кому-то сказать. Об отце Греге.
Елена подняла палец.
– Нет, m’ijo. Нет. Тебе нужно рассказать это другому священнику, а не мне.
– Пожалуйста, выслушай меня! – Я направился к Елене, но она жестом остановила меня и подняла с кровати две коробки, удерживая их локтями.
– Не могу. Я молилась – это все, что в мои силах. Я молилась и буду молиться впредь. Я не думала, что увижу тебя сегодня. Я не могу этого сделать. – Она повернулась и пошла к двери.
– Что? – заорал я. – Что ты сказала?
Елена обернулась.
– Тебе нужно поговорить со священником. Мне было нелегко, но тебе нужно научиться смиренно принимать испытания, так сказал мой духовник. Несколько гнилых яблок не портят целый бочонок. – Она шагнула за порог. – Пожалуйста, мне надо ехать. Я не могу этого сделать.
Я подбежал и с силой схватил ее за локоть. Елена вскрикнула.
– Ты знала? – спросил я. Елена оттолкнула мою руку, но я схватил ее снова. – Ты знала?!
Несколько секунд она молчала.
– Я же стирала твое белье, m’ijo. Я видела, как он отвозил тебя домой и как ты смотрел на него. Это было нехорошо, неправильно, но ведь ты там остался, m’ijo. Остался. Пути Господни неисповедимы, но я в него верю. Я всегда буду полагаться на Бога.
Она быстро спустилась к машине. Я медленно вышел из квартиры и остановился на площадке. Елена побросала коробки в багажник. У меня потекли слезы. Она подошла к началу лестницы и посмотрела вверх, на меня.
– Ну, не надо, m’ijo, отец Дули тебе поможет. Ты сходи к нему, поговори!
Слезы застилали мне глаза. Я опустился на ступеньку и прислонился к перилам.
– У тебя на все один ответ: ступай в церковь.
– Нет, – громко сказала Елена, – нет! Я тоже усомнилась, m’ijo. – Она подняла руку над головой. – Мне тоже очень больно. Но я верю в церковь. Господь обо всем позаботится, вот увидишь. Надо верить, m’ijo.
– Черт побери. – Я захлебывался рыданиями. – Марк!
Елена пошла ко мне по лестнице, но тут из кухни выглянула мать.
– Что там происходит? – закричала она, потрусив к нам рысцой. – Елена! Что здесь происходит? – Она посмотрела на меня и покачала головой. – О Боже, это уже слишком. Возьми себя в руки, Эйден! Да, Елена уходит. Она тебе не мать, а нянька, Господи, помилуй! Подбери нюни!
– Нам надо поговорить, – сказал я, не двигаясь с места.
– Эйден Донован, ты успокоишься сию же минуту! У меня сегодня первая официальная вечеринка, я должна там быть, чтобы все прошло как следует. Земля, знаешь ли, не остановится только потому, что ты никак не повзрослеешь. – Она повернулась к Елене. – Так, с меня хватит. Я из-за вас уже достаточно опоздала. Вы все взяли?
Елена кивнула.
– Так поезжайте! Извините, что приходится так прощаться, но это уже просто смешно!
Поколебавшись, Елена поднялась ко мне и обняла. Я заплакал, уткнувшись ей в плечо.
– С тобой все будет хорошо, – сказала она. – Прости. Te quiero, правда. Прости меня, m’ijo.
Мать снова заорала нам снизу. Елена отпустила меня и, не оборачиваясь, направилась к машине. Она прошла мимо моей матери без единого слова. И только когда она сдала задним ходом, развернулась и прибавила скорость, уезжая от нашего дома, я понял, что так и не сказал ей те слова, которые хотел. Они так и застряли у меня в горле острыми осколками стекла. Елена не позволила их сказать. А теперь она уехала.
Мать продолжала меня отчитывать.
– Не сейчас, – сказала она, выставив руку. – Сейчас мне надо ехать. Мы поговорим об этом вечером. – Она вынула из сумочки ключи. – Это коктейльная вечеринка, я вернусь не очень поздно. Что сделано, то сделано, Эйден. Она уехала. А у тебя своя жизнь. – И мать добавила с новыми командными нотками в голосе: – Отправляйся в школу.
Она решительно скрылась в гараже и через несколько секунд выехала из него на серебристом «Лексусе» Донована-старшего. Она не посигналила и не опустила стекло, лишь выровняла машину и сорвалась с места так же быстро, как Елена. Через несколько секунд задние габариты пропали за углом. Можно подумать, мать рванула в свой родной Брюссель.
В школе я мог думать только о Марке. Его шкаф был рядом с химической лабораторией, и перед уроком я смотрел на него, вспоминая, как Марку приходилось немного сутулиться перед ним. Я так и видел, как он закрывает дверцу с ручкой янтарного цвета и пальцами приглаживает свои тугие кудри, которые всегда лежали идеально правильно. Я слышал, как он напевает себе под нос, стараясь успокоиться, как он часто делал, и расстояние, на котором он держал других, уже не отдавало самоуверенностью. Для меня он теперь был диким, испуганным юношей, пытавшимся согреться на холодной крыше, смотревшим на меня с мольбой. Он был вне себя от страха. Я его понимал. Мне это было хорошо знакомо. Я должен с ним поговорить.
Я искал Марка, но в школе его не было уже три дня. Теперь ему не избежать последствий. Джози тоже не пришла, и ничто не могло утишить мою боль. Я казался себе пустым, прогнившим. Глотки воды из фонтанчика пустоту не прогоняли. Я не чувствовал, что двигаюсь, – скорее, мир двигался вокруг меня. Я не мог включиться в происходящее или самостоятельно принять решение. Звенел звонок, и я шел на урок; учитель говорил: «Достаньте учебники», и я открывал последнее задание и клал руку между страницами. Я сидел в лаборатории и ждал, чтобы что-нибудь взорвалось и разнесло меня в пыль.
За окнами шел снег. Крупные хлопья заполонили все снаружи. Я съехал на стуле, уставившись на длинную цепь из трубок и шариков – модели молекул на лабораторном столе. Я боялся говорить и встречаться с кем-нибудь взглядом, боялся не удержаться и выложить все как есть, боялся сделать произошедшее реальным, рассказав наконец-то, что должен сказать. В церкви, в исповедальне, твой шепот уносится в эфир, вбираясь бездонными легкими Бога, – по крайней мере, так меня учили верить. Дескать, то, что мы делаем со своими жизнями, исчезает в безбрежности вечности, а наша цель и назначение – угадать Божий план и благоговейно стать его безымянной частью. Но я не мог позволить себе притворяться, что все еще верю в это.
Вместо этого я думал о приходе Драгоценнейшей Крови Христовой и тех приходах, где отец Грег работал раньше, кочуя из города в город, как болезнь, незаметная большинству, но не всем, заходя на праздники и вечеринки с приветственно вытянутой рукой, пробираясь в семьи со своим рукопожатием и похлопыванием по спине, пока не пришла моя очередь вытерпеть вонь его шепота и услышать приказ верить, что это евангелие. Он заразил меня и остался во мне, частью меня, навсегда. Он не смог бы навредить мне больше, чем уже навредил. Я хотел бы сказать ему «нет», крикнуть: «Я больше не боюсь», выдохнуть его смрадное дыхание обратно ему в лицо и увидеть, как он, отец Дули, все эти больные старики-социопаты, попустительствовавшие нашему растлению и наблюдавшие со стороны, как отец Грег носится по нашим кварталам, подобно чуме, – как они испытают всю ту боль, которую причинили нам. Это не библейская кара и не промысел Божий; это дело людей. Они не могут вечно прятаться за метафорой. К черту надежду и отчаяние. Мы живем в мире последствий и результатов. Смотрите, что они сделали!
Выходя из класса, я чувствовал на себе взгляды. Я готов был сорвать дверь своего шкафа с петель и разбить что-нибудь внутри и так бы и поступил, если бы у шкафа Марка не стояла Софи, закрыв лицо руками. Я испугал ее, окликнув по имени, и она попятилась. Сперва я решил – Джози рассказала ей о том, что я сделал, и ждал, что она сейчас раскричится или уйдет, но она вдруг бросилась ко мне, с силой обняла и не отпускала.
– Ты знаешь, что случилось с Марком? – спросила она.
Я замялся, прижимая к себе Софи; хотел сказать, но не мог.
– Он в больнице, – продолжала она. – Упал вчера в реку в Стоунбруке. Еще не пришел в сознание.
– Упал с моста? – переспросил я без всякой необходимости.
Софи тихо плакала у меня на плече, пересказывая то, что ее отцу сообщили в больнице. Марк в коме в результате травмы головы и переохлаждения; ему еще повезло, что его быстро нашли и извлекли из воды. Мы так и стояли с Софи, когда прозвенел звонок на урок.
– Джози знает? – спросил я наконец.
– Нет, она со вчерашнего дня не берет трубку. – Софи отодвинулась и заглянула мне в лицо: – Что происходит, черт побери? Не понимаю… Почему он так поступил? В чем дело? Что случилось? Может, я что-то не так сделала?
Дверь химической лаборатории открылась, и в коридор вышла мисс Ричардс.
– Так, – сказала она, – Софи, Эйден, что вы делаете в коридоре? Идите на урок.
Софи покачала головой.
– Отец правильно сделал, что позвонил мне, но я, наверное, поеду домой. Мне нехорошо. Я не понимаю, я просто не понимаю…
– Эй! – крикнула мисс Ричардс. – Вы меня не слышите, что ли? Мне вызвать декана Берна?
Я слышал и видел только Марка, который исступленно кричал, стоя на краю крыши, а потом сказал, что никогда не сможет быть свободным. Я тогда не понял, свободным от чего или от кого, но сейчас думал, сколько, должно быть, раз Марк смотрел на дверцу своего шкафа и гадал, рассказать ли кому-нибудь наконец о том, что было между ним и отцом Грегом.
Я ударил по шкафу кулаком. Мисс Ричардс возмущенно закричала, но я не обратил внимания.
– Я так больше не могу! – заорал я. Софи посмотрела на меня в ужасе. – Не могу больше!
Оставив их обеих в коридоре, я сбежал по лестнице на первый этаж и выскочил на улицу, под падающий снег.
Отец Грег должен узнать, как я теперь поступлю. Он не просто прочтет об этом в газете; я хочу, чтобы он услышал это лично от меня. Парковка перед церковью оказалась пуста, стояла только приходская машина, покрытая толстым слоем снега. В доме было совершенно темно, светились только два окна на углу. Волоча ноги, я подошел к боковому входу, оставляя за собой в снегу неглубокие колеи. Дверь оказалась заперта, и я с размаху ударил в нее кулаком. Я бил все беспощаднее, пока изнутри не скрипнул металлический засов. Дверь распахнулась наружу. Отец Дули, ежась от холодного ветра, ворвавшегося в приходской дом, придерживал халат у шеи. В той же руке он держал свою трость, так что она оказалась прижатой к его груди и словно торжественно указывала в пол. Он навалился на дверь, и ветер ерошил его редкие волосы.
Отец Дули сгорбился сильнее, чем обычно. Ветер трепал его халат, складками оборачивая фланель вокруг ног. Под халатом отец Дули был одет, и мне показалось, что он только что мирно дремал в кресле.
– Входи, пока меня не сдуло ветром. – Он с грохотом закрыл за мной дверь и отдышался. – Не ожидал, – сказал он, прислонившись к двери, будто намереваясь вскоре снова ее открыть, но тут же опомнился. – Эти двери для тебя всегда открыты, – заговорил он увереннее. – Я рад, что ты это знаешь. Твое появление – приятный сюрприз, я имел в виду.
Я прижал кожаные перчатки к губам, дуя на них и разминая руки в попытке согреть окоченевшие пальцы. Отец Дули покачнулся и оперся на трость, отпустив халат, под которым оказался слишком большой для него изношенный свитер и шерстяные рейтузы с пузырями на тощих коленях. Я быстро пошел через холл к лестнице в подвал. Слабый дневной свет едва пробивался сквозь метель, а большинство ламп в здании не горело – только те, что были включены в кабинете отца Дули и классе воскресной школы, немного рассеивали мрак, позволяя различить лестницу и коридор. Я видел серую бетонную площадку внизу, и хотя за поворотом лестничного марша была полная темнота, не мог отделаться от воспоминания об указательном пальце отца Грега, манящего меня за собой.
– Ты плохо выглядишь, – произнес сзади отец Дули, нарушив молчание. Он подошел и встал в дверях главного зала, спиной против слабого света, льющегося из кабинета. Отец Дули не смотрел на меня, но его голос был мягким, с нотками беспокойства. В нем угадывалась осторожная попытка проявить жалость. – С тобой все в порядке? Хочешь чая? Я недавно заварил, еще много осталось. Пойдем.
– Нет. – Я вцепился в перила.
– Пожалуйста, давай поговорим. Я рад, что ты пришел. Нам очень полезно будет поговорить. Пойдем ко мне в кабинет.
– Нет.
– Позволь старику присесть, Эйден. Пойдем. – Он улыбнулся мне, но через секунду улыбка погасла. – Пойдем в кабинет, так будет лучше нам обоим.
– Нет! – Меня затрясло. Я повернулся спиной к лестничному колодцу, не в силах видеть знакомую арматуру на стене подвала.
Отец Дули тяжело засопел.
– Ты пришел сюда по какой-то причине, Эйден? Я хочу тебе помочь. Тебе трудно в это поверить, но это правда.
– Я ненадолго. – Было очень трудно вложить хоть сколько-нибудь силы в мои слова. – Позовите сюда отца Грега. Я хочу, чтобы и он тоже это услышал. Я больше не стану молчать. Я не могу!
– Будет, будет, Эйден! – Я слышал эту интонацию сотни раз. – Эйден, пожалуйста, об этом нужно поговорить…
– Это я и собираюсь сделать.
– Нет причин бояться, – сказал отец Дули. – С тобой все хорошо, надо думать о будущем, Эйден.
– Позовите отца Грега! – заорал я. – Я хочу сказать ему все в лицо!
Собравшись с силами, отец Дули взялся за трость обеими руками и подался ко мне.
– Пожалуйста! – Это прозвучало почти как окрик. – Пойдем в мой кабинет, Эйден.
Всякий раз при звуке моего имени я слышал отца Грега: холодный шепот, нарушенные обещания и бесконечный заговор изощренной лжи. Я стукнул кулаком по перилам.
– Нечего обсуждать. Позовите его. Я должен ему сказать, что он сделал. Он обязан это услышать. Это он сделал!
– Нечего обсуждать? Эйден, надо смотреть на жизнь шире. Есть традиция, церковь, столько школ, дети…
– А как же я?
Отец Дули шагнул ко мне.
– Успокойся, Эйден. Отец Грег уехал и больше не вернется. Его перевели. Он в Канаде, Эйден. Пожалуйста, давай успокоимся и поговорим. С тобой же все в порядке, Эйден. – Он положил руку мне на плечо.
Я отшатнулся.
– В Канаде? Вы отправили его в Канаду?
– Его перевели. Потом он снова отправится в Африку, – объяснил отец Дули и улыбнулся: – Я же сказал, что смогу защитить тебя, Эйден, потому что ты мне небезразличен. Успокойся. Подумай, какую работу он проделал, сколько добра принес. Ты делал эту работу вместе с ним. Столько труда, Эйден! К чему уничтожать то, что приносит добро?
– Он обязан это выслушать! Я должен ему сказать. Это он сделал! Это его вина! Я не хочу оскорблять никого другого! – крикнул я.
– Эйден, ты сказал, что не хочешь никогда больше его видеть. Я тебя услышал. Тебе надо поговорить со мной. Это для твоего же блага, я здесь, чтобы тебе помочь.
Его хватка была слабой, но голос звучал спокойно и ровно, и чем больше я его слушал, тем сильнее сжималась невидимая рука у меня на горле.
– Отпустите меня, – сказал я.
Отец Дули сразу же отступил и потер подбородок. Его рука дрожала.
– Эйден, есть много возможностей все уладить. Вспомни, как святой Франциск реформировал церковь. Вспомни, как мы говорили о любви, божественной любви, любви Господа. Вот о чем мы сейчас говорим. Божья любовь ценнее людских проступков. Ее стоит защищать, Эйден, она больше, чем мы!
Он направился в большой холл, и я крикнул ему в спину:
– Только об этом вы все и говорите! Любовь? – Я посмотрел в подвал и снова на отца Дули. – Любовь? – крикнул я и затряс перила. – Меня тошнит от лжи! Я не стану больше лгать! Я не знаю, как вас на это хватает!
Отец Дули обернулся ко мне в дверях.
– Эйден, не кричи на меня. Постарайся войти в мое положение. Что мне делать? Я верю в церковь, в католическую церковь, Эйден! Она больше, чем ты, я или отец Грег. Она вселенская. Я служу церкви, Эйден, и верю в милосердие. Я верю в любовь Господа. Я верю в церковь. – Прислонясь к дверному косяку, он затряс тростью, направив ее на меня. В его глазах стояли слезы. – Поверь мне, прошу тебя.
Я пошел на него. Отец Дули жестом призывал меня успокоиться, но я не обращал внимания.
– Вы знаете, сколько раз отец Грег мне это говорил? – орал я. – Где же проходит черта? Почему обязательно мною надо пожертвовать и пренебречь?
– Это не единственный способ взглянуть на случившееся…
– Как вы вообще все это терпите? Вам не хочется иногда просто закричать?
Отец Дули застыл на месте, будто мышцы ему свело судорогой и он потерял способность двигаться.
– Нельзя забывать о последствиях, Эйден. Пожалуйста, пойми, подумай об остальных, которые работают с нами, подумай обо всех этих людях…
– Я и думаю! – Я врезал по дверному косяку рядом с ним. – Дело не только во мне, а именно в других людях!
– В прессе сгущают краски. Не позволяй им затуманить твой разум. – Отец Дули снова потянулся ко мне, но я ударил его по руке. Он отступил.
– С моим разумом все в порядке.
– Не присоединяйся к этой охоте на ведьм, Эйден, – не выдержал отец Дули. – Думай своей головой. Ты знаешь, что отец Грег хороший человек. Возьми себя в руки. – Он замолчал, пятясь в холл подальше от меня, отступая в темноту между кабинетом и нами. – Довольно, Эйден, ты меня пугаешь. – Он отходил все дальше. – Я старик, не надо мне угрожать. Не заставляй меня вызвать полицию.
– Для меня? – заорал я. – Что они скажут, если я им расскажу?
– Не угрожай мне, Эйден, это недостойно. Ты не первый, кто пытается нам угрожать, полиция это знает. Я могу получить охранный ордер хоть сегодня. Но, пожалуйста, не делай этого. Я всемерно пекусь о тебе, но ты не должен все разрушить единственно из-за себя. Пожалуйста, попытайся понять. Подумай о других.
Я указал на подвал.
– Я там был, я это знаю. Он был с Джеймсом, когда я там был. Он был с Джеймсом. А я там как раз был! – Я снова врезал по дверному косяку, и отец Дули съежился, отступив дальше в главный холл. Я шел на него. – О других думать? Я о других и думаю. Джеймс. Я. Марк. Марк Ковольски, слышите, вы, чертов преступник? Вы знаете, что он сделал? Бросился с моста в Стоунбруке! Отец Грег должен об этом узнать!
Отец Дули повернулся и быстро поковылял в свой кабинет.
– Вы не могли не знать, – кричал я, идя за ним по пятам. – Вы знали о каждом из нас. Вы знали, что он с нами делал! – Я схватил его за рубашку и прижал к стене возле кабинета. – Вы знаете, что он с нами делал? Вот что он делал! – Я тряс отца Дули – его худая грудь билась о костяшки моих пальцев. Я бил его о стену, тряс и плакал, представляя, как отец Грег берет Джеймса своими ручищами и перегибает через верстак в подвале. Дыхание отца Грега ветром свистело в ушах: «Ш-ш-ш. Ш-ш-ш». Руками ничего не сделаешь против более сильного тела. Приглушенные голоса. Шорох одежды. Удушье. Беспощадно подавленный вопль. Нет. Ш-ш-ш. Ш-ш-ш.
Склонившись к отцу Дули, я рыдал у него на плече.
– Я буду говорить, – тихо сказал я. – Я всем расскажу.
Отец Дули что-то пробормотал – слова застревали у него в горле. Он не защищался, не хватал меня за руки, и я отступил, поняв, что прижимаю его к стене всем своим весом. Трость упала на пол, и отец Дули качнулся вперед. Я подхватил его и оттащил на металлический складной стул. Он поднял руки к голове, и приглушенный стон слабым эхом пронесся по главному холлу приходского дома.
– Я всем об этом расскажу, – продолжал я. – Вы ничего не сделали! Скажите это! Признайтесь, вы что-нибудь сделали? Говорите, вы, чудовище!
– Не могу, – сказал наконец отец Дули. – Не могу.
Слезы застилали мне глаза. Я уже не помнил, зачем вообще сюда пришел, не представлял, что могу сейчас сделать. Будто я недавно вынырнул из пустоты и снова отправляюсь в никуда. Не было ничего, на чем я мог бы сосредоточиться и не отключаться, кроме прерывистого голоса отца Дули. Он снова заговорил, но я не понимал его слов. Я не слышал его оправданий. Издававшиеся им звуки превратились в псалом, эхом отдававшийся в моих ушах, преследовавший меня, пытаясь обрести смысл, но не в силах его передать. Абракадабра сгущалась наносами бессмыслицы, налипая на меня мокрым снегом, сжимая потной ладонью. Мне незачем было слушать. Я оставил его, обмякшего, на стуле, бормотать свои молитвы самому себе.
Густо валил снег, окутывая белым покрывалом газоны, рощи, крыши домов. Непроницаемый свод небес над деревьями казался мертвым и гнетущим. Я медленно шагал по дворам, слушая, как скрипит свежий снег под ногами. Каждый шаг сопровождался неистовым скрежетом, и я то и дело оглядывался, не идут ли за мной. Я не останавливался, чтобы перевести дух, и шел, глядя, как дыхание слабым облачком вылетает изо рта. Белая пелена снега и не думала редеть. Дойдя до Стоунбрукского поля для гольфа, я выбрал кружной путь, лишь бы не идти мимо моста – я не мог на него смотреть. У четвертой лунки я заметил темный силуэт какого-то зверя, пересекавшего пустынную дорогу через побелевшую песчаную ловушку. Животное остановилось и некоторое время смотрело на меня, прежде чем продолжить путь.
Я бродил целый день, прежде чем наконец пошел в район, где жил Марк. Свернув на нужную улицу, я посмотрел на его дом. Двор был пуст, все окна темные. Кровь частыми болезненными толчками пульсировала в запястьях и в ямке у основания шеи – я ничего не мог с этим поделать. Я стоял на улице, и снег покрывал мое лицо белой маской, пощипывающей, когда он таял. Собравшись с духом, я позвонил в дверь. Никто не ответил. Я нажимал кнопку снова и снова, но никто не подходил. Я обошел дом и остановился у боковой двери, где в Сочельник я помогал Марку в прихожей. Я заглянул внутрь. Ботинки и сапоги аккуратным рядом стояли под скамьей. Через окно на заднем фасаде была видна кухня. Над плитой горела бледная лампочка – единственный огонек в доме, да приглушенное бело-голубое свечение испускала кулинарная станция. Все было нечеловечески чистым, без единого пятнышка.
– Мне очень жаль, – сказал я пустому дому.
Где-то во дворах тягучим баритоном лаяла собака. Лай разносился по округе, постепенно затихая. Звук, летя в ночи, в конце концов затихнет и исчезнет, как исчезает все, уходя в небытие. Я ударил по стене дома и пнул дверь.
– Ну пожалуйста, – говорил я. – Я здесь. Я уже здесь!
Сквозь метель огни вдалеке расплывались. За неосвещенным двором Ковольски начинался уже совершенно непроглядный мрак, будто вокруг не осталось ни души. Похожее чувство одиночества я испытывал, когда отец Грег впервые позвал меня в темноту тесного подвала, как, должно быть, звал и Марка, и Джеймса, и остальных – целую армию мальчишек, медленно плетущихся за ним в подвал, желая верить. Разве со временем мы не стали на одно лицо? Каждый был лишь очередным серым, холодным, дрожащим телом, которое можно терроризировать словами «любовь», «безопасность» и «вера». Надо кому-то об этом рассказать. Надо рассказать все с начала до конца. Марк имел право первым услышать мою историю, но я не мог больше ждать и побежал к дому Джози.
У начала подъездной аллеи стояло облепленное снегом дерево, на коре которого я когда-то увидел наше с Джози отражение. Я протянул руку к снежному наносу и оставил отпечаток руки. К утру отпечаток покроется ледяной коркой, оставшись признаком и утверждением жизни, как наскальные рисунки.
Мать и отец Джози были приглашены на ту самую коктейльную вечеринку, на которую уехала и моя мать. Меня беспокоило только, как бы меня не увидела Руби. Но она не увидела. Я обошел дом. Джози за кухонным столом делала уроки. Тихий стук в стекло ее напугал; сперва я подумал, она позовет Руби, но Джози справилась с собой и, узнав меня, указала на кухонную дверь.
Открыв, она обхватила себя руками. На ней были те же самые спортивные брюки, как в нашу последнюю встречу, в глазах стояла все та же тревога.
– Прости, – сказал я ей. – Ты права, мне нужна помощь. Мне нужна твоя помощь.
Больше я ничего не добавил – не смог. У меня задрожал подбородок, поэтому я отвернулся и уставился на двор и дом у бассейна выше по склону. Все вокруг расплывалось от слез. Джози вышла на холод и обняла меня – и больше ничего не понадобилось. Как могло быть, чтобы настолько простой жест вернул мне уверенность в себе, о существовании которой я и не подозревал, и придал смелости произнести: «Я сейчас расскажу то, что больно и тяжело слушать»? Все-таки что же, получается, нас окрыляет?
Джози стряхнула снег с моих плеч и спины и тайком провела меня наверх, в свою комнату. У нее у окна тоже стояло кресло, куда Джози меня усадила, пока бегала вниз прибрать. «Верь мне», – сказал я ей в прошлый раз. Тогда я этого хотел, но теперь язык не поворачивался повторить. Ведь это говорил отец Грег: «Любовь, любовь, любовь, верь мне, Эйден, верь мне, это любовь, любовь, любовь». Это во мне уже выгорело. Джози права, мне ничего не оставалось, как рассказать ей всю правду.
Вернувшись, она закрыла дверь и нажала кнопочку замка.
– Я пожелала Руби спокойной ночи, – сказала она, – так что родители не станут подниматься, когда вернутся. Но все равно придется говорить тихо, вдруг Руби пройдет по коридору.
– Да, конечно, – откликнулся я. – Мне очень нужно поговорить.
Она обняла меня – не как любовница, а так, как всех нас надо обнимать хоть раз в жизни, показывая, что мы не одни. Отпущение грехов человеком.
От близости к Джози во мне рождалась сила, и наконец я начал. Я сидел рядом с ней на кровати, борясь с дрожью и дурнотой, но крепился, слыша ее голос – успокаивающий, поддерживающий. Она задавала вопросы, но от ее вопросов не становилось больно, они помогали вытащить на поверхность то, что я должен был сказать. Джози держала меня за руку, пока я не рассказал ей все.
Глава 15
Шли часы. Вернулись родители Джози, и хотя мать как организатор уйдет последней, но и она тоже скоро будет дома. Я позвонил домой и оставил сообщение, что у Джози, чтобы мать не подумала, будто я снова сбежал к Елене. Мне казалось важным поставить в известность и мать – я знал, что очень скоро я расскажу ей все, что рассказал Джози. Я попытался представить, как откроюсь Доновану-старшему – по телефону или сидя за белой льняной скатертью в ресторане в центре Манхэттена, когда он в следующий раз приедет в Нью-Йорк по делам. «Я боялся, – скажу я им обоим, – и до сих пор боюсь, так что выслушайте меня».
– Я не хочу идти домой, – сказал я Джози.
– Тебе необязательно возвращаться, – ответила она. – Оставайся здесь.
И я оставил матери второе сообщение – что не буду сегодня ночевать дома, но Джози звонить не надо, потому что ее родители не в курсе. Я обещал все объяснить.
– Со мной все в порядке, – добавил я, – я в безопасности.
Джози ждала, пока я наговаривал сообщение, потом встала и снова меня обняла. Сбросив тапочки, она легла под одеяло и позвала меня:
– Забирайся!
Когда я лег, она выключила свет и прижалась ко мне. Мы молчали, но вскоре она взяла меня за руку.
– Это все моя вина, – сказал я. – Что Марк…
– Неправда.
Мои глаза привыкли к темноте, и я начал различать силуэты знаменитостей на постерах и очертания мебели. В доме было очень тихо. Джози лежала сзади, обнимая меня поперек груди. Ее дыхание согревало мне спину. Она задышала ровнее, медленнее и наконец заснула. Вскоре и я успокоился настолько, чтобы поддаться сну.
Когда утром зазвонил ее будильник, мы медленно оторвались друг от друга. Я выбрался из постели, пытаясь расправить мятые брюки. Джози включила телевизор и занялась своими утренними делами.
– Не волнуйся, – сказала она, – по утрам меня никто не трогает. Спустимся и выйдем через главный ход, пока в кухне тихо. Должно получиться. Все будет о’кей.
Вчерашние низкие облака рассеялись, и я, сидя в кресле, чувствовал, как солнце припекает мне спину. Джози за дверью напевала под душем. Ее переполняла энергия счастья, подпитываемого не какой-то радостью, а сознанием причастности, личного участия, которое, в свою очередь, питалось из неиссякаемого источника неравнодушия и готовности помочь. Я восхищался ею, удивляясь, отчего почти не замечал в ней этого раньше. Наконец Джози распахнула дверь ванной, и в спальню вырвались клубы пара. Она завернулась в фиолетовое полотенце, а из другого соорудила тюрбан. Улыбнувшись мне, она начала чистить зубы, приподнявшись на носочки. Дежурный макияж, нанесенный двумя-тремя легкими прикосновениями, был просто частью ежеутренних счастливых хлопот.
Мне хотелось приготовить ей кофе и яичницу, а потом подтянуть узел галстука, поцеловать Джози в лоб и сказать: «Хорошего дня, дорогая». Выйдя в ванную, чтобы она могла одеться, я думал, что на самом деле означает создать семью. Я не грузился сексом – всему свое время; все, чего мне сейчас хотелось, – дружеского плеча и теплоты. Подлинная свобода и безопасность, которые мы могли предложить друг другу, – это и была настоящая любовь и жизнь без маски.
Наскоро умываясь, я думал только об этом. Я вымыл шею и почистил зубы пальцем, вымазанным в зубной пасте. Пока Джози была в душе, я включил утренние новости. Дикторы отбарабанивали сюжет за сюжетом: начато правительственное расследование банкротства «Энрона», первая леди проводит кампанию для учителей и родителей, желая заверить детей, что они в безопасности; новая система антитеррористической обороны получила одобрительные отзывы некоторых членов конгресса, накануне мэр Нью-Йорка начал выпускать бесплатные билеты, чтобы как-то упорядочить толпы туристов, рвавшихся увидеть «Граунд-Зиро». Я чувствовал, что пережил эту ночь благодаря маленькому храброму акту доброты со стороны Джози. Она тоже заслуживала быть упомянутой в новостях, но такое в заголовки не попадает.
И тут Джози велела мне скорее выходить. Она стояла перед телевизором в школьной форме, прижимая к груди меховой сапожок. С экрана на нас смотрел Марк. Я сразу же подбежал. Снимок был из школьного альбома. Марк смотрел на мир с безрадостной скептической улыбкой, которую я прежде принимал за снобизм, но теперь знал, что это была единственная маска, за которой он мог спрятать свой страх. Последовали фотографии академии, бассейна, медалей за победы в соревнованиях по плаванию. В сюжете говорилось, что Марк принимал наркотики и, находясь в измененном состоянии сознания, перелез через перила моста в Стоунбруке и бросился в воду. Обыск его комнаты позволил сделать вывод о длительном употреблении наркотических веществ втайне от родителей. Джози плакала у меня на груди. Обнимая ее, я посмотрел Марку в глаза, когда снова показали его фотографию, жалея, что не могу обнять и его. Очень жалея, что не обнял его тогда.
Пока я был в ванной, национальные новости закончились и начались местные, где попытка самоубийства Марка попала в сенсации. Я прижимал к себе рыдающую Джози.
– Это я виноват, – сказал я. Джози пыталась меня разубедить, но я повторял: – Это я виноват.
– Перестань!
За ее плечом на экране диктор оживил грозовые тучи на побережье и движением руки отправил их через Атлантику. Сюжет о Марке закончился. Мы с Джози так и стояли обнявшись.
– Они не все знают, – сказал я. – Я тебе говорил.
В ушах эхом отдавалось слово «злоупотребление», которым был пересыпан сюжет: складывалось впечатление, что, по мнению дикторов, Марк и травка вообще ни при чем, а виновато «злоупотребление». Их не интересовало, почему он вдруг подсел на наркоту; они мусолили это слово, не задаваясь самоочевидными вопросами, словно Марк сознательно решил злоупотреблять наркотиками и такой выбор был обусловлен поведенческими отклонениями, а не невыносимо тяжелым грузом, лежавшим у него на душе.
– Я должен его увидеть, – сказал я. – Мне страшно, но, по-моему, я должен к нему пойти.
– Я с тобой, – заявила Джози. – Тебе необязательно идти одному.
Я вызвал машину, попросив ожидать на улице. Когда машина приехала, мы тихо спустились по главной лестнице и без проблем вышли с парадного хода, как и обещала Джози. Мы были одеты для школы, но поехали в окружную больницу, надеясь, что Марка еще не успели никуда перевести.
Нам повезло – он был там, на втором этаже, но днем его должны были перевести в крупную клинику в Нью-Хейвене. Джози спросила медсестру на посту, нет ли в палате родителей Марка. Мне такое даже в голову не приходило, поэтому, когда медсестра ответила, что они сегодня еще не приходили, я испытал неимоверное облегчение. Я пока не был готов с ними встречаться – сперва мне нужно было увидеть Марка. Джози обхватила меня обеими руками, и медсестра повела нас в палату. Голова у меня кружилась, подъем на лифте на один этаж показался вечностью. От ярко-белого флуоресцентного света в коридорах я почувствовал себя грязным и беззащитным, но когда медсестра привела нас в маленькую палату, у меня отлегло от сердца: у Марка свет был приглушенным.
Возле койки стоял стул, но ни Джози, ни я не стали садиться. В палате было тесно от приборов, трубок, капельниц и всяких проводов, которые поддерживали в Марке жизнь. Мы обнялись, стоя у больничной койки, и Джози стиснула мою руку. Марк осунулся и побледнел, щеки глубоко запали, обтягивая скулы. Он походил на собственный призрак. Койка была установлена под наклоном. Глаза Марка были закрыты – можно было решить, что он дремлет, если бы не искаженное, изменившееся из-за трубок в носу и во рту лицо. Если бы он спал, его мучил бы сонм кошмаров, рождавшихся под веками. Это был не Марк, которого я видел спящим в канун Нового года, когда его губы размыкались в такт дыханию с легким звуком, прежде чем он заснул. В ту ночь его голова клонилась ко мне, а на губах играла сонная улыбка. Сейчас я едва мог смотреть на него: это была лишь оболочка моего друга, заключенного, запертого в аду безмолвия.
Джози почувствовала, что я отодвигаюсь, и удержала меня. Она потянулась к Марку. Его рука лежала поверх одеяла, и Джози переплела свои руки с его. Так с ее помощью мы снова стали вместе. Джози посмотрела на меня и перевела взгляд на Марка.
– Марк, – сказала она, – нам тебя не хватает. – Повернувшись ко мне, она улыбнулась.
Я посмотрел на Марка.
– Прости меня, – наконец выдавил я, и тут будто прорвало плотину: хлынули слова. Я рассказал ему все, о чем накануне говорил с Джози: об отце Дули, отце Греге, Джеймсе, о самом Марке и обо мне. – Ты не один, – повторил я. – Я хотел тебе сказать, что ты не один. Я расскажу об этом всем.
Джози держала нас за руки, пока я говорил. В разное время люди вроде Донована-старшего, отца Грега, учителей и даже матери и Елены пытались учить меня, кем и каким я должен быть, но сейчас, глядя на Джози, я гадал, не сводится ли эта наука к совсем несложной дилемме: либо ты человек, который в нужную минуту оказывается рядом, либо нет. Разве не в те минуты, когда на пределе сил удается достучаться до другого человека, наконец обретаешь настоящего себя, который так долго был спрятан под маской? Не тогда ли, полностью раскрывшись и обнажив душу перед другим, мы создаем возможность понять друг друга? А как быть с возрождением способности любить? Может, в наших силах создать и такую возможность?
Я наклонился к Марку и поцеловал его в лоб.
Выпрямившись, я увидел в дверях палаты улыбающуюся медсестру.
– Извините, – сказал я.
– Нет-нет-нет, – возразила она, – не извиняйтесь. Делайте то, зачем пришли. – Она снова улыбнулась и пошла в другую палату.
– Марк, – сказал я своему другу, – обещаю, я всем расскажу.
Мы с Джози спустились на больничную парковку, решив, что прежде всего мне надо поговорить с родителями Марка, а потом продолжить свой марш от дома к дому, пока все не узнают правду. Джози напомнила, что она меня поддержит, и добавила, что марш может начаться и с двух участников, а там увидим.
– Я же говорила, это у меня в планах на новый год, – улыбнулась она. – Я с тобой.
– А я с тобой.
Мы побежали вдоль заснеженного бортика парковки на улицу, а оттуда через центр, мимо поля для гольфа, в район Ковольски. Я бежал не ради прощения, Джози бежала рядом со мной не потому, что простила меня, и в конце пути нас не ожидала награда. Не сбавляя скорости, мы мчались через весь город, и я бежал будто в стае собственных страхов, не отстававших от меня.
И только у дома Марка, остановившись, чтобы отдышаться, я почувствовал холод: свирепый ветер, который принес вчерашний снегопад, еще не стих. Джози обняла меня, и вот, собственно, и все, что случилось той зимой, если коротко: несколько теплых тел, незнакомцы, с которыми я захотел поближе познакомиться, прежде чем уйдут они или я.
Мы поднялись по аллее к крыльцу, и я вдавил кнопку звонка. Каблуки Барбары простучали по деревянному полу. Она отодвинула занавеску и испуганно уставилась на меня. Пока она отпирала дверь, я не глядя нашел руку Джози, и она сжала мою ладонь. Раньше так же сделал Марк, подумал я. Среди чужих враждебных голосов Марк когда-то взял меня за руку, а ведь одного этого естественного жеста бывает достаточно, чтобы укрепить наше мужество, когда нам под негодующий гвалт предстоит шагнуть в завтрашний день.
От автора
Прежде всего я хочу сказать, что пострадавшие дети и семьи с аналогичными историями реально существуют. Надеюсь, мне удалось воздать должное мужеству, достоинству и редкой человечности тех, кто еще ищет возможность поделиться пережитым, и тех, кто не побоялся рассказать о масштабах эпидемии педофилии, глубине морального падения причастных к ней и о системе, которая это допустила и покрывала.
Хочу поблагодарить моего друга и суперагента Роба Вейсбаха, который никогда не сдается. Его кипучая энергия, советы и творческое видение помогли сделать из этой истории книгу, которой я сегодня горжусь. Спасибо моему другу Дэвиду Гроффу: без его консультаций, поддержки, редактуры и заботы роман никогда бы не увидел свет.
Для меня большая честь войти в «семью» Маргарет К. Макэлдерри. Спасибо Джастину Чанде и всем в «Саймон и Шустер для детей» – от редакторов и корректоров до верстальщиков и дизайнеров обложки. Спасибо замечательному отделу маркетинга и продаж: вы сделали своей профессией заставлять людей читать, я восхищаюсь вами и благодарю за работу с моим романом. Особая благодарность бесстрашному редактору Руте Римас, чья концепция и правка подчеркнули достоинства книги, а энтузиазм помог сделать историю Эйдена достоянием гласности.
Спасибо Джонатану Раббу, за чьим столом мы сиживали много лет назад: в его мастерской появился этот роман. Однако чтобы вырастить это дитя, понадобилась другая деревня, и я благодарен литературному сообществу Городского колледжа Нью-Йорка за то, что они стали этой «деревней». Спасибо, что вы столько вечеров (хотя их всегда будет мне не хватать) провели в «Саундз энд Дублин хаус», обсуждая наши и чужие книги и всякий раз напоминая мне, почему нам не все равно и почему мы вообще беремся за перо.
Спасибо Фреду Рейнольсу, чья поддержка и наставничество (и приглашение в Арчер-Сити) помогли мне создать себе имя в литературе и определиться с приоритетами не только в творчестве, но и в иных сферах. Глубокая благодарность Биллу Липпману, Дебби Химмельфарб и их команде – они сразу поверили в мою книгу. Через премию Дорис Липпман за литературное творчество они ознакомили общественность с этим романом и попросили отнестись к нему внимательно.
Я не состоялся бы как писатель без двух моих литературных мам, Линси Абрамс и Фелиции Бонапарте, этих двух интеллектуальных, духовных и философских ядер, вокруг которых я вращался в годы учебы в аспирантуре: вы пробудили меня к новой жизни в любви с литературой, и за это я перед вами в неоплатном долгу.
И, наконец, хочу поблагодарить свою семью, клан Кили-Шэннон-Чаффи. Спасибо Хайде и Джону за то, что взяли меня под крыло: ваши блестящие рекомендации, мудрость, знание жизни и книг и ваши идеи повлияли не только на роман, но и на меня. Спасибо Джошуа, Найлу и Триш, братьям и сестре: я безмерно восхищаюсь вашим образом жизни и пойду за вами на край света; ваша неисчерпаемая поддержка и ободрение не раз спасали меня во время работы над романом. Теда, моего большого брата, благодарю за неиссякаемый энтузиазм, способный подпитывать близких хоть всю жизнь, и за постоянное напоминание, почему нельзя прожить жизнь без приключений. Спасибо бабушке Джейн – ее сила духа, любовь, вера, глубокая мудрость и сияющая улыбка всегда были для меня путеводными звездами. Особенно хочу поблагодарить своих родителей, Мэриэнн и Тома, научивших меня определяться с принципами, жить согласно им и любить ближнего – что и значит быть человеком. Отдельное спасибо отцу, единственному настоящему писателю в нашей семье, без чьей красной ручки, настойчивости и терпения я никогда бы не выучил английский язык.
Джесси, этот роман, как и все остальное в моей жизни, появился благодаря тебе и для тебя. Ты каждый день вдохновляешь меня, я не устаю у тебя учиться, я работаю для тебя и люблю тебя – всем сердцем и навеки.
Примечания
1
Сынок (исп.). – Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Нелогичное заключение (лат.).
(обратно)3
Извини (исп.).
(обратно)4
Говяжий язык в остром соусе и рагу из моллюсков (исп.).
(обратно)5
Слушай, учительница сопливая… (исп.)
(обратно)6
Американский кинорежиссер, мастер бурлескной комедии.
(обратно)7
Ш к о л а Д ж у л л и а р д а – знаменитая академия музыки, танца и театрального искусства в Нью-Йорке.
(обратно)8
Травяной участок, занимающий большую часть игрового поля между ти и грином (гольф.)
(обратно)


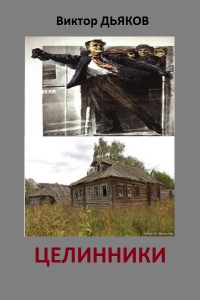


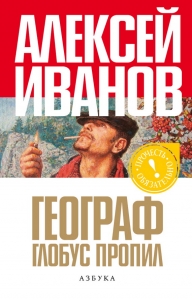

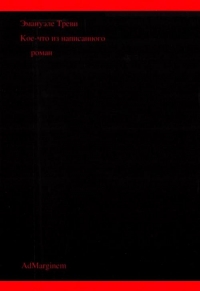
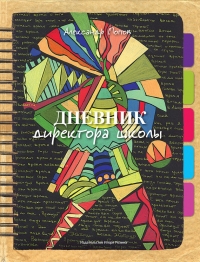

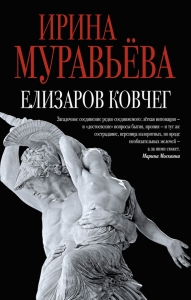
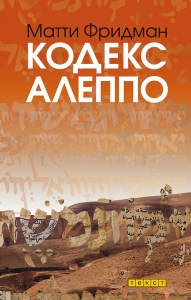
Комментарии к книге «Евангелие зимы», Брендан Кили
Всего 0 комментариев