Валерий Алексеев ТРИ ЮНЫХ ПАЖА Повесть
1
Субботним вечером в середине апреля молодой бородач Борис Лутовкин стоял у окна своей двухкомнатной квартиры на первом этаже серокирпичного дома и ждал прихода людей. Широким лбом прислонившись к стеклу, Лутовкин разглядывал бледное небо, белые стены панельных пятиэтажек, свалявшиеся в серый войлок газоны, за которыми простиралась прямая циклопически широкая улица. Словом «местожительство» исчерпывалось всё своеобразие этого поспешно застроенного пустыря, но Лутовкин не мог так, естественно, думать: здесь он вырос, и всё это выросло вместе с ним. Голые ветки рябин и боярышника буквально стучались в его окно. Яблони бывшего деревенского сада, уцелевшие между домами, стояли как каменные. Вдали собирался дождь.
Юная жена Лутовкина Надежда уехала на субботу-воскресенье к матери, отношения с которой у Лутовкина пока еще не сложились: он никак не мог назвать ее мамой, более того — даже мамой Надежды эта женщина ему не казалась, и он втайне дивился их немыслимому родству. И в предвидении долгого вечера Лутовкин позвонил своему школьному товарищу Олегу Никифорову, чтобы тот приезжал к нему с девушкой, а та пускай прихватит с собою какую-нибудь подругу: потанцевать, повеселиться, то-сё. Желательно без чумы двадцатого века.
Такого рода предложения Олегу были не в новинку. Олег ютился у родителей и проявлял немало изобретательности, организуя свою личную жизнь. Лутовкину повезло больше: его старики построили себе однокомнатную кооперативную, оставив государственную молодым. Но это произошло совсем недавно, полгода назад. По сути дела, впервые в жизни Лутовкин оказался хозяином совершенно свободной квартиры — и распорядился этим так, как считал возможным.
«Распорядился, как считал возможным» — слова не совсем точные: собственно, и считать-то ничего не пришлось. Едва Надежда уехала, ноги сами привели Лутовкина к телефону, палец сам набрал нужный номер, и Олег моментально откликнулся, как будто только того и ждал: «Модель два — четыре? И бутылка партейной? Всегда готов!»
Лутовкин находился в радостном, почти что праздничном состоянии. Угрызений совести не испытывал, поскольку был слишком поглощен новизною возникающих обстоятельств. Какой-то внутренний диалог в нем, разумеется, шел, но сводился к отрывочным репликам: «Да бросьте вы… с меня не убудет… вся молодость искалечена… инвалид детства». Впрочем, и диалогом-то это нельзя было назвать, потому что внутренний оппонент помалкивал.
Приготовления в данном случае были, конечно же, неуместны. Лутовкин ограничился тем, что убрал все бросающиеся в глаза фотографии, сучки, корешки и прочие дары природы, которые они с Надеждой собирали осенью в Подмосковье. Подсознательно он стремился стереть все индивидуальные черты своего быта, создать впечатление ничейного пространства, наподобие явочной квартиры резидента иностранной разведки или кооперативного дома свиданий, — но отчета себе в этом не отдавал. Спроси он себя — сам удивился бы, зачем выносит красивую вазу на кухню, а веничек багульника ставит в бутылку из-под кефира. Багульник, кстати, указывал на известную тонкость его душевного склада: цветы здесь были бы не к месту, а без цветов — нехорошо.
При этом Лутовкин меланхолично напевал:
— Если б я, к примеру, птенчиком по небу летал, я бы тогда бы сильно трепетал. Но уж не для леса и уж, конечно, не для речки, всё для вас, Борис Андреевич, для своей скотинки, для своей овечки. Ляй-ля-ляй-ляй…
Лутовкин был вполне устоявшимся человеком. Работал старшим техником в лаборатории оптической связи и имел дело с квантовыми генераторами, о которых вправе был говорить «эти чертовы лазари». Обращению с ответственной техникой его научили в армии, затем в вечернем институте к навыку прибавилось еще и понимание сути. Институт дорожил Лутовкиным и обещал ему преподавательскую ставку, которую Лутовкин ценил не слишком высоко (нашли чем заманивать, десять долларов в месяц), однако в открытую не отвергал. Работала там на кафедре лаборанткой Надежда, молоденькая, круглолицая, потрепанные «старпрепы» изображали вокруг нее пляс мотыльков. При встречах с Лутовкиным на ясном личике Надежды появлялась тень то ли пренебрежения, то ли досады. Так молодые хозяйки смотрят на суповой набор, из которого ничего не сварить. «А жить как-то надо», — глядя на нее, думал Лутовкин. Для брака в наше спидоносное время такого резона вполне достаточно. В один прекрасный день Лутовкин с юмором объяснился, и его предложение было принято всерьез. Вот так полгода назад Лутовкин стал семейным человеком.
Покончив с уборкой, Лутовкин сменил рубаху: надел нарядную, ярко-желтую, приятно обтягивающую его небогатые мышцы.
Теперь надо было выпить для тонуса: так делают многие перед приходом людей. Лутовкину же это было особенно необходимо. Пьют по-разному: устало, лихо, истово, деловито. Лутовкин пил с юмором. Подвыпив, он становился добродушным, деятельным, веселым и тотчас же начинал озираться в поисках средств, чтоб начудить. Чудить Лутовкин любил, и все его чудачества под хмельком удавались. Вот почему в любом застолье Лутовкин был нужным человеком. Другие, захмелев, ярились, задирали друг друга либо, что еще хуже, начинали качать правоту. Которые еще плакали, которые хвастались физической мощью. Один только Лутовкин никому ничего не доказывал, он был неистощим на выдумки — от доброты своей, от искреннего желания насмешить. Стремления же напиться у него не было, он и не напивался.
Лутовкин достал из серванта початую бутылку коньяка, налил рюмку, отведал, почмокал толстыми губами.
— Глупый пингвин, — сказал он вслух, — глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Глупый пингвин? Ну, допустим. Прячет тело? Это ново, это даже детективно. Чьё же тело прячет пингвин глупый жирное в утесах? Ах, своё. Тогда понятно: нет состава преступленья. Никого он не зарезал, никого он не ограбил, ну а если прячет тело — то не ваше это дело.
Закончив монолог и тем самым подведя черту под внутренним спором, Лутовкин лихо опрокинул рюмку. Затем встал, сказал «бырр», передернул плечами и, подойдя к окну, прислонился лбом к холодному стеклу. В таком положении мы его и застали.
Однако долго пребывать в неподвижности Лутовкин не мог. Оставив на стекле мутноватый отпечаток, он с живостью метнулся к комоду, достал из ящика ножницы, подошел к зеркалу и с высокомерным видом принялся подстригать бороду. Высокомерие шло не от свойства натуры (в принципе Лутовкин был очень прост), а от выставленного вперед подбородка.
Но тут рука его замерла с ножницами на весу: послышался звонок, не телефонный, а дверной, музыкальный. Лутовкин сам его поставил, сделавшись ответственным квартиросъемщиком, и отрегулировал по вкусу: звонок издавал гудение зуммера, а затем раздавалось «тилинь-дилинь». Чтобы добиться непрерывного чистого звона, нужно было нажать кнопку определенным образом, но об этом знали лишь сам Лутовкин и, конечно, Надежда.
Встревожившись, Лутовкин взглянул на часы: для гостей было еще рановато. Олег, правда, жил неподалеку, но он еще должен был достать выпивку, а девушкам вообще предстояло ехать через весь город. Как бы то ни было, сиплый звонок повторился. И, переставив коньяк на пол, за кресло, Лутовкин пошел открывать.
2
Вернулся он в сопровождении низкорослого человечка. Скорее, впрочем, не в сопровождении, наоборот: гость шел впереди, а хозяин, угрюмо ссутулившись, плелся сзади.
Гость бросил на диван задубенелый от старости плащ, решительно выдвинул стул и сел с таким счастливым вздохом, как будто после долгих странствий вернулся к себе домой. Ботинки он снял при входе, брюки почти до колен были забрызганы грязью, а выцветший темный тканевый плащ свидетельствовал одновременно о бережливости и о пренебрежении к одежде вообще.
— Весна-то какая! — сказал он, повернув к Лутовкину лицо, которое можно было бы даже назвать симпатичным, если бы его не портили совершенно старообразные, круглые в черной оправе, очки. — Теплынь невероятная, голова кругом идет.
Лутовкин не ответил. Он постоял у дверей, потом скрестил на груди руки, потом сунул руки в карманы, потом сел на диван.
Случилось непредвиденное: явился Сева Корнеев, еще один школьный товарищ, давно и нежно любимый здесь человек, которого Лутовкин рад был принять в любое время дня и ночи, но, естественно, не сегодня. Сегодня и остренький носик Севы, и маленькая лысинка в чернявых его волосах, и ноги в черных носках — всё вызывало у Лутовкина раздражение. Пожалуй, особенно ноги: попробуй останови человека в прихожей, когда он тут же, у порога, начинает разуваться.
— Что с тобой, старичок? — ласково спросил Сева.
— А что такое? — с усилием, как бы издалека, отозвался Лутовкин.
— Говори громче! — весело крикнул Сева. — Ты же знаешь, в апреле я совершенно глохну.
Скрипнув зубами, Лутовкин ничего не ответил. Прогнать Севу он не мог. Сева принадлежал к тем простодушным людям, которые совершенно не понимают игры обстоятельств, не любят ее и боятся. Сказать ему правду про обстоятельства было все равно что пнуть ногой.
— А Надя где? — спросил Сева.
Лутовкин вяло объяснил.
— Понятно.
Они дружили давно и знали друг о друге практически все, Лутовкин, Корнеев, Никифоров. В школьные годы это была супертайная организация «ЛУКОН», у которой имелась даже своя резиновая печать, на ней был вырезан трехглавый дракон. Тогда Лутовкин мечтал о солидной научной работе с телохранителями, двойниками, персональным шофером и засекреченной дачей. Олегу от жизни нужны были деньги, много денег. И женщины, тоже много. А Севе Корнееву требовалась одна лишь вселенская слава, причем он соглашался и на посмертную. Жизнь выправила эти наметки с присущим ей стихийным юмором. Время засекреченных дач отошло, деньги потеряли заключенный в них смысл, слава стала чем-то постыдным… к тому же, по убеждению Лутовкина, Сева искал славы где-то не там: победовавши учителем и корректором, он работал в литературном музее, а сколько славы это приносит — догадаться нетрудно. Правда, в свободное время Сева писал книгу. Именно поэтому его сегодняшний приход застал Лутовкина врасплох: по субботам-воскресеньям Сева обычно работал в читальном зале. Нет, не работал, а работал: этот глагол в применении к своей книге Сева произносил с особой застенчивой твердостью.
— Остекленелый ты, — сказал Сева. — Неприятности?
Сквозь очки на Лутовкина смотрели его светло-карие девичьи глаза.
— Так, настроения нет, — ответил Лутовкин и отвернулся.
— Что-то не нравится мне у тебя, — сказал Сева. — Розги на столе, рефлексией попахивает…
— Рефлексией? — переспросил Лутовкин и покосился на угол, где стояла бутылка. Она была вся на виду. — А, рефлексией…
В мыслях прокляв всё на свете, он деланно зевнул.
— Не притворяйся, — сказал Сева, глядя ему в лицо. — Один, и рубаху надел такую трагическую… Уж не стреляться ли надумал?
— Еще чего, — буркнул Лутовкин. — Городишь ерунду.
— Не ерунду, — возразил Сева.
И принялся оглядывать оголенные стены. Очки его с любопытством блестели. Лутовкин забеспокоился: отсутствие даров природы бросалось в глаза. Сам мысля исключительно левым (рассудочным) полушарием, Лутовкин высоко ценил способность правого (интуитивного) делать выводы на основании неполной информации. А Сева был человеком интуитивного склада. При всем своем простодушии порою он высказывал мудрые догадки, которые потом подтверждались. И если он говорил о ком-нибудь «дрянь человек», рано или поздно этот человек проявлял себя дрянью. Сейчас Лутовкин видел, правое полушарие работало вовсю: Сева как бы принюхивался к разгадке. Надо было что-то предпринимать.
— Стреляться я не привык, — сказал он, пытаясь сбить Севу со следа. — Это для тех, кто себя больше жизни любит. А я наоборот: жизнь люблю, а себя не ставлю ни в грош.
— Это у тебя что-то новенькое, — продолжая осматривать комнату, без всякого интереса сказал Сева.
— Дурак я, Сева, ты понимаешь, дурак, — заторопился Лутовкин. — Не в том, конечно, смысле, что глупый, а в том, что всё понимаю. Наукой точно установлено, что всё понятно только дуракам. Я всё понимаю и за себя, и за тебя, а вот ты ни хрена не понимаешь. Оттого ты и умный такой.
Блестящую эту тираду Сева тоже пропустил мимо ушей. Школьники, по-видимому, не раз заговаривали ему зубы, и Сева привык смотреть в корень.
— С Надеждой разругался, — сказал он уверенно.
Это было выше человеческих сил. Не выдержав, Лутовкин вскочил, заложил руки за спину, отошел к окну и, встав спиною к Севе, принялся покачиваться на мысках.
— Ладно, старик, — проговорил Сева, — не дергайся. Я тебя не покину.
Чувствуя, как по спине ходят мурашки ненависти, Лутовкин услышал звон стекла, бульканье жидкости.
— Извини, я тут распоряжусь, — говорил, наливая коньяк, Сева. — Тебе многовато.
Пауза.
— Ну, за женщину твою, — сказал Сева. — Ты знаешь, как я к ней отношусь.
Лутовкин знал. Полгода назад, решая для себя вопрос о женитьбе, он спрашивал у Севы совета, и мнение Севы оказалось положительным. Сперва он, правда, отбивался от роли эксперта, но Лутовкин так горячо и убедительно просил, что Сева уступил. Он долго и придирчиво выяснял, нет ли у Лутовкина каких-либо тайных (служебных там или финансовых) мотивов: в таком случае, говорил Сева, я просто умываю руки. Но Лутовкин божился, что всё чисто: Надежда ему нравилась и к тому же, по слухам, умела готовить, а Лутовкин высоко ценил домашнее питание. Единственное, что его сдерживало, — опасение, что его избранница окажется… как бы это помягче… не слишком порядочным человеком. Самая мысль об этой возможности Лутовкина жестоко терзала. Старикам Надежда понравилась, но старики жили устарелыми категориями, их представление о том, на что способны молодые девицы, было, по мнению Лутовкина, недостаточно развитым. На отца, к примеру, произвело впечатление, что Надежда предстала перед ним ненакрашенной, а маму растрогало то, что у Надежды не было осенних сапог. Родители попрекали Лутовкина, что он слишком тянет с женитьбой. «Поматросишь и бросишь?» — язвительно спрашивал отец. А мама заклинала: «Не обижай сироту!» Лутовкин же медлил оттого, что сомневался. Чтоб молодая жена да не гуляла от мужа — это представлялось ему маловероятным. К тому же в интимных делах Надежда оказалась очень стеснительной, это можно было по-всякому толковать. Олег, испытанный друг, был плохим экспертом по части женской нравственности, он сам ходил весь опутанный связями, приносившими меньше радостей, чем хлопот. Оставался лишь Сева, носитель книжной премудрости, знаток человеческих дум.
Надежда привела Севу в восторг, и Лутовкин получил такие бурные заверения, что чуть было не пошел на попятную. «Женись, — твердил Сева, — женись немедленно, и нечего тут думать. Такое бывает раз в жизни. Это твой шанс!» Сам Сева был холост и не обнаруживал намерения жениться: он считал себя безобразнее саламандры и полагал, что лирическая сторона жизни для него навеки закрыта. Надежду, вполне ординарную девушку, он увидел совершенной красавицей и, устроив семейное счастье друга, вроде бы и сам этого счастья вкусил. Молодые нуждались в общих знакомых, которых им предстояло еще завести, и приходящий друг семьи их обоих устраивал: Лутовкин со стороны Севы мог не опасаться никаких поползновений, а Надежда в присутствии Севы безвредно расцветала и становилась взрослой и кокетливой, ей это шло.
— Ты обо мне подумай, — говорил между тем Сева, — кто ж меня будет блинчиками кормить?
Дело было, разумеется, не в блинчиках. Надежда давно уже вычислила и не без гордости сообщила мужу: «А Севка твой млеет по мне, вот так». Лутовкин не возражал: в определенном смысле это даже льстило его самолюбию. Теперь с приходом Севы в доме Лутовкиных становилось еще уютнее: он приносил с собою ауру бескорыстной заинтересованности, и «кинга», как выяснилось, хорошо расписывать на троих. Сева, как правило, уходил домой проигравшим — оттого, что сражался в одиночку против двоих да при этом еще делал маленькие поблажки Надежде, — но, как дитя, огорчался, проигрывая (вряд ли притворялся огорченным, этого он не умел).
Олега Надежда невзлюбила с первого взгляда: «Противный, и глаза у него белесые». Да и Олег постоянно над ней насмехался — вести себя с замужними женщинами по-другому он не умел.
Между тем выпитый Севой коньяк начал оказывать действие, которое принято называть благотворным.
— Нет, я заранее знаю, что неправ именно ты, — внушал Сева. — Именно ты виноват, поганый ублюдок, и чем скорее ты это признаешь, тем будет легче тебе самому. Я бы на твоем месте сейчас позвонил и покаялся: Надя, я — поганый ублюдок. Уверяю, ей это польстит…
Сева вещал вдохновенно. Самое скверное было то, что Сева считал себя вправе все это говорить: будто Лутовкин задолжал ему тысячу рублей и теперь обязан молча выслушивать великодушные рекомендации, как эти деньги лучше вернуть.
— Ладно, кончай, — не оборачиваясь, буркнул Лутовкин. — Развел агитацию. Надоело.
Сева озадаченно умолк, как будто наткнулся на стеклянную стенку.
— Может, мне вообще лучше уйти? — спросил он после паузы.
Лутовкин покраснел, повернулся.
— У тебя в доме, — напыжившись, сказал он, — у тебя в доме я таких вопросов не задаю. Но сама по себе мысль очень дельная.
Тут снова зашипел музыкальный звонок, и сердце у Лутовкина екнуло.
— Кто бы это мог быть? — оживленно промолвил он. — Интересно.
3
Хозяин пошел открывать, а Сева подошел к книжным стеллажам, скользнул беглым взглядом по верхним парадным корешкам и, присев на корточки, стал рассматривать нижние, туго набитые старыми брошюрами полки.
Когда Лутовкин устроил эти дурацкие смотрины, Сева рассудил: ну что ж, если человек не приучен к свободному волеизъявлению, возьмем ответственность на себя. С этого ложного шага всё и началось. Встреча состоялась в шашлычной «Ягодка».
Надежда за весь вечер не проронила ни слова и, насколько Сева мог судить по бледному пятну ее лица, даже не улыбалась. Сева знал, что в очках у него слишком испытующий взгляд, и потому сидел без очков. Фигурой, росточком и манерами Надежда походила на прилежную восьмиклассницу — из тех, что прячутся от учительских глаз не у окна, не у двери, а непременно в среднем ряду. Олег, от души наслаждавшийся «госприёмкой», подавал Севе многозначительные сигналы, призывая его приступить к исполнению. Наконец Сева решился, надел очки, взглянул Надежде в лицо — и сердце его всхлипнуло от сострадания. Детское личико Надежды было затуманено тоскливым недоумением. Похоже, она догадывалась, что ситуация для нее унизительна, но не могла уяснить почему. Видимо, общность переживания и вызвала искру: Сева тоже тяготился своей ролью и испытывал перед этим полуребенком смутное чувство вины. Перехватив его участливый взгляд, Надежда благодарно улыбнулась. «Свершилось, — сказал Олег, — есть контакт».
В тот вечер Сева дал себе слово: раз уж ввязался в эту историю, он обязан сделать всё, от него зависящее, чтобы Наде было хорошо. Впрочем, зависело от него очень немногое: был свидетелем в ЗАГСе, помогал молодым двигать мебель, приносил книги и воевал с фирменными календарями, которые Надежда развешала по стенам. Вина и жалость — это было в основе, а остальное доделала фантазия. Любопытный сдвиг произошел у Севы в сознании: все чаще ему казалось, что и семья эта, и бедный ее уют, да и сама Надежда — творение его рук…
Если бы Сева узнал, что, по мнению Надежды, он «тащится и млеет», творческая радость его была бы сильно замутнена. К счастью, он совершенно ни о чем не догадывался и продолжал себя чувствовать в этом доме как дома.
4
— А, Себастьян, и ты здесь! — весело вскричал Олег.
Такая у него была манера: он не любил называть людей просто по именам, ему это казалось скучным. Бориса Лутовкина он звал то Билли, то Боборыкиным, то каким-то Барбудой, а Сева (Всеволод) превращался у него в Савосю, Володю, Сильвио и Иоганна Себастьяна Баха.
Встреча друзей была бурной и радостной.
— Что-то ты не мужаешь, — сказал Олег, похлопывая Севу по спине. — Пора, друг, пора. Хочешь, я тебя в клуб дзюдо запишу? Это тебе не иго-го. Ездить, правда, придется ко мне в Южный порт, но зато эффект потрясающий. Две недели поломают — и станешь другим человеком.
— А зачем мне другим? — улыбаясь, отвечал Сева. Он вынужден был придерживать очки: от каждого Олегова хлопка они соскакивали у него с носа. — Мне и так хорошо.
— До поры, Савося, до времени, — назидательно сказал Олег. — Защищенным надо быть, эпоха такая. Могут побить.
Он прошел в передний угол, развернул кресло, сел лицом к Севе, долго, прищурясь, дружелюбно на него смотрел. Крупный, светловолосый, самый стандартный из них троих, Олег был в синем пиджаке с металлическими пуговицами, в светлых брюках и казался похожим то ли на летчика-любителя, то ли на молодого миллиардера.
— Что это ты, братец, закисший такой? — спросил он наконец.
— Да вот, — сказал Сева, — хозяин на улицу гонит.
— Кто? Бургиба? Не бери в голову. Когда захотим, тогда и уйдем. Ну, а вообще — как у тебя? Далеко еще до синих слонов?
Это была школьная Севина присказка: если каждое утро выливать в унитаз ведро синей воды, то и рыбки в реке станут синими, и трава на берегу посинеет, но до синих слонов еще ох как далеко. Как-то запала Олегу в душу эта нехитрая мудрость, и он часто, по поводу и без повода, ее вспоминал.
— Да приближаемся потихоньку, — с застенчивой улыбкой отвечал Сева. — Восьмая глава.
— Уже восьмая! А как называется?
— «Детская месть Печорина».
— Вона. Ишь ты. Детская месть. Значит, что у нас получается?
И Олег, загибая пальцы, перечислил названия семи предыдущих глав никому не известной книги, из которых Лутовкин запомнил только одно: «Песни карлика». Олег вообще многое помнил касательно своих друзей и не упускал случая козырнуть памятью. Насколько можно было судить, в Севиной книге речь шла о Лермонтове (хотя сам Сева упорно это отрицал: «Нет, о жизни вообще»). Лутовкин уважал словесность, полагая ее равноправною формой познания, но, когда речь заходила об этой книге, он не трудился скрывать раздражение: ему и жалко было Севу, понапрасну гробившего время жизни, и претила вся эта несуразная болтовня.
Поэтому, потоптавшись для виду в гостиной, Лутовкин удалился в прихожую к телефону. Время шло, назревали обстоятельства, и надо было выпутываться из положения.
Был один только способ удалить Севу: звонок мамаши Корнеевой. Сева боготворил свою мать. Эта рыхлая женщина вот уже много лет страдала таинственным заболеванием, природы которого никто не мог определить. А проявлялось это заболевание так: целыми днями она лежала в постели, читала, курила, ночами мучилась от бессонницы, а по утрам жаловалась на головную боль. Все заботы по дому, включая стирку, уборку, стряпню и доставание продуктов, брал на себя смиренный и работящий супруг, майор тыловой службы, а после его смерти домоводческую эстафету принял старший брат Севы, унаследовавший натуру отца. Он работал водителем автобуса, не пил, не курил, не знался с женщинами, всё до копейки приносил в дом и увлеченно обслуживал маму и Севу. Сева трудился над своей монографией, а мать лежала, читала и поглядывала на всех поверх книги желтыми глазами, казавшимися яркими на ее бледном лице. Она живо интересовалась делами сыновей и их приятелей, охотно вступала в беседу. Лутовкин побаивался этой женщины: ее увядший рот с поразительной легкостью произносил желчные фразы, а глаза всегда смотрели беспокойно, зорко и пристально. Сева не уставал повторять, что он ей всем, всем обязан, но в чем это выражалось конкретно, Лутовкин не спрашивал: семейные легенды лучше не разбирать. Олег ненавидел мадам Корнееву всеми переливами своей флотской души: однажды эта женщина назвала его рептилией. Прямо в глаза и сказала, не помнится уже, по какому поводу, а может быть, и без повода, случались с нею такие внезапные озарения, смотрит на человека — и вдруг получай ни за что оплеуху: «А ты, дорогой мой, рептилия». Обременять такую женщину просьбами, да еще деликатного свойства, было, конечно, бессмысленно, но со старшим Корнеевым Лутовкин надеялся столковаться. Он несколько раз набирал номер — как на беду, мадам Корнеева пребывала в бродячем состоянии и подходила к телефону сама. Услыхав ее тихий, придушенный голос, Лутовкин тут же бросал трубку. На третий или четвертый раз она спокойно сказала:
— Ну, погоди, кошка драная, я тебя отловлю.
Взглянув на часы, Лутовкин впал в уныние и возвратился в гостиную в самом гнусном расположении духа.
Олег как ни в чем не бывало, развалясь в кресле, благодушно беседовал с Севой, делился с ним своими жизненными задумками. Сева слушал очень внимательно, даже напряженно, как будто разговор шел на малознакомом языке, и на лице его было смешанное выражение недоверия и почтительности. Планы Олега сводились, как обычно, к тому, чтобы малыми усилиями заработать побольше денег и зажить наконец без проблем, только подсчеты он вел не в рублях, а в финских марках. Купить вскладчину теплоход и водить его по Сайменскому каналу — вот такую идею Олег лелеял, и обещала эта задумка баснословные барыши. Впрочем, у Олега в мыслях всегда были не сотни и не тысячи даже, страшно сказать: если бы его планы сбывались хотя бы в десятой части, он давно уже и в самом деле стал бы миллиардером. Только не могли они сбыться ни на сотую долю процента — слишком много и охотно Олег о них говорил, бесконечные разговоры эти разъедали любой, даже самый надежный замысел, словно ржавчина, создавая успокоительное ощущение, что дело уже идет.
Нет, кое-что Олегу ухватить удавалось, но больше, как он сам признавал, «на дуру», по мелочам. Вдобавок Олег недостаточно твердо держал собственную мысль, и сегодняшний рассказ его то и дело соскакивал на какую-то не относящуюся к делу трансформаторную будку, которую ему обещали уступить почти даром, за десять тысяч даже не марок, а просто рублей. По всей вероятности, Олег уже взял на себя какие-то обязательства перед владельцами будки, и воспоминание об этом его неприятно волновало.
— А что, она на самом берегу стоит? — добросовестно пытаясь вникнуть в суть идеи, спросил Сева.
— Кто на берегу? На каком берегу? — удивился Олег.
— Не кто, а что, — терпеливо и кротко пояснил свой вопрос Сева. — Телефонная кабина, она прямо на берегу?
Олег долго молчал, серьезно глядя на Севу.
— Да, брат Сильвио, — сказал он наконец. — Интеллект у тебя для других целей.
Лутовкин понял, что настал подходящий момент.
— Ну что, ребята? — сказал он, нервно потирая руки. — Чтой-то знобит меня сегодня. Выпьем граммулечку — и ступайте вы по домам. А я себе прилягу.
— Вот, пожалуйста, опять, — проговорил Сева, обращаясь к Олегу. — Я тебе говорю, он плохое задумал. Одного его никак нельзя оставлять.
— Почему нельзя? Можно, — сказал Олег и поднялся во весь свой внушительный рост. — Ежели связать хорошенько — то можно.
Вразвалочку он подошел к Лутовкину, обхватил его своими могучими лапами и, хотя Лутовкин раздраженно сопротивлялся, поднял его и закинул себе на плечо.
Сева понаблюдал, как Лутовкин дрыгает в воздухе ногами, потом молча направился к выходу.
— Э, ты куда? — спросил Олег. — За веревкой?
— Нет, домой позвоню, — сказал Сева. — Надо маму предупредить, чтобы к ужину не ждала.
5
Когда он вышел, возня сразу же прекратилась. Олег поставил Лутовкина на пол, тот с досадой передернул плечами и плюхнулся на диван.
— Ну что ты будешь делать?
— Давно сидит? — вполголоса спросил Олег.
— Да полчаса уже, если не больше, — шепотом отвечал Лутовкин.
— И не понимает?
— И не понимает! — сказал Лутовкин с отчаянием. — Я уж и так, и этак… А напрямую — нельзя. Ты его знаешь.
Олег задумался.
— М-да, накладочка, — сказал он. — Значит, пошел у мадамы отпрашиваться… А может, мадама его призовет?
— Она как раз в форме, — печально промолвил Лутовкин. — По квартире колышется.
— Ну, ничего, — сказал Олег, помолчав. — Я его сейчас вразумлю.
— Нет уж, ты, пожалуйста, не встревай в это дело, — вскинулся Лутовкин. — Знаю я тебя, китобоя. Тут ситуация деликатная, тебе не понять.
— Чистеньким хочешь остаться? — насмешливо спросил Олег. — В желтой рубашоночке, брезгливенький такой? А я, значит, отброс, портянка?
— Ты холостяк, братуля, — миролюбиво ответил Лутовкин. — Это всё в корне меняет. По крайней мере для него.
Олег не любил долго сердиться.
— О-хо-хонюшки. — Он походил по комнате, поколупал ногтем прутик багульника. Вдруг светлые брови его насупились.
— Слушай, — он повернулся к Лутовкину, — ты кошелку мою из прихожей унес? Там две бутылки «Сахры», банка сайры…
Лутовкин раскрыл рот и ничего не ответил.
— Тогда всё, — весело сказал Олег. — Тогда не знаю, как ты будешь вывинчиваться.
Он засмеялся.
— Очень весело, — раздраженно проговорил Лутовкин.
Это рассмешило Олега еще больше. Раскиснув в беззвучном хохоте, он сел на пол.
— А матрёшки-то… — простонал он, плача от смеха.
— Ай, ну тебя к черту! — глядя на него, Лутовкин сам начал сердито смеяться.
— А матрёшки-то… едут, едут… — стонал, хохоча, Олег. — Скоро будут… А у нас тут… всё готово… полный дом экспертов…
— Во юродивый! — нервно смеясь, сказал Лутовкин.
Он поднялся и пошел в смежную комнату. У двери остановился, погрозил Олегу пальцем.
— Ты смотри у меня, без самодеятельности. Я всё образую.
6
Сева появился минут через пять. Увидав Олега сидящим на полу, удивился:
— Что с тобой, дорогой?
Олег не ответил. Он лениво поднялся, снял пиджак, осмотрел его, отряхнул и повесил на спинку стула. Ему было неприятно, что его застали задумчивым. В голове у него так сложилось, раз задумался — значит больной. А думал он, естественно, о жизненном неустрое. Какой-нибудь бразильский капитанишка шлёпает на своей посудине по Амазонке, в двадцать пять наверняка имеет и фазенду, и трехэтажный особняк с гаражом, и катер, и жену с кучей детишек, и пару-тройку надежных слуг. Да Бог с ними, со слугами, можно жить и у нас, вон даже Боборыкин и тот в отдельной квартире тешится с молодою женой. А мы что, меньше об лёд колотились?..
— Ну и что, отпросился у мамульки? — спросил он наконец.
— Мама больна, не забывай, — мягко сказал Сева. — Ей нельзя волноваться. Она опять всю ночь не спала.
— Ну, еще бы, — Олег усмехнулся. — Если днем высыпаться…
Но, заметив, что Сева расстроился, тут же пошел на мировую:
— Впрочем, извини. Это я так.
Посидели, молча глядя друг на друга. Севина мама в этой компании представляла собою объект, говорить о котором вообще нежелательно: тем самым все трое молчаливо признавали, что с нею что-то не так. Однако Олег не всегда мог удержаться, и Сева, помня о «рептилии», это ему прощал. Иногда и мама, человек безупречного ума, ошибалась.
— Я смотрю, ты грандиозное затеял, — сказал наконец Сева. — Буфеты, конфеты… А с чего?
Олег покосился на дверь — Барбуда как будто вымер. Инструкций не поступало, надо было действовать самому.
— Да тут, понимаешь, — небрежно проговорил он, — день рожденьчик небольшой…
— Не болтай, — возразил Сева. — Я ваши дни рождения помню, слава Богу. Небось, корабль свой утопил и страховку теперь пропиваешь.
— Не надо так говорить, Всеволодя, — серьезно сказал Олег. — Мы люди суеверные. А день рождения у одной моей знакомой. Простая общежитская девчонка, встречать негде, не на улице же встречать? С подружкой придет. Ты пойми, Володя, пойми и не осуждай. Жизнь — она ведь не ко всем домашним боком. Вон в Эфиопии что творится… Что ты хмуришься, детка? Что тебе не понравилось?
— Да неудобно, — задумчиво сказал Сева. — Я же не знал…
Он посмотрел на свои захлюстанные штаны, на ноги в черных носках. У Олега в этом смысле было всё в порядке: ботинки его и брюки сверкали такой чистотой, как будто он шел сюда посуху.
— А что тебя гложет? — поинтересовался Олег.
— Без подарка — нехорошо…
— Да, подарок — это, конечно… — Олег выжидающе смотрел на Севу: надо было, чтобы Сева сам пришел к нужному выводу.
Но в это время зажужжал музыкальный звонок — за сегодня уже третий.
— А вот и они, — весело сказал Олег. — Боря, встречай гостей! — громко крикнул он в соседнюю комнату.
— Бегу! — отозвался Лутовкин. И в самом деле затопал по коридору.
— Ничего, — продолжал Олег, — перебьются и без подарка. Они девчонки простые, не протокольные. В общем, свои.
В прихожей послышался шум. Женский голос, довольно резкий, произнес:
— Нет, нет, спасибо, мы сначала в порядок себя приведем. Такая грязь у вас в районе, такая раскисень! Хоть бы встретил кто-нибудь.
Лутовкин что-то сказал в ответ, должно быть, остроумно оправдался, потому что раздался серебристый смех.
Оставив девушек у зеркала, Лутовкин вернулся к друзьям. Встал в дверях, глядя поочередно то на Севу, то на Олега. Вид у него был довольно растрепанный.
— Ну, и куда ты девал новорожденную? — непринужденно спросил Олег. — Сознавайся, старый греховодник.
— Новорожденную? — тупо переспросил Лутовкин. — А…
— Сразу видно женатика, — перебил его Олег, — совсем отвык от светских оборотов речи. Милый Бобик, если есть день рождения, должна быть и новорожденная. Естественный вопрос: куда ты ее подевал? Мы, например, желаем ее поздравить.
— А, ну да, — с облегчением сказал Лутовкин. — Черт! Сейчас подошлю.
И удалился.
— Растерялся Барбуда, — сказал ему вслед Олег. — Слушай, — он повернулся к Севе, — ты только Надюшке не докладывай, что мы тут без нее мероприятие провели. В конце концов это я навязался… со своими василисками. Соображаешь?
— Почему с василисками? — улыбаясь, спросил Сева. — От Василисы или от василисков?
Олег не понял шутки (по правде сказать, довольно натужной) и потому нахмурился.
Так в чинном молчании они подошли к двери и встали по обе стороны, ожидая появления дам.
7
Вошли две девушки: одна поплотнее, светловолосая, в пышном голубом платье (не стоило труда определить, что это у нее резкий голос и серебристый смех), другая в темно-синем, джинсовом, с неправильным свирепым личиком, темные волосы распущены по плечам, на груди черный шелковый бант.
— А вот и мы, — произнесла толстушка. — Добрый вечер, мальчики…
— Целую ручки, целую ручки, — с нерусской галантностью проговорил Олег и в самом деле поцеловал довольно неуклюже подставленные ему руки. — Позвольте представить: мой общий друг Всеволод Корнеев, широко известный как Себастьян Бах, доцент, гарант, эксперт и светлой души человек.
Сева покосился на Олега и шаркнул необутой ногой.
— Меня зовут Женя, — приветливо сказала толстушка, — а это Аля.
— Кого ж из вас можно поздравить? — конфузливо спросил Сева.
— Поздравить? Ха-ха-ха! — Женя залилась серебристым смехом. — Замечательно!
Очки у Севы затуманились, он оробело повернулся к Олегу: что я такого сказал?
— Женечка, — недовольно заметил Олег, — ты прелестно смеешься, но в данном случае твой смех неуместен. Здесь все свои, и скрывать нам нечего. Открою маленький секрет: как раз сегодня наша Аля стала на год старше… по сравнению с тем же числом прошлого года. У-тю-тю, деньрождюшечка ты наша!
Он ловко выхватил из кармана соску-пустышку, протянул ее Але. Та усмехнулась, пожала плечами, но взяла.
— Это мы с товарищем доцентом, — пояснил Олег, — скинулись на скромный подарок. Смотрите: приняла пустышечку! С первого раза приняла. Значит, будет жить.
— Ну, Олег, ну, заводной! — жизнерадостно воскликнула Женя, но лицо у нее при этом сделалось оскорбленным и даже злым. — С тобой не соскучишься.
— А это на счастье, — волнуясь, сказал Сева и вложил Але в руку что-то тускло блеснувшее. Аля подняла руку, разжала пальцы — на ладони у нее лежал гладкий темно-синий камешек.
— Ой, жучок! — проговорила Женя и умиленно посмотрела на Севу. — Красивенький… А мне?
— К сожалению, у меня только один, — порозовев, сказал Сева. — Пятнадцать лет носил в кармане, думал — повезет, и вот пригодилось.
— Вроде навозный, — заметил, приглядевшись, Олег.
— Сам ты навозный! — возмутилась Женя, сразу воспылавшая к Севе симпатией. — Тоже мне, специалист по сельскому хозяйству.
— Нет-нет, всё правильно, — сказал Сева. — Именно навозный скарабей. У египтян он считался священным. Мама сказала: носи, ну я и носил.
— В кармане, — сказала Женя, — а надо на цепочке, на шее. Дай-ка, — обратилась она к подруге, — дай-ка, я рассмотрю.
Но Аля зажала скарабея в руке и протянула его Севе.
— Не надо, — сказала она (голос у нее был низкий, грудной), — не надо, глупости это всё. Возьмите.
— Давай, давай мне, если глупости, — Женя заливисто рассмеялась. — У меня и цепочка есть, серебряная. Как раз к голубому платью.
Аля повернулась к подруге, оглядела ее платье. Потом опять настойчиво протянула руку к Севе.
— Возьмите, — сердито сказала она. — Не надо, я не хочу.
Сева растерялся. Спрятав руки за спину, он снова посмотрел на Олега.
— Не хочет навозного, — бесстрастно пояснил Олег, — хочет золотого.
Аля метнула на него убийственный взгляд и неожиданно, изловчившись, сунула скарабея в нагрудный карман Севиного пиджака.
— Носите сами, — сказала она при этом.
И видя, что Сева вспотел от конфуза, примирительно тронула его за рукав.
— Может, еще повезет, — добавила она и, улыбнувшись, сделалась миловидной: скуластая, смугловатая, светлоглазая, с большим, своевольно очерченным ртом.
— Ну, вот и ладненько, — сказал Олег, — Теперь будем действовать так: ты, Аля, ступай на кухню, там Боборыкин один вкалывает. Ты, Женечка, останешься здесь, мы будем протирать фужеры. А товарищ доцент у нас мастер столы раздвигать.
— А где здесь кухня? — глядя на Севу, спросила Аля. Она, по-видимому, пыталась как-то загладить свой грубый отказ.
— Пойдемте, я вас провожу, — деревянным голосом ответил Сева.
Он подал руку и повел ее в коридор. Со стороны это выглядело довольно забавно: тщедушный мужчина в черных носках — и дама в модных туфлях и нарядном платье.
8
— Что это вы, ребята, ерунду какую затеяли? — спросила Женя, когда они с Олегом остались одни. — Чет-нечет. Или мода пошла?
— Кыш! — прикрикнул на нее Олег. Постоял, прислушался, со вздохом сел на диван. — Экспериментальный вариант: два волка, две козы и капуста.
— Да что происходит, в конце концов? — сердито спросила Женя.
— Что, что… — передразнил ее Олег. — Зачтокала. Доцента выставить не можем.
— Господи, делов-то… — протянула Женя. — Взять за ухо и сказать: мальчик, пшёл вон, ты бяка.
— Не всё так просто, Женечка, — сказал Олег. — Это не мальчик, это наш друг и притом ходячая экспертиза.
— Так пускай остается! — рассудила Женя. — Может, даже так веселее. Только без драки.
— Нет, ты не въехала, — возразил Олег. — Барбуда при нем стесняется.
— Чего-чего? — насмешливо переспросила Женя. — Этот… стесняется? Да он в трамвае готов…
Тут в голове у нее, по-видимому, что-то соскочило, она на секунду умолкла, забыв, о чем идет речь, и вдруг накинулась на Олега:
— Дурак ты какой-то, а не капитан. Ну что б тебе было сказать, что это у меня день рождения?
— Прости, не сообразил, — серьезно ответил Олег. — Откуда мне было знать, что у него бижутерия в кармане?
— На улице, наверно, нашел.
— Нет, вряд ли. Я думаю, папаша его, покойник, привёз, он в Арабии тылы обеспечивал. А кстати… — Олег тоже с легкостью менял предмет разговора. — Кстати, о птичках. Где это ты откопала такую красотку? В твоей общаге я что-то ее не встречал.
— Красотку? — Женя высоко подняла светлые бровки. — Ха-ха-ха. Уж ты скажешь. Из села Перкино она. А в общаге только ночует… раз в месяц. Тоже мне красотка!
Олег обнял ее, притянул к себе, посадил на колени.
— Ну, ну, не злобствуй. Ты для меня краше всех, сестричка моя… неписаная…
Сестричками Олег называл всех своих подруг — в порядке профилактики, чтоб не заносились в мечтаниях.
— Ладно, пусти, — упираясь обеими руками ему в грудь, Женя сердито пыталась вырваться. — Братишка названый…
Олег стиснул ее так, что она пискнула. Некоторое время стояла сосредоточенная тишина, потом Женя как ни в чем не бывало сказала:
— Это ей надо стесняться.
Слово «ей» она произнесла с нажимом, и, не видя всей сцены, выдержанной в сочном фламандском стиле, можно было бы вообразить, что это говорит злонравная добродетельная старушка.
— Кому это ей? — лениво спросил Олег.
— Сам знаешь кому, — отвечала Женя. — Как это жена молодая не умеет собственного мужа удержать? Живут себе вместе, спят под одним одеялом…
— Это верно, — согласился Олег. — С мужем надо обращаться строго по инструкции.
— Ох, я бы на ее месте… — Женя мечтательно сощурила глаза.
— А что бы ты на ее месте? — полюбопытствовал Олег.
— Я бы показала ему козью морду.
— Так покажи, вот тебе и случай, — добродушно сказал Олег. — А я пока твоей пейзанкой займусь.
— Кем-кем? — удивилась Женя.
— Пейзанкой, в смысле колхозницей. И будет у нас бригадный подряд.
— Лапы-то свои тогда подбери, — ласково проговорила Женя. — И где это ты слов таких нахватался?
— Что-то Бобочки не слышно, — заметил Олег.
— Прячется Бобочка, — съязвила Женя, — прячется от твоей красотки.
Но тут Лутовкин, слегка как будто заспанный, вышел из смежной комнаты. У него не складывалось: по-прежнему трубку брала мадам Корнеева. Только теперь она угроз не источала и говорила сладким голосом: «Алло, будьте добры, подержите, пожалуйста, трубочку, мы проверим на станции, почему не соединяют…» Очень ей, должно быть, хотелось отвадить всех драных кошек, докучающих ее сыновьям.
С приходом Лутовкина Женя встала, смиренно оправила платье — без особой, однако, поспешности.
— Молодцы, — желчно сказал Лутовкин и сел на диван рядом с Олегом.
— А ты зачем сюда пришел? — недовольно спросил Олег. — Где твое место?
— Я им не теща, — огрызнулся Лутовкин.
Посидели, прислушались. На кухне шел вполне дружелюбный разговор, слышимость была — как в театре.
— По руке начинают гадать, — ревниво сказала Женя.
— Ну, что ж, — отозвался Олег, — это сближает.
— Но не у меня в доме, — буркнул Лутовкин. — Вон, буераки кругом, пускай туда идут и сближаются, сколько влезет. Нашли себе игорный дом…
— А не кажется ли тебе, Боба, — с насмешкой спросил Олег, — не кажется ли тебе, что ты здесь вообще какой-то необязательный? Шел бы ты, братец, в кино. Хочешь, я дам тебе трёшник?
Лутовкин покраснел, но сдержался.
— Нет, дорогой, — сказал он высокопарно, — плохо ты Бориса Андреича знаешь. Борис Андреич всегда в эпицентре событий. У него всё рассчитано на пять ходов вперёд.
— Хвастунишка, — проворковала Женя. — Ну и что ты скажешь о подруге моей? Хорош товар?
— Да ничего, — ответил Лутовкин. — Итальянистая.
— Боже мой! — изумилась Женя. — Вы все с ума посходили. Из Перкина она, ясно тебе? Из села Перкино.
— А вы сами, сударыня, — добродушно спросил Лутовкин, — извиняюсь, откеле будете?
— Без пяти минут москвичка, — с достоинством ответила Женя. — Из Красногорска.
— О! — Лутовкин встал и раскланялся. — Сударыня, я лишь однажды имел счастие посетить ваши края, и там мне морду распухли.
— Да, мальчики у нас крутые, — признала Женя.
— Не то слово, сударыня, не то слово!
— А, собственно, чего мы ждем? — зевнув и потянувшись, спросил Олег.
— Суверенитета, — внушительно ответил Лутовкин. — В пределах вверенной мне территории.
Он включил свет и пошел к окну задергивать шторы.
9
— А где холодильник? — спросила Аля, стоя посреди крохотной кухоньки и критически разглядывая обстановку: шаткий стол, явно дачного типа, ярко-красные полки и табуретки.
— Холодильника пока нет, — как бы извиняясь, ответил Сева.
— Так что же делать?
Сева медлил с ответом. Стол был девственно чист, на нем стояла одна лишь солонка, приготовлениями даже не пахло.
— Подождем хозяина, — предложила Аля и, тронув табуретку пальцем, села.
Отсюда из окна был лучше виден яблоневый сад, изломанный, истоптанный и захламленный, как душа пропащего человека.
— Курить здесь можно? — спросила Аля.
— Не знаю, наверно, — ответил Сева. — А вообще в этом доме никто не курит.
Аля пожала плечами. Из широкого кармана платья она достала сигареты, решительно опростала солонку, высыпав соль на стол. Сигареты у нее были германские, недешевой оказалась и дамская зажигалка, которую, закурив, она положила на видное место.
— В этом доме, — повторила она, выпуская дым из красивых ноздрей. — Вы здесь часто бываете?
— Да, частенько, — ответил Сева.
Аля посмотрела ему в глаза.
— А почему? — спросила она, стряхивая пепел в солонку.
— Как почему? — удивился Сева. — Дружим.
— Слово-то какое… С женой тоже дружите? — спросила Аля и наморщила нос, что, видимо, означало у нее усмешку.
— Тоже, — коротко ответил Сева и отвернулся к окну.
За окном громыхнуло, небо быстро темнело. Белые стены домов стали яркими и как будто бы вздулись, словно наполненные ветром паруса.
— Вы на меня за что-то сердитесь? — спросила Аля.
Сева не расслышал вопроса: весной он действительно глох.
С подарками Аля была не настолько уж щепетильна (скорее даже наоборот), но «навозный жук» попал в больное место. Дело в том, что Аля и в самом деле была из села Перкино, хотя и пыталась это скрывать. Не было лучшего способа уязвить ее, чем напомнить, что родом она из села Перкино. Красивое среднерусское это село, конечно же, ни в чем не было виновато, но москвичей название Перкино отчего-то смешило. Действительно, в сочетании с царственным именем Альбина Перкино звучало диковато. Альбина пробовала выдавать себя за ленинградку, но находились дотошные люди, знавшие Питер лучше, — и поневоле приходилось выкручиваться. Перкино цеплялось за нее, как репейник, и, куда бы Альбина ни попадала, везде непостижимым образом обнаруживалось, что родом она из села Перкино, а обратить это в достоинство, в предмет даже гордости («Да, я оттуда, да, я такая») у Альбины не хватало ума. Можно всё сказанное выше назвать пустяками, но это означает лишь, что нас терзают другие пустяки.
Попав в Москву, Альбина, естественно, сделала себя стопроцентной москвичкой и, как это часто бывает с провинциалками в столице, перестаралась. Ей всё казалось, что над выговором ее смеются, и она усвоила презрительные мяукающие модуляции столичных продавщиц. Боязнь оказаться простоватой в одежде заставляла ее искать вычурные «аксессуары», и сегодняшнее платье ее, к примеру, явно портил черный бант. Борясь со скованностью, Альбина приучила себя жестоко курить, напустила на себя злое высокомерие, и результаты не заставили себя ждать: за девочкой из села Перкино закрепилась репутация «оторви да брось». До поры до времени Альбина держала поклонников на отдалении, пока не нашелся один, назвавший себя экономистом: сытый взрослый мужчина, он угадал в Альбине задерганного волчонка, обласкал, захвалил, приручил. За все свои хлопоты экономист был щедро вознагражден — настолько, с его точки зрения, щедро, что несколько ополоумел, оставил семью, отпустил длинную бороду и, когда Альбина, уже уверовавшая в себя, дала ему полную отставку, принялся докучать ей, за что ребята из общежития однажды крепко его проучили. Экономист исчез, оставив у Альбины стойкую привычку к развлечениям: деньги у него водились, и поскольку круга людей, где он мог бы показаться с Альбиной, у него не было, он предпочитал проводить время в ресторанах, гостиницах и иных местах отчуждения. Теперь Альбина ни минуты не могла оставаться без радости: не курить — так балдеть, не балдеть — так целоваться, а если не было ни танцев, ни вина, ни поцелуев (бывало, что и сигарет), ей нужно было немедленно ехать куда-то, где имелось и то, и другое, и третье. Очень тянуло Альбину к «Меркурию», но там имелась своя длинноногая бригада, и туда её не пускали.
Видимо, это было у нее в крови: мать-портниха, наградившая дочку звучным именем, учила Альбину: «Живи, доченька, пока собой хороша, ни в чем себе не отказывай, старухой еще досыта успеешь набыться. Солидными мужиками не брезгуй, но и молодежи не сторонись, а то в чужих слюнях прокиснешь».
Вот так Альбина из села Перкино оказалась в гостях у старшего техника лаборатории оптической связи. То, что хозяин женат, подруга сообщила ей по дороге. Альбина нисколько не огорчилась: с женатыми было проще, от них в любую минуту можно было отделаться. Но так уж устроены женщины, что именно жена Лутовкина интересовала ее больше всего.
— А какая она из себя? — спросила Альбина.
— Кто? — На этот раз Сева расслышал.
— Хозяйка, кто же еще.
— Красивая, — ответил Сева.
— Ну и что? Я тоже красивая.
Сева повернулся, внимательно посмотрел на нее и ничего не сказал.
— Вот тебе и раз! — Альбина изобразила удивление. — Молодой человек, ваше молчание неприлично. В конце концов, у меня сегодня день рождения.
Она коротко засмеялась. Сева молчал. Он напряженно и подавленно думал.
— Ну, скажите хоть что-нибудь о моей внешности, — не унималась Альбина.
— У вас в лице, — неохотно проговорил Сева, — есть что-то неандертальское и вместе монгольское. Вы откуда родом?
— Отсюда, — не задумываясь, ответила Альбина. Она еще не догадывалась, что село Перкино уже явилось с нею в этот дом.
— Ну, значит, я ошибся, — сказал Сева.
— Нет, вы не ошиблись. Вы провидец? — быстро спросила Альбина и протянула ему руку ладонью вверх. — Погадайте.
Сева не шевельнулся. Ему не хотелось прикасаться к этой девушке. Она казалась ему похожей на ящерицу — верткую, жесткую, пусть даже и безобидную, но всё-таки лучше ее не трогать.
Подержав немного руку на весу, Альбина подперла ею подбородок. «Ну, погоди, — мстительно подумала она, — тебе это отольётся».
— Видите ли, — медленно начала она, — я действительно наполовину иностранка. Мой отец… если его можно назвать отцом… представитель одной крупной южнокорейской фирмы. Мама познакомилась с ним при очень странных обстоятельствах… она была еще совсем девчонкой. Я, собственно, и родилась в Сингапуре… правда, почти ничего не помню, всё было как сон…
Это была сказка, имевшая успех — особенно у юнцов. В ней кое-что не сходилось хронологически, но, чтобы это заметить, надо было вникать. Однако она сразу заметила, что Сева конфузливо опустил глаза.
— Вы мне, кажется, не верите? — спросила Альбина, очень задетая.
— Нет, отчего же… — пробормотал Сева, не глядя на нее, и уши его покраснели. — Всякое случается.
«Два ноль, — отметила про себя Альбина. — Счет растет, дорогой товарищ. Чем будете расплачиваться?»
— Смотрите, дождь, — сказал Сева. — Может быть, свет включить?
— Не надо, я так больше люблю.
— Ну что ж, посидим, как в деревне, — сказал Сева.
— Почему как в деревне? — спросила Альбина.
— Мы в городе не видим, как темнеет, — пояснил Сева. — Слишком рано включаем свет.
— А вы жили в деревне? — Альбина взялась за другую сигарету: иного развлечения не предвиделось, и ей оставалось непрерывно курить.
— Полтора года, — ответил Сева. — Учительствовал в северо-западных краях.
— Что ж так мало? — глазами Альбина изобразила интерес, хотя ей было скучно. — Не понравилось, значит?
— Скорее я не понравился, — Сева, похоже, освоился и перестал ёжиться. — Детишки задразнили, с коллегами не поладил. У них там в области свои порядки, феодальный край. Считали меня то ли тайным агентом, то ли ссыльным диссидентом.
— А как вас дразнили?
Сева засмеялся, покрутил головой. Альбина отметила, что смех у него хороший, только зубы, пожалуй, мелки и желтоваты.
— Глажы, — сказал наконец Сева.
— Что-что?
— Глажы, — повторил он, растроганно улыбаясь. По-видимому, это воспоминание доставляло ему удовольствие. — Это по-местному морошка.
— Морошка? — переспросила, морщась, Альбина. — Вы прямо как по-сингапурски разговариваете.
— Вы никогда не слышали о морошке? — оживился Сева. — Ну, это же замечательная ягода, на болотах растет. Румяная такая, а как поспеет — желтеет и светится.
— Уж прямо светится, — насмешливо сказала Альбина.
— Уверяю вас, как фонарик! Ужасно пристрастился я к этой морошке. Там озеро такое замшелое, берега зыблются, и от морошки желтым-желто. Целыми днями хожу и ем, как журавль. Совсем стал дикий… А первого сентября вхожу в класс — на доске написано глажы. Сначала я не обратил внимания, так они принялись везде писать это слово. И на столе, и на сиденье стула, и на портфеле моем, и даже у меня на спине. Заколебали, как теперь говорят.
— А что, оно неприличное?
— Да нет, обычное местное словечко. И очень точное… я бы сказал, даже красивое: их едят, а они глядят.
— Ну, ну, и что же дальше? — быстро спросила Альбина. Она усмотрела здесь намек на свое рязанское прошлое.
— А дальше — стал я потихоньку сходить с ума. Дошло до того, что в глаза ученикам смотреть не могу. А они всё это быстро улавливают. Сидят две девчушки за первой партой, смотрят на меня не мигая и шепчут: глажы, глажы…
— А вы?
— А я дергаюсь.
— Странно, — сказала Альбина и засмеялась. — Очень странно. Но теперь-то прошло?
— Уж если рассказываю — значит, прошло, — ответил Сева. — Другой, наверно, бзик появился: свято место пусто не бывает.
Тут тихо скрипнула дверь, и оба они обернулись. Вспыхнул яркий свет.
— Сумерничаете? — спросил Лутовкин. Он стоял в дверях с суровым оскорбленным лицом. — Сева, а тебя к телефону.
— Кто? — удивился Сева и встал. — Кому я понадобился?
Лутовкин пожал плечами.
10
Когда Сева вышел, Лутовкин тут же подсел к столу и сделал первый заход.
— Три юных пажа покидали, — пропел он вкрадчивым голосом, — навеки свой берег родной, они так ужасно рыдали, стоял оглушительный вой…
Аля потушила вторую сигарету. Держа третью в руке, она внимательно и сосредоточенно слушала Лутовкина.
— Люблю белокурыя косы, — грассируя под Вертинского, пел Лутовкин, — так первый, рыдая, сказал, но я не хочу, чтоб вопросы мне каждый дурак задавал… Аленька, это вы мне испохабили солонку? Отчаянный вы человек. Или ссор не боитесь?
Усмехнувшись, Аля закурила и, вскинув голову, выпустила дым из ноздрей. С этим всё было понятно, с этим она знала, как себя вести.
— А-лень-ка! — ласково продолжал Лутовкин. — Вся така маленька… Я вас буду Аленькой звать, не возражаете?
— Слащавых мужиков не терплю, — сказала Аля.
Лутовкин был несколько обескуражен, но не терял бодрости духа. Он отступил и перегруппировал ряды.
— Второй повторял беспрерывно: я чёрныя косы люблю, смотреть на блондинок противно, за что и муки терплю…
— Жена ваша блондинка? — спросила Аля.
Лутовкин остановился.
— При чем тут жена? — с горечью сказал он. — Ну, при чем тут жена? Я вам такие песни пою, а вы сквернословите…
— Жене своей и пойте, — насмешливо сказала Аля.
— А для жены у меня другие песни, — не сдавался Лутовкин. — И попрошу не лезть со своим маникюром в мои семейные дела.
— Ну, ладно, ладно, — Аля протянула руку и потрепала Лутовкина по голове — снисходительно, как мать великовозрастного баловня-сына. — Ладно, разошелся. За стол скоро сядем?
Лутовкин хотел что-то сказать, но обернулся и увидел стоящего в дверях Севу.
— Да, незадача, — озабоченно проговорил Сева.
— А что такое? — с живостью спросил Лутовкин.
— Да братец мой ключи куда-то подевал, войти не может, из автомата звонил. А мама заснула, наверно. Схожу, посмотрю.
— Надо же! — вздохнул Лутовкин. — Это ж надо!
— Так что вот, — сказал Сева, обращаясь к Альбине. — Прошу меня извинить.
— Жалко, — ответила она. — Только разговорились.
— Нет-нет, — поспешно возразил Сева, — я не прощаюсь. Сбегаю и вернусь. Здесь рядом. Я даже плащ не возьму.
— Давай, — откликнулся Лутовкин. — Непременно. Одна нога здесь, другая уже там.
Когда хлопнула входная дверь, Лутовкин медленно повернулся к Але.
— Что это вы меня так… просвечиваете? — спросил он после паузы. — Аж знобит.
— Рубашка у вас красивая, — сказала Аля, морща нос.
Лутовкин был польщен.
— М-да? — сказал он, просияв, и потрогал кармашки. — Может быть, на ты перейдем… по такому случаю?
— Давай перейдем, — согласилась Аля. — Он что, действительно доцент, твой приятель?
— Нет, — недовольно ответил Лутовкин. — А какое это имеет значение… скажем, для нас с тобой?
— Ну, как же, — сказала Аля. — Никому не расскажешь, что у тебя знакомый доцент: пальцами будут показывать. Вот, скажут, путается со всякой швалью.
Лутовкин насупился.
— Между прочим, этот человек здесь случайно, — промолвил он. — И, по-видимому, не вернется.
— Вернется, — морща нос, ответила Аля.
Тут в кухню осторожно заглянули Олег и Женя.
— Стало как будто просторнее, — жизнерадостно сказал Олег, — или мне показалось?
— Все свои, — с гордостью ответил Лутовкин. — Без возвращенцев.
— Как же это тебе удалось?
— Братишка у него смышленый, — охотно пояснил Лутовкин. — Теперь не выпустит. Но, говорит, если вы мне его подпоили, приду кости ломать.
— Он такой, — подтвердил Олег. — Я его руку знаю.
— А что мы, собственно, теснимся в подсобном помещении? — проговорил Лутовкин и встал. — Пожалуйте к столу.
11
В большой комнате уютно горел торшер, шторы были плотно задернуты, на столе, кроме багульника, коньяка и «Сахры», расставлены были тарелки с бутербродами и вскрытыми консервными банками. Имелся даже аккуратно нарезанный вареный язык.
— Как много всего! — пропела Женя. — И откуда берётся?
— Однако приборчиков пять, — сказал Олег.
— Камуфляж, камуфляж, — радостно ответил Лутовкин. — Видимость плюрализма.
Расселись: Борис и Аля справа, Олег и Женя слева.
— И плащик оставил, — заметил Олег, оглянувшись. — А может, все-таки подождать?
— Исключено, — заверил Лутовкин. — Хотя…
Он трагически посмотрел на Алю.
— Хотя высказывались и другие мнения.
Запрокинув голову, Аля захохотала. У нее были прекрасные зубы.
— Что с тобой, радость моя? — спросила Женя.
— Ничего, сейчас пройдет, — сказал Олег. — Это у нее от плюрализма.
Однако Аля продолжала смеяться.
— Аленька, — капризно проговорил Лутовкин, — может, поделишься с нами? Вместе и посмеемся.
— Глажы, — сказала Аля сквозь смех.
— Не понял. — Лутовкин самолюбиво поджал губы.
— У тебя желтые бесстыжие глажы, — смеясь, пояснила Аля.
— Тем более не понимаю. — Лутовкин обиделся. — Я же не обсуждаю твои дефекты…
— А у меня их нет, — сказала Аля.
— Девушка, ты распоясалась, — строго заметила Женя. — Тебя, оказывается, в приличный дом нельзя привести.
Олег постучал вилкой о бутылку, требуя тишины. Тишина воцарилась.
— Ну, что ж, друзья и примкнувшие к ним подруги, — сказал Олег значительным голосом. — Мы долго ждали этой минуты и наконец дождались. Но радоваться я не вижу причины: от нас ушел последний, можно сказать, хороший человек…
— Да будет пухом земля… — перебил его Лутовкин.
— Я не туда хотел, — недовольно сказал Олег.
— А я туда! — вскричал Лутовкин. — Да будет пухом земля под его нетвердыми шагами! Выпьем за наивных людей.
— Все мы были когда-то наивными… — сказала Женя и с удовольствием выпила «Сахры». — Люблю сладкие вина, — добавила она, облизывая губы.
— Да и сейчас временами, — Лутовкин посмотрел на Алю со значением, — как идиоты, верим во что-то хорошее; ждем чего-то, надеемся: вдруг обломится…
Аля снова захохотала.
И в эту минуту зашипел дверной звонок.
— Обломилось, — язвительно проговорила Женя.
— Главное для здоровья что? — сказал Олег и предусмотрительно выпил. — Главное — не прерывать акта.
Лутовкин сидел вполоборота к двери и терзал свою бороду пальцами.
Тишина, снова звонок.
— Боря, не открывай, — сказала Женя. — У нас инвентаризация.
— Ну, нет, — возразил Олег. — Мы так не можем. Как не открыть властям, ты что? Верно, Бабурин?
— Ай, помолчите, — грубо сказал Лутовкин.
Он напряженно прислушивался.
— Нет, вроде бы пронесло.
Но тут снова зажужжал зуммер, и лицо Лутовкина исказилось.
— С-сучий настырник, — сказал он, встал и вышел в прихожую.
— Может, хозяйка? — предположила Аля и наморщила нос. — Как ее, кстати, зовут?
— Кстати Надежда, — сказал Олег. — Нет, у Надежды особый звонок, я знаю. Вот так: тилинь-дилинь, тилинь-дилинь…
— Ты что раззвонился? — одернула его Женя. — Вон… — она кивнула на Алю, — из-за нее всё. Сидит и радуется.
— Я радуюсь, а ты злишься, — весело ответила Аля. — Каждому своё.
Олег между тем неторопливо ел.
— Женечка, — сказал он жуя, — надо уметь перестраиваться. На твоих глазах создается новое соотношение сил…
12
Сева ворвался в комнату запыхавшийся, возбужденный. Пиджак его дымился от сырости. На сей раз он не разулся при входе, но брюки его и ботинки были достаточно чисты.
— Черт, ну и дождь пролился! — сказал он. — Прямо как летом.
— Садись, дорогой, — дожевывая, пробормотал Олег. — Заждались, честное слово.
Сева хотел усесться на свободное место во главе стола, но разъяренный Лутовкин схватил его за рукав.
— Не сюда! — рявкнул он. — Протокола не знаешь?
Он усадил Севу рядом с Альбиной, демонстративно сдвинул их стулья, поставил Севе чистый прибор. Перекинув через руку полотенце, а другую руку заведя за спину, налил ему вина. Щелкнул каблуками, согнулся в поклоне.
— Что еще прикажете? — склонив голову к плечу, прошипел он. — Язычок свеженький рекомендую-с. Только что вырвали из пасти скота.
— Да будет тебе, угомонись, — сказал Сева и отвернулся, как будто от Лутовкина плохо пахло.
— Слушаю-с. — Лутовкин, пятясь, отошел.
— Ну, какие новости принесли? — спросила Севу Альбина.
— У подъезда дерутся, — ответил Сева, старательно подбирая себе закуску. — Но без ножей.
— Славно-то как! — посмеиваясь, сказала Альбина.
— Есть предложение возобновить тост, — сказал Олег, когда Лутовкин уселся на председательское место. — Пьем за наивных людей. Ибо это они делают мир…
— Таким продувным, — заключил Лутовкин.
Он выпил, никого не дожидаясь, и мрачно потянулся за сайрой.
— Ну, нет, — возразил Сева. — Быть может, я чего-то не понимаю, но мы справляем день рождения. Предлагаю тост за девушек апреля, за их весеннее счастье.
— Как будто счастье может быть зимнее, — сварливо сказала Женя. — Счастье — это счастье.
— А что такое счастье, радость моя? — поинтересовался Олег. — Извини за лимитский вопрос.
— От лимиты слышу, — не задумываясь, ответила Женя. — Мы и про счастье могём. Счастье — это когда у тебя есть всё, что есть у других. И когда ты можешь делать всё, что позволяют себе другие.
— Интересно, — пробурчал Лутовкин, копаясь вилкой в консервной банке, — интересно, что позволяют себе в данный момент дети Рокфеллера.
— При чем тут дети Рокфеллера? — вскинулась Женя.
— А при том, — отвечал Лутовкин, — что с такой программой не видать тебе счастья, как своих ушей.
— Ответ не засчитан, — резюмировал Олег. — Передаю микрофон имениннице.
— Что за детские игры, — сказала Альбина. — Ты на своей барже массовиком, наверно, работаешь?
— Бывает, что и клоуном, — беззлобно ответил Олег. — Что делать, если пассажиры сидят, как проглоченные. Так будешь отвечать или нет?
— Пожалуйста, — сказала Альбина. — Нудить так нудить. Счастье — это когда у тебя есть то, чего нет у других. И когда ты можешь позволить себе то, чего не могут другие.
— Между прочим, — проговорил Лутовкин, — у нас по району гуляет маньяк. Отлавливает девиц и убивает их шилом. Может себе позволить.
— Глупо, — сказала Альбина и пренебрежительно дернула плечом.
— Ответ не засчитывается, — заключил Олег. — Что скажут доценты?
— У каждого человека есть то, чего нет у других, — помедлив, сказал Сева. — Только не все умеют это ценить, оттого и несчастны.
— Ну, правильно, — отозвался Лутовкин. — Люби, что имеешь, и нечего возникать. Так говорят враги перестройки.
Глядя прямо перед собой, он доставал из банки ломтики сайры и один за другим механически клал их в рот. Борода его, обыкновенно приглаженная, сейчас топорщилась во все стороны. Лутовкин страдал от внутреннего разлада: хмель побуждал его дурачиться и чудить, а ситуация — хранить угрюмое спокойствие.
— Проще надо жить, господа, — сказал Олег. — Что это вас всех зациклило: другие, другие… В этом деле никаких других нет. Счастье — это когда человек молод, здоров, богат и свободен.
— И еще при этом умен, — заметила Альбина.
— А вот это уже личный выпад, — возразил Олег. — Попрошу оградить мою честь.
— Что-то у меня голова разболелась, — сказал вдруг Лутовкин, и это было очень похоже на правду. — Пойду полежу.
И, не дожидаясь протестов, поднялся из-за стола.
— Ну, братец, это не дело, — недовольно сказал Олег. — У тебя в доме твоих друзей поливают. Хозяин ты или не хозяин?
— Да все же свои, — вяло ответил Лутовкин. — Делайте, что хотите.
И, по-стариковски шаркая ногами, он вышел в смежную комнату. Там, кряхтя, сел на кровать, разулся и, высоко задрав ноги в желтых носках, завалился на подушки.
— Ладно, мы не гордые, — сказал после паузы Олег. — Будем голые на столе танцевать. Верно, девчата?
— Я еще не наелась, — капризно проговорила Женя.
— Лопай, кто тебе мешает.
Олег встал, прошел в спальню, о чем-то спросил хозяина. «Бу-бу-бу», — отвечал Лутовкин. Вернувшись с магнитофоном «Тоника» и коробкой кассет, Олег сел на пол за диваном и принялся налаживать музыку.
— Что-нибудь старомодненькое, — бормотал он. — Я человек степенный, не люблю скакать без нужды.
Грянула музыка. Это была запись аргентинской пластинки «Танго, сделавшие эпоху». Сама пластинка у Лутовкина тоже имелась, он ее очень берег и держал в запаянном пластиковом конверте.
— Ну, пошли? — сказала Альбина, повернувшись к Севе и жеманно выпуская дым.
Сева покорно поднялся. Оставив сигарету на своей тарелке, Альбина встала и положила обе руки Севе на плечи.
— Сними очки, — приказала она.
Сева помедлил, но очки все-таки снял и аккуратно положил на комод. Женя, подняв голову и по-свекровьи поджав губы, смотрела на них из-за стола.
Танцором Сева был неважнецким — чего, впрочем, и следовало ожидать. Нелепо притопывая правой ногой, левую он волочил по полу, как если бы она у него была деревянная или не сгибалась в колене. Но Альбина чувственно и обещающе улыбалась, словно это сутолочное движение будило в ней самую тайную женскую суть. Еще она гладила Севу по лацканам пиджака, склоняла голову к его плечу (глаза ее при этом были холодны, как лампы дневного света) и время от времени стискивала его ногу своими узкими бедрами — то есть проделывала всё то, что, по ее понятиям, полагалось. Однако Сева смотрел в сторону, вроде бы даже не замечая ее стараний.
Наконец Альбине это наскучило.
— Ну, и чего ты приперся? — спросила она.
— Простите, не понял вопроса, — Сева, мучительно щурясь, повернул к ней лицо.
— Ты вернулся, чтобы молчать?
— А что я должен говорить?
— Брось прикидываться дурачком, — сердито сказала Альбина. — Ну, например, какие у меня дивные глаза, несравненные волосы, губы.
— Но без очков я ничего этого не вижу.
— Все равно, так положено. Иначе у нас с тобой ничего не получится.
— А что, собственно, должно получиться? — спросил Сева.
— Очень даже многое, — игриво сказала Альбина.
Сева промолчал. Он смотрел в сторону спальни. В открытую дверь видно было, как ноги Лутовкина в желтых носках (одна закинута на другую) подергиваются в ритме танца.
— За дружка переживаешь? — прищурясь, спросила Альбина. — Слушай, а может, ты голубой?
Но и эта колкость, действующая, как правило, безотказно, Севу, похоже, не уязвила.
— Ну, зачем же, — коротко ответил он.
Тогда Альбина решила подступиться с другого конца.
— Нет, не голубой, я чувствую, — ласково проговорила она и потерлась щекою о его плечо. — Серенький.
— Как вы сказали? — удивился Сева.
— Я сказала: серенький. Некрасивый, невидный, тихий… Серенький.
Сева принужденно засмеялся.
— Убийственная характеристика. Впрочем, в этом что-то есть.
— Конечно, есть, — сказала Альбина. — Серенький и кисленький. Я таких люблю.
Сева остановился. Без очков глаза у него были старые, с темными морщинистыми веками, и смотрели они так, будто ему было больно. Неожиданно он с досадой сказал:
— Зачем вы всё время говорите дрянные слова?
Этот вопрос застиг Альбину врасплох. Краснеть она не умела, такое у нее было свойство кожи. В тех случаях, когда другие краснеют, у нее лишь светлели глаза.
Мгновенно она прикинула варианты: вспылить? удивиться? обратить в шутку? Остановилась на снисходительной укоризне.
— С тобой по-хорошему, — сказала она, — а у тебя завышенные претензии. Проще надо жить, правильно Олег говорит.
— Проще не хочу, — ответил Сева. — Этак можно вовсе дойти до мычания.
— А ты хоть раз доходил?
Как ни старалась Альбина напустить на себя ласковую укоризну, раздражение прорвалось; она не могла простить Севе ни глупого подарка его, ни своей неудавшейся сказки. Ей нужно было с ним расквитаться, но как? К удивлению своему, она обнаружила, что этого навозника очень трудно достать. Оставалось лишь подавить в себе жажду мщения — и ждать, терпеливо и осторожно ждать.
13
Лутовкин был незлобив и отходчив. Сейчас обида его совершенно прошла, на душе полегчало. Он лежал, рассеянно смотрел в потолок и тихонько насвистывал мелодию «Танго моего квартала». При этом обдумывая, как бы позабавнее обставить свое возвращение в люди. В конце концов, что произошло? А ничего не произошло. Друзья собрались у него в доме, веселятся, танцуют, поочередно расходятся по укромным углам… как говорится, совет да любовь. Может быть, вскочить, гикнуть и выкатиться из спальни колесом? То-то будет потеха. И — всеобщая радость: «Милый Боря, ты снова наш!»
Нет, выкатываться колесом, пожалуй, не стоило. Опытный комик, Лутовкин представлял себе паузу, которая неизбежно наступит после бурного ликования: ну, вернулся Карлсон, и что? Нужно что-то объяснять, мотивировать, рассеивать подозрения, что веселье у него напускное… а тогда оно как раз и становится напускным. Нет, потеха должна быть принципиально иной, ни в коем случае не капитулянтской.
Лутовкин тихо встал, на цыпочках прошел через другую дверь на кухню. Обе пары танцевали, никто не заметил его передвижений. С кухни Лутовкин принес остаток красной краски, из ванной старую простыню. Ухмыляясь себе в бороду, обильно окропил простыню красным, спрятал краску под кровать, накинул на себя ужасную ткань и, запрокинув голову, лег. Какое-то время он издавал горловые хрипы, но потом это ему надоело. Ничего, сами явятся, решил он и притих.
Минут через десять в спальню заглянула Женя. При неярком свете бра она не сразу разглядела тело Лутовкина. Потом ойкнула и схватилась рукой за косяк.
— Олег, — сказала она громким шепотом. — Да Олег же!
Лутовкин ожидал душераздирающего крика, но расчет его оказался неточным. Насмерть перепуганная Женя вовсе не намерена была поднимать шум.
— Олег, ты где?
В туалете забурлила вода. Женя шмыгнула на кухню и что-то громко зашептала. Сколько Лутовкин ни прислушивался, он не мог разобрать ни слова.
— Да ты что? — забубнил Олег. — Да почему домой? Что за спешка?
Сквозь приспущенные ресницы Лутовкин видел, как Олег пытается протиснуться в спальню, а Женя его не пускает. Наконец Олег прорвался, решительно подошел к телу друга, постоял над ним, принюхался и сказал:
— Да, отмучился, страдалец.
И, наклонившись, крепко схватил Лутовкина за бороду.
Лутовкин взревел и вскочил, как подброшенный. Больно было до слёз.
— Паразит! — заорал он. — Стерлядь! Пусти! Убью!
— Живой, — констатировал Олег и разжал пальцы. — Да я ж ничего такого и не хотел… так, прядь волос для медальона…
— Сволочь этакая, — брюзжал Лутовкин, ощупывая свою поруганную бороду. — Половину выдрал, гад!..
— Ха-ха-ха! — серебристо засмеялась Женя.
Лутовкин повернул к ней перекошенное лицо.
— Ну, ты! — рявкнул он. — Дар Валдая забацанный!
Он бушевал бы еще долго, но друзья подсели к нему с двух сторон, уговорили, утешили, как могли. Женя принесла зеркальце и сама расчесала Лутовкину бороду, только тогда он успокоился.
А в общей комнате рыдал аккордеон Анибаля Тройло. Лутовкин гордился тем, что во всей Москве едва ли наберется десяток людей, слышавших это имя.
— Танцуют? — спросил он, кивнув на дверь.
— Нет, на диване сидят, — ответил Олег, — беседуют.
— Эта своего не упустит, — сказала Женя.
Лутовкин взглянул на нее, хотел что-то спросить, но не стал. Он всё ещё сердился на Женю: сорвала такую потеху!..
Однако та же мысль, видимо, пришла в голову и Олегу.
— Не упустит? — с сомнением переспросил он. — Вот уж не предполагал, что в женском мире на Савосю повышенный спрос.
— Ну как же, — сказала Женя. — Такого помучить — одно удовольствие. Альбина свежатинку любит. Чтоб мясо — так с кровью.
— Ты же ее сама сюда привела, — резонно заметил Лутовкин.
— Сама! — возмутилась Женя. — Да ей только свистни, среди ночи, задрав хвост, куда угодно помчится.
— Так не свистела бы!
— А откуда мне было знать, что вы тут мальчика припасли?
— Ну, я на это дело смотрю широко, — солидно сказал Олег. — Все мы, как говорится, не херувимы. И не вижу ничего страшного, если ребята какое-то время попользуются друг другом, расширят, так сказать, кругозор. Колоду надо чаще тасовать. Вон бразильцы — какой красивый народ! А отчего? Да оттого, что хорошо перетасовались.
— Иди ты со своими бразильцами, — сердито сказала Женя. — Сам ты бразильский индюк. Я дело говорю, а он ерунду какую-то бормочет…
— Я, сестричка моя, о друге забочусь, — внушительно возразил Олег. — Тебе, глупой женщине, этого не понять.
— О друге, — передразнила Женя. — Считай, что скисла ваша дружба. Пузырями пошла.
Олег нахмурился.
— Это еще почему?
— А ты подумай, — злорадно сказала Женя.
Наступило молчание. Олег думал, а Лутовкин смотрел, как он думает. Лутовкину, как ни странно, стало обидно за свою Надежду: эх, Сева, Сева, на кого променял! На первую попавшуюся дешевку. Друг семьи называется… Лутовкин попытался представить, как Сева является к ним в гости с Альбиной и они садятся расписывать «кинга» вчетвером. Нет, это было решительно невозможно.
— О господи! — Женя вздохнула. — И до чего ж эти мужики тупоумные! Знаете, что она сейчас делает? Она ему рассказывает всю правду про вас.
Лутовкин встрепенулся:
— А что она ему может рассказать?
Женя хихикнула.
— Ангелочек, пупсик! Известное дело, что. То, чего ты больше всего на свете боишься.
— Да ничего я не боюсь, — с досадой сказал Лутовкин и откинулся на подушки. Однако нос его беспокойно заострился.
— Нелепое лепишь, — задумчиво проговорил Олег. — Зачем это ей?
— А затем, — торжествующе ответила Женя. — Такая наша бабская технология. Если хочешь голову мужику заморочить, то сперва надо отсечь от него окружение. Чтоб никто уже больше на него не влиял. Вот ты, например, Олег Батькович. Для Савоси ты уже не товарищ. Почему? Потому что заманил бедную девушку в семейный бордель. И Боре, хоть он и храбрый у нас портняжка, тоже выпадает черный марьяж. Альбина сама подскажет: а хорошо бы раскрыть Наденьке глаза. Может, даже с квартиркой вот с этой придется расстаться. В Медведково на подселение наш Боря поедет, а Наденька — на Рязанский проспект.
Лутовкин дрыгнул в воздухе закинутой на колено ногой, хотел было что-то сказать, но вместо этого лишь присвистнул.
— Так-так, — заинтересованно сказал Олег, — любопытная беллетристика. Ну, а дальше?
— Дальше Севочка ваш ненаглядный достанется ей в очищенном виде, — ликуя, продолжала Женя. — Она его, конечно, помусолит и выкинет, и лет через пять вы все трое встретитесь где-нибудь возле пивной, облезлые, как дворняги. Подобный случай был в Тамбове.
— Во, прогнозистка! — восхищенно сказал Олег. — Да ведь для этого ей как минимум надо на себя наклепать. Признать, что сама она — разъездная лярва.
— Нашел чем напугать, — пренебрежительно сказала Женя. — «Три мушкетера» читал? Помнишь, что леди Винтер с этим лютеранином сделала?
— С пуританином, — буркнул Лутовкин.
— Вот-вот, — сказала Женя, — с таким же теплым, как ваш Савося. Любая женщина, если хотите знать, всегда мужика сделает виноватым…
В спальне воцарилась кромешная тишина.
— Вот что они с нами делают, — промолвил после долгого молчания Олег, — а мы потом только руками разводим.
— Да выставить ее, — гневно дыша, сказал Лутовкин, — выставить ее к чертовой матери!
— Так приступай, — тут же отозвался Олег. — Что ты валяешься, как полено?
— Ну, во-первых, — помедлив, сказал Лутовкин, — не я ее выдумал, а во-вторых, мне не с руки, все-таки я тут хозяин…
— Намек ваш понят, — сказал Олег. — Черную работу делает красный.
И не двинулся с места.
Выждав минуту, Лутовкин повернулся лицом к стене.
— Ладно, чего там, — глухо проговорил он, — пусть будет как будет. Мы все тут люди собрались закаленные, где сядешь на нас — там и слезешь. Парня хорошего жалко, конечно… пропадет ни за грош, он у нас безотказный.
И прозвучало это до того убедительно, что в тот же миг он сам проникся состраданием к другу, хорошему парню.
— Правда, Олег, — поддакнула Женя, тоже проникшись, — надо что-то делать…
— Ну, если вы так считаете… — сказал Олег и решительно встал. — Нет ничего проще.
— Что ты намерен? — встревожившись, обернулся Лутовкин. — Предупреждаю: только без драки.
— С кем? — Олег ухмыльнулся. — Я просто проведу оздоровительную беседу.
И он вышел в гостиную.
— Эй, молодые! — раздался его зычный голос.
Музыка смолкла.
— Пригрелись, ясные. Пора и совесть знать. Ты, Себастьян, сходи пока в туалет, а мы с Алевтиной пойдем в кулуары.
— Во идиот! Что он делает? — яростно зашептала Женя. — Кого он ведет? Разве с ней договоришься?
Она привстала, но было уже поздно: Олег втащил за руку Алю.
— Ну? — спросила Аля, высвободив руку и прислонившись спиной к стене. — Что за обращение? Что вы тут затаились? Предупреждаю, я буду кричать.
Смугловатое личико ее было исполнено негодования, однако ноздри по-дикарски опасливо трепетали: что-то ее встревожило.
— Послушай, Анастасия… — начал Олег, прикрыв дверь в гостиную.
— Меня зовут Альбина, — отрезала Аля.
— Вот даже как… — Олег откашлялся и посмотрел на Лутовкина, но тот лежал на подушках, заложив руки за голову, и отсутствующим взглядом смотрел в потолок. — Гм… да. Ну, ладно. Всё это забавно, конечно, и веселимся мы со страшной силой, но ты Себастьяну голову не морочь. Не по Сеньке шапка.
Аля взглянула на подругу, смиренно сидевшую в ногах у Лутовкина, и усмехнулась длинной тонкой усмешкой.
— Шапка… — повторила она. — Боже мой, в какой дурдом я попала.
— Тебя что, за шиворот сюда волокли? — скорбно спросила Женя. — Сама притащилась.
— Сама, — подтвердила Аля, потирая запястье руки, за которую ее схватил Олег.
— Так что же ты, — понизив голос, спросил Олег, — что же ты с дураками связалась?
— А скучно было.
— Теперь не скучно?
— Спасибо, ничего.
— Ну, веселись, — сказал Олег и отошел от двери. — Но смотри: я предупредил.
Дернув плечом, Аля взялась за дверную ручку. Тут словно красная шаровая молния вспыхнула в голове у Лутовкина: дикая мысль «Врёшь, не выйдешь!» ослепила его, и, ничего более не соображая, он вскочил на ноги, перешагнул через спинку кровати, обеими руками схватил Алю за шею и вместе с нею рухнул на пол у шкафа прямо к Олеговым ногам. Всё это было настолько неожиданно, что Олег и Женя оцепенели от изумления. Они глядели на них сверху, даже не пытаясь помешать, с одинаковыми болезненно-зачарованными лицами, как будто наблюдали сладострастную сцену. Должно быть, хватка Лутовкина стала крепчать, потому что Аля начала спихивать его с себя, упираясь коленями и руками. Мучительная гримаса на ее лице показалась Лутовкину презрительной, упорное сопротивление не приспособленного для борьбы, мягкого и зыбкого женского тела вызвало новую вспышку ярости. Взгляд его упал на запиханную под шкаф кровавую ткань, и, освободив одну руку, он вытянул край простыни и стал накидывать ее на Алино улыбающееся (как ему казалось) лицо, а она царапалась и отбивалась, причем оба не произносили ни звука, только бурно всхлипывали. Но тут Аля наконец увидела красные пятна на простыне, забилась, задергалась и, отворотив от Лутовкина лицо, хриплым голосом позвала:
— Сева! Себастьян! Или как тебя там?
— Эй, счумились вы, что ли? — сказал Олег и, наклонившись, взял своими ручищами Лутовкина за плечи, с трудом оторвал его от Альбины и через спинку кровати швырнул в дальний угол. — Здесь вам не тропики.
Аля медленно поднялась, повертела головой, склоняя ее то к одному, то к другому плечу, потрогала пальцами шею.
— Мать твою так, — без всякого выражения сказала она, — вот это, я понимаю, тусовка.
— Ну все, ну все, — миролюбиво проговорила Женя, ногою запихивая простыню обратно под шкаф. — Размялись — и хватит.
— И куда же ты трупы складываешь? — глядя сверху вниз на Лутовкина, весело и зло спросила Альбина. — В шифоньер?
Лутовкин молчал. Привалившись к подушкам, он судорожно обшаривал руками свое иссаднённое лицо. Только теперь, когда кровавое возбуждение схлынуло, он осознал происшедшее — и его зазнобило от страха. «Глупый пингвин робко прячет…» Как нашептали.
— А что, ребята, — сказала Аля, — мне с вами нравится. Будем дружить.
14
Сева сидел у магнитофона в наушниках. На стук двери он обернулся, щелкнул тумблером. Альбина подошла к столу, налила рюмку «Сахры», с жадностью выпила.
— Что глядишь? — спросила она. — Нарочно уши заткнул?
Сидя на корточках, Сева снял наушники, вымученно улыбнулся.
— Что им от вас было нужно?
— Та, — Альбина махнула рукой. — Долго объяснять. То тебя никак выпроводить не могли, теперь я им, видите ли, мешаю.
Сева поднялся, поспешно снял очки, принялся протирать их носовым платком. Альбина насмешливо на него смотрела. На шее у нее синели следы от пальцев Лутовкина.
— А ты и не знал, дурачок? — спросила она.
— Нет, почему же, — Сева отвечал, не поднимая глаз.
Ну, разумеется, он знал, друзья переоценивали его наивность. Здесь обратная связь: полагая кого-нибудь глупцом, сам глупеешь, оттого что становишься на путь упрощения. Впрочем, если уж быть честным, надо признать, что к догадке его привело странное поведение старшего братца. Брат стоял в дверях и бубнил, как заведенный: «Не надо тебе туда ходить, и не ходи, и не надо, там без тебя обойдутся». Сдвинуть его с места Сева так и не смог бы, если бы не мама. Мудрый человек, мама на секунду отвлеклась от телевизора, чтобы бросить через плечо: «Пусти его, он должен сам убедиться». И всё, больше она ничего не сказала. Понимающему — достаточно. Выскочив на улицу, Сева долго стоял под дождем; не понимал он, не понимал, хоть убей, как это возможно. Он любил этот маленький чистенький дом, островок безопасности среди жизни, которой он не понимал и боялся. Даже под своей крышей он не чувствовал себя спокойно, ощущая ревнивый болезненный непорядок. Только здесь, у Надежды, он отдыхал душой — и вот пришла пора платить за эту невинную радость. Он возвращался с отвращением и стыдом, помня одно: надо уберечь хотя бы Надежду. Вид жующей и пьющей компании его ужаснул: с них со всех была как будто содрана кожа. И при этом они беспрерывно болтали и смеялись… Это был сочный клубок поганой хохочущей плоти, это было змеилище кишечнополостных, которые, копошась, заглатывают хохмы и тут же извергают их обратно. Всё острят, извиваясь, всё хохмят, содрогаясь, кривясь, отводя друг от друга глаза, видящие, знающие мерзкую тайну… и никто им не скажет оттуда, с небес: «Ребята, да что же вы делаете со своей последней жизнью? Друг перед другом не стыдно — побойтесь хотя бы меня!»
Сева надел очки и взглянул на Альбину. Она смотрела на него пристально и испытующе. Незажженная сигарета прыгала у нее в губах.
— Слушай, ты не вздумай сбежать, — проговорила она наконец. — Ты еще провожать меня будешь, на такси, понял?
Слова ее прозвучали как-то невнятно: наверно, сигарета мешала ей говорить.
— У меня, кажется, денег при себе нет, — с трудом ответил Сева.
«Господи, покажи мне всю мерзость этой женщины, — молил кто-то в читанной им старой книге. — Открой мне всю грязь ее тела, все нечистоты в ушах ее и носу…» Сева не имел права обращаться к Всевышнему с такой просьбой: он всё это видел, как будто она стояла перед ним нагая и лишенная кожного покрова, и ему было стыдно и страшно. Страшно еще и оттого, что это сочащееся мелкой кровью чудище говорило красивым, почти человеческим голосом и глядело красивыми, почти человеческими глазами. Глаза эти, светлые и бессовестные, чего-то просили. Но не мог же он отвечать за все на свете вытоптанные сады, за все освежеванные человеческие души… Альбина закурила.
— О таких пустяках, — сказала она, выдыхая дым, — о таких пустяках, пока я жива, ты можешь не беспокоиться. Знаешь, у меня такое чувство…
Сева содрогнулся от омерзения, предчувствуя уже, что услышит непоправимые, гибельные для себя слова, но Альбина этого не заметила.
— У меня такое чувство, что я не зря тебя встретила. Ты мой хранитель, понял? Теперь ты мой хранитель, и ты будешь любить меня и беречь. Всё остальное не твоя забота…
Она хотела еще что-то сказать, но в это время раздался новый звонок, непохожий на все остальные. Это был хрустальный, чистый звонок, бесхитростный, как детское счастье.
— Кого это там? — удивилась Альбина. — Вроде все наши дома…
Она посмотрела на Севу — и умолкла. Лицо его было обезображено такой радостью, что на него было неловко смотреть. От уха до уха и даже по стеклам его очков блуждала мучительная улыбка. Руки, в которых Сева комкал платок, мелко дрожали.
— Ах, — сказала Альбина и засмеялась сухим и колючим смехом, шуршащим, как толченое стекло. — Ах, вот оно что, а я-то, халда… Молодец, отдежурил. Сменщики у тебя есть?
Сева ничего не ответил. Голова у него кружилась, как будто он хлебнул чистого кислорода.
Бодрый, энергичный, обутый, из спальни выскочил Лутовкин. Царапины на его лице были довольно прилично припудрены, и оттого оно припухло и вроде бы даже помолодело. Следом за ним чинно, рука об руку появились Олег и Женя.
— Так-так-так, хорошо. — Лутовкин окинул взглядом стол. — Грязные тарелки — убрать! Шестой прибор поставить! Три пары, три пары, три пары! Всё, как в лучших домах Минусинска.
Альбина и Олег сели за стол. Альбина тронула себя за шею — в том месте, где темнели синяки, выразительно взглянула на Олега, тот юмористически пожал плечами: да вроде бы так, ничего особенного. Лутовкин, виновато улыбаясь, протянул Але пудреницу. Церемонным кивком Аля поблагодарила его, раскрыла пудреницу и принялась приводить себя в порядок. Женя с отрешенным видом начала собирать посуду. Сева стоял в стороне и изо всех сил пытался справиться со своим бессмысленно улыбающимся лицом.
Новый звонок.
— Предупреждает! — сияя, пояснил Лутовкин. — И ключ-то у нас есть, но мы же такие деликатные, как бы не застать разброд и шатания. Олег, дай, пожалуйста, музыку!
Женя понесла стопку тарелок на кухню. Олег, перегнувшись назад, включил магнитофон.
— Сева, а ты что стоишь, как неродной? — глядясь в круглое зеркальце, спросила Альбина. — Всё только начинается. Иди сюда, — она похлопала рукой по сиденью соседнего стула, — а не то место займут!
Сева дернулся и, поколебавшись, подошел и сел рядом с нею.
— Надо, Сева, надо, — сказала Альбина, защелкнула пудреницу и обняла его за плечи. — Надо, серенький, надо. Надо, синенький мой жучок. Чтобы всё было хорошо… — добавила она шепотом, наклонившись к нему и трогая губами его ухо. — Чтобы милая наша ничего не узнала.
— Так-так-так… — В счастливом возбуждении Лутовкин метался по комнате, проверяя, всё ли в порядке, и украдкой расставляя по местам дары природы.
Вернулась Женя, принесла чистые тарелки, с достоинством села.
— Потому что, если она не узнает, — жарко шептала Альбина, — всё опять будет хорошо. Но уж ты прижмись ко мне понежнее, а не то она возьмёт и поймёт…
— Ну, за воссоединение семей, — пробормотал Олег, наливая.
— Нет, за нас с Себастьяном, за хорошую встречу, — возразила Альбина, ероша Севе волосы. — У меня день рождения, я так хочу.
Уткнувшись носом в тарелку, Сева потел от тоски. Он уже знал, что ему предстоит. Поры этой женщины источали едкую слизь, она пачкала Севу, но он не смел от нее отодвинуться.
— Ты это… — усмехаясь, сказал Альбине Олег, — резвись потихоньку, палку не перегни.
— Какую палку! — весело воскликнула Альбина и звучно чмокнула Севу в нос. — Бедненький мой Иисусик! Наконец-то я тебя нашла!
Лутовкин выскочил было в прихожую, вернулся, обнял друзей за плечи, подмигнул Альбине.
— А третий любил королеву, — запел он душераздирающим голосом, — и молча пошел умирать…
— Не мог он направо-налево, — подхватил Олег, — священное имя шептать.
И вместе:
— Кто любит свою королеву, тот молча идет умирать!
Еще один чистый, но уже нетерпеливый звонок.
— Лечу, Надежда, лечу! — крикнул Лутовкин и выбежал в прихожую.
1991



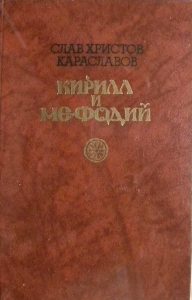







Комментарии к книге «Три юных пажа», Валерий Алексеевич Алексеев
Всего 0 комментариев