Мэри Карр Клуб лжецов. Только обман поможет понять правду
Mary Karr
The Liars' Club
© Mary Karr, 1995, 2005
© Андреев А., перевод на русский язык, 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
* * *
Посвящается Чарли Мэри Мур Карр и Дж. П. Карру, которые научили меня любить книги и истории
У нас есть свои тайны и свои потребности, в которых надо признаться. Мы можем вспомнить, как в детстве взрослые были способны видеть нас насквозь и какое это было достижение, когда мы, в страхе и трепете, смогли им впервые солгать! А потом сделать для самих себя открытие, что в определенных отношениях мы безнадежно одиноки, и узнать, что на нашей собственной территории могут быть отпечатки лишь наших ног.
Р. Д. Лэнг, «Расколотое «Я»[1]Предисловие
Незадолго до смерти матери рабочий делал ремонт на кухне и снял со стены плитку, в которой была подозрительно круглая и ровная дырка. Сидя на корточках, он поднял плитку и посмотрел сквозь дырку на пробивавшееся через желтые занавески солнце. Мужчина подмигнул моей сестре Лише и мне, после чего повернулся к матери, согнувшейся с томиком Марка Аврелия в руках над тарелкой мяса с красным перцем и фасолью, и произнес:
– Мисс Карр, думается, это дырка от пули.
– Мам, когда ты в папу стреляла? – уточнила Лиша у матери.
– Нет, это был выстрел в Лэрри, – спокойно ответила мать, посмотрев на плитку поверх очков на кончике носа благородной формы. Потом она показала на другую стену и добавила: «В вашего папу я стреляла вон там».
Этот короткий диалог объясняет, почему «Клуб лжецов» является мемуарами, а не художественной литературой. Когда судьба дарит вам таких героев, нет смысла что-то выдумывать. Мать с ее бунтарским характером, бросив пить задолго до смерти, без стыда относилась к своим ошибкам молодости.
Когда я предупредила мать и сестру о том, что собираюсь писать мемуары, мама сказала:
– Конечно, расскажи об этом и облегчи душу. Если бы меня волновало то, что обо мне думают, я бы ходила на родительские собрания и пекла печенье.
Несмотря на то что Лиша – человек более сдержанный, и она поддержала мое начинание. Сестра понимала, что мне нужны деньги на новый автомобиль (а матери-одиночке, живущей в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк, где автобусы ходят нечасто, а глубина снега измеряется метрами, без машины ой как нелегко!). В нашей семье считается, что нет задачи более неотложной и благородной, чем срубить деньги, поэтому Лиша одобрила бы любую мою инициативу.
Выход в свет этой книги (а также и ее продолжения) принес два неожиданных бонуса: в нашей семье исчезли все запретные темы и возросло доверие друг к другу. Больше не имело смысла скрывать, что мама любила крепко выпить и после этого брать в руки огнестрельное оружие, и то, что она была семь раз замужем (дважды – за моим отцом – нефтяником из Техаса).
После того как были обнародованы некоторые факты нашей семейной истории, которых мы в свое время очень стеснялись, мы свыклись и примирились с ними. Можете назвать это эффектом терапии отвращения, но мне кажется, что все не так просто. Мой рассказ о семейных проблемах привел к выздоровлению семьи! Все спокойнее стали относиться к катастрофам прошлого. Это был своего рода катарсис, если вам угодно.
Вот пример. Это произошло во время записи утреннего эфира одного ток-шоу в Хьюстоне, где моя сестра-республиканка имеет большую страховую компанию. Ведущая повернулась ко мне и бодреньким голоском, которым обычно осведомляются о семейных рецептах пирога, спросила меня, как чувствует себя человек, которого мать пытается зарезать огромным ножом. Ведущая лучезарно улыбалась своим тщательно накрашенным ртом, а я сидела и собиралась ей что-то радостно прочирикать в ответ, когда из-за кадра раздался громкий голос моей сестры: «Да это произошло, блин, просто по ошибке, че вы хотите?» После этого я и все члены съемочной группы захохотали, и нам пришлось начать снимать эпизод заново.
На этих страницах вы прочтете о том, как моя старшая сестра Лиша с начальной школы находилась в постоянной готовности потушить пожар, которым в любую секунду была готова разгореться наша легковоспламеняющаяся мать. Когда Лише было всего одиннадцать, она, будучи за рулем машины, могла с легкостью убедить любого полицейского в том, что водительские права у нее есть, но она забыла их дома:
– Сэр, пожалуйста, я везу мою сестричку к матери. Пощупайте ее лоб, у нее такая высокая температура, бедняжка просто горит.
Мне в этот момент надо было иметь скорбный вид. (Если моя сестра надумает писать собственные мемуары, то в них я буду неизменно фигурировать плачущей, описавшейся или перемазанной рвотой.)
Несмотря на то что все истории являются глубоко личными, сейчас, через десять лет после написания «Клуба лжецов», мне кажется, что все они произошли с другим человеком. Продвигая книгу через много лет после ее издания, по меткому замечанию английского писателя Иэна Макьюэна, автор становится слугой своего прошлого «я». Я, конечно, по просьбе читателей иногда зачитываю отрывки, но после записи аудиокниги у меня пропало всякое желание даже брать свои мемуары с полки.
Я периодически получаю неожиданные дары от читателей. Они рассказывают мне свои семейные истории в надежде на то, что я им посочувствую, и это неизменно происходит.
Работу над воспоминаниями я начинала с большой опаской по поводу того, что дорогих мне людей сочтут абсолютно гротескными персонажами, а меня саму будут жалеть, как несчастную сиротку, описанную пером Диккенса. Но мои опасения оказались напрасными. Читатели со всей страны рассказывали мне о детстве, которое, конечно, разительно отличалось от моих ранних лет, но тем не менее чувства, которые мы испытывали, почти не различались. Я выступала во многих городах, и мне казалось, что вокруг меня складывается некое сообщество.
Даже самые идеальные семьи порой переживают сложные времена. «Я выросла в идеальной семье в стиле Донны Рид, той, о которой ты всегда мечтала», – сказала мне однажды элегантная дама из Чикаго. Но на ее отца-доктора подали в суд за неправильно назначенное лечение. В семье пили больше, чем ей хотелось бы. Ходили слухи о том, что отец спит со своей медсестрой.
– И чем же все закончилось? – поинтересовалась я.
– Мы с этим разобрались, – ответила дама. – Все закончилось хорошо.
Правда, перед этим отец в пьяном угаре сел за руль кадиллака и чуть не задавил собственную дочь. Точно так же как и я, эта женщина лежала бессонными ночами с мыслями о том, что любящие родители превратились в монстров.
Впрочем, далеко не всем детям повезло, как той даме из Чикаго. Один человек рассказал, что его родители-наркодельцы пересекли множество границ, привязав к днищу детской коляски пакеты с героином. Другая женщина поведала, как в детстве видела самоубийство матери-алкоголички. Когда мать вешалась, дочь закрывала глаза младшему брату.
Услышанные мной шокирующие истории опровергали миф о том, что после жестоких семейных драм ребенок обречен на существование в психиатрической больнице. Все рассказчики казались нормальными здоровыми людьми и успешно преодолели те трудности, которые выпали в детстве на их долю.
Женщина-психоаналитик в книжном магазине Портленда поведала мне о силе рассказа. Ее вырастила больная шизофренией мать, и сам Господь Бог общался с ней через динамики радио. Будучи в колледже, моя знакомая начала заниматься психоанализом, чтобы преодолеть последствия тяжелых воспоминаний. Когда мы встретились, она была счастлива в браке и имела двоих взрослых детей. Она сохранила близкие отношения с матерью, перемены настроения которой перестали быть такими страшными благодаря применению современных медицинских препаратов.
Дама из Чикаго убеждена в том, что ее спасли истории. В этом суть традиционного лечения – надо пересказать семейную сагу. «Поговори об этом, и все пройдет», – гласит народная мудрость. Из воспоминаний о своем детстве эта женщина создала саму себя. Она не отрезала себя от своего прошлого, но и не погрязла в нем.
В те месяцы, когда «Клуб лжецов» находился на втором месте среди бестселлеров по версии газеты The New York Times, я получала от 400 до 500 писем в неделю.
Я не считала, сколько из этих писем начинаются словами: «Я никогда никому этого не рассказывал(-а), но…»
Благодаря этой книге я получила несколько предложений выйти замуж, но большинство писем приходило от простых людей, изливавших в них свою душу. В дополнение мне присылали фотографии из школьных фотоальбомов, вырезанные из газет некрологи и даже ксерокопию приказа о сохранении в тайне свидетельских показаний. Психоаналитики писали о том, что выдали мою книгу своим пациентам, страдающим от последствий изнасилования, алкоголизма родителей и других детских травм.
Казалось, что «Клуб лжецов» затронул души читателей: «Ваша книга вызвала прилив воспоминаний…», или «После прочтения «Клуба лжецов» мы с братом помирились…», или «Я и сам пытался кое-что писать после того, как мой отец вернулся с войны во Вьетнаме…», или «Я даже и не подозревала, что так долго не смогу примириться со смертью моей матери от рака…»
Эти отклики – мечта любого писателя, и я жду их, как рождественского подарка. Значит, мне удалось заставить читателя погрузиться в себя, найти в себе источник энергии и с его помощью вознестись к более полному чувству жизни.
Однажды со мной неожиданно произошел случай, словно взятый из этой книги. Одна женщина обратилась ко мне: «Вам просто необходимо прочитать «Клуб лжецов» Мэри Карр». Это была довольно известная, выступавшая на Бродвее актриса, и ее лицо тут же приняло убедительное выражение, как у героев телерекламы.
Я сказала, что я и есть Мэри Карр.
Она тут же расплакалась.
– Ваша книга изменила мою жизнь, – заявила она.
Можно сказать, я привыкла к такому проявлению чувств – столько людей рыдает при встрече со мной, что я взяла за правило брать с собой коробку с салфетками.
На выходе из ресторана актриса сунула мне визитку со словами: «У меня море историй для вас».
В конечном счете «Клуб лжецов» был задуман как любовное послание моей далекой от идеала семьи. А потом случилось невероятное – я сама получила от людей сотни тысяч признаний в любви. О том, что произошло со мной в середине жизни, я мечтала еще ребенком – в моих мечтах было объединение родственных душ, которые расцветают, делясь старыми историями. Они помогают отпустить прошлое прежде всего потому, что они настоящие. Присоединяйтесь!
Мэри Карр, профессор литературы Сиракузского университета
I. Лучший рассказчик
У меня есть одно самое четкое воспоминание. Все до и после него окружено кромешной тьмой. Мне было семь лет, и наш семейный доктор присел на корточки перед матрасом на полу, где я лежала. На нем была желтая тенниска с расстегнутым V-образным воротом, из-под которого виднелись волосы на груди. Раньше я видела его только в накрахмаленной белой рубашке и сером галстуке. Новый облик доктора меня встревожил. Он держался за подол моей любимой ночной рубашки из мягкого хлопка с узором из букетиков васильков. Я сидела, подтянув колени к подбородку. Доктор мог бы легко поднять подол ночной рубашки, но почему-то вел себя очень вежливо.
– Покажи мне, – говорил он, – Не стесняйся, я не съем.
У доктора были водянисто-голубые глаза за толстыми линзами очков и усы, похожие на гусеницу.
– Пожалуйста, подними ночнушку и покажи, где болит, – уговаривал он, держа край рубашки большим и указательным пальцами. Я не помню, что мне тогда было больно, и, кажется, не плакала. Доктор говорил таким умоляющим тоном, будто собирался сделать мне укол. Мне он нравился, но я ему не доверяла. В нашей с сестрой комнате было темно, но мне все равно не хотелось показывать свое тело: по всей гостиной топтались незнакомцы.
Мне потребовалось тридцать лет, чтобы эта картина в моей памяти перестала быть застывшей.
Соседи и родственники помогли мне превратить один-единственный кадр в целую панораму. К стене за спиной доктора была прислонена спинка кровати, похожая в темноте на паука. В углу, словно перевернутая черепаха, лежал высокий комод, его ящики были раскиданы вокруг. На полу были свалены в кучу белье, комиксы, пазлы и книжки издательства «Голден Букс». Их мне покупала мама, чтобы я вела себя тихо в очереди в супермаркете. В дверях виднелась высокая, освещенная сзади фигура шерифа Уотсона, державшего на руках мою девятилетнюю сестру. На ней была розовая пижама, и, обхватив ногами шерифа, она изучала его звезду с явно наигранным интересом. Даже в те годы сестра с большим цинизмом относилась к любым видам власти. У нее была репутация девочки, которая на публике смеется над монахинями и дерзит учителям. Но сейчас сестра придала своему лицу уважительное выражение. На шерифе была ковбойская шляпа, поэтому часть лица была в тени. Я никогда еще не видела у него такой полуулыбки, как сейчас.
Я инстинктивно боялась шерифа, потому что отец постоянно попадал в драки. Он часто входил в дом с заднего хода, костяшки его рук были в крови, и кожа на них была сбита. Отец присаживался на корточки передо мной и Лишей, которую он называл Лизой, и поучал нас:
– Если зайдет шериф, говорите ему, что меня уже несколько дней не видели.
Но шериф никогда не заходил к нам, поэтому мне не представлялась возможность проверить, насколько хорошо я умею врать.
В ту ночь я подумала, что отец сделал что-то не так, и его разыскивают. Если бы меня спросили о происходящем, то именно так я бы и ответила. Но когда ты – ребенок и происходит что-то серьезное, взрослые не считают нужным тебя слушать.
Постепенно панорама событий той ночи ожила, словно сцена из фильма, когда картинка сперва размыта, а потом по мере фокусирования становится четкой. Подбородок шерифа Уотсона попадал на свет и снова возвращаться в тень. Пожарные в комбинезонах канареечного цвета заходили в соседнюю комнату, а доктор Бордо снова затеребил подол моей ночной рубашки своими толстыми пальцами, как недоверчивые старушки проверяют качество ткани перед покупкой. Перед нашим домом, должно быть, стояла машина «Скорой помощи», потому что периодически комнату освещали всполохи красного цвета. Я физически ощущала этот свет на лице. Из окна за зарослями жимолости я видела на заднем дворе высокое пламя.
Все звуки в ночной тишине были слышны очень отчетливо. По дому ходили люди в тяжелых ботинках. Кто-то выключил сирену «Скорой помощи». Хлопала входная дверь. На лужайке папин пес по кличке Кусака рычал и гремел цепью. Его приучили пить пиво и кусать незнакомцев. Однажды Кусака загрыз чихуахуа, после чего начал трясти труп, словно половую тряпку. Отец пытался выманить Кусаку под плач и причитания хозяйки несчастной собачки из гаража, где все это произошло. Потом незнакомый мне голос произнес пожелание, чтобы сукин сын исчез, и поняла, что разговор идет именно о Кусаке. В ту ночь пес сгинул в болотах у реки. Сестра предположила, что его труп сожгли на мусоросжигательном заводе. Так или иначе, больше мы Кусаку не видели. Я совсем не расстроилась, потому что пес умудрился не раз меня цапнуть.
Снова раздались хлопки входной двери, топот и треск рации в полицейской машине.
– Давай, дорогая, – говорил доктор Бордо, – покажи мне свои синяки. Я тебе не причиню боли.
Я пыталась заглянуть в глаза сестре, чтобы понять, как себя вести в этой ситуации, но та вела себя так, словно на свете не было ничего интересней, чем металлическая звезда шерифа.
Не помню, чтобы в ту ночь я что-либо сказала, но, судя по всему, в конце концов заявила доктору Бордо, что у меня нет никаких синяков. И их действительно не было. Прошло много времени до того, как мне удалось сдвинуться с места и осознать всю свою жизнь за пределами этого эпизода.
Следующее мое воспоминание: шериф Уотсон выводит меня из дома. У него на груди свернулась спящая Лиша. Мои глаза на уровне его револьвера в кобуре и прикрепленной к поясу небольшой кожаной дубинке. Должно быть, уже в те времена использование таких дубинок в штате Техас было запрещено. По форме она похожа на большую черную слезу, и мне очень хочется ее потрогать. Лиша уткнулась в рубашку шерифа, но я знаю: она лишь делает вид, что спит. Шериф держит меня за левую руку. Я поднимаю правую и больно щипаю Лишу за грязное колено. Она быстро лягает меня, после чего тут же обхватывает шерифа и продолжает делать вид, что крепко спит.
Вокруг нас с видом незваных гостей толпятся полицейские и пожарные. Кто-то уже сварил кофе, его запах смешивается с запахом гари и бензина. Люди в гостиной отступают, пропуская нас, и перемещаются на кухню.
Я знала, что ни мама, ни папа не появятся. Отец работал на заводе в ночную смену, и шериф отправил за ним своего заместителя. Мать увезли, как позже нам объяснили, потому что она была нервной.
В Восточном Техасе слово «нервный» описывает широкий диапазон состояний человека: начиная с привычки грызть ногти до резко выраженного психического расстройства.
Нервным, например, был мистер Трибидо, живший ниже по нашей улице. Сначала он застрелил жену и трех сыновей, потом поджег дом, а затем выстрелил и себе в рот, нажав на курок пальцем ноги. Я часто по субботам оставалась на ночь у его дочки, которая пользовалась определенной популярностью в средней школе. Тем не менее не могу сказать про мистера Трибидо ничего конкретного, кроме того, что он носил короткую стрижку и был сурового нрава. Он работал на нефтеперерабатывающем заводе, как и мой отец, и был дьяконом в баптистской церкви.
Когда мистер Трибидо расстрелял свою семью, мне было уже за двадцать. В те времена я представлялась всем поэтессой и читала много античной классики (конечно, в переводе, не в оригинале: я была ленивой студенткой). Я тридцать шесть часов добиралась от Среднего Запада до Личфилда, где целыми днями сидела в черном в сорокаградусную жару на веранде материнского дома за книгами Гомера, Овидия или Вергилия. И ждала вопроса: что же я читаю?
Разумеется, никто так и не поинтересовался. Все спрашивали, сколько я вешу, что буду пить, где живу и не вышла ли замуж. Мне так и не представилась возможность прочитать кому-нибудь лекцию о великой литературе. Во время одной из поездок домой я увидела выгоревший дом семьи Трибидо и после этого натолкнулась на древнегреческий термин ate.
Когда во времена античности кто-либо похищал девушку, убивал кого-нибудь или был разгневан, он мог объяснить свое поведение этим самым понятием ate. Этот термин переводится как «страсть», «гнев» или «наваждение», которые полностью затмевают рассудок. Например, Агамемнон, похитивший девушку Ахилла, говорил: «Меня ослепила ate, и Зевс на время отнял у меня разум». Состояние ate могло быть вызвано вином. В любом случае считалось, что ate посылают нам боги, а значит, человек не отвечает за свои действия.
Когда соседи Трибидо пытались объяснить мне, почему после десятилетий выноса мусора, стрижки газона и посещения церкви глава семьи перестрелял всех ее членов и покончил с собой, они использовали одно прилагательное, которое своими корнями уходит к понятию ate у Гомера. Это было слово «нервный». Подробнее рассказать о том случае никто так и не смог.
Но в ту ночь, когда в нашем доме появился шериф и маму признали нервной, я не поняла, что это означает. Внутри меня все сжалось от нарастающей паники. Родителей нигде не было, и я не понимала, где и у кого проведу остаток ночи.
Подходя к входной двери, я услышала приглушенные разговоры наших соседок, которые стояли перед нашим домом в ночном белье, точно спецназовцы, ждущие приказа. Мы вышли на улицу, и шериф отпустил мою руку. Он сказал мне, что пойдет переговорить с дамами и двинулся к женщинам, которые, завидев его, начали застегивать пуговицы ночных рубашек и запахивать наглухо халаты.
Я села на бетонные ступеньки лестницы, ощущая их холод сквозь тонкую ткань ночной рубашки. Потом сняла с москитной сетки на входной двери двух майских жуков и попыталась пустить их наперегонки. Один из них тут же улетел, а второй перевернулся и беспомощно засучил лапками в воздухе.
Вскоре я поняла, что шериф Уотсон решает с соседками, где мы с сестрой проведем остаток ночи. В те времена я считала, что с Богом надо торговаться, поэтому взмолилась о том, чтобы нас не взяла к себе семья Смотергиллов. У них было шестеро детей, и в доме жили по очень строгим правилам – кто, что и когда ест. Однажды мы с Лишей у них ночевали. После полуночи мы заперлись в ванной и съели целый тюбик зубной пасты. На следующее утро мистер Смотергилл высек нас. Это был человек с лицом серого цвета от химиотерапии, которую ему делали от рака ротовой полости. Каждый соседский ребенок имел собственный прогноз по поводу того, когда именно мистер Смотергилл умрет – в то время слова «рак» и «смерть» были синонимами. Голос мистера Смотергилла был острым и резким, как наждачная бумага, а его внешний вид пугал нас больше, чем любое наказание. За спиной дети в шутку называли отца Жизнерадостным Чаком. Старшей дочери семейства Смотергиллов всего раз разрешили навестить нас: у нашей матери была репутация нервной, а наш дом считался опасным. Девочка была в восторге от того, что нам позволялось залезать в холодильник, когда вздумается. Узнав об этом, без долгих раздумий она достала брикет маргарина, растопила его в кастрюльке на плите, вылила в чашку и выпила.
«Господи, – молилась я, – лучше я съем живого жука, чем буду спать на жестком матрасе у Смотергиллов. У них по утрам мальчики стоят перед телевизором в нижнем белье и, громко пердя, делают зарядку! Пусть меня отдадут на ночь в семью Диллардов, и, клянусь, с этого дня я буду вести себя как святая. Я не буду плеваться, чесаться и заставлять малыша Картера есть свои какашки».
Миссис Диллард в синей куртке стояла, сложив руки на груди. По утрам она пекла булочки с корицей и разрешала мне украшать их глазурью из тюбика. К тому же ее дети ночью спали в пижаме. Но проблема была в том, что в этой семье мог разместиться только один ребенок, потому что единственное свободное место, где можно было поспать, – на диване в гостиной. «Господи, – молилась я, – пусть Лишу возьмут к себе Смотергиллы». Я умоляла уж не знаю какого бога, чтобы он отдал меня Диллардам. Я никогда не желала зла сестре, но если в вазе оставался один банан, не раздумывая, хватала его, не заботясь о Лише.
Я решила, что если майский жук сможет проползти до конца один кирпич, прежде чем я сосчитаю до пяти, Господь выполнит мою просьбу. Но майский жук топтался на месте, а миссис Диллард ушла, даже на меня не взглянув.
Я уже не помню, кому нас с Лишей тогда отдали и сколько мы в той семье прожили. Потом мне сказали, что нас приютила бездетная пара, которая разводила птиц. Я смутно припоминаю дом с зелеными хлопающими жалюзи. Через них лился лимонный свет, в воздухе клубилась пыль и летало множество сине-зеленых попугайчиков. Они пикировали как в «Птицах» Хичкока – вот-вот должны были сойти с ума и начать выклевывать людям глаза. Как я ни старалась вспомнить лица супругов, мне не удалось.
Мне потребовалось много времени для того, чтобы сложить, как пазл, эту историю, поэтому я ненадолго отложу рассказ о том, что именно тогда произошло. Когда правда слишком неприятна и болезненна, наш мозг как бы удаляет ее из памяти, но в нашей голове остается ее тень, призрак. Туманность и безликость этого призрака, словно написанное на школьной доске и впопыхах стертое матерное слово, манит загадочностью. Ты начинаешь всматриваться в пятно на доске, и слово проявляется, как по волшебству. Белые пятна в моих воспоминаниях о детстве притягивают меня своей «незакрашенностью». Я одновременно боялась их и возвращалась к ним именно из-за их незаполненности.
Несмотря на то что та ночь практически не имела последствий, я начала понимать, что с нашей семьей что-то не так. Никто и словом не обмолвился о том, что тогда произошло. Я не припоминаю, чтобы после этого к нам приходили шериф, соцработники или обеспокоенные соседи. Доктор Бордо время от времени наведывался к нам, тактично справлялся о моем здоровье и при необходимости прописывал лекарства.
Соседи приглашали по выходным меня с Лишей в библейскую школу или на базы отдыха. Я часто появлялась на пороге чужого дома перед ужином. Отец называл мои вылазки «охотой за провиантом». Он говорил, что мое поведение напоминает ему, как во времена Великой депрессии он ездил в товарных поездах. Соседи неизменно выдавали мне тарелку еды, хотя знали: у нас еды хватает.
Та ночь сильно повлияла на мой внутренний мир. Я поняла: в нашем доме что-то неправильно, а значит, и мое выживание в этом мире зависит от бдительности по отношению к проявлениям этой самой неправильности. Каждый раз, когда я переходила дорогу по единственному в Личфилде переходу со светофором, мне казалось, что ниоткуда появится огромный грузовик и собьет меня. Я стала всего бояться и при этом активно бороться за свое право на жизнь. Могла практически без причины расплакаться из-за ерунды во время игры на детской площадке и почти без повода заехать кому-нибудь по уху. Соседи рассказывали о том, что однажды я огрела пятилетнего ребенка армейской саперной лопаткой, после чего спокойно продолжила делать куличики. Вне всякого сомнения, у меня от природы был опасный и взрывной характер. Впрочем, частично такое поведение началось с той ночи, когда доктор Бордо выспрашивал у меня о синяках и ссадинах, которых, я сейчас совершенно в этом уверена, не было и в помине.
Истоки моего поведения, так же как и этой истории, лежат во времени задолго до моего рождения, когда мои мать и отец встретились, и по причинам, которых я до сих пор не понимаю, быстро поженились.
Тогда мать только прибыла в Личфилд. Она приехала из Нью-Йорка на машине с итальянским морским капитаном Паоло. Ей было тридцать, а ему пятьдесят, и он к тому времени оказался ее четвертым мужем. Вместо того чтобы ходить на свидания, моя мать выходила замуж. В общей сложности она была замужем семь раз, в том числе дважды за моим отцом. Она объясняла это своим строгим воспитанием в семье методистов: секс до брака был под запретом, а она его любила.
Они едва успели пожениться с Паоло и переехать в Личфилд, как начали ругаться.
Дело происходило зимой 1950 года. Однажды вечером мама загрузила в старый «Форд» свои пожитки: одежду, книги и коробки со шляпами и выехала из города с твердым намерением никогда не возвращаться. Она направлялась на ферму своей матери, где та выращивала хлопок, примерно в восьмистах километрах к западу от Личфилда. На выезде из города у нее лопнуло колесо. Это произошло в пяти метрах от заправки со стоянкой для дальнобойщиков, где случайно оказался мой отец. В то время он работал помощником сгонщика в «Галф Ойл», а на заправке подменял работавшего на ней приятеля по имени Кутер, который не мог оторваться от игры в кости в Батон-Руже. Кутеру не везло, и он хотел отыграться.
Когда я в возрасте двадцати лет узнала о многочисленных браках матери, она оправдывалась, что все они были ошибкой.
Мама говорила, что вероятность встречи с моим отцом была минимальной. Если бы Кутеру в ту ночь повезло, если бы она не поругалась с Паоло и если бы не пробило шину автомобиля после долгих переездов по стране… В общем, получается, сама судьба свела моих родителей на автозаправке трассы 73.
В ту ночь луна светила, как электрическая лампа, и в первый раз отец увидел маму будто в свете софитов. Она наотрез отказалась от помощи с домкратом и ругалась, как пьяный матрос, когда один из болтов не откручивался. Сочетание нью-йоркских номеров, интеллигентного внешнего вида и отборной брани произвело на отца неизгладимое впечатление. Он никогда не встречал женщину, которая умела бы так выразительно материться.
Мать поставила запаску и обратила внимание на то, что отец недурен собой. В нем была индейская кровь, проявившаяся в черных волосах и острых чертах лица. Его улыбка до ушей чем-то напомнила Кларка Гейбла, а себя мама считала похожей на богемную Скарлетт О’Хара[2]. Ее страсть к отцу вспыхнула, как лесной пожар засушливым летом.
В местечке Лаббок бабушка готовила пирог в честь приезда дочери, как вдруг та позвонила с сообщением о том, что задерживается в Личфилде.
Бабушка старалась спихнуть мать и выдать ее замуж, как только той исполнилось пятнадцать. Мама говорила, что ее откармливали, как породистую корову, которую намеревались продать тому, кто больше заплатит. У Паоло была собственная машина, его ждал корабль в Мексиканском заливе и, по мнению бабушки, у него была возможность содержать семью. Кроме того, он вытащил ее дочь из Нью-Йорка привез в Техас.
Бабуля была уверена: мой отец – деревенщина с хорошо подвешенным языком – заграбастал ее единственную дочь, поселив в типовом домишке с двумя спальнями, хотя та по праву заслуживала жить на ранчо. Она вообще признавала Паоло как единственного мужа моей матери. Она считала, что история матери и Паоло послужит мне хорошим уроком того, как глупо разводиться с человеком с хорошим окладом и выходить замуж за работягу.
Все мои попытки заставить мать заговорить о прошлых мужьях приводили к тому, что та закатывала глаза, принимала аспирин и ложилась вздремнуть после обеда.
В отличие от остальных мужей, Паоло не сдался на милость победителя, а по крайней мере боролся за мою мать. Он преследовал ее, по техасскому выражению, «как утка гоняется за майским жуком». Каждую неделю присылал в номер букет желтых роз и коробки вишни в шоколаде. Отец, в конце концов, начал выставлять конфеты в общую столовую, где его приятели ели их горстями.
Через некоторое время Паоло отчаялся, набрался храбрости и появился в пансионе для разговора с матерью. Я почему-то представляю себе, что отец в тот момент лежал на узкой кровати в майке и семейных трусах. Мне кажется, что он сощурился, как змея, при виде Паоло. Его же я представляю в полосатом костюме, в котором они с матерью поженились. Пригибаясь, он вошел в комнату с низким потолком. Паоло назвал ее шлюхой, после чего мгновенно получил в лоб от отца. В тот день мать впервые видела, как отец дерется. Не думаю, что произошедшее между отцом и Паоло можно назвать дракой в прямом смысле этого слова. Обычно отцу было достаточно раз ударить человека, чтобы тот упал. На этом драка заканчивалась. После этого Паоло потихоньку сполз по лестнице и через некоторое время уплыл в Саудовскую Аравию, больше его никто не видел.
Разговор о нем зашел, когда я случайно нашла фотографию у матери и спросила: кто это, черт возьми?
В конце церемонии бракосочетания, проходившей в мэрии города Личфилда, отец сказал тост с серебряной фляжкой – подарком матери в руке: «Спасибо, что вышла за меня сирого». Он привык к простым деревенским девчатам, и мать была для него существом высшего порядка.
На самом деле мать вышла замуж за отца частично и потому, что она просто испугалась. Она, конечно, любила хвалиться тем, что во время войны была студенткой, изучала искусство и жила в Гринвич-Виллидж и, поверьте на слово, сильно выделялась в Личфилде, мать умудрилась набрать пугающее количество мужей. Настолько пугающее, что она держала его в секрете. При этом в течение пятнадцати лет с точки зрения уровня жизни ее ситуация становилась только хуже. Она жила на вилле в Коннектикуте, а оказалась в парке трейлеров в Личфилде.
В период стерильных пятидесятых ее бунтарский дух уже не впечатлял окружающих так, как раньше. За пятнадцать лет она много чего потеряла, и эти потери ее пугали. Отец был достаточно красив, к тому же в его характере сочетались черты честного гражданина и бунтаря-одиночки. Его мало впечатляли мода и манеры, которые помогли ей выйти замуж за остальных мужей – представителей среднего класса. Отец знал только одного Маркса – Граучо и единственный танец – местный тустеп[3]. В первую ночь, когда они легли в кровать, он смыл косметику с ее лица проспиртованной салфеткой, чтобы посмотреть на настоящий облик.
Первые годы их совместной жизни были счастливыми. На пособие для демобилизованных солдат они купили небольшой домик, как две капли воды похожий на многие другие дома. Отец никогда не мечтал о том, что будет жить в такой роскоши. Он настолько гордился тем, что у его жены не только красивая прическа, но и в голове есть пара извилин, что соорудил полки для книг об искусстве, развесил по всему дому ее картины и даже обещал построить мастерскую.
У отца было три громогласных брата и сестра. Выросли они в поселке среди соснового леса под названием Большие Заросли в Восточном Техасе. Их семья жила практически без денег: кофе и сахар покупали на чеки в магазине лесозаготовительной компании, они могли позволить себе единственную роскошь – ситец для платьев, а все остальное необходимое для жизни выращивали, отстреливали или ловили.
Так мой отец жил задолго до моего рождения, но я все помню. Он рассказывал столько историй, что иногда они кажутся мне более реальными, чем все, что произошло со мной. Он делился этими историями с приятелями, с которыми пил и играл в домино по выходным. Они встречались в баре «Американский легион» или магазине рыболовных снастей, а женам говорили, что пошли оплатить счета или у них заседание профсоюза. Одна из жен, устав от пустого времяпрепровождения мужа, окрестила эту мужскую компанию «клубом лжецов». С тех пор все стали использовать это название. Оно отражало суть того, чем занимались эти мужчины: байки, которыми они обменивались, зачастую были полной выдумкой.
Эта компания собиралась спонтанно и в разных местах, за исключением рождественского утра, когда члены «клуба лжецов» встречались на парковке перед баром «Американский легион», чтобы обменяться через открытые окна пикапов бутылками «Джека Дэниэлса» в подарочной упаковке. Я никогда не слышала, чтобы они планировали встречу. Они никогда не звонили друг другу по телефону и не отправляли детей с весточкой о собрании в таком-то месте в такое-то время. Казалось, что время и место встречи появлялись в коллективном сознании, как у роя пчел или у муравьев в муравейнике. На встречах членов «клуба лжецов» никогда не бывало женщин. Из детей мне одной разрешалось присутствовать на «заседаниях». Многие неоднократно говорили, что отец меня безбожно балует. Когда я просила у него деньги на кока-колу, шаффлборд[4] или чтобы сыграть в бильярд, тут же кто-нибудь отмечал: если отец будет продолжать в том же духе, я ничего не буду стоить. Иногда я возвращала монетку, но отец неизменно качал головой и говорил:
– Оставь ее в покое. Пусть делает, что ей хочется, верно, Любопытная?
И я, понятное дело, всегда соглашалась.
Из всех членов «клуба лжецов» отец рассказывал самые интересные истории. Когда он начинал рассказ, его приятели замолкали, уставившись в свои стаканы или карты. Отец мог уходить от темы, растекаться мыслью по древу, но неизменно возвращался к повествованию. У него был талант. Он умел рассказывать истории так же хорошо, как блефовать при игре в покер, которую освоил задолго до моего рождения. Его лицо с грубоватыми чертами принимало самые разные выражения: от полностью лишенного эмоций до гротескно-карикатурного.
Для главных героев у него были свои выражения, тон и жесты. Когда он начинал щурить глаза и говорить с легким акцентом и так, словно ему сложно двигать челюстями, я знала: он говорит от лица дяди Хаски. Широко раскрытые глаза всегда символизировали чернокожего по имени Уг, который научил отца играть в карты и кости. Плотно сжатые от недовольства губы – его сестра. Мать отца всегда носила огромных размеров синий чепчик, обрамлявший голову, словно ореол святого, и, представляя ее, папа неизменно заводил руки за голову и шевелил пальцами со словами: «А вот и мамочка».
Когда я думаю об отце, я вижу его за колченогим столом во время встречи «клуба лжецов». На столе бутылка. Эта картина стоит перед глазами, как сейчас.
Болтая ногами, я сижу на стойке бара «Американский легион» и ем необжаренный арахис из холщового мешка. Отец мешает на столе фишки домино, они щелкают, ударяясь друг о друга. Я еще не хожу в школу, поэтому все дни кажутся длинными до бесконечности. В помещении словно сгустились сумерки и пахнет пивом.
Кутер только что спросил отца о том, планировал ли он убежать из дома.
– Не-е, совсем не планировал, – отвечает отец, закуривает сигарету и медленно снимает с языка крошки табака. Он не торопится рассказывать, будто у него в запасе вечность.
– Папа дал мне серебряный доллар и сказал, чтобы я купил в городе кофе. Идти в город надо было через железную дорогу. И вот я вижу, как паровоз с составом снижает скорость перед поворотом. Ну, поезд снизил скорость, я запрыгнул в вагон с долларом в кармане.
– Работал в Канзасе на пшеничной молотилке. Спал вместе с другими работниками в сарае хозяина. Он жлоб был отменный: до самого вечера ему было жалко нам воды принести. Но женат был на писаной красавице с задницей, словно два бульдога в мешке.
Все смеются.
Я спрашиваю, как он вернулся домой, жду продолжения рассказа и ногтем ломаю скорлупу арахиса. Орех не жарили, поэтому скорлупа мягкая, а сам орех несоленый, почти безвкусный и его можно жевать как жвачку. Отец делает глоток из стакана и перекладывает фишку домино.
– Чуть не помер. Запрыгнул на длинный товарняк из Канзаса до Нового Орлеана. Спросите меня, было ли холодно?
Он смотрит на слушателей, словно они сомневаются в том, что тогда было холодно.
– Ветер дул в щели, как лезвием бритвы резал. До кости пробирал. В Арканзасе погрузили скот, и я выжил благодаря одной старой телке. Без нее я бы точно от холода околел. Я и сейчас ее вспоминаю. Я тогда попробовал ее доить, но молоко превратилось в сосульки, как фруктовый лед.
– Чего-то слабо мне во все это верится, – произносит Шаг. Это единственный чернокожий во всей компании. На его голове зеленая шляпа с круглой плоской тульей и загнутыми кверху полями, в которую воткнут джокер из карточной колоды на столе. Шаг всегда сомневается в рассказах отца.
– Ей-богу, не брешу, – говорит отец и сыплет немного соли в отверстие банки с пивом. – Вот запрыгните в поезд в январе и посмотрите, что будет. Будете ледышками писать. Точно говорю. Гаран-блин-тированно.
Все слушатели покачивают головами. Я вижу: отец размышляет, как дальше повести рассказ, и будто бы внимательно рассматривает свои фишки домино. Они стоят, как китайская стена. Отец медленно выбирает одну, кладет на стол, и счет становится не в его пользу.
– С соседней теплушки сняли старичка, который замерз лежа и стал прямой, как доска. Неча в преклонном возрасте на поездах разъезжать. Я помогал парням его из вагона доставать. Мы его наклонили, и у него из штанины выкатились такие штуковины размером с ноготь и все белые.
Он демонстрирует всем ноготь на большом пальце.
– Ну, это наверняка были королевские драгоценности, – говорит Шаг.
Отец вглядывается в пространство, словно замерзший покойник в комнате может подтвердить все его слова. Кажется, будто сам мертвец ждет продолжения истории и ему стыдно за то, что отцу не верят.
– Не, ни фига. Если вы заткнетесь, я расскажу, что это было.
– Пусть рассказывает, – говорит Кутер и выпускает изо рта дым сигары. Кутера напрягает, что Шаг – черный и он всегда на него наезжает. Остальных мало волнует, что Шаг – чернокожий. Шаг часто угощает меня печеньем с инжирной начинкой, которое достает из бардачка своего пикапа, и я считаю, что на него не нужно наезжать без дела. Но я помалкиваю, потому что знаю правила «клуба».
– У одного из парней была с собой сковорода. Мы развели костерок на насыпи. Там уже расположились другие парни с вещами, но нас никто не трогал. Положили мы того старикашку на землю, а он твердый, как скамейка, на которой я сейчас сижу.
– Это мертвый-то? – переспрашиваю я, и все начинают неодобрительно ерзать, давая мне понять, что не стоит перебивать рассказчика.
– Ну да. Положили мы эти белые кругляшки на сковородку и ждем, когда они оттают. И вы ни за что не поверите, что это оказалось.
Вот и кульминация рассказа. Отец наклоняет голову и наслаждается повисшей тишиной. Все с нетерпением ждут продолжения. Не слышно клацанья фишек домино. Дым от сигар неподвижно висит в воздухе. Никто не прикасается к своим напиткам.
– Эти штуки стали громко взрываться, как фейерверк, и смердеть – мама не горюй!
– Так значит, это был его пук? – вскрикивает Кутер высоким, почти не мужским голосом, и все начинают смеяться. Кадык отца ходит вверх-вниз, Бен громко стучит кулаком по столу, а Шаг вытирает слезы.
Когда все успокаиваются, отец передает по кругу бутылку и возвращается к рассказу.
– Вот после этого я и вернулся домой. Прошел к старому, грязному двору сквозь острую как бритва траву. Гляжу: сидит отец на крыльце в той же позе, в которой я его оставил. Смотрит на меня взглядом серьезным, как полиомиелит, и спрашивает: «Ну а кофе-то ты принес?»
Подобные истории отца вселяли в мать уверенность в том, что на него можно положиться. После многочисленных приключений он всегда приходил обратно в родной дом. Со временем ей стало жизненно необходимо, чтобы отец возвращался и к ней. Его коллеги рассказывали, что по времени, когда он въезжал на стоянку перед заводом и когда открывал свой ланчбокс, можно было часы ставить. Когда мама описывала нам детство отца, то иногда делала вид, что ужасается дикости, которая его окружала: в его семье, например, обливали живую свинью кипятком для того, чтобы избавиться от щетины. Но на самом деле она тайно восхищалась миром, в котором он вырос, и грустила о беспросветной жизни под блюз Бесси Смит[5].
Когда мать встретила отца, она очень хотела забеременеть. Ей тогда было тридцать, а в те времена это было уже почти поздно. Отец тоже сильно хотел детей. Во время Второй мировой войны он слал смешные письма детям своей сестры Бобу Эрлу и Пэтти Энн, которым он дал прозвища Красная Козюлька и Тень соответственно. Он писал им сначала из учебки, а потом – не очень часто – с фронта и описывал войну, как игры бойскаутов: «Ты бы слышал, Козюлька, как звучит пулемет! Я из него сигодня стрилял по самолету. Конечно, он упровлялся с зимли и, когда упал, пилота там не было. Скажи Тени, пусть ест побольше бабов, шоб она вырасла достаточно бальшой. Тогда пападет в ВВС, а не в вонючие сухопутные войска. Ха-ха». Своей сестре он писал, что хочет иметь детей: «Я слишком стар, шоб завадить семью. Меня атпустили на сорок восемь часов, так шо паеду в Лондон, пасматрю на англицких дивчат». В следующем письме, пришедшем из Парижа, были слова: «Я вешу семдисят три килограма. Настраение такое, шо всех парву».
Папины письма с фронта передала мне его сестра, тетя Айрис, когда я студенткой навещала ее в Техасе. Теперь я храню их в коробке из-под сигар. Когда-то я покрасила ее в золотой цвет и подарила отцу. В ней он хранил зарплатные квитки от «Галф Ойл», а потом спрятал так, что мы нашли ее в его армейском чемодане только после его смерти.
Я помню, как пахло внутри того чемодана, когда мы сбили с него замок и открыли. Это был запах влажной бумаги и масла для смазки оружия. Среди вещей была загадочная коробочка из кедрового дерева со скрипучей выдвижной крышкой. В ней отец хранил свой кольт, завернутый в кусок замши телесного цвета. Он научил меня стрелять и неоднократно предупреждал о том, что никогда нельзя оставлять патрон в стволе. Тем не менее в этом кольте был патрон, и я уверена, что отец оставил его специально. Он был слишком аккуратным, чтобы допустить такую ошибку.
Я бы сейчас многое отдала за то, чтобы узнать, зачем он оставил патрон в стволе. О ком ты думал тогда, папа? Чье лицо ты представлял: свое собственное или чье-то еще? Даже бы если у меня хватило смелости задать ему этот вопрос при жизни, он бы, скорее всего, просто пожал плечами и задумчиво уставился в облако дыма от своих сигарет «Кэмел». Потом, возможно, отец рассказал бы мне о том, как ему подарили его первое ружье для охоты на белок или о том, с каким опережением надо целиться в летящую утку. Как и большинство, он врал лучше всего, когда уходил от прямого ответа. Было бесполезно спрашивать о том, о чем он не хотел говорить.
Конверты, пропитавшиеся оружейным маслом, при ближайшем рассмотрении оказались прозрачно-серой казенной бумагой в пятнах. После высадки союзников в Нормандии конверты стали унифицированными, и писал отец за некоторыми исключениями регулярно раз в неделю.
В нашей семье есть история: бабушка пожаловалась боевому командиру, что ее сын ей ни разу не написал со времени высадки союзников. Командиром отца был голубоглазый выпускник Вест-Пойнта капитан Пирс, который под конец войны подал прошение о присвоении отцу сержантского звания. Он приказал своему подчиненному писать матери каждое воскресенье. Есть даже приказ с печатью молодого офицера «Капитан П.» напротив каракулей отцовской расписки о получении этого приказа. Руки отца всегда тряслись. Кто знает, может быть, он и сам был нервным, но умел хорошо это скрывать.
На конвертах писем с фронта нет марок, а на углах конвертов, отправленных после 1944 года, стоит печать полевой цензуры. Цензоры вырезали бритвой отдельные слова, по которым можно было понять, где именно находился отец. Тон писем со временем менялся от бахвальства простого деревенского парня до спокойствия бывалого солдата. Письмо отца могло выглядеть так: «Вы наверна оболдеете, если я скажу вам, что недавно видел (вырезано). Я встретил его людей и они мне сказали, что он (вырезано). Ниприятно было такое услышать. Скажите папе, шо я выризал на дереве около рики (вырезано) его имя. Красивое мистечко. Я ему падробней росскажу, када вирнусь».
В чемодане была стопка старых выцветших фотографий отца, снятых в начале века. На моем любимом фото изображена сестра отца тетя Айрис с четырьмя братьями: дядей Эй Ди, папой (отмеченным как Джи Пи), дядей Пагом и дядей Тимом. Все братья разного роста. Они в фартуках с нагрудниками и без рубашек. Все с короткими стрижками (отец утверждал, что высушить мокрые волосы с такой прической было легко: достаточно раза три провести ладонью по голове), темными и гладкими, словно у тюленей. С торжественно-суровыми лицами они держат весло, как тотем. На заднем плане высится огромный пекан, на сучьях которого висят шесть крокодилов, которых они убили на кожу.
Я помню рассказ отца об охоте на крокодилов. Болотный газ клубился вокруг лодки-плоскодонки. Маленький Тим обычно сидел на носу лодки с фонарем, от света которого глаза крокодилов казались красными. Там есть и фотография моей бабушки по отцу. Ее лицо прикрыто огромным чепчиком. Она держит за узду мула, которого забил до смерти мой дед за бесполезное упрямство. Есть и фотография деда – более молодая и крепкая версия старика, которого я запомнила при жизни. Он как бы усох и умер в возрасте восьмидесяти шести лет. Я помню его – старик с коричневым лицом в ковбойской шляпе сидит в кресле-качалке на веранде. Рядом с ним три спокойные охотничьи собаки.
Среди фотографий есть вырезка из журнала «Лайф» с фоторепортажем о высадке союзников в Нормандии. Там есть целый разворот: с берега сняты идущие от лодок в воде солдаты, поднявшие винтовки над головой для того, чтобы их не замочить. Отец подписал имена многих солдат на фотографии: Роджерс, Кинни, Браун, Гаститус. Лица некоторых перечеркнуты крестом.
В том чемодане мы нашли, наверное, все счета, которые отцу пришлось оплатить за всю жизнь. Он не верил банкам и считал, что сберегательные счета и кредитные карты придумали для того, чтобы мы не замечали, как тратим деньги. Если бы к нему пришел представитель газовой компании и заявил, что тот в 1947 году недоплатил три доллара за газ, то папа бы достал перевязанную резинкой пачку квитанций и показал ему выцветшую бумажку со штампом «оплачено». Отцу так и не пришлось воспользоваться плодом своих трудов. По вечерам, раскладывая в хронологическом порядке оплаченные квитанции, он говорил нам с сестрой: в любой момент какой-нибудь сукин сын-республиканец (его выражение) в костюме может захотеть выжать из работяги три доллара, и тогда этот архив пригодится.
Эти самые республиканцы были страшилками моего детства. Когда-то я спросила отца, что он имеет в виду (помнится, это было во время дебатов Кеннеди и Никсона) Он ответил, что республиканец – это тот, кому еда не лезет в горло, если он не знает, что на земле кто-то голодает. Скажу честно, долгое время я полностью была согласна с этим определением. Страшнее республиканца в лексиконе отца было только одно слово – «штрейкбрехер»[6].
Штрейкбрехеры были излюбленной темой отца. Я помню, как однажды утром забирала его на его машине с ночной смены. Я пересела на пассажирское сиденье, а он сел за руль. Вместе с ним в салоне появился запах кофе и чистящего средства, которым он отмывал руки от нефти.
– Представь себе, – сказал он, – если бы я знал математику и другие науки, то мог бы стать бригадиром, – в знак приветствия приподнял свою пластиковую каску перед огромными цистернами с бензином и огнями нефтеперерабатывающего завода. – Получал бы в год чистыми двенадцать тысяч долларов. Некоторое время назад меня вызвал мистер Бригс. Его секретарша сделала мне кофе, как мне нравится. У него в кабинете стол шире хайвея из красного дерева. Он говорит: «Пит, если ты перейдешь на другую сторону пикета, то станешь в семью гораздо больше приносить». Я отказался и поблагодарил его. Мы пожали руки. Через пару дней он назначил бригадиром старого Бугера, – я не стала спрашивать, кто такой Бугер, потому что не хотела прерывать его рассказ. – Так вот Бугеру быстро поплохело. У него голова и спина стали болеть. Живот раздулся и стал через ремень переваливаться. Стал от колик страдать, – отец затушил сигарету о боковое окно и задумался.
– Понимаешь, сгорел на работе. И сейчас его жена вдова. На деньги повелся, мать твою. Чертов штрейкбрехер, сукин сын.
При слове «штрейкбрехер» костяшки его рук на руле побелели.
– Вот так, переходишь на другую сторону пикета, и я говорю не только о своей работе. Я говорю о любом пикете. Пусть это будет профсоюз аптекарей или столяров, без разницы.
Далее следовала тирада о том, что нельзя вырывать хлеб из рук младенцев и детей.
В самом низу чемодана под стопкой нераспечатанных нарядных рубашек из сетевых универсамов, которые мы дарили отцу на Рождество, мы нашли носок со скрученной в трубочку пачкой денег. Приблизительно три тысячи долларов. «Деньги на игру», – думаю я. Или своего рода страховка на будущее.
II. Бабуля со странностями
Если папино прошлое для меня иногда реальнее, чем мое собственное настоящее, то прошлое мамы совершенно пусто и безлико, как пустыня в Западном Техасе. Она родилась в так называемой Чаше Пыли[7], усеянной ветряными мельницами и редкими ранчо с хлопковыми полями. Вместо кошки у нее была рогатая жаба. По ее словам, первые десять лет своей жизни она не видела дождя. Небо над головой стояло высоким и безоблачным, обезвоженным, как камень.
В Личфилде дожди были обильными и частыми. Эта часть штата находится на широте субтропиков, откуда рукой подать до Мексиканского залива. Самое высокое место здесь на метр ниже уровня моря, местность болотистая, поблизости протекают две реки. Любая ямка тут же наполняется солоноватой водой. Даже вырытых перед домом канав (там, где, как я позже выяснила, должны находиться тротуары) было недостаточно, чтобы сдержать распространение болота. В этих местах никто делал подвалы. Но когда по радио предупреждали о приближающемся торнадо, все, кроме матери, прятались в дверных проемах или в ванных. Мать открывала двери и окна. Мне кажется, что я и сейчас слышу, как дождь стучит по широким листьям банана со звуком, как мы тогда шутили, словно корова писает на гладкий камень.
Помню, как однажды мы увидели черную воронку торнадо над футбольным полем на противоположной стороне улицы. Торнадо вырвал из земли огромный бетонный столб, словно это была скрепка для бумаги. Это произошло всего в пятнадцати метрах от нашего дома. Я положила голову маме на колени и заткнула уши. Мама обожала такие явления природы.
У меня всего одна ее детская фотография. Она одна на широком беленом крыльце в маловатом по размеру пальто из грубой шерсти. Смотрит прямо в объектив из-под светлой мальчишеской челки. Родители назвали ее Чарли – не Шарлоттой, не Шарлен, а именно мужским именем Чарли, что неоднократно вызывало изумление окружающих. Во время Второй мировой войны была объявлена мобилизация, и ей даже прислали повестку. Матери было два с половиной года, когда сделали эту фотографию. Тогда она заболела воспалением легких из-за холодного северного ветра. Доктор пытался сбить температуру: маму обтирали губкой с холодной водой и поили с ложки напитками с виски. Он сказал: «Ребенок умрет, если не к полудню, то точно этой ночью». Моя бабушка Мур была в ужасе от такого известия. У нее были сложные роды и больше не могло быть детей.
В тот день бабушке в голову пришла одна идея. Она сразу взбодрилась, потому что, как и мама позднее, испытывала облегчение от загруженности делами. Бабушка умыла и причесала мать, после чего вызвала городского фотографа. Она решила: если Чарли Мари умрет, то надо поторопиться, чтобы оставить на память ее фотографию. Дедушка наотрез отказался выводить больного ребенка на улицу и даже пригрозил бабушке разводом, но та настояла на своем.
Итак, морозным январским вечером бабушка одела дочь в ярко-красное пальто и выставила на крыльцо, где было достаточно света для съемки. Мать вспоминала: ветер со Скалистых гор дул так сильно, что едва не снес ее с крыльца, будто бил по лицу огромной белой рукой. Между их домом и Скалистыми горами на полторы тысячи километров расстилалась равнина, и ветер не встречал преград на своем пути. На фотографии о мамины ноги трется пестрая кошка. По фотографии видно, что ее сделали в спешке. Мама говорила, что не чувствовала себя умирающей. Кружилась голова, и ей хотелось прилечь, но окружающие поддерживали ее в вертикальном состоянии.
Эта семейная история, слава богу, имеет счастливый конец. Случилось чудо. Когда на следующее утро в дом пришел священник для того, чтобы утешить родителей, мама лежала в кровати, делала себе из тряпок куклу и сосала пропитанные виски конфеты, которые ей ночью купил в лавке дедушка. Бабушка потом говорила, что ребенка спас свежий воздух.
Я помню, что мы лишь раз навещали бабушку в Лаббоке. Тогда мама в первый раз грозилась развестись с отцом. Я не помню, из-за чего они в то утро поругались, помню только, что она швырнула в стену на кухне тарелку овсяной каши, схватила свою соломенную дамскую сумочку и потащила нас с сестрой к машине. Мы с сестрой были в пижамах, и она даже не удосужилась нас переодеть.
Помню, что перед тем как пойти в ресторан «У Стакки» на завтрак, Лиша уговорила мать купить нам платья. (Даже в те времена у Лише чувство приличия было развито в гораздо большей степени, чем у меня. Например, описавшись, я просто снимала трусы и продолжала играть дальше.)
Вечером где-то за Далласом мы остановились, чтобы купить гамбургеров по пять центов. Я с Лишей играла в ювелирный магазин на заднем сиденье. Установленные сестрой правила игры были следующими: я платила ей настоящие деньги за выдуманные драгоценности. У нее была красная жестяная коробка из-под печенья, набитая пуговицами самых разных форм и цветов, в том числе из горного хрусталя и латунные, в форме восьмерки. У меня была отцовская стеклянная туба для сигары, в которой лежали пяти- и десятицентовые монеты и пластиковый кошелек Барби с защелкой с монетами по одному центу. К тому времени, когда мы подъехали к Форт-Уэрту, Лиша выманила у меня все десятицентовые монеты под предлогом того, что они ничего не стоят, потому что самые маленькие по размеру.
У меня остались одни одноцентовые монеты, и Лиша уговаривала меня обменять их на белые пластмассовые пуговицы, которые, по ее словам, были из жемчуга, когда в первый раз за тот день небо над нами потемнело.
В Западном Техасе небо кажется большим, чем где бы то ни было. Здесь нет ни гор, ни деревьев. Построек тоже мало, разве что нечастые автозаправки. Я не представляю, зачем двигались в эту сторону переселенцы, видя впереди лишь пустоту. Небо в этих краях безбрежное, а пейзаж – безликий и монотонный. Даже сейчас, когда едешь здесь, понимаешь, что движешься, только по проносящимся мимо телефонным столбам. Поэтому потемневшее небо произвело на нас сильное впечатление. Казалось, что кто-то накрыл небывало светлый простор брезентом. Марево на асфальтовой дороге впереди нас никуда не делось, но небо стало грязно-серого цвета.
Лиша показала пальцем на несущееся в нашу сторону темное облако. Мы были хорошо знакомы с торнадо, но это облако было совершенно другое. Торнадо иссиня-черный, а это облако было цвета старого цента, гораздо шире, не имело конической формы и двигалось медленнее. Нам казалось, что оно все еще далеко, как вдруг о ветровое стекло стала ударяться саранча, будто бы начался град. Мы приближались к облаку, и гул от крыльев нарастал. Потом мы въехали в него, и солнце погасло, словно выключили настольную лампу.
Все произошло практически мгновенно, совсем не как приходит дождь или даже налетает торнадо. Мать остановилась у обочины, я начала плакать, и саранча облепила машину, покрыв ее глубокой коркой, мерзкая, противная саранча! Насекомые шуршали, как тараканы. Эти звуки многократно усиливали железная коробка автомобиля и мое воображение. Мать, бормоча: «О Боже, Боже, Боже!», начала поспешно закрывать окна, чтобы саранча не попала в салон, но не успела. Я громко закричала и упала на пол, закрыв голову руками, как нас учили делать при взрыве атомной бомбы. Лиша сняла с ноги вьетнамку и начала ей лупить саранчу со словами: «Вот тебе, получай, сукин сын!»
Очень странно, что потом она стала бояться тараканов как огня. По утрам дома достаточно было вытрясти таракана из тапка, чтобы Лиша полезла на стену. Сестра могла спокойно выпотрошить енота или змею, но при виде летающих тараканов превращалась в тряпку. Удивительно, потому что в тот день она совершенно бесстрашно убивала насекомых.
Вскоре облако саранчи вокруг нашей машины рассеялось. Казалось, что все вокруг нас остановилось. Лиша пнула меня ногой, чтобы я перестала плакать. Довольно долго в тишине раздавались только треск и гудение насекомых.
Саранча исчезла так же быстро, как и появилась. Лиша еще раз пнула меня, чтобы я посмотрела в окно. Я подняла голову и увидела, как саранча исчезает с заднего стекла автомобиля. У нас на глазах она собиралась в сгущающееся облако. Переднее стекло было облеплено трупиками насекомых: усики, все еще движущиеся ножки и раздавленные тельца. Облако с жужжанием поднялось и пропало из виду. По обеим сторонам дороги простирались пустые поля. Вскоре мы доехали до бабушкиного дома на окраине Лаббока.
Бабушка никогда не скрывала того, что ей не нравился наш отец. Вероятно, ее тактичность пропала десятилетиями ранее со смертью дедушки. Она обрадовалась, что мать, наконец, пришла в чувства, после чего незамедлительно заставила нас работать: варить и закатывать в банки дьявольски сладкое варенье из апельсиновой корки с имбирем. Стерилизованные банки стояли по всей кухне. Я была ленивым и не привыкшим к труду ребенком, а в доме у бабушки, казалось, всегда находилась работа: надо было толочь гороховое пюре, собирать и солить огурцы или передвигать тяжелый комод. Я двигалась как сонная муха, а вот Лише очень нравилось точно выполнять указания бабушки.
От того дня у меня осталось воспоминание, как мы вчетвером собрались в ванной комнате в бабушкином доме. Бабушка только что вылезла из ванны и наносила на все тело присыпку с помощью большой желтой пуховки. Однажды, когда я была совсем маленькой, бабуля поставила мне клизму, и с тех пор я ее побаивалась, помня, как много силы в ее худом теле. Тем не менее голой бабушка казалась ранимой, хрупкой, как черепаха без панциря. Голая мама выглядела гораздо привлекательней.
В те годы женское нижнее белье напоминало доспехи средневекового рыцаря: чулки плотные до того, что их можно поставить в угол, а лифчик выглядел как две ракеты. Мама расстегнула пояс, который упал к ее ногам и съежился. Зачем в такую жару она носила этот пояс, не представляю. Его пластиковая пряжка оставила у нее на животе след, похожий на отпечаток бриллианта. Рядом с этим отпечатком я заметила небольшой шрам, который остался у нее после моих родов. Мать вошла в воду с грацией натурщицы, которой она подрабатывала во время учебы в школе искусств в 1940-е. Тело, как изгибы виолончели.
Я сидела на унитазе в ожидании своей очереди и играла с зажимами для волос. Они были стальными, с зубчиками, оставлявшими следы на пальцах. Бабушка рассматривала свое бедро и одновременно завивала крашеные волосы перед раковиной. Она сказала Лише, чтобы та прополоскала в раковине мамины чулки, но сестра продолжала задумчиво надевать на руку и стягивать чулок, как змеиную кожу. Бабушка бросила на Лишу взгляд, означающий «Пошевеливайся!». Я попыталась забрать второй чулок у сестры, но не тут-то было.
– Чарли Мэри, нельзя воспитывать детей, как язычников. Маленькая у тебя даже шнурки не умеет завязывать, – укоризненно произнесла бабушка.
Я не стала оправдываться, а поднялась с унитаза и сняла с себя трусы в красных яблоках. Лиша научилась завязывать узлы в три года. Когда сестре исполнилось пять лет, бабушка научила ее плести кружева. Лиша моментально сплела десяток салфеток. Бабушка разложила их на диване, чтобы закрыть потертые места. Сколько бы мне ни показывали, как завязывать шнурки, я была не в состоянии заставить свои пальцы повторить эту операцию. В то время окружающие считали, что я не столько глупая, сколько упрямая.
Мать отмокала в ванной с мятно-зеленой салфеткой из махровой ткани на лице. Я вспоминаю бабушкин дом как место, где мама молчала, а бабушка постоянно тараторила и учила ее жить.
– Надо покупать только «Криско»[8]. Все остальное – полная ерунда, – говорила она, намазывая лицо кремом. – Даже не думай покупать что-либо другое. Капля ароматизатора, и Чарли Мэри понесется заплатить за чайную ложку аж доллар. Она обожает транжирить! У тебя еще остались те глиняные горшки, которые я выдала тебе в Ларедо?
Тут уже мать заявляет, что вода ледяная, и просит подать ей халат.
На следующее утро мы поехали навестить мамину двоюродную сестру Дотти. Ее муж Фермин владел огромным участком в местечке Раундап в Техасе, где выращивал хлопок. Их семья жила в огромном белом доме, в котором было так много спален, что каждая из нас могла спать в отдельной. Мы с сестрой никогда раньше не видели такого роскошного дома. Там были бассейн и погреб, где можно прятаться от торнадо. Порядок поддерживала служанка, она же готовила соленья и маринады. Если Дотти хотелось солений, надо было только открыть банку. Ее дочь Тесс красила ногти на ногах в серебристо-белый цвет, и в ее комнате был девчачий розовый телефон. Сын Дотти Роберт ходил в галстуке в церковную школу.
Когда навещаешь родственников, живущих на ранчо, перво-наперво тебе показывают урожай, скот или другие результаты их трудов. Затем достают семейные альбомы и награды своих детей. Спрашивать у родственников с ранчо сразу о детях – верх бестактности. Об этом можно поговорить позднее, после обеда.
Мы поехали по грунтовке осматривать гектары хлопка. При виде бесконечных проносящихся за окном рядов растений у меня едва не закружилась голова. Каждый новый ряд словно отмерял секунды, и уходили эти ряды до горизонта. Дотти сказала, что, к счастью, саранча в этом году не тронула их посевы. Насекомые действовали хаотично, точно так же, как и торнадо: сарай разлетится в щепки, а дом рядом с ним останется нетронутым. В этом году владельцам ранчо повезло.
Бабушка рассказывала, что подростком отец отправлял ее работать в поле. Та же судьба постигла еще одну ее сестру, Эрлу, а три остальные сестры оставались дома заниматься пением. Они были симпатичными, и родители надеялись «хорошо выдать их замуж». Это, конечно, не означало, что девушки будут счастливыми, а всего лишь то, что они не будут работать в поле. На старой фотографии своей бабушки я вижу пять девушек-блондинок. Они такие тоненькие, что кажется невероятной работа в поле для двух младших. У сестер вышитые воротнички и распустившиеся викторианские розы в слегка небрежных прическах, как у дам на картинах Чарльза Д. Гибсона. Девушки бледные, чуть ли не просвечиваются, их губы и щечки немного подкрашены персиковым цветом поверх черно-белой фотографии.
На середине поля Дотти остановила свой кадиллак, и мы вышли из охлажденного кондиционером салона. При более близком рассмотрении кусты хлопка казались очень черными и похожими на пауков. На каждом кусте были десятки белых облаков хлопка, а в каждом «облаке» – множество продолговатых коричневых зерен. Бабушка уверенно сорвала хлопковую вату и быстро выбрала из нее семечки. Она показала нам с Лишей, как, словно паук, вить из хлопка тонкую нить, скручивая и пропуская хлопок между большим и указательным пальцами.
Хлопок был страшным растением, по ее словам, как и все другие культуры, которые дают хорошие деньги. Он высасывал все из земли, а также из тех, кто с ним работал. Когда я выросла, я прочитала биографию Линдона Джонсона, написанную Робертом Каро. Большая часть первого тома была посвящена описаниям тяжелой жизни деревенских женщин и мест, очень похожих на Чашу Пыли. Воды в этих местах было так мало, что к тридцати годам у женщин появлялся горб от таскания ведер несколько раз в день. Их лица были сморщены от солнца, а кожа на руках становилась как дубленая. Практически в каждой семье умерло несколько детей, и от этого женщины в душе черствели, ожесточались. Я смотрела на фотографию в золотой овальной раме над кроватью матери и не могла себе представить, чтобы кто-то решил занять эти белые женственные руки тяжелой работой в поле.
Мы стояли в нашей лучшей воскресной одежде, бабушка вытирала виски платком. Вблизи были сарай и высокая силосная башня, кругом сновало множество мексиканских рабочих. Бабушка отметила, что Дотти удачно вышла замуж, и эта реплика предназначалась моей матери. Мать промолчала. Потом она достала свой большой альбом и кусочек угля с заднего сиденья и пошла к сараю. Я пошла было за ней следом, но она велела мне остаться. Лиша тут же заявила, что я еще маленькая, а я кинула ей в колено камушком. Потом бабушка взяла меня за плечо своей костлявой рукой, отвела к автомобилю и оставила сидеть в полном одиночестве.
Уже на пути домой мы зашли в сарай за мамой. Я разглядывала дверь машины Дотти, которая меня потрясла до глубины души. Когда я ее открывала, мне показалось, что дверь эта весила килограммов тридцать и вся зажглась, как рождественская елочка. Мать говорила по-испански с двумя рабочими, смотревшими на ее рисунок. Один из них быстро спрятал небольшую бутылку с прозрачной жидкостью в задний карман. Когда мать снова села в автомобиль, я не почувствовала запаха алкоголя, но она стала говорить на северный манер, глотая слова, как обычно бывало, стоило ей чуть выпить. Я за все годы видела десятки тысяч ее эскизов, но по какой-то непонятной причине я запомнила именно этот – быструю зарисовку мужчины в летах с высохшим лицом в сомбреро на голове, сделанную размашистыми штрихами почти без теней. Она вынула из сумочки лак для волос и сбрызнула рисунок, чтобы его зафиксировать, прежде чем закрыть альбом. Я удивилась: никто не попросил его посмотреть.
Мы остановились в Раундапе на несколько дней. Проблема у семьи Дотти была одна: от Роберта залетела его школьная подружка. Эта барышня была католичкой, поэтому без свадьбы было не обойтись. Юная невеста расхаживала по дому в футболке жениха и животом, большим, как воздушный шар. Обоим было по пятнадцать лет, и спали они в его детской на двухъярусной кровати. В те дни подобные проблемы у людей случались часто. Планировалось, что Роберт окончит школу и будет заниматься хозяйством, чтобы потом унаследовать ранчо.
Наверное, в качестве репетиции отцовства Роберт обратил на меня внимание. Пока Лиша училась у Тесс подкрашивать глаза и пушить прическу, я с ним играла в крестики-нолики мелками на грифельной доске. Потом он нарисовал мне крушение поезда, которое видел. На картинке руки и головы были раскиданы по хлопковому полю. Хлопок был удивительно детально прорисован, а все остальное – не очень, скорее как набросок. Потом он уложил меня в кровать и рассказал чудовищно неправильный вариант сказки о Румпельштильцхене, в котором злой колдун заставил девушку саму плести из соломы золото. Сказка была такой страшной, что мне тут же приснился кошмар. Я его по сей день помню. В том сне изо рта злобного карлика вылетала саранча, и он угрожал матери отнять ее дитя. Я проснулась и убедила Лишу разрешить мне спать с ней. Она согласилась лечь валетом, чтобы я нюхала ее пятки. Утром Дотти выговорила Роберту за то, что он меня напугал, и тот потерял интерес к играм со мной.
Позже мы Робертом поддерживали связь. Через два года он прислал мне поздравительную открытку на день рождения из Чайна-Бич во Вьетнаме. Как ни странно, по словам матери, я произвела на него хорошее впечатление, и отправила ему одну из моих школьных фотографий. Он в ответ прислал мне свою в камуфляже. Он держит что-то вроде гранатомета и целится в пальму. Через три года, уже дома, Роберт отмечал двадцатилетие. Вдруг он встал из-за праздничного стола со словами, что не понимает, почему он жив, а его друзья погибли. Потом ушел плакать в спальню. Когда его жена и сын разрезали торт, раздался выстрел.
Это не единственная история, свидетельствующая о том, что по линии матери от поколения к поколению передавалась нервность. Среди ее родственников многие совершали странные поступки. Ее папа получил инженерное образование и открыл автозаправку, чем не обрадовал своего отца-банкира. Был какой-то далекий дядя Эрл, который, напиваясь, переодевался в матадора. Мамин дедушка по материнской линии был бутлегером и давал ей десять центов за то, чтобы послушать, как она ругается матом. Вот это действительно было странным. Но большинство имен на огромном генеалогическом древе, стоявшем в тяжелой пластиковой окантовке на кофейном столике в доме бабушки, для меня ничего не значили.
Однажды за завтраком бабушка поспорила с матерью о том, что ее помада слишком темная. Бабушка «взялась» за маму всерьез и отступать не собиралась. Мать решила вернуться к отцу. Она запихала нашу одежду в отцовский кожаный саквояж и во второй раз засунула нас, одетых в пижамы, в машину. Бабушка в это время завивала волосы. С головой, покрытой железными заколками, она высунулась из окна. Часть локонов выбилась, и она стала похожа на Медузу-горгону. Пока мать заводила машину, бабушка громогласно называла Личфилд болотом, отстойником и задницей мира. Приторно-сладкий, гиацинтовый запах бабушкиных духов чувствовался в машине до тех пор, пока мать не закурила.
Мы ехали всю ночь. Лиша спала, растянувшись на заднем сиденье, а я – на полке перед задним стеклом. Разбудила меня в буквальном смысле вонь родного города. Нефтеперерабатывающие заводы и химические предприятия, использующие нефтепродукты, пахнут тухлыми яйцами. Когда дует с Мексиканского залива, воздух хороший, но это случается нечасто. К тому же Личфилд расположен в низине, поэтому все то, что выбрасывают заводы в воздух, в жару сгущается и оседает. Потом я узнала, что в Личфилде изготовляли «Агент Оранж», и это меня нисколько не удивило. В то утро все вокруг меня пахло, словно кто-то подло пернул в тесной комнатенке. Я открыла глаза. В полях кругом виднелись несколько буровых установок, работавших в медленном темпе. Они всегда напоминали мне ковбоя во время родео или официанта, который все время кому-то кланяется. На горизонте маячили силуэты нефтеперерабатывающих заводов с факелами горящего газа, по ночам освещавшими небо кислотно-зеленым светом. На километры растянулись огромные белые цистерны для хранения нефти, как брошенные яйца какого-то страшного доисторического животного.
Я вовсе не преувеличиваю серьезность экологической катастрофы Личфилда: однажды журнал «Бизнес Уик» назвал его одним из десяти самых некрасивых городов во всем мире. Когда вышла статья, мать работала внештатным корреспондентом в местной газете, и мэр города, основной задачей которого было включать каждое утро светофор, созвал пресс-конференцию. Мать взяла нас с Лишей. Там присутствовал еще один репортер из газеты «Порт-Артур Ньюс». Он жевал табак и сплевывал в жестяную банку из-под пива. Пресс-конференция проходила около здания пожарной команды, на фасаде которого висел ярко-синий флаг с золотыми буквами девиза города: «Лифчилд заправит всю планету!» Мать сфотографировала мэра поляроидом на фоне этого флага с номером журнала «Бизнес Уик» в руках, словно он выиграл его в лотерею. Репортер из «Порт-Артур Ньюс» заявил нам с Лишей, что чувствует себя, словно должен написать статью о победителе конкурса «Кто съест больше говна». Потом мы стояли вокруг пожарной машины, угощаясь печеньем в форме полумесяца, посыпанным сахарной пудрой. Его принесла в пластиковом контейнере «Тапервер» жена мэра. Эта сцена полностью подтверждала верность высказывания отца о том, что Личфилд – слишком уродливый город, чтобы его не любить.
На рассвете мы подъехали к дому. Когда несколько дней до этого мы уезжали, колеса старой «Импалы» оставили на земле глубокие борозды. И именно в эти следы шин мы въехали по возвращении.
Отец недавно пришел с ночной смены и брился над раковиной в кухне, его каска лежала на сушке для посуды. Он всегда брился без зеркала, с мылом и холодной водой. Эта привычка осталась с войны. Отец не любил смотреться в зеркало, и это, можно сказать, было проявлением его скромности. Ворвавшись на кухню, мы с Лишей увидели его голым до пояса с небольшими порезами по всему подбородку. Мы обхватили его худые ноги, словно никуда и не уезжали. Точно так же, как когда-то его отец, он мог спросить нас, принесли ли мы кофе.
Мать неоднократно грозила ему разводом, но каждый раз он только закатывал глаза. Он вообще не рассматривал такого варианта. Когда после очередной его ссоры с матерью я выспрашивала у него о вероятном исходе событий, он говорил, что мне не стоит плохо отзываться о матери, словно само предположение о разводе ее унижало. В мире отца разводятся только полные сумасшедшие. Обычные граждане просто терпеливо все сносят.
Например, его дядя Ли Глисон не разговаривал с женой последние сорок лет до самой своей смерти, но ни разу не подумал о разводе. Отец рассказывал, что дядя и тетя Ани перестали разговаривать в тот самый год после спора о том, сколько денег она потратила на сахар. После этого Ани Глисон оседлала старого мула, которого держали для того, чтобы лошади вели себя спокойнее, и, загребая придорожную пыль сапогами, поехала в Анхуак, штат Техас. Там она купила двадцатипятикилограммовый мешок сахара. По возвращении тетя въехала в сарай, в котором мой отец вместе с дядей Ли только закончили подковывать лошадь. Не слезая с мула, она достала из кармана фартука нож и, глядя прямо в глаза дяде Ли, разрезала перекинутый через седло мешок. Сахар высыпался, словно вода вылилась.
Я помню, что отец рассказал эту историю, когда ловил окуня вместе с Кутером, Шагом, Беном Бедерманом и мной. Мы были в большой моторной лодке Бена, где было гораздо удобнее, чем в плоскодонках, которые мы брали напрокат. Каждый из нас сидел на подушке с надписью «Кока-Кола». Я точно не помню, сколько мне тогда было, но я еще не переросла тот возраст, когда ездят на рыбалку с отцом, так что, наверное, лет одиннадцать. С другой стороны, я не уверена, что переросла бы это занятие вообще когда-либо. Зловонный дым от сигары Кутера возносился ввысь. Я рывками быстро тащила по поверхности воды ярко-желтую блесну. Интересно, чем кажется эта блесна окуню в тине? Мне больше нравится ловить на пластикового червяка и забрасывать его на глубину, но Бен уговорил меня попробовать ловить так.
– И что же дядя Ли? – спрашивает Кутер. Иногда мне кажется, что Кутера берут на рыбалку только для того, чтобы он задавал наводящие вопросы. Он ни разу не поймал ни одной рыбы.
– Что он сделал? – переспрашивает отец и наклоняет голову. – Да ничего не сделал. Просто головой покачал и сказал: «Глупый ты сукин сын». И это были последние слова, которые он сказал своей жене.
– Папа, расскажи, как они делили дом.
– И вот так продолжалось десять лет, – говорит отец, доставая из холодильника пиво. – Сперва они писали друг другу записки и оставляли их по всему дому. Списки того, что надо купить, и все такое. Но потом они и это забросили. И тут произошло самое интересное. Ли стал понимать, что хочет Ани даже до того, как ей этого захотелось. И наоборот. Допустим, ей нужно сало, и вот на кухню входит Ли с большим шматком сала. Или Ани просыпается, и ей хочется бисквитов. Она выходит на кухню, а там уже тесто с крышкой от банки, чтобы придавать ему форму.
Шаг произносит «Мммм» в смысле «что за чудеса?».
– И они ни словечком не обмолвятся, – продолжает отец. – Спят в одной кровати. Едят из одной тарелки. И вот я вернулся из Германии и приехал их навестить. Иду по дороге, и тут дядя Ли едет мне навстречу в джипе. «Ааа, Пит, – говорит, – вот ты-то мне и нужен». И рассказывает план.
– На следующее утро они, как обычно, не разговаривают. Ани меня крепко обнимает и говорит со мной, словно Ли в комнате и нет. Она готовит яичницу с беконом и овсянку. Мы завтракаем, и потом она уходит в церковь, а мы с дядей берем большую ручную пилу и распиливаем дом ровно пополам. Сверху вниз, от крыши до пола. И когда она к вечеру вернулась на джипе домой, мы уже трактором зацепляли ее половину, чтобы оттащить куда подальше.
– Ну а она-то чего-нибудь сказала по этому поводу? – недоумевает Шаг, распутывая узел на моей зеленой нейлоновой леске.
– Она ни фига не сказала, – отвечает отец и говорит мне:
– Я бы на твоем месте попытался закинуть вон в ту осоку, – и показывает рукой с банкой пива. – Я бы точно туда закинул.
Он часто оставляет свою удочку, чтобы мне помочь. Но сегодня я чувствую себя слишком взрослой, ведь мистер Бедерман убедил меня удить на блесну, а не на пластмассового червяка.
– А чего они не развелись? – спрашивает Шаг.
Отец смотрит на Шага как на умалишенного и пожимает плечами. Я забрасываю крючок поближе к осоке и думаю о распиленном доме, половинки которого растащили в разные стороны по поросшему соснами участку. Ли с отцом забили досками место распила. Я представляю себе распиленный дом, и у меня по телу идут мурашки.
Может быть, отцу и матери следовало бы так и поступить. Я даю себе слово, что, если это произойдет, я убегу от них и буду жить в туалете на заправке «Эссо», питаться хот-догами по тридцать пять центов в один день и кукурузными лепешками, которые продаются на улице, в другой. А чтобы заработать, буду чистить людям обувь у парикмахерской.
У матери сохранилась копия карты, которую я оставила ей, когда однажды убежала из дома. На этой карте от нашего дома до заправки «Галф Ойл» нарисован от руки пунктир и женский туалет помечен жирным крестом.
Я действительно сбежала в пятнадцать, и до этого даже не подозревала, что, сбеги я, никто не будет меня искать. Все решат: куда бы я ни направилась, там наверняка лучше, чем в Личфилде. Я уроженка Техаса в седьмом поколении. Мои предки переехали сюда из Теннесси, а до того – из Ирландии. Таким образом, историю моего рода можно описать емкими словами Гарри Крюса: «Будет работа, пиши». На протяжении нескольких поколений мои предки запрягали волов и шли на запад. Для меня было сложно сбежать в том смысле, какой вкладывают в это слово американские подростки. В нашей семье любое движение воспринималось как прогресс.
Иногда, когда родители ругались на кухне, мы с Лишей мечтали о том, что найдем хижину на пляже и будем там жить. Мы сидели по-турецки, накрывшись синим одеялом, и в свете фонарика пародировали родительские ссоры.
– Сцена 128, дубль шестой. Камера, мотор, снимаем! – говорила Лиша. Мы убеждали себя: все услышанное – лишь эпизод длинного фильма, который мы снимаем. Она подсвечивала фонариком свое лицо снизу и втягивала щеки так, что черты ее лица становились более острыми, как у матери. Кроме этого Лиша прекрасно имитировала северный выговор матери, который у нее появлялся под действием алкоголя или стресса. Представьте себе Кэтрин Хепберн, говорящую как проповедник:
– О, как я хотела бы, чтобы Господь поразил мою машину молнией до того, как я переехала проклятую границу Восточного Техаса и попала в эту дыру!
Иногда Лиша начинала плакать и повторять, как Глория Свенсон в мелодраме: «Нет надежды, нет никакой надежды!», прижимая запястье ко лбу как пришитое.
Я исполняла роль отца. Для этого не требовалось особого таланта, так как он или молчал, или говорил настолько тихо, что его не было слышно. Отец громко и отчетливо произносил лишь одну фразу: «Поцелуй меня в задницу!» Часто он советовал также поступать и матери: «Скажи им, пусть поцелуют тебя в задницу!» Под «они» имелись в виду налоговая служба или проповедники, стучавшие в двери с душеспасительными беседами. По любому поводу можно было ожидать предложения послать «их» в задницу.
Иногда из кухни доносился звук удара о линолеум, и мы бежали посмотреть, кто что швырнул или кто вырубился. Если родители нас замечали, то шипели, чтобы мы немедленно ложились в кровать. Папа мог сказать: «Ну-ка в кровать! Вас это не касается», а мать – указать на нас пальцем и сказать: «Не смей так говорить со мной при детях!» Однажды я услышала, как отец взревел, после того как мать вылила на него спящего стакан водки и бросилась к задней двери. Мы выскочили на кухню в тот момент, когда отец подтащил ее к раковине и методично вылил ей на голову три стакана воды. Той ночью их ссора закончилась громким смехом. Они так развеселились, что отвезли нас на «Ночь игуаны»[9] в кинотеатр под открытым небом и обнимались на передних сиденьях автомобиля.
После каждой такой ночи, выходя на крыльцо, мы замечали взгляды соседей. Скрывая свой интерес, они выбрасывали мусор или косили газон с невинным видом. Иногда мне казалось, что наш дом разделен точно так же, как и дом Ли и Ани. В моем воображении любопытные взгляды соседей пробуравили в стенах нашего дома дырки, и теперь они будто источены червями. Я не могла избавиться от мысли, что каждый раз после ночной ссоры родителей соседи смотрели на нас с подозрением. Может быть, у меня просто появилась паранойя. В супермаркете какая-нибудь соседка могла, случайно толкнув нашу тележку, машинально спросить: не желает ли мама заглянуть к ней на кофе? Впрочем, на лицах соседок всегда появлялось облегчение после неизменного вежливого отказа. Женщины никогда не стучали в нашу дверь, когда искали, с кем бы пообщаться. В наиболее набожных семьях детям не разрешали даже заходить к нам во двор.
Не буду утверждать, что все это вина одной матери. И отец был в состоянии кого угодно напугать. Бывало, что он только и ждал повода для драки. Например, однажды он уложил одним ударом молодого водителя грузовика «Кока-Колы» за предположение о том, что нам пора выбираться из Вьетнама.
Да и мы с Лишей при первой удобной возможности вели себя, как дикарки. В двенадцать Лиша могла отмутузить любого соседского мальчишку до пятнадцати лет. Что до меня, помню, как однажды перед канавой в нашем дворе я материла Кэрол Шарп за разбитый нос. Кровь капала на мой новый желтый купальный костюм, один из тех, которые завязываются на плечах и обтягивают ноги. Я точно была не старше шести, что не помешало мне назвать ее маленькой подлой сукой. Ее мать стояла на крыльце их дома и, потрясая шваброй, кричала, что у меня изо рта валятся змеи и ящерицы. Я ответила, что мне совершенно насрать. Следуя папиному совету в любых конфликтах, я успела почти взрослым соседкам предложить поцеловать мою розовую задницу. После этого нужно было бежать как можно быстрее домой, пока не отшлепали.
В конце лета 1962 года из болот и сточных канав появились тучи комаров. Дети начали болеть энцефалитом, который мы называли сонной болезнью. Марлен Сесак полгода пролежала в коме, из которой вышла с мозгами, лишенными пары шестеренок. Другие дети вообще не проснулись, и для местной газеты мать сделала фотографию, на которой было изображено сразу несколько детских гробиков. Коммунальные службы Личфилда отправили дезинсекционный грузовик, чтобы выкурить насекомых. Каждый вечер он разъезжал по улицам города и распылял инсектицид из шланга диаметром с обеденную тарелку. Дети придумали себе развлечение – медленно на велосипедах ехать за грузовиком.
Соревнование по тому, кто придет последним, – идеальное времяпрепровождение для Личфилда. Можно подумать, что нет ничего легче, чем прийти к финишу после всех, но только не на двухколесном велосипеде, на котором если слишком снизить скорость, то упадешь. Надо было ехать не так медленно, чтобы упасть с велосипеда, но и не так быстро, чтобы всех обогнать. Добавьте к этому то, что грузовик выпускал белые облака инсектицида, который делал тело тяжелым и обжигал легкие. Таким образом, мы нашли идеальную игру, где победители блюют и теряют сознание. Я помню, как Томи Шарпа рвало в канаву напротив бассейна. Ширли Картер только успела поставить свой красный велосипед на подножку, как потеряла сознание, и нам пришлось звать на помощь мать Лайла Петита, медсестру. Я не была среди победителей. В толпе ребят я наблюдала, как щеки Ширли розовели и она приходила в чувство, когда меня позвала мать.
Все дети повернулись на ее голос. Она практически не выходила во двор перед домом после того, как миссис Шарп заявила, что она попадет в ад, если будет пить пиво и одновременно кормить меня грудью на крыльце. Мать вроде бы ответила: «Да ты и в развилке ветвей дерева грех увидишь, старая карга». С тех пор отец выносил мусор на улицу и звал нас домой ужинать. При звуке голоса моей матери все дети встрепенулись и повернули в ее сторону головы. Так делают антилопы в документальных фильмах про Африку, почуяв на водопое запах льва.
Я побежала, перескакивая через канавы с мутной водой, прорытые перед совершенно одинаковыми домами. Перепрыгнула через кучу грязи, оставленную речным раком и увидела, что перед нашим домом стоит красный бабушкин «Форд»-пикап. Наша машина из любой, даже самой короткой поездки возвращалась, заваленная фантиками от конфет, бутылками из-под лимонада и банками из-под кофе, в которых могла плескаться моча. Когда я заглянула в салон бабушкиной машины, то по нему можно было предположить, что пожилая женщина пересекла штат лишь с упаковкой салфеток. Мать держала дверь с москитной сеткой приоткрытой и щурилась на солнце, пока я взбегала по бетонным ступенькам крыльца. Ее лицо было испуганным. Она сказала, что у бабушки рак и она у нас немного поживет, но я ни в коем случае не должна никому говорить о ее болезни.
Может быть, несправедливо винить приезд бабушки Мур во всех бедах нашей семьи, но она была такой сукой, что, пожалуй, этого не избежать. Она сидела, как сверженная с трона императрица, в мамином огромном кресле в стиле модерн.
Целыми днями напролет бабушка критиковала мать, которая носилась вокруг нее, сжав губы так плотно, что, казалось, они превратились в знак тире. Занавески ужасные, надо сшить новые. Когда в последний раз мыли в доме окна? (Никогда.) Неужели мать поправилась? Она выглядит полноватой. Я казалась ей слишком темной, как сезонная работница-мексиканка. (Лиша ухитрилась родиться блондинкой, как родственники бабушки. Последняя никак не могла перенести того, что я пошла в отца с его индейской кровью.) Бабушка считала, что я жалко выгляжу. Этот термин она использовала для худых животных и изголодавшихся детей, ловивших по вечерам в притоке реки Тейлор рыбу. (Однажды Марлен Сесак объяснила мне, почему ей приходится ловить рыбу: «Не поймаешь – не поешь».)
Раньше я могла открыть упаковку кукурузных лепешек и съесть их холодными на завтрак (и с удовольствием высосать томатный сок из бумаги, в которую каждая была завернута). Теперь бабушка вырезала из «Ридерз дайджест» пирамиду питания и приклеила ее на холодильник. В нашем доме появились блюда из телепередач, такие как мясной рулет. Его надо было запекать в духовке, которую мать не включала даже для приготовления обеда на День благодарения.
До этого в нашей семье ели, сидя на огромной родительской кровати. Эту кровать сделали из двух, соединив железными вешалками для одежды две спинки. Мать говорила, что ей нужно место, чтобы раскинуться на кровати, из-за большой влажности. Мы с Лишей неправильно расслышали вместо «влажности» «глупость» и поэтому часто говорили: «Все дело не в жаре, а в глупости»[10]. В общем, у нас была, кажется, самая большая в мире кровать, которая занимала всю родительскую спальню. Из-за кровати в комнате совсем не оставалось места, поэтому комод пришлось переставить в коридор. Единственное, что поместилось в спальню кроме кровати, – это медная пепельница в виде корабля викингов с папиной стороны и стопка книг и настольная лампа – с маминой.
Мы ели, сидя по-турецки на кровати спиной друг к другу и лицом к стене, как четырехглавый языческий бог. Тарелки мы ставили на покрывало между ног. Мать называла это «есть как на пикнике». После того как я немного подросла, мне все это показалось странным, и я даже думала написать письмо в газету с вопросом: едят ли другие семьи, сидя спиной друг к другу на родительской кровати, и что это значит?
Но после появления в доме бабушки мы начали есть не просто за столом, но и на скатерти. Мать наняла негритянку Мей Браун, чтобы та стирала и гладила скатерть и салфетки. Раньше мы приходили домой, снимали одежду и переодевались в пижамы или ходили в трусах в любое время дня и ночи. В сильную жару мы часами лежали полуголыми на прохладном деревянном полу перед вентилятором и льдом на кухонных полотенцах. Но после появления в доме бабушки нам пришлось ходить даже в обуви и носках. Кроме этого мы начали каждый день мыться. Помню, как после одной из первых ванн бабушка положила меня на жесткое полотенце у себя на коленях и очищала грязь на шее жидкостью для снятия лака (по ее словам, у меня на шее была короста).
Бабушка занялась нашим религиозным воспитанием, которое до этого сводилось к нерегулярному посещению воскресной школы и выполнению упражнений из маминой книги о йоге (в возрасте пяти лет я прекрасно сидела в позе полного лотоса). Бабушка купила нам с Лишей по белой Библии в застегивавшихся на молнию футлярах.
– Читайте по три главы в день и по пять в воскресенье, и осилите за год, – говорила бабушка. Я даже ни разу не открыла Библию после того, как мне ее подарили. Бабушка имела склонность откладывать все слишком сложное, так произошло и с превращением нас в христиан.
Потом, гораздо позднее, мать рассказала нам о том, что у бабушки всегда были странности. Нельзя назвать ее религиозным фанатиком, скорее, она была фанатиком вообще. Однажды, когда мать была маленькой, бабушка выписала набор для шпиона. Вместе с дочерью она планировала следить за соседями. В те времена население Лаббока не превышало тысячи человек. Мать рассказывала, что бабушка следила за соседями на протяжении нескольких недель. Причина слежки была в желании уличить соседей, но не в изменах или в других смертных грехах, а в том, что они пекут пироги из покупного теста. Бабушка составила список попавших в поле ее зрения жителей в алфавитном порядке и вписывала напротив фамилии ответ на свой вопрос. В отношении особо подозрительных она отмечала, когда человек выходит из дома и когда возвращается. Она умела снимать отпечатки пальцев и хранила отпечатки дочери в своей поваренной книге на случай, если ту похитят. Кроме этого бабушка собирала волосы и пыль в гостях и хранила их в специальных криминалистических конвертах. Она могла спокойно пить чай у какой-нибудь соседки, после чего внезапно засунуть конверт с чем-то вроде пыли в карман передника. Мать не знала, что бабуля делала с доказательствами. Потом игра в детектива закончилась так же неожиданно, как и началась.
Бабушка принесла в наш дом свои странные привычки. До ее появления соседи мало что знали о нашей семье, мы были почти аутсайдерами. Конечно, они слышали звуки ругани родителей в ночи и, вполне вероятно, нами из-за этого пренебрегали, но никто никогда не спрашивал напрямую: является ли наша мать нервной или как у нас идут дела? В церковь мы не ходили. Никто не заходил к нам в гости. Наверное, соседи относились к нашей жизни, как к телешоу с помехами. Теперь, глядя на нас пронзительно-голубыми глазами, бабушка говорила: «Можно предложить?» или «А почему бы вам не…?»
При этом она сама была скрытной. Действовала суматошно, будто по грандиозному плану, но бог знает по какому. Например, в ее огромной черной сумке из крокодиловой кожи кроме обычных вещей, которые может носить женщина ее возраста, скажем, фиолетовых носовых платков и косметики, лежала, честное слово, ножовка. Такие ножовки я видела только в фильмах категории «Б», когда преступники пилят тюремную решетку, чтобы вырваться на свободу. Я не придумываю, моя сестра тоже видела. Мы с ней шутили о том, что держим бабушку в заложниках и она хочет от нас сбежать.
Мне всегда казалось, что в нашей семье недостает внимательной и заботливой женщины. Она бы пекла печенье, завивала мне волосы и шефствовала надо мной. Тем не менее с появлением бабушки мое поведение ухудшилось. Я начала грызть ногти. Я стала выкидывать такие фокусы, что даже отец не находил их смешными. Сорвала новые занавески и ногтями изодрала Лише щеки. Сколько меня ни били, мое поведение не улучшалось. Знатная плакса, я не издавала и звука, когда меня наказывали. Помню, как отец отстегал меня небольшой плеткой. Икры у меня были в полосах и болели, но я твердо сказала: «Давай, бей маленькую девочку, если это поможет тебе почувствовать себя мужчиной». После этого экзекуция сразу прекратилась.
Жизнь Лише была проще, потому что она умела лучше подхалимничать и была спокойнее. Тем не менее общий психологический настрой в доме влиял и на нее. Однажды сестра засунула меня в ящик, выдвигавшийся из стены в ванной, и оставила орать среди заплесневелых полотенец. Там я просидела до тех пор, пока меня не вытащила вернувшаяся из магазина Мей Браун.
Лиша использовала столько лака, приглаживая челку, что ее не мочил дождь и не сдул бы любой ураган. (Я звала ее Шлемоголовой.) Она удлинила все свои платья, чтобы они были ниже колен. На фотографиях тех времен сестра похожа на ребенка, играющего роль взрослого, так что весь ее облик был несуразным – не взрослым и не детским. Однажды она заставила меня забраться себе на плечи, после чего мы надели длинное коричневое пальто, доходившее ей до колен. Так мы ходили по улицам, изображая даму, которая собирает деньги на нужды Американского общества борьбы с раковыми заболеваниями. Никто не дал нам и цента.
Впрочем, в оправдание бабушки можно сказать, что она в возрасте пятидесяти лет умирала от рака. Но даже с учетом этого я не припоминаю ни одного проявления чувств ни с ее, ни с моей стороны. Щеки ее сморщились, как старое яблоко, и вся она пахла гиацинтами. Я заставляла себя целовать ее щеку, несмотря на то что очень любила обниматься и была готова заключить в объятия любого человека, невраждебно настроенного к нашей семье: кассиршу в супермаркете, продавца пылесосов или автомеханика.
Самым неприятным были не изменения вследствие приезда бабушки, а тишина, наступившая с ним. Никто и словом не упоминал о нашей жизни до того. Перемены накрыли нашу семью, как цунами, будто смывая нас прежних. Я догадывалась: стоит только предложить снова пообедать на родительской кровати или раздеться по приходу, как наш дом будет неминуемо опозорен. Судя по всему, раньше мы жили совершенно неправильно.
III. Секрет
Я вкратце описывала развитие бабушкиной болезни интересующимся соседкам: «Сначала ей отрезали ноготь, потом палец, а потом и всю стопу. Потом ее ногу лечили горчичным газом, пока она не почернела. Бабушка кричала без перерыва шесть недель. Ей отрезали ногу. Когда мы пришли ее навестить, она назвала Лишу другим именем. Когда ее перевезли к нам домой, метастазы распространились в мозг, она сошла с ума и муравьи ползали у нее по руке. Потом она умерла».
После этой короткой речи мы с Лишей начинали осматривать соседскую кухню на предмет быстрорастворимых прохладительных напитков и печенья. Мы знали: такой отчет принесет нам бонусы. Через некоторое время Лиша даже научилась выдавливать из себя пару слезинок, после чего нас иногда угощали мороженым. Я бы и слезинки не проронила из-за бабушки, даже если бы меня пытали. Но я знала свою роль и убедительно кивала в подкрепление всхлипываниям сестры. Как практически во всех делах со взрослыми, я давила на жалость, чтобы получить желаемое.
Довольно долго я говорила о медленной смерти от рака бабушки вот так кратко. Возможно, выслушавшие это повествование женщины поражались моей черствости, а не начинали меня жалеть, как я рассчитывала, и спрашивать, как я все это перенесла. Должна признаться, что это неправда. Я так и не смогла выкинуть из головы кошмар, длившийся восемнадцать месяцев.
Лиша раболепствовала перед бабушкой ради относительного покоя и единения с матерью. Я старалась избегать бабушку по неясным причинам. Не знаю, нравилось ли ей меня мыть или расчесывать частым гребнем волосы. Даже сейчас мои чувства по поводу бабушки сводятся к страху. Он будто бы зарождается где-то внизу спины и медленно ползет вверх по позвоночнику, перерастая в легкую панику. Мне хочется сморщиться при звуке ее имени. Я бы с радостью освободила в голове место, которое занимает она в своем кресле на колесах.
Возможно, это отвращение частично происходит из естественного детского неприятия болезни, дряхления. Забота об умирающем отнимает массу сил у взрослых в любой семье, но для ребенка наблюдать, как человек умирает, все равно что смотреть на сохнущую краску. Я не смогла отнестись к этому с пониманием и энтузиазмом. Может быть, другие набожные дети готовы читать Библию своим гниющим заживо родственникам. Я не принадлежу к числу этих детей. Бабушка умирала слишком долго, и мать плакала слишком часто.
Мы не очень хорошо знали бабушку, несмотря на то что меня назвали Мэри в ее честь. На моей памяти мы всего раз гостили у нее в Лаббоке, и то всего несколько дней. Помимо этой поездки для меня слово «бабушка» означало лишь аккуратно написанное красивой ручкой имя на открытках из цветного картона. Одна из них, в форме сердца, лежит в конверте с адресом нынешнего Хьюстонского медицинского центра. По неизвестным причинам она обнаружилась в папиной золотистой коробке из-под сигар. Я открываю открытку и читаю: «Дорогая бабушка, надеюсь, что тебе лучше. Недавно в автокатастрофе погиб высокий мужчина. Вот рисунок». Ниже нарисован человечек в виде горизонтальной линии, у которого вместо глаз крестики. Рядом с фигуркой – округлая машина с нарисованным на ней, как мне сейчас кажется, пластырем. Судя по всему, так тогда я представляла себе смерть.
Итак, совершенно не важно насколько вы постараетесь смягчить свои воспоминания, пересказывая их кивающему психоаналитику, рано или поздно вы словно провалитесь в тишину. И из этой тишины в голове складывается – словно появляется на фотопленке в темной комнате – картина полного и беспредельного ужаса. Даже когда я сама поверила в свою краткую версию бабушкиного рака, иногда занавес приоткрывался, и я понимала, что такое на самом деле страдание. Страдание – это не старик с артритом, который не может открыть кошелек, чтобы достать из него монетку для автомата с кока-колой. Это не малыш, привязанный к бельевой веревке, как собака, на заднем дворе за забором из сетки рабицы в жаркий полдень. Это всего лишь отголоски страдания. У настоящего страдания всегда есть лицо и запах. Их невозможно забыть, как бы ты ни пытался. И страдание знает твое имя.
Доктора лечили меланому на бабушкиной ноге горчичным газом, в результате чего она страшно страдала. Сейчас сложно себе представить более средневековое лечение. Когда я выросла, то прочитала, что горчичный газ использовали во время Первой мировой войны. Этот газ выжигал легкие солдат. Я не могу себе представить, что думали доктора, превратившие нормальную на вид ногу в нечто мертво-окаменелое. Врачи газом убили костный мозг в ноге, оставив мышцы и кожу. Мать говорила, что бабушка, несмотря на морфин, без остановки кричала не несколько дней, а несколько недель. Но гангрену не удалось остановить, и ногу пришлось отрезать.
Узнав о том, что бабушке ампутируют ногу, я не очень испугалась. Мы с Лишей решили, что сможем кататься в бабушкином инвалидном кресле. В то время нам очень нравился Питер Пен, и мы представляли себе бабушку с деревянной ногой в треуголке с пером, черепом и костями, как у Капитана Хука. Однако у Лише хватило здравого смысла не проговориться об этом матери.
Впрочем, мать тогда была так истощена психически, что она не обратила внимания на мои фантазии. Мама, конечно, была нервной, но в тяжелые минуты умела собраться. Она была сильной женщиной. Я наблюдала, как она демонтировала и разобрала стиральную машину, за один день сшила платье по выкройке из «Вога» с тридцатью фрагментами, освоила курс высшей математики, когда в сорок лет снова пошла в школу, и клала кирпичи. Мы говорили, что если мать прижмет, то она справится с чем угодно. Бабушкина болезнь была тем самым случаем. Мать перестала быть нервной, стала решительной, ходила с высоко поднятой головой. Она начинала действовать и сбрасывать вес только в случаях крайней необходимости, но тогда, казалось, уже совсем не останавливалась. Понятно, что после похорон мать тут же слегла.
В то время наверняка были какие-нибудь ограничения по поводу посещения ракового корпуса малолетними, но мать считала, что наш приход взбодрит бабушку. Кроме этого отец тогда работал днем, и ей не с кем было нас оставить. Раньше я никогда не была в больнице. Я помню запах чистящего средства «Пайн-Сол» и то, что люди все время бегали туда-сюда, а пациентов с трубками и капельницами возили на каталках.
Помню тот день, как сегодня. Лиша толкнула меня локтем в бок, чтобы я отвернулась от пациента, который сплевывал воду в маленькую овально-изогнутую никелированную чашу, и посмотрела на мать. На меня будто снизошло облако ее тогдашнего аромата: табак, мятные леденцы и духи «Шалимар». Мне показалось, что все эти запахи спускаются на уровень моего роста и ее бедер сверху, поэтому я подняла голову и вдохнула их глубже. На матери была длинная зеленая рубашка, подпоясанная коричневым ремнем из крокодиловой кожи от «Шанель». Она стремительно шла походкой от бедра. Несмотря на то что она была в туфлях на высоких каблуках, они совсем не цокали по полу. Короткие и тонкие волосы мамы были зачесаны назад, как львиная грива.
Мама открыла двойные двери, и мы услышали, как кто-то сорвавшимся, шелестящим голосом кричит: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Мы прошли в палату, в которой была на удивление молодо выглядевшая брюнетка с высокой прической. Она откинулась на кресле, прижимая ко рту красную резиновую клизму. Откуда-то слышалась органная музыка с трансляции бейсбольной игры по радио. Потом мы подошли к бабушкиной палате, и мать открыла большую бесшумную дверь.
Шокирует, каким незавершенным выглядит результат ампутации! От врачей ожидаешь, что они доделают свою работу, и может быть, сейчас так и есть. Любой человек, которому приходилось хоть раз в жизни разделать тушу оленя, курицы или кролика, знает, что довольно сложно разрубить кость и сухожилия. Я думаю, что в те времена для разрезания кости хирурги использовали небольшую циркулярную пилу, но суть та же. Я ожидала увидеть, что бабушкина оставшаяся нога будет как у куклы – чистой и без крови. Мне казалось, что она будет по крайней мере перевязана.
Бабушке ампутировали ногу чуть выше колена, и обрубок покоился на подушке. Выглядело все плохо: из места среза выше колена тоненькими ручейками сочилась черная жидкость. Объяснялось ли это тем, что плоть жег газ или заражением крови. Обрубок ноги залатали кусочком плоти, которой затянули обрезанную кость. Кто-то попытался ее пришить, будто она там и была. Но в целом это походило на то, как неаккуратно, накладывая кожу внахлест, зашивают фаршированную свиную ногу. Черные нитки сильно выделялись на белой коже. Обрубок чем-то смазали, отчего он выглядел до боли жирным и мокрым. Несмотря на то что в палате стояло пять букетов цветов от сестер бабушки, сильно пахло какой-то мазью. Наверное, это было какое-то средство от ожогов.
При виде обрубка бабушкиной ноги мне тут же захотелось уйти. Но дверь палаты с тихим шипением закрылась, и бабуля уже медленно поворачивала голову в нашу сторону. (При мысли об этом я даже сейчас делаю над собой усилие, чтобы не дернуть головой и не отстраниться.) Она была такой бледной и худой, что казалась прозрачной. Ее губы посинели, а волосы поседели. Когда она подняла веки, то стало видно, что и синева глаз угасла, словно ее что-то сжигало изнутри. Лиша как ни в чем не бывало подошла к кровати. Бабушка несколько раз, как рыба, открыла рот, но не произнесла ни звука. Ее зубные протезы вынули, в уголках ее рта появилась желтая корка, а между раскрытых губ застыли ниточки слюны. Мать спросила, мог бы кто-нибудь умыть ее и вставить ей зубы, но было видно, что на самом деле ее это не беспокоит. Меня это удивило: я привыкла думать о матери как о по меньшей мере такой же трусихе, какой была я, а я в свою очередь была готова убежать сломя голову. Бабушка похлопала ладонью по матрасу, как бы приглашая кого-нибудь из нас сесть с ней рядом, и Лиша мгновенно взяла ее за руку. Она громко вздохнула, и сестра, испугавшись, отпустила ее руку и отступила на шаг. Подошла мать, с нежностью погладила по волосам и спросила, как она себя чувствует. Бабушка уставилась пустым взглядом на Лишу, словно та снизошла в палату с небес, и снова похлопала по матрасу. Потом снова глубоко вздохнула и спросила:
– Белинда, ты где была? Слава богу, Белинда, ты пришла.
Потом голос бабушки снова стал тихим, она начала говорить снова и снова о том, как ей не хватало Белинды и как она скучала. Лише ничего не оставалось, кроме как играть роль человека, которого никто из нас никогда не видел.
Почему-то упоминание незнакомой Белинды меня поразило. То, что бабушка приняла Лишу за другого человека, удивило и испугало меня даже больше, чем черные стежки и темные ручейки на белой коже, как у Франкенштейна.
Перед уходом из больницы мать закатила скандал двум докторам, которые назначили лечение горчичным газом. Я не любила, когда мать устраивала на публике истерики, но в этот раз была полностью на ее стороне. Весь день она была убитой, как зомби, и теперь постепенно приходила в себя. Доктора ей не возражали. К ним на помощь из своей застекленной кабинки выскочила огромная женщина-администратор, одетая в платье в цветочек, отчего была похожа на диван. Мать кричала, что доктора, как стервятники, питаются людской болью. Администратор предложила ей заказать службу за здравие бабушки, на что мать ответила: «Вот только церковь сюда не надо приплетать!»
Потом мы быстрым шагом уходили прочь, и коридор за нашей спиной становился все уже и длиннее. Двери больницы с шипением открылись, и нас обдало горячим влажным воздухом. Мы так сильно потели, что маме пришлось обернуть руль тряпкой, чтобы он не скользил.
В тот день мать не плакала, хотя мы с сестрой старались вести себя в машине как можно тише, чтобы ей не мешать. Я требовала полотенце, чтобы на него сесть, и воды, но Лиша схватила меня за руку и посмотрела так, что я сразу заткнулась. На детском личике сестры появился ее фирменный взгляд со скошенными к носу карими глазами. Я называю его сенаторским. Этим взглядом Лиша умела прервать меня на полуслове.
Потом по какой-то непонятной причине мы поехали в Хьюстонский зоопарк. Этим походом мама хотела нас заранее подкупить. Ни один человек в здравом уме не захочет провести самое жаркое время дня на улице. В то время по зоопарку ездил бесплатный мини-поезд, и мы туда сели. Очень скоро толпа жующих жвачку, пердящих и галдящих детей совершено вывела мать из равновесия, и мы вышли на остановке магазина сувениров.
Мама купила нам по шляпе Питера Пена с вышитыми на них нашими именами. Потом в ювелирном магазине я играла с мини-колесом обозрения. Нажав кнопку, его можно было в любой момент остановить, чтобы рассмотреть товары. Я останавливала колесо обозрения на золотом браслете с фигурками животных, после чего мама купила нам троим по такому браслету без единого моего слова. Помню, что когда ювелир застегивал этот браслет на ее запястье, то игриво погладил указательным пальцем внутреннюю часть ее ладони, отчего у меня внутри все сжалось. Она никак не отреагировала, хотя ей очень не нравились прикосновения посторонних. Однажды даже ударила по голове сумкой моего дядю Эй Ди, когда тот ущипнул ее за попу.
Потом мы ели бургеры за круглым бетонным столом для пикников вблизи клеток с обезьянами, от которых страшно воняло. Лиша хотела поддержать мать и сказала, что доктора в больнице – полные идиоты, но мать только склонила голову набок, словно не понимает, что сестра имеет в виду. Пила черный кофе, уставившись в пустоту. Я не выдержала царившего за столом молчания, встала и пошла посмотреть на обезьян. Они чем-то друг в друга кидались, мне показалось, своими экскрементами. Один самец отошел от группы сородичей, встал в углу клетки с маленьким красным членом в лапке и начал кричать и отчаянно онанировать. Но мать даже на это не обратила внимания.
Клетки больших кошек в жару тоже воняли. Это было до того, как в зоопарках стали строить вольеры с камнями и водопадами. В те времена клетки были страшно маленькими, а звери в них – несчастными. По векам бенгальского тигра ползали мухи, и он даже не моргал. Какой-то ребенок кидал в тигра арахисом, и Лиша шикнула на него, чтобы прекратил.
Издали мать казалась мне тоже заключенной в клетку – клетку своего безмолвия. Она казалась такой маленькой в шелковом платье с чашкой остывшего, безвкусного кофе. В солнечных очках матери отражалась мечущаяся за решеткой пантера. Казалось, она выглядывала оттуда. Иногда вспоминая те минуты, я хочу предложить маме стакан воды или посоветовать ей прилечь в тени ивы поблизости. А иногда мне хочется снять с нее солнечные очки, взять за плечи и сильно потрясти, чтобы она заплакала или закричала. Сделать что угодно, чтобы увезти ее с острова молчания.
Потом мы убежали от жары в похожее на пещеру здание, в котором было сыро и прохладно. В то время мне нравился Дракула, поэтому я прямиком направилась к летучим мышам. Сквозь толстое стекло они выглядели, к моему разочарованию, совсем маленькими – чуть больше обычных полевых мышей. Они висели головой вниз на жердочке. У летучих мышей были мелкие зубки, совсем не такие, как у Белы Лугоши в кино. Одна из них слетела к блюдцу с кровью на полу в центре витрины. Она так долго и неуклюже складывала крылья, что это напомнило мне сломанный зонтик.
Лиша переходила от одного вольера к другому, рассматривая сов, опоссумов и других ночных животных. В то время она хотела стать ветеринаром или медсестрой. Мать сидела на каменной скамье около двери с надписью «Выход» и курила. Я, как под гипнозом, застыла в ожидании, когда неуклюжая летучая мышь начнет пить кровь. Я даже постучала по стеклу и показала ей пальцем на блюдечко, но она так и не удосужилась пригубить.
Под вечер мы немного поколесили по городу в поисках трассы 73 и выдвинулись домой. Я попеременно смотрела то в боковое окно на строящиеся небоскребы, то в зеркало заднего вида на пустые глаза матери. В них отражалась только белая прерывистая разметка дороги, исчезающая в центре ее зрачков, как брошенные ножи.
После ампутации и поездки в Хьюстон мы стали видеть мать гораздо реже. Она ненадолго приезжала домой утром из больницы, чтобы переодеться и устремиться назад, или поздно вечером, когда мы уже спали. Ночью я чувствовала, как она садилась на мой матрас, и ощущала запах ее духов, когда она наклонялась, чтобы меня поцеловать или поправить одеяло. Иногда она могла всю ночь до рассвета просидеть на моей кровати, куря сигареты. Рукой отгоняла от моего лица сигаретный дым, создавая эффект легкого ветерка. Я не открывала глаза, потому что понимала: если проснусь, она уйдет. Я хотела вдыхать аромат ее духов и представлять себе, на что похожи клубы дыма от сигарет. В воображении я рыла могилу, чтобы похоронить все ужасные воспоминания об ампутированной бабушкиной ноге и ступоре, который случился с матерью в зоопарке. Сквозь одеяло я чувствовала тепло ее тела. Мама сидела в нескольких сантиметрах от меня, и больше мне ничего не было нужно.
Остаток лета мать мы практически не видели, и нами неизменно, пусть иногда и рассеянно, занимался отец. Тем летом члены «клуба лжецов» начали переоборудовать гараж под родительскую спальню. Во время визита бабушки родители отдали свою спальню ей, а сами спали на раскладном диване в гостиной. Думаю, родители планировали подготовить бабушке место, где она могла бы спокойно умереть. Тогда я этого еще не понимала. Я тщательно блокировала все мысли о бабушке – живой или мертвой, здоровой или больной. Каждое утро, когда мы с Лишей дожевывали размокшие кукурузные хлопья, на крыльце раздавались шаги ног в тяжелых рабочих ботинках, хлопала москитная сетка на входной двери, и отец расставлял чистые кружки для кофе.
Члены «клуба лжецов» приезжали рано и работали в самое жаркое время дня. Все они специально взяли отпуска, чтобы помочь со строительством. «Лжецы» не брали денег, фактически работая за кофе и пиво. Через пару часов они снимали с себя рубашки. У них были жилистые руки и широкие спины. В то лето я наблюдала самые серьезные случаи солнечных ожогов за всю жизнь. У Бена Бедермана был пивной живот, вываливающийся за ремень штанов, и кожа на его спине слезала кусками. Потом он снова обгорал несколько раз, пока его спина не стала цвета кленового сиропа. Весь день мужчины пили пиво из двух красных переносных холодильников, которые отец каждое утро наполнял льдом.
Несколько раз в день жена одного из работников привозила еду. Можно что угодно говорить о каторжной работе и ее минусах – я сама однажды летом красила стены общежития в колледже и думала, что умру, – но есть один несомненный плюс: после тяжелой работы еда становится чем-то вроде священнодействия. Она могла быть любой: крабы с реки Сабин или кукурузные лепешки с придорожного лотка, но при ее появлении мужчины откладывали свои инструменты и улыбались своему везению. Они не набрасывались на обед сразу, а сначала любовались. Это была своего рода скромность, или признательность, или просто желание убедиться, что еда не исчезнет как мираж. Отец снимал свою красную бандану, смачивал ее в холодильнике с растаявшим льдом. Он обтирался банданой, одновременно рассматривая закуски.
– Бог мой, ты только посмотри, – он подмигивал женщине, которая принесла еду.
Однажды жена Бена Руби привезла целую ванну устриц. Потребовались двое, чтобы выгрузить ее из кузова пикапа. Потом Руби все утро раскрывала раковины устриц тупым ножом и в результате набила ими две огромные стеклянные банки для солений, которые поставила в корыто с холодной водой. Мы ели устрицы с острым соусом, черным перцем и лимонным соком. (Лиша сказала, чтобы я ела их по две, чтобы им в животе не было одиноко.) Устрицы будто вздрагивали, когда на них попадал лимонный сок. Во рту они были холодными, потом становились теплее и быстро пролетали в желудок, оставляя привкус моря. Запивали холодным, чуть подсоленным пивом. (Уже в семь я разбиралась в алкоголе.) А заесть все это можно было крекером.
До того лета я неоднократно слышала, как баптистские священники на церковных пикниках по десять минут молятся перед карточными столами, заставленными картофельным салатом и жареной курицей, но именно эти потные, краснолицые мужчины, поедавшие устриц, сидя на досках, научили меня всему, что нужно знать о простых радостях жизни.
Конечно, они громко жаловались, что у них все тело болит, и сами смеялись над стенаниями друг друга. Не хочу идеализировать их дружбу, но в ней было что-то подкупающее.
Потом они делали новую крышу. Для этого нужно было вскипятить чан смолы и в дикой жаре провести на крыше пару дней за пределами спасительной тени от нашей сирени. По вечерам мужчины снимали свои рабочие ботинки и раскладывали хлопковые носки на горячих камнях для просушки. Отец выплескивал воду от растаявшего в холодильниках льда прямо на их голые потные ноги. Близилась ночь, и «лжецы» находили время выпить пинту виски или закурить сигарету. Между ними ощущалось волшебство, которое, так или иначе, вскоре должно было исчезнуть. Потом они залезали в автомобили и уезжали, а мне иногда хотелось бежать за ними вслед, чтобы попросить их остаться.
Когда мы были с мамой, мне всегда казалось, что вот-вот произойдет что-то, что изменит нашу жизнь: мы увидим то, что никогда не видели, или прочитаем то, о чем никогда не знали. Мы садились с ней в машину и не подозревали, где в конечном счете окажемся. Когда в дверь стучал продавец энциклопедий, мать могла потратить всю месячную зарплату на покупку книг. С отцом все было по-другому: я чувствовала себя как в сонном царстве, где царят покой и предсказуемость.
Друзья отца закончили работу к началу августа. Они построили спальню с отдельной ванной комнатой и гараж на две машины. Отец обещал матери отдельную мастерскую, и она тоже была готова. Это было помещение с печкой, которую мама могла затапливать холодными, дождливыми вечерами, высоким потолком и окнами в крыше, неслыханными в те дни.
Мать тут же перенесла в мастерскую мольберт с красками и начала писать картину. Она решила изобразить бабушку в простом синем платье с фотографии, сделанной до ампутации. Мать работала ночами после того, как возвращалась из больницы. У нее не было другого свободного времени. Сперва на холсте появился эскиз, а через неделю был готов и сам портрет.
Я открывала гвоздем замок на двери мастерской и смотрела, как продвигается работа. При этом чувствовала себя, словно вор в церкви. Входила на территорию творцов, о которых мне мать рассказывала перед сном: Ван Гога, который отрезал себе ухо, Гогена, изображавшего островитянок, неуклюжего Дега, влюбленного в своих моделей-танцовщиц. Однажды мать рассказала нам историю о том, как Поллок купил за сумасшедшие деньги картину Пикассо только для того, чтобы соскоблить краски и понять, как художник ее создал. Я помню незабываемый запах маминой мастерской: красок, дыма и – немного – водки. Он не похож ни на какой другой. Я стояла, разинув рот от удивления, при мысли о том, как можно воссоздать на холсте человека при помощи лишь красок и содержимого маминой черепной коробки.
Мать писала в экспрессионистской манере, но этот портрет бабушки получился очень реалистичным: руки согнуты под правильным углом, плечи расправлены, как у военного, а лицо не выражает никаких чувств. Мне казалось, что в портрете не хватает эмоций. Я взяла на кончик соболиной кисточки немного оранжевой краски и прицелилась в бабушкины губы. В результате прямо посередине портрета появилась оранжевая клякса. Не знаю, чего я добивалась: хотела ли вычеркнуть из своей жизни или заткнуть бабушку? Если бы меня тогда спросили, что я делаю, я бы ответила, что освежаю помаду на бабушкиных губах.
Когда мать увидела результат, она разрыдалась и стала ругать вандалов, которые забрались в ее мастерскую. Она даже не спросила: не сделал ли это кто-то из нас? Она напилась, разожгла костер и громко материла чертовы болота и всех, кто в них живет.
– Они даже не заслуживают называться cordate phylum, – причитала мать. Лиша объяснила мне, что она имеет в виду беспозвоночных: червей, пиявок и улиток. На следующее утро мама поехала в магазин хозтоваров и купила большой замок, который невозможно было даже распилить болгаркой. Ключ от замка остался висеть на гвоздике на кухне, но я боялась что-либо испортить и больше не входила в мастерскую без разрешения.
После того как бабушка вернулась к нам в дом, она разительно изменилась, стала совсем пугающей. Она сильно похудела, хотя уже не была такой бледной. У нее появился протез, который она каждое утро пристегивала к ноге. На протезе был большой черный неснимавшийся башмак. Вечером бабушка отстегивала протез и ставила его около кровати. Однажды ночью он меня страшно напугал: по пути в туалет в коридоре я увидела длинную тень от этого одиноко стоящего протеза, доходившую до моих голых ног. Я в ужасе бросилась назад в спальню и забилась под одеяло рядом с Лишей. Неудивительно, что я обмочила постель той ночью.
Ветки жимолости перед окном отбрасывали страшные тени на стены спальни. Иногда ночью я слышала, как бабушка без протеза прыгает до туалета, опираясь на клюку. У меня осталось одно страшное воспоминание: бабушка в ночной рубашке стоит в дверях нашей спальни. Ее протез свисает из-под ночнушки, руки расставлены, чтобы держаться за дверной проем, белые волосы развиваются вокруг головы, как языки пламени. Я помню, словно это было вчера.
Бабушка носила розовую нейлоновую пижаму и такого же цвета халат, а ее инвалидная коляска двигалась совершенно бесшумно, словно сама она была привидением. Она ставила коляску рядом с кроватью и промазывала ее отцовским машинным маслом так, что та становилась совершенно бесшумной. Скользя в ней совершенно беззвучно, пожилая женщина постоянно подлавливала меня с Лишей и кричала «Ага!», словно застала нас за приемом героина или расчленением мелкой живности. Однажды она поймала нас за игрой в Джин Рамми[11]. Привычно закричала «Ага!» и позвала мать, следя за тем, чтобы мы не убежали и не спрятали карты:
– Чарли Мэри! Иди сюда и накажи этих детей! Клянусь Богом… – вопила бабушка.
Пришла мать и удивленно спросила: в чем дело? Бабушка разразилась тирадой о греховности игры в карты и почему-то пития, несмотря на то что до болезни постоянно мухлевала во время игры в бинго в церкви, а после операции ежедневно выпивала около ящика пива. Мать не стала с ней спорить и сделала вид, что бьет нас по ногам мухобойкой. Мы с сестрой убежали к себе и закрылись. Я уткнулась в колени сестры и причитала, что не сделала ничего плохого. Лиша меня утешила тем, что мама могла бы нас отшлепать еще за пятьдесят настоящих проступков, поэтому не стоит расстраиваться.
В августе я начала ходить во сне. Иногда я какала за занавесками в гостиной или на полу в туалете. Однажды ночью я вышла из дома, и отцу пришлось меня ловить на улице.
Мои дела в школе плохи. Во втором классе меня два раза отстраняли от учебы. В первый раз я укусила девочку Филлис, потому что она недостаточно быстро доставала ножницы по заданию учительницы. Во второй раз я сломала линейку о голову мальчика по имени Джо Тайлер, который мне нравился. Голубоватая шишка на его белобрысой коротко стриженной голове выросла прямо на глазах. После каждого нарушения меня отправляли к директору школы – красавцу и бывшему футболисту Фрэнку Доулману, который разрешил нам с Лишей называть его дядей Фрэнком.
Директор разрешал мне сидеть в своем кабинете и играть в шахматы со всеми, кто там случайно оказывался. Ему нравилось, когда я играла с ребятами из пятого или шестого класса. Так дядя Фрэнк использовал меня, чтобы показать мальчишкам, какие они глупые:
– Вот видишь, эта крошка из второго класса обыграла тебя всего за шесть ходов. Как ты думаешь, лучше слушать миссис Вилимез или дурака валять? – говорил им директор.
Когда учительница вела меня по коридору в кабинет директора Доулмана, мне, наверное, стоило бы плакать. Вместо этого я думала о том, как Братец Кролик перехитрил Лиса, умоляя не бросать его в терновый куст, который на самом деле был его родным домом[12]. Оба раза после «наказания» дядя Фрэнк отвозил меня домой в своем белом кабриолете. Дети расступались перед машиной, и я поднимала руку, как Джеки Кеннеди.
Приблизительно в то время из ватаги соседских детей меня переманил мальчик постарше. До этого компания соседских ребят была для меня чем-то почти святым. Наша семья казалась всем странной, но это никак не отражалось на моих отношениях со сверстниками. Мое самое яркое воспоминание: как мы толпой бегали босиком по футбольному полю, слаженно поворачивая и меняя курс, словно стадо африканских зебр.
Но все-таки от меня исходил запах страха и боли, который тот злой мальчик учуял. Он сразу понял, что меня можно отозвать в сторону и сделать мне еще больнее. И когда он ко мне подошел, я пошла за ним. Мне кажется, что эта встреча была предопределена задолго до этого кем-то огромным и невидимым, возможно, Богом.
До того момента, как он меня заметил, я бегала по полю вместе с остальными и чувствовала себя в полной безопасности. Нас было много. Все мы были разного возраста – от мальчиков тринадцати или четырнадцати лет до двухлетнего Малыша Картера, который ходил за нами хвостиком. Мне тогда было семь, я была худой и низкорослой, но это с лихвой компенсировалось скверными манерами. Отец научил меня тому, что в драке можно пользоваться, как он выражался, «уравнителями шансов»: палками, камнями, досками, а также тому, что никогда и никому нельзя прощать обиду. Поэтому я с чистой совестью подкрадывалась к детям постарше и больно их кусала за то, что они плохо со мной обошлись. Насколько я помню, я ни разу никому ничего не простила, не забыв никаких обид.
Можно сказать, что все дети в городке росли одинаково. Наши отцы состояли в одном профсоюзе и получали практически одинаковую зарплату. (Наша семья считалась зажиточной, потому что мать подрабатывала в газете.) Все работали сменами, потому что так больше платили. Поэтому знали: когда старик приходит с ночной смены, нужно ходить на цыпочках. Никто из женщин не имел высшего образования (за исключением нашей матери, у которой их было два: художественный колледж и Техасский технологический университет).
Когда по выходным косили траву на футбольном поле, мы шли за трактором и выкладывали ее в виде планов наших абсолютно одинаковых домов. Срезанные клевер красновато-коричневый и августинова трава пахли так свежо и сильно, как ни один скошенный луг в моей жизни.
Запах травы уносит мои воспоминания к одному прохладному дню, когда я лежала на своем «травяном доме». Мне казалось, что я спиной чувствую округлость земного шара. Надо мной облака проносились мимо башни водокачки. Я перевернулась на живот. Вокруг меня рос дикий перец, маленькие обжигающие семена которого можно было разгрызать. Когда вытягиваешь из земли клевер, он выходит со звуком, похожим на писк, а его корень сладкий, сочный и белый.
Однажды меня укусила пчела, и тот самый старший мальчик наложил на укус «примочку» из глины, смоченной слюной. Тогда мне показалось, что я ему нравлюсь. А мне страстно хотелось нравиться людям.
В самые жаркие дни, когда бегать детям запрещали, потому что солнечные удары были нередким явлением, мы играли в игру под названием «Пытка». Это звучит гораздо страшнее, чем было на самом деле. Какой-нибудь ребенок постарше отводил нас всех в какое-нибудь тесное закрытое помещение: например, под заднее крыльцо в доме Картеров, или в старую голубятню Томми Шарпа, или сажал в старый холодильник, дожидавшийся на улице, пока его отвезут на помойку.
Мы забивались в это помещение, как могли. Нам казалось, что все мы узники концентрационного лагеря. У того плохого мальчика была в книге фотография узников Бухенвальда – все ее внимательно рассмотрели и запомнили. Мы делали это не из сострадания к боли узников или осознания несправедливости, а просто чтобы сыграть их роли. Мы шеренгой под пытливым взглядом мальчика-нациста заходили в место заключения. При этом никто никому не выворачивал руки и не наносил ран. Просто мальчик-нацист управлял нами до тех пор, пока нас не позовут ужинать или обедать.
Все должны были сидеть неподвижно. Представляю, какую температуру давали наши тела, зажатые в тесном пространстве. Моргать или хныкать запрещалось. У нас будто было одно тело на всех, податливое и эластичное. Можно сказать, что это была своего рода медитация. Мир словно останавливался, и тело ощущалось невероятно отчетливо. Пот лился градом. Я ощущала каждую песчинку грязи на шее. Мальчик-нацист пугал нас не жестокостью, а пустым взглядом профессионала. Никого из нас не надо было бить, потому что мы сами не смели шелохнуться. Вот и вся игра. Так мы и сидели, наслаждаясь собственным отчаянием и болью. Через некоторое время нас находил кто-нибудь из родителей и тащил домой.
Однажды, как ни странно, вечером нас в очередной раз нашел кто-то из взрослых. Дети высыпали наружу и разбежались по домам ужинать. Я спряталась в углу, и меня не заметили. Со мной остался этот мальчик постарше.
Темнело, когда он схватил меня и затащил в чей-то гараж. Он расстегнул на мне рубашку и заявил, что у меня уже появляется грудь. Он сказал: «У тебя очень милые сиськи». Больше не говорил ничего. На его кривых зубах были брэкеты, которые в темноте блестели, как бампер автомобиля. Он снял с меня шорты и трусы и комком забросил в угол, где, как я знала, водились пауки. Потом он приспустил свои штаны и положил мою руку на свой член, который в отличие от предмета мальчишеских шуток не был похож на хот-дог или шланг. Он был твердым, как дерево, и в обхвате как моя рука. Мальчик заставил меня обхватить член ладонями и показал, как надо скользить ими вверх-вниз. У меня в ладонях будто была мокрая кость в мягкой оболочке. Вскоре мне это наскучило. Мальчик положил на пол пустой мешок из-под цемента и на него меня, потом лег на меня и начал долбить членом мне между ног, пока не кончил. Я лежала, сложив руки на груди, ведь то, что он сказал по поводу моей груди, было заведомой ложью. Я стыдилась этого. Мне было всего семь, и мне оставалось еще лет десять до чего-либо, что можно было бы назвать грудью. В то время, судя по школьным записям, я весила двадцать пять килограммов. Представьте себе две большие банки, поставленные друг на друга, тогда вы поймете, какой был у меня рост. Потом вообразите себе тинейджера, у которого только что появилась эрекция и который меня трахает. Все это не могло долго продолжаться.
Я представляю себе, как этот уже далеко не мальчик читает эти строки, и мне хочется протянуть руку из страницы и схватить его за рубашку. Привет, кривозубый. Возможно, ты и не умеешь читать, но тогда кто-то другой прочитает тебе эти строки. Может, твоя прелестная женушка или сосед, с которым ты ходишь на рыбалку. Где тебя застигнут наши совместные воспоминания? Я почему-то представляю себе, что в этот момент ты будешь менять колесо на машине жены. Она скажет тебе, что в одной из моих книг я обвиняю кого-то из окрестностей в том, что меня изнасиловали в возрасте семи лет. Может, ты увидишь мое лицо на мешковине, вызванное к жизни силой слова? Может, ты думаешь, что я забыла о том случае или вообще не придала ему значения? Хотя я в тысячах километров и через десятилетия от тебя, не забывай: у меня долгая память.
Когда он со мной закончил, было совсем темно. Я достала свои вещи и отряхнула их от пауков. Он помог мне одеться и завязал шнурки на кедах. Потом он подмыл меня из-под крана у чьего-то дома. Вода была теплой, потому что нагрелась за день, пока стояла в трубе. Мои ноги так и остались липкими.
Наше крыльцо светилось янтарным светом. В остальных домах было темно. Шла игра Малой лиги, издали виднелся свет прожекторов и звучал голос репродуктора, вызывающий игрока к бите. Я подумала: запланировал ли этот мальчик все заранее? Специально ли он выбрал время, когда все будут на бейсбольной игре? Что с его стороны было бы хуже: продумать все заранее и выследить меня или просто воспользоваться возможностью? Я даже и не знала, что хуже. Не хотела думать, что легко попалась, хотя, конечно, так и было. Даже в семь лет я это осознавала. С другой стороны, при мысли о том, что он меня сознательно выбрал и загнал как зайца, мне становилось плохо. Он отвел меня домой без слов, словно выполнял работу няньки. Потом я слушала, как быстро шагали его ноги в кроссовках вдаль по улице. Я смотрела ему вслед, и белое пятно его майки становилось все меньше, а потом и вовсе исчезло за углом.
В ту ночь удивительно сладко пахла жимолость. Я долго стояла на улице, стараясь придать своему лицу выражение, словно ничего не произошло. На нашем крыльце крепилось серое осиное гнездо. Внутри него были соты, и в каждой соте спала личинка. Я подумала, что было бы неплохо заснуть, как они. Вскоре отец открыл дверь, отодвинул москитную сетку и спросил: видела ли я игру?
– Входи, дорогая. Поешь? Вот твоя тарелочка, – сказал он.
Я вошла. Я была еще такого роста, что легко проходила под его вытянутой рукой. Со стороны стадиона послышался рев зрителей, словно кто-то сравнял счет или вырвался вперед. Представила, как этот мальчик залезает на трибуны к своим приятелям. На ум приходили все известные мне шутки про минеты и о том, что вагина девушек пахнет попкорном.
Я посмотрела на отца. Он бы легко забрался на трибуны и сровнял с землей этого мальчишку. Мать зарыдала и заперлась бы в ванной на целую вечность. Бабушка из своего инвалидного кресла сказала бы, что другого и не ожидала. Лиша была на матче и, возможно, сидела на трибунах и улыбалась тому мальчишке. Ему даже не надо было угрожать, чтобы я помалкивала. Я знала, кем стану, если проговорюсь.
IV. Торнадо
К середине осени бабушкин рак распространился на мозг. Большинство людей в таком состоянии лежали бы в кровати, как говорит один мой приятель-онколог. Но бабушка не остановилась и въедалась в нас еще глубже. Видимо, мысли о смерти и боль только усилили ее решимость.
Бабушка не принимала морфин или другие болеутоляющие, а без конца пила пиво, но никогда не пьянела. Она перестала носить свой протез, говоря, что ей от него больно, и обрубок ее ноги выглядывал из-под ночной рубашки на уровне моих глаз. Когда она ехала в мою сторону, казалось, что она показывает им на меня, как пальцем. Ее глаза за очками в роговой оправе стали еще более блеклыми. Может, у нее была катаракта – синева исчезала из ее глаз, казалось, что из зрачка вырастают белые шипы, прорезающие радужную оболочку глаза. В то время в новостях много говорили о лазерах, а в комиксах про Супермена рекламировали специальные «рентгеновские» очки, поэтому мне чудилось, что бабушка может видеть меня сквозь стены. Иногда ночью я просыпалась от ощущения, что стену спальни буравят два луча света, будто бабушка за мной наблюдает. Выходя ночью в туалет, я оглядывалась в коридоре, ожидая увидеть два прожектора. Собственно, я не очень боялась, что она меня увидит. Гораздо страшнее для меня было то, что она может сжечь меня своим «рентгеновским» взглядом.
Поэтому я старалась по ночам о ней не думать. Когда мне было пять лет, я научилась вести себя так, чтобы меня не укачивало на карусели на ярмарке. Я закрывала глаза, крепко хваталась за поручень и напрягала мускулы живота, и меня не тошнило. Я чувствовала, как развеваются волосы и как по лицу скользят солнечные блики. Я будто ныряла в глубь себя, подальше от гудящего дизельного мотора карусели, и мне удавалось не извергнуть свой «корндог» на школьные ботиночки Лише. Ко мне быстро пришла слава самого маленького ребенка в округе, выдерживающего самые страшные аттракционы. Поэтому ночью в кровати, услышав бабушкины шаги по коридору, я напрягала мускулы живота.
Мать во время болезни бабушки держалась молодцом. Казалась, что она думает о чем-то своем, выполняя бесчисленные ее поручения. Обычно мама без энтузиазма относилась к указаниям бабули шлепать меня раз в неделю. Лишь один раз она поддалась уговорам, и тогда я дала ей сдачи.
Не поймите меня неправильно. Мать никогда не била меня по-настоящему, она скорее делала вид, что меня бьет. Мама вообще очень боялась сделать кому-либо больно. Помню, как однажды мы с Лишей высыпали на пол кухни коробку «Тайда» и облили пол из шланга водой. Бабушка спала, и мать просто отправила нас на улицу играть, а сама все вытерла, не сказав ни слова.
Тем не менее внутри матери зрели злость и отчаяние. Иногда вместо того, чтобы нас отшлепать, она стояла на кухне, сжав кулаки так, что белели костяшки пальцев. Она кричала, что не бьет нас потому, что знает: если начнет, может не остановиться и убить. Такая угроза была гораздо эффективней, чем любое наказание. Когда слышишь, что мать может тебя убить, желание шалить начисто исчезает.
Все же мне казалось, что лучше бы она нас била, чем всегда молчала как рыба. Если никуда не убегать, наказание заканчивалось очень быстро. Поэтому Лиша всегда стояла смирно, когда ее наказывали. Я же вертелась и извивалась, как уж. Если мать не загоняла меня в угол, ей приходилось держать меня за руку, чтобы я не уклонялась от ударов мухобойки. Только один шлепок из десяти достигал своей цели. Я крутилась вокруг матери как волчок, и ударить меня было непросто.
Так, держась друг за друга, мы с матерью кружились и переходили из комнаты в комнату. За нами ехала бабушка, громогласно призывая Господа покарать неблагодарного и непослушного ребенка. Она ловко маневрировала вокруг нас в своем бесшумном инвалидном кресле.
Я вспоминаю лицо Лиши, стоявшей в стороне от нас, как рефери. Она улыбалась в дверях, глядя на то, как я усложняю самую простую ситуацию. (Нет ничего хуже, когда над тобой смеются во время битья. Присутствие при наказании другого ребенка делает шлепки еще более унизительными.) Рука матери с мухобойкой поднималась и опускалась, отбрасывая тень на стене, я крутилась. При этом на лице Лише читалась ухмылка, означающая: «До тебя не дойдет, что надо вылить мочу из ботинка, – тут я снова кручусь по комнате, но через долю секунды опять вижу ее скучающую, злорадную ухмылку, – если не написать инструкцию и не наклеить ее на каблук».
Когда мать меня била, я чувствовала над ней некоторую власть. Она крепко держала меня за руку, и мне казалось, что я смогу вытащить ее из любой ситуации.
Наступил сезон ураганов. Ведущий прогноза погоды объяснял, как над океаном сталкивались потоки теплого и холодного воздуха, отчего начался сильный шторм, но в центре урагана на километры было затишье и ярко светило солнце. Во время наказаний я чувствовала, словно нахожусь в центре урагана и все несчастья происходят вокруг, не затрагивая меня. По крайней мере, эти шлепки давали выход энергии. Любое наказание было предпочтительней, чем тишина в доме и ощущение того, что все глубоко несчастны.
Когда потом в школе мы проходили известное стихотворение Йейтса о том, как все разваливается, то я вспомнила, как уворачивалась от шлепков. Я сравнивала себя с соколом, разорвавшим путы и улетевшим от державшего его человека.
В то время мать еще цеплялась за обрывки того, что считала правильным, а после смерти бабушки все вышло из-под контроля.
Однажды утром, когда мама расчесывала мне волосы, бабушка ворвалась в комнату и начала кричать, что хочет сделать одну вещь, о которой прочитала в журнале. Мама успела съесть всего две ложки хлопьев, прежде чем бабушка потащила ее в магазин товаров для хобби. Бабушка даже не пристегнула свой протез и не взяла инвалидное кресло, так она торопилась. Мать усадила ее в автомобиль. Хозяйке магазина пришлось помогать проводить бабушку. Они заехали и в скобяную лавку, где бабуля купила метровый кусок резины. Она притащила покупки в дом и заперлась в своей комнате. Когда к вечеру она выехала из комнаты, то размахивала над головой огромной плетью, словно собиралась участвовать в родео. К куску резины она привязала длинные обрезки кожи и говорила, что наконец-то нашла идеальное орудие наказания.
В этот раз мать наотрез отказалась использовать этот арапник.
– Эти дети доведут тебя до могилы! – орала бабушка. – Вот еще немного подрастут, и посмотришь, какие фокусы они будут выкидывать!
Мать заплакала, но сказала, что арапником пользоваться не будет. Она не глядела в глаза бабушке, а ожесточенно мотала головой, стоя на месте и потупив взгляд.
Бабушка начала размахивать арапником перед Лишей и называть ее Белиндой, как тогда в больнице.
– Я надеюсь, что Белинда причинит тебе столько горя, сколько ты причинила мне, – заявила бабушка, размахивая арапником. Мне стало страшно оттого, что женщина, которая не дает нашей матери спокойно жить, даже не знает, как нас зовут.
Лиша попыталась сгладить ситуацию и сказала, что в принципе не против наказания арапником. Арапник не может быть хуже папиного ремня или веток, которые срезала в саду Мей Браун. Я твердо заявила, что я не мул и не хочу, чтобы меня стегали. Тут бабушка сказала, что я совсем испортилась, потому что сама выбираю наказание. Мол, я считаю себя главной, и это уже повод меня высечь. Я ответила, что все наказания только портят мне характер. Тут мама начала смеяться, а бабушка попросила меня принести детский аспирин со вкусом апельсина, а то у нее голова раскалывается. Она повесила арапник на дверную ручку своей спальни, откуда пыталась дирижировать нашим наказанием, шлепая мухобойкой или свернутым в трубочку журналом «Нью-Йоркер».
После возвращения бабушки из больницы папа редко бывал дома. Его отсутствие никак не обсуждалось. Бабушка его не любила и умирала, так что она победила, выжив его из собственного дома. Он пошел работать в дневную смену и периодически выходил и в ночь. В свободное время отец рыбачил до окончания сезона, а потом стал охотиться.
Однажды в субботу отец принес множество беличьих хвостов. Отрезанные концы этих хвостов все еще кровоточили. Я прикрепила прищепками хвосты к веревке для просушки белья и надела себе на шею, как ожерелье, чем шокировала Лишу. Я же воображала себя чем-то средним между Гретой Гарбо и Даниэлем Буном[13].
Лиша занялась приготовлением густого рагу из белок с черным чесночным соусом по рецепту, который ей дала одна из соседок-каджунок[14]. В нем было так много перца и чеснока, что оно казалось острым даже по запаху. Обычно американцы кладут в рагу помидоры, окру и всякие неострые приправы; в рецепте Лише, предполагавшем беличье, утиное или оленье мясо, ничего этого не было. Вместо традиционных ингредиентов туда входили лук, мука и сало. Получился жидкий, однородный суп черного цвета. Смесь трех перцев заставляла раздувать ноздри, а послевкусие от чеснока и корня сассафраса ощущалось и через несколько дней. Бабушка заявила, что ее тошнит от одного запаха, и предложила матери поужинать в ресторане «Морепродукты у Эла».
Они отъезжали на машине от дома, и фары автомобиля на секунду осветили фигуру отца в майке. Он сидел за кухонным столом, который сделал из листа фанеры и покрыл лаком. Отец держал ложку, как, наверное, держат во время обеда заключенные. Другой рукой он загородил тарелку, будто боялся, что у него отнимут еду. Размеренными движениями папа сметал рагу до последней ложки. У меня на шее все еще висело ожерелье из беличьих хвостов, и я спросила: обидела ли его бабушка тем, что не хочет есть его добычу? Отец рассмеялся:
– Черт, но так даже лучше, сладкая. Нам больше белок достанется!
В воскресенье отец работал, и я проснулась поздно. На кухне я застала бабушку. Вокруг нее стояли тарелки, а между ног в инвалидном кресле – банка пива. Я не часто оставалась с бабушкой наедине, поэтому мне было немного не по себе. При моем появлении бабушка резко подняла голову и вздрогнула, словно я ее разбудила.
– Не ори, – потребовала она.
Я ответила ей, что вообще молчу. Бабушка сообщила мне, что Лиша попросила мать отвезти ее в церковь. Это меня рассмешило, но я сдержалась. У Лиши, как и у меня, были весьма странные религиозные взгляды. Она ходила в церковь только для того, чтобы порадовать бабушку. Вот и сейчас об их отъезде в церковь бабушка сообщала мне с восторженным выражением на лице, будто единственным посещением дома Господа Лиша заработает себе место на небесах. Потом бабушка сказала, что хочет мне кое-что показать в своей комнате.
В то утро я была благодарна ей хотя бы за то, что она пристегнула свой протез. На протез она даже надела тонкий оранжевый компрессионный чулок и натянула черный ботинок. Мы зашли в ее комнату, бабушка закрыла дверь и остановилась перед ней, чтобы я никуда не убежала.
Теперь я расскажу о запахе, который я почувствовала в бабушкиной комнате. В комнате пахло змеей, а именно водяным щитомордником.
Представьте себе, что вы теплым зимним днем идете в резиновых высоких сапогах по болоту в Техасе и любуетесь пролетающим над головой клином диких уток. Так вот запах водяного щитомордника вы почувствуете задолго до того, как увидите саму змею. Это запах мертвой плоти непосредственно перед тем, как она начинает гнить и в ней заводятся черви, заставляющие ее неестественно двигаться. Очень часто, услышав запах трупа птицы, нутрии или броненосца, я начинала искать глазами на земле треугольную почти черную голову водяного щитомордника – самой опасной змеи в Северной Америке. Щитомордник является родственником гадюки и кобры. Когда эта змея плывет в воде, учуять ее сложно, а на земле она пахнет очень сильно, почти как скунс. (Я знала торговца наркотиками, который держал щитомордников в аквариумах, расставленных по всему трейлеру. Сам он не чувствовал запахов, но нам, его покупателям, приходилось шумно дышать ртом. Все мы говорили, как Элмер Фадд из мультфильма про Багза Банни, и сделка приобретала комический характер: «Ты увеерен, твой коо-каин нээ раз-боо-дяя-жеенный?» Особенно смешно, когда ты под ЛСД и остро нуждаешься в чем-то, что помогло бы выйти из-под его действия.) Это запах не смерти, а того, что питается смертью. Он ассоциируется с личинками и бактериями, которые поглощают клетки мертвого тела.
В общем, я попала в облако этого страшного запаха, когда бабушка объявила, что настало время нам пообщаться наедине. Карман ее синего халата топорщился: в нем что-то лежало. Бабушка вынула оттуда нечто похожее на книжечку в медном переплете. Эта вещь умещалась на ее ладони. У нее были две закрывавшихся створки. Бабушка некоторое время держала эту «иконку» в руках и, казалось, молилась. Мне вспомнилось изображение Моисея из ее цветной Библии, который держал в руках две каменные скрижали, соединенные кожаным ремешком.
Через некоторое время бабушка открыла «иконку», которая оказалась дешевой двойной фоторамкой со школьными снимками мальчика и девочки.
– Это твои брат с сестрой, – сообщила мне бабушка, – Текс и Белинда.
Как ни странно, но я почувствовала облегчение. Наконец-то я вижу Белинду, о которой так много слышала. Эта Белинда оказалась блондинкой, как Лиша. У нее была прическа из небольших тугих завитков в стиле афро задолго до того, как Анджела Дэвис сделала ее популярной. Это были времена домашнего перманента – конец 50-х – начало 60-х годов. Девочек завивали так туго, что приходилось резинку вокруг головы надевать, чтобы от волос уши сильно не выпирали. Белинда мне понравилась, а к Тексу я отнеслась равнодушно. У него были кривые зубы, темные волосы, зачесанные назад и черный ковбойский галстук.
Бабушка сказала, что Белинда и Текс гораздо меня старше. На тот момент они уже учились в старших классах в другом штате. Я недоумевала: какое отношение эти дети имели ко мне?
Я никогда в жизни их не видела, а тут бабушка сообщает, что они мои не просто кузины, а брат и сестра. Я не очень поняла слова бабушки о том, что они сводные. Я слышала, что мать развелась с Паоло, и это было нашим семейным секретом. Черт, да я вообще не знала никого в разводе. Единственным разведенным человеком, о котором я слышала, была Элизабет Тейлор. Что вообще значит «сводные брат и сестра»? Потом бабушка объяснила мне, что это другие дети матери от другого мужа. Я спросила: родились ли эти дети от Паоло, которого мой отец в свое время отдубасил? Бабушка очень уважала Паоло и не понимала, как мать могла его бросить, поэтому на пару минут она задумалась. Потом она сказала, что эти дети не от Паоло, а от первого мужа матери по имени Текс. Его существование было для меня полной неожиданностью. Я, как оказалось, ничего не знала о жизни матери до того, как она поселилась в Личфилде. Мне было известно, что она училась в художественном колледже в Нью-Йорке во время войны. Я и слыхом не слыхивала о других детях. Мать всегда говорила нам, что мы с Лишей – ее единственные поздние дети, которые родились у нее после тридцати. Я уставилась на фотографии и смотрела до тех пор, пока бабушка не сложила фоторамку и не спрятала в карман.
Пока я переваривала эту информацию, бабушка сделала то, что, по мнению Лише, было невозможно и никак не вязалось с ее характером. Она схватила меня за плечо и дыхнула на меня запахом смерти. Максимально приблизившись к моему лицу, бабушка сказала: если я не буду слушаться мать, то меня отошлют в другую семью, как поступили с Белиндой и Тексом. Они уже больше никогда не увидят маму. Глаза бабушки за очками в роговой оправе совсем побелели.
Тут я поняла: мерзкий запах исходил вовсе не от еды, тухнувшей где-то в углу или под кроватью. Запахом смерти веяло от бабушки, ее тело пожирал рак. Если бы мне тогда сказали, что в ее животе завелись десятки маленьких водяных щитомордников, я бы не удивилась. Бабушка намазала себе под носом «Звездочкой» для того, чтобы отбить запах собственной смерти. Ее аромат наслаивался на запах гниения, и в результате дышать было невозможно.
До бабушкиной комнаты я слышала этот запах лишь однажды, когда мы с отцом рыбачили в лодке. Мы плыли среди зарослей вьюнка, когда отец неожиданно резко махнул веслом всего в нескольких сантиметрах над моей головой. Капли с весла упали на мои голые плечи, и я услышала, что что-то упало в воду поблизости от лодки. Отец сказал, что над моей головой в зарослях висел водяной щитомордник, готовый меня укусить. После этого я долго мелко дрожала совсем не от холода.
И в тот день, когда я была одна с бабушкой, и меня никто не мог спасти, я тоже начала дрожать, отодвинула ее кресло и бросилась на кухню.
После того как мать вернулась, бабушка заставила ее меня отшлепать. Она заявила, что я лазила по ящикам в ее комнате и украла беруши, с чем я даже не удосужилась спорить. Раз в жизни я последовала совету Лиши и стояла смирно, чтобы не растягивать экзекуцию. Мать закусила губу и механически била меня по попе.
Во время этого наказания я начала забывать о Белинде и Тексе. Я стерла их из своей памяти на девятнадцать лет. Я даже не упомянула Лише о том, что рассказала мне бабушка, хотя советовалась с сестрой по поводу всего, что касалось матери. Гораздо позже я узнала, что бабушка показывала эту фотографию и моей сестре, но и она твердо решила забыть об этих детях. Получается, что мы обе сознательно выбрали амнезию. Я понимала, что три мужа – это уже слишком. Это грань между досадными ошибками и плохой привычкой. Поэтому мой ум наотрез отказывался воспринимать информацию о еще двух детях матери.
Не знаю, почему мне так легко удалось забыть Текса и Белинду. Чаще всего меня можно было убедить во всем что угодно. Например, в тот год Лиша (без каких-либо доказательств) уверила меня в том, что я – робот, созданный для помощи ей. Она заявила: если я не буду работать, то меня отключат. Как видите, меня было легко убедить в моей нечеловеческой природе, неадекватности и вообще в том, что со мной что-то не так. Сейчас я понимаю: мне просто было очень страшно оттого, что мать взяла и запросто потеряла двух своих детей. Эти дети родились из тела моей матери, как и я сама, значит, мать может так же легко потерять и нас с Лишей. Если бы я поверила в существование других детей, мне пришлось бы жить в постоянном страхе, что мать исчезнет из нашей жизни. Мы станем ее очередным секретом.
В общем, бабушкины слова о том, что меня могут отослать в другую семью за плохое поведение, я восприняла как вполне реальную угрозу.
После ее рассказа о двух детях я начала еще внимательней следить за матерью, пытаясь заметить в ее поведении черты нервности. Но до появления урагана «Карла» я ничего не замечала, что, вполне возможно, и является главной особенностью поведения любого нервного.
Я пристально следила за ней. Мать в свою очередь внимательно смотрела сводки погоды. У нас был небольшой переносной телевизор с антенной, которую мама отломала в сердцах. Вместо антенны в него вставили железную вешалку, что придавало ему вид зайца с ушами. Картинка на экране была бледно-голубой или пепельно-белой. Фигуру диктора прогноза погоды окружал сверкающий нимб. Тогда в прогнозе не показывали красивые карты или виды из космоса. Диктор по совместительству вел еще детскую передачу. Он стоял у белой доски, на которой от руки была нарисована линия побережья, с толстым фломастером в руке. Нарисованные от руки спирали изображали тропические штормы. Размашистыми движениями ведущий рисовал на белой доске стрелки, показывающие направление движения шторма (ураганы неизменно приходили на восточное побережье Техаса с северо-запада: из стран Карибского бассейна через острова Флорида-Кис). Когда ведущий рисовал огромную спираль, закрывавшую сотни километров побережья, и говорил, что сила ветра доходила до двести сорока километров в час, все понимали, что надвигается ураган.
После этого люди начинали гадать, на какое место на побережье обрушится вся сила урагана. Говоря о нем, местные жители использовали глагол «въедет», словно речь шла о бездомном родственнике. Можно было заехать на любую заправку, и работник, заправляющий автомобиль, неизбежно спросит тебя о том, в каком месте, по твоему мнению, пройдет ураган.
Догадки, в каком месте ураган вступит на материк, были любимым занятием, сравнимым по популярности с футболом в старших классах. Все, работающие в Мексиканском заливе: от ловца креветок до рабочего с нефтяной платформы в одночасье становились оракулами. Когда один из таких людей входил в «Американский легион», бармен наливал ему бесплатное пиво, посетители поворачивались на стульях в его сторону и замолкали, а игравшие в бильярд прерывали игру. Большинство рыбаков с большой радостью пользовались такими привилегиями. Их высказывания приобретали красочность и мистичность магии вуду. Какой-нибудь рыболов мог заявить: «Вчера вокруг луны был оранжевый ореол. Этот шторм войдет через Сабин-Пас[15]».
Нефтяники давали своим прогнозам еще более загадочные обоснования. «Есть один парень из Морган-Сити в Луизиане, так у него перед ураганом всегда болит колено, которое он повредил, когда играл в школе в футбол». Услышав это, многие вставали со своих мест и выстраивались в очередь к телефону-автомату на парковке. Они звонили своим букмекерам, чтобы сделать ставки.
Во время урагана «Одри», который прошел за несколько лет до этого, жителей Личфилда эвакуировали. Это был первый ураган среди целого ряда других, названных женскими именами. Матери очень не понравилось то, что ураганы называют исключительно женскими именами.
– Черт побери, это мужчины развязывают войны, – сказала она.
После «Одри» была «Бетси», которая пощадила нас, но нанесла большой урон Новому Орлеану. Вода из залива перелилась через дамбы, и в результате город стоял наполненный водой, как чайное блюдце.
Впервые я услышала о приближении урагана «Карла» однажды вечером. Бабушка сидела в инвалидном кресле и плела кружева, мелко перебирая пальцами. Мать лежала на диване, поставив чашку кофе себе на грудь. Мы с Лишей сидели у ее ног и делали ей на ногтях «детский педикюр» мелками для рисования. По телевизору показывали документальные кадры про ураган «Одри», и Скотовод Билл хвастался, что он лично греб на пироге по Мэйн-стрит, в то время как съемочная группа шла рядом на катере. Мать проговорила: «Брехня» и объяснила: он оставил свою жену и детей пережидать ураган в школьном спортзале, а сам «эвакуировался» в Оклахома-Сити с секретаршей. По мнению матери, Скотовод Билл был таким же трусом, как и бабушка, которая первой бежала в подвал при любом усилении ветра. Бабушка никак не отреагировала на сообщение о надвигавшемся урагане, продолжая коротать время за кружевами.
Потом, когда стало ясно, что ураган действительно движется в нашем направлении, бабушка вдруг проявила смелость и задержала нас в городе, в результате чего мы не эвакуировались в числе первых. Конечно, мы не одни оставались в городе. Национальные гвардейцы, разъезжавшие по улице и объявлявшие в мегафоны об эвакуации, дважды останавливались у нашего дома.
Жители начали готовиться к урагану за два дня до его прихода. Прогнозы погоды становились все страшнее. Окна забивали фанерой. Паковали вещи. В супермаркетах закончились батарейки, свечи и консервированные бобы. Личфилд расположен в низине, и люди уезжали в места выше уровня моря. Транзисторные приемники беспрестанно сообщали о приближении урагана четвертой категории опасности по пятибалльной шкале. Никто не хотел переживать катастрофу в городе – все паковали вещи и уезжали. Многие медлили – искали важные бумаги, например свидетельства о браке и старые фотографии, чтобы спасти их от огромной волны, которая, по мнению Скотовода Билла, неизбежно захлестнет город. Я помню, что мать Кэрол Шарп взяла с собой свои детские ботиночки.
Но мы никуда не собирались.
– К черту, если ураган пройдет через город, то у нас не будет дома, – говорил отец. Он считал, что нет смысла особо напрягаться, потому что город все равно будет уничтожен. Не стану утверждать, что такой настрой меня сильно подбадривал. Другие отцы брали отпуска, перетаскивали вещи на чердаки, а наш продолжал ходить на работу, возвращался, чтобы взять обед, и снова уходил. Потом он вообще перестал затруднять себя приходами домой.
Вспоминая сейчас те дни, я удивляюсь, что отец бросил нас на произвол судьбы в такое сложное время. Может быть, он решил отстраниться от дел, потому что дома была бабушка. Когда отец отсутствовал, бабушке было проще нами управлять. Может быть, он решил, что мы уже подросли и не требуем его постоянного участия в нашей судьбе. Справедливости ради отмечу, что у нас было достаточно времени для отъезда из города. Не буду утверждать, что ураган угрожал нашей жизни, он мог разрушить и нанести ущерб нашей не слишком дорогой собственности. К тому же его работодатель – корпорация «Галф Ойл» в те дни платил всем, кто хотел работать, вдвойне, и отцу не хотелось отказываться от денег. Тем не менее меня удивляет то, с какой легкостью мы его отпустили. Когда отца не было рядом, мы с Лишей могли убедить мать купить нам что угодно: любое лакомство, предмет одежды или игрушку. Мать считала нас чуть ли не беспризорниками, у которых ничего нет. Отец с его крестьянской бережливостью не позволял нам никаких глупостей. А в его отсутствие мы могли масляными красками раскрасить стену гаража или сорвать обшивку с карточного стола для игрушечного домика. При этом он был широкой души человеком: прощал нам совершенно безобразные, с точки зрения соседей, поступки. Но он не терпел, когда попусту транжирят деньги, и в этом смысле мать от отца сильно отличалась.
В первый день, когда отец вообще не вернулся домой с работы, мы с Лишей ему звонили. Я представляла себе, как мой голос, словно улитка, полезет по сложному узору телефонных линий с остановками и узлами навстречу к папе.
– «Галф Ойл», – услышали мы голос в трубке. – Чем могу помочь?
– Добавочный 691, пожалуйста.
Мы с Лишей стояли на кухне, прижавшись ухом к уху и к трубке, и пытались оттеснить друг друга. Потом весь день наши руки были покрыты следами щипков в виде полумесяца, которыми мы пытались отогнать одна другую. Отец говорил с нами подолгу, но домой не возвращался.
– Берегите маму, – сказал он тогда.
Я спросила: кто же будет беречь нас? Отец не ответил.
Потом Лиша предложила ему самому поговорить с матерью, видимо, в надежде, что он поймет: она не контролирует ситуацию. Но отец сказал, что его зовут, и повесил трубку.
К полудню в городе осталось мало людей, но мы никуда не двигались. Сводки новостей по телевизору становились все тревожнее. Показали кадры разрушенной волнами прибрежной дороги. Потом мы увидели вереницу машин, медленно двигавшихся на возвышенность за Орандж-Бридж. Днем на машинах были включены фары, и казалось, что это похоронная процессия длиной в целый город.
На следующее утро в газете была напечатана фотография вырванных с корнем пальм на Кристал-бич. Школа была закрыта, и мы с Лишей сидели дома, делали из бумаги кукол и смотрели бесконечные телесериалы, в которых мужчины ходили по дому в пиджаках, а женщины пылесосили пол в туфлях на высоких каблуках.
Скотовод Билл пропал с телеэкрана. Вместо него репортажи вел высокий и потный спортивный комментатор в застегнутом на все пуговицы синем пиджаке и с тонким ковбойским галстуком. Он объявил, что ураган придет в город к полудню.
– Всем рекомендовано спрятаться в укрытие, – произнес он. – Повторяю. Всем рекомендовано спрятаться в укрытие.
У комментатора при этом был напыщенный вид, он важничал, как Барни Файф из «Шоу Энди Гриффита»[16], когда тот делает вид, что он детектив, а не помощник шерифа из небольшого городка, главной задачей которого является регулирование движения на пешеходном переходе около школы. Через полчаса после новостей в городе завыли сирены.
Некоторые из особо религиозных жителей говорили о том, что наступает конец света. Кэрол Шарп рассказала мне об этом во дворе своего дома перед тем, как вся ее семья уехала из города. Мы стояли под огромной мимозой, розовые пушистые цветки которой ветер сдувал на землю. Отец и мать Кэрол накрывали брезентом багаж на крыше своего «Шевроле». Кэрол говорила о том, что с неба спустятся четыре всадника Апокалипсиса в черных плащах, земля разверзнется и огонь поглотит всех грешников вроде меня, а Иисус поведет семью Кэрол по золотой лестнице в рай. Накануне какой-то проповедник возложил девочке руки на лоб, и бородавка на ее большом пальце правой руки исчезла. Всего неделю назад я булавкой помогала Кэрол избавиться от этой бородавки, а сегодня этой бородавки действительно не было. Меня эта новость насторожила, но я объявила, что не готова поверить в Бога, который грозит уничтожением бедняков, живущих в трейлерах, но при этом находит время, чтобы вылечить какую-то бородавку.
Свет за окном померк, и вскоре вокруг нашего дома все стало угольно-черным. Мать задвигала шторы на большом главном окне. Я видела, как машина Шарпов отъезжает от дома.
– А что, если миссис Шарп все правильно говорит об Иисусе и о Боге? – произнесла я вслух. Или, может, предложила всем вместе помолиться, я точно не помню. Мать подняла руку и показала потолку средний палец со словами: «Да пошел он, этот бог!»
Бабушка не слышала это богохульство из-за рева сирен и того, что была очень увлечена кружевами. Я думала: нас в любую секунду волна может смыть в океан за наши грехи.
Лиша испугалась и стала просить о том, чтобы мы сели в машину и поехали к тете Айрис. Сестра отца жила в девяноста километрах на север под Кирбивиллем.
– Ну поехали-поехали, – повторяла сестра.
Лиша твердила о том, что сейчас нет пробок, ведь все уже уехали. Она даже попыталась заговорить с бабушкой, которая окончательно потерялась в своих кружевах.
В эту минуту позвонил отец, и мама удивила нас тем, что сама подняла трубку. Помню, что она держала кухонное полотенце и ответила раздраженно, будто он ее «достал» своим звонком. Мать сказала, что машина уже заведена и мы выходим на улицу, хотя на самом деле она даже не вынимала из кладовки сумки. По телевизору показывали сериал «Денис-непоседа». Мы с Лишей сидели на полу и вырезали бахрому на индейском костюме из бумажного пакета, когда мать положила трубку.
Сейчас я понимаю, что в тот день отец был ей очень нужен, и она была в бешенстве. В тот день его с нами не было. Телефонные провода разорвались, и связи больше не было. Я посмотрела на Лишу, которая только пожала плечами и снова принялась с маниакальной аккуратностью вырезать бахрому. В этот момент я поняла, что нам надо было уже давно уехать. Я испугалась.
Позднее мама объяснила мне, что мы должны были уехать рано утром, но бабушка отказалась. Она почему-то решила, что нет никакого урагана, лишь мелкий дождик. Она будто забыла свой страх ураганов и решила, что ураган такой грандиозной силы пронесется над нашим домом, не причинив никакого вреда. Даже появление в нашем доме молодого симпатичного военного из Национальной гвардии с громкоговорителем на плече нисколько не изменило ее мнения.
– Спасибо, конечно, что зашли, – сказала ему бабушка. Она пыталась выдворить его из комнаты, наезжая на его колени инвалидным креслом. Мать сидела за столом, положив голову на руки, и плакала в кухонное полотенце. Военный стал угрожать тем, что лично перенесет бабушку в машину. После этого она согласилась уехать, но заявила, что сперва примет ванну. Гвардеец ответил: наверняка уже отключили воду, но Лиша открыла кран, и вода потекла. Бабушка мгновенно туда отправилась и заперлась.
После того как за бабушкой закрылась дверь ванной, Лиша решила позвонить отцу и попросить его немедленно за нами приехать. Но связи не было. Меня поразило выражение ужаса на лице сестры, когда она передала мне трубку. На мгновение ее глаза заблестели от слез. Лише было всего девять, и сирены выли, будто в Америку с Кубы летят советские ракеты, о чем нам рассказывали в школе. До отца было не дозвониться. Казалось, сестра окончательно бросила изображать взрослую.
Лиша передала мне трубку. Она не хотела в одиночку осознавать, что мы остались совершенно одни, и разделила это чувство покинутости со мной. Тишина в трубке донесла до меня это осознание в полной мере. Когда снимаешь трубку, чтобы набрать номер и слышишь длинные гудки, то понимаешь: ты на связи и тебя готовы выслушать. Сложно осознать, как здорово быть подключенным к телефонным сетям, опутывающим мир, пока эта связь не прервалась. Ждешь гудка, любого сигнала, но вместо этого наступает гробовая тишина, и не знаешь, что делать.
В конце концов нам помог тот самый военный из Национальной гвардии. Он вернулся, когда дождь усилился до того, что звук ударяющихся об окно капель стал громким, как от свинцовой дроби. Бабушка сильно затянула со своим купанием. Мама разрешила военному открыть замок отверткой. В ванной бабушка сидела в своем инвалидном кресле и продолжала маниакально плести кружева. Вода текла через край.
Национальному гвардейцу все-таки пришлось поднять бабушку и понести, как он и предлагал ранее. Он обхватил ее, словно жених невесту. Здоровая нога бабушки висела нормально, а вот протез плохо держался и болтался под рукой гвардейца. Мы с Лишей хихикали, потому что положение бабушкиных ног она сама сочла бы неприличным для дамы.
На улице ветер раскачивал телефонные провода и носил мусор. Он задувал в оконные щели, издавая высокий свист, который, казалось, с каждой секундой становился все пронзительнее. Мы с Лишей бросились к стоящей в трех метрах от крыльца машине и успели промокнуть до нитки. Мы сели в машину, и шум урагана перестал быть таким сильным. Через стекло из-за дождя мы едва различали фигуру гвардейца. Он шел медленно, потому что старался нести бабушку, как кавалер, а бабушка, видимо, выскальзывала из его рук. В любом случае он шел медленнее, чем мы, и это нас насмешило. Наш смех затих, когда за руль села мама.
По отражению ее глаз в зеркале заднего вида было видно, что она уже не плачет. То, что она перестала плакать, было плохим знаком. Ее губы были так плотно сжаты, что рот стал напоминать тонкую черту.
Я видела, как военный сел в джип. Потом все вокруг нас стало однородно-серой массой. Джип – пятно оливкового цвета – двигался от нашего дома, которого не было видно. Мне почему-то захотелось открыть окно, высунуть голову и закричать гвардейцу, чтобы он вернулся, но я понимала: мой голос потонет в вое урагана. Джип пропал из виду, и остались только звуки сирен, дождь и холодные серые глаза матери в середине серебристого овала зеркала.
Обычно дорога до дома тети Айрис занимала час. Это в хороших погодных условиях.
– Шестьдесят минут от двери до двери, – говорил отец, вылезая из автомобиля и поднимаясь на крыльцо ее дома. В день урагана мать доехала за пятьдесят пять минут – Лиша засекала время. И это во время такого сильного дождя, что дворники не справлялись. Они делали взмах, но все за окном оставалось как в тумане. Возможно, нас подгонял ветер, дувший нам в спину. Без сомнения, мама втопила педаль газа и всю дорогу ее не отпускала без малейших колебаний. Возможно, она думала, что на борту ее больная раком мать, которая и так скоро умрет, поэтому ее не очень волновало, доберемся ли мы до цели живыми. Все уже уехали из города, поэтому на дороге не было машин. В противном случае мы не избежали бы аварии. Еще нам дико повезло не съехать с узкой дороги ни в какое болото, которых на пути было великое множество.
Мы выехали из города и еще километров семь слышали вой сирен. Постепенно он становился тише, а рев ветра усиливался, отчего казалось, что мы не уезжаем от урагана, а приближаемся к нему.
Когда мы доехали до Порт-Артура (Техас), мать начала тихонько напевать песню, которую ставила на проигрывателе, когда выпивала. У нее была одна старая пластинка то ли Пегги Ли[17], то ли Деллы Риз[18].
В нашей семье никто не умел петь. Когда мы пару раз были с Лишей в церкви, то просто открывали рот, делая вид, что поем, чтобы никто не обращал на нас внимания. У матери был дрожащий и глухой голос. У нее от природы было контральто, но, видимо, учителя музыки заставляли ее петь как можно более высоким тембром. Тогда в машине мать тихо пела, коверкая слова, тембром голоса, скорее похожим на сопрано. Как только она запела, машина, казалось, понеслась еще быстрее. С самого утра в глубине души я ощущала страх, и когда прямо перед нами возникли стальные опоры Орандж-Бридж, он охватил меня всю.
В то время Орандж-Бридж считался самым высоким мостом в Штатах. Когда по нему едешь, уши закладывает. Его построили таким высоким, что под ним спокойно проходили нефтяные платформы с буровыми вышками. Река Сабин, берега которой он соединяет, неширокая, поэтому подъем и спуск на мосту очень крутые.
Неудивительно, его облюбовали самоубийцы – разорившиеся нефтяники и отвергнутые поклонники. Те, кто бросался вниз с самой высокой точки моста, ломал при ударе о воду все кости. Это я узнала от матери, зачитавшей вслух заметку в газете. Там также писали, что женщины-самоубийцы предпочитают смерть, которая не уродует тело, например снотворное или отравление газом. Мама любила цитировать слова Джеймса Дина о том, что надо умереть молодым и оставить красивый труп[19].
Так или иначе мы выехали на мост, когда мать запела самые страшные слова «Баллады о Мэкки-Ноже».
Капот машины поднялся, когда мы стали заезжать на мост. Я будто поднималась на американских горках, чтобы потом устремиться вниз. Дребезжание металлических перегородок моста под колесами заглушило пение мамы. Несмотря на то что мы поднимались, автомобиль несся еще быстрее.
Лиша утверждает, что в тот момент я завизжала и мать повернулась ко мне и начала меня хватать, что в свою очередь привело к другим последствиям.
Я совсем не помню того, чтобы мать повернулась и схватила меня. Совершенно уверена, что не визжала. Несмотря на то что у меня был свой способ, помогающий бороться с дурным состоянием, вызванным американскими горками, в автомобиле меня все равно укачивало. При въезде на мост был небольшой подъем, и машина подскочила, как лыжник на трамплине, а затем немного прошла юзом. Я почувствовала, как к горлу подступает рвота.
Меня тошнило, но я тем не менее напрягала мышцы живота, как на американских горках. Я плотно зажмурилась. Мне хотелось открыть окно, но я не осмелилась. Мне не хотелось просить мать остановить машину посреди моста. В тот день казалось, что Лиша взяла на себя функции общения с матерью, но она, как и остальные, молчала. Обычно Лиша следила за показаниями спидометра и просила ехать чуть потише (а отца, наоборот, дать газу). Сегодня она с самого утра не раскрывала рта. Почувствовав, что кукурузные хлопья, съеденные на завтрак, поднимаются в горле, я натянула ворот футболки на нос и ощутила, как теплая, пахнущая молоком масса сползает по ее изнанке.
Никто никак не отреагировал. Обычно у бабушки нюх был, как у ищейки, но сегодня она выглядела как манекен. Она вся казалась вырезанной из белого мыла «Айвори». Мать тоже ничего не сказала. Лиша в таких случаях начинала громко возмущаться. Может быть, тогда мне даже хотелось, чтобы меня наказали. По крайней мере, я хотела, чтобы кто-нибудь прервал молчание. Но Лиша повязала свою красную бандану на лицо, как грабитель, и косо на меня посмотрела. Тут я поняла: день у мамы выдался настолько плохой, что она не удосужится сказать мне ни слова. Лиша смотрела на мать, а та вглядывалась в туман с нечеткими очертаниями дороги.
В общем, последнее, что я помню до того, как мы чуть не слетели с дороги, – красная бандана под носом сестры.
Потом нашу машину, неясно почему, развернуло на триста шестьдесят градусов. Я не знаю, получилось ли так случайно или мама сделала это специально. Как я уже писала, Лиша считает, что я кричала и мать обернулась, чтобы меня шлепнуть. Я помню, что она резко повернула руль влево, отчего машина закружилась. Автомобиль долго крутило, пока я, наконец, не увидела несущееся на нас ограждение моста. Потом на какое-то мгновение машина зависла в воздухе, затем вылетела на пешеходную часть моста и устремилась к верхним ступеням ограды. Перила моста стремительно приближались, когда машина резко остановилась. К тому времени я уже визжала и плакала.
К нашему общему удивлению, машина практически не пострадала. Была разбита одна передняя фара и бампер. Никого, кроме меня, это происшествие не обеспокоило. Мать даже не вышла, чтобы оценить ущерб. Бабушка была погружена в свои кружева. Мать сказала радостным голосом, как у вожатой детского лагеря после завершения длительного перехода и разбивки лагеря: «Все в порядке!» Ко мне она даже не повернулась. На ее губах, отражавшихся в зеркале заднего вида, играла испуганная улыбка.
К тому времени я уже ревела белугой. Мать дала задний ход. Мы отъехали от ограждения, съехали с тротуара и, набирая скорость, понеслись вниз по мосту.
Лиша придвинулась ко мне поближе и взяла меня за руку, за что я ей очень благодарна. Я плохо пахла, бормотала что-то невразумительное. С носа свисали длинные сопли. Тем не менее Лиша взяла мою большую руку в свою такую же внушительную ладонь. Обычно это меня успокаивало, но на этот раз я шепотом спросила, почему мама хочет нас убить и не сошла ли она с ума. Лиша сказала, чтобы я помолчала и что мы через двадцать минут будем у тетушкиного дома и все будет хорошо.
Впрочем, когда мы подъехали к дому тетушки, все не наладилось. Мы убежали от урагана. Теперь ураган «Карла» нам не был страшен. Тем не менее, выйдя из машины, мотор которой потрескивал от перегрева, я не почувствовала облегчения. На тетушкином участке, поросшем высокими соснами, было так же темно, как в Личфилде. Я не чувствовала себя в безопасности. Меня не обуревало желание пасть на колени и целовать землю, как у вынесенного на сушу матроса после кораблекрушения. У моих ног крутились пятнистые собаки для охоты на птиц, нескольких похлопываний оказалось достаточно, чтобы они заскулили и убежали.
Отгоняя собак, тетушка спросила, как мы добрались. Я удивилась своему ответу, что добрались мы прекрасно, и тому, как легко далась мне эта ложь. У меня все было отлично. И поездка прошла замечательно. Я была настолько испугана, что страх не давал мне уткнуться в тетин фартук и расплакаться. Единственным, о чем я мечтала в тот момент, была ванна. От меня так сильно воняло, что даже собаки от меня отошли. Они припали к земле, спрятались под крыльцо и громко скулили. У них были длинные пятнистые морды и желтоватые внимательные глаза.
Я не могу описать своих тетю, дядю и других родственников, которые вышли нас поприветствовать, потому что все время смотрела в землю. Через некоторое время в моей памяти потускнели и силуэты собак. На моих глазах будто лежала пелена, и я видела лишь контуры этих фыркающих и невидимых созданий. Вокруг меня будто убавили громкость, а я сама словно готовилась к новому опасному путешествию.
Бабушку положили в тетушкину спальню, и я приняла ванну. В общем-то жизнь налаживалась. Мы ускользнули из Личфилда, где ураган, скорее всего, уже снес наш дом, но расстались с отцом, оставшимся в городе. Мать не стала более разговорчивой, а вместо бабушки символом смерти стал дедушка, который был, как мне показалось, старше Иисуса Христа.
На самом деле моему дедушке Карру по папиной линии было где-то за восемьдесят, и он совершенно не собирался умирать. Его скорую и неизбежную кончину пророчили, столько, сколько я себя помню. Преклонный возраст и индейская кровь заставляли окружающих относиться к нему с таким почтением, с которым, как теперь я думаю, надо обращаться со всеми стариками. Впрочем, в то время я недолюбливала дедушку. Он ничего не делал и не имел никаких обязанностей. В половине случаев он даже не затруднял себя включением слухового аппарата и не слышал, что ему говорили. С нами дедушка даже не сразу поздоровался. Он сидел в кресле-качалке на веранде, и ему в зависимости от времени суток приносили табак, трубку, кофе или чай со льдом. У дедушки была плохая привычка: когда за ним не следили, он любил высоко залезать, например, на крышу сарая или машины. Об этом тетя Айрис рассказала нам перед тем, как ушла на работу в аптеку. По словам тети, дедушка однажды даже умудрился взобраться на высокий пекан во дворе. Мой двоюродный брат Боб Эрл дал нам с Лишей по десять центов за то, чтобы мы следили за дедушкой. Если бы мы увидели, что дедушка куда-нибудь лезет, нам надо было бы бежать в поле и звать его. Сам Боб Эрл пас на заднем поле коров абердин-ангусской породы[20]. Дедушка сидел на веранде, жевал трубку и иногда пел песню, которую мать считала дремуче-деревенской:
Кто-то украл моих старых охотничьих собак. Ох, как бы я хотел, чтобы они вернулись. Большие собаки перепрыгнули бы через ограду, А маленькие пролезли через дыры в ней.Мы с сестрой разрывались: нужно было следить и за бабушкой, и за дедушкой, и за мамой на пороге нервного срыва.
В конце концов мы разработали схему. Лиша сидела на веранде, спиной к москитной сетке на двери и следила за дедушкой. (За это я ей отдавала свои десять центов.) Я же сидела за москитной сеткой спиной к Лише в доме и наблюдала за матерью. Она в свою очередь смотрела новости об урагане. Несмотря на то что на улице было тепло, мать развела огонь в камине в гостиной. Она поправляла угли, пот стекал по ее лицу, на котором красным отсвечивали языки пламени. Волосы от лица мама убрала черной эластичной повязкой. Сидевшая на корточках с кочергой и сосредоточенно поправлявшая угли, она выглядела погруженной в себя, как никто другой. По телевизору показывали разрушения, вызванные ураганом, и верхушки пальм, пригнувшиеся от ветра.
Мне хотелось позвонить отцу. Я даже поговорила об этом с девушкой-оператором, которая сообщила мне, что не может соединить меня с Личфилдом, потому что линия занята. Я спросила ее: это значит, что многие пытаются дозвониться или что связи нет вообще? Оператор ответила, что у нее нет времени это обсуждать, и разъединилась.
Я снова села на свое место спиной к Лише в ковбойке. Вскоре мне захотелось пописать, и я пошла в ванную рядом со спальней, выделенной для бабушки.
Выходя из ванной, я обратила внимание на бабушкину руку: она как-то неестественно спадала с кровати. Я на цыпочках потихоньку подошла к ней. Комната была небольшой, и в ней стоял огромный холодильник, в котором тетя хранила оленину, утятину и беличье мясо. Железная, белая, узкая и продавленная кровать стояла рядом с холодильником. Бабушкины очки лежали на полу, поэтому я подумала, что бабушка спит. Я решила положить очки на тумбочку и захватить, по возможности, ее ножницы для шитья, чтобы вырезать себе из газеты снежинок. Глаза бабушки закатились, и из-под полузакрытых век виднелись белые глазные яблоки.
Я присела на корточки, чтобы поднять очки, и заметила, что бабушка пролила что-то розовое и на вид липкое на линзы очков. По ним ползали небольшие красные муравьи, которых мы называли «сахарными муравьями». Этой весной я выпустила всех муравьев, которых Лиша держала на своей муравьиной ферме, и мне хотелось загладить свою вину перед сестрой и найти ей новых муравьев. Под кроватью я нашла коробку из-под обуви и задумалась было как заманить муравьев с очков в коробку, когда мой взгляд упал на бабушкину руку.
Она свисла с кровати почти до пола, и ладонь была полуоткрыта. На внутренней стороне бабушкиной руки я заметила то, что с первого взгляда мне показалось царапиной или линией, проведенной карандашом для подкраски бровей. Но эта линия двигалась. Я нагнулась, чтобы посмотреть поближе, и поняла, что бабушка разлила сироп от кашля или газированную воду на внутреннюю часть руки. Муравьи ползали по ее руке, поедая сахар, а бабушка этого даже не чувствовала.
Не помню, задалась ли я тогда вопросом: жива бабушка или нет? Я просто поняла, что с ней что-то не так, и стала пятиться из комнаты. Я вернулась в гостиную и села, прислонившись к москитной сетке на двери так, что ощутила спину Лише. Мне стало легче. Так я сидела до тех пор, пока мама не вошла в спальню к бабушке и не закричала.
V. Бессонница
Отец видел, как с запада, со стороны Мексиканского залива, пришел ураган «Карла». Папа потом рассказывал, что в тот момент он находился в «вороньем гнезде» высоко над землей за толстым стеклом. Это кабина со стеклянной стеной, расположенная на высокой башне перед нефтеперерабатывающим заводом. За башней расположены нефтехранилища, а за ними – канал, который прорыли для того, чтобы подгонять танкеры с нефтью, добытой на платформах в океане.
В тот день башня от ветра так и качалась. Отец и Бен Бедерман клялись, что им пришлось ухватиться за столешницы, а кресла на колесиках разъехались по всему помещению. По каналу к ним приближается волна высотой восемь метров. Я представляю себе, как отец наклонил голову набок и прищурился, наблюдая за ней. Рассказывая эту историю, он даже показал худой рукой вдаль, словно волна двигалась на него в эту секунду.
– Это был словно целый дом из воды, – сказал отец.
Позднее я задумалась о том, как он мог все это рассмотреть среди дождя и урагана. Но когда папа рассказывал, я ни в чем не сомневалась.
Ураган не разрушил Личфилд, несмотря на то что волна шла прямо на город и должна была раздавить всех жителей, как тараканов. Торнадо неожиданно повернул прямо перед берегом и со всей силой обрушился на городок Камерон в Луизиане.
Потом люди сравнивали поведение урагана с маневром несущего мяч футболиста, который резким поворотом уходит от защиты. Шансы на такой расклад были сорок к одному. Торнадо поднял массу воды из Мексиканского залива и обрушил ее на расположенный в низине город. Я видела фотографии жителей, которые забрались на деревья, чтобы спастись от наводнения. По телевизору показывали людей, которые ходят по затопленным квартирам в болотных сапогах и на ощупь пытаются найти под водой уцелевшие вещи.
Ураган затопил болота и многочисленная морская и пресноводная живность оказалась в городских домах. Я в газете прочитала о том, как после ухода воды один человек нашел у себя на кухонном полу двухметровую акулу. Многие обнаружили в ящиках комодов змей среди носков. Малышей, игравших во дворах, покусали нутрии. Это водяные крысы размером со среднего енота с острейшими зубами, страшные на вид. Соседи возвращались в город и рассказывали, как покусанным друзьям или дальним родственникам пришлось делать в живот болезненные уколы от бешенства. Я обожала такие истории.
Вскоре умерла бабушка. Мне рассказали, что до смерти она на несколько дней впала в кому. Я ничего этого не помню – просто выбросила это из головы. Бабушка умерла, и я ее нисколько не жалела.
Помню день, когда я узнала о ее смерти. Вечером директор школы Фрэнк Доулман пришел в мой класс вместе с Лишей. Миссис Гесс сказала, чтобы я собирала вещи и не забыла калоши. В коридоре стояла Лиша, уткнувшись в коричневое бумажное полотенце так, что я не видела ее лица и не могла понять, действительно она плачет или делает вид. Дядя Фрэнк присел передо мной на колени и сказал, что моя бабушка «ушла». Это выражение показалось мне тогда очень расплывчатым и слишком вежливым. В тот момент я перебирала в уме другие выражения, которые используют как синонимы слова «умер». Таких выражений предостаточно: «откинуть коньки» (хотя в наших краях никто коньков в глаза не видел), «прикупить ферму», «обналичить все фишки», «выйти на финишную прямую» и т. д. Мое любимое – «открыть ферму по выращиванию червей».
Дядя Фрэнк отвез нас домой. Я сидела сзади, а Лиша спереди. Фрэнк Доулман периодически клал большую руку ей на плечо и повторял, что все будет хорошо и она может плакать. В моей голове крутилась песня, которую жевуны[21] поют, когда дом Дороти приземляется и убивает злую волшебницу в полосатых носках: «Динь-дон, ведьма умерла!» Тем не менее я держала мысли при себе, потому что Лиша устроила такое отменное шоу. Но именно так я тогда думала.
Когда мы подъехали к дому, отец сидел на веранде и курил. На нем был рабочий комбинезон, поскольку его только что отпустили с работы. Он был грязным и пах нефтью. Отец обнял нас с Лишей. Фрэнк Доулман пожал ему руку и даже не вынул носового платка, чтобы ее потом вытереть. Он очень любил белые накрахмаленные рубашки, но знал, когда не стоит быть слишком щепетильным.
Дядя Фрэнк отъехал от дома, и мы втроем стояли и махали ему вслед. Я сказала Лише, что она устроила хорошее шоу со всем этим плачем. Она убрала от лица полотенце, и передо мной будто приподняли занавес – я увидела отнюдь не улыбку. Ее глаза и нос были красными, а лицо – мокрым от слез. Лиша вовсе не изображала горе. Она глубоко страдала, а я была так далека от подобных состояний, что нас будто разделили.
Сестра расстроилась оттого, что я испытывала чувство облегчения, а она – горя. Позднее, вечером, когда отец жарил курицу, Лиша погналась за мной: ей показалось, что я плохо отозвалась о бабушке. Уже в школе Лиша очень быстро бегала, поэтому я преодолела лишь половину круга по двору, когда она схватила меня сзади за воротник и сильно дернула. Я упала, и она со всей силы прыгнула на меня, придавив к земле.
Она села мне на грудь, положив колени на плечи, и сказала, чтобы я отказалась от своих слов. Я попыталась обхватить ее ногами, чтобы сбросить с себя, но не хотела брать свои слова обратно. В чем я преуспела, так это в упрямстве (другими словами, я постоянно платила за свой распущенный язык тем, что получала тумаки). Ни Лишу, ни кого-либо другого мне не удавалось победить в честном бою, поэтому я всегда мстила за обиду в удобный момент, иногда даже через несколько недель после проигранной драки. Я умела людей провоцировать, а потом долго не сдаваться более сильному противнику. И очень этим гордилась, хотя сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что вела себя глупо, из-за чего постоянно ходила побитая.
Не знаю, как долго Лиша продержала меня на земле. Раздеваясь перед сном, я обнаружила на плечах два синяка от ее коленей.
Небо розовело. Я слышала, как отец переворачивает лопаточкой на сковороде кусочки курицы. Лиша устала от моего упорства и решила плюнуть мне в глаз. Она долго и громко откашливалась, собирая слюну, которая зависла над моим лицом, как огромная покачивающаяся слеза. В конце концов отец вышел на улицу и оттащил сестру от меня.
В ту ночь я слышала, как она плачет в подушку, а когда я положила ей на плечо руку, она отдернулась от меня.
Мать везла тело бабушки на похороны. И слава богу, потому что когда мы с сестрой дрались, мама непременно начинала плакать. Ей всегда хотелось иметь сестру, поэтому она не понимала, почему мы ссоримся.
Когда Лиша собирала слюну, чтобы плюнуть мне в глаз, мама мчалась по техасской пустыне в бабушкиной старой «Импале» из больницы в Хьюстоне на похороны. Мама рассказывала, что на ней был черный костюм от «Шанель» и камея цвета слоновой кости, которую прапрабабушка привезла из Ирландии, серьги с жемчугом и маленькая белая шляпка без полей, наподобие той, что была на Джеки Кеннеди, когда убили ее мужа. Женщины в нашей семье могут долго и подробно описывать, во что они были одеты даже в самой тривиальной ситуации, но совершенно забывают все остальное. Более того, чем важнее мероприятие, например свадьба, похороны, развод, тем лучше мы помним детали нашего гардероба, но совершенно забываем, ради чего мы так красиво оделись. Мать отправилась одна, потому что не хотела нас расстраивать. По крайней мере, так она объяснила по телефону:
– Не надо со мной ехать – вы только расстроитесь.
Я не понимала, с чего это она вдруг стала такой щепетильной. Мы уже многое видели, например, обрубок бабушкиной ноги после ампутации в Онкологическом центре имени М. Д. Андерсона. Мы с Лишей были свидетельницами, как рак разъедал бабушкин мозг и она становилась все более нервной.
Тогда сестра убедила меня в том, что мать не взяла нас с собой, потому что везла бабушкино тело на заднем сиденье автомобиля. Лиша напела мне это после того, как мы поговорили с мамой по телефону, и я полностью в это поверила. Я не могла взять в толк, что мы раздражали мать, которая была на пределе.
Однажды утром я спросила Лишу, почему мама не положила тело бабушки в багажник. Приподнявшись на кровати, сестра ответила: это было бы неуважительно по отношению к умершей. Я решила, что, по этой логике, было бы также неуместно привязывать тело бабушки к крыше, как перевозят, например, убитых оленей. Поэтому в течение долгих лет я представляла себе, как мать мчится по пустыне с телом бабушки на заднем сиденье. (Так я думала, пока уже в зрелом возрасте не прочитала роман Уильяма Фолкнера «Когда я умирала»[22], в котором дети везут свою покойную мать через штат Миссисипи. Фолкнер описывает ужасные запахи и тучи мух. После этого я пришла к выводу о том, что мать наняла катафалк – она не переносила дурных запахов.)
В любом случае для мамы это было малоприятное путешествие. Мы много думаем о недавно умершем человеке. Я представляю себе ее сидящей в автомобиле с призраком бабушки на заднем сиденье. Мать ехала ночью, потому что ночью прохладнее и машин на дороге меньше. Небо над тобой черное, словно тебя сверху накрыли одеялом. Глядя на освещенную фарами дорогу с прерывистой разметкой, впадаешь в транс.
Иногда мне хочется оказаться в автомобиле рядом с мамой, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Я была бы ей очень полезна: могла бы наливать кофе из термоса, нашла бы радиостанцию с классической музыкой. Я бы не жаловалась, не канючила и не просила остановить машину, чтобы сходить в туалет. Может быть, открыла бы окна, чтобы выпустить призрак бабушки из салона.
Мать оставила нас с Лишей дома, потому что ей было больно. Страдать она предпочитала наедине с собой.
Оставим маму. Пусть она едет по темному шоссе с возникающими и пропадающими в свете фар кактусами по обеим сторонам.
После смерти бабушки у меня впервые в жизни началась бессонница. Лиша крепко спала, а я, лежа с закрытыми глазами, представляла бабушкину руку, по которой ползают муравьи. В ушах стоял назойливый гул, словно сумасшедший виолончелист играет одну и ту же ноту или поднимается гигантский рой пчел. Этот звук – дребезжание моста под шинами автомобиля, когда мы мчались по Орандж-Бридж и когда мать не удержала машину или хотела протаранить ограждение, чтобы все мы погибли в реке. Если я открывала глаза, звуки исчезали. Когда снова закрывала, монотонный треск вытеснял из головы все мысли. Наверное, я сама становилась нервной.
В моем случае небольшой психологический кризис повлек за собой метафизические вопросы. Почему мы так подвержены силам природы, и есть ли в этом Божий замысел? Ребята в классе, сгорбившиеся над альбомами для рисования, казалось, забыли о том, что океан без какой-либо причины решил уничтожить городок в Луизиане недалеко от нашего. Вместо его жителей могли погибнуть мы.
После школы я смотрела телерепортажи о том, как родственники опознают тела погибших. Семьи ходили от одного закрытого мешка к другому. Эти небольшие, детского размера мешочки были разложены аккуратными рядами на парковке перед кинотеатром. Шериф расстегивал молнию и показывал родственникам голову покойника. Отец семейства смотрел на лицо ребенка и отрицательно качал головой. Потом мужчина делал шаг назад, а шериф застегивал молнию и переходил к следующему мешку. Эта процедура повторялась до тех пор, пока семья не находила своего ребенка – маленького Билли или малыша Джекки с синим лицом и черным вывалившимся языком.
Конечно, в кадре не показывали лиц погибших детей. Наш отец на войне насмотрелся достаточно мертвецов. Он потер рукав полинявшей рубашки и отметил, что лицо человека становится голубым, и что пугает даже не цвет лица покойника, а то, что кожа и все тело коченеют. Когда ты к нему прикасаешься, кажется, что дотронулся до дерева или тротуара.
Этот разговор произошел, когда мы обедали на родительской кровати. После смерти бабушки мы тут же возобновили нашу традицию. Только теперь во время еды мы еще и включали телевизор – бело-голубой экран стал нашим семейным очагом.
– Истинную правду говорю, – заявил отец и отломил здоровенный кусок бисквита. – Когда трогаешь труп, он твердый, как стол, – он сделал глоток пахты. – Ничего человеческого не остается.
Впрочем, описание отца испугало меня гораздо меньше, чем кадры репортажей. Меня поражало, как изменялось лицо главы семьи, когда он узнавал своего ребенка. Женщины, конечно, тоже плакали, и очень горько. Но казалось, что они лучше подготовлены к неизбежному – падали на колени и кричали, обращаясь к небесам. По рыданиям мужчин было понятно, что их горе не утихало – они не могли его выплакать.
Я смотрела репортаж, сидя на родительской кровати с тарелкой горячих бобов и печеньем. Рослый мужчина согнулся пополам, словно все внутри его стало мягким, и я точно знала: он никогда не забудет лицо своего мертвого ребенка. Отчасти я потеряла веру при виде того, что делает горе с крупными, толстолицыми мужчинами в бейсболках и ковбойских шляпах.
Остальные второклассники решили, что, избежав урагана и наводнения, доказали свое моральное превосходство – Господь услышал их молитвы.
На перемене я спросила Кэрол Шарп, молились ли люди в пострадавшем от урагана Камеруне. Она ответила: Господь решил, что баптисты Личфилда, наверное, лучшие христиане, чем жители Луизианы. Да и вообще, кто знает, они могли быть католиками. Мы катались на карусели во дворе школы. Это была обычная стальная карусель, выкрашенная в ярко-красный. Мы сидели на металлических сиденьях и держались изо всех сил, а стоящие на земле дети раскручивали нас. Как только карусель набрала скорость, я стала отдирать пальцы Кэрол от сиденья, но та позвала на помощь Ширли Картер. Вдвоем они стали меня щекотать и я сама разжала ладони и слетела, приземлившись коленями на асфальт. Моя юбка в клеточку задралась выше пояса. Я прокричала Кэрол, что ее Иисус – последний козел (это выражение я позаимствовала у матери, которая часто его использовала в дискуссиях на темы, никак не связанные с теологией). Потом миссис Гесс помогла мне подняться и, брыкающуюся и вопящую, отнесла в учительскую.
В учительской она дала мне карандаши и попросила нарисовать что-нибудь красивое до конца переменки. На стенде висели рисунки, один из них сделал мое настроение еще хуже: пестрая бабочка, сидящая на ромашке, синие волны океана и желтое улыбающееся солнышко.
Я схватила черный карандаш и до конца перемены весь его изрисовала. Большая часть листа была испещрена черными воронками. По небу неслись черные облака. Я затачивала черный карандаш – он снова тупился. Потом на заднем плане нарисовала зеленый пригорок с коричневыми могилами, на которых стояли белые кресты. На каждом из них я вывела надпись «Покойся с миром».
На самом деле осознание смерти меня сильно изменило. Оно меняло меня постепенно, но с увеличивающейся силой, словно приближающийся ураган. Понимание смерти отдаляло меня от сверстников, считавших мир детской площадкой, на которую милостиво взирает Бог. Эта наивность раздражала меня до бешенства.
Когда девочки рядом со мной в хоре с поволокой на глазах радостно пели о горах, озаренных пурпурным светом, я от злости больно пихала их локтем. Они в изумлении поворачивались ко мне, а я извинялась, будто это вышло случайно. Просто не могла сдержаться.
По выходным Кэрол Шарп возвращалась домой из воскресной школы: черные блестящие волосы разделены пробором и закреплены двумя пластиковыми заколками-пряжками, из-под розового платья местами торчит край комбинации, а я перекапывала клумбу в поисках червей. Кэрол объявляла: Господь сотворил людей из глины, на что я твердо отвечала: я точно не из глины. И спрашивала:
– Если Бог так любит людей, почему он разрешил Смерти нас уничтожать? Но Кэрол была готова к такому вопросу.
– В мире есть тайны, которые Господь не хочет нам раскрывать, – отвечала она.
После этого я направляла на нее садовый шланг и включала максимальный напор воды. Что-то умерло во мне со смертью бабушки. Я по ней нисколько не скучала, но остро ощущала утрату веры в мировой порядок.
Сам Личфилд располагает к таким мыслям. Природа тут такая, что не забалуешь. Надо защищаться. Однажды утром с семьей друзей я переходила поляну рядом с плантацией сахарного тростника, как неожиданно собаки задержались у ног маленькой девочки. Рядом шли мужчины с ружьями. Чей-то отец сказал, чтобы все замерли, и навел винчестер на место рядом с испуганной четырехлеткой в красных кедах. Мужчина выстрелил, змея отлетела на десять метров и со шлепком упала в траву, где на нее накинулись собаки.
В этих местах стоит носить оружие по причинам, совсем не связанным с другими людьми. Сама природа Личфилда делает прекрасную рекламу огнестрельному оружию. Здесь в лесах достаточно ядовитых змей, пауков и всякой кусающейся гадости.
На пляже стоят таблички с предупреждением не заходить в заросли взморника морского – там водятся аллигаторы. Вода Мексиканского залива теплая, как в тазу после мытья посуды, и коричневого цвета. В воде встречаются змеи и скаты. Иногда на людей нападают и акулы, хотя за последние пару десятков лет они никого не убили. Течение здесь настолько сильное, что не успеешь оглянуться, как тебя вынесет на Кубу.
После возвращения матери мы всей семьей поехали на пляж Макфадден-бич.
Мы даже не знали, что именно в этот день она приедет.
Однажды утром мама вошла в дверь, даже не поздоровавшись.
– Привет, Джо, – сказал отец. – Кофе будешь?
Она механически покачала головой, как игрушки на панели автомобиля. Мы с Лишей бросились к ее ногам.
Мама сидела на табурете на кухне, а мы – на линолеуме у ее ног. Она была в чулках без туфель, что неудивительно: ничто не убьет пару хороших туфель на каблуках быстрее вождения автомобиля – так она говорила. На чулках были затяжки. Я начала играть с ниткой, потянула так, что стрелка поползла дальше, до колена. Я спросила мать, щекотно ли ей. Но она лишь похлопала меня по руке. Со времени прибытия она не сказала ни слова. Закрыв глаза, мама массировала себе виски.
Лиша начала разминать мамины уставшие ступни, покрытые мозолями от многолетнего хождения на высоких каблуках. Глядя на это, я вспомнила библейские истории о мытье ног странникам. Потом отец подошел к маме сзади и начал большими пальцами рук разминать ей шею и плечи, и она блаженно откинулась назад. Наверное, она чувствовала себя, как Гулливер среди лилипутов. Глядя на нее с пола, я подумала о том, что на самом деле она гораздо выше, чем мне казалось. Я заметила морщинки под глазами, на которые раньше не обращала внимания, и на румянах были дорожки от слез. Но помада выглядела свежей, видимо, мать подкрасила губы, когда подъезжала к дому.
На следующий день мы поехали на пляж, чтобы немного подбодрить маму. По крайней мере, у нас был такой план. Она ничего не рассказывала про похороны и Лаббок, только сообщила нам, что было мало людей, а дорога туда и обратно показалась очень длинной. Нашей семье не удавались пикники и совместные поездки. Если нас собрать в ограниченном пространстве, скажем, в «Форде», и посадить в купальных костюмах на сиденья, оббитые искусственной кожей, долго мы не выдержим. К концу поездки мы с Лишей на заднем сиденье тараторили без умолку «Мама-папа, мама-папа». Отцу надоело, и он махнул огромной рукой на уровне наших шей, отчего мы быстро присели. В этот момент машина въехала на песчаную дюну пляжа и понеслась вниз к заливу и Макфадден-бич.
Солнце садилось. Мы всегда приезжали на пляж, когда на нем не было людей, несмотря на то что в это время суток состояние воды и берега не располагало к купанию. Океаном принесло на пляж мусор от урагана и остатки нефти.
Мы припарковались на песке с видом на прибой. Как только мы вышли из машины, почувствовали вонь выброшенных на берег косяков рыб. Отец начал выгружать вещи из багажника.
Мы с Лишей бросились к воде в расчете на то, что мама последует за нами. Она выросла в пустыне, поэтому могла весь день провести на пляже, сидя по-турецки у кромки воды, пропуская мокрый песок сквозь пальцы и возводя крепости с витиеватыми башенками. Она совсем не умела плавать, но очень любила лежать в надутой камере шины и часами качаться на волнах. Но в тот день она даже не намочила ноги до колен. Мы прыгали в волнах прибоя. Я заметила, что мама идет от машины к дюнам. Солнце было уже низко над горизонтом справа от меня, и я прикрыла глаза рукой, чтобы лучше ее видеть. Она вошла в диск заходящего солнца, потом вышла из него и превратилась в тень.
Потом ее тень поднялась по истертым ступенькам пивной под названием «Бриз Инн» – маленькая хижина с террасой на высоких тонких сваях. Сильные штормы периодически ее сносили, после чего она непременно восстанавливалась. Клиентами пивной были ловцы креветок и отцы семейств, не выдерживавшие семейный пикник без выпивки. Я внимательно следила, как мать в черном купальнике поднималась по ступенькам пивной. Она накинула на себя отцовскую белую рубашку. У матери были красивые, стройные и длинные ноги, она шла по невидимой линии, соблазнительно покачивая бедрами, и меня это почему-то расстроило. В руках у мамы был большой альбом, словно она хотела сделать пару портретов местных рыбаков. Но, стоя по щиколотку в чуть теплой воде, я с холодной уверенностью осознавала: она идет туда, только чтобы напиться.
Я очень расстроилась и, неожиданно развернувшись, зачерпнула ладонями воду и облила Лишу. Сестра закрыла лицо руками, чтобы вода не намочила ее залаченную челку, и показала мне средний палец. Как раз в этот момент из-за машины появился отец.
Лиша увидела папу, но не перестала показывать «фак», а спрятала руку за спину и какое-то время так стояла.
Я отлично помню, как отец шел к нам по пляжу. На нем были синие плавки и черные кеды. На ходу он надевал бейсболку с «Одинокой звездой»[23] и синюю рабочую рубашку. У него была легкая, расслабленная и неторопливая походка человека, который отказывается торопиться. Его мускулистая грудь и ноги были незагорелыми. По икре проходил длинный красный шрам. В свое время на ранчо его дяди Ли Глисона отца выбросила из седла и протащила по загону лошадь, которую он объезжал. Рана была такая, что виднелось чуть ли не пятнадцать сантиметров кости. На той же ноге чуть выше колена проходил еще один рваный шрам от шрапнели со времен войны. Шрапнель так и осталась в папиной ноге, ее не вынули. Несмотря на эти раны, отец не хромал. Он смотрел на нас весело и лукаво. Вполне вероятно, он заметил, что Лиша показывает за спиной средний палец, и это его развеселило.
– Эй, идите сюда, – сказал он. – Хочу вам что-то показать, – и повел нас по пляжу.
Мы прошли мимо лежащей в песке крыши сарая, вокруг которой тух косяк кефали. Рыбы лежали с открытыми глазами, и их головы были направлены в сторону суши. Казалось, что весь косяк одновременно вынесло на берег волной, которая испарилась до того, как разбилась о песок. Отец носком кеда перевернул небольшого ската, чтобы показать нам его голову с широко расставленными глазами и тонким ртом, словно вылепленными из теста.
На некотором расстоянии от нас на берегу стояло около десяти мужчин. Они только вышли из моря, в котором ловили рыбу неводом. Ловля неводом – это рыбалка для бедных. Этот способ не требует ни наживки, ни лодки, ни даже терпения. Нужны лишь восемь-десять человек и длинная сеть шириной до полутора метров. Если смотреть издалека и не видеть сеть, то это похоже на массовое самоубийство или какое-то странное крещение: люди группой заходят в воду, они обуты в кеды, чтобы не поранить ноги, и одеты в джинсы, чтобы за ноги не ужалила никакая морская тварь. Больше всего можно поймать, если зайти глубоко, лучше всего за небольшие отмели. Папа объяснял: надо отойти, как можно дальше от берега, но не настолько далеко, чтобы тебя унесло сильным течением во Флориду. Рыбаки невысокого роста входят в воду по горло. Многие берут с собой пиво, а потом бросают пустые банки в волны, не задумываясь об окружающей среде. Рыбаки заходят в воду и, дойдя до нужной глубины, расходятся. Потом раскручивают сеть, передавая ее друг другу, пока она полностью не выпрямляется. Сеть может доходить до пятнадцати метров в длину. Затем все очень медленно идут к берегу, процеживая воду. Сеть кладут на песок и вынимают из нее все съедобное.
Группа рыбаков, к которой мы шли, в тот день уже завершила улов. Они поставили на огонь корыто с морской водой. В воздухе пахло специями для приготовления крабов: чесноком, луком и целыми связками острого мексиканского перца. Двое мужчин принесли пару белых пластиковых ведер и принялись выпутывать из сетей креветок и крабов. Один из них, коротко стриженный, в камуфляжных штанах, поднялся с корточек. Он держал небольшую акулу около метра длиной. Мужчина крикнул какому-то Баки сбегать и принести поляроид, и кто-то, видимо, тот самый Баки, ринулся к машинам. На руках мужчины, державшего акулу, были розовые резиновые перчатки. Мужчина спросил отца, хочет ли он показать девочкам акулу-молот. Папа ответил: «Конечно».
Раньше я никогда не видела акулу так близко, и меня поразило, что у нее совсем не было подбородка, а рот располагался на месте шеи. Поэтому казалось, что рыба ухмыляется кривыми, острыми зубами. Все ее тело было одним сплошным мускулом. Я думаю, что рыба весила не больше десяти килограммов, но она яростно извивалась, и мужчина крикнул Баки, чтобы он поторопился. Рыбак положил акулу на песок, и отец помог держать ее, прижав ногой, чтобы мы могли убедиться, какая плотная у нее кожа. Я погладила ее не в ту сторону, как говорил нам отец, и почувствовала, что она жесткая, как наждачка. На черно-белой фотографии, сделанной поляроидом Баки, Лиша мрачно смотрит на рыбу. Сама акула в руках мужчины, защищенных перчатками, получилась размазанной, похожей на вращающуюся дубинку. Папа выглядит, может быть, чересчур зловеще, я а смотрю на свои окровавленные пальцы так серьезно, словно разгадываю ребус или решаю задачу. В те секунды я думала об ушедшей в бар маме. Фотографии моих мыслей, конечно, нет, но мой лоб задумчиво наморщен.
Пройдя дальше по пляжу, мы наткнулись на целое кладбище португальских корабликов[24]. Особенно много запуталось в обрывках бурых водорослей. Я никогда раньше в одном месте не видела столько португальских корабликов. Их выбросил на берег шторм, и папа хотел, чтобы мы с Лишей на них посмотрели. Если раньше вы их не видели, то покажется, что вы попали в научно-фантастический фильм. Наполненная воздухом голова португальского кораблика представляет собой прозрачный шар или овал размером приблизительно с мяч для американского футбола. Он плавает на поверхности воды. Частично кораблик бесцветен, а местами переливается разными цветами: от ярко-синего до фиолетово-красного. Группа корабликов на поверхности воды похожа на водные растения, например лотосы или лилии. Если потрогать пальцем голову, можно почувствовать, что она мягкая, как жвачка. Но щупальцы, находящиеся под водой, очень ядовиты и могут достигать пары метров в длину. Кораблики сложно заметить, но они только и ждут, чтобы обвить чью-нибудь ногу. Так нам тогда рассказывал папа.
Мы были больше знакомы с обычными медузами, у которых короткие и твердые щупальца – нас с Лишей они уже обжигали. Ожог медузы похож на укус пчелы. Если медуза подплыла слишком близко, можно ее взять и забросить куда-нибудь подальше. Папа сказал, что, в отличие от медузы, португальский кораблик может обхватить ногу, как осьминог, и присосаться так, что отодрать его можно будет только с большим трудом. Он сказал: если мы увидим его в воде на расстоянии нескольких метров, то лучше всего выходить на берег. У них длинные щупальца, в каждом из которых есть маленькие ядовитые присоски, и поэтому не стоит рисковать. Папа слов на ветер не бросал, поэтому мы на всякий случай отступили подальше от свалки мертвых португальских корабликов.
К тому времени, когда папа ушел в «Бриз Инн», чтобы составить маме компанию, Лиша начисто забыла обо всех предостережениях и барахталась в воде. Если в тот день мы и проявили предусмотрительность, то только в том, чтобы не удаляться сильно от машины. Лиша стояла в воде по пояс. Она поднырнула под накатывающуюся волну, блеснув белыми пятками.
«Прямо как русалка», – подумала я тогда.
После того как гребень волны упал, Лиша вынырнула за каймой белой пены. Волосы сестры были мокрыми и прилипли к голове, что делало ее слегка похожей на тюленя. Я не входила в воду – поддевала ногой песок и размышляла о том, что пьет мать и сколько она выпьет. Потом крикнула Лише:
– В «Бриз Инн» подают только пиво?
Это был совершенно обоснованный вопрос, потому что мама никогда, даже со страшного похмелья, не пила пива. Лиша ничего не ответила, а нырнула под следующую волну. Когда сестра вынырнула, и я еще раз прокричала свой вопрос, ожесточенно жестикулировала руками, чтобы дать понять, насколько меня волнует ее ответ. Я не припоминала, чтобы в баре подавали коктейли, и задумалась: была ли у мамы с собой сумочка, в которой можно было пронести небольшую бутылку водки? Я помнила большой альбом для рисования в ее руках, но не заметила сумки. Может, я ошибаюсь? Лиша начала меня передразнивать и махать руками, как курица крыльями. Потом она отвернулась и снова нырнула в воду. В этот момент я начала искать глазами на песке, чем бы в нее кинуть. Нужно было что-нибудь не очень тяжелое: камешек или выброшенная на берег деревяшка.
Я увидела огромную медузу, похожую на капусту. Медуза была матово-белого цвета, похожая на мозги, которые вышибли из чьей-то головы. Я нашла палку и воткнула ее в тельце медузы. Ее щупальца болтались в воздухе – идеально, чтобы испугать сестру. Затем вошла в кромку прибоя и размахивала медузой, держа палку подальше от себя, чтобы меня не коснулись щупальца. В этот момент волна захлестнула Лишу, а потом схлынула. Волосы сестры с остатками лака слиплись в однородную массу. Она начала яростно тереть глаза и завизжала.
Сначала я решила, что сестра кричит в шутку, чтобы поддержать игру. Она визжала как поросенок, потом она начала подпрыгивать в воде, высоко поднимая колени. Я была рада ее испугать и подошла к ней еще на несколько шагов. Я хотела, чтобы она ответила мне, какие именно напитки подают в баре. Но Лиша продолжала кричать. Мокрая челка закрывала ее глаза и лицо. Потом сестра принялась бить себя руками по ногам, закрытым водой, и я быстро попятилась от нее. Может быть, более храбрый ребенок на моем месте бросился бы ей на помощь. Но я не была такой смелой. Я медленно пятилась, не спуская с сестры глаз, словно боялась, что если отведу взгляд, она исчезнет в пасти какого-нибудь морского чудовища. Потом я бросила палку и изо всех сил побежала в сторону бара.
Мои ноги вязли в глубоком песке, и я бежала, словно в кошмарном сне.
Мама с папой бросились к Лише. Но когда они добежали, их поведение мне показалось неестественно спокойным. Никто не закурил и ничего не сказал. Прошло довольно много времени до того, как родители начали действовать.
Пока я искала родителей, мужчина в камуфляжных штанах вытащил Лишу из воды. Когда мы подошли, он наклонился над ней. Сестра сидела на песке, ее ноги были выпрямлены и вытянуты вперед, как у куклы. Она уже не визжала. Ее взгляд остекленел, и вид был отсутствующий, словно нога, которую обвили щупальца португальского кораблика, принадлежала не ей. Она даже не плакала, хотя время от времени шумно втягивала воздух, словно испытывала сильную боль.
Парень в камуфляже и в розовых перчатках безрезультатно пытался отодрать щупальца. Мать смотрела на отца и без конца спрашивала: что делать? Но он, казалось, ее не слышал.
Я села на песок рядом с сестрой. Внутри у меня все сжалось, как во время урагана. Я обняла руками колени, наклонила голову и молилась богу, в которого не верила:
– Пожалуйста, не дай Лише умереть. Пусть папа поскорее что-нибудь придумает. Не дай отрезать Лише ногу… – так звучала эта молитва.
Потом неожиданно я снова услышала гул, словно сквозь мою голову пропускали электрический ток. Я быстро открыла глаза, и звук исчез.
Папа нашел на песке ракушку с острыми краями и отрезал голову португальскому кораблику. Но тут же понял: этого явно было недостаточно. От бедра до ступни вся нога была опутана щупальцами и уже начала распухать. В некоторых местах парню в перчатках удалось отодрать щупальца, и на коже остались небольшие круглые следы присосок. Там появлялись волдыри.
– Ничего подобного не должно происходить, когда папа рядом, – подумала я и вспомнила историю, однажды рассказанную отцом. Некогда он, в стельку пьяный, стоял на берегу океана вместе с Джимми Бентом, самым безбашенным каджуном во всей округе. Они закончили ловить рыбу сетью и напились виски. Рядом на бревне, как на скамейке, сидели девушки в брюках «капри» и ели моллюсков из котелка. Джимми начал стрелять в песок у ног отца из своего кольта сорок пятого калибра, приговаривая: «Нужно быть мужиком, чтобы плясать на песке». На что отец отвечал:
– Я – мужик, Джимми.
И плясал. Так продолжалось до тех пор, пока один из рыбаков не подошел сзади к Джимми и не огрел его палкой по голове. Эту историю я воспринимала как доказательство неуязвимости отца. Казалось, когда он рядом, все будет хорошо.
Щупальца отодрали от ноги Лише, которая уже была покрыта волдырями. Мать обложила ногу сестры мокрым песком в надежде на то, что опухоль спадет, словно песок – чудодейственное средство. Нога уже не была похожа на ногу – кожа воспалилась, натянулась и приобрела сероватый оттенок. Вокруг собрались рыбаки и члены их семей. Стремительно темнело. В уходящем свете одежда и лица людей стали темными, словно их обсыпали золой. Кто-то дал Лише глотнуть кока-колы, но сестра выплюнула ее на песок. Ее лицо посерело, как нога.
В следующей запомнившейся мне сцене уже совсем темно. Отец отводит в сторону полицейского и советуется, в какую больницу лучше отвезти сестру, какая ближе и лучше. Фары нескольких машин освещают нас с разных сторон и под разным углом, как прожектора. Я сижу рядом с Лишей и держу ее за руку, но не хочу вглядываться ей в лицо. Когда в прошлый раз я на нее посмотрела, оно было бледным, как луна в небе. Мама вытирает лицо сестры влажной салфеткой, ее запах смешивается с запахом коктейля из водки и кока-колы, который Лише дали в качестве обезболивающего. Я упорно не смотрю на лицо сестры и пристально вглядываюсь в океан. Сейчас отлив, и кромка воды с белыми бурунами волн отодвинулась от нас. На поверхности я замечаю белое свечение, словно в океане горят маленькие лампочки.
Мама объясняет нам с Лишей, что причина этого свечения – фосфор, но я не думаю, что сестра слушает маму. Она говорит шепотом, и от этого мне хочется спать. Рассказывает, что в воде живут мельчайшие микроорганизмы, которые начинают светиться в волнах прибоя. Я вспоминаю, как однажды мы с Лишей и мамой пошли купаться голыми в светящихся волнах. Отец поднял нашу брошенную на песке одежду.
– Ну женщины, вы с ума сошли! – расхохотался он. Я нырнула под волну и увидела, как все мое тело засветилось.
Скорее всего, я заснула, положив голову на чьи-то колени. Мне снился сон, как мы с матерью плывем под водой и светимся зеленым светом, как духи. Картинка из моего сна напоминает репродукцию картины Матисса, которую мама вырезала из одной книги об искусстве и приклеила над ванной. На этом полотне обнаженные женщины танцуют в круге, взявшись за руки. Мы с матерью, словно огромные женщины на той картине, – струящиеся и бледные. Перед нами зеленая вода. Впереди я вижу бледные ноги Лиши, словно хвост уплывающей от нас русалки.
Я крепко спала и во сне была уверена, что Лиша умрет. Я сотню раз желала ей смерти, даже молилась об этом, примерно с такой силой, как молилась о смерти бабушки. Бог проявил ко мне милосердие и забрал бабушку, но теперь за это собирался взять и Лишу. Он отравил ее ядом португальского кораблика только потому, что я дразнила ее медузой на палке! Я была совсем ребенком, но на моей совести уже лежали две смерти.
Я совершенно не помню больницу, в которую Лишу с мамой привезли на полицейской машине. Мы с папой приехали следом. По дороге домой я заснула. Когда машину подбросило на обочине шоссе, я проснулась и увидела черное небо и звезды. Отец сказал мне, что Лиша на заднем сиденье. Он соврал, что все будет хорошо и надо только снова заснуть. И я погрузилась в сон.
Наутро я насчитала на ноге Лиши более сотни волдырей. Врачи посоветовали ей не вставать с кровати, что она с радостью и делала. Под распухшую ногу подложили подушку. Я была так рада тому, что сестра не умерла, что целый день ей прислуживала. На обед принесла ей пирог с курицей на тарелке из лучшего маминого сервиза. Купила мятные леденцы на свои деньги. Читала ей вслух истории о нападениях акул на моряков, потерпевших кораблекрушение во время Второй мировой войны, и гигантских кальмарах с щупальцами длиной с эсминец из энциклопедии «Британника».
На следующий день Лиша брала с соседских детишек пять центов за то, чтобы посмотреть на волдыри, десять за то, чтобы потрогать их, и двадцать пять за то, чтобы проткнуть один из волдырей продезинфицированной спиртом иглой.
Потом она на меня разозлилась, встала с кровати и засунула меня в ящик для грязного белья, встроенный в стену ванной. Я попыталась выбраться, но только прищемила пальцы тяжелой крышкой. Сидя в темноте на мокрых и покрытых песком полотенцах и купальниках, я снова искренне пожелала ей смерти. Отец ушел на работу, а мать лежала в кровати и не собиралась в ближайшее время вставать. Помощи было ждать неоткуда.
VI. Главный лжец
– Сейчас расскажу вам, как умер мой отец, – говорит папа. – Он повесился.
Это, наверное, самая наглая ложь, которую отец когда-либо рассказывал. Или самая наглая ложь, которую я слышала из его уст. Его отец жив и здоров и сидит на веранде дома в Киркбювилле в окружении своих собак. Я разеваю рот от изумления, но лица людей в комнате сохраняют полную серьезность. Они воспринимают это сообщение как данность. Вид у них такой, что они готовы скорее сквозь землю провалиться, чем увидеть, как их собственный папа лезет в петлю. Отец открывает большое лезвие на своем перочинном ноже и отрезает себе кусок пеперони. Кладет в рот кусок колбасы и жует.
– Что-то немного жестковата, а?
Сегодня утро двадцать четвертого декабря, и мы сидим в «Фишерс Бейт Шоп». Вот уже несколько месяцев папа не брал меня на встречи «клуба лжецов», а день перед Рождеством – один из самых важных дней во всем году. Я выдавливаю плавленый сыр из тюбика на соленые крекеры для всех членов «клуба» и надеюсь, что папа заметит мои усилия и будет чаще брать на встречи. Я очень люблю ездить с ним на разные мероприятия, пить кока-колу, играть в бильярд и слушать истории с большим количеством матерных слов. Вот уже несколько месяцев я сидела с мамой, у которой между пальцев появилась паутина. Мама дни напролет лежит в кровати и хочет умереть. Конечно, она не говорит об этом, но это легко понять даже мне. Сейчас я с папой в баре и от радости свечусь так ярко, что в моем свете можно читать книжку.
Перед Рождеством члены «клуба» обмениваются бутылками «Джека Дэниэлса». Подарочная упаковка в этом году белая, и на ней нарисован вылетающий из кустов фазан. На карточном столе стоит уже четыре открытых бутылки виски. В середине стола небольшая работающая от батареек обезьянка, которую Бен купил своей внучке. В лапах у обезьянки две медные тарелки-литавры. Если обезьянку включить, то она начнет бить в литавры до тех пор, пока ее не ударят по голове. После этого обезьянка показывает зубы и шипит. Папа считает, что обезьянка гораздо смешнее всех шуток о том, как кто-то пернул, вместе взятых.
Когда отец понимает, что его слушатели готовы сменить тему беседы, он возвращается к начатому рассказу:
– Я понял, что с ним что-то не так, в тот день, когда вернулся с войны. Он стоял в канаве около дома и серпом срезал траву. Еще издалека его увидел. Он тоже меня заметил. Но он виду не подал и режет себе траву как ни в чем не бывало. Трава ему была по грудь. В те дни комары откладывали личинки даже в канавах. Комаров была просто уйма – они могли тебя живьем съесть. Я, черт возьми, даже один раз видел, как комары быка убили. Залетели ему через нос в легкие, и он задохнулся.
– Да, тогда инсектицидов у людей не было, – соглашается Шаг. – Заболел сонной болезнью – пиши пропало.
– В наших краях без всякого сомнения, – соглашается папа. – Разве что только в городах.
Кутер откашливается, а Бен почесывает шею обезьянки, как будто она кошка. Я молчу и с нетерпением жду продолжения рассказа, потому что знаю, что вся эта история – полный вымысел.
– Я подошел к нему, – продолжает отец, – и поздоровался. Он молчит. Продолжает махать серпом, туда-сюда как заводной. Я еще раз с ним поздоровался. Ну и он мне тогда «Здрасте» сказал.
Папа вглядывается вдаль, словно видит перед собой своего отца и внимательно его рассматривает, а тот, в свою очередь, внимательно рассматривает сына.
– И тут он говорит мне: «Я знаю всех своих родственников, но вот тебя что-то не припомню».
– Головой старик поехал, – произносит Кутер.
– Это точно, – говорит отец, Кутер кивает всем остальным, а те кивают в ответ. – Он не знал, кто я, словно ему было столько лет, сколько ей, – отец показывает пальцем на меня, и я выпрямляю спину. Я сижу на перевернутом ведре для наживки и раскладываю по тарелке соленые крекеры с фигурно выдавленным мягким сыром. Жду и не тороплюсь. Бен снова включает обезьянку. Завтра Рождество, и я хочу, чтобы обезьянка била в литавры. Мне кажется, что она с любовью смотрит на меня, словно родственник, с которым долго не встречались.
– Ну а потом-то он тебя признал? – спрашивает Бен.
– Иногда у него голова прояснялась, – отвечает отец, – но большую часть времени он был как потерянный. Бедняга. Ум у него стал совсем недалеким, как отсюда до того аквариума. – Отец показывает на стоящий поблизости аквариум с мелкими рыбками, которые косяком запятых зависли в воде. Отец смеется, словно вспомнив что-то смешное.
– Но это ему нисколько не мешало разъезжать на своем джипе, Том, – говорит ему Бивер Бишоп.
Этот Бишоп был шерифом в округе Джеспер, и лет ему было почти столько же, сколько моему отцу. Папа, изображая Бивера Бишопа, надувает щеки, словно жует табак, и продолжает: «Том, я не хочу, чтобы ты садился в свой джип. Ты слишком стар, чтобы ездить по этим дорогам». А отец качает головой и говорит ему: «Да эти дороги я сам строил». Ну, он так на самом деле и думал. Потому что он вместе с индейцами и чернокожими и даже с китайцами эти дороги строил. Тогда в тех местах деревья росли так плотно, что кошка между ними не пролезет. Бивер не мог с ним не согласиться и говорит: «Том, мы с тобой это знаем, но вот у властей штата Техас другое мнение».
– Да, у нас дороги и люди бывают разные, – говорит тут Кутер: – Я недавно ехал за одним стариком… – но Бен бросает на него испепеляющий взгляд, и Кутер затыкается.
– Бишоп отнял у отца права для управления автомобилем. Так вы думаете, это отца остановило? – Отец смотрит на присутствующих, переводя взгляд с одного на другого. – Черт подери, конечно, нет! Когда ему надо было куда-нибудь поехать, это его не останавливало. Биверу пришлось однажды в воскресенье приехать со своим помощником, который снял с папиного джипа шины. Шериф сказал:
– Миссис Карр, если вам надо поехать в магазин или по делам, мы вас довезем. Но я не могу позволить, чтобы ваш муж ездил по дорогам.
– И как долго все это продолжалось? – поинтересовался Шаг и налил из бутылки в бумажный стаканчик.
Все дружно последовали его примеру. Во время рассказа отцу нравится, когда ему задают вопросы, за исключением тех, которые торопят события. Смысл вопроса Шага в том, чтобы немного поторопить папу. Отец берет с тарелки крекер, и я тут же начинаю намазывать новый, чтобы заполнить пустое место. Отец жует и ждет, пока его приятели закончат передавать друг другу бутылки. Если бы в «клубе лжецов» объявили состязание на то, кто дольше всех промолчит, папа точно бы вышел из него победителем.
– Где-то с год продолжалось, – говорит он наконец. – Иногда он меня узнавал, а иногда нет.
– Он тогда начал залезать на все, что близко стоит. Ну, на сарай или амбар. Приставит лестницу и забирается на крышу. Говорил, что хочет быть ближе к Господу. И он начал ходить во сне. Я по ночам слышал, как он на предметы натыкается. Мать звала меня: «Пит! Он снова гулять пошел. Поймай его», – имитируя свою мать, отец говорит высоким голосом, но в его тоне нет никакой насмешки, которую могут себе позволить некоторые, когда говорят о женщинах. Голос отца звучит очень реалистично. Слыша его слова, четко представляешь себе немного дребезжащий голос сильной и властной старой женщины. – Он мог в кальсонах бежать прямо, как стрела, я за ним едва поспевал. Когда он просыпался ночью, то перво-наперво надевал на голову шляпу. У него был шоколадного цвета стетсон с короткими полями. Я много ночей так бегал за этой шляпой. – Отец замечает, что начинает терять внимание аудитории, и подкидывает что-то интригующее. – Эта шляпа была на нем, когда он умер.
– Ну и дела, – произносит Кутер, – повеситься со шляпой на голове! – Кутеру кажется, что он вставил хорошее замечание.
– Не в этом суть, Кутер, – пожимает плечами Шаг, и они враждебно начинают смотреть друг на друга, словно у них есть нерешенные вопросы. Бен замечает эту враждебность и бьет по столу кулаком так, что виски расплескивается из стаканчиков и обезьянка падает на бок. – Пацаны, сочельник все-таки, – Бен ставит обезьянку на место, но не включает ее. Все терпеливо ждут продолжения рассказа.
– Я спал на веранде, когда услышал, что кто-то ходит по крыше. Может, енот, думаю. Ну и снова засыпаю. Вскоре слышу, что меня мать зовет: «Пит, он снова на крышу забрался». Ну, мы выходим на улицу, смотрим, а он действительно на крыше. Стоит и смотрит на старую сосну, словно на ней кто-то сидит. На голове у отца шляпа, он смотрит вниз на меня и говорит: «Скажи ему, чтобы первым спустился», – и пальцем показывает на что-то на сосне.
– А кто там был? – спрашивает Кутер.
– Понятия не имею. Наверное, он что-то себе выдумал. Мать вынесла из дома соты с медом, потому что при помощи меда она его уже неоднократно заставляла спускаться с крыши. Я прислонил лестницу к стене и начал по ней подниматься. В ту ночь была полная луна, и когда я поднялся по лестнице достаточно высоко, чтобы рассмотреть пуговицы на его кальсонах и темные пятна от пота на стетсоне, отец снова заговорил. – Папа задумчиво смотрит на лампу, вокруг которой вьются мотыльки. Его лицо принимает выражение лица его отца. Он словно становится наполовину индейцем, наполовину ирландцем. – «Убирайся к чертовой матери с моей земли. Сын, принеси мне ружье». Вот что говорит отец. И это были последние его слова. Он наступил на прогнившую доску и упал сквозь крышу. Его тело было таким худым, что его голова застряла в дырке. Он застрял так, что его голова не пролезла в дырку. Когда я к нему подошел, он был уже мертв. Смотрел мертвыми глазами на ветки сосны, и язык у него вывалился. А шляпа все еще была на голове, – отец постукивает концом сигареты «Кэмел» по столу. Это постукивание означает точку в его рассказе.
– Ну и смерть! – произносит Бен.
– Хорошей смерти не бывает, – говорит Шаг. – Обидно, Пит, что вам с матерью пришлось при всем этом присутствовать. – Произнося эти слова, Шаг не смотрит на отца. Все присутствующие пожимают плечами.
В это время я вспоминаю обо всех смертях и несчастных случаях, которые видела за последнее время. Я представляю себе бабушку, когда я нашла ее в кровати с ползающими по ней муравьями, и Лишу, когда она с отсутствующим видом сидела на песке. Я даже вспоминаю о матери, которая лежит дома в кровати рядом с шаткой Эйфелевой башней из книг. Потом представляю себе маму в кровати с лицом бабушки. Я даже забыла о том, где нахожусь, так папа хорошо соврал. В то же время я стала еще более сознательной и сконцентрированной, что говорит о том, что ложь может помочь вам понять правду. Я сижу на перевернутом ведерке для наживки в тени моего отца. Мои глаза находятся на уровне стола, и я думаю о том, как моя мать лежит в кровати мертвая.
Я открываю рот, и у меня вырывается вопрос. Я еще не закончила говорить, но уже знаю, что его не стоит задавать. Я спрашиваю отца о том, что происходит с человеком после смерти.
Шаг бросает на меня суровый взгляд. Бен – баптист и не любит шуток по поводу своей религии, а папа порой себе их позволяет. Он иногда тонким голосом распевает выдуманную им песню: «Иисусик, мой дружок, передай-ка пирожок»[25]. Бена раздражает, когда отец поет эту песню, но при этом Бен понимает, что настоящий баптист не должен напрягаться по поводу таких антирелигиозных шуток. Когда это происходит, Бен неожиданно вспоминает, что ему надо заехать в магазин за молоком или идти стричься, и встреча «клуба лжецов» заканчивается. Поэтому никто не хочет, чтобы мой отец начал развивать свои теории по поводу рая. Именно поэтому Шаг с неодобрением встречает мой вопрос.
Вероятно, чтобы сменить тему разговора, в этот момент Бен включает обезьянку. Обезьянка начинает бить в литавры и мотать головой из стороны в сторону, словно она говорит: «Нет, нет, нет». Или для того, чтобы мы все на нее смотрели.
И мы все, за исключением отца, на нее смотрим. Отец открывает свою зажигалку «Зиппо», зажигает ее, долго смотрит на синий огонь и прикуривает сигарету.
– Я не знаю, что происходит с человеком, когда он умирает, – отвечает он наконец. – Я знаю то, что все знают. Человек умирает, его кладут в гроб и забрасывают землей.
После этого отец протягивает мускулистую руку и бьет обезьянку по голове. Та показывает зубы и шипит, как змея. Отец тоже демонстрирует ей зубы и шипит в ответ, выдувая длинную струйку дыма. Тут картинка моих воспоминаний как бы останавливается и становится статичной: отец и обезьянка смотрят друг на друга, соединенные струйкой дыма.
Отец никогда не признавался приятелям в том, что соврал. Ложь была его оружием против того, чтобы они не узнали о нем больше, чем ему хотелось бы.
В ту зиму мать ни единым словом не вспомнила смерть бабушки. Она лежала в кровати. Казалось, что книги, которые она читала, ее гипнотизировали.
После Нового года образовались две перманентные проблемы – родители стали сильно пить и много ругаться. Мать валила вину на отца, а тот, если бы его спросили, сказал бы, что в этом виновата мать. В общем, это известный и неразрешимый вопрос о том, что появилось раньше – курица или яйцо. Отец мог бы сказать, что дурное настроение матери, а также то, что она пила, выталкивали его из дома. Мать же будет утверждать, что отец самоустранился во время болезни бабушки и после ее похорон, отчего она и запила. Так что я не знаю, кто здесь прав, а кто виноват.
Я также не знаю, что вызвало нервное обострение, которое чуть не закончилось смертью матери. Может, она слишком много пила и поэтому стала сходить с ума, а может, наоборот, алкоголь на некоторое время отодвинул тот момент, когда она стала съезжать с катушек. Сперва мать пила, потом они с отцом начали ругаться, а потом приехала «Скорая», связала ее и увезла.
В нашем доме всегда пили. Отец был подшофе каждый божий день. В холодильнике стояла упаковка из шести банок пива, плюс небольшая бутылка виски хранилась под сиденьем его автомобиля. Можно было понять, что он идет выпить, когда он заявлял, что нужно проверить автомобиль. Словно машина была живым существом, которое может без него заскучать в гараже.
Отец пил регулярно, чтобы быть в норме. Он потягивал «Джек Дэниэлс», играя в бильярд, карты или в кости. Однако, по крайней мере в начале, никаких серьезных последствий я не наблюдала. Казалось, что алкоголь не оказывал на него сильного воздействия. Конечно, иногда он приходил домой, шатаясь, как пьяный в стельку матрос. Помню, как несколько раз он приходил ночью пьяный, и мы с ним танцевали на кухне. Я была в ночной рубашке и босиком становилась на носки его рабочих ботинок. За сорок два года работы на заводе он ни разу не пропустил своей смены. На следующее утро не жаловался на головную боль и никогда себя не жалел. В пьяном виде отец никогда нас не бил и не пускал слезу от грустных ковбойских песен, как некоторые в баре «Американский легион».
С матерью была совершенно другая история. Когда перед смертью к нам переехала бабушка, мама завязала с алкоголем. Она снова начала пить в тот день, когда вернулась с похорон и мы растирали ей ноги и делали массаж. Мама попросила меня принести из серванта вино компании Gallo и «Севен Ап» (она любила мешать красное вино с газированными напитками), и я послушно пошла доставать ей требуемые ингредиенты.
Я достала стакан, который успел запылиться за то время, пока она его не использовала. На стекле внутри был желтый налет. Я демонстративно помыла его, а потом тщательно вытерла кухонным полотенцем. «В него не поместится много вина, особенно если его разбавить «Севен Апом», – подумала я. Мать всегда пила запоями, после которых могла не прикасаться к спиртному в течение нескольких недель. Но как только она снова себе наливала, уже не могла остановиться.
В тот вечер, когда мама вернулась с похорон, она выпила небольшой стакан разбавленного вина, упала в огромную родительскую кровать и проспала двенадцать часов.
После Нового года ее перестало удовлетворять вино и захотелось крепкого алкоголя. Она позвонила в винный магазин и заказала ящик водки, которую пила из самого большого в доме бокала, предназначенного для десертов и желе. Ей не нужны были вермут для коктейлей, черешни, маленькие луковицы и мензурки для определения точного количества жидкостей, которые используют в баре. Она наливала водку в стакан на пять пальцев. Первый бокал мама выпивала, зажав пальцами нос, но потом начинала глушить водку, словно грешник в испепеляющем аду, дорвавшийся до прохладительных напитков.
Когда у матери начинался запой, я внимательно следила за ее состоянием и настроением, чтобы уберечь ее от беды. Надо было прятать ключи от машины, чтобы она не села за руль и не попала в аварию. Я снимала трубку второго телефонного аппарата и делала вид, что болтаю, чтобы мать не позвонила по пьяни моим учителям или соседям и не наговорила лишнего. Я делала это, когда мать начинала говорить, что надо куда-нибудь съездить, или «наезжать» на кого-нибудь. Если она не могла найти ключи от машины или дозвониться до кого-то, она вскоре забывала о своем намерении и отключалась.
Мне кажется, у Лиши не хватало смелости так наблюдать за матерью. Вместо этого сестра нашла себе другое занятие – считать, сколько мама выпила. Считать приблизительное количество унций[26] алкоголя, которые употребила мама, было совсем непросто, особенно когда отец начинал пить вместе с ней. Все расчеты сестра держала в голове и никогда не пользовалась бумагой и ручкой. Лиша с детства любила цифры. Потом сестра сравнивала этот запой с каким-нибудь другим и выдавала следующие сентенции: «В День благодарения она выпивала, по крайней мере, четыре унции сорокатрехградусного алкоголя в час, весила она тогда почти на пять килограммов меньше, но не была такой буйной, как сейчас. Конечно, тогда она много ела…» Я же не обращала внимания на цифры. После того как мать открывала бутылку, жизнь становилась совершенно непредсказуемой. Разницу между двумя и десятью дринками иногда было очень сложно заметить. Сестра подсчитывала количество алкоголя, а я, чтобы понять, насколько мать стала нервной, следила за тоном и тембром ее голоса и за выражением ее лица.
О том, какое у матери настроение, можно было легко догадаться по музыке, которую она слушала. Если настроение было хорошее, она часто слушала оперу. Под «Кармен» или «Аиду» мать не ругалась с отцом так, чтобы бить тарелки. Опера напоминала ей о Нью-Йорке – прекрасном и далеком месте, в котором прошла ее юность и из которого ее изгнали. Как только игла проигрывателя вставала в дорожку на пластинке классической музыки, мать снова переносилась в Нью-Йорк. Она становилась сентиментальной, плакала и начинала говорить с северным акцентом.
Я запомнила один вечер, когда мать слушала «Травиату». Проигрыватель стоял на подоконнике над ванной. Мама надела черную водолазку с каплями желтой краски на рукавах. Сидела на кухне, где мы с Лишей ели ванильный мелорин[27]. Мама забивала резиновый привкус мелорина шоколадной присыпкой, маслом и настоящей ванилью.
Я взяла в руки колбу, в которой мать хранила стручки мексиканской ванили. «Все остальные матери кладут в мелорин маргарин и синтетическую ваниль, ту, которую используют в молочных шейках», – подумала я. Я держу в руках стручки ванили и думаю, где же мама их раздобыла. В это время она рассказывает Лише о том, как слушала Марию Каллас[28] в «Метрополитен-опере». Из динамиков несутся слова Parigi, O Cara[29]. Стручки ванили красновато-черные и сморщенные, похожие на корень или засушенную птичью лапку. Я смотрю на маму и вижу, что она устремила взгляд в сторону двери в сад, вдаль, в сторону любимого Нью-Йорка. Мама говорит с северным, нью-йоркским акцентом.
Дверь в сад ведет в черную ночь. Доносится запах бананового дерева, которое мама посадила в прошлом году (на самом деле это платан), и жимолости. Кусты жасминовидной гардении совершенно неожиданно зацвели белыми цветами. Сейчас зима, поэтому непонятно, почему куст расцвел.
Мама говорит, что этот запах напоминает ей запах цветов гардении, которые были приколоты к рукаву ее платья в тот вечер, когда она ходила слушать Каллас. Она подъехала на такси к фонтану. Перед такси стоял длинный черный лимузин, в салоне которого были установлены серебряные вазы с цветами.
В этот момент я говорю, что никогда не видела фонтана, за исключением фонтанчиков питьевой воды в школе. Это на мгновение отвлекает маму от нахлынувших воспоминаний. Она смотрит на меня и спрашивает, как же так получилось, что у меня такое несчастное детство? Но Лиша тут же замечает, что я вру, и видела фонтан в здании банка, а также фонтан в музее в Хьюстоне, не говоря уже о тысячах фонтанов в книге по архитектуре Флоренции, которую меня мать заставила проштудировать. Лиша считает, что я прерываю людей только для того, чтобы услышать звук своего собственного голоса, поэтому вообще мне стоит помолчать. Я тут же заявляю, что не я прерываю рассказ, а сама Лиша.
Наконец мать вздыхает и просит, чтобы мы не ругались. Она смотрит на выходящую в почти тропическую природу дверь, закрытую москитной сеткой. Мы затихаем и смотрим на нее. Потом музыка начинает играть немного громче, и мы теряем мать, потому что ее снова уносят воспоминания, она оказывается в такси в Нью-Йорке около оперного театра. Мать напоминает нам о том, что впереди нее стоит длинный лимузин, из которого выходит женщина в белых сатиновых туфлях, в белом платье в блестках под пальто, как матери показалось, из крашенного в кремовый цвет бобра. Это сама Марлен Дитрих. (Если бы при разговоре присутствовал отец, он бы напомнил, что Дитрих поцеловала его в рот после концерта для солдат на фронте. Этим фактом объясняется одно из моих имен, а именно Марлен.) На одно мгновение глаза Дитрих и матери встречаются, и потом актрису окружают люди, желающие получить автограф. Мама вспоминает, что в ту секунду ветер подул и закрыл белым шифоновым шарфом красные губы Дитрих, и мать сначала увидела сквозь ткань ее губы, а потом не закрытые шарфом глаза. «У нее были глаза одинокого человека», – сказала мать.
Потом мама решает, что ей надо показать мне, как Дитрих красила ресницы. Она зажигает большую спичку о шершавую нижнюю сторону стола и бросает ее в плошку, из которой я ела мороженое. Из плошки поднимается серый дым. Потом она ищет в своей сумочке и вынимает банку вазелина, берет небольшую кисточку из соболиного меха и размазывает в плошке немного вазелина.
Мама приподнимает мой подбородок, просит откинуть голову назад и прикрыть веки. Потом начинает наносить смесь вазелина и сгоревшей спички мне на ресницы. Она говорит, что у меня самые красивые в мире ресницы. У нее самой нет ресниц, и она иногда пользуется накладными.
– Когда я была тобой беременна, меня совершенно не волновало, какого пола будет ребенок, главное, чтобы у него были пальчики на руках и на ногах. Я просила Бога только об одном – чтобы у моего ребенка были ресницы.
Она затягивается сигаретой «Салем». Я вдыхаю сигаретный дым и чувствую запах ее духов «Шалимар» и водки. Она выдыхает и машет рукой, чтобы отогнать дым от моего лица, и начинает наносить смесь гари и вазелина мне на веки.
– Тогда моя мать сказала, что моя молитва – это богохульство и Господь даст мне ребенка с синей кожей и водой вместо мозгов, но я ответила ей, что хочу, чтобы у ребенка были длинные ресницы. И у тебя действительно такие.
Мать впервые упоминает бабушку со времен ее похорон. Я кошу глазами на Лишу, чтобы увидеть ее реакцию на мамины слова.
Но Лиша занята собственными ресницами. В ее руках мамина щеточка для туши. У нас с сестрой длинные ресницы, но мама считает, что мои красивее, и поэтому занимается моим лицом. Мама поворачивает мой подбородок в свою сторону, я чувствую на щеке ее дыхание.
До этого мама рисовала наши портреты маслом. Мы одевались в лучшую одежду и сидели на возвышении в ее мастерской. Она хладнокровно следила за нами, сидя за мольбертом. Сейчас, когда она красит меня, все совсем по-другому. Она рисует не на холсте, а словно создает, лепит мое лицо. (Словно я стена в церкви, на которой художник Джотто[30] рисует ангела.)
Дальше я ничего не помню, мои воспоминания вылетают в дверь к кусту цветущей жасминовидной гардении. Той зимой мама часто рассказывала про Нью-Йорк и говорила о том, как ей не хватает этого города.
Мы хотели слушать ее рассказы о себе, но она часто вспоминала о знаменитых людях, которых в те годы повстречала. Рассказывала нам, как поют члены группы The Ink Spots[31] в небольшом гарлемском клубе и как Бинг Кросби курит марихуану на балконе под огромной полной луной.
Она любила вспоминать, как видела Эйнштейна в лаборатории компании Bell (оказывается, во время войны маму нанимали делать эскизы оборудования в этой известной лаборатории). Мать говорила нам, что ее поразило, что когда после лекции ученого ему задавали вопросы, Эйнштейну пришлось попросить одного из инженеров объяснить какой-то простейший закон механики. Все были удивлены, что ученый не знает такого простого закона, на что Эйнштейн ответил: «Я не запоминаю то, что я всегда могу посмотреть в книгах». Перед тем как ответить на вопрос, Эйнштейн наклонял голову, словно в молитве, и потом поднимал ее, как механические фигурки факиров, которые за двадцать пять центов предсказывают будущее в развлекательном парке на Кони-Айленд. После лекции был прием, во время которого Эйнштейн в полном одиночестве сидел в углу, словно свадебный генерал.
После воспоминаний об опере мама неизбежно вытаскивала на свет свои книги по искусству. Я вспоминаю бутылку водки и стопку книг, на корешках которых золотом были написаны имена художников: Пикассо, Матисс, Ван Гог, Тулуз-Лотрек и Сезанн. Я помню многие из картин этих художников с четкостью и яркостью вещей, пережитых и увиденных в детстве. Когда я выросла и увидела эти картины в музеях, мне казалось, что я стала маленькой и вокруг меня огромный и незнакомый мир, хотя фонтанчики с питьевой водой стали ниже, что значит – я выросла. Когда мне было восемнадцать и я увидела картину Ван Гога «Спальня в Арле», то работа показалась мне очень маленькой, но при этом хорошо знакомой.
Впрочем, в опере были свои недостатки – мама могла начать плакать. Какая-нибудь итальянская певица пела о том, что она живет ради искусства, или огромная дива опять же по-итальянски могла пропеть своему сценическому любовнику, как она хочет уехать с ним в Париж, и все, мама тут же начинала плакать. Ее лицо покрывалось морщинами, она ревела, высмаркиваясь в бумажную салфетку или туалетную бумагу, и говорила нам, что мы не понимаем и ни в чем не виноваты. Словно нас могло волновать, почему она расстроилась. Нам просто хотелось, чтобы она перестала плакать.
Сестра отводила маму в спальню. Лиша двигалась с такой уверенностью, что та послушно следовала за ней и падала на огромную кровать. Лиша рылась в ящиках комода и, игнорируя шелковое нижнее белье (которое я бы на ее месте выбрала), находила хлопковую пижаму. Сестра оставляла на тумбочке графин с водой, чтобы мать могла утром утолить жажду, и упаковку детского аспирина от головной боли.
Так проходили вечера, во время которых мать слушала оперу. Вечера, когда она ставила джаз, были немного сложнее, но самыми ужасными были дни, когда отец был дома и мама включала блюз.
Однажды мать слушала блюз в день моего рождения. Эстер Филипс[32] выла из динамиков словами песни Misery: «Не ставьте мне могильный камень, всю жизнь я была рабом…»[33] Текст песни должен был послужить мне предостережением о том, что ждет меня в тот день. Но мать готовила нам лазанью, которую я очень любила. Я играла со старым армейским биноклем, который отец мне подарил.
Я вышла на веранду и приставила бинокль к глазам. Сквозь щели в заборе я стала рассматривать Микки Хайнца, который, сидя на своих толстых коленях, играл с грузовичком-мусоровозом, возюкая его по грязи. Помню, как однажды я убедила его выкурить скрученную из салфетки самокрутку из порошка «Несквик» и он сильно обжег себе язык. Он прибежал пожаловаться своей матери, которая была набожной и принадлежала одной из церквей, члены которых не пьют, не курят и не танцуют. Миссис Хайнц отлупила его по попе расческой. Мы слышали, как все это происходило, сидя под крыльцом его дома, и не пропустили ни звука удара расчески о попу Микки, ни его оглашенный вой.
В тот январский день я смотрела на Микки через подаренный мне бинокль и размышляла о том, стоит ли мне к нему подойти, предложить сыграть в прятки, после чего вернуться в дом и позволить ему искать меня до тех пор, пока он не начнет хныкать. Я уже была практически готова осуществить свой коварный план, как услышала, что машина отца въехала в гараж.
Я тут же повернула бинокль в сторону гаража и увидела пластиковую каску отца.
– Как проходит дэ рэ? – спросил отец. Через секунду он уже стоял рядом со мной на бетонных ступеньках крыльца. Я опустила бинокль и ответила, что дэ рэ проходит хорошо.
В тот январь он редко появлялся дома, разве что заезжал иногда по вечерам, чтобы пожелать мне спокойной ночи. Тогда у его профсоюза закончился контракт с «Галф Ойл», и рабочие по всей стране целый месяц бастовали. Когда отец не ходил в пикете около завода, он ездил на охоту и рыбалку, чтобы принести домой какую-нибудь еду. По вечерам он был в отделении профсоюза и ждал новостей о том, как идут переговоры с работодателями. Отец, точно так же, как и мать, превратился в незнакомца, которого я так хотела видеть, но он не подходил близко.
Перед тем как уехать на завод, папа подарил мне бинокль и новый комикс. Я так растрогалась от его подарков, что слезы навернулись на глаза.
– Черт возьми, не надо плакать, – сказал он, улыбаясь, и пообещал, что мы увидимся вечером и будем есть торт.
Вот почему во второй половине дня я стояла на веранде и мечтала, что он приедет, и мы поговорим. Когда он появился, я тут же начала рассказывать ему, как этим утром мы с мамой и Лишей ездили в Бомонт, чтобы купить мне платье.
Поездка за платьем была первым мероприятием, которое мы с мамой осуществили после того, как она вернулась с похорон бабушки.
Мы выбрали черное платье с большим белым свободно висящим воротником и тремя большими пуговицами из горного хрусталя на груди. Лиша посмотрела на платье и спросила, на чьи похороны я собираюсь, но я не обратила на ее вопрос никакого внимания, потому что вертелась перед трехстворчатым зеркалом.
Отцу я сказала, что в этом платье чувствую себя, как кинозвезда.
Отец вытирал ноги о половичок и сказал, что платье очень красивое. Но он даже не посмотрел на него, а глядел под ноги, чтобы счистить с ботинок всю грязь. После этого он вошел в дом.
Тут я поняла, что мне не стоило говорить отцу о том, что мать оплатила подарки кредитной картой. Мое платье стоило шестьдесят три доллара, не говоря уже о том, что позже мы заехали пообедать в ресторан. Мама просила меня не рассказывать об этом отцу. Он в то время не получал зарплаты, о чем постоянно нам напоминал.
Каждое утро он стучал ладонью по газете и говорил, что «Галф Ойл» старается запугать рабочих, чтобы те не отстаивали свои права на честную и нормальную жизнь. Всего за пару дней до этого отец отвез ящик консервов и одежду, из которой мы с сестрой выросли, в отделение профсоюза. Он сказал, что дети в больших семьях католиков мало едят. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что сегодня мы с мамой перешли невидимую границу между тем, где кончается праздник и начинается предательская расточительность. Мое платье было дорогим до экстравагантности, поэтому я сняла его, повесила на «плечики» и переоделась в джинсы.
Чуть позже до меня донеслись рассерженные голоса родителей. Лиша сидела рядом и укладывала соломенные волосы Барби в прическу под названием «французская ракушка». Я не расслышала, что именно говорили мама с папой, но смысл их спора был совершенно понятен. Мать кричала и стучала дверцами шкафов. Потом послышались звук захлопываемой москитной сетки и удаляющиеся шаги отца. Незадолго до этого отец нашел и приютил собаку по имени Ниппер, и пес вылез из-под крыльца и начал скулить и звенеть цепью, на которую был посажен. По звукам шагов отца я поняла, что он спускается по ступенькам. Затем снова послышались звук открываемой москитной сетки на двери, грохот разбившегося блюда с лазаньей и голос матери, крикнувшей: «У нее же день рождения, сукин ты сын!» Лиша распустила «французскую ракушку» и произнесла: «Дубль пять тысяч десятый, с днем рождения, черт подери».
На кухне мать держала кисти рук под открытым краном. На ее щеке было что-то красное, словно кто-то намазал краску кисточкой.
– Дать тебе аспирина? – спросила она, но я отказалась. На улице громко скулил Ниппер. Мать кинула в рот горсть детского аспирина и, наклонившись над краном, запила его водой. Потом она сняла стоявший на холодильнике немецкий шоколадный торт.
– Можем съесть его на ужин, – предложила она.
Сзади ко мне подошла Лиша, и я почувствовала ее тепло. Я сказала матери, что она может вернуть черное платье в магазин.
– Нет, не могу, – ответила мне она и принялась вставлять свечки в торт. В кухне пахло лазаньей и кокосом, который мать натерла на торт. – Забудь про это платье, Христа ради, – добавила она.
Я вышла на веранду. Сквозь щели в заборе было видно, что Микки все еще сидел в грязи, словно ландшафтное украшение. Понятное дело, что он все слышал и вскоре расскажет всем соседям, что мама назвала отца сукиным сыном. Я мысленно послала его ко всем чертям и осторожно обошла разбитое стекло, перемешанное с лазаньей.
В темноте гаража виднелся огонек папиной сигареты. Через несколько секунд мои глаза привыкли к темноте, и я увидела белое пятно отцовской майки и бутылку, которую он периодически поднимал ко рту.
– Папа? – спросила я.
– Иди в дом, – ответил он. Отец затянулся, и огонек сигареты стал ярче. – Впрочем, не имеет значения, уйдешь ты в дом или нет, – через минуту добавил: – Прости меня.
– Конечно, – ответила я. В темноте на улице запели цикады. Потом мне показалось, что я услышала крик ночной мыши. – Это летучая мышь? – спросила я.
– Иди в дом, – ответил отец и потом, подумав, добавил: – Иди в дом и спроси мать, не хочет ли она съездить в Бридж-Сити и съесть барбекю из крабов.
Когда я вошла на кухню, разбитое блюдо с лазаньей уже лежало в мусорном ведре, стоявшем около раковины, а мать зажигала последнюю свечку на торте. Пламя свечей колыхалось в потоках воздуха от движения вентилятора на потолке. Лиша сидела рядом с матерью с выражением лица, похожего на лопату.
– Давай, – сказала Лиша, – загадывай желание, какашка ты мелкая.
Я закрыла глаза и пожелала себе жить в совершенно другой семье, в совершенно другом городе. Я набрала воздух в легкие и задула свечи. В доме стало темно.
Я не помню, как мы переехали Орандж-Бридж и доехали до Бридж-Сити. Я также не помню, как мы ели барбекю из крабов, и очень жаль, потому что я ужасно люблю это блюдо за запах жидкого дыма и сладкое послевкусие. Я не помню, сколько мама выпила в кафе около болота, в которое после ужина можно было выбросить то, что не доели, аллигаторам.
Я помню, как мы подъезжали к Орандж-Бридж по пути домой. С моего места на заднем сиденье я видела отцовский профиль с орлиным носом и волевой челюстью. Свет фар идущих навстречу автомобилей освещает его лицо, а потом перемещается на мое. Я хочу увидеть лицо матери и понять, в каком она настроении после алкоголя. Но я вижу только ее затылок и завитки коротких каштановых волос.
Мы снова едем вверх по мосту, и под нами стучат его перегородки. Капот машины поднимается, а низ опускается, как круп лошади, когда она пугается неожиданно появившегося на дороге животного. Все очень похоже на тот день, когда мы убегали от урагана. Машина рассекает темноту, словно море. Мне даже кажется, что за машиной тянется длинный темный шлейф. Я чувствую, словно в салоне начинает пахнуть запахом бабушкиной комнаты и ее духами. Я ни разу не вспомнила этот запах с тех пор, как она умерла. Лиша открывает окно, чтобы избавиться от неприятного запаха. Ветер треплет ее волосы, выложенные «французской ракушкой». Ветер становится таким сильным, что мне кажется, что он меня выдует из машины и бросит в воду под мостом. От ветра, запаха и звука стука шин о спайки моста мне начинает казаться, что я стала совсем маленькой.
Я набираюсь храбрости и смотрю вниз на воду под мостом. От высоты у меня все в животе сжимается. Железные перегородки ограждения так и мелькают. Вдалеке я вижу два горящих факела на нефтеперерабатывающих заводах. От заводов исходит сказочное сияние, окрашивающее низ неба, этот химически-зеленый цвет плесени ползет вверх по небу, словно мокрое пятно на бумажных обоях. За рекой протянулись болота. Под мостом медленно плывет огромная баржа.
Мама начинает кричать, что лучше бы она умерла, чем вышла замуж за отца. Она жалеет о том, что ее не сразила молния на этом мосту до того, как она успела переехать в это проклятое болото. Личфилд – это жопа мира, а отец просто никто. Я ищу ладонь Лиши, но она сжала ее в кулак. Я осторожно кладу ее кулак на место, как ставят стакан с водой, которую не хотят разлить.
Потом я вижу, как мать поднимает свои белые руки, и кажется, будто они подсвечены изнутри. Она тянет руки к рулю и хватает его. Машину сносит на тротуар. Мать хочет сбросить нас в реку, в чем на этот раз нет никакого сомнения. Я плотно зажмуриваю глаза, и Лиша наваливается на меня сверху. Перед тем как мы падаем, я замечаю, как отец с матерью дерутся за то, кто будет управлять автомобилем.
Потом я слышу звук удара, похожий на звук сломанной ветки, и машина выравнивается. Я практически чувствую, как колеса автомобиля снова едут между желтыми линиями. Зеркало заднего вида во время драки сдвинулось, поэтому когда мы с Лишей поднимаем головы, видим в нем собственные испуганные отражения. Мы похожи на двух существ, вылезших из самых глубин моря.
Машина съезжает с моста и мчится по дороге. Голова матери лежит на панели, потому что отец вырубил ее одним ударом во время борьбы за руль. Раньше он ее никогда не бил, но сейчас пришлось загасить одним ударом, от которого она потеряла сознание.
Когда мать приходит в себя, мы уже подъезжаем к дому. Она ногтями оставила на щеке отца длинные полосы, словно следы от лапы леопарда. Дети Хайнц играли на своем дворе, но когда мы выходили из машины, подбежали к границе с нашим участком. Мама все еще пыталась поцарапать отца, и Джо Диллард спросил меня, из-за чего они дерутся, а его брат шутливо ответил, что они дерутся из-за бутылки. Больше я о своем дне рождения ничего не помню.
VII. Жертвенный костер
Бабушка оставила матери кучу денег, которые нашей семье не принесли никакой пользы, несмотря на то что эти деньги были нам очень нужны. Забастовка протянулась до середины марта, что сильно ударило по семейному бюджету. Отцу удалось продолжить оплачивать кредит за дом и коммунальные счета, но на продукты, медикаменты и все остальное денег не хватало. Когда по пятницам он забирал в окошке кассы свой чек, тут же его и обналичивал, а после этого прямиком ехал в аптеку и шел к мистеру Хуарезу, чтобы оплатить кредит. Я представляю, как он доставал из пачки самую новую пятидолларовую купюру и клал ее на прилавок между собой и мистером Хуарезом. Я улавливала то, что он стыдится. В округе Джаспер, в котором отец вырос, любая покупка в кредит означала, что человек тратит больше, чем он получает. В тех краях люди не брали кредиты даже на покупку автомобилей, и многие приезжали выбирать новый джип или трактор, прихватив с собой несколько наволочек, набитых долларовыми купюрами.
Багзи все это прекрасно знал. Он был добрым человеком и часто дарил мне комиксы – я удивила его тем, что умела хорошо читать. Он всегда вел себя так, словно ему неприятно брать с отца деньги.
– Послушай, Пит, возьми деньги, – говорил он, но отец только чуть ближе придвигал к нему купюру. Багзи пожимал плечами, пробивал сумму на кассе и клал купюру в отделение кассового аппарата. Всю информацию по кредитам Багзи записывал в зеленой тетради под кассой. Багзи часто отводил меня в дальний угол своего офиса, где стояла перевязанная пачка новых комиксов. Он вынимал из кармана перочинный ножик, разрезал веревку. Я садилась на его стол и читала ему вслух новый выпуск «Супермена» или какой-нибудь комикс издательства «Арчи»[34]. Он сидел рядом и улыбался, глядя в свою чашку с кофе. Отец качал головой и говорил, что я уже выросла из всех комиксов.
Вот так каждую получку мы с отцом заезжали к Багзи. Движения и слова происходившего между Багзи и отцом ритуала были настолько точными, одинаковыми и словно не имевшими никакого серьезного значения, что я точно понимала – вопрос денег имел как раз очень большое значение и относились они к нему со всей серьезностью. На протяжении недели никто и словом не упоминал о кредите.
О наших финансовых проблемах в доме не говорили. Но горе тому, кто не доел свои бобы или неплотно закрыл морозилку холодильника, что привело бы к увеличению счета за электроэнергию. В этих случаях отец сам демонстративно плотно закрывал морозилку или доедал чужие бобы. Потом он с укоризной за непозволительную расточительность долго смотрел на виновника.
Вечерами, когда отец не работал, он сидел на кровати и изучал счета и квитанции для оплаты. Слева от себя он раскладывал уже оплаченные счета, а справа – пришедшие недавно в конвертах. У него был целый ритуал подготовки. Когда папа получал по почте очередной счет, то на части письма, просвечивавшего через пластиковое окошечко, он записывал сумму к оплате. Он как бы одобрял долг, говоря: «Я знаю, я знаю». Так он видел сумму задолженности на конверте, и ему не надо было и открывать его, чтобы узнать, сколько он должен. Потягивая пиво «Одинокая звезда», отец на длинных полях газеты The Leechfield Gazette записывал мелким почерком расчеты, не жалуясь на дороговизну.
Я прекрасно знала, что в мире есть люди, у которых проблемы гораздо серьезные, чем у отца. У многих не было работы, у кого-то тяжело болели дети, не говоря уже о миллионах тех, кто родился глухим, слепым или инвалидом. Тем не менее вечерние финансовые подсчеты отца были самой концентрированной формой волнения и переживания, которую мне довелось наблюдать. Длинные колонки цифр, выведенных мелким, наклонным почерком, можно назвать своего рода многократно повторенной молитвой грешника, который надеется на то, что его или минует чаша сия, или он окончательно осознает, что его ждет.
В это время мать лежала с ним рядом, потягивая водку из зеленого алюминиевого стаканчика, и читала, например, Льва Толстого или плакала под песни Бесси Смит. Они не общались, словно между ними на огромной кровати возникала кирпичная стена. Мы с Лишей лежали у подножия кровати, делая вид, что занимаемся домашней работой, хотя чаще всего успевали сделать ее еще в школе. Мы хотели быть рядом с родителями, если возникнет какая-либо проблема.
Атмосфера в доме была еще более накаленной, чем в те времена, когда с нами жила бабушка. После ее смерти мы перешли в «нормальное» состояние, но и без того чудаковатые привычки, принятые в нашей семье, стали еще более странными на фоне маминой невысказанной скорби по поводу смерти бабушки.
Той весной мама снова начала ходить по дому голой. Отец разгуливал в трусах, а мы с Лишей ходили без трусов, когда отца не было дома, или в пижаме, когда он приходил. Мы не собирались стать нудистами, несмотря на то что однажды на родительском собрании мама сообщила всем, что однажды в Нью-Джерси она играла в волейбол на нудистском пляже. Мы с сестрой зарабатывали по пять центов с каждого ребенка, которому показывали коллекцию нудистских комиксов из маминой подшивки журнала «Нью-Йоркер». Кроме этого мы были готовы показать за двадцать пять центов репродукцию картины Босха из маминого художественного альбома, на которой были изображены худые черти, толстые и грудастые женщины, которых тыкали палками.
Каждый из нас находился в состоянии постоянного утомления и спал урывками, поэтому мы решили, что сон быстрее придет, если мы будем к нему готовы, то есть раздеты. Наши голые тела являлись своего рода приглашением Морфею. В два часа ночи можно было увидеть такую сцену: голая мать в фартуке, завязанном над ее круглой попой, готовит у плиты ковбойский омлет. Когда мы хотели заснуть, то не собирались вместе, а бродили по дому раздетыми.
В ту весну мать встала из кровати на достаточно долгое время лишь однажды – когда она заклеивала окна, чтобы нас не видели соседи.
Как-то раз я висела на турнике над окном (мы с Лишей устроили соревнование, кто больше сможет подтянуться), мимо нашего дома медленно проехал синий автомобиль Диллардов, в котором сидели все члены их семьи. Открыв рты, Дилларды уставились на мою наготу. Я несколько секунд висела на турнике, но потом поняла, что мне лучше спрыгнуть, чтобы они меня не видели. Я присела за подоконником и размышляла о том, что жизнь несправедлива: почему из всех людей, живущих на нашей улице, мы встаем раньше всех?
На миссис Диллард была черная мантилья, словно она ехала на церковную службу, которая начинается в шесть часов утра. На мальчиках на пассажирском сиденье были белые рубашки и черные бабочки. Их волосы были прилизаны брильянтином. Даже через стекло я слышала, как они смеются.
Мама услышала, как Лиша третирует меня за то, что соседи увидели меня голой, и решила встать с кровати. Она сказала, что под одеждой все мы голые, поэтому нет смысла особо напрягаться на эту тему, но она заклеит окна, чтобы тупые Дилларды над нами не смеялись. Мать заявила, что заклеит окна так, что даже сама Госпожа Богиня (она подчеркнула, что, по ее мнению, Бог должен быть женского рода) не сможет заглянуть к нам.
Мать придумала любопытный способ заклеивания окон. Она взяла терку для сыра и натерла на ней разноцветные восковые мелки. Потом высыпала цветную стружку на лист бумаги, проложила его с двух сторон листами вощеной бумаги и прогладила утюгом. После этого мы с Лишей заклеили этими листами стекла. Мать говорила, что пыталась создать эффект витража.
Мы были очень рады тому, что мама наконец ожила, и бросились ей помогать. Лиша засекла время, которое ей потребовалось для заклейки одного окна, после чего попыталась улучшить время и побить собственный рекорд.
Через несколько дней после этого я вернулась домой из школы и увидела, что москитная сетка на нашей двери приоткрыта. Мы всегда закрывали ее, чтобы в дом не залетели насекомые и не заползли и ящерицы. К тому же в жарком климате, если не закрывать дверь, стены помещения могут покрыться плесенью.
Помню, в тот день на мне были дешевые туфли темно-красного цвета с вытертой подошвой оттого, что я была немного косолапой. Я чувствую тяжесть на правом бедре школьной сумки.
Было очень жарко. Я возвращалась после теста по английскому языку, на котором получила максимально возможное количество баллов. Мой результат был на два балла лучше результата моего главного конкурента – Пегги Фонтенот, которая потеряла два очка, когда вместо слова «сказала» написала «скозала»[35]. Я сама проверяла ее работу, и мое сердце радостно екнуло, когда я заметила эту ошибку. Я взбежала по ступенькам, открыла москитную сетку и громко крикнула, что вернулась. Потом кинула сумку на диван и позвала маму.
Никто мне не ответил. В доме стояла полная тишина, и я начала волноваться – всерьез задумалась, почему открыта москитная сетка на двери. С листом бумаги, на котором я делала тест, я вбежала на кухню. Над потолком медленно вращались лопасти вентилятора, а на столе стояла чашка холодного кофе. В гостиной я нашла последнее письмо от бабушкиного адвоката, которое мать сложила веером, наподобие мехов аккордеона. Она, видимо, обмахивалась этим письмом, сидя на набитом конским волосом диване. Я аккуратно расправила письмо.
Я помню много мелких и не очень важных деталей, однако общая сумма оставленного бабушкой маме наследства совершенно исчезла из моей памяти. Возможно, эту большую сумму, составлявшую несколько сотен тысяч долларов, ребенку было сложно запомнить.
Письмо было написано на толстой бумаге кремового цвета. Внизу страницы было напечатано «шестая страница из шести». Адвокат обещал переслать тридцать шесть тысяч долларов от продажи Банку Личфилда дома бабушки и ее фермы в Лаббоке – приблизительно в четыре раза больше, чем отец зарабатывал в год без внеурочных. Все мы с нетерпением ждали этих денег, однако я и не думала, что в письме еще упоминали о деньгах от новой сдачи прав на геологическую разведку нефти на бабушкином участке.
Судя по всему, бабушка сохранила права на ископаемые, которые могли находиться под ее землей. Скорее всего, сделала она это не потому, что надеялась, что там найдут нефть, а просто по привычке местных жителей. В прошлом уже много фермеров продали за бесценок свои земли, на которых очень скоро забили фонтаны нефти, поэтому каждый надеялся на то, что на его земле есть «черное золото».
Люди ни под каким предлогом не продавали права на использование недр, находящихся под их землей. Даже я об этом знала. Землю сдавали в аренду нефтедобывающим компаниям за огромные деньги.
Бабушка в течение нескольких десятилетий отбрыкивалась от предложений сделать геологическую разведку на своей земле. Мы даже и не знаем, почему она так поступила. Гораздо позже я нашла письмо ее к дочери, в котором бабушка объясняла, что зарабатывает на хлопке, а не на нефти. Адвокат бабушки нашел письмо от одной нефтяной компании с предложением купить права на использование недр и просил разрешения матери сдать землю в аренду. Я помню, что водила кончиком пальцев под пятью нулями, но, убей Бог, я не помню точной цифры. Не хватало одного нуля, чтобы дотянуть до магической суммы в миллион долларов.
– Вот вам и пятнистая пони, которую я так хотела на Рождество. Вот и украшенное гранатами колесо обозрения из магазина «Ювелирные изделия Гибсона». Вот мой билет в Диснейленд, и пусть толстозадая Пегги Фонтенот завидует сколько угодно – думала я.
Даже сейчас, спустя столько лет, мама отказывается отвечать на вопрос о том, сколько денег ей завещала бабушка.
В поисках мамы я обежала все комнаты. Я зашла в родительский туалет, и мне стало страшно. Кто-то, видимо, сама мать, взял губную помаду и изрисовал ей зеркало в ванной так, что стекла практически не было видно. В раковине валялся пустой тюбик помады. На полу ванной, словно стреляная гильза, лежал использованный блеск для губ, который я с опаской обошла стороной.
На зеркале в родительской спальне я нашла такие же каракули, только розового цвета. Края тюбика поцарапали поверхность стекла. На зеркалах в других комнатах тоже были следы губной помады – красной, бледно-розовой, розовато-лиловой и даже цвета темной крови, которой мать практически не пользовалась, потому что на контрасте с белой кожей она становилась похожа на актрису немого кино.
Я переходила из комнаты в комнату и, наконец, дошла до зеркала в нашей с Лишей ванной комнате. В центре стекла зияло отверстие диаметром с мамин кулак. Наверняка в том месте, где сейчас вмятина, было отражение маминого лица. В центре дырки стекло разбилось на мелкие кусочки, по краям куски были длинными и вытянутыми. Наверное, мама смотрела, как ее отражение превращалось в портрет в стиле кубизм. Я попятилась назад, обходя лежащие на полу и в раковине осколки.
Я выбежала из дома через заднюю дверь, моля Бога о том, чтобы дым над трубой гаража означал, что мама рисует в своей мастерской. Я понимала, что если ее машины не окажется в гараже, я могу ее уже больше никогда не увидеть. Я представила, как она резко поворачивает руль и врезается в бетонное ограждение. В своем воображении я рисую упавшую на руль фигуру матери. Из ее уха течет красивая струйка крови. Наверняка она хотела, чтобы ее остановили. Я молила о том, чтобы машина стояла в гараже, и она действительно оказалась там. Фары автомобиля были похожи на закрытые глаза, а сама машина – на сонную рептилию.
Дверь мастерской была открыта. В навесном замке торчал ключ с маминым серебряным брелком в виде оленя с инкрустацией из бирюзы. Мама сидела ко мне спиной в старом бабушкином кресле-качалке и бросала бумаги в горящий в печке огонь. Белые листы быстро становились бурыми, закручивались и сгорали. Над матерью висел большой портрет бабушки, нарисованный с правильными углами и в правильной пропорции. После похорон она перевесила сюда этот портрет из гостиной. Увидев бабушку Мур, я испугалась.
В тот день в мастерской был странный запах. Кроме обычного запаха масляных красок и скипидара я почувствовала запах жидкости для разжигания костра, которую отец всегда использовал, чтобы зажечь огонь в гриле. Бутылка стояла рядом с матерью, она вылила жидкость в огонь. Пламя в печи ярко разгорелось, но через некоторое время успокоилось. Я заметила на потолке коричневое пятно гари и поняла, что в тот день мама сжигала в печке всю почту, которая пришла на бабушкин адрес после ее смерти, – выписки по банковским счетам, каталоги семян и открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления от женского отделения методистской церкви Лаббока.
Глядя на маму, сидящую в кресле-качалке, я вспомнила фильм «Психо» Альфреда Хичкока, на который она водила нас в 1960 году. В конце этого фильма сумасшедший убийца надел на себя парик, чтобы быть похожим на свою сумасшедшую мать. Он качался в кресле-качалке.
Мать медленно повернулась, чтобы посмотреть на меня, как старый Тони Перкинс, и я увидела, что все ее лицо измазано помадой. «Она пытается себя стереть», – подумала я. Рисунки на мамином лице не были похожи на африканскую маску или на боевую раскраску индейцев, которую делают дети. В этих рисунках не было никакой формы, никаких ровных линий, они никак не были связаны с формой лица. Мама сидела в бабушкином кресле-качалке перед горящей печкой – с вымазанным кроваво-красной помадой лицом она выглядела как настоящая сумасшедшая.
Потом я помню, как мы оказались в нашей с Лишей спальне. Садилось солнце, и сквозь наше закрытое рисунком окно виднелись тени ветвей жимолости и глицинии. Мать стоит у подсвеченного солнцем окна и собирает наши игрушки в картонную коробку. Хриплым пьяным голосом, который я совсем не узнаю, она говорит, что у нас в комнате беспорядок.
– Я хочу быть хорошей hausfrau, – произносит мать, и меня колет холод немецкого слова. – Такая у меня работа. Я жена в этом чертовом карточном домике. – И со звуком падающих капель сильного дождя в коробку летят однорукие Барби, шашки, шарики, пластмассовые солдатики, металлические машинки, настольные игры и мраморные шахматы.
Она выбрасывает все игрушки из комода, после чего сдергивает покрывала с наших кроватей. Потом стаскивает на пол матрасы и поднимает над головой раму кровати. Она похожа на Самсона из Библии, который поднимает колонну над головой, а затем бросает ее. Она кидает раму, которая ударяется о стену и издает музыкально-меланхоличный звук. Тогда единственный раз за ту ночь я начинаю плакать и прячу голову в подмышку Лише в застиранной пижаме.
Потом я помню, как мы стояли во дворе за гаражом перед огромной кучей игрушек, детских книжек издательства Golden Books и мебели.
Я видела большие костры на пляже, на которых жарят туши быков. Однажды Беки Хеберт привела меня на встречу членов «ку-клукс-клана», на которой жгли школьные учебники и дешевые бульварные романы. Тогда костер был выше стоящих вокруг домов. Груда вещей, которую накидала мать, почти такой же высоты. Эта куча выше нашего отца, рост которого сто восемьдесят два сантиметра.
Я внимательно смотрю на свою красную деревянную лошадку-качалку. Игрушка стоит в трех метрах от меня. Пружины поржавели, краска полиняла. Мать выливает на игрушку бензин из канистры.
Потом она берет коробок спичек и делает широкое движение рукой, словно собирается показать цирковой трюк. Я порываюсь встать, чтобы поймать ее за руку до того, как она зажжет спичку, но Лиша давит мне на плечи, чтобы я не поднималась. Я чувствую, что ноги подгибаются, словно они мне не принадлежат или превратились в железные ножки складного стула, который складывается сам по себе. Я ломаю руки, вспоминая, как мне нравится подпрыгивать на деревянной лошадке. Иногда, когда Лиши нет дома, я катаюсь, закрываю глаза и представляю себе, что скачу по прерии. Сейчас мне кажется, что вид у лошадки потускневший, а глаза усталые.
Я оглядываюсь по сторонам в поисках камня, которым можно ударить маму по голове, но Лиша крепко меня держит и не отпускает. Лицо ее совершенно спокойно, словно она смотрит новости по ТВ. Я говорю сестре, что мать хочет сжечь мою игрушку, но ее это нисколько не трогает. Поэтому и я перестаю волноваться. «Прощай, старина Пейнт, – думаю я. – Я уезжаю из Чаена»[36].
Мама медленным движением зажигает спичку, головка вспыхивает ярким пламенем. Она бросает зажженную спичку в сторону деревянной игрушки движением, которое я бы назвала почти что изящным. Можно подумать, что она великосветская дама, которая роняет носовой платок. Пламя ярко разгорается. Еще долго в огне можно различить силуэт темной лошадки, но потом он оседает и исчезает в языках пламени. Мама кидает в костер наши игрушки и вытрясает в пламя содержимое коробок, которые наполнила вещами в нашей спальне.
Огонь пожирает все. Мама сжигает не только игрушки, но и часть своих картин, главным образом с изображением пляжей. Холст загорается быстрее рам, поэтому какое-то время кажется, что на всех картинах изображен огонь. Он горит внутри простых деревянных, вычурных, а также узких и современных медных рам.
Потом мама подтаскивает к костру огромный старый и пустой холодильник, из которого мы с Лишей планировали сделать сцену для театра марионеток. Внутри холодильника висит наша одежда – платья, штаны, купальники и пижамы с пришитыми внизу штанин бусинками, которые стучат по кафелю ванной комнаты и помогают на нем не поскользнуться. В огонь летит белая рубашка с накладным воротником, как у Питера Пена, а также большое кринолиновое пальто, в котором я танцевала канкан. Это пальто напоминало матери о танцовщицах Дега. Пальто вылетает из маминых рук и медленно оседает сверху костра, после чего пламя пожирает его одним жадным глотком. Мама бросает в огонь наши теннисные туфли, на которых быстро сгорает материал, после чего начинают коптить черным дымом резиновые подошвы.
После теннисных туфель мать начинает расправу над нашими платьями. Она аккуратно снимает каждое платье с железной вешалки, одна за другой они падают, издавая металлический звук. Мать внимательно осматривает каждое платье перед тем, как бросить его в огонь, затем она быстрым движением бросает одежду в пламя. В огонь летит мое белое платье, которое я надевала на Пасху, и передник, который бабушка вышила розовыми французскими лилиями. Я вижу, как в огонь полетела розовая мексиканская крестьянская юбка Лиши, которую ей купили в Хьюстоне. Потом клетчатый джемпер с карманами, обшитыми желтыми шнурками, который мы с сестрой носили вдвоем. Кажется, что эти платья – тела маленьких девочек, из которых вылетела душа.
Через некоторое время я перестаю смотреть на костер и перевожу взгляд на мамино лицо, измазанное губной помадой и сажей. Мама выглядит, как сумасшедшая. Ее губы шевелятся, но я не разбираю слов, которые она произносит. Ниппер скулит и рычит. Собака сидит в темноте под крыльцом, куда не доходит свет костра. Ниппер выбегает из-под крыльца, добегает настолько далеко, насколько ему позволяет длина цепи, после чего снова забивается под крыльцо. Голос матери становится громче, и я слышу слова: «Чертова, гребаная, поганая hausfrau».
Я прикрываю веки и начинаю смотреть на происходящее сквозь ресницы. Я понимаю, что таким образом создала эффект того, словно все, что я вижу, нарисовано мелками. На деревьях круглые кроны. Летящие в огонь платья похожи на кукольные платья, вырезанные из бумаги. Огонь горит желтым, оранжевым и ярко-красным цветом с черными прожилками. Далекие факелы на длинных трубах нефтеперерабатывающих заводов словно нарисованы при помощи линейки для того, чтобы были прямыми.
Я полностью смиряюсь с происходящим. Меня можно взять за руку, кинуть в огонь, и я даже не пикну. Я уже не протестую, и вижу, что Лиша тоже потеряла силу воли. Мы попали в шестеренки машины, которые безжалостно нас жуют. Я чувствую странное внутреннее спокойствие. С нами должно произойти то, что должно произойти. Нам отрезали все пути к отступлению.
Я вспоминаю историю Иова, которую рассказали мне в воскресной школе, в которую ходит Кэрол Шарп. Иов смирился со своим страданием. Словно на него дул сильный ветер, который его наклонял, и через некоторое время ему стало казаться, что ветер его поддерживает. Люди могут смириться с болью, если считают, что она происходит от сил, которые сильнее их самих. Приходит чума, и люди болеют, у них появляются нарывы, источающие гной, но те, кто еще не заразился, пребывают в полном спокойствии. Так и я знаю, что нам никто не поможет. Пожарные не приедут. Соседи не позвонят отцу или шерифу.
Я представляю себе, как наша соседка, старая миссис Хайнц, стоит около раковины у окна, которую каждую субботу моет раствором аммония, добавляя в него немного лимонного сока. Стоит и смотрит на нас. Она протирает раковину и размышляет о том, стоит ли ей выйти к нам. Но решает этого не делать. Мать кидает вещи в огонь, как ведьма из шекспировской пьесы, а старая миссис Хайнц думает: «Это не мое дело». И задвигает клетчатую занавеску.
Точно так же поступают и все остальные соседи. Никто не вмешивается и не останавливает наше свободное падение в бездну. Все задвигают занавески. Все плотнее затворяют москитные сетки на своих дверях, запирают свои двери. Мне кажется, что я слышу, как задвигаются засовы и поворачиваются ключи в замочных скважинах.
Мать закончила с костром и вернулась в дом. Мы поплелись за ней, как стадные животные. Мы не бросились к соседям и не стали умолять о том, чтобы нас спасли. Ведь мы же не могли оставить ее в таком плохом состоянии. Мы вышли из круга горячего воздуха, прошли через влажную темноту двора и вошли в неосвещенный дом.
Мама идет по длинному коридору в сторону родительской спальни, и тут в Лише просыпается желание освободиться, выпрыгнуть из страшного колеса событий, в которые втянула нас мать. Сестра подталкивает меня в сторону нашей комнаты, и я слепо следую за ней.
В нашей комнате царит беспорядок. Лежащая у стены рама кровати меня пугает. Я вспоминаю, как мать подняла ее над головой и кинула в стену. На полу валяется одеяло из лоскутков, которое сшила бабушка из образчиков-обрезков ткани для мужских костюмов, которые ей дал какой-то портной. Лиша расстилает одеяло, словно у нас пикник. Я ложусь на него, и Лиша накрывает мне ноги покрывалом для постели. Мы поворачиваемся лицом друг к другу и начинаем перепрыгивать пальцами от одного кусочка ткани одеяла к другому – черный габардин, серая полоска и обратно. Узор похож на сельскую местность, если смотреть на нее с самолета. Мать шваброй разбила лампочки в нашей комнате, поэтому кругом темнота, в которой виднеются очертания разбросанной мебели.
Мы слышим, что мама на кухне гремит столовыми приборами. Судя по грохоту, она выбрасывает их из кухонных ящиков на пол. Я закрываю глаза и представляю себе, что слышу битву рыцарей времен короля Артура, как они рубят наотмашь своими мечами, гремят доспехами, летят и попадают в щиты стрелы, ломаются копья. Потом я открываю глаза и вижу только лоскутный узор одеяла и лицо Лиши с залаченной челкой. Она прикладывает палец к губам и делает знак, чтобы я ничего не говорила, но что я сейчас могу сказать? Дверь нашей спальни открывается, и мы видим, что на полу появляется неправильный многоугольник света. Потом в дверном проеме появляется фигура матери. Мы не видим лица, но вокруг головы видна корона всклокоченных волос. Мать раздвинула ноги и подняла руки, поэтому кажется, что перед нами стоит огромная буква Х. В правой руке у нее длинный нож, который отец точит на камне перед тем, как разделать белку или курицу. На самом деле этим ножом можно разделать и огромного быка. Фигура матери похожа на сцену в душе из фильма «Психо». Лезвие ножа отражает свет и похоже на звезду. Я вспоминаю слова:
Звездочка, звездочка, я желание загадала. Пусть сбудется все, о чем я мечтала! Я в это верю, я это знаю[37].Я не знаю, какое желание загадывать. Лиша прижала палец к губам и внимательно смотрит на фигуру в дверном проеме. Я понимаю, что сейчас не стоит кричать, и не раскрываю рта.
Тут происходит чудо. Я становлюсь совершенно спокойной. Лицо Лиши кажется маленьким, словно я смотрю на него с другого конца телескопа.
Силуэт матери начинает меркнуть и исчезать. Ее фигура в черной водолазке, черных колготках и с ножом в руке превращается в мой собственный рисунок, нарисованный фломастером на открытке, которую я сделала маме в прошлое воскресенье, когда все отмечали День матери. Под тем рисунком я написала большими печатными буквами: «Ты очень хорошая мама. Я тебя люблю. С тобой мне хорошо. С любовью, Мэри Марлен». В прошлое воскресенье, когда мать открыла и прочитала текст моей открытки, она долго плакала, крепко обняв меня так, что ее слезы попали мне в ухо. Мать перестала плакать только после того, как Лиша принесла ей коктейль из водки и мартини. «Вот, выпей». Потом сестра сделала еще несколько коктейлей. После этого мать поставила пластинку с «Балладой о Мэкки-Ноже» и повторяла: «Ах, вы мои бедные детки. Вы же ни в чем не виноваты». Когда я наконец добралась до кухни, чтобы вылить содержимое бутылки в раковину, водки в ней осталось на донышке.
Это было всего неделю назад. На своем рисунке я на шее матери нарисовала ожерелье из жемчугов размером с мячики для пинг-понга. В моем воображении фигура живой мамы превращается в мой собственный рисунок. У нее вместо головы шар и завитушки вместо волос. Но на этом сходство заканчивается. Настоящая мать в руках держит блестящий нож, чего нет на рисунке. Сестра дышит мне в щеку, и я стараюсь вдыхать и выдыхать одновременно с ней. Ощущение того, что мы с ней превратились в нарисованные фигурки, длится, кажется, вечность. Потом мать, как львица, рычит «Нет!», и ее рот принимает форму буквы О. Черные буквы «Нет!» вылетают у нее изо рта и повисают в воздухе, а потом уносятся через окно в ночь и бушующее на лужайке пламя.
Господь ответил на мои молитвы и научил меня превращать всех нас в героев комиксов. Фигура женщины в середине залитой черным цветом страницы и с глазами-бусинками уже не моя мать, а монстр из мультфильма. Я сжимаю страх внутри живота до тех пор, пока не перестаю его замечать. Я становлюсь сильнее и забываю саму себя. Я замечаю, что Лиша подняла голову и с интересом смотрит на меня, наверняка думая о том, чему я улыбаюсь.
Фигура матери кладет нож на пол и начинает набирать телефонный номер. Я считаю семь оборотов наборного колеса, которое раскручивается после того, как мать отпускает палец. Мать плачет. Из ее нарисованных точечек-глаз льются фонтаны синих слез. Мне кажется, что матери отвечает доктор Бордо.
– Форест, – произносит мать, – это Чарли Мэри. Приезжай. Я только что убила их обеих. Я их зарезала.
VIII. Психушка
Отец не говорил о том, что произошло той ночью. Он рассказывал нам, как мама себя чувствует, ограничиваясь утверждениями о том, что ее скоро выпишут. Когда маму увезли из-за того, что она стала нервной, я стала ужасно по ней скучать. Я не могла заставить себя перестать о ней думать.
Мы с Лишей никак не обсуждали эту тему, чтобы папа лишний раз не волновался. Мы ему ничего не рассказывали, а он нас ни о чем не спрашивал. И в этом была наша большая ошибка.
В школе я начала вести себя прилично. Я перестала ругаться и драться, за что меня больше не отправляли в кабинет директора Доулмана. Второй класс я закончила с оценкой «четыре с плюсом» по поведению, чего раньше еще не случалось. Совершенно очевидно, что я решила вести себя хорошо для того, чтобы маму поскорее отпустили домой.
Дома я с большим недовольством занималась уборкой только в своей половине комнаты и с ворчанием помогала Лише по-военному аккуратно заправлять кровать. На этом моя помощь заканчивалась, несмотря на то что Лиша каждую субботу с остервенением драила все вплоть до унитазов. Сестра объявила войну грязным пепельницам, и каждый раз, когда отец поднимал руку, чтобы стряхнуть пепел со своего «Кэмела», она выхватывала у него пепельницу и протирала до того, как он успевал опустить руку.
Мы с сестрой не знали, как чувствует себя мать, поэтому строили в голове самые ужасные сценарии. Однажды мы увидели по ТВ кино под названием «Змеиная яма»[38]. Героиня картины Оливия де Хавилланд – слегка нервная особа. Уже в начале картины ее рот слегка подергивался, предвещая то, что чуть позже ее ждет нервный срыв. В общем, это был фильм о психиатрической клинике, в котором показывали, как одного маньяка засунули в ванну со льдом, а про электротерапию говорилось: «Потом прикладывают электроды к вискам и через ваш мозг проходят тысячи вольт». К концу фильма бедную де Хавилланд заперли в изоляторе в смирительной рубашке, в которой ей приходилось обнимать саму себя, что со стороны выглядело очень сексуально. При этом у нее были галлюцинации о том, что по ней ползают змеи. Вот такое описание лечения невроза в психиатрической клинике мы с Лишей получили. Другой информации о том, что происходит в психбольницах, у нас не было.
Соседские дети нас тоже ничем не могли успокоить. Как и мы, они не обладали никакой информацией о том, как лечат в психбольницах, и вели себя по отношению к нам крайне подло. По сей день жителей Личфилда отличает то, что они выбирают самое слабое место человека и говорят о нем максимально громко и грубо. Чем хуже то, что произошло с человеком, и чем больше его беда, тем четче и без обиняков люди об этом высказываются. Например, человека, который хромает, называют не иначе как хромой, а девушку с прыщами – Лицо-Пицца.
Отец работал с человеком, сын которого сошел с ума, в один прекрасный день пришел в школу с ружьем и застрелил ответственного по вопросам трудового определения учеников старших классов, в то время как директор (а по слухам, подросток хотел застрелить именно его) спрятался в школьном сейфе. Коллеги отца мальчика тут же окрестили его сына Мстителем. После того как местная газета напечатала сообщение о том, что подростку в больнице сделали лоботомию, коллеги его отца устроили ему праздник с шутихами и воздушными шарами и несчастному подарили открытку, в которой было написано: «Мы надеемся, что Мститель перекует мечи на орала».
В общем, мы были прекрасно знакомы с такой грубостью. Местные жители считали, что обход молчанием любого неприятного инцидента представляет собой согласие с тем, что этого инцидента не существует. Ложь казалась людям гораздо более неприятной, чем горькая правда, потому что не доводит эту правду до пострадавшего (в данном случае до отца убийцы) и исключает человека из коллектива. Кроме всего прочего, по мнению жителей Личфилда, уход от правды равен предположению о том, что человек является слабаком и не в состоянии ее вынести.
Дети упоминали о болезни моей матери только в выражениях, которые должны были до предела закалить нашу с сестрой психику и раскрыть нам глаза на суровую правду жизни. Мне говорили, что моя мать полностью ку-ку, что она спятила и съехала с катушек. Что у нее не все дома. Что ее засунули в психушку, в дурдом, в «Марриотт» для сумасшедших, в «Ха-ха Отель».
Несколько раз меня сильно отлупили за то, что я дралась с теми, кто позволял себе подобные высказывания. Отец посоветовал мне кусать этих детей, чтобы они не смогли победить меня в драке. Он понимал, что если я буду молча слушать то, что они говорят, это неизбежно приведет к тому, что меня будут еще больше чморить.
– А ты их зубками, дорогая, – так буквально выразился он. Даже в случае, если меня после этого все-таки побьют, на коже обидчика на память останутся следы моих зубов. В то лето я восемь раз кусала детей так сильно, что шла кровь. Но после того, как я укусила в плечо Рики Картера, за мной закрепилась репутация самого опасного ребенка в округе.
Краснолицему Рики было двенадцать лет. Он не мог допустить, чтобы его побил ребенок младше его. У него на глазах выступили слезы, и он набросился на Лишу. Несмотря на то что Рики был старше и выше Лиши, с сестрой не стоило связываться. Когда она заходила в аптеку за мороженым, какая-нибудь деревенщина обязательно показывала на нее пальцем и с уважением говорила: «Это дочь Пита Карра», и после этих слов присутствующие приподнимали бровь.
Лиша быстро повалила Рики, но его младший брат Филипп подбежал к ней сзади и со всей дури огрел ее бейсбольной битой между лопаток, после чего она потеряла сознание. Послышался удар дерева о спинной хребет, и все дети бросились врассыпную. Прошло несколько минут до того, как глаза Лиши открылись и ее лицо снова порозовело.
Следующим утром я рано встала, достала с верхней книжной полки мелкокалиберное ружье и отправилась на резню, которая на несколько лет предвосхитила убийства, совершенные Чарльзом Уитманом (тем, кто убил тринадцать человек с башни в Техасском университете). Я засунула консервную банку тамале и термос с чаем в бумажный пакет. Пока все остальные дети смотрели мультики по ТВ и завтракали в пижамах, я незаметно прокралась через поросшее ежевикой поле за нашим двором к раскидистому дереву персидской сирени, забралась на него и стала ждать появления отпрысков Картеров. Я слышала, как они говорили своей матери о том, что этим утром пойдут за ягодами для пирога.
Ждать пришлось недолго. Солнце из розового стало белым, и в поле моего зрения появился клан Картеров. На вылазку за ягодами их вел отец, за ним шли дети, в руках у каждого было ведерко. Я подняла ружье и нацелилась Рики между глаз. Я не забыла о том, что отец учил меня медленно спускать курок. Раздался выстрел, и Рики схватился за шею, словно его укусила оса.
Потом я несколько раз промахнулась. Мистер Картер по звуку выстрелов понял, где я нахожусь, и потом заметил меня в кроне дерева, откуда я видела красную дырку в шее Рики. Мистер Картер выкрикнул мое имя и спросил, стреляю ли я в его детей. Но точно так же, как и Братец Кролик, я затаилась. Потом мистер Картер спросил, есть ли у меня оружие, а его дети бросились назад к дому так, что пятки сверкали. Сначала побежал малыш Картер, за ним Филипп, а потом его сестра Ширли. Рики подбоченился, делая вид, что ужасно рассержен, и отошел, чтобы пропустить вперед отца. «Ах ты, трус», – подумала я, словно желание того, чтобы в него не попали, было доказательством его недостаточной мужественности. Мистер Картер заорал, что я могу из мелкашки человеку глаз выбить, и тут я ответила ему словами, по поводу которых старые домохозяйки Личфилда все еще цокают языком: «Вылижи меня так, что мне и не снилось»[39]. Если честно, я и понятия не имела, что это значит. Я запомнила эту фразу как один из возможных вариантов передачи той же мысли, что и в выражении «Поцелуй меня в задницу», которое тогда не хотела говорить из-за того, что слишком часто его использовала.
Потом кто-то позвонил и наябедничал отцу, который отстегал меня самодельным бабушкиным арапником, что уже само по себе было сильным ударом по моему самолюбию. Возможно, я плакала, точно не помню.
На следующий день я решила пикетировать территорию около дома Картеров, предлагая соседским ребята не играть с детьми из этой семьи. Специально для этой акции я написала нам с Лишей по плакату мамиными масляными красками. На моем плакате было выведено просто и понятно: «Долой Картеров!», а на плакате Лиши: «Картеры дерутся нечестно».
Лиша отговорила меня от проведения пикета. За то, что я «отстреливала» Картеров, ребята перестали плохо отзываться о моей матери. Борьба с Картерами меня немного встряхнула, потому что без нее я бы неизбежно заскучала и чувствовала себя одинокой.
У отца была одна история, рассказанная на встрече «клуба лжецов», о том, как жестоко била его мать. Он гордился тем, что выдерживал ее наказания.
– Моя старуха лупила меня по заднице так же больно, как и отец.
Мы с отцом и другими членами «клуба» ощипываем уток. Девять часов утра. Я вынимаю внутренности из маленького чирка, а отец ощипывает большого и единственного за этот день канадского гуся. Одним захватом ладони он словно дорогу расчищает на теле гуся.
– У матери была задница твердая, как бревно, – говорит отец, и я понимаю, что в его устах это звучит, как серьезный комплимент. На его родине люди валили лес, а потом везли его на телегах, запряженных мулами. Когда едешь в телеге и сидишь на бревне, то и задница становится твердой, как пенек.
Мы остановились в небольшом домишке Кутера, чтобы ощипать добычу и позавтракать. Его домик находится в болоте Чипик на другой стороне реки в Луизиане.
– Сколько яиц сделать? – спрашивает Бен. Все отвечают, что хотят по три. Бен кидает большой кусок масла на черную сковородку.
– Она била меня и за ложь, – говорит отец. – Ох, как била.
Шаг заявляет, что не представляет себе, чтобы отец мог соврать. Он режет уток на части и заворачивает куски в бумагу, чтобы мы могли их положить в переносной холодильник и довезти до дома.
Отец поворачивается к Шагу.
– Последний раз она отлупила меня как раз за вранье. Я тогда был уже не в том возрасте, когда детей бьют. У меня тогда были во какие руки. – Отец смотрит в раковину, в которой лежат тушки уток и перья, словно из нее поднимется дух его матери.
Он ждет, пока все снова внимательно не начнут его слушать.
– Тогда в августе прошел ураган, после которого в реке Нечес воды прибавилось на много миллионов литров. И каким высоким стал уровень воды, спросите вы меня? – Он переводит взгляд с одного слушателя на другого, чтобы они осознали, как высоко поднялся уровень воды в реке. – Бог ты мой, поверьте, что очень высоко поднялся.
Все молчат. Слышны только звук шкворчащего на сковородке масла и шуршание бумаги в руках Шага. При слове «ураган» я вспоминаю Орандж-Бридж и то, как машина неслась сквозь стену дождя. Я трясу головой, чтобы стряхнуть эти воспоминания и вернуться в настоящее время.
– Я помню тот ураган, – говорит Кутер. В его голосе слышно возбуждение от того, что он, таким образом, является своего рода частью рассказа отца.
– Кутер, ты бы и сейчас после того урагана трясся как осиновый лист, – говорит Бен, – если бы вообще живым остался. – Он придавливает лопаточкой яйца на сковородке, чтобы они хорошо прожарились. Если заказываешь такую яичницу в кафе для дальнобойщиков, надо говорить: «Наступи на них и жарь».
– Нет, почему, я помню такие сильные ураганы, – отвечает Кутер.
– Блин, да мы все помним такие ураганы, – говорит Шаг, который уже устал от того, что все дни во время охоты Кутер его третировал: «Шаг, возьми это. Шаг, принеси то. Шаг, ты слишком рано выстрелил. Черт подери, Шаг, я же хотел эти бисквиты на потом оставить». Все присутствующие понимают, что если бы в комнате не было чернокожего, то Кутер бы свободно использовал слово «ниггер». Все, конечно, пытаются держать Кутера в рамках, но никто не скажет ему в лоб: «Перестань наезжать на Шага за то, что он чернокожий». Иногда мне кажется, что все мы вообще не должны обращать внимания на то, что Шаг – чернокожий и вспоминать это было бы проявлением дурных манер. Тем не менее ежу понятно, что Шаг – чернокожий. И обычно люди за словом в карман не лезут и всегда говорят о том, что тот или иной человек чем-то отличается. Поэтому я не очень понимаю молчание, которым все обходят вопрос цвета кожи Шага.
Голос отца отвлекает меня от этих мыслей.
– Ну, в общем, мать сказала мне с Эй Ди, чтобы мы в реку не заходили. «Держитесь подальше от реки, мальчики. В этой реке можно утонуть». Мы сказали, что не будем в реку залезать. Но Эй Ди на меня так посмотрел, что я сразу понял, что мы думали об одном и том же.
– Тогда мы с Эй Ди сели у окна и стали громко так говорить, чтобы она нас услышала. Мы говорили о том, что надо сходить на лесопилку и посмотреть, нужна ли отцу помощь. Мы пошли по дороге в лесу, и когда дошли до развилки, – тут папа раздвигает пальцы на руке, словно показывая эту развилку, – мы побежали в сторону реки. Мы прекрасно знали, что все пацаны будут там у воды. Мы пришли к реке, разделись и занырнули в воду, как нож в сливочное масло.
Отец заканчивает ощипывать гуся, передает его мне, чтобы я его потрошила, а сам берет в руки дикую утку. Голова утки ярко-зеленого цвета. Когда Бен чуть раньше держал в руках всех диких уток, которых мы настреляли, казалось, что он держит в своей большой красной руке букет цветов. Если бы не открытые черные глаза птиц, можно было бы подумать, что они живые.
– И ты тогда был со своим старшим братом? – спрашивает Кутер.
– Да не важно, с кем он тогда был, Кутер, – говорит Шаг. – Черт подери, ты самый любопытный сукин сын, которого я видел в этой жизни.
Кутер резко поворачивается и смотрит на Шага. Иногда Кутер так по-птичьи крутит головой, что мне кажется, что он вот-вот взлетит и начнет клевать зерно.
– Это имеет значение, потому что я хочу это знать, – отвечает он.
Отец поглаживает утку, словно она бейсбольная бита, которой он сейчас замахнется.
– Богом клянусь, что если вы оба не заткнетесь, я вам устрою, – предупреждает он.
– Это он все начал, – оправдывается Кутер.
Бен говорит, чтобы все успокоились. Он стоит около плиты и подкладывает в сковородку большой кусок масла.
Отец несколько раз похлопывает по утке, чтобы привлечь к себе внимание слушателей.
– Возвращаемся мы через лес вечером домой, а на встречу нам маман. Она в фартуке, чтобы юбкой репейников не набрать. Ну а на голове у нее синий чепчик. – Отец растопыривает ладони над головой, как бы демонстрируя этот чепчик. – Солнце садится на западе, то есть справа от нее. Она отрезала себе огромную палку, и вид у нее такой, что она нас бить собирается. Я шепчу Эй Ди, что, мол, мы в реку не входили. Так, на берегу постояли, и все. Тот кивает мне в ответ. Она к нам подходит и спрашивает: «Джей Пи, ты купался в реке?» «Нет, мам, – говорю я, – мы только смотрели, как другие ребята купаются». Потом она концом палки стучит по плечу Эй Ди. Легонько так, чтобы привлечь его внимание. «Эй Ди, – спрашивает она, – а ты в реке купался?» «Да, мам. Я купался и он со мной тоже», – отвечает он. Я стою и думаю: «Ах ты, сукин сын».
Я вижу, что Бен вынимает из духовки поднос с бисквитами. Потом он берет открывалку и пробивает две дырки в банке с сиропом из сахарного тростника. Я люблю пальцем сделать в бисквите дырку, а потом залить туда сиропа так, чтобы, когда кусаешь, сироп выдавливался по краям бисквита. Я все еще думаю о сладком бисквите, как отец продолжает свой рассказ.
– И скажу вам, ребята, тогда моя маман была не выше Мэри Марлен. – Он показывает на меня большим пальцем, чтобы показать, какой мелкой была его мать. Я не реагирую на его слова, а потрошу гуся. – Может, она тогда килограммов сорок пять весила вместе с одеждой. В общем, отвела она нас на закрытую москитной сеткой веранду за домом, на которой мы летом спали, и начала лупить брата так, словно хотела его убить. Словно хотела палкой до костей его достать. Каждый раз, когда мы с братом друг на друга смотрели, я ржал, как лошадь. Я решил, что мать на нем выдохнется, и мне меньше тумаков достанется.
– Меня с братом отец именно так и бил. По очереди лупил нас, – говорит Шаг.
– Вот не перебивай! – восклицает Кутер и бьет ладонью по столу. – Че он все перебивает, а? – На шее Кутера резко проступают вены. Бен говорит ему, чтобы тот достал тарелки и перестал ныть. Отец бросает утку в раковину, словно он устал от собственных воспоминаний о том, как его наказали. На него наваливается тяжесть воспоминаний о том дне. Его плечи опускаются, голова никнет. Морщины на лице становятся глубже. Он смотрит куда-то в середину комнаты, словно там мать его бьет, для того чтобы рассказать о том, что видит, своим приятелям.
– Она рассекла на мне мою рубашку за четыре удара. – Он сутулится, словно от ударов. – Меня много чем били, когда я был мелким. Меня били носком, в котором была «колбаска» из пятицентовых монет, меня били железом и самым разным дубьем. Но моя мать, которая размером была с пигалицу, умела бить меня так, что спина горела от шеи до задницы. Она била и с каждым ударом приговаривала: «Никогда – мне – не – лги – никогда – мне – не – лги!»
Я пару раз от нее вырывался и подбегал к двери в москитной сетке. Но от дождей деревянный пол разбух, и дверь не открывалась. Да и дверной косяк тоже разбух от воды, поэтому дверь я так и не открыл. Я не мог никуда убежать. Только и слышишь свист палки, а потом чувствуешь удар. Такое ощущение, словно я был деревом, которое она хотела срубить. Я думал, что если упаду, то уже не встану. Богом клянусь. Так вы думаете, что мать устала, лупя Эй Ди? – Он обводит взглядом слушателей, потом выдирает несколько перьев из утки. – Черт подери, она на нем только разминалась.
Как только Бен мне подмигнет, я схвачу бисквит и засуну его в рот.
– Родителям не нравилось, когда я от порки убегал, – вспоминает Бен, раскладывая яичницу по тарелкам. – У меня бабушка этого просто не терпела. Поэтому убегать было бессмысленно, только растягивать все это «удовольствие».
Я во время порки часто убегаю, и мне приятно услышать, что отец в свое время поступал точно так же. Только идиот стоит и ждет, пока его отлупят.
– Я в конце концов выскочил, пробив москитную сетку, – продолжает отец. – В сетке появилась дырка, прямо как мой силуэт. – Шаг подмигивает мне, давая понять, что вот это уж слишком и тут папа загнул. Шаг всегда дает мне понять, насколько правдивым является то, что говорит отец.
Отец кладет утку в раковину, распрямляет плечи и широко улыбается, словно сейчас начнется самая интересная часть истории.
– В общем, Эй Ди досталось по полной. Это уж точно.
– Но ведь дядя Эй Ди гораздо больше тебя? – интересуюсь я. Меня всегда интересовало, почему я такая худая. Видимо, в отца пошла. Дядя Эй Ди – просто форменный громила и сильный, как бык. На семейных фотографиях он всегда стоит рядом с отцом и немного косит глазами.
– Дело далеко не только в размере и весе, дорогая, – отвечает папа. – Здесь еще есть масса других критериев. Если человек больше, значит, у него и задница больше, ты об этом тоже не забывай.
– Ну, значит, иду я за сарай, – продолжает отец. – Смотрю, там Эй Ди притаился. Я говорю ему: «Эй, брат, – голос отца становится ласковым и вкрадчивым, – я так понимаю, что тебе серьезно влетело». И потом говорю ему, что у меня есть мазь, которая может снять боль. Ну, Эй Ди наклоняется и задирает на себе рубаху, которая прилипла к ранам. Он от боли воздух сквозь зубы засасывает так, что слышно. Снимает рубаху с плеч и спрашивает, как его отделали. Я говорю ему: «Ах ты, бедняга». Я знаю, каково ему, потому что и меня точно так же отделали. Я прошу его рубашку повыше задрать, мол, не хочу ее мазью измазать. Он наклоняется, руки в рукавах вниз опустил и так стоит. Тут я и выливаю ему на спину мазь для лошадей на основе скипидара. Мать делала эту мазь из смолы. Получалась черно-коричневого цвета. Я держал его одной рукой, чтобы он не вырывался, и ладонью ему спину мазал.
Шаг перестает завертывать в бумагу куски птицы. Потом наклоняет голову и говорит, что его мать тоже варила такую мазь для лошадей из смолы. Шаг вырос в лесах, точно так же, как и отец.
– Она варила мазь на основе сосновой смолы, это я точно помню. Может, добавляла туда всяких горьких трав.
Мама Шага знала мать отца. Обе женщины были большими специалистами в народной медицине. Отец и Шаг обсуждают своих матерей и вспоминают некоторые рецепты. Тогда на их лицах появляется такая нежность, что у меня слезы на глаза наворачиваются. От их разговоров мне хочется познакомиться с этими женщинами, которых я никогда не знала.
Отец отвечает, что рецепт сходится. Начинает мыть руки. На его лице улыбка. То, что Шаг подтверждает, что такое средство существует, говорит о том, что то, что рассказывает папа, – чистая правда. Но на лице Шага появляется задумчивая морщина, и он говорит, что эту мазь ни снять с кожи, ни тем более вытереть с раны. На что отец отвечает, что в этом-то и вся суть – заклеймить дядю Эй Ди до костей за то, что он его вломил.
Я задумываюсь. Я слышу, какие вещи о себе рассказывает отец, и замечаю, как люди отходят, когда он вразвалочку подходит к бильярдному столу, но при этом он обращается со мной так, словно я сделана из стекла. Даже то, что он меня бьет очень мягко, можно сказать, чисто символически. Когда сегодня утром до выхода на охоту было прохладно, он разогрел мне носки у газовой горелки. Отец покупает мне все, что бы я ни попросила, смеется над моими шутками и говорит, что любит меня по пятьдесят раз на дню. Я неоднократно видела, как он дерется, но ни разу не замечала за ним подлости, которую он часто себе приписывает в рассказах для приятелей в «клубе лжецов». Я смотрю, как он синей пластиковой щеточкой вычищает кровь и грязь из-под ногтей, и размышляю. Он смеялся над тем, что сделал с дядей Эй Ди. Он вытирает руки о полотенце.
– Я ушел, а Эй Ди остался извиваться на земле. Все пытался счесать с себя эту дрянь.
Бен вытряхивает противень над тарелкой, и бисквиты легко и непринужденно падают в нее. Он кивает мне, и я тут же хватаю один из них и начинаю перебрасывать горячий бисквит из одной ладони в другую. Потом бросаю его на стол и дую, чтобы охладить. Когда я поднимаю глаза, то вижу, что и у Бена озабоченный вид, словно он все еще думает о боли, которая была заложена в эту историю.
Может быть, папина наигранная «подлость» мешала мне слишком подробно расспрашивать о матери в больнице. Эта тема была окружена стеной молчания, которую я не должна была пересечь.
Однажды мы с папой возвращались домой в его ярко-зеленом пикапе. Я вспомнила ночь, когда мама устроила аутодафе. Помню, как доктор Бордо с его усами-гусеницами спрашивал меня о том, где у меня побои. Я знала, что доктор направил маму в психиатрическую лечебницу, и спросила отца, что это за место и можно ли проведать маму. Папа ответил, что туда детей не пускают, чтобы несумасшедшие их не напугали. Он отвернулся от меня, встряхнул пачкой «Кэмела» и засунул в нее зажигалку. Было понятно, что отец не хочет говорить на эту тему. Вскоре я забыла об этом разговоре. Несколько дней спустя мы ехали из драйв-ин ресторана «Фарм Ройал», в котором официантка облокачивалась о дверь машины со стороны отца, пока я попивала свою колу. Папа успел выпить три пива, когда я подумала: «Может быть, пиво поможет развязать язык», и спросила его о том, не боится ли он сам, когда навещает маму. Отец ответил, что сумасшедшие, которые там живут, совсем неагрессивные, они в очень плохом настроении. По словам отца, пациенты много играют в настольные игры и не очень часто двигают свои фишки.
Эта деталь жизни в больнице, а именно неторопливое передвигание фишек, помогло мне прекрасно представить, что такое больница. Совершенно неожиданно я почувствовала ярость, которую долго скрывала. Я сказала отцу, что мне не хочется, чтобы мать возвращалась домой, если она начнет сходить с ума от того, что мы не прибрались в комнате.
И тут отец сделал то, что, на мой взгляд, помогло мне понять, какой у него характер. Он круто повернул руль, съехал с дороги на обочину из гравия и резко ударил по тормозам. Он сказал, что если я буду продолжать говорить так о собственной матери, то он отлупит меня по лицу. Я вся покраснела от того, что это может произойти, но ничего не возразила. Потом отец включил первую скорость, и мы поехали.
В конечном счете отец отвез нас в больницу, которая была расположена в низком кирпичном здании посреди пустого поля, где от прямого солнца не было ни травинки тени. Мы не зашли внутрь здания, а стояли снаружи. Когда мы подошли к окну, мама уже стояла у стекла, закрытого москитной сеткой. На матери был халат с ярким тропическим узором. Отец поднял меня за талию, чтобы мне было лучше видно и я могла быть на уровне матери. Даже так я все равно носом доставала только до подоконника. Мать приложила ладонь к сетке. Ее рука была очень белой, и я приложила ладонь с другой стороны, стараясь охватить как можно больше площади маминой руки. Москитная сетка немного согнулась, и наши ладони соприкоснулись. Ее лицо было в тени, и я его плохо видела. Мама плакала и говорила, что ей нас не хватает. Она вытирала лицо салфетками «Клинекс» и хлюпала носом.
Потом я сказала фразу, после которой Лиша моментально ущипнула бы меня за коленку.
– Мне очень жаль, что тебя заперли, – сказала я, и мать рассмеялась.
– Блин, дорогая, – ответила мать, – ты тоже заперта, только в доме побольше.
Как только она произнесла эти слова, из угла комнаты раздался дружный смех, от которого у меня мурашки побежали по коже. Я всмотрелась в сторону, откуда доносился этот звук, и смутно различила группу женщин в синих халатах, сидящих за круглым столом в низко висящем огромном облаке сигаретного дыма. Я поняла, что это другие сумасшедшие. Но это меня нисколько не испугало, я лишь только расстроилась из-за того, что они весь день проводят с матерью. Они вместе едят, играют в карты, а меня тут держали под окном и я ее очень плохо видела. Отец спустил меня на землю, и я сказала: «Я тебя люблю» – и шмыгнула носом. Мама тоже сказала, что любит меня, и постепенно исчезла из виду.
Лиша была выше меня, поэтому больше увидела, когда отец ее поднял. Он скрепил пальцы на обеих руках и подсадил ее так, что она поднялась на всю высоту окна. Потом мама с Лишей начали секретничать и говорить шепотом. Мне пришлось приподняться на цыпочках и заглядывать в комнату, как бандиту. Лицо сестры было прямо напротив маминого. Я не услышала ни слова из того, о чем они говорили. У них от меня всегда были секреты. В те дни, когда Лиша делала матери мартини и меняла пластинки, когда я заходила к ним в комнату, они замолкали. Кроме этого у Лиши была ужасная привычка отгонять меня рукой, когда они так секретничали, будто я назойливая муха, от которой надо избавиться. У Лиши с мамой был свой невидимый канал коммуникации и понимания, в то время как меня с папой оттеснили в наш отдельный угол скучного бытия, к которому мама не хотела иметь никакого отношения.
Как бы там ни было, в тот день в больнице, когда за матерью появилась одетая в белое медсестра и стала говорить, что пора прощаться, Лиша наклонилась для прощального поцелуя. Она прижалась губами к мелкой сетке. Мне так и хотелось шлепнуть ее по попе в обрезанных «Ливайз», когда я увидела, что ее губы соприкасаются с губами матери.
Когда отец отъезжал от здания, мать в своем тропическом одеянии появилась в другом окне. Она положила ладонь на сетку. Это был единственный раз за месяц, когда мы видели мать.
В ту ночь я впервые за несколько недель нормально заснула. И в ту ночь мне приснился странный сон, который словно проецировался в 3D-изображении на экране моего мозга. В этом сне отец рубил на части какое-то большое мертвое животное на деревянном кухонном столе. Я шла в его сторону через гостиную и наблюдала за ним через неправильной формы окошко между двумя комнатами. Майка отца была забрызгана кровью. Вены на руках вздулись от тяжелой работы. В какой-то момент сна он высоко поднял топор мясника и сильно рубанул. Я услышала, как тесак прорубает через кость и достает до дерева стола. Отец заметил меня и сказал, что занят. «Иди в кровать, дорогая» – так он выразился. У него в руках была часть туши животного, затем резко изменился свет, и я увидела, что отец держит обрубленную по локоть человеческую руку. На конце этой руки была ладонь матери, и на пальце сверкало бабушкино кольцо. Запястье было повернуто так, что ладонь торчала и застыла в положении, словно говоря «Стоп». Я проснулась вся в поту, в промокшей майке и с ручейками пота на лице.
Я подумала о том, что расстояние и наклон ладони во сне точно совпадали с воспоминанием о маминой руке в больнице. Но как оказалось, это была не единственная рука, которую я запомнила из того периода жизни. Еще была рука жены Багзи Хуареза. Когда она однажды утром пришла нам с заднего хода, вся ее рука была в муке. Она положила ладонь на наш мокрый стол и сказала отцу:
– Быстрее, пожалуйста, Багз застрелился.
Выстрел прогремел, когда она делала бисквитное тесто. Она сказала, что он обо всем подумал и застелил пол гаража брезентом, которым они накрывали мебель на улице. Чтобы не осталось грязи, заботливо и предусмотрительно все учел. У нее на лице была полуулыбка, если я правильно помню. Отец ей ничего не ответил, потому что набирал номер шерифа. Точно помню, что отпечаток ладони миссис Хуарез оставался на столе в течение всего дня, словно фотография привидения. Каждый раз, когда я смотрела на этот отпечаток, я вспоминала мать. Так продолжалось до ужина, пока Лиша его не вытерла.
IX. Новый папочка
Мы оказались в Колорадо совершенно случайно. Пересекали границу штата по пути в Сиэтл на Всемирную выставку[40], как вдруг мать, которая до этого тупо смотрела в окно «Импалы», закричала отцу, чтобы он остановился. Машина резко затормозила и со скрипом встала.
Я думала, что маму укачало. Их обоих в ту поездку сильно укачивало, потому что у них был «грипп Смирноффа». Мы остановились на обочине. Дорога уходила под уклоном в долину, поросшую цветами, вдалеке виднелась гора Пайкс Пик, которая мне, выросшей в болоте, казалась совершенно фантастической.
– Как странно, – подумала я, – воздух здесь такой прохладный.
В Личфилде чистое небо означало несусветную жару. Запах вечнозеленых хвойных деревьев напоминал мне запах в маминой мастерской.
Бассейн в гостинице «Холидей Инн» в Колорадо-Спрингс закрывался на закате. Весь день я «ездила по ушам» отца, что мы должны приехать в гостиницу до заката. Я сидела сзади и, расположив свой рот в пяти сантиметрах от его уха, заунывно гундосила нон-стоп о том, что если мы опоздаем и приедем после закрытия бассейна, я устрою грандиозную истерику в лобби отеля. Однако сейчас мама хотела остановиться, чтобы насладиться видом.
Я сидела на обочине и планировала истерику, которую закачу в отеле: скажу сотрудникам, что это не мой отец, а человек, который взял меня в заложники, угрожая оружием во время разбойного нападения на банк. От горного воздуха у меня кружилась голова. В небе вился орел, в клюве которого болталась мышь. Он был настолько близко, что я видела его черные глаза. Мама фотографировала орла своим «Кодаком», а Лиша, размахивая руками, распиналась о том, что одни животные являются пищей для других. Отец открыл капот, чтобы проверить уровень жидкости в радиаторе, как в это время мать попросила его задержаться в этих местах, потому что здесь такой свет, что ей хочется рисовать.
Я хотела, чтобы мы продолжали движение. Мы с сестрой развернули взятую на заправке «Эссо» карту для того, чтобы прочертить на ней маршрут. Красным маркером мы нарисовали соединяющую города пунктирную линию, которая плавной дугой шла по городам американского Запада и заканчивалась в Сиэтле. Я очень хотела попасть в расположенный на выставке магазин подарков под названием «Космическая игла», чтобы купить открытку для Пегги Фонтенот. В моем дневнике было несколько вариантов текста, который я напишу на открытке. Больше всего мне нравился этот: «Согласись, что это гораздо интереснее любых пикников нашей церковной воскресной школы».
Отец завел автомобиль, и мы снова поехали. Через некоторое время отец посмотрел на мое отражение в зеркале заднего вида, подмигнул и сказал, что ему тоже хочется продолжить путешествие. Маме не хотелось уезжать из этих мест. Она начала спорить, сначала вежливо, а потом в таких выражениях, что мы с Лишей заткнули уши. Через минуту настроение в машине кардинально изменилось. С разговора о том, остановиться нам или нет, разговор перешел на личности и на то, что каждый из родителей делает или не делает. В конце концов мать бросила в отца спичечным коробком, и тот свернул в городок, который я в этом повествовании назову Каскейд, куда мы вскоре переехали.
Мать купила дом, который непонятным образом приютился на самом верху скалы. Существующие фотографии являются тому доказательством. Казалось, что если поддеть ломом под основание дома или просто хорошенько толкнуть его плечом, то он упадет вниз на дорогу и расположенный под ним городишко.
Покупка этого дома показала, как «мудро» мать распорядилась деньгами, оставленными ей бабушкой. Уже в Техасе мы могли себе представить, что нас может ждать. Перед нашим отъездом отец поставил кондиционеры в каждой комнате. Можно сказать, что в смысле социального окружения мы переместились в высшие слои населения Личфилда. В Хьюстоне мать купила себе пальто из кожи настоящего леопарда и казацкую шапку (очень похожую на ту, которая была нарисована на водочной этикетке). Вполне вероятно, что невозможность носить леопардовое пальто в жарком климате Техаса и побудила маму на путешествие и переезд в Колорадо, хотя она это горячо отрицает.
Наше путешествие сильно испортило и без того не лучшие отношения с соседями. Отец взял отпуск на три недели. Обратно мать планировала вернуться на самолете.
– Представьте себе, на самолете, – говорила наверняка миссис Фонтенот другим соседкам.
Полный скандал, возвращаться домой без мужа. Дальняя поездка, по мнению соседок, не сулила ничего хорошего. Никто из жителей города не уезжал на запад дальше Аламо, а на восток дальше Бро Бридж – на фестиваль крабов в Луизиане. Новый Орлеан находился в четырехстах пятидесяти километрах на восток, но про этот город жители знали только из песни «Дом восходящего солнца»[41].
В тот день, когда мы выехали из города, соседские детишки вышли на улицы, чтобы пожелать нам доброй дороги. Сначала они махали нам, а потом бросали вслед целые горсти гравия. За этой сценой наблюдали стоящие на своих верандах родители детишек, которые считали, что именно так и должны провожать тех, кто уезжает из города. Наше путешествие казалось всем излишне роскошным и крайне экстравагантным, своего рода предательством родного и до слез любимого города, поэтому все воспринимали нашу поездку в штыки.
В некотором смысле новый дом на вершине горы был красивым. Никто из наших знакомых не имел второго загородного дома, за исключением старого трейлера или сарая для охоты. В нашем городе было всего одно здание, построенное семьей банкиров из Денвера, которое с натяжкой можно назвать загородным домом или дачей. Это было большое здание на огромном фундаменте, похожее на средневековый замок. Мне кажется, что оно возникло по волшебству, потому что стоило лишь ковырнуть ложкой поверхность земли, как тут же бил фонтан воды, напоминавший о том, что Личфилд построен на болоте.
Гостиная в новом доме была такой длиной и просторной, что в ней можно было играть в боулинг. Мать моментально купила низкие изогнутые оранжевые кушетки, на которых можно было валяться. В торце комнаты был огромный камин ростом приблизительно с отца. За несколько дней нанятые рабочие пробили в стенах отверстия и вставили такое количество окон, что дом стал похож на аквариум. Вместо плиты, работающей на дровах, поставили газовую плиту. В журнале Architectural Digest мать высмотрела плитку, которую приклеили в ванной прямо на деревянные стены.
На протяжении нескольких недель мы жили, как в сказке Диснея. По ночам приходил лось и терся рогами о растущую рядом с домом сосну. По утрам мы с Лишей забирались в кровати родителей (теперь у них были отдельные кровати) и наблюдали за медведями, копающимися в стоявшем на улице мусорном бачке. Мать заклеила выходившее на мусорный бачок окно скотчем в виде креста, вероятно, для того, чтобы медведи в округе могли точно найти место, где можно поесть.
Рано утром я сидела в папиной двуспальной кровати. Из-под одеяла высовывались его ступни, кожа на которых была словно дубленой. Я не хотела прикасаться к ним и страдала из-за того, что меня сослали в папину кровать. Сестра в это время нежилась с матерью.
Я была мокрым и немытым ребенком и неоднократно пыталась залезать в кровать к маме, но каждый раз, когда я обнимала ее за шею, та говорила, что ей жарко, и высвобождалась из моих объятий.
Однажды утром мы услышали, как к нашему дому приближаются медведи. Сквозь сосны мы заметили огромную и мохнатую медведицу. Как только я ее заметила, по спине пробежали мурашки. Я немного расслабилась только тогда, когда в поле зрения появились двое медвежат.
Звук падающего мусорного бачка разбудил отца, который с криком вскочил с кровати. Он спросонья принял зверя за грабителя. Я не успела остановить отца, как он бросился к заклеенному окну и начал в него колотить кулаками. Мы с Лишей смотрели на происходящее, разинув рты. Мать пару раз пыталась остановить отца, но безрезультатно. Он продолжать молотить кулаками стекло, кричал медведице, чтобы она проваливала ко всем чертям, так громко, что медвежата, разбросав очистки дыни, спрятались за матерью.
Медведице не понравилось поведение отца, она встала на задние лапы, поднялась во весь рост и грозно двинулась к окну, за которым он стоял. На протяжении нескольких секунд отец и медведица стояли в метре друг от друга, от дыхания медведицы на стекле появился туман конденсации. Я спряталась под одеяло и молила Бога о том, чтобы он вернул нас в Личфилд, в котором живут только пауки и змеи.
Отец, наконец, окончательно проснулся, понял, что с ним происходит, и попятился от окна. Он дошел до кровати и сел. Вид у него был удивленный. Медведица зарычала и показала свои лакированные когти. Мы сидели, затаив дыхание. Потом она развернулась, встала на четыре лапы и пошла в сторону гор. Медвежата побежали следом.
В этих краях можно было за семь долларов в день взять лошадь. Мама всегда перемещалась исключительно на автомобиле, в котором был кондиционер. Но несмотря на это, однажды она вошла в конюшню молодого ковбоя по имени Рик МакБрайд, который в тот момент чинил уздечку. Мать была в своем пальто из леопарда. Она захлопнула за собой дверь стойла, что вызвало бурный энтузиазм и дружное улюлюканье собравшихся во дворе ковбоев. Мама вышла и сказала нам, что договорилась с владельцем ранчо о покупке двух лошадей: одной поменьше, коричневой в яблоках по имени «Достаточно большая»[42], для меня и покрупнее и порезвее по кличке «Еще бы»[43] для сестры.
Если во времени, проведенном в Колорадо, и была какая-либо радость, то связана она была главным образом с этими лошадьми. Мать боялась лошадей и на них не садилась. На фотографиях тех времен я выгляжу, как кукла, сидящая на спине лошади. В моей памяти сохранились воспоминания о том, что в седле я чувствовала себя уверенно – было достаточно легкого давления коленом, чтобы лошадь шла туда, куда мне нужно. Мои короткие ноги были расставлены в стороны из-за округлости лошадиного крупа и не доставали до стремян, стремена приходилось насколько возможно поднимать ближе к седлу, чтобы я могла в них попасть ступнями.
С первого утреннего вдоха запахов стойла – грязи, навоза и соломы, запах которой напоминает запах пива, – я до вечера словно пьянела. Если мистер МакБрайд работал где-то поблизости, я слышала звук ударов, которыми он отбивает подкову молотком о наковальню, или шарканье напильника. Если ковбоя поблизости не оказывалось, я слышала животных – как спящий мерин переступает с ноги на ногу или пони ищет носом в пустой кормушке. Мы с Лишей быстро поняли, что не имеет смысла понтоваться в ковбойских сапогах, и перешли на кеды, которые затягивало грязью при каждом шаге. Я была маленького роста, поэтому мне приходилось забираться на пару жердей ограды, после чего пересаживаться на спину лошади. Прежде чем выехать из стойла, я несколько минут расчесывала лошади гриву.
Сначала я ездила без седла, но потом поняла, что лошадь надо оседлывать не только для удобства, но и для того, чтобы показать всем, что ты умеешь на ней ездить. Вполне вероятно, умение надеть на лошадь седло стало первым серьезным делом, которому я научилась за всю свою предшествующую этим событиям жизнь. Я расстилала на спине лошади мексиканское одеяло, на которое водружала седло. На самом деле для этой операции мне требовалась помощь Лиши. Мы приносили два стула, ставили их по бокам животного. Потом раскачивали седло и на счет «три-четыре» закидывали его на спину лошади. Закидывать седло надо было аккуратно и точно, потому что, если мы промахивались, оно падало в пыль на землю. Потом нужно было присоединить к седлу левое стремя, после чего завязывать подпругу под лошадиным животом. Моя лошадь научилась надувать живот, чтобы туристы, которым ее сдавали, не могли застегнуть подпругу, поэтому предварительно надо было несколько раз хлопнуть ее по животу, чтобы она его сдула. В общем, мы с сестрой оседлывали лошадь так, что проезжающие поблизости ковбои засматривались на нас. После того как лошадь сдула живот, надо было просунуть и затянуть подпругу узлом на небольшом кольце, расположенном на боку седла. Мистер МакБрайд или его жена Полли всегда проверяли, как хорошо затянута подпруга и сколько пальцев под нее можно просунуть. Они подтягивали подпругу, и только после этого мы могли отправляться в путь.
В самом конце, только после десятков неудавшихся попыток мне удалось научиться надевать уздечку. Долго за меня уздечку надевал кто-нибудь из семьи МакБрайдов. В конце концов я поняла, как заставить лошадь открыть рот. Для этого надо было достать кусочек сахара и положить для лошади на вытянутую руку. Я помню рот лошади, который был одновременно черно-мягким и колючим от щетины на морде. Изо рта пахло клевером. Я просовывала удила и застегивала ремешок, после чего можно было отправляться в горы.
Я ощущала новое для себя чувство доверия к животному. Возможно, поэтому я оказалась неплохой наездницей. У меня хорошее врожденное чувство баланса, и я тогда была до глупости храброй. Я до сих пор храню красную ленточку, которую выиграла, участвуя в лошадиных скачках.
На протяжении всего лета моя лошадь ни разу меня не сбросила, несмотря на то что она оказалась достаточно пугливой и пятилась, завидев переходящего дорогу бурундука или дикую косулю. Я стала более внимательной – при виде любой опасности я крепко хваталась за луку седла.
Мы с Лишей ездили на лошадях каждый день и, оглядываясь назад, я понимаю, что мы вели себя очень опрометчиво. У нас не было ни карты, ни компаса. Мы полагались на то, что лошади сами найдут дорогу к стойлу, где их кормят. В этих местах природа, ландшафт и небо очень отличались от тех, к которым я привыкла в Техасе. Здесь были широкие луга и каменистые тропы, по которым наши лошади аккуратно ступали, словно балерины на пуантах.
Мы нашли пещеру с узким входом, который постепенно расширялся, и попадали в огромное, похожее на церковь, пространство из красного камня.
Однажды мы развели в пещере костер из сосновых веток. Странные звуки, раздававшиеся с потолка пещеры оказались пищанием летучих мышей. Их глаза были красными, как у нутрий. Мы, как можно тише ступая, вышли из пещеры, словно пара индейцев, за духами которых мы охотились.
Помню, мы привязали лошадей около покинутой шахты. Внутрь шахты вели рельсы узкоколейки для вагонеток. Там мы нашли целую кучу «золота дураков» – минерала, похожего на золото, и резиновую покрышку от велосипеда, которую я приняла за змеиную кожу. Во время поездок мы останавливались около водопадов и чистейших горных ручьев, которые оказались слишком холодными, чтобы в них плавать, но в которые можно было заходить по щиколотку. В ручьях прыгала радужная форель, и эту воду можно было пить, зачерпнув горстью и стоя в мелком, но обжигающе холодном потоке.
Однажды во время конной прогулки с нами произошел неприятный случай. Мы остановились в каменном ущелье, отпустили лошадей, а сами смотрели на стадо диких коз. Неожиданно наши лошади перестали есть, вытянули шеи и навострили уши. Словно они почувствовали приближение беды. Потом моя лошадь прижала уши, а лошадь Лиши начала пятиться. На небе появилась черная туча, и посыпался град размером с бейсбольный мяч.
Мы решили переждать град под деревьями. Лиша научила меня считать секунды после вспышки молнии и грома, чтобы понять, как близко от нас идет эпицентр грозы. Временные интервалы между вспышками и громом становились все короче, и Лиша сказала, что если гроза движется с такой скоростью, то скоро она будет совсем над нами, и потом она быстро пройдет. Но когда белая молния ударила в большое мертвое дерево, под которым мы могли спрятаться, мы бросили поводья, кинулись на землю и закрыли головы руками. Вырвавшиеся лошади убежали вниз.
Когда мы добрались до стойл и конюшни, мистер МакБрайд спросил нас: «Представьте, что бы с вами могло произойти?» и рассказал, что рыси затаскивали добычу выше линии и высоты, на которой растет лес, и пропавших обычно находили по кружащим в воздухе стервятникам.
Однажды Лише дали покататься на жеребце, и мы стали без седел соревноваться с другими детьми. В тот день жеребец Лиши испугался внезапно выскочившей змеи, встал на дыбы и упал, привалив сестру, сломав ей ключицу. Место разлома кости было видно под кожей. Но когда мы нашли маму в ковбойском баре со стаканом водки, она предложила сестре детский аспирин из своей сумочки. Мать сказала, что кость уже не поправишь, поэтому мы можем расслабиться и выпить кока-колу со вкусом черешни. Я помню, какое выражение появилось на бледном лице Лиши, когда она поняла, что никто не собирается заниматься ее переломом.
Симпатичный бармен по имени Гектор сделал Лише перевязь через шею из полотенца. Это полотенце пахло джином, на нем были следы пролитых разноцветных ликеров. В то время мы перестали пристально следить за тем, чем занимаются родители. Мы практически не видели их вместе. Отец иногда проводил время в стойле, пил кофе с мистером МакБрайдом, который уважал отца за то, что тот умеет узнать возраст лошади по ее зубам, может угадать вес жеребца с точностью до десяти килограммов, а также сказать, сколько людей потребуется, чтобы кастрировать того или иного жеребца. Отец занимался лошадьми в молодости, и за это его ковбои уважали. МакБрайд даже одолжил отцу свою собственную лошадь породы аппалуза[44] для того, чтобы он мог съездить в горы вместе со мной и Лишей.
Во время той поездки мы остановились у сельского магазина, там отец купил банку икры лосося и арендовал спиннинги для ловли на блесну.
Оказалось, что у меня получается ловить рыбу гораздо лучше, чем у Лиши. Это был единственный вид спорта, в котором мне удалось побить сестру. В тот день я зашла в воду с холщовой сумкой на шее, которая быстро наполнилась серебристой форелью. Сумка стала настолько тяжелой, что я не могла ее нести. Я вышла на берег и оставила ее Лише. Последняя рыба, которую я в тот день поймала, оказалась самой большой и весила два с половиной килограмма.
Это была форель, похожая на древнее произведение китайского искусства. Ее чешуя была настолько ровной и идеальной, что казалось, будто ее сделал ювелир.
Вид у сестры еще долго оставался недовольным.
В тот вечер отец развел костер за нашим домом. Мы сидели на корточках и подкладывали хворост в огонь. Когда костер разгорелся, отец обвалял рыбу в хлебных крошках и обжарил на масле. После долгой прогулки верхом я была голодной как волк. Над нами были кроны вечнозеленых сосен, между которыми светились звезды. От огня к небу взлетали искры. Мы ели руками. Жареная форель была хрустящей и обжигающе горячей. Чтобы остудить кусочек рыбы, нужно было зажать его между зубами и громко втягивать в себя воздух. Лиша заметила, что я издаю звуки, словно мул, на морду которого надета торба с кормом.
– Уж кто бы говорил, а ты бы помалкивала. Обе хороши.
Эти слова разрядили обстановку, и все плохие чувства, которые могли быть между нами, улетели с дымом в звездное небо.
Самой последней отец приготовил большую рыбу, которую я поймала. Он разрезал ее вдоль хребта на половинки, чтобы она поместилась на сковородке. Рыба оказалась нежной и мясистой. Мы с Лишей ели, а отец тем временем выложил на сковородку ломтики картофеля и нарезанный лук.
Отец смотрел на огонь, думая о чем-то своем. Я вспомнила, что читала в подаренной бабушкой энциклопедии, что Скалистые горы образовались из миллиардов тонн камней, которые принесли ледники. Я представила себе, как огромный ледник ползет по тому месту, где мы сейчас сидим.
«Может быть, тот камень, на который отец ставит сковородку, бросил сюда сам Господь Бог», – подумала я.
Потом отец сказал нам, чтобы мы сидели тихо, и в свете почти полной луны мы увидели вдалеке на опушке лося с огромными рогами. Голова лося была повернута к нам в профиль, и животное что-то жевало. Через некоторое время поблизости раздались крики и мяуканье рыси, от которого я испугалась и спрятала голову отцу под мышку. Он рассмеялся и сказал, что никто меня не тронет. И я ему поверила.
После того как мы поели, отец подбросил в костер дров и прилег на свою джинсовую куртку, посасывая из серебряной фляжки. Мы с Лишей распрямили две железные вешалки для того, чтобы поджарить на них зефир. Мы заснули рядом с отцом на камнях. От отца пахло лошадью. Несколько раз за ту ночь мы просыпались от звука того прогорающего угля, который взметал в воздух искры. Отец поставил свою серебряную фляжку на грудь под углом, чтобы пить из нее, не проливая и не поднимая головы.
Я только могу догадываться о том, чем в тот вечер занималась мать. Возможно, она читала. То лето было для нее летом русской истории и литературы. Помню обложку одной из книг, на которой была фотография Распутина с выпученными глазами и бородой, настолько большой, что птицы могли бы свить в ней гнездо. А может, мама сидела в баре, заказывая шоты текилы. Или проводила вечер дома в кресле на веранде, глядя в темноту со стаканом водки в руке. В последнее время она часто пила в одиночестве, глядя на силуэты темных гор. Если бы я тогда была более чувствительной к ее состоянию, то смогла бы понять, что такое поведение матери не приведет ни к чему хорошему.
В день, когда родители заявили о своем разводе, мы с Лишей полдня отсутствовали дома и не знали, что происходило между отцом и матерью, когда они приняли это решение. Я всегда жалела о том, что не была тогда рядом с ними, словно я могла бы их отговорить. В тот вечер в конюшне организовали скачки по легким маршрутам для начинающих. Ковбои принесли гитары и, пока мы катались на лошадях, пели песни «На верху старой Смоуки»[45] и «Девяносто девять бутылок пива»[46].
Я помню, как мне было хорошо. Я скакала на лошади по горам, и луна проглядывала сквозь сосны. В какой-то момент я даже заснула в седле. Лошадь укачала меня, словно я колыхалась на волнах Мексиканского залива.
Когда мы выехали к концу маршрута, меня разбудил стук копыт об асфальт. Около конюшни стояла высокая фигура отца в хаки. На его голове была бейсболка с «Одинокой звездой». Я направила лошадь по направлению к этой звезде – тень от козырька бейсболки падала отцу на лицо, и я не могла рассмотреть его черты.
Мама сидела на софе в гостиной у камина. Она пила коктейль «Отвертка», перед ней на столе лежала нераспакованная колода карт.
Я не помню, как именно они сообщили нам, что разводятся. Отец все это время сидел в дальнем конце софы, положив локти на колени. Его большие, жилистые ладони безвольно свисали вниз. Голову он опустил, как бык в конце родео, когда животное слишком часто кололи в загривок так, что оно больше не может поднять голову, чтобы броситься в атаку. Крупные слезы одна за другой падали на деревянные доски пола, оставляя мокрые следы. Отец даже не вытирал их. Время от времени он поднимал руку и утирал сопли, которые текли у него из носа. Я не могла смотреть на то, как он плачет, и внимательно смотрела на мокрые пятна от слез на полу, представляя себе, что это картинка, которую надо нарисовать, соединив точки.
Мать сидела на другом конце софы от отца, и ее глаза оставались сухими. Может быть, ей в те минуты было очень тяжело, а может, и нет. Она выпила несколько коктейлей «Отвертка» и как будто бы отсутствовала.
Родители спросили нас, с кем мы хотим жить. Мать собиралась остаться в Колорадо, отец уезжал домой. Они изложили нам свои планы так, будто предлагали выбрать мороженое. Какой вкус тебе больше нравится – мама или папа?
Лиша вызвала меня на совещание на кухню и сказала, что отлупит меня, если я вздумаю плакать. Но мне совершенно не хотелось плакать. Я мечтала свернуться калачиком и где-нибудь спрятаться.
Мы высунулись из-за дверного косяка и посмотрели на родителей в гостиной. Их головы возвышались над спинкой софы, и сидели они, не говоря друг другу ни слова, словно незнакомцы в метро. Я представила себе глобус с параллелями и меридианами. Я знала, что Техас находится на приличном расстоянии от Колорадо. Однако вопрос выбора того, с кем я останусь, касался далеко не только географии. Посматривая то на одну голову, то на другую, я начала считать считалку, чтобы понять, кого из родителей выбрать. Потом я думала о том, что надо кинуть монетку, загадав «орел» или «решка». Я пыталась выбрать между горами и болотами, между страшной жарой и приятной прохладой. Хотя больше всего тогда мне хотелось лечь на пол, позабыть обо всем и заснуть. Пока я колебалась и выбирала, взгляд Лиши стал сосредоточенным, словно она увидела тучу на горизонте и поняла, что надо делать.
Лиша приняла решение. Она сказала, что если мы оставим мать, то ей конец. Отец вернется на свою работу, и все будет хорошо. Мы всегда будем знать, где он. Сестра предложила мне вернуться в гостиную и сообщить родителям.
На следующее утро отец уехал. За ним заехал мистер МакБрайд на своем пикапе. Отец вышел из дома с армейским вещмешком, который бросил в открытый багажник. Ночью я забралась внутрь его вещмешка, но не до конца застегнула молнию, оставив лицо снаружи, потому что боялась темноты.
В этом вещмешке отец меня и нашел.
– Вылезай, – сказал он и расстегнул молнию на вещмешке. – Боже, у меня от всего этого сердце разрывается.
Потом он сел в серый пикап, машина тронулась и стала удаляться. Я смотрела им вслед, пока машина не превратилась в черную точку и не исчезла из виду.
В доме мать вынула из волос бигуди и громко сообщила, что чувствует себя, как рабыня, которая только что получила свободу.
Мы поехали в огромный магазин в Денвере, в котором мать купила себе настоящее коктейльное платье и платья для нас с Лишей. Мама также купила всем нам меховые шубы. Себе она выбрала стриженого белого бобра, мех которого был мягче, чем внутренняя часть моей руки. У маминой шубы была подкладка из бежевого шелка, от прикосновения которой к голым плечам казалось, что их намазывают пахнущей ментолом мазью. Мы с Лишей выбрали себе по парке с отороченными заячьим мехом капюшонами и огромными карманами.
В тот вечер мы поужинали в ресторане гостиницы, который поразил меня широким выбором столовых приборов самых разных размеров. Несмотря на то что около тарелки у меня было несколько ложек и вилок, официант с моим коктейлем с креветками принес еще одну маленькую вилку. В конце ужина из кухни вышел главный повар в огромном белом колпаке со сковородкой, полной резаных бананов, зажег содержимое сковородки, а потом разложил бананы по вазочкам с мороженым. Мать заказала «Дом Периньон», и нам принесли хрустальные бокалы. Мы с Лишей украли маленькие коктейльные вилочки в качестве сувениров. Мы выпили за то, чтобы, как принцессы, могли жить в этом отеле вечно. Одетые в черное официанты убрали лишнюю посуду со стола и почистили скатерть щеточкой с серебряным верхом искусственными движениями запястья, которые показались мне ужасно надуманными.
На время обеда я начисто позабыла об отце, что наверняка и являлось частью маминого плана. Мне стало очень грустно.
Утром я проснулась под изумрудного цвета одеялом. Под моим боком лежало раскрытое меню в кожаном переплете. Лиша все еще спала без задних ног на другой стороне кровати, но пробивавшиеся сквозь занавески лучи солнца подсказали мне, что наступило утро. Я взяла меню и стала его изучать. Я не была голодна, но когда пыталась понять, что же такое бельгийские вафли, совершенно неожиданно перед моими глазами пронеслось воспоминание о том, как я в последний раз видела отца. Это было тогда, когда серый пикап мистера МакБрайда потерялся из виду в перелеске. Как же я могла так быстро забыть отца? Я всегда была ему верна. Ради семьи, друзей или чести я всегда была готова идти на любые жертвы. А теперь меня за бесценок купили – за парку с заячьим воротником и украденную мной вилку.
Мать начала общаться с ковбоем по имени Рэй, у которого были зубы, как у зайца. Я перестала кататься на лошадях, считая, что Колорадо и лошади отняли у меня отца.
Однажды я застала маму лежащей на полу возле камина. На ней, словно на пони, сидел ковбой Рэй и мял мамины плечи. Его ковбойская шляпа лежала на спинке софы, а коричневые волосы казались сальными и взъерошенными. Вдоль по всему черепу Рэя шла вмятина от шляпы. Я уставилась на них, и Рэй тут же вскочил. Мама, не вставая, поискала на ощупь на полу свой лифчик и, не вставая, надела его.
– Привет, дорогая, – сказал Рэй громким голосом.
– Это я папе дорогая, а тебе нет, – ответила я ему, не моргнув глазом.
Мать надела через голову рубашку и сказала, что рада тому, что я пришла к обеду. Эта ложь показалась мне больнее, чем вид того, как мама полуголая лежит под каким-то немытым ковбоем. Она не была рада меня видеть.
На следующей неделе Рэй уволился и исчез. Его исчезновение совпало с неожиданным решением матери съездить одной в Мексику.
– Меня ждут пляжи Акапулько, – сообщила мать и обещала привезти нам в подарок сомбреро. Во время ее отсутствия мы жили в семье владельца конюшни. Когда мать вернулась, из машины, в которой она приехала, вышел мужчина, силуэт которого точно не был похож на ковбоя Рэя. Это был высокий худой человек с черными волосами.
Я тогда водила по площадке двух взмыленных лошадей, и при виде фигуры мужчины мое сердце екнуло. Я бросила поводья и бросилась со всех ног к мужчине, словно ребенок к елке с подарками в рождественское утро.
Я не добежала до своего отца, который в моем воображении уже поднимал меня своими крепкими мускулистыми руками. Рядом с машиной матери стоял далеко не мой отец. Это был Гектор, бармен из ковбойского бара. Мать вылезла из машины и, опираясь о крышу рукой, на одном из пальцев которой сияло кольцо с огромным бриллиантом, сказала: «Поприветствуйте вашего нового папочку». Я слышала, как позади меня бежит Лиша, и, глядя на похожую на крокодилью улыбку Гектора, услышала то, что сестра коротко произнесла, точно выразив мои собственные чувства.
– Блин.
X. Бар
Однажды в воскресенье мы с Лишей зашли в конюшню и увидели, что комната, в которой хранится упряжь, заперта. В конюшне уже убрались – навоз выгребли и на пол постелили свежую солому. В кормушках была еда, животным налили свежей воды. Пикапа МакБрайдов напротив их трейлера не оказалось. Мы постучали к ним, но нам никто не ответил. Я перешла мост и заглянула в окно кафе – оно оказалось пустым. Все это напомнило мне эпизод из телесериала «Сумеречная зона»[47], в котором инопланетяне похитили всех жителей планеты.
Мы сели на установленные напротив кафе блоки из шлакобетона. Владелец заведения установил их для того, чтобы пьяные посетители не въехали в кафе, протаранив витрину. Лиша достала из бумажного пакета завтрак – сэндвичи с колбасой на белом ватном хлебе. Мы не хотели возвращаться домой.
Мать с Гектором «соединились супружескими узами» и еще спали после вчерашнего алкогольного трипа. У Гектора был собственный рецепт от похмелья. Он смешивал сырые яйца, водку и пепто-бисмол[48]. Я называла его средство Пепто-Расстройством. Уже одного вида того, как он пьет это зелье, было достаточно, чтобы мать неслась, затыкая рот рукой, в туалет, где ее выворачивало. Мы твердо намеревались пропустить радость общения молодых.
После появления в доме Гектора Флорсхайма мы ни разу не залезали в родительскую кровать, чтобы посмотреть, как медведи лакомятся мусором. Я вообще перестала входить в спальню матери раньше полудня.
Я съела только середину своего сэндвича. Эта моя привычка ужасно раздражала Лишу, которая на этот раз сказала, что я ем, как белка, и бросила оставшуюся от моего сэндвича корку воробьям. Через некоторое время мы перестали надеяться на то, что МакБрайды появятся и откроют нам дверь, чтобы мы могли взять седла.
Лиша нашла два висевших на гвозде хакамора[49], мы сели на лошадей и поскакали по дороге, которая шла то вверх, то вниз и заканчивалась спуском, на котором ты чувствовал себя почти как на американских горках. Лошади были в пене, и мы провели их восемь кругов по загону. Оставшееся время мы коротали в поле за конюшней в поисках змей. Когда машина МакБрайдов подъехала к конюшне, мы поймали в ведро трех ужей.
Мистер МакБрайд поздоровался с нами и спросил, знаем ли мы, какой сегодня день. Потом из машины вышла Полли, в руках которой был новорожденный ребенок, лицо которого напомнило мне Уинстона Черчилля.
«Какое грустное лицо, – подумала я. – Эта девочка будет жить с ним всю жизнь».
Полли спросила нас, поздравили ли мы нашего папу с Днем отца?
Я застыдилась и замолчала, но Лиша тут же ответила, что мы его поздравили – отправили ему открытку и прислали несколько рисунков, набор блесны для спиннинга и катушку лески. Мистер МакБрайд погладил ее плечо и ушел в свой офис. Из машины выскочили его дети, которых я ненавидела уже за то, что у них есть отец. Мне хотелось, чтобы рядом появился мой высокий папа, в прохладной тени которого я могла бы постоять.
Я вспомнила то утро, когда он вынул меня из своего вещевого мешка, и как я смотрела на увозящий его пикап. Во мне возникла уверенность в том, что если отец не вернется, я умру. Я не стала называть Гектора отцом, хотя он меня об этом просил. («Черта с два, скорее в аду снег пойдет», – так ответила я на его просьбу.) Но я не писала отцу письма каждый день, как обещала. В первые пару недель после его отъезда я написала ему пять или шесть писем, но в ответ получила лишь одну открытку с изображением нефтяного танкера, на которой отец написал шутку о том, какой он богатый. В конце была подпись: «С любовью от лучшего из пап», и от этой фразы я прослезилась, словно ко мне стояла очередь людей, которые мечтали быть моими папами.
Был еще один неприятный момент: я не была уверена в том, что отец знает о Гекторе. Мне становилось все сложнее писать ему так, чтобы не упоминать о существовании нового мужа матери. У меня хватило здравого смысла не писать отцу о кривоногом Рэе, сидящем на голой маминой спине. Мне надо было не упоминать и о Гекторе, поэтому радостные письма отцу как-то не писались. Я долгие часы проводила в читальном зале Церкви христианской науки, грызя свой желтый карандаш. Причем проводила зачастую безрезультатно, потому что не могла написать там ни строчки.
Рано утром в День отца мы с Лишей пошли к телефону-автомату около заправки «Эссо». Мы открыли дверь будки, и нас обдал порыв горячего воздуха. На полу будки валялись мертвые осы и мотыльки, но Лиша спокойно прошла вперед, сняла телефонную трубку и бросила в щель монету в десять центов. Сестра попросила оператора совершить телефонный разговор, оплачиваемый абонентом, которому звонят, на номер 2–2800 в Вудланде. Мы долго слушали длинные гудки, а потом нас разъединили. Затем оператор компании «Галф Ойл» отказывалась соединить нас с папиным подразделением так, чтобы компания оплатила наш звонок. Лиша дрожащим голосом сказала оператору, что у нас чрезвычайные обстоятельства, но нам все равно отказали. Лиша назвала оператора бесчувственной сукой и бросила трубку так, что та разбила стекло в будке.
Сестра заплакала. Она осела на пол телефонной будки так, будто внутри ее что-то сломалось, и даже не взяла неиспользованные десять центов.
В тот день мы сделали две открытки на синей бумаге. На своей открытке я написала «Папа» и обклеила буквы блестками. Потом решила дополнить рисунок полосками, как на американском флаге, и серебряными звездами, которые получились скучного серого цвета. Я смотрела на то, что нарисовала, и мне самой становилось тошно. В голове может сложиться набросок самого невероятно красивого рисунка, но в конечном счете получается полная ерунда.
Мать положила наши открытки на каминную полку, чтобы они просохли. Гектор не отходил от наших открыток, словно это какой-то гребаный Грааль. У него было побитое выражение лица, что, как я потом поняла, являлось результатом не столько алкоголизма, сколько его сильной близорукости. Он мямлил о том, что хотел бы получить такие открытки на День отца, на что Лиша сказала: «И не мечтай». Мне даже захотелось его обнять – так ее слова его обидели. Я быстро обняла его за талию в скользкой нейлоновой рубашке.
На следующее утро мать поехала на почту, чтобы купить марки для наших открыток. Она не любила водить машину в похмелье, но силой воли заставила себя это сделать. С собой она взяла бумажный стакан с «кровавой Мэри».
Сидя в машине около здания почты, мать трясущимися руками долго искала свой бумажник, а потом передала свою сумочку Лише и попросила найти его. Алкоголь сильно повлиял на мамину внешность. Она покрасила волосы в платиновый цвет, днем на улице ходила в темных очках. От сочетания черных очков и светлых волос почему-то казалось, что кожа на ее лице желтая. Вокруг шеи и прически мама повязала шарфик, от которого казалось, что у нее на голове развязавшаяся повязка. Ее большие ладони постоянно дрожали.
Сидя в машине, я пыталась найти слова, чтобы с ней заговорить, но как только я придумывала фразу, тут же представляла себе, с каким недовольством и презрением мама на нее отреагирует. Она говорила, что у нее совсем не осталось терпения. Я сидела и смотрела, как она в свой стаканчик с «кровавой Мэри» обильно сыплет соль из солонки.
Мамины крашеные волосы напомнили мне фотографию в некрологе Джейн Мэнсфилд, которой оторвало голову в автомобильной катастрофе. Я часто представляла себе всякие ужастики, поэтому мне было легко представить, как голова Джейн Мэнсфилд в очках-кошках со стразами летит по воздуху, как футбольный мяч. Эта картинка исчезла, как только из почтового отделения вернулась Лиша с маминой сумочкой.
Через неделю после того, как мы отправили свои поздравления отцу, мы стали наведываться на почту, чтобы узнать, не прислал ли он нам ответ. Ключ от нашего ящика висел у мамы на цепочке на шее. Она открывала дверцу почтового ящика, но отец не отвечал нам. Ящик был пуст, как маленький гробик.
В то время большинство разведенных мужчин оставляли детей бывшим женам и больше не волновались о том, что с ними происходит. О детях забывали, как о ненужных щенятах, которых в старом мешке выбрасывали в окно «Форда», несущегося по Орандж-Бридж.
Мне казалось, что отец не сможет меня забыть. Мы играли с ним в бильярд, вместе ходили на рыбалку. Он говорил мне, что никогда меня не бросит и будет мне верен. Я скучала по нему и вспоминала слова, которые он мне говорил: «Я не очень богатый человек, дорогая, но я все еще хожу по этой земле. И пока я хожу по ней, клянусь Богом, если кто тебя пальцем тронет, я найду и дойду до этого человека. Я тебе это гарантирую».
Лиша потеряла ключ от почтового ящика во время конной прогулки. Мы уже не хотели стоять в длинной очереди и спрашивать о том, получили ли мы письмо.
Моя последняя попытка тем летом привлечь внимание отца была связана с «зелеными марками», которые мы раньше никогда не собирали. В зависимости от суммы твоей покупки в магазине тебе выдавали определенное количество «зеленых марок». За каждый доллар продуктовых покупок давали двадцать «зеленых марок». Марки нужно было собирать в специальные альбомы, которые потом можно было обменять на «бесплатные» вещи.
За десять альбомов можно было получить говорящую куклу «Болтушку Кэтти», которая уже через неделю начинала говорить высоким голосом всякую непонятную ерунду, когда потянешь за веревочку с кольцом. За сто альбомов можно было получить туристическую палатку или набор для игры в крокет. За несколько тысяч альбомов можно было купить кресло или сушилку для одежды. В Личфилде мама, пройдя кассу и оплатив покупки, громко кричала, предлагая желающим свои «зеленые марки». Женщины с тележками, в которых вперемешку с куриными окорочками сидели их толстые дети, набрасывались на ее купоны, как хищные птицы. Мать не верила в купоны и в «зеленые марки», считая, что это очередной способ закабаления женщин, сравнимый с вышиванием и штопкой. Она никогда даже не проезжала и ста метров, чтобы заправиться бензином на два цента за галлон дешевле, чем на заправке, перед которой решила остановиться. Мама не думала об экономии задолго до того, как получила бабушкино наследство.
Когда я начала собирать «зеленые марки», мама не сказала ни слова, хотя, я уверена, ей потребовались большие усилия, чтобы не съязвить. Вечера я проводила за кухонным столом, разглаживая и наклеивая «марки» в альбомы. Когда у меня кончалась слюна, я брала кисло пахнувшую губку для мойки посуды и ей мазала обратную сторону «марок». Лиша каждый вечер спрашивала, не заболела ли я, но в ее тоне не было издевки.
Дни я проводила возле автоматически открывающихся дверей магазина. Иногда люди, оставляя тележку, вынимали свои купоны и отдавали их мне.
Самыми продуктивными днями в смысле поиска «зеленых марок» были дни, когда вывозили мусор. Люди выбрасывали мусор в пакетах из продуктовых магазинов, и в них я часто находила «марки». В городе жили бизнесмены и доктора из Колорадо-Спрингс, которые вообще не заморачивались на тему экономии, поэтому в первую очередь я проверяла мусорные бачки около их домов.
В конечном счете у меня собралось много альбомов. Мать забросила мои альбомы в багажник, и мы поехали в центр получения подарков.
Сотрудница центра получения подарков оказалась индианкой, на обширной груди которой на серебряной цепочке висел медальон с большим камнем бирюзы. Я отметила крестом в каталоге то, что я хочу, но в наличии желаемых товаров на полках центра не оказалось. Например, у них не было катушки для спиннинга в форме зажигалки «Зиппо». Не было и запонок в форме лошадиных подков с маленькими бриллиантами. Индианка предложила мне отправить «марки» в Огайо и ждать шесть недель, пока мне пришлют товары. Отец недаром меня воспитывал, и я у него кое-чему научилась, поэтому не была готова отдавать свои «марки» и только потом получить свой товар.
Индианка внимательно проверила наличие желаемых мной товаров. Мать громко выдыхала дым каждый раз, когда индианка сообщала мне, что не нашла нужный мне товар.
В результате я не смогла получить ни одну вещь из тех, которые хотела. Той ночью я лежала в кровати и представляла себе, как отец выходит из машины после долгой дороги из Техаса, поднимает меня и обнимает, а Лиша в это время стоит на носках его ботинок. В машине на сиденье лежат мои подарки. В моем воображении все желания осуществились. Я даже начала обманывать себя тем, что не страшно, что я не смогла найти ему подарок. Сама судьба подарит ему то, что я хотела.
Мать устала ждать и направилась от двери ко мне. По стуку ее каблуков я поняла, что ее терпение лопнуло и ничего хорошего не предвидится. Она объявила индианке, что в каталоге и словом не упоминается о том, что товары они собираются поставлять только после того, как Кеннеди уйдет с поста президента. Она заявила, что я работала как проклятая для того, чтобы достать «марки», а потом расклеить их по альбомам. Я потянула за полу ее бежевого кашемирового джемпера, чтобы остановить, но она отстранила мою руку. Ее понесло, и я же не один раз слышала ее «показательное» выступление о проклятых лгунах-республиканцах, придумавших всю эту негритянскую катавасию с лизанием марок. Индианка, видимо, отнесла слово «негритянскую» на свой счет и заявила, что она не черная, а индианка, на что мать сообщила, что ей совершенно насрать, кто она такая.
Я кое-как вытолкала мать на зеленую лужайку перед центром получения подарков. Начал накрапывать дождик, асфальт стал мокрым, и на улице потемнело. Коробку с альбомами «марок» я оставила на прилавке и не собиралась садиться в машину до тех пор, пока не выберу отцу какой угодно, пусть даже мелкий или совершенно неподходящий подарок. Однако я понимала, что не стоит спорить с матерью и идти на конфликт. Отец говорил, что от такого поведения она только встает на дыбы. Я вежливо сказала, что хотела бы еще посмотреть, что я могу выбрать. Мать развернулась и быстрым шагом пошла от меня в сторону красной неоновой вывески с надписью «Бар черного кота».
Потом, как мне кажется, я провела несколько часов в холодных залах центра получения подарков с железными полками до потолка. Там были столы для пинг-понга и такие глубокие надувные бассейны, что в них можно было тренировать плавание под водой. Однако через некоторое время чувство реальности взяло вверх. Я сказала себе, что ни один маленький ребенок в здравом уме никогда не отдаст настоящие деньги за подобный хлам. Я словно услышала голос отца, который часто говорил во время ТВ-рекламы: «Ну как же я дожил до пятидесяти лет без замечательного устройства Veg-O-Matic, которое дает мне возможность резать картошку на ломтики картофеля фри?! Ну как же мне в жизни не повезло и сколько интересного я пропустил…»
В конечном счете я купила отцу керамическую статую толстопузого монаха с лысиной, вокруг которой были приклеены коричневые и мягкие на ощупь волосы. В руке монаха была удочка с золоченой леской. Для матери я выбрала электрическую открывалку для консервных банок. Когда в «Баре черного кота» я подарила матери электрическую открывалку, она отнеслась к подарку с пьяной сентиментальностью. Мать смачно поцеловала меня в щеку, оставив на ней обильные следы помады, и передала подарок посетителям бара, чтобы они могли его оценить.
Статуэтку монаха завернули в газеты и отправили отцу. Моя жестянка из-под кофе вскоре совершенно случайно снова наполнилась «зелеными марками». Правда, на этот раз я уже отнеслась к находке без большой радости, потому что не знала, как их тратить.
В день, который показался нам последним днем лета, мы помогали мистеру МакБрайду и его ковбоям перегонять лошадей на зимнее пастбище. Тогда полиция перекрыла для движения машин не только главную, но и несколько второстепенных дорог.
Я не знаю, как получилось, что нам с Лишей разрешили поехать с ковбоями, потому что даже детей мистера МакБрайда, которые прекрасно ездили на лошадях, не привлекли для перегона лошадей. Ворота загона открыли, но сначала табун колебался и никуда не выходил. Но после того, как пересекли мост, животные побежали полным галопом. Если бы я упала, то меня затоптали бы в момент, еще до того, как заметили бы, что меня нет в седле.
Большая часть пути прошла не по асфальту, а по грунтовой дороге, поэтому пыль стояла страшная. Кругом были одни лошади – каштановые, буланые, пятнистые или серовато-коричневые. Они бежали ровными рядами, синхронно отталкиваясь копытами. Было так громко, что я не слышала собственных мыслей и онемела. Мы мчались так быстро, что я начала получать удовольствие от собственного страха. Лелея страх, я наклонилась поближе к шее лошади и понеслась вместе со всеми.
На следующий день пикап мистера МакБрайда подъехал к нашему дому. Сзади автомобиля был прицеплен трейлер, в котором находились наши лошади. Наверное, МакБрайд считал, что в наступающем учебном году мы с Лишей будем ездить в школу на лошадях.
Мама решила двигаться на запад, в горы. Красным фломастером она отметила на карте точку, обозначавшую поселение, в котором она купила бар. Когда пьющая мать покупает себе бар в городке, о котором ты в первый раз слышишь, сообщение об этом ты воспринимаешь в удивленном безмолвии.
По словам мамы, вложение в бар «Лонгхорн» мало чем отличается от того, когда ты прячешь деньги в носок и засовываешь их под матрас. Она сказала, что у Гектора в этом городке есть родственники. Если мы останемся в нашем доме, то нам с Лишей придется в шесть часов утра садиться на автобус, который будет отвозить нас в школу. «Вы же не будете в восторге от такой перспективы?» – спросила она.
Мы с Лишей упаковали одежду в круглые чемоданы с логотипами Барби. Из окна машины я смотрела, как наш дом удаляется и становится все меньше. Потом его заслонила осиновая роща, и машина поехала по горному серпантину.
Я сказала Лише, что мы никогда сюда не вернемся. Сестра ответила, что это последнее, что должно меня волновать. Она наклонила голову, словно чайка при сильном встречном ветре, и исподлобья смотрела на окружающий мир. Лиша втягивала подбородок и уходила в себя, чтобы собраться с силами и быть готовой к грядущим изменениям в нашей жизни. Меня тоже охватывали плохие предчувствия. Я поняла, что даже если отец сейчас и захочет нас найти, то не сможет этого сделать.
Мы ехали целый день. Всю дорогу мама разглагольствовала о том, как мелко и провинциально мы жили в Техасе, в котором существует музыка только кантри и зайдеко[50] и нет никаких других книг, кроме каталога «Сирс». По ее словам, пределом мечтаний женщины в Техасе могут быть только огромная морозильная камера, заполненная до отказа собственно нарезанной олениной, и виниловый пуфик, на который можно положить усталые ноги в конце дня. Мать настолько разошлась, что даже зачем-то выбросила в окно свой черный берет. Я оглянулась и увидела, что берет остался лежать на обочине, словно сбитое машиной животное.
К тому времени как ее «Импала» стала подниматься с равнины в горы, солнце начало садиться. Я стояла на заднем сиденье и смотрела в затылки матери и Гектора. Профиль Гектора всегда напоминал мне о какой-нибудь рептилии. Мне кажется, он очень хотел, чтобы мы переехали в тот городишко. Мать положила ногу в ковбойском сапоге на приборную доску и начала петь старую песню:
Я старый пастух на ранчо в Рио-Гранде, Но ноги у меня не кривые и лицо не загорелое, Я знаю все ковбойские песни, Которые выучил из песен по радио…XI. Школа для лентяев
Фары автомобиля осветили придорожный щит, сообщавший, что мы въезжаем в Антилоп. Отцы города надеялись привлечь горнолыжников, которые, не обращая внимания, проезжали съезд и билборд, написанный красным курсивом. Городок Антилоп был основан во время золотой лихорадки, здесь находились залежи серебра и меди, но сейчас эти металлы уже давно не добывали. Лиша прикорнула на моем плече, и я растолкала ее, чтобы она могла взглянуть на место, в которое мы приехали.
Мать постоянно рассказывала нам о городах. Вечером в качестве сказки она могла рассказать нам об античных Афинах времен Сократа и о том, как там жили люди до появления циников и до того, как стало модным резать себе в ванне вены. Она рассказывала нам о Париже 20-х годов прошлого века, о Вене, в которой больной и потный Моцарт писал свой собственный реквием.
Мама в 1940-х годах жила в Нью-Йорке. Она постоянно твердила нам о том, что мы по праву являемся обитательницами большого города. Но город, в который мы при ехали, был совсем небольшим. Мы проезжали по его главной улице, на которой горела только пара вывесок баров. В нем не было роскошных ресторанов, у входа некоторых стояли бы швейцары, готовые в любую секунду вызвать такси.
Днем виды вокруг городка были сногсшибательными. Горы просто нависали над ним. Небо часто было серого цвета, что напомнило мне о небе, описанном в романе «Дракула», действие которого происходит в Карпатах, поросших такими же цепляющимися за скалы деревьями.
В то время я основала фан-клуб Дракулы, единственным членом которого и являлась. Я придумала и расписала в своем дневнике длинную и болезненную церемонию инициации в клуб Дракулы: сначала нужно было проколоть иголкой палец и смешать свою кровь с кровью других членов клуба. Я проколола оба указательных пальца, чем продемонстрировала Лише, как серьезно отношусь к своей затее. После этого нужно было облить руку бензином, поджечь ее и держать поблизости мокрое полотенце. Этот трюк я видела в Личфилде на одном из празднований Хэллоуина. (Сама я этого еще не делала в ожидании новых членов клуба.) Кроме этого на основе романа Брэма Стокера я написала заклинание из трех или четырех слов языка, на котором говорят в Трансильвании. Пройдя эти ритуалы, член клуба имел право красным фломастером поставить себе две точки на сонной артерии. Лиша отказалась пройти посвящение. Она отказалась стать членом клуба даже после того, как я обещала назначить ее вице-президентом.
Атмосфера Антилопа располагала к созданию закрытых и тайных обществ, а также к проведению сатанинских ритуалов. В немецком магазине с потолка свисали окорока и колбасы, привязанные бечевкой. Когда я в первый раз открыла тяжелую дверь магазина, услышала звяканье огромного звонка и увидела свисающее с потолка у меня над головой мясо, я почувствовала, словно живу в Средневековье. Все напоминало старую гравюру, на которую я натолкнулась в одной из маминых книг по искусству. Помню, что на той гравюре было изображено, как инквизиция борется с еретиками: на городской площади повесили нескольких еретиков, у трупов которых отваливались руки и выпадали глаза.
Владельцем того немецкого магазина был человек по имени Олаф, управлявший делами вместе с сестрой Анной. Брату с сестрой было где-то под сто лет, и каждый раз, входя в их магазин, я чувствовала, что они заняты больше собой, чем покупателем. Древние брат и сестра отбрасывали на потертый пол из линолеума странные тени в виде вопросительных знаков.
Они угощали меня дешевыми леденцами и давали попробовать плавленый сыр собственного производства настолько яркого оранжевого цвета, что он наверняка светился бы в темноте. Продукты и товары на полках магазина были произведены во времена Эйзенхауэра: упаковки стирального порошка, стоявшие в витрине пирамидкой, выцвели, а текст, написанный на них мелким шрифтом, невозможно было прочитать. Консервы, казалось, говорили: «Съешь меня на свой страх и риск».
Мы остановились в старом розовом здании отеля напротив немецкого магазина. Анна на завтрак и обед готовила бутерброды с жирной салями, ветчиной с огромными белыми прожилками сала. Эти бутерброды были такими большими, что она скрепляла их, проткнув зубочисткой.
Хлеб был такой черствый, что каждый кусок бутерброда приходилось запивать глотком газировки.
Ужинали мы в единственном месте в городе, где подавали стейки из спинной части говяжьей туши. Мать пила мартини или «Гибсоны»[51]. Ужин она заканчивала коньяком, о котором говорила, что он пьется, как шелковый огонь. Однажды, идя по улице после такого ужина, я заметила, как от сильного ветра колышутся фонари. «Какое забытое Богом место!» – подумала я тогда. Мать шла нетвердой походкой и опиралась на Лишу. Гектор опирался на меня. Фары проезжающей машины осветили лицо Гектора, которого водитель наверняка принял за Франкенштейна.
После возращения в отель мать с Гектором сразу отрубились, а Лиша заставила меня почистить зубы перед сном.
– Ты же не хочешь, чтобы у тебя были такие поганые зеленые зубы, как у ковбоя Рэя, – сказала мне сестра.
Глядя в зеркало, я заметила у себя на щеке отпечаток пуговицы пальто Гектора в том месте, в котором он на меня облокачивался. Лиша пыталась мне помочь и создать симметричную ямочку на другой моей щеке: она ущипнула меня за щеку так сильно, что я вскрикнула, а потом прижимала к этому месту крышечку от тюбика зубной пасты. Ямочка получилась несимметричной.
Мама сняла старый особняк, принадлежавший в свое время президенту местного банка. Мы с Лишей никогда не жили в двухэтажном доме. Ходили по зданию, шептались и разглядывали высокие потолки и подвязанные черными шелковыми шнурами шторы. Потом мы сделали друг другу реверанс и чинно уселись на краешек софы, делая вид, что разливаем друг другу несуществующий чай.
Это был большой дом. Обеденный стол был длинным и пыльным. Вокруг стола стояло двенадцать одинаковых стульев, и я заметила, что все готово к Тайной Вечере – все в сборе, за исключением Христа. Стулья были глубокими, как кресло в кабинете зубного врача, и обтянуты сатином. Стены комнаты украшали ухмыляющиеся маски. В гостиной под люстрой, хрусталь которой от времени стал цвета янтаря, стояло большое пианино. Гостиная была соединена с небольшим будуаром, в котором – подальше от нас – поселились мать с Гектором.
Наши с Лишей спальни были расположены на втором этаже. Впервые в жизни у каждой из нас была своя комната. В моей стоял огромный шкаф с настолько глубокими полками, что моя одежда, купленная матерью в Денвере, потерялась в них, будто ее и не бывало. Лежа ночью в кровати, я в любую секунду была готова к тому, что какой-нибудь ящик откроется и из него выпадет труп карлика. Я боялась спать одна и переползала в спальню к Лише, которая спала совершенно спокойно.
По пути в школу мы прошли большую надпись на заборе, гласящую, что некий Кен сосет у мертвых медведей. Прямо за надписью находилось здание средней школы города.
На ступеньках стояла толпа курящих школьников. На головах мальчиков были огромные коки. Девочки носили очки-кошки и прически «вшивый домик». В Личфилде мальчики постарше носили короткие прически, и большинство одевалось так, как одеваются подростки, которых показывают по ТВ, – в пиджаки и рубашки с пуговицами.
Дети в Колорадо показались мне какими-то более взрослыми. Девочки спокойно курили у всех на виду, а не прятались по углам, как в Техасе. Из транзисторного радио в чьем-то кармане неслись слова песни «Луи Луи»[52]. На виду всех школьников девушка с черными волосами, невообразимо точно разделенными пробором на две ровные части, танцевала, выпятив губы, танец «Грязная собака»[53]. Я подумала, что этот танец – верх моральной деградации и максимальное приближение к стриптизу.
Мы поднялись по лестнице и прошли мимо стены, в которую на одинаковом расстоянии друг от друга были вкручены крюки. Напротив стены стояли санки и низкие полки для зимней обуви. Тут я поняла, что через некоторое время могу впервые в жизни увидеть снег. Я решила, что мне надо набрать немного веса и, может быть, даже прикупить средство Wate-On, которое один из детей Диллардов заказал по рекламе на задней обложке комикса для того, чтобы набрать массу и лучше играть в американский футбол. Правда, потом этот парень жаловался, что у него от этого средства зубы стали серыми. Я устала от своего маленького роста и небольшого веса. Черт с ними, с зубами, я хотела стать более заметной и чтобы меня было лучше видно.
Лиша взяла меня за подбородок и сказала, чтобы я вела себя аккуратно и что мы встретимся после уроков. Потом она оглянулась, чтобы убедиться, что на нас никто не смотрит, быстро меня обняла и засеменила в другую сторону в новых кожаных туфлях.
Учителей нигде не было видно, следовательно, никаких проблем у меня не должно было возникнуть. В школе была введена система самообразования, и все дети самостоятельно и последовательно читали папки, в которых были подобраны материалы по разным предметам. За порядком в классе наблюдали дежурные из числа учеников. Учителя сидели весь день в учительской, курили, ели кексы, пирожки, торты и маффины, которые по очереди сами готовили дома и приносили в пластиковых контейнерах.
Меня поместили в четвертый класс. В мой первый день в школе учительница один раз все же вышла к ученикам, чтобы меня всем представить. Помню, ее рука, которую она положила мне на плечо, пахла увлажняющим лосьоном «Джергенс».
В моей старой школе любой новичок моментально привлек бы к себе внимание хотя бы уже тем, что он приехал издалека. Дети из Техаса уже на первом уроке писали бы такому ребенку записки и собирались бы вокруг него во время перемены. Дети из Колорадо оказались не такими общительными. Я стояла рядом с учительницей, и на меня смотрели ничего не выражавшие лица учеников, похожие на пустые тарелки. После первого дня в школе только дежурный по классу, которым оказалась дочка директора – синеглазая девочка с короткой стрижкой блестящих медного цвета волос, знала, как меня зовут и откуда я приехала.
Если бы учеников четвертого класса любой школы в Техасе оставили без присмотра, они бы перевернули парты, исписали доску матерными словами и подожгли мусорные ведра. После этого они бы нашли козла отпущения и свалили бы на него всю вину. Представив меня классу, учительница ушла, даже не обернувшись. В этой школе даже самые тупые ученики не бедокурили, а смирно сидели большую часть дня за партами, словно им дали сильнейшее успокоительное. Лица детей были незапоминающимися и невнятными. Никто не разговаривал, потому что за разговоры наказывали. Вначале, чтобы не скучать, я начала читать папки по математике и литературе. Материал в папках был подобран довольно бессистемно и глупо, и ученики совершенно без проверок и тестов переходили от одной папки к другой. Даже те тесты, которые нужно было делать, ученик проверял сам. Дежурный просто выдавал ответы на вопросы на листе бумаги и красный карандаш для того, чтобы отмечать собственные ошибки. Насколько мне известно, никто из учителей даже не взглянул ни на одну из моих тестовых работ. Не было никакого смысла мухлевать, потому что все тесты были удивительно простыми, словно для первого класса. После прочтения одной папки надо было пройти тест, после чего ученику выдавали следующую папку, и так до бесконечности. Там были задачи о поездах, несущихся в Цинциннати со скоростью девяносто километров в час, и двенадцати початках кукурузы в каждой связке, которые продавал фермер Браун.
Наверное, учителям было сложно весь день сидеть в учительской, но я не помню, чтобы они часто выходили из этой комнаты. Однажды один из учеников поранил нос скрепкой, подошла дежурная, запрокинула ему голову назад и остановила кровь собственным носком. Меня попросили сбегать в учительскую и позвать преподавателя. Чтобы попасть в учительскую, нужно было по бетонной лестнице спуститься в бойлерную, похожую на место, в котором снимают фильмы ужасов. Я бы не удивилась, если около этой лестницы стояла бы девочка со свечой и говорила: «Не ходи туда». Котел в бойлерной потрескивал. В двери учительской было вставлено круглое непрозрачное стекло, словно в подводной лодке. Я взялась за медную дверную ручку и открыла дверь.
В учительской было сумеречно от сигаретного дыма. Учителя сидели ко мне спиной, и молнии на пастельного цвета платьях едва сдерживали их необъемные тела. Каждая женщина держала собственную пепельницу. В центре стола стояли остатки огромного шоколадного торта, напоминавшие поверхность мокрого футбольного поля, изрезанного следами автомобильных шин. Увидев меня, наша преподавательница встала и пошла со мной.
За первую неделю учебы в школе я прошла восемнадцать папок по чтению и литературе и двенадцать папок по математике. Это было новым школьным рекордом, который я поставила не столько от больших амбиций, сколько от скуки. О моем рекорде сообщили по громкоговорителю в школе после утренней линейки. Я ощутила некоторую гордость. Однако, оглянувшись по сторонам, я заметила, что многие закатывают глаза. Возможно, в этой школе были свои неписаные правила о том, что нельзя делать слишком громкие успехи в учебе, чтобы не поставить в невыгодное положение других учеников.
На перемене ко мне подошла шестиклассница, которую все за спиной называли Большой Бертой, и, сильно замахнувшись, ударила меня по лицу. Я видела ширину ее замаха, но из-за сюрреалистичности ситуации даже не пригнулась, чтобы избежать удара. Мне потребовалось несколько секунд на то, чтобы понять, что происходит. Я схватилась за щеку и почувствовала под ладонью жгучую боль. Очередь учеников около фонтанчика быстро перестроилась так, чтобы закрывать нас от глаз учителей.
Посередине огромного и круглого, как гигантский пирог, лица Большой Берты потерялись маленькие свинячьи глазки. Она объяснила, что ударила меня за то, что я своим поведением показала, какой дурой является ее младшая сестра. Я понятия не имела, кто ее сестра, но не собиралась упустить хороший шанс, который мне представился. Я сообщила Большой Берте, что всем и без моей помощи понятно, что ее сестра – полная дура, а сама Большая Берта – форменная корова.
Услышав, что я обратилась к ней кличкой, Большая Берта ударила меня еще раз, после чего я протаранила ее головой, одновременно молотя руками. В этот момент Лиша сидела на качелях на другой стороне площадки и потом рассказала мне, что со стороны казалось, словно у мельницы сорвало крылья и бросило в большую тушу Берты.
Берта двигалась медленно, но через некоторое время уверенно начала колотить меня по голове. Она была гораздо сильнее меня, и я была готова отступить, как инстинктивно подняла руки, схватила ее за воротник рубашки и сильно дернула. Все пуговицы на ее рубашке отлетели и упали на траву. В тот момент Берта запустила руки мне в волосы и начала трясти мою голову. Она была настолько увлечена этим занятием, что не сразу заметила, что ее лифчик открыт для обозрения всей школы. Когда она это, наконец, поняла, тут же бросила меня и быстро ретировалась в кафетерий.
После этой драки у меня под правым глазом появился огромный синяк. Мать послала одного из своих рабов в баре на рынок купить стейк на косточке, чтобы приложить к ушибу. Потом она обильно припудрила мой фингал тальком.
Бармен по имени Дитер вытирал след губной помады с пивного стакана с таким выражением лица, будто он о чем-то глубоко задумался. За ним высились полки, которые, словно хоры в церкви, были заставлены разноцветными и прозрачными бутылками. Я посмотрела на свое отражение в зеркале на стене. «Отец бы наверняка гордился таким глазом», – подумала я и слезла со стула.
В туалете бара я оторвала клочок туалетной бумаги и стерла с зеркала следы маминой помады. Было холодно, и я достала фен, чтобы высушить лицо и согреться. Я стояла перед зеркалом, закрыв глаза, и чувствовала, как горячий воздух развивает мои волосы и кровь пульсирует в моем «подбитом» глазе. Я почувствовала, что соскучилась по дому. Я приподнялась над раковиной, чтобы поближе посмотреть на синяк. Вокруг глаза была сине-черная припухлость, ее границы были зеленоватыми. Отец назвал бы такой синяк «запредельным фингалом».
Чуть позже я лежала на диване в самом темном уголке бара. Я так скучала по отцу, что мне казалось, что вот-вот его фигура материализуется из алкогольных паров и клубов дыма.
Мне показалось, его дух присел рядом со мной. Конечно, я не была настолько сумасшедшей, чтобы поверить в то, что отец действительно появился. Тем не менее мне было очень приятно видеть его сквозь полуопущенные ресницы.
– Ты должна быть осторожнее, – сказал он после долгого молчания и вытряс сигарету «Кэмел» из пачки. Стеклянная поверхность столика была чуть более прозрачной, чем его фигура. Я сказала, что очень по нему скучаю, на что он только пожал плечами. – Надо было больше бить левой рукой, тогда бы она не ударила тебя в глаз. Дай-ка взгляну, – он потрогал пальцем мой фингал. – Ааа, не волнуйся, заживет.
Подбитый глаз ныл. Мне захотелось вздремнуть. Я слушала его и чувствовала, как я устала.
Я «глотала» одну папку школьных материалов за другой, что не только вызвало недовольство Большой Берты, но и привело к тому, что директор вызвал мою мать и сказал ей, что хотел бы перевести меня в следующий класс.
Директора звали мистер Яниш, и все ученики называли его Янбо. Больше о директоре ничего не помню. В моей памяти он остался серой аморфной массой в светло-синем костюме-тройке с полосатым галстуком. Мать бросилась к нему, протягивая руку. Вместе с ней в кабинет директора вошел Гордон, который был одним из ее людей на побегушках – ему напитками платили за то, чтобы он развозил нас по «трем китам нашего существования», как выражалась мама, то есть в школу, бар и домой. Гордон под руку отвел мать от директора к креслу в углу.
Я вообще не понимала, зачем Гордон приперся на эту встречу. У него были белые женские руки. Все его лицо было покрыто прыщами и оспинами. Какой-то поэт, который написал фразу «карбункулы молодых людей», имел в виду наверняка Гордона.
В тот день на нем был мятый камуфляж и черные солдатские сапоги. Мистер Яниш спросил, в каких войсках служит Гордон, на что тот наклонил голову, словно стесняется, и соврал, что не может ответить на этот вопрос, потому что он касается национальной безопасности. Я совершенно точно знала, что Гордона освободили от армии и участия в войне в Корее за плоскостопие или какую-то другую ерунду. Военный камуфляж выглядел на нем вдвойне нелепо еще и потому, что у него была огромная задница, которую он пытался скрыть, нося рубашки навыпуск. Вид у Гордона был одновременно помпезный и нелепый, и я поморщилась, когда мать объяснила директору, что это ее шофер.
Мать села в кресло, и Гордон дал ей прикурить от бутановой зажигалки с полуметровым пламенем. Потом он засунул зажигалку в карман и, прислонившись задницей к подоконнику, открыл комикс, который с собой захватил. На обложке комикса был изображен худой и длинноносый фашист в монокле. Этот фашист тянул руки к блондинке в изорванной в клочья форме медсестры. Гордон погрузился в чтение комикса, и мне стало стыдно за то, что директор видит идиотскую картинку на обложке журнала.
Возможно, в тот день я сосредоточила свое внимание на Гордоне для того, чтобы не смотреть на мать, которая выглядела и вела себя ужасно. В ту осень она неудачно покрасила волосы в красный цвет, но в результате получились цвет и текстура сухой люцерны. Мать даже не удосужилась одеться для встречи с директором. Она вставила ноги в ковбойские сапоги, накрасила губы и накинула бобровую шубу на шелковую ночную сорочку персикового цвета. Когда мать клала ногу на ногу, край сорочки вылезал из-под шубы. А в то утро она очень часто клала одну ногу на другую. Может быть, она хотела продемонстрировать директору стройные женские ноги. Директор покачивался в своем кресле за своим огромным столом и кивал.
Во время их разговора я натянуто улыбалась и продолжала улыбаться даже тогда, когда мать пригласила директора с супругой в любое удобное время посетить бар, где их угостят напитками. Мать называла свой бар «семейным заведением» и хвалилась своими «блестящими» дочерьми, – тут она погладила рукой мои волосы – которые делают уроки за стойкой бара под классическую музыку из джук-бокса. Я помню, что наклонилась, чтобы мать убрала руку с моей головы. Я понимала, что директор прекрасно знал, что бар «Лонгхорн» – самая настоящая дыра, и не хотела делать вид, что верю в сказки, которые рассказывает ему мать.
После школы мы с Лишей действительно сидели в баре. Но вместо того, чтобы делать домашнюю работу, мы резались в игровом автомате в разновидность пинбола, в котором шайбой сбивали кегли. Я научилась строить карточный домик, умела выбросить из стакана кости так, чтобы были одни «семерки», а также скручивать полотенце таким образом, что оно было похоже на огромный конский член, что вызывало громкий смех всех посетителей.
Единственной классической композицией в джук-боксе была «Болеро» Равеля, если, конечно, не считать музыки из кинофильма «Исход», от которой у бармена всегда наворачивалась скупая мужская слеза. Мать всегда носила в сумочке отвертку для того, чтобы при помощи нее сделать громче или тише звук джук-бокса в зависимости от своего настроения и желания потанцевать. Главным образом мы слушали песни типа Теннесси Эрни Форда[54] о том, как шахтер добывает шестнадцать тонн угля в день, а также о том, что сердце исполнителя следует за улетающими вдаль гусями.
Многие завсегдатаи бара сидели без движения так долго, что практически прирастали к стульям. Я видела картины Эдварда Хоппера[55], да и без него понимаю всю патетику людей, которые сидят в дайнерах. У матери в баре сидело много таких клиентов, лица у которых были одно серее другого.
Самыми активными клиентами бара были Гордон и Джоуи. Они были самыми молодыми и могли съездить по делам матери тогда, когда у нее болела голова и она не могла сесть за руль.
Джоуи жил на пособие по инвалидности. Каждый месяц он забирал чек у своего адвоката в Колорадо-Спрингс за то, что «посадил» легкие во время работы шахтером. Несмотря на это, Джоуи постоянно курил. Указательные пальцы на его обеих руках были желтыми от никотина. В отличие от Гордона Джоуи был в свое время красивым. В нем текла кровь индейцев и мексиканцев, он был небольшого роста, но с крепким и с узкими бедрами. У него была волевая челюсть и черные глаза, которые нравились матери. Его глаза с большими мешками были постоянно полузакрыты оттого, что он принимал болеутоляющие с содержанием опиатов и валиума (именно эту комбинацию мать попросила своего врача прописать и ей). По нескольку раз в день у него были приступы кашля, которые продолжались до десяти минут, начисто убивая все разговоры, которые могли происходить поблизости. У него действительно были проблемы с легкими. Я постукивала его по спине во время этих приступов, словно у него кость в горле застряла, и спрашивала: «Не в то горло пошло?», а Лиша выносила ему стакан воды. После приступов кашля он всегда оставлял вокруг себя массу скомканных салфеток. Однажды я развернула одну из этих салфеток и тут же бросила на пол, словно она была радиоактивной, потому что увидела на ней кровь. Дитер быстро выкинул их в мусорное ведро.
Гордон жил на окраине города вместе со своей матерью. У него был луг, на котором паслись наши лошади.
– Ты чем зарабатываешь? – спросила я его однажды. В тот момент он учил меня, как забрасывать лежащий на обратной стороне ладони фундук прямо в рот.
– На своих вложениях, – ответил он, отчего Джоуи начал смеяться так, что смех перешел в приступ кашля. Я постучала его по спине, но мать отозвала меня в туалет и объяснила, что невежливо спрашивать людей о том, чем они зарабатывают. В Техасе все было наоборот. Там работа человека считалась зачастую более важной, чем его пол. Ты знал, на каком заводе человек работал и к какому профсоюзу принадлежал – тимстеров[56], трубоукладчиков или работников нефтяной, химической и атомной промышленности.
Когда по утрам я спускалась со второго этажа, то на диване в гостиной неизменно находила Джоуи или Гордона. Я должна была разбудить водителя и отправить его прогревать машину, чтобы отвезти нас в школу. Мы могли бы легко и дойти до школы пешком, но мать считала, что будет правильнее, если нас привезут на машине. Я ставила на плиту чайник для заварки кофе еще до того, как делала себе хлопья на завтрак. Громкий свист чайника разбудил бы и мертвого.
Однажды прохладным воскресным утром мать отправила Гордона и Джоуи вместе с нами на пастбище, на котором паслись наши лошади. С момента переезда в Антилоп мы умоляли маму разрешить нам покататься верхом.
Разрешить нам покататься мать подвинуло появление в баре ковбоя, который хотел продать красивые уздечки. Он ехал в Вайоминг, чтобы сделать предложение своей девушке, и ему были нужны деньги. Он даже показал нам фотографию девушки-блондинки в короне со стразами. Мать посмотрела на фотографию девушки, на круглое, как луна, лицо ковбоя и незамедлительно приказала бармену налить всем присутствующим за счет заведения. Потом она залезла в кассу, вынула пригоршню банкнот и пошла с ковбоем к его машине, чтобы купить его уздечки.
На следующий день на рассвете Джоуи и Гордон отвезли нас на пастбище.
За ночь земля и трава покрылись инеем. Небо было темно-синим. Лошади стояли и ели сено из копны на фоне разваливающегося сарая. Я вспомнила, какой сильной чувствовала себя на спине своей лошади, как мы неслись, словно единое целое, и как я наклонилась, чтобы на скаку схватить красный флажок, воткнутый в ведро с песком (за что и заработала свою красную ленточку). Усилием воли я заставила себя не броситься бегом к лошади. Я приближалась к ней медленно, цокая языком так, как учил меня отец.
Лошадь меня заметила. Когда я подлезла под колючую проволоку, она подняла голову, навострила уши и перестала жевать сено. Мне даже показалось, что она кивнула головой на длинной шее в виде приветствия.
Мы с сестрой наверняка представляли собой жалкое зрелище – приближались к лошадям, позвякивая уздечками, а за нами тащились пахнувшие перегаром Джоуи и Гордон в длинных пальто и костюмных ботинках. Несмотря ни на что, я почему-то была уверена в том, что лошади, завидев нас, понесутся к нам галопом, как к молодой Элизабет Тейлор в картине «Национальный бархат»[57]. Но выражение темных круглых глаз моей лошади не было радостным, напротив, в них я увидела тоску. Казалось, что в лошадиных глазах было написано: «О Боже, только не это!»
Гордон и Джоуи ничего не понимали в лошадях, и устали смотреть на то, как мы с Лишей терпеливо протягиваем лошадям пучки травы в ожидании, что они к нам подбегут. Гордон заговорщицки присел около нас и, как тренер школьной футбольной команды, объяснил свой план действий. Согласно его плану мы с Лишей должны загонять лошадей в сторону Джоуи и Гордона. Я прекрасно понимала, что ничего хорошего из этого не получится – лошади были гораздо быстрее Гордона и Джоуи, не говоря уже о том, что последние не умели надеть уздечку.
Мы с Лишей наблюдали, как эти двое пытаются поймать животных. Гордон бегал слишком медленно. Джоуи бегал быстрее, но постепенно выдохся. Видимо, в какой-то момент содержание алкоголя в его крови резко упало, и он плюхнулся задом прямо в кучу навоза, отчего у него на плаще появилось большое мокрое пятно.
Самим лошадям эти игры понравились. Когда их преследователи уставали, животные сбрасывали скорость, как бы дразня их.
В то утро мы прошли почти до конца пастбища. Я даже не знаю, сколько километров в тот день мы преодолели. Мы с Лишей вернулись к машине и стали есть крекеры из бардачка. Мы видели, что неудачливые преследователи вышли к границе пастбища, за которой начинались каменные завалы. Лошади стали перебираться через завалы, а мужчины махнули рукой и повернули назад к машине. Гордон слегка прихрамывал, а Джоуи каждые двадцать метров останавливался и складывался пополам из-за приступов кашля.
XII. Алкогольный трип
Осень прошла и пришла зима. Снег несколько раз шел, но его было мало, чтобы кататься на санках. Мать уговорила местного доктора выписать ей таблетки для похудания. Получив таблетки, она засунула их во внутренний карман своей сумочки «Коуч» – туда, где раньше хранила детский аспирин. Она утверждала, что таблетки «поднимали» ее в те дни, когда у нее было похмелье и она не могла встать с кровати. Такие дни я называла «днями императрицы», потому что тогда мать ничем не занималась. Она курила и, перелистывая страницы старого номера «Вог», слушала, как блюзовые певицы воют о том, какие все мужики подлецы. В такие дни мы с Лишей не волновались за судьбу мамы. Нам даже нравилось, что она все время валялась в кровати. Но с появлением таблеток все изменилось.
В мамином голосе появились раздраженные нотки. Даже простая просьба о деньгах на школьный обед могла вывести ее из себя. Она начинала носиться в поисках бумажника, громко хлопая дверьми, и орала постоянно спящему Гектору о том, что тот ленивый сукин сын. На таблетках для похудания самого мелкого повода было достаточно для того, чтобы она начала сходить с ума. После того как мы с Лишей выучили основной ингредиент этих таблеток, которым оказался метамфетамин, мы придумали частушку:
Метафаметамин, Таблетки от похудания, Метамфетамин, Таблетки для офигевания.Мать действительно похудела. Острым концом ледоруба она проделывала себе новые дырки в ремне из крокодиловой кожи. Кроме того, таблетки сделали мать нечувствительной к алкоголю. Она и до этого могла много пить, но теперь начала пить день и ночь напролет. Ее не рвало, и она не отключалась. Она постоянно говорила с северным акцентом. Она в буквальном смысле перестала спать. За все те месяцы я ни разу не помню, чтобы мама спала. Можно было проснуться в любое время ночи и спуститься в пижаме вниз, чтобы застать ее со стаканом алкоголя и книгой.
Она начала читать книги авторов с непроизносимыми именами и утверждать, что экзистенциализм – это философия отчаяния. Лиша принялась прятать книги французских авторов в глубинных недрах книжной полки, потому что от их чтения мама с блеском распиналась о самоубийстве. Она спокойным голосом повторяла, что для некоторых самоубийство – это самое лучшее, что человек может сделать со своей жизнью.
Мы с сестрой никогда не обсуждали вопрос самоубийства матери. Но если мама слишком долго принимала ванну, Лиша становилась под дверью ванной комнаты и слушала, наклонив голову набок. Глядя на нее, я вспоминала поведение охотничьей собаки, с которой ходят на перепелок. Казалось, что Лиша переставала дышать, прислушиваясь к звукам, которые могли бы свидетельствовать о том, что мама жива и здорова.
Я бежала по коридору, напевая, и совершенно не подозревала о том, почему сестра так переживает. Лиша хватала меня за руку и прикладывала палец к губам, а ее лицо искажалось от гнева. На слово «самоубийство» у нас было табу. Мы никогда не произносили его.
Лиша и я стали настолько суеверными, что перестали заниматься спиритизмом, вызывать и разговаривать с духами.
Я начинала чувствовать отчаяние матери и ее глубокое ощущение того, что она несчастна. Однажды ночью, когда Гектор спал, а я лежала с открытыми глазами, мать присела на край матраса и зачитала мне «Миф о Сизифе» Альберта Камю. Она даже научила правильно произносить его имя и фамилию, чтобы я не ударила в грязь лицом во время коктейльной вечеринки и не показала, что я выросла в колхозе.
Жизнь Сизифа оказалась хуже, чем у всех нас. Он был обречен день и ночь без отдыха потеть, напрягаться и толкать камень в гору. Но самое печальное то, что как только Сизиф выкатывал камень на вершину горы, тот срывался и катился вниз, и Сизифу приходилось начинать все сначала. Мать закрыла книгу и сказала, что мучения Сизифа длятся вечность.
Я лежала в кровати и ждала счастливого конца или морали этой истории. Наверное, я об этом и спросила мать, потому что та заложила прядь волос за ухо и сказала, что нет смысла мыть посуду и заправлять кровать, потому что все это сизифов труд. Человек делает эти действия до смерти.
Скорее всего, первое предложение по-французски, которое я выучила, было взято из этой книги. Это фраза il faut souffrir, которая переводится: «Человек должен страдать». Непонятным образом в моей голове страдание стало связано не с добродетелью, как восприняли бы мораль этой басни мои знакомые дети-баптисты в Техасе, а с умом. Умные люди страдали, глупые не страдали. Мать неоднократно говорила об этом, когда мы жили в Техасе. Помню, как однажды мы проезжали мимо парней, которые продавали дыни прямо из пикапа, улыбаясь так, словно на свете не существует занятия лучше. Мать покачала головой и произнесла: «Бог ты мой, какие они счастливые невежды». Отец придерживался другого мнения, потому что ему нравились маленькие и невинные удовольствия – сахар в кофе, то, что пересмешник ответил на его свист, и так далее.
Отца не было с нами, и мне начало передаваться отчаяние матери. Счастье – это удел идиотов, туман, в который ты попадаешь. Постоянная и тихая боль – это удел думающих людей, которые помнят о том, что они смертны, и живут в состоянии перманентного отчаяния.
Мой мир перестал быть радостным и разноцветным. Небо стало серым, как солдатская шинель, а облака – нарисованными мелом завитушками. Деревья роняли листву. Сквозь жалюзи на окне мы с Лишей смотрели слайд-шоу того, как осень превращается в зиму. На протяжении нескольких дней соседи сгребали граблями листву, а их дети прыгали и падали в кучи разноцветных листьев. Казалось, что мир превратился в рекламу «Кодак». Потом все листья сожгли в бочках на улице или прямо на участках.
Однажды я сказала сестре:
– Странно, что мы считаем, что на деревьях должны быть листья, потому что полгода они стоят совершенно голые.
В школе я обводила взглядом своих сонных и апатичных одноклассников. Один из них рассматривал пятно вытекшей на миллиметровую бумагу изо рта во время сна слюны, другой ковырял в носу. Даже дежурная по классу дочь директора, которая считалась самой умной ученицей класса, обрисовывала свою ладонь на листе бумаги. Я не представляла себе, как можно жить такой тихой и до идиотизма удовлетворенной жизнью, когда так хочется орать, бегать и пнуть кого-нибудь в голень.
Мать с Гектором два раза уезжали в Мексику. Мать лелеяла планы покупки там участка земли и создания коммуны художников, в которой она могла бы рисовать. С того времени, как мы поселились в Колорадо, мать не сделала ни мазка на картине. Она купила массу художественных товаров, которыми заставила целую комнату. Меня так и подмывало открыть какой-нибудь из тюбиков масляной краски, которые аккуратно лежали в коробке, но я знала, что лучше этого не делать. На новой палитре с дыркой для пальцев не было даже и намека на выдавленную на нее краску. Все кисточки из соболиного меха оставались в своих индивидуальных бумажных пакетах. Мать купила несколько уже натянутых холстов, которые стояли у стены, как окна, ведущие в никуда. Мы с Лишей придумывали названия для этих изображающих пустоту картин: «Белые медведи во время снежной бури» и «Пудра талька на Луне».
Мать в Колорадо не рисовала, а землю в Мексике так и не купила. Они с Гектором пили, ругались и возвращались из Мексики, страдая от поноса.
Когда они уезжали в первый раз, нас с Лишей оставили у родственницы Гектора. Это была девушка двадцати лет, которая на социальное пособие воспитывала двух карапузов. Мы называли ее Перти. Она была маленькой и похожей на птичку, с копной черных волос, которые регулярно «приручала», наматывая по ночам на пустые консервные банки. Мне кажется, что двое ее детей были самыми глупыми на свете, но Перти моего мнения не придерживалась, и ее до слез трогало любое клокотание, которое вырывалось изо рта ее чад. «Бедный nanito[58]», – ворковала она, а я только и думала о том, чтобы подушкой придушить ее детишек.
Эти дети не были близнецами, но в моей памяти они остались похожими как две капли воды. У них были огромные, раскачивающиеся на шеях головы, которыми они бились об углы мебели и которые перевешивали их тела, приводя к тому, что дети часто падали на ровном месте. Лиша быстро научилась затыкать этих детей при помощи соски или бутылочки с молоком. Я в это время мрачно читала, сидя в углу.
На вторую ночь нашего пребывания у Перти в дом ворвался ее в стельку пьяный муж. Он орал, и я поняла, что он пришел забрать своих детей. На месте Перти я отдала бы их, не раздумывая, но Перти сорвала с волос консервные банки и спрятала нас с сестрой и своих детей под кроватью, наказав не произносить ни звука. Я лежала под кроватью и смотрела на полоску света, падающую из кухни, в которой Перти общалась со своим мужем.
Мне было сложно сидеть тихо. Даже когда мы играли в прятки, меня чаще всего находили именно потому, что я не могла сидеть тихо. Под мышкой я держала толстого, вонючего и скользкого ребенка, паутина свисала с пружин матраса прямо в глаза, а пол под кроватью был покрыт толстым слоем пыли.
Голоса на кухне становились все громче, а ребенок у меня под мышкой все неспокойнее. Лиша больно стукнула меня по голове, чтобы я утихомирила своего карапуза, и я закрыла его рот ладонью.
Мне кажется, что прошло много времени. Потом раздались громкий звук разбивающегося стекла, быстрые шаги по коридору и вопли Перти о том, что ее убивают. Потом машина ее муженька быстро отъехала от дома.
Мы вылезли из-под кровати и бросились к Перти. Как выяснилось, ее муж разбил головой жены стекло, вставленное в кухонную дверь. Лицо Перти было в крови, и дети начали орать. Я помню, как Перти многословно объясняла полицейскому, как муж угрожал ей, душил, а потом пробил ее головой стекло. На розовой ночной рубашке были мелкие кусочки стекла. Медик «Скорой помощи» наложил Перти повязку на рассеченную бровь.
Во второй раз, когда мать с Гектором уехали, нас оставили у сестры Гектора по имени Алиса. Она была толстой и старой, как и ее муж Ральф. Седые волосы на голове были выложены короной, как у оперной певицы. Алиса была одинаковой в длину и в ширину. Однажды вечером она стояла у плиты, жарила тортильи и спорила с мужем о стоимости автомобильной страховки, как тот неожиданно на нее бросился. Но Алиса быстро отреагировала, ударив его по лбу сковородкой, что мгновенно остановило Ральфа. Когда на следующее утро все мы собрались на завтрак, в центре лба Ральфа была огромная синяя шишка, словно прорастающий рог молодого козла.
После этого инцидента в кухне Алисы я наотрез отказалась, чтобы мать оставляла нас у чужих людей, что похоронило все ее планы о поездках в Мексику. Мать не уезжала из Антилопа и начала проводить время, ходя от одного окна к другому, как и раньше в Техасе.
Однажды в три часа ночи я спустилась со второго этажа и увидела, что мать сидит у пианино. В ее волосах были бигуди. Перед ней стоял высокий бокал с красным вином, а в хрустальной пепельнице дымился «Салем». На пюпитре на пианино стоял раскрытый роман Жан-Поля Сартра «Тошнота».
Для того чтобы я заснула, мать смешала для меня красное вино с «Севен Апом» и принесла в кровать в одной из своих лучших фарфоровых чашек. Пузырьки «Севен Апа» поднимались вверх сквозь красное вино, словно раскаленная лава из центра земли.
До той ночи я уже неоднократно пробовала самый разный алкоголь. Я даже однажды пила шампанское на чьей-то свадьбе. Весь алкоголь, который я пробовала, мне категорически не нравился. Можно было сделать пару глотков папиного соленого пива под устрицы в жаркий день. Но даже от пары глотков я начинала чувствовать себя неважно. А смешанные с кока-колой виски или скотч только обжигали мне горло.
Алкоголь я связывала со ссорами родителей. Много раз ночью в Личфилде, когда родители ругались за закрытой дверью спальни, я пробиралась на кухню, собирала их бутылки и выливала содержимое в раковину. При этом я всегда отворачивала в сторону лицо – мне не нравился и казался опасным запах алкоголя.
Все изменил первый глоток, который я сделала из фарфоровой чашки матери. Я уже сто раз слышала от нее историю, как открывший и создавший первое шампанское монах сказал, что пить шампанское – это пить звезды. Неожиданно я поняла смысл этой истории. Вино с пузырьками показалось мне необыкновенно приятным. «Вот что значит пить звезды», – подумала я. Я чувствовала, словно во рту рождаются новые галактики. Чтобы убедиться в своей правоте, я сделала еще один глоток, другой. И как в первый раз, произошел космический взрыв вкуса, и я почувствовала во рту и в горле тепло. Тепло разлилось по всему телу. В самом центре моего существа словно распускался цветок. Это сравнение я наверняка украла из какого-нибудь стиха, но именно так я себя и чувствовала.
Когда содержимое чашки закончилось, я поставила ее на блюдце со звуком, который сказал мне, что мир вокруг изменился. Я смотрела на свои ноги, которые показались мне белыми, далекими и красивыми, как у статуи. Я посмотрела на мать. Бигуди в ее волосах уже не делали ее похожей на Медузу горгону и выглядели почти элегантными. Лицо матери неожиданно помолодело и разгладилось. Ее кожа и зеленые глаза светились. И тут я поняла, зачем и почему люди пьют алкоголь, от которого их рвет, они начинают путать слова и говорить несвязно. Я поняла, почему здоровая, но пьяная женщина может въехать на машине в бетонную стену. Алкоголь способен сделать жизнь человека лучше, потому что все в голове проясняется. Я вспоминала сказки, в которых рассказывалось о волшебных эликсирах, о ведьмах Шекспира в пьесе «Макбет» и о том, что они варили в котле.
Потом я долго лежала в кровати и чувствовала, что тело стало ватным. Мне казалось, что матрас плывет, как корабль в море. Чтобы избавиться от ощущения того, что все кружится, надо зацепиться взглядом за что-то, и тогда «качать» станет меньше. Я уставилась на висящий на стене портрет кисти матери под названием «Мэк-нож». Эту картину мать привезла из Техаса. Меня это немного удивило, потому что на картине был изображен не кто-либо, кого мы знали, а какой-то темноволосый француз с миндалевидными глазами. На самом деле этот человек мог быть и не французом. Но мне казалось, что он очень похож на того человека, который был изображен на обложке книги Сартра – того, кто, по словам матери, хотел блевать только оттого, что он жив. Нельзя сказать, что Мэк-нож был очень красивым. У него было бедное и одутловатое лицо. Тем не менее это была хорошая картина. Казалось, что мужчина на портрете с грустью смотрит мне в глаза.
После того как мать вернулась в гостиную, я обратилась к этому грустному человеку с впалыми щеками и прочла молитву:
– Дорогой Мэк, – произнесла я, – помоги мне не наблевать на простынь. И пожалуйста, сделай так, чтобы мама не нашла ключи от машины в кадке с фикусом. Аминь.
Ночами мать часто ругалась с Гектором. Она утверждала, что Гектор – лентяй и трус. Он не имел работы и жил за счет матери. Иногда по утрам, когда они оба страдали от похмелья, он начинал просматривать газеты в поисках объявлений о найме барменов, мать садилась к нему поближе и говорила, чтобы он бросил это дело, потому что если ему не надо идти на работу, то они могут заниматься любовью днем.
Гектор не лучшим образом переносил алкоголь. Он постоянно все забывал, шатался, падал и говорил так, что ничего невозможно было разобрать. Однажды утром я услышала, как мать орала на него за то, что он в очередной раз описал кровать. В другой раз, когда на кухне были Гордон и Джоуи, мать громко заявила, что у Гектора вообще не встает. Мать стояла около деревянного кухонного стола и, постучав по его поверхности костяшками пальцев, заметила:
– У Пита член был всегда вот такой твердый. Всегда.
Я не знала, как реагировать на эту новость, но Гектора она явно расстроила, и он пристально уставился на дно своего стакана, словно собирался гадать на виски со льдом.
У матери появилось желание себя изувечить. Мы ехали в машине домой после одного не особо приятного ужина, когда она открыла дверь автомобиля и выбросилась на дорогу. Вот она сидела в пьяном ступоре на переднем пассажирском кресле, а через секунду ее уже нет. Свет в салоне «Импалы» включился. Открытая дверь скребла сугробы снега на обочине. Гектор быстро остановил машину и, одетый в расстегнутое пальто, вышел за матерью. Через несколько минут они вернулись. На матери было белое кашемировое пальто и запачканные грязью брюки клеш.
Слава богу, мать не пострадала во время падения – она упала в сугроб. Мама с Гектором долго смеялись над этим. Передняя пассажирская дверь машины закрылась, и в окне снова понеслось темное небо.
Потом прошло много незапоминающихся и серых дней и ночей, из которых в памяти остался только один день, когда взрослый мужчина, который пришел за мной ухаживать во время болезни, засунул мне, восьмилетней, в рот свой член. Все воспоминания той зимы группируются вокруг этого воспоминания, словно оно является эпицентром шторма.
Я не пошла в тот день в школу, потому что у меня была температура. Я спала, а потом проснулась в поту. Тот, кто должен был в тот день за мной присматривать, оставил на тумбочке рядом с кроватью тарелку куриного с вермишелью супа Кэмпбелл. Суп обильно поперчили и подали так, как я его люблю.
Я сидела в кровати в лучах света из окна и уже, наверное, в сотый раз читала «Паутину Шарлотты»[59]. Мне было так приятно оттого, что трое паучат стали вить свою первую паутину над улыбающимся и лежащим в грязи Уилбором, что захотелось об этом кому-нибудь рассказать. Я громко кричу, чтобы сестра на первом этаже услышала и пришла послушать то, что я ей хочу сказать.
Но вместо сестры приходит этот мужчина. Я рассказываю ему о Шарлотте, Уилборе и трех паучатах. Я очень хорошо помню сюжет книги и думаю, что папа мог бы мной в этот момент гордиться. Мужчина говорит, что особые друзья помогают человеку не чувствовать себя одиноким. Он спрашивает меня о том, хочу ли я быть его особым другом.
Я встаю и достаю свой дневник, в котором у меня записаны ритуалы вступления в клуб вампиров. Ноги, закрытые ночной рубашкой, покрываются мурашками. Я так рада, что наконец кто-то захотел стать членом клуба.
Я нахожу дневник, снова ложусь в кровать и объясняю ему правила инициации. Однако когда я поднимаю глаза от страницы, чтобы узнать, как он реагирует на мои слова, его настроение кардинально изменилось. Я вижу, что внутри штанов под ширинкой у него стоит. Его ширинка находится как раз на уровне моих глаз. На ум приходят плохие слова – «сухостой», «стояк» и так далее. Я думаю о том, что то, что я знаю эти плохие слова, является доказательством того, какая я плохая.
Может быть, этот мужчина, который сейчас медленно расстегивает перед моим лицом ширинку, зубья на молнии которой похожи на зубы дракона, слышит, что я повторяю в уме это слово. То, что я знаю это слово, притягивает его член, словно магнит, и заставляет его расти в штанах.
Я помню то, что вампир не мог войти в комнату до тех пор, пока девушка не сняла со стены распятие и сама не пригласила его войти. Эта девушка сделала все это, хотя не хотела этого делать. Стремясь избавиться от вампиров, люди вешали в комнате головки чеснока. Они оборачивали оконные ручки четками. Никто не хотел впускать в дом ужасных вампиров. Но когда за окном в лунном свете появился вампир, девушка в ночной рубашке настолько попала под его влияние, ее настолько поразил голод вампира, что она сняла со стены «обереги». Связка головок чеснока упала с оконной ручки, и вампир влетел в комнату, чтобы обнять ее своим черным плащом.
Вот какие мысли проносятся у меня в голове в то время, когда тот, кто должен со мной посидеть, расстегивает молнию на своих штанах. Он засовывает руку внутрь, и, глядя на то, что он делает, мое дыхание замирает. Я боюсь его обидеть, а также сказать что-нибудь не то. Поэтому я просто сижу и делаю вид, что меня здесь нет. Я страшно волнуюсь по поводу того, что может произойти.
Я вспоминаю, как соседский мальчик уложил меня на пол в гараже Картеров и как он дрыгался на мне. Я наверняка тогда потеряла девственность, хотя в тот момент этого не почувствовала, потому что думала лишь о том, чтобы он побыстрее закончил. Я знаю, что он тогда со мной очень плохо поступил, и думаю о том, что из-за его поступка я навсегда изменилась.
Девочки постарше в школьном туалете говорили о том, что очень легко понять, какая девочка трахалась, а какая нет. Лиша сказала мне, что одна девочка, у которой «утиная» походка, то есть она при ходьбе выворачивает носки наружу, вот именно та девочка точно трахалась. Меня это немного успокаивает, потому что я самая косолапая во всей школе.
Член мужчины выпрыгнул из его узких штанов. Он был красным, словно был чем-то недоволен, и распухшим, словно ему больно. При виде члена так близко у моего лица все внутри меня сжалось. Мужчина помахал мне членом и, придерживая его за основание, придвинул поближе к моему лицу. Я еще никогда в жизни не видела такого большого члена и так близко. Меня удивляет, что на его головке есть разрез для выхода мочи, похожий на разрез на пироге, чтобы он лучше пропекался. В отличие от соседского мальчика, мужчина не водит вверх и вниз рукой, он нежно держит свой член в руках, словно показывает мне хомяка. Я плотно свела вместе ноги. Я чувствую, что в душе прошу, чтобы этот член не сделал мне больно.
Мужчина сверху смотрит на меня так, как смотрят на собаку, которая попрошайничает у обеденного стола. Он протягивает свою большую руку и берет меня за голову. Этот жест похож на тот, который делал Иисус на картинке в детской Библии, над которой написано большими буквами: «Страдайте, маленькие дети…» Но я уверена, что стоящий передо мной человек не Иисус, потому что хотя он и гладит мою голову, прямо в лицо мне утыкается его член.
Он с нежностью говорит о том, что никогда на свете не сделает мне больно. Ни за что и никогда. Он любит меня, мы с ним особые друзья. Вот это – тут он поглаживает ладонью свой член, который вздрагивает, – является доказательством того, что он меня любит. И он снова направляет его на меня.
Я не думаю о том, как от него убежать. Я знаю, что это невозможно. Даже если я доберусь до кухни и телефона, что я скажу? У меня есть свое собственное понимание своей вины. Я думаю, что это понимание есть у каждого ребенка, и происходит оно, вероятно, благодаря тому, что ребенок меньше и слабее взрослых. Нет, я не смогу от него убежать. Я не понимаю, почему никто не появится в дверном проеме и не спасет меня от этого мужчины. Если Господь сотворил землю, как говорит Кэрол Шарп, почему же он не пошлет мне на помощь ангелов, которые отрубили бы член этому человеку в самом его основании? Кэрол Шарп наверняка сказала бы, что все, что сейчас со мной происходит, является частью плана, который создал для меня Господь.
Может быть, все происходящее является наказанием за то, что я отпугнула отца? Или за то, что у меня не хватило смелости уехать с ним. Или за то, что довела маму до такого состояния, что она не может писать, потеряла рассудок и сожгла все наши вещи.
Мужчина начинает говорить заговорщицким шепотом. Он просит меня раскрыть рот и поцеловать его член. И я делаю это. На самом деле это не так страшно, если закрыть глаза и представить себе, что это – это маленький лысый человечек. Я должна сказать, что в сосании члена, наверное, есть что-то фундаментально-врожденное, и, говоря себе, что ты не прав, ты сетуешь на то, что судьба выбрала тебя для той роли, которую приходится исполнять. За ощущением того, что все это неправильно, проскальзывает то, что все это ты уже знаешь. И страх, который ты чувствуешь в животе, – страх вампиров, американских горок или того, что ты описаешься, – имеет некоторые до боли знакомые аспекты, словно ты падаешь с высоты.
После того как я целую его член, я отвожу голову, мужчина говорит, чтобы я высунула язык и полизала его, как будто это леденец. На этот раз, когда он приближает член ко мне, я чувствую, что он совсем не пахнет туалетом. Его запах похож на запах живого свежеиспеченного дрожжевого хлеба. И из разреза сочится маленькая капля.
– Я не сделаю тебе больно, – говорит мужчина. Эти слова зависают в воздухе, как бабл комикса. Это самая настоящая ложь, потому что голос у мужчины стал просящим и в нем чувствуется боль.
– Открой рот пошире, – просит он. И я открываю шире рот. Мясистая головка его раздвигает мои губы и входит в него. Я шире открываю рот, но зубы касаются кожи головки, и мужчина отдергивается.
– Осторожнее зубками, – говорит он. Потом он говорит, что я должна шире открыть рот и сказать «Аааа» и при этом прикрыть губами зубы. Я делаю то, о чем он меня просит, и на этот раз у меня получается лучше, потому что я слышу, как он произносит: «Вот так, хорошо» и «О, да!». Его дыхание учащается.
Потом он неожиданно начинает крепче сжимать мою голову. Вся нежность исчезает. Я чувствую, что он даже не в состоянии говорить. Это меня удивляет, потому что я стараюсь изо всех сил и делаю то, о чем он меня просит. Я даже не плачу, хотя слезы так и льются по моему лицу. Но мне кажется, что это не мои слезы, а слезы кого-то, кого показывают по ТВ, или слезы куклы. Мне кажется, что его член стал еще больше и твердым как камень. Этот член проникает мне глубоко в горло, мне кажется, что он достает до места на затылке, в котором я чувствую боль. Горло у меня забито, и мне даже кажется, что у меня вырывают гланды. Кроме этого мясистая головка перекрывает доступ воздуха, и у меня начинается рвотный рефлекс.
Он чувствует, что я задыхаюсь, и вынимает член из моего рта. Мне становится лучше. Но он все еще крепко сжимает мою голову и снова засовывает член мне в рот, но на этот раз уже не так глубоко, и я могу дышать. Рвотный рефлекс проходит. Глаза у меня сильно слезятся. Я думаю, что сейчас умру, вот еще чуть-чуть и точно умру. Человек не в состоянии такое выдержать. Тут он начинает глубже насаживать меня, подталкивая рукой мою голову. Я чувствую, что в горле член начинает разбухать и увеличиваться, словно гриб, и у меня снова появляется рвотный рефлекс.
Потом я чувствую, что в горло впрыскивают что-то теплое и влажное. Он писает мне в рот, я в этом уверена. В Техасе во время сбора скаутов один знакомый мальчик написал в рот своего спящего брата. Но то, что у меня в горле, не похоже на мочу. Это густая субстанция наподобие сливок, которая не течет ровной струей, а постепенно выплескивается в горло. Я пытаюсь отодвинуть голову, но он крепко меня держит. Я чувствую соленый и немного химический привкус, похожий на хлорированную воду бассейна.
После того как он кончает, он вынимает из меня член и снова становится ласковым. Гладит меня по спине, и меня рвет прямо на ночную рубашку. Он гладит меня так, словно прощает за все плохое, что я сделала. Меня рвет до тех пор, пока в желудке ничего не остается. Он говорит, что все хорошо. Он говорит, что я молодец, хотя я совершенно четко понимаю, что это не так.
Потом я лежу в кровати и смотрю в окно. Я думаю о том, что по другую сторону окна материализуется Дракула и просит, чтобы я впустила его внутрь. Я кричу мужчине, чтобы он вошел в комнату, а то мне очень страшно.
Я встаю и переодеваюсь в школьную одежду. Захожу в спальню Лиши и сижу в ее комнате на стуле. Мои ноги не достают до пола. Я сижу тихо, как сидят во время охоты на птиц или во время рыбалки на червяка, когда надо забросить удочку и ждать.
Когда наступает утро, мать входит в комнату и тряпкой вытирает пятно рвоты с ковра. Она приносит плошку с содой и водой, макает в нее тряпку и трет ковер. Она спрашивает меня о том, как я себя чувствую, и говорит, что мне, наверное, сегодня не стоит идти в школу. Я говорю, что пойду в школу и что чувствую себя гораздо лучше.
XIII. Кровавое воссоединение
Вполне возможно, что если бы мама в какой-то момент не решила застрелить Гектора, то мы бы никогда не вернулись в Техас. Но Лиша не перенесла вида в стельку пьяной мамы, держащей никелированный пистолет с инкрустированной перламутром рукояткой. Такой пистолет могла бы вынуть из сумочки дамочка в вестерне и направить на пьяного и играющего в карты ковбоя. Однако если бы кто-то заранее спросил Лишу о том, была бы она против того, чтобы мать застрелила Гектора, сестра могла бы сказать, что в принципе не имеет ничего против. Я бы тоже не очень противилась. В принципе это была не самая плохая идея, которая родилась в те не самые счастливые времена.
Мать и Гектор много времени проводили в баре. Мы оставались дома. Каждую ночь я следила за тем, когда они вернутся, стоя у окна. Бар находился очень близко, но мать могла въехать в какой-нибудь предмет с большей молекулярной плотностью, чем она сама и ее машина. Скажем, в столб или кирпичную стену. После закрытия бара я в полосатой пижаме из «Сирс» становилась у окна на втором этаже и ждала появления маминой «Импалы». Я вытирала ладонью заиндевевшее стекло, чтобы образовалось прозрачное пространство размером с кулак и можно было видеть гараж и подъезд к дому.
Мы с Лишей перестали ходить в бар «Лонгхорн» после того, как у его клиентов и работников появилось оружие. Руки всех этих людей постоянно тряслись, и с оружием никто из них не умел толком управляться. Бармен Дитер начал носить пистолет в кобуре под мышкой, закрытой фартуком, после того как ограбили находившийся неподалеку ресторан.
Через несколько дней после этого Гектор поехал в ломбард, чтобы купить пистолет своей родственнице, которая боялась пьяного бывшего мужа. Потом Гектор достал свой собственный кольт. Однажды, сидя за столом в баре, он начал играть с кольтом, прицеливаясь в идущих по Мэйн-стрит людей. Мне это не понравилось. В Техасе каждый четырехлетний ребенок знает, что никогда нельзя направлять оружие на живое существо, если, конечно, ты не хочешь его убить. С разряженным или даже сломанным пистолетом надо обращаться очень аккуратно.
Когда я увидела мамин никелированный пистолет с инкрустированной перламутром рукояткой, я не восприняла его серьезно. Он был очень похож на зажигалку, которую я однажды видела в магазине. Эта зажигалка была упакована в пластиковый пакет и висела среди других «приколов».
Мать сказала, что будет носить пистолет в своей сумочке «Коуч». Она хочет носить его на всякий случай, чтобы ее никто не тронул. Но кто, подумала я, осмелится тронуть мать? Я была совершенно уверена в том, что она в порошок сотрет любого обидчика. Выражаясь словами Лише, которая тогда уже ходила в шестой класс, этот пистолет был совершенно «излишним».
Вообще-то я нисколько не переживала по поводу оружия как такового. Я выросла в Техасе, и в Личфилде на заднем стекле практически каждого пикапа красовалась наклейка Национальной стрелковой ассоциации, а за сиденьем водителя была стойка для ружья.
Свой первый выстрел из огнестрельного оружия я сделала еще тогда, когда не ходила в детский сад. Это произошло в ночь перед Новым годом. Отец дал мне свой пистолет и помог навести его на луну над крышей нашего гаража. Ровно в полночь я нажала спусковой крючок, мою руку отбросило назад, но я даже не поморщилась. Когда я увидела, что луна осталась в черном небе, а не лопнула, как надувной шарик, я расплакалась. Потом у меня было духовое ружье, из которого я убила много воробьев и ласточек. После окончания первого класса я прикладывала к плечу приклад ружья десятимиллиметрового калибра, и отец вплотную становился за мной, чтобы меня не снесло с ног отдачей и мне не вывихнуло плечо. Той зимой и весной во время охоты на уток я уже уходила в болота с охотниками.
Однако появление огнестрельного оружия в баре меня очень взволновало. Люди, которые держали оружие в руках, явно не умели с ним обращаться. Все они были, по сути, клоунами. Как и Гектор, Гордон вынул свой магнум и стал целиться в прохожих, после чего уверил меня, что оружие стоит на предохранителе и в стволе нет патронов.
Однажды вечером в бар ввалился Джоуи и начал плакать. Он сказал, что его отец-шахтер умер в возрасте сорока лет, после чего взял мамин пистолет и приставил себе к виску. После этой истории мы с Лишей перестали появляться в баре.
Мать продолжала таскать пистолет в сумочке. И в ту ночь, когда она решила застрелить Гектора, оружие возникло у нее в руке мгновенно, словно по волшебству.
Лиша сидела за пианино и играла. Гектор вышел из спальни, расплескивая виски из стакана, и встал за спиной сестры. Лиша несколько раз сыграла песню «Бродячий кот»[60], и Гектор попросил ее забабахать гимн. Сестра сказала, что не в настроении. Тогда Гектор достал из кармана десятидолларовую купюру, аккуратно расправил ее на клавиатуре и сказал, что отдаст ей деньги, если она сыграет песню «Америка прекрасна»[61]. Я заметила, что «Америка прекрасна» не является гимном США. Гектор смотрел на меня пьяным и сентиментальным взором. Лиша встала, закрыла крышку пианино и заявила, что не собирается ничего играть.
После этого заявления Гектор должен был расстроиться и уползти, поджав хвост. Но почему-то в тот раз он обиделся. Возможно, потому, что во время обеда он рассказывал нам о том, что его брат погиб на Второй мировой войне. Гимн США был для него связан с похоронами брата, с тем, что офицер передал его матери сложенный флаг, а сам Гектор бросил горсть земли на стоящий в яме гроб брата.
Лиша встала, а лицо Гектора исказилось от злости, которой мы в нем до этого не замечали. Он настолько разозлился, что назвал Лишу избалованной сучкой. Никто из нас не стал бы спорить с тем, что мы с сестрой избалованные дети, но существительное «сучка» было явно лишним, и в следующее мгновение после этого в маминых руках оказался пистолет.
За окном было темно. На маме была шелковая ночная рубашка кремового цвета. Под ночной рубашкой был надет лифчик, охватывавший груди высоким конусом, отчего они напоминали жерло оружий. Гектор плюхнулся в обитое розовым ситцем кресло. Он наклонил голову, и на его шее собрались складки, как у бассет-хаунда. Он сказал маме, чтобы она стреляла, потому что его жизнь и гроша медного не стоит.
Я бросилась к Гектору и легла на него. Я решила, что мать не станет стрелять в собственного ребенка. И это мать несколько охладило. Глядя на меня, она прищурилась, словно я находилась где-то очень далеко.
– Отойди, – сказала она мне.
Лиша умоляла мать пощадить Гектора, а я максимально широко распласталась на его теле. От него пахло пеной для бритья «Берма Шейв» и скотчем. Я тонула в мягкости его живота и повернула голову, чтобы увидеть, что делает мать и произвели ли на нее эффект мои действия.
Мне казалось, что ее зеленые глаза покрылись поволокой тумана. Она явно раздумывала о том, что делать дальше, и даже немного опустила руку, державшую пистолет.
– Ах, мои бедные, бедные девочки, – произнесла она.
Потом ее лицо снова стало суровым и говорило о том, что она приняла решение.
– Слезай с него, Мэри Марлен, – сказала мать.
Гектор выдыхал перегар.
– Дорогая, – промямлил он, на что мать сказала, что бы он заткнулся.
Около маминого локтя возникла Лиша. Мне показалось, что выражение лица сестры напоминает лицо выступающего в суде адвоката Перри Мейсона[62]. Я бы не удивилась, если бы сестра достала указку и включила проектор, чтобы понятней донести до присяжных свои аргументы. Аргументация в данном случае была бы самой простой – если ты его убьешь, то, вполне возможно, получишь пожизненное заключение. Как-то так. Однако маме было наплевать на любые аргументы.
– По крайней мере, я сделала в этой жизни что-то полезное, – произнесла она и откинула назад голову, – я убила этого сукиного сына.
Она окинула Гектора взглядом, словно он был мул, на котором она собиралась пахать, и сказала, что он просто бесполезный кусок дерьма.
Гектор не противился воле матери и даже стал ее поддерживать, словно его убийство могло бы кому-нибудь помочь. Огромные крокодильи слезы текли по его лицу.
– Ты совершенно права, – сказал он. – Моя жизнь вообще ни хера не стоит.
Я повернулась в сторону Лиши, которая к тому времени перестала изображать из себя адвоката и выбрала новую тактику. В ее глазах, полузакрытых челкой белых волос, уже не было решимости. В них была усталость. Она обратилась к маме со стопроцентным техасским акцентом.
– На него нет смысла тратить даже пулю, – сказала сестра. Лиша поняла, что бесполезно бороться с гневом матери. Она хотела показать, что полностью разделяет ее мнение, и добавила: – Ты только на него посмотри.
Лиша закатила глаза. Можно было подумать, что сестра исполняет роль официантки, убирающей со стола матери и ставящей ей новый бокал.
– Даже если он загорится, – продолжала она, – всем будет жалко мочи, чтобы на него поссать.
Даже Гектор поддержал Лишу.
Потом сестра дернула меня за ногу и заявила, что хочет лечь на Гектора вместе со мной. Словно она поняла, как сильно от Гектора несет перегаром, и решила мне помочь.
Я увидела, что выражение лица Лиши снова изменилось. До этого она хмурилась и кривила рот. Ее лицо вообще потеряло выражение, став белым и аморфным, как тесто. Лиша сдалась. Я посмотрела на мать, которая целилась в Гектора из пистолета, рассчитывая выстрел так, чтобы не задеть нас с сестрой.
До этого я особо не боялась. Мне казалось, что во всем происходящем присутствует элемент клоунады. Бесспорно, меня волновало то, что происходит, но я вообще была нервным ребенком, который кусает ногти и раз в день обязательно что-нибудь проливает, например, стакан с водой. Но настоящий засасывающий страх, от которого кажется, что все кругом движется очень медленно и время останавливается, я уже давно не испытывала. Но я испытала этот страх, как только увидела выражение лица сестры.
Лиша шепнула мне в ухо, что я должна бежать к соседям Янишам. Мать собирается застрелить Гектора, поэтому я должна немедленно позвать кого-нибудь на помощь.
И действительно, казалось, что мать решилась. В руке, которая была белой, практически прозрачной, она держала совершенно реальный пистолет. Губы ее двигались, словно она читала молитву, хотя она точно не молилась. Лиша пыталась что-то говорить матери, но та ее не слышала. Ее волосы были в хаотическом беспорядке, зубы стиснуты, и рука с пистолетом не дрожала.
Резко я бросилась к двери, и мать не шелохнулась и не попыталась меня остановить. Я не оборачивалась. Я не хотела видеть, как черное дуло пистолета направлено на тело моей десятилетней сестры.
На улице холодно, ночь давит мне на плечи и мешает бежать.
Я иду по свежевыпавшему снегу, ступая в него, как в воду. Голыми ступнями я даже не чувствую холода. Я не замечаю, как ноги под ночной рубашкой покрылись мурашками. Я даже не до конца отдаю себе отчет в том, что я иду. Дверь дома Янишей из красного дерева становится шаг за шагом все ближе.
Мне кажется, что их крыльцо освещено золотым светом, а их звонок подсвечен. Пальцы, которые давят на звонок, должны быть моими, потому что я вижу явно свои собственные квадратные ногти с ободками грязи. За оконной занавеской проходит тень, дверь приоткрывается, из нее падает сноп света и на пороге появляется миссис Яниш в синем халате.
Я не помню, что именно я говорю, но мои губы и челюсти движутся. На улице очень холодно, и мне кажется, что слова, которые я только что произнесла, замерзают и падают еще до того, как я сама успела их услышать. Потом появляется мистер Яниш, вытирающий полотенцем дорожку в намазанной на лице пене для бритья. Он в майке и в черных штанах. На его груди висит медальон с изображением апостола Иуды, святого покровителя проигранных дел и несостоявшихся мероприятий. Если ты не можешь продать свой дом, надо купить статуэтку апостола Иуды, отнести священнику, чтобы тот окропил ее святой водой, и перед рассветом закопать статую головой вниз в саду около дома. К вечеру ты уже будешь сбивать молотком вывеску о продаже дома.
Видимо, я очень долго думаю об этом, потому что мое следующее воспоминание только о том, как я перехожу улицу по пути назад к нашему дому. Я стою у нашей входной двери и чувствую за спиной дыхание мистера Яниша. Синтетическая ткань его парки делает звуки «свуш-свуш-свуш», когда он двигает руками. Я все еще чувствую ментоловый запах его пены для бритья.
Мне кажется, что глупо стучать, а надо просто войти. Но он настаивает на том, чтобы я постучала. Никто не отвечает, и я вижу, что моя красная от холода рука начинает колотить в дверь.
Мистер Яниш одетой в кожаную перчатку рукой ловит мою ладонь, чтобы меня остановить, но я вырываюсь и колочу в дверь обеими руками. Я отвлеклась и не слушала, что происходило в доме матери. Я была невнимательной.
Наверное, я прослушала выстрел. А может быть, и не один, а пару или даже три. От этой мысли я с такой силой пинаю голой ногой дверь, что ноготь на большом пальце становится черным.
Неожиданно я вспоминаю растяжку, которую я видела на фасаде баптистской церкви в Личфилде, со словами: «Молитва меняет все». Я решаю, что короткая молитва может сделать так, чтобы я не застала в комнате трупы. Надо быстро помолиться, думаю я. Богу нужна жертва, и тогда он будет доволен.
Я вспоминаю, что Авраам был готов перерезать горло своему сыну, потому что Господь так приказал. Я решаю, что одна из пуль должна найти свою жертву. Я думаю о том, что одна из пуль должна убить Гектора.
Однако я чувствую, что Богу этого недостаточно. Он и так знает, что я хотела, чтобы Гектор погиб, поэтому его смерть жертвой не считается. Я вспоминаю, что дьякон Шарп, перекладывая конверт с подношением из кармана рубашки на поднос, всегда говорил, что давать надо так, чтобы тебе самому было больно. Получается, что я должна выбрать между мамой и Лишей. Я представляю себе, как мама лежит на полу в луже крови, а мертвая Лиша – на теле Гектора в кресле.
Мне хотелось бы написать, что я долго пыталась решить эту дилемму, но все было совсем не так. Я мгновенно соглашаюсь на то, чтобы пуля вместо меня убила мою сестру. Я представляю себе мертвую Лишу и прошу Господа о том, чтобы так оно и было. Потом я представляю себе мать, у которой пистолет падает из рук.
Видимо, Господь услышал мои молитвы. Любопытно, что вид у нее совсем не такой, какой должен быть у убийц. На ней черная водолазка, узкие штаны, а на всклокоченных волосах черный берет, словно блин на голове. Она говорит мистеру Янишу, что у них был небольшой семейный спор. Вы сами понимаете, как дети умеют преувеличивать. Оружие? Какое оружие, Бог ты мой?! Ее муж даже не охотник. Мать с укоризной смотрит на меня.
– Мэри Марлен, – произносит она с улыбкой и качает головой. Я еще никогда не видела мать такой серьезной. – У нее такое воображение.
Мистер Яниш просит разрешения войти в дом. Мать делает шаг в сторону, пропуская его.
Гектор все так же сидит в том же кресле в гостиной. Рядом с ним Лиша. На ее коленях книжка о Нэнси Дрю[63]. Мистер Яниш жмет ватную руку Гектора, смотрит на меня и говорит, что мы увидимся в школе.
Мы с матерью стоим на пороге и смотрим, как он отходит от нашего дома и переходит улицу. Мать обнимает меня одной рукой, чтобы мне было теплее, и тут я чувствую, что у нее за пояс брюк вставлен пистолет.
В ту ночь Лиша позвонила отцу. Она дождалась того, как Гектор отключится, а мать начнет делать на кухне попкорн. Я отчетливо слышала громыхание сковородки на плите.
Сестра приказным тоном сказала оператору, чтобы он ее соединил. Потом таким же приказным тоном сказала отцу следующее.
– Папа, ты должен купить нам два билета на самолет из Денвера.
Она не просила отца. В ее голосе не было и тени сомнения. Если бы с отцом тогда говорила я, то я бы рассказала ему о том, что в руках мамы был пистолет, Лиша лежала на Гекторе, а я ходила за директором школы. Получилась бы длинная история. Глядя на Лишу, я понимала, что тут никаких обсуждений не предвидится. Сестра пару раз сказала «Да» и «Нет» и не позвала мать к телефону для того, чтобы рассказать ее версию событий. Все было решено очень быстро.
Вот что мне кажется занятным во всей этой ситуации. Пятидесятилетний ветеран войны, человек, который пережил огромное количество драк в барах, спокойно выполнил указания девочки, которой совсем недавно исполнилось десять лет. Отец не согласился на план Лиши, потому что он был здравым и понятным. Нет. Отец сделал все, как просила сестра, только потому, что она была совершенно уверена в том, что делает.
Я накрутила телефонный провод на указательный палец. Карие глаза Лиши под темными бровями и залаченной светлой челкой были совершенно спокойными. Ее голос был ровным и уверенным. К тому моменту, когда она передала мне трубку, нас уже разделяли сотни и сотни километров. Она стала совсем другой. Я все еще жила в розовом детстве и волновалась по поводу того, что мать может застрелить нас во сне. Лиша вообще перестала задумываться о подобных мелочах. Она твердо решила выжить и пережить все трудности. Она знала, что сделает для этого все необходимое. Начиная с той секунды, она делала только то, что нужно было для нашего выживания.
Трубка, которую она мне передала, была теплой от ее уха. Отец задал мне только один вопрос.
– Дорогая, ты готова вернуться домой?
Я ответила, что, конечно, готова. И он ответил, что тоже к этому готов.
Утром мы умылись. Я тщательно почистила зубы, и мы оделись в нашу воскресную одежду. Рассвело, и мы смотрели на свои отражения в большом зеркале. Лиша так крепко завязала тесемки моего капюшона под подбородком, что я почувствовала себя сосиской, в которую запихали слишком много мяса. Я смотрела на лицо сестры и понимала, что она уже никогда не будет ребенком.
Наверняка матери было что сказать по поводу нашего отъезда. Она наверняка кричала, плакала или просто грустила. Но я ничего этого не помню. Я даже не помню, как Лиша объявила ей о том, что мы уезжаем. Все то, о чем говорили Лиша с мамой, улетучилось из моей головы. Даже образ матери во время расставания исчез, несмотря на то что между разговором с отцом и нашим отъездом наверняка прошло несколько дней. Все мы наверняка плакали, потому что в нашей семье любят плакать и закатывать сцены громких расставаний. Возможно, мать и без каких-либо конкретных обязательств говорила о том, что навестит нас, хотя я не помню, чтобы она сказала что-то подобное. Я даже не помню, пахло ли в ее машине, которая везла нас до аэропорта, духами «Шалимар».
Для доставки нас в Техас наняли Джоуи. Как только он добрался до бара в аэропорту, он мгновенно напился. Мы с Лишей сидели за стойкой бара и пожирали горстями арахис. Квадратные стулья, на которых мы сидели, были обиты кожезаменителем. На этих стульях можно было крутиться, и их края ударялись, как большие кожаные метрономы, отмечающие время. На стойке перед нами сидели, выпрямив спины, наши куклы-близнецы Барби, одетые в одинаковые платья из синего кринолина с серебряными поясами.
Войдя в самолет, усадив нас через проход от себя и сев на свое место, Джоуи первым делом схватил бумажный гигиенический пакет и громко в него блеванул.
В Альбукерке мы пересели не на тот самолет. Я не понимаю, как это произошло, потому что перед посадкой сотрудники авиакомпании проверяют, куда пассажир отправляется. Так что я даже и не знаю, как мы совершенно нелегально оказались в Мехико-Сити. Может быть, все это подстроил Джоуи по просьбе матери, которая питала необъяснимо теплые чувства к Мексике, или по собственной инициативе, неожиданно решив туда перебраться. Может, он хотел жить за три копейки в бунгало, окруженном пальмами, и чтобы принцесса ацтеков приносила ему своими маленькими изящными руками омаров с тортильями.
В любом случае наше появление не вызвало у мексиканских федералов на пограничном контроле бури восторга. Как выяснилось, Джоуи потерял свой бумажник, а вместе с ним и все доказательства своего американского гражданства. Джоуи утверждал, что бумажник упал в туалет. Он говорил, что вставал с унитаза, как ему стало плохо, и он согнулся пополам. Он не заметил, как его бумажник упал в синюю воду в унитазе. Потом, похлопав себя по карманам, он понял, что его документы со страшным звуком засосало в унитаз где-то над пустыней.
Капитан переминался с одной обутой в до блеска начищенный сапог ноги на другую, что-то шепнул на ухо одному из таможенников и махнул рукой, после чего к нам подошли двое полицейских с карабинами. Они взяли наши чемоданы и стали тормошить содержимое. Мои рваные колготки оказались у кого-то в руках, и ими какое-то время размахивали, как белым флагом капитуляции. Джоуи был похож на контрабандиста или мексиканца, пересекающего границу без документов. Мы стояли с тремя стюардессами чуть в стороне. Я заметила, что, несмотря всю серьезность ситуации, Джоуи постоянно хихикал.
В результате Джоуи задержали, а нас, к нашему удивлению, отпустили. Сотрудники авиакомпании даже позвонили нашему отцу и сообщили ему, что отправят нас в Техас.
Я так и не спросила у Джоуи, чего он добивался: хотел ли он нас похитить или просто решил пуститься в бега. Когда я видела его в последний раз, он стоял в окружении полицейских, и в свете флуоресцентных ламп его лицо было цвета оливки из коктейля. Его попросили снять обувь и носки. Он стоял на одной ноге, раскинув руки, как аист, и периодически заливался глупым смехом.
Нас отвели в столовую для работников аэропорта, и официант принес по огромной тарелке huevos rancheros[64]. Лиша предположила, что Джоуи планировал продать нас в рабство в Мексике. Мне очень не понравилась эта страшная история, и я пнула сестру ногой. Сопровождавшие нас стюардессы платили за еду, и я не хотела их расстраивать.
Тем не менее эта история нисколько не повлияла на отношение к нам стюардесс. Они внимали каждому слову Лиши, и своими руками с идеальным маникюром гладили наши головы. Через некоторое время они посадили нас на ночной рейс в Харлинген.
Я проснулась во время полета и увидела в иллюминаторе облака. Лиша спала в соседнем кресле. Казалось, что облака застыли в движении, словно кипящую воду в кастрюле заморозили в мгновение ока. Облака раздвигались перед летящим самолетом, уступая ему дорогу, и от этого зрелища мне показалось, что у меня еще есть какая-то надежда. Может быть, в моей детской жизни все сложится хорошо. Мне казалось, что меня в этой жизни ждут великие дела.
Мы с Лишей летели с пересадками, во время которых о нас заботились пилоты, стюардессы, сотрудники аэропортов и уборщики. Они кормили, поили нас и угощали шоколадом. Мы летели бесплатно, без одобрения руководства авиакомпаний. В моей памяти не сохранились лица этих людей, но когда я шла рядом с ними, во мне снова рождалась надежда на то, что все будет хорошо.
В Хьюстоне нас подвели к раскрашенному зеленым камуфляжем самолету, на фюзеляже которого был нарисован оскал акулы, а одна из дверей была крест-накрест заклеена клейкой лентой. Этот самолет стоял за ангаром вдали от всех остальных современных авиалайнеров. На носу пилота самолета были бифокальные очки. Он провел нас в кабину своего построенного в качестве военного самолета и посадил в пространство за креслом пилота, где, наверное, в свое время складывали карты и термос. Мы сели, прижав колени к подбородку. Когда пилот повернулся к нам, чтобы сказать, чтобы мы покрепче держались, мы с сестрой были похожи на двух выглядывающих из норки сусликов.
Самолет развернулся, прорезая прожекторами туман. Пилот нажал несколько кнопок на панели управления и что-то говорил в трещащее статикой эфира радио. Подпрыгивая на кочках, мы ехали по взлетной полосе. Из иллюминатора, затянутого тонким пластиком, мы видели крылья самолета. Шум от мотора стоял такой, как будто кто-то включил на полную мощность под ухом пылесос. Пилот с видимым усилием потянул вниз штурвал, словно силой мускулов пытался поднять нос самолета, и через минуту мы были в воздухе.
В облаках и тумане мы летели над округом Джефферсон. Иногда мы падали в воздушные ямы, отчего у меня в животе все сжималось. Пилот салфеткой протирал запотевшее стекло, но лучше не становилось – мы летели в условиях нулевой видимости.
После посадки мы вышли из самолета и стояли на взлетной полосе с чемоданами в руках. Здания аэропорта не было видно, лишь где-то высоко мутно светились желтым светом огни башни диспетчеров.
Недалеко от нас загорелись два глаза автомобильных фар. Я поставила свой чемодан и увидела, что сквозь туман к нам приближаются две человеческие фигуры, на одной из них была ковбойская шляпа, а другая фигура была высокой и долговязой, с длинными руками. Высокий человек перешел на бег, шаркая по бетону тяжелыми рабочими ботинками.
Фигура отца становилась все ближе и отчетливей, и вот наконец он нас обнял. Я почувствовала запах черного кофе, который он пил на работе, и запах мыла, которым он мыл руки после смены, а мою щеку уколола его щетина. Я чувствовала, что с другой стороны отца обнимает Лиша, наши руки переплелись, мы обнимали отца с двух сторон, словно заключили его в клетку.
Вторым человеком, который приехал с отцом, оказался некто по кличке Блу. Это был маленький, похожий на птичку человечек без цвета, запаха и начисто лишенный собственного мнения. Один из тех незаметных людей, которые десятилетиями могут ходить вокруг бильярдного стола, покупать всем пиво, и за все эти годы так и не произнести хотя бы одного законченного предложения.
Блу подарил нам с Лишей по огромной кудрявой кукле. В свете лампочки в салоне автомобиля моя кукла смотрела на меня таким напряженным взглядом, который можно было бы воспринять как оскорбление. Кукла не отводила от меня взгляд, как бы говоря, что хотела себе в хозяйки совершенно другую девочку. Ну а я хотела, чтобы мама вернулась, но не смогла этого сказать, потому что в горле стоял комок. Вместо этого я произнесла совсем другое.
– Обитатели ада хотят воды со льдом.
– Чего-чего? – переспросил отец.
Я повторила, что готова убить за стакан воды.
Наверняка отец что-то говорил нам по пути в машине, но я не помню ни одного его слова. Он говорил Блу, как ехать, и разговаривал как полная деревня.
– Вот здесь надо повернуть на Реймонд, – говорил он Блу, но я слышала: «Во сде нада вернуть на Раемон». Отец говорил медленно, словно обращался к глухому.
Дома он снял с себя джинсовую куртку, повесил ее на спинку стула и сказал, что сейчас приготовит поесть. Лиша расставила на столе тарелки из меланина. По сравнению с фарфором, который был у матери в Колорадо, эти тарелки казались мне сделанными пещерным человеком. В каждой тарелке были специальные отделения для бобов и кукурузного хлеба, чтобы последний не намок от подливки.
Отец стоял около плиты и помешивал деревянной ложкой в кастрюле какое-то варево. Через несколько минут я почувствовала запах чеснока, свинины, риса и бобов.
– Завтра эта штука будет еще вкуснее, – заметил отец. Он приготовил на чугунной сковородке кукурузный хлеб с немного подгоревшей на дне корочкой, как я люблю. Отдельно в тарелке отец поставил на стол зеленый лук.
– Дорогая, ты же знаешь, как этот лук едят? – спросил он меня. Не дожидаясь моего ответа, он вылил на лук немного рассола из банки с желтыми перцами, приготовленными по рецепту «Табаско» с укусом. Он смотрел на Лишу и говорил, что любит ее всем сердцем, накладывая еду в мою тарелку.
Нам даже не пришлось умолять его лечь спать вместе со мной. Я просто пару раз подпрыгнула на месте, и он тут же согласился. Сначала он включил газовый обогреватель в спальне и положил на него мои носки, чтобы утром они были теплые и сухие.
Отец лежал посередине, а мы с Лишей по бокам. Он не накрывался простыней, потому что не любил одеял. Как только мы с Лишей обняли его, он начал плакать.
В Техасе не считается зазорным, когда взрослый мужчина плачет. Мой отец плакал во время парадов и свадеб. Он мог расплакаться, когда поднимали американский флаг перед началом детской бейсбольной игры. В ту ночь я не могла слышать, как он плачет, и заткнула уши. За окном на фоне кислотно-зеленого неба чадили факелы нефтеперерабатывающих заводов. Я устала зажимать пальцами уши, отпустила их и услышала громкие стоны отца. Я взяла своей маленькой рукой его большую ладонь и сжала так сильно, что мне показалось, что кости треснут. Я разжала пальцы только тогда, когда он протянул руку, чтобы достать из-под подушки красную бандану и вытереть ей слезы.
Прошло много времени, и мне казалось, что он уже заснул, как вдруг неожиданно он сказал, что хочет помолиться за то, чтобы домой вернулась наша мать.
Это меня очень удивило – я никогда не слышала, как отец молится. Он появлялся в церкви только на похоронах.
– Господи, – сказал отец, – пожалуйста, сделай так, чтобы мать этих детей вернулась. Мы гладили его с обеих сторон, и Лиша громко произнесла «Аминь».
Я еще долго лежала без сна под плечом отца. Мне казалось, что мы три доски в днище несущейся по волнам лодки.
Мать приехала без предупреждения. Она появилась во взятом напрокат желтом спортивном автомобиле «Карманн Гиа»[65], за рулем которого сидел Гектор. Мама вылезла из автомобиля, и каблуки ее сапог из крокодиловой кожи оставляли в земле глубокие следы. На протяжении нескольких недель я говорила себе, что встречу ее с холодным безразличием. Но как только увидела, как колышется нижний край ее бобровой шубы, моя решимость улетучилась. Хлопнув дверью, я бросилась ей навстречу и добежала бы до нее быстрее Лиши, если бы сестра не столкнула меня в цветочную клумбу.
Мать сказала отцу, что приехала забрать кое-какую одежду. Если отец и знал о ее приезде, он все равно нас заранее не предупредил. Мама наклонилась, чтобы нас обнять, обдавая запахом духов «Шалимар».
– Я очень по тебе скучаю, – сказала мне она.
Через плечо она оглянулась на отца, а он не отвел взгляда. Стоял, как скала, но к ней близко не подходил. Потом мать с Гектором начали вытаскивать из дома одежду, роняя по пути вешалки.
Если бы около нашего дома появился Папа римский со всей своей свитой кардиналов и служек с золотыми кадилами, это привлекло бы меньше внимания соседей, чем визит матери. Как только желтая машина остановилась напротив нашего дома, соседи начали подтягиваться к нему со всех сторон. Люди предусмотрительно одевались в ветровки и зимние куртки, чтобы не замерзнуть и не промокнуть в случае, если пойдет дождь. Они вытаскивали из гаражей пластиковые садовые стулья и ставили их так, чтобы им было лучше видно, что происходит у нас на участке. Начал моросить мелкий дождик, но никто из соседей не покинул своего места. Миссис Диллард достала из кармана и надела на голову пластиковый капюшон, чтобы не намочить прическу. Миссис Шарп раскрыла над головой огромный черный зонт, с которым ходила на футбольные игры.
Мужчины, которые в тот день не работали, собрались около гаража Картеров. Они курили, и огоньки их сигарет становились более заметными, когда они затягивались. Дети собрались у границы нашего участка, а Кэрол Шарп выперлась на улицу прямо перед нашим домом, за что я ей показала средний палец.
Я ходила взад и вперед вдоль канавы перед домом до тех пор, пока не осознала, что точно так же обходят свою территорию собаки, которые сторожат скот. Мама с Гектором вытаскивали из дома платья, сделанные из шелка самых разных цветов – бежевые, зеленые и цвета взбитых сливок. Я представляла себе, что говорили между собой соседки.
– Нет, ну это точно Пит не мог себе позволить на свою зарплату…
В те минуты я ненавидела их лютой злобой, ненавидела их толстые зады на пластиковых стульях, их церковные обеды с запеканкой из тунца и замками из желе «Джелло», в котором застыли одинакового размера кубики груш и персиков. Я ненавидела их одежду, их обувь и шали, в которые они закутались.
Впервые в жизни я почувствовала силу неизвестности, которую наша семья представляла для всех наших соседей. Все взрослые нас боялись. Они боялись не только моих родителей, но и меня. Они догадывались, что я видела те темные стороны жизни, которые им увидеть не суждено. Всю жизнь я мечтала о том, чтобы у меня с ними были хорошие отношения и чтобы я могла пользоваться частью тех благ, которые они имели. Соседи перешептывались за нашей спиной и затихали, как только мы бросали на них взгляд. Все замолкали, когда отец входил в отделение своего профсоюза. От стыда у меня горело лицо. В тот вечер я впервые в жизни поняла, что смерть живет в домах соседей. Смерть болела за «Даллас Ковбойз». Смерть делала хот-доги, которые болельщики ели в перерыве футбольного матча.
Я подняла одну вешалку, замахнулась и бросила ее через улицу в сторону дома Картеров. Вешалка полетела, как бумеранг, но не долетела и до середины улицы.
– Дорогая, – позвал меня отец, – подойди сюда.
Он стоял за москитной сеткой, за которой четко просматривался его профиль.
Гектор включил первую передачу «Карманн Гиа». Мать, стоя около машины, оглянулась на нас, и я почувствовала, что наша любовь притягивает ее как магнит. На ее лице появилось нежное выражение, а по бокам накрашенного рта морщины. Я не слышала, что сказал ей Гектор – была слишком занята мыслью о том, чтобы мама не уезжала. Позже Лиша сказала мне, что Гектор напомнил матери о том, что пора усадить свою задницу в автомобиль.
Я не знаю, что сказал Гектор, но отец быстро подошел к машине. Он протянул руку и вытащил Гектора за плечо, несмотря на то что тот мертвой хваткой вцепился в руль. Перед тем как получить первый удар, он стоял на асфальте. Я помню, как его губы удивленно округлились в форме буквы О, когда он понял, что его ударят. Ударят сильно и, скорее всего, неоднократно.
Мне хотелось бы, чтобы этот видеоклип остановился на этом моменте. Я много раз видела, как дерутся перед барами на парковках, и каждый раз после того, как кулак попадал в лицо и на рубашках появлялись первые капли крови, я отворачивалась, считая себя слишком нежным существом, чтобы смотреть на такие сцены. Но в тот день я смотрела внимательно и до конца, потому что была рада, что отец бьет Гектора.
После первого удара отец поднял упавшего Гектора и снова ударом сбил его с ног. Перед следующим ударом отец отряхнул пыль с рубашки Гектора, поправил ему воротник и ударил опять. Гектор упал как подкошенный, словно его ноги были сделаны из веревки, и остался лежать на земле. Потом отец начал бить лежачего. Он сел Гектору на грудь и молотил его лицо кулаками, несмотря на то что тот уже не представлял для него никакой угрозы. Я наблюдала, как мышцы отца на спине напрягаются под синей рабочей рубашкой. Он продолжал бить до тех пор, пока не послышался звук сломанного хряща носа.
Этот звук остановил отца. Его плечи поникли. Несколько секунд он сидел на груди поверженного противника и смотрел на свои окровавленные руки.
В этот момент я поняла, что мать в голос кричит. Я услышала ее слова, которые, видимо, записались на подкорке мозга, но прослушала я их только через какое-то время.
– Ты убьешь его, Пит!.. О, Боже!.. Лиша, Мэри, кто-нибудь, помогите!.. Остановите его!
Мать замолчала, как только отец перестал бить Гектора. Отец посмотрел на нее и сказал: «Прости». Потом он снова перевел взгляд на моего отчима, и в нем опять проснулась ярость. Он поднял ногу в рабочем ботинке и наступил ему на ребра. Я услышала звук ломающихся костей, похожий на звук падающих от сильного ветра веток.
Гектор повернулся на бок. Мне казалось, что отец раздавит его, как букашку.
«Удивительно, что его вообще не убили», – подумала я.
Его дыхание было громким, свистящим и неровным. Когда он перевернулся и выплюнул сгусток крови, я услышала, как на мостовую упали выбитые зубы.
Несколько раз я видела, как отец вместе с другими мужчинами несет гроб на похоронах. Он всегда брал на себя львиную долю тяжести покойника и шел медленно и чинно, как полагается на похоронах. Именно так в тот день отец помогал матери уложить Гектора в машину.
Когда он поднялся на крыльцо, его лицо ничего не выражало и было в поту. На его рубашке засыхали веерообразные следы фонтанчика крови.
– Идите в дом, – сказал он нам и прошел мимо.
В тот вечер мать не сказала нам, что вернется. Но я почувствовала, что рано или поздно это произойдет. Она всегда с уважением относилась к отцу, когда он ставил на место всех тех, кто непочтительно с ней обошелся. Я чувствовала, что между отцом и матерью существовало сильное влечение. Можно было греть руки в свете, который они излучали друг другу.
Мать отвезла и оставила Гектора в ближайшей больнице, а затем вернулась к нам. Она потратила (или потеряла) все, что получила в наследство от бабушки. Более того, она была в долгах.
Соседи складывали стулья, закрывали зонтики и собирались домой. Я зашла в наш дом, чтобы успокоиться. Сложный период нашей жизни закончился, и отец положил ему конец. Он словно прочертил жирную черту между прошлым, настоящим и будущим. Когда мать вернулась, он был без рубашки, и они, смеясь, в танце зашли в спальню.
Когда позже вечером к нам приехал шериф, мать вышла его встречать, накинув черное шелковое кимоно на голое тело. Отца не было дома, сообщила она шерифу, и все произошедшее было мелкой семейной ссорой. Шериф стоял на пороге, сняв свой стетсон, майские жуки бились о москитную сетку, а соседи отодвигали занавески, чтобы было лучше видно.
Мы с Лишей сидели на диване и радовались опале Гектора и возвращению мамы. Я еще никогда в жизни не видела, чтобы мамины глаза были такого ярко-зеленого цвета, каким бывает океан за последней отмелью, там, откуда появляются самые большие волны, идущие от берегов безымянных архипелагов. Руки матери были белыми, длинными и грациозными в рукавах черного кимоно. Шериф уже спускался с крыльца, когда мать произнесла свои последние слова относительно произошедшего инцидента. Вот что она сказала перед тем, как закрыть дверь.
– Какая мелочь, – сказала она, – просто сущие пустяки. Мы сами с этим можем разобраться.
XIV. Потеря
Через семнадцать лет после этого у отца случился удар. Это произошло летом в десять утра в воскресенье, когда он сидел в баре «Американский легион». Отец закидывал в себя один за другим шоты виски, разбавляя пивом. На такой ежедневной диете он сидел уже семь лет после выхода на пенсию из «Галф Ойл» в возрасте шестидесяти трех лет.
Когда я говорю, что отец вышел на пенсию, это не значит, что он перестал работать. Он много делал для Дэвида, мужа Лиши. Отец звал Дэвида рисовым бароном потому, что тот владел обширными рисовыми плантациями, приносившими ему хороший доход. Дэвид купил отцу небольшой белый пикап, на котором тот разъезжал по его и своим делам. Когда отец уже совсем не держался на ногах, кто-нибудь звонил моему зятю, который отправлял своего человека к отцу и отвозил для выполнения какого-нибудь выдуманного задания, чтобы тот немного протрезвел.
Мать в это время обычно лежала в кровати в чем-нибудь до стыда прозрачном. Она бросила преподавание изобразительного искусства в государственной школе, чтобы проводить больше времени со своим мужем и следить за его здоровьем. Но вместо этого впала в депрессию. Большую часть времени она проводила в огромной кровати, в которой, как и прежде, выглядела как царица. Она бросила пить, но находилась под воздействием валиума и других сильнодействующих препаратов, которые она доставала из кучи таблеток, валявшихся у кровати.
Мать много читала, она очень любила Сартра и Ганди, но могла читать как серьезную, так и откровенно бульварную литературу. Она занималась макраме, хатха-йогой и читала книги по макробиотике, науке о продлении жизни и долголетии. Узнав о том, что у отца инсульт, она не сочла это достаточно серьезной причиной для того, чтобы встать с кровати и одеться.
В те дни я каждый вечер разговаривала с ней по телефону из Бостона. После окончания прайм-тайм передач она валялась в кровати в барбитуратном тумане.
– Здесь все только и говорят, что о футболе, рыбалке и перепихоне, – жаловалась мать, – больше никто ни о чем не думает. Клянусь, я скоро выстрелю себе в голову.
В то время я жила с бойфрендом, который недавно окончил Гарвард. Он был из старой и богатой семьи, проживавшей на Лонг-Айленде, и до небес возносил терпение, с которым я общалась со своей матерью. Семейное поместье, в котором он вырос, имело свое собственное название, а внутри него работала престарелая и заботливая прислуга.
Со своей матерью он разговаривал, сидя по выходным в конце длинного обеденного стола. Я очень завидовала такой милой формальности и потом, когда вышла за него замуж, не сумела ее освоить. К двадцати пяти годам я оказалась в Бостоне, и телефонная линия осталась единственной пуповиной, которая соединяла меня с матерью. Мы с отцом уже давно перестали думать друг о друге.
Сначала я много путешествовала, и это заложило расстояние между нами. Я стала уезжать из дома после того, как мне исполнилось пятнадцать лет. Хьюстон. Даллас. Остин. Мексика. Я уезжала за книгами или за наркотиками. Когда я сказала матери, что курила опиум на вечеринке серферов на Падре-Айленд, она насупилась. Но я тут же из корзинки с ее нитками и иголками вынула книгу «Электропрохладительный кислотный тест» Тома Вулфа[66]. Ее любопытство взяло вверх, и она спросила, что чувствуешь, когда куришь опиум? Из дома насовсем я уехала, когда мне было семнадцать лет. Я залезла в микроавтобус с серферами и укатила в Калифорнию. Там до того, как я нашла работу, я жила в машине и ела все то, что воровала в садах и находила в мусорных баках рядом с соседними магазинами.
Когда я вернулась домой, худая, загорелая и готовая перебраться учиться в колледж в Миннесоте, то сказала отцу, что не выезжала за пределы штата.
– Ну, как пляж, дорогая? – спросил он меня.
Отец повел меня в армейский магазин, чтобы купить зимнюю парку. Я очень хорошо помню, как он просмотрел целый ряд грустно оливкового цвета парок, внимательно вглядываясь в швы. Отец был очень подозрительным покупателем.
Я попала в частный колледж гуманитарных наук, в котором было одно из первых в стране смешанных общежитий – мальчики и девочки вместе. Видимо, это подвинуло отца выступить с небольшой речью о сексе. Его слова звучали приблизительно так:
– Послушай, дорогая, я думаю, что ты не позволяешь ребятам с тобой дурака валять.
Я сказала, что понимаю, о чем он.
– Если начнут приставать, то ты только дай знать, дорогая, – сказал он и повернулся, чтобы приложить парку, висящую на вешалке, к моей груди. – Я им покажу, как выглядит злая обезьяна.
Такая забота только усугубила чувство вины – мою девственность уже давно не надо было защищать, и в этом смысле мне уже не нужна была папина помощь.
На кассе отец отстегнул девятнадцать долларов и девяносто пять центов, и я почувствовала себя виноватой.
Когда я в первый раз приехала на каникулы из колледжа, папа накладывал мне еды на тарелку с верхом и разрезал бифштекс на ребрышке на маленькие кусочки так, чтобы было удобно жевать.
Лиша училась в колледже в Личфилде, и отец не уделял ей особого внимания все эти годы, когда она жила дома, поэтому сестра шутила над отцом:
– Пап, может, ты ей все сам разжуешь и потом в рот положишь?
Отцу не нравилось то, что я выросла, и еще больше не понравилось то, что я стала женщиной.
После того как я купила себе первый лифчик, меня перестали приглашать на встречи «клуба лжецов». Время пубертата оказалось для меня непростым. Я поздно расцвела, и это не могло остаться не замеченным мужчинами – членами «клуба лжецов». Теперь, когда Бен Бедерман позволял себе слово «ху*сос», он неизменно смотрел на меня и извинялся, чего раньше никогда не происходило.
Я помню свое последнее посещение «клуба лжецов». Я приехала домой на пасхальные каникулы. Отец привел меня в «Американский легион», чтобы поиграть в бильярд. Впрочем, у меня возникли подозрения о том, что у него были и другие причины для посещения этого места – вполне вероятно, что его многолетние добрые отношения с женщиной-барменом были на самом деле любовным романом.
Ее звали Люси. Она была невысокой женщиной-каджуном с огромной грудью и намеком на усы. Когда мы в тот день пришли в бар, она обняла меня за шею и только потом налила пива.
Люси коллекционировала всякую ерунду – сувенирные ложки и фарфоровых кукол. На голове у нее красовалась сложная конструкция из косичек. Я заправила двадцатипятицентовые монеты в прорезь в бильярдном столе, чтобы оплатить игру. Мячи свалились в обрамляющий стол желоб с грохотом грома. Я собрала шары в пластиковый треугольник, и через секунду отец твердым ударом их «разбил». Шары медленно остановились, но ни один из них не упал в лунку. Я отошла, чтобы нанести на ладони бильярдный тальк.
Бильярд – это ритуальная геометрия. Огромное зеленое поле после пары бокалов пива кажется еще больше. В школе я пыталась читать книги по философии искусства и упорствовала в этом начинании, хотя в то время совершенно не была к нему готова. Мне очень нравилась идея о том, что прослушивание концерта или наблюдение картины или другого произведения искусства помогает нам выпрыгнуть из обыденного круга существования. Секунда чистого и незамутненного внимания перед произведением искусства способна сделать нас лучше. В те годы наркокультура твердила нам о «расширении сознания», что в общем-то является просто обманом. Может быть, я довела себя в тот день до измененного состояния только потому, что верила в эту ложь. Во время той игры я просто «горела», словно мной двигала какая-то внутренняя сила.
Я ударила кием, и мяч упал в лунку. Потом мне удалось одним ударом загнать в лунки целых два шара, отец одобряюще присвистнул. Небо за окном стало такого же синего цвета, как и мелок, которым я протирала острие кия.
Позже я поняла, что радость, которую я испытываю, объясняется самим фактом моего пребывания в «Американском легионе». Чтобы попасть сюда, я проехала автостопом почти две тысячи километров. Я чувствовала себя более собранной, сконцентрированной, словно смотрела через четко наведенный бинокль. Может быть, мне нравилось находиться в баре в такой чисто мужской компании.
Я находилась в баре для работяг, в мире рабочего класса, пота и почасовой оплаты, в том мире, который я хотела покинуть. В это место люди ходили, как в церковь, отдавали ему все свое внимание. Здесь играли в бильярд не менеджеры, говорящие о корпоративной стратегии, это место дарило духовный покой и дружеское общение, никак не связанное с достижениями на рабочем месте.
В тот день я много общалась с Люси, которая решила поработать над моим «луком». Она расчесала мне волосы, потом жестко залила их лаком и сделала мне несколько косичек, наподобие тех, которые были у нее на голове. Из-под стойки бара она достала тени и карандаш для обводки глаз, кончик которого смочила языком. Потом в зеркале в женском туалете я увидела свое отражение и поняла, что с этим боевым раскрасом похожа на малолетку, которая пытается проникнуть в бар. Люси сделала мне коктейль «Александер»[67] и подлила несколько дополнительных ложек сливок в мой высокий бокал.
После пива и коктейля я почувствовала себя достаточно пьяной. Я превратилась в бодхисаттву алкоголя, принцессу коктейлей «Александер».
Потом я проснулась. Моя голова лежала на стойке бара, щека стала мокрой от чего-то пролитого на стойку. Я провела в баре уже несколько часов, моя изумительная прическа перекосилась, голова раскалывалась от боли. Я осматривалась по сторонам, а Люси налила мне стакан воды и поставила плошку с крекерами в виде золотых рыбок. Я выпила залпом содержимое стакана.
Люси кивнула в сторону отца. На краю стола собралась небольшая стопка денег, которые отец выиграл у посетителя бара – ковбоя Доула. Ковбой объяснял свои неудачи тем, что напился сильнее, чем следовало бы. Он с силой бил по шарам так, что они подскакивали и задевали металлический абажур лампы. Он даже особо не целился, а громко втягивал воздух через стиснутые зубы и бил практически не глядя. Каждый его удар заканчивался промахом.
Вероятно, отец был не трезвее ковбоя, однако от выпитого он стал ходить еще более ровно и прямо. Он медленно прицеливался, словно ударял по шару под водой. Отец практически всегда попадал в цель. Доул совсем сбрендил, и тогда отец сказал, что пора заканчивать игру.
– Ты выиграл все мои деньги, – хрюкнул ковбой.
– Братан, ты сам делал ставки, – ответил отец.
Ковбой присел к стойке бара и принялся колотить по ней мясистым кулаком. Казалось, что все черты его круглого лица подтянулись к его центру.
– Пиво сюда! – кричал он.
– С тебя хватит, – ответила ему Люси, – тебе больше не наливаю.
– А че?
– Я сказала, тебе хватит.
Когда ковбой подошел, обе ее руки лежали на стойке бара. Теперь она опустила правую руку под стойку. Я подумала, что она уже держит в руке бейсбольную биту или какой-либо другой тяжелый предмет, помогающий привести клиента в чувство.
Доул ткнул пальцем в сторону отца.
– А Тонто тоже не наливаешь? – спросил он Люси.
– Тонто еще не закончил пить, – ответил отец. На самом деле его бокал был пуст. Произнося эти слова, отец вставлял кий на его место в стойке.
Доул заявил, чтобы все мы шли куда подальше, после чего отец мгновенно наградил ковбоя апперкотом в челюсть. Он отступил на несколько шагов и посмотрел на свою обтянутую рубашкой грудь.
Ему следовало бы отойти подальше, извиниться, брызнуть водой на салфетку и вытереть кровь на рубашке. Это бы закрыло тему, потому что отец уже опустил руки, показывая, что не хочет драться. Однако Доул совершил ошибку. Он схватил прислоненный к стойке бара кий и замахнулся на уровне глаз отца. Отец на лету поймал кий и ударил им ковбоя по горлу.
Доул послушно упал. Он лежал на линолеуме, раскинув руки и ноги. Люси положила ему на живот его стетсон.
– Получилось круче, чем в сериале «Дымок из ствола»[68], – сказала она.
После этого случая отец уже больше не приглашал меня в «Американский легион» или в любой другой бар. Он не приглашал меня на охоту, рыбалку или карточные игры, в «Королевскую ферму», чтобы съесть куриный стейк, и в «Фишерс Бейт Шоп» утром за день до Рождества. Он не приглашал меня в места, где мое женское присутствие может спровоцировать какого-нибудь козла на глупое замечание, после которого отцу пришлось бы порвать тому глотку. Отец мне этого не объяснил, но я и так все поняла.
Шли годы, и мы с отцом все больше отдалялись друг от друга. Мы любили друг друга на расстоянии, но при встрече мы замолкали, и это молчание было невыносимо, оно высасывало из меня все силы.
Алкоголь разрушал отца. Последние несколько лет до инсульта он стал очень ворчливым и страшно ругался. От его портящегося характера страдала мать, но зачастую ему под руку попадались и другие люди. Однажды он ножом угрожал одному из мексиканцев-работников мужа сестры Дэвида за то, что тот заявил, что тако в ближайшем киоске не были настоящими мексиканскими тако. Был случай, когда партнер Дэвида, человек из Арканзаса, ехал по меже на рисовом поле во время сезона охоты на голубей и неожиданно чуть не въехал в наставленное на него дуло ружья отца.
– Старик, – сказал ему фермер, – я владею восемнадцатью процентами всех стеблей риса на этом поле.
На это отец ответил ему, что тот может завладеть ста процентами дроби, которой он выстрелит ему в задницу, если тот незамедлительно не перестанет распугивать голубей и не уберется с поля на трассу. Был еще и другой случай. Однажды отец одним ударом вырубил в очереди в супермаркете молодого морского пехотинца за то, что тот позволил реплику, которая отцу не понравилась. В другой раз он перелез через конторку в офисе газовой компании и гонялся за клерком, который невежливо с ним поговорил.
Отец всего один раз на меня «наехал». Это произошло в то лето, когда у него случился инфаркт. Тогда я дописывала кандидатскую и мне позарез нужны были деньги. Лиша с мужем предложили мне подзаработать – перевозить живых раков из Луизианы на новую ферму, в Винни, штат Техас. Лиша с Дэвидом были полными оптимизма республиканцами, которые носили часы «Ролекс» и пытались сделать так, чтобы я развила в себе предпринимательские наклонности, которых у них самих было в избытке.
Может быть, они хотели «приземлить» мои амбиции, потому что возиться с раками – не самое неблагородное дело. Ты заполняешь кузов грузовика тридцатикилограммовыми мешками с раками (как выясняется, раки умирают только тогда, когда полностью высыхают), и эти мешки издают инфернальные щелкающие и сосущие звуки. Я ехала ночью, чтобы солнце не высушило содержимое накрытого брезентом кузова. Перед выездом нужно было обильно смочить мешки водой, поэтому подготовка к выезду была долгой.
Обычно я заканчивала разгрузку поздно утром, после чего могла в мастерской матери заниматься своей кандидатской.
Однажды ночью меня разбудила мать. Я открыла глаза, почувствовала холод кондиционера и вздрогнула от неожиданности. Мать прижимала что-то к животу, как малое дитя.
– Можешь мне помочь с отцом? – спросила она. – Он с трудом дышит, но не дает мне включить вапорайзер около кровати.
Волосы у матери были шелково-белыми и словно светились в темноте комнаты.
– Как это не дает? – переспросила я. До этого я еще не сталкивалась с ситуацией, когда матери требовалось разрешение отца. Она утомленно вздохнула. Я взяла из ее рук вапорайзер, в котором плескалась вода.
Отец в трусах сидел на краю гигантской кровати и громко и сухо кашлял. Его голова на сильных плечах свесилась вниз, как у усталого быка. На правом бедре виднелась синеватая шишка, под которой со времен войны пряталась шрапнель.
– Папа? – сказала я, но он матерно и громко заорал, чтобы я убиралась куда подальше, так что, кажется, использовал весь находившийся в комнате кислород. После этого он снова согнулся в приступе кашля.
Никогда ранее он со мной так не обращался, и я просто обмерла. Через некоторое время мне показалось, что он вообще забыл о том, что я нахожусь с ним в одной комнате. Он перестал кашлять и лег. Дыхание его было тяжелым и сиплым. Я начала искать за тумбочкой розетку, он заметил меня и заорал.
– Ты что здесь делаешь?
После этого у него снова начался приступ кашля, от которого выступили все вены на шее. Я включила настольную лампу. В комнате было холодно, как в холодильнике, но отец буквально плавал в луже пота, а лицо его было красным от высокой температуры. Простыни были мокрыми. Я сказала, что включу в розетку вапорайзер.
На кончике его носа появилась капля. Он вытер ее тыльной стороной ладони, покосился на меня и спросил.
– Тебя мать сюда прислала, так ведь?
После этого он заявил, что мать является самым эгоистичным человеком, которого он знал в своей жизни. Она разбила жизни всех людей, к которым имела хотя бы минимальное отношение, включая мою и моей сестры. Его голос был похож на голос мальчика из кинофильма «Экзорцист», в которого вселился дьявол. Задыхаясь, отец вещал о том, что я не в состоянии отличить свою собственную розовую задницу от дырки в земле.
Я наконец включила вапорайзер в розетку, и струя эвкалиптового пара ударила мне в лицо.
– Вынеси эту хрень отсюда! – заорал отец шепотом, который был одновременно громким и едва слышным. Я присела на корточки и заплакала.
Эвкалиптовый пар наполнял комнату, отчего мы казались в ней призраками. Я сказала, что если он хочет отключить гребаный вапорайзер, то ему придется встать и самому это сделать. Но к этому отец был, судя по всему, не готов.
На следующий день я застала отца за кухонным столом. Его дыхание все еще было тяжелым, но в глазах не было вчерашней враждебности. Я поцеловала его щетинистую щеку. Отец ласкал своего белого кота по имени Бампер:
– Вот тебе повезло. – Имея в виду, что коту совсем не повезло, и почесал ему пальцем под подбородком.
Бампер ходил странной, извивающейся походкой. Мяукал Бампер так тихо, что его едва было слышно. Когда он хотел выйти на улицу, то бился задом в москитную сетку. Собственно говоря, за это и получил свое прозвище.
– Доктор Бордо заходил? – спросила я.
Отец кивнул и постучал концом сигареты «Кэмел» по столу, чтобы табак был плотнее.
– Уверена, что он хотел бы, чтобы ты некоторое время не курил, – заметила я.
– Ничо на эту тему он не говорил, – ответил отец.
Бампер спрыгнул с колен отца на пол, лег на спину и намекнул, чтобы ему почесали животик. Отец откармливал кота мокрым кормом, словно борова, которого собирался забить к Рождеству.
– Можешь угадать, сколько он весит? – спросил отец. – Почти восемь килограммов, – гордо заявил он.
Каждое утро отец ставил упирающегося кота на весы в ванной и ждал, пока остановится красная стрелка. После этого он записывал вес кота в блокноте, лежащем около телефона.
Я несколько минут играла с котом. Я трогала его живот, а он ловил лапами мою руку.
– Он хочет, чтобы его потянули, – заявил отец. Он приучил кота к тому, что перед прогулкой его растягивают. Для этого отец брал кота за передние и задние лапы и несильно тянул в длину. И во время этого процесса отец приговаривал: «Бог ты мой, какой длинный кот!» После совершенной процедуры отец отпустил кота, который чинно вышел из кухни.
Отец прикурил сигарету и зажмурился от дыма. Я не планировала просить его бросить пить, но что-то в легком дискомфорте отца от дыма подвинуло меня на то, чтобы я это сделала.
Я сказала ему, что алкоголь его убивает. Сказала, что люблю его и не хочу, чтобы он умирал.
Мы оба молчали. Я наклонила голову словно в ожидании удара. Однако отец не стал со мной спорить. Его реакция оказалась гораздо хуже – он просто пожал плечами.
– Мне насрать, – ответил он. Обсуждать все это бесполезно. Он такой, какой он есть, и все тут.
Его мысли остались для меня загадкой. Я почувствовала в нем такую необъятную и страшную темноту, что его самым большим подарком стало то, что он пытался оградить меня от нее, а самым большим разочарованием – то, что он до конца не смог этого сделать.
– Пойду посмотрю, что там с машиной, – сказал он, выпрямился и вышел. Он шел по выложенной белыми камнями и обсыпанной красным гравием тропинке. Я смотрела, как он удаляется и входит в гараж.
К тому времени, когда у него произошел удар, он превратился в карикатуру на самого себя. Более десяти лет он просидел на стуле у стойки бара «Американский легион», словно был к нему приклеен. Эти стулья у стойки бара были словно восклицательные знаки, которые стоят на пути к забвению.
Я вошла в здание больницы. В лобби было пусто. Много лет назад я работала в этой больнице волонтером – помощником медсестры. Тогда в лобби госпиталя не было свободного стула, потому что на каждом сидели мамы с описанными младенцами.
Прошло десять лет, и вот теперь здесь не было никого. Я прошла мимо автоматов по продаже напитков, рядов пустых кроватей без матрасов и несколько конторок, за которыми никто не сидел. Около входа в отделение интенсивной терапии уборщик медленно возюкал шваброй сосредоточенными движениями, словно дзэнский монах.
Мать сидела в пластиковом кресле напротив палаты отца и курила длинную коричневую сигарету «Море» под вывеской, однозначно заявлявшей «Не курить».
– Я уже сказала им, что они могут меня арестовать, – заметила мать. Лиша подняла глаза к небу. Сестра должна была ехать домой, чтобы приготовить ужин для мужа и детей. В руках у нее были ключи от машины и список вещей, которые я должна была сделать.
– Может, тебе удастся заставить его поесть, – сказала она. – То, что мы принесли, он есть не стал.
Обычно людям кажется, что человек, лежащий в больничной койке, становится меньше ростом, но казалось, что отец даже внутри пластиковой и прозрачной кислородной палатки стал еще больше. От многолетней физической работы его тело было жилистым и мускулистым. Кто-то намазал его голову гелем для волос и причесал. Единственным звуком в комнате было шипение поступающего кислорода. В углу стоял кардиомонитор с грязно-зеленой картинкой на экране. В вену была воткнута иголка капельницы. Отец выглядел, как спящая мраморная статуя или как саркофаг из гробницы фараона в музее.
Я просунула руку внутрь кислородной палатки, чтобы к нему прикоснуться. Его глаза были закрыты, а губы белыми. Потом я приподняла край палатки и засунула голову. Внутри воздух был свежим, как на вершине горы Монблан.
– Папа? – позвала его я.
В двери появилась голова медсестры, и мне сказали, чтобы я заканчивала с глупостями. Медсестра подошла к кровати отца и проверила его пульс.
Отец немного приоткрыл глаза, а потом приподнял руку. Трясущимся пальцем он слегка ткнул в пластиковую стенку кислородной палатки, словно хотел ко мне прикоснуться. Потом его рука тяжело упала на одеяло.
– Ееет, – сказал он.
– Привет, папа, – бодренько приветствовала его я.
– Черт подери, – ответил он. – Яма.
Я ответила ему, что мать сидит у дверей палаты и разговаривает с медсестрой. Своей здоровой рукой он ощупал свою парализованную руку, словно слепой, а потом переложил ее с матраса себе на бок. Но бездействующая рука не удержалась и снова соскользнула на матрас, как мертвая рыба.
– Паста, – сказала я и спросила. – Будешь пасту?
Он наморщил нос.
– Дерьмо, – ответил он и снова принялся ощупывать свою парализованную руку, словно пытаясь найти ответ на волнующий его вопрос.
Я воткнула трубочку в пакетик с молоком, и он выпил все.
Я открыла выдвижной ящик стоящего рядом с кроватью стола и обнаружила в нем банку пива «Одинокая звезда». Отец закрыл глаза, и я озабоченно снова засунула голову под пластик палатки.
– Пап?
Но он просто делал вид, что умер.
Я отвезла мать домой. Потом пришел доктор Бордо, он принес с собой пластиковую модель мозга и целый час демонстрировал, что происходит с человеком после инсульта. Мамин отчет об этом визите был кратким.
– Его голова в жопе, – бодро сообщила она мне. После инсульта в течение нескольких первых недель опухоль в мозгу постепенно спадала. В это время существовал шанс того, что отец может неожиданно выздороветь, заговорить и начать ходить, как раньше. Но этого могло и не произойти, и отец мог превратиться в одного из привязанных к инвалидной коляске стариков с впалой грудью, которые десятилетия проводят в больницах.
В тот вечер я ехала по улицам Личфилда и видела, что город сильно изменился. Странно, что раньше я этого не замечала. Часть уличных фонарей не работала, поэтому после участка освещенной дороги наступал участок кромешной тьмы. Лужайки около домов заросли бурьяном, Исчезли аптеки, магазины хозтоваров и химчистки. Магазин одежды, в котором работали самые красивые девушки-чирлидеры, обанкротился после того, как владельца взяли в мотеле с двумя чирлидерами и большим пакетом кокаина.
Мы подъехали к ограде фабрики по производству резины, и мать заговорила. Она сказала, что денег у них нет. Она думала, что отец купил дополнительную медицинскую страховку, поэтому достала бумажник отца из его лежащих на заднем сиденье джинсов и начала просматривать его содержимое.
Она открыла бумажник и вынула из него пачку кассовых чеков на тонкой бумаге. Потом на свет появилась салфетка из бара с написанным на ней счетом давно прошедшей бейсбольной игры. К моему величайшему удивлению, мать обнаружила в бумажнике отца два документа, имеющих ко мне непосредственное отношение. Это была школьная справка для родителей о моей успеваемости в шестом классе, где у меня были все «пятерки», и ксерокс моего первого стихотворения, которое было напечатано в журнале. Это было стихотворение о сестре отца. Это стихотворение так много раз разворачивали и разглаживали на стойке бара, что оно все покрылось пятнами от пива и было больше похоже на пергамент, чем на бумагу. Я растрогалась и начала плакать. Мать тоже заплакала.
Когда мы въехали в гараж, под задним колесом послышался звук, словно мы наехали на дыню.
Я запарковала машину возле дома и посмотрела под днище автомобиля, чтобы понять, что это было. На заднем колесе со стороны пассажира было пятно крови, в красном свете парковочных огней похожее на чернила. Мать заметила краем глаза белого цвета животное, исчезающее в зарослях около гаража.
На рассвете мы нашли Бампера на крыльце. Он был весь в крови, и его дыхание было неровным. Мы обернули кота в желтое полотенце и отвезли к ветеринару. У нас было всего сто долларов, и мы думали о том, что животное надо усыпить, но ветеринар предложил нам бесплатно его прооперировать. Мы оставили Бампера у доктора, но потом в паре баров я слышала истории о магическом воскрешении кота из мертвых. Так что, кто знает, может, Бампер все-таки остался в живых.
XV. Сундук со страхами
Санитар накаченными, как у борца, руками поднял отца и посадил в инвалидную коляску. Потом санитар перевез отца из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Я шла рядом и несла теплую банку с мочой. Трубка уходила под папин халат, и конец ее был вставлен в банку. Мать несла карту болезни, в которой печатными буквами в графе «состояние» кто-то написал слово «СТАБИЛЬНОЕ».
Отца стали навещать члены «клуба лжецов». Они приходили практически каждый вечер и шаркали около кровати. Приезжали прямо с работы голодными, но отказывались от пиццы и сэндвичей. Они приезжали по одному или парами, держа свои металлические каски на уровне пояса и крутя их в руках, словно раскручивая тибетские молитвенные барабаны с мантрами.
Помню, как однажды после того, как отец только что обкакался, Бен и Шаг громко обсуждали предстоящую игру «Янкиз», не обращая внимания на неприятный запах в палате.
В ту ночь Бен расплакался в коридоре у дверей палаты, закрывая лицо мясистыми руками. После этого он стал приходить поздно, когда отец уже спал. Бен садился на стул около палаты и оставался на месте большую часть ночи, говоря, что лучше побудет здесь «на всякий случай».
В голове отца после удара образовался вакуум, и этот вакуум никак не собирался исчезать. Казалось, что отец превратился в тень и спрятался далеко-далеко за потерявшими выражение глазами. Иногда, когда я приходила, когда он еще спал, и будила его, в этих глазах я видела былую искру. В эти моменты я понимала, что он видит меня и казалось, что он всем телом начинал ко мне тянуться, несмотря на то что он не двигал ни мускулом.
В такие светлые моменты отец мог произнести своим новым, похожим на карканье вороны, голосом слово «Сок». И может, еще пару-тройку слов. После этого его глаза снова заволакивало туманом и голова безвольно падала на подушку.
Была очередная годовщина высадки союзников в Нормандии, и мать смотрела посвященную этому событию передачу по ТВ. На экране мелькали кадры подкошенных немецким огнем солдат. Отец участвовал в той высадке. Он прошел к берегу, высоко поднимая винтовку над головой, чтобы ее не замочить. Он увидел и узнал то, что показывали по ТВ, и его тело дернулось, словно от разряда тока. Отец отчетливо и четко закричал: «Омаха-бич!»[69], показал пальцем на экран и приподнялся. «Это Нормандия!» – совершенно четко произнес отец. Потом он начал что-то бормотать, но сперва я не могла понять, что именно. Потом я подумала, что это латинские слова из церковной службы, и только через некоторое время поняла, что он произносит имена солдат, те самые имена, которые были записаны в потрепанной записной книжке, которую он носил с собой во время войны.
Мать постучалась к дежурной медсестре, чтобы сообщить ей об исцелении отца. Медсестра не обратила внимания, а потом сказала нам, что часть мозга после инсульта остается непораженной и здоровой. Чаще всего это та часть, в которой хранятся самые важные и эмоционально заряженные воспоминания.
На следующее утро я принесла в больницу стопку старых журналов «Жизнь», которые нашла дома в кладовке. Отец назвал бомбардировщик «Летающая крепость» B-17 и винтовку M-1. Он на карте отличил Италию от Польши и показал трясущимся пальцем на фотографию генерала Монтгомери, когда я спросила его, кто наградил его медалью после Арденнской операции[70]. Глядя на фотографию генерала Паттона, он нахмурился.
– Позер. Говнюк. Засранец.
Однако когда я попыталась переключить его внимание с военных фотографий на что-то другое и более будничное, он начал «плавать».
– Папа, а это что? – спросила я его, показывая ему одноразовую вилку.
Здоровой рукой он показал мне, что подносит пищу ко рту.
– Я понимаю, что этой штукой едят, но как она называется?
Он посмотрел в сторону, словно там стоял человек, который может подтвердить, что я задаю идиотские вопросы. Через несколько секунд он сузил глаза, словно стремился подобрать нужное слово. Я про себя, как мантру, повторяла: «Вилка, вилка, вилка». Но отец улыбнулся краем рта и произнес, словно в его голове что-то переключилось.
– Бекон!
Тоном, которым разговаривают с малолетним ребенком, я радостно ответила.
– Бинго!
Я с трудом выдержала в палате полчаса. Не могу сказать, что в то время я вообще занималась чем-нибудь полезным. Сезон раков закончился. Моя печатная машинка стояла, покрытая слоем пыли. Я сходила пару раз на бесполезные свидания с ковбоями, с которыми меня хотели свести Лиша и Дэвид.
После одного из таких провальных свиданий я лежала в кровати. Моя голова кружилась от выпитой текилы, и я решила, что с завтрашнего дня буду посвящать отцу сто процентов своего времени.
На следующее утро я решила его побрить. Я намылила его щеки кисточкой для бритья. Но рука, в которой я держала легкую одноразовую бритву, дрожала. Казалось, что эта бритва – пылинка по сравнению с дубленой кожей и венами на шее отца. Я случайно порезала его, на щеке выступила капелька крови. Отец даже не поморщился. Матери пришлось довести это дело до конца.
Потом я показала ему отражение в зеркальце пудреницы. Здоровой рукой он провел по бритому подбородку.
– Крсиво, – сказал он, и на левой стороне его рта появилась полуулыбка. Правая сторона лица оставалась без движения. – Ошень крсиво, – повторил он.
Я вышла из здания больницы и купила пол-литра крепкого алкоголя. Потом пошла в киноцентр и быстро выпила содержимое бутылки и просмотрела подряд три фильма. Через несколько дней во время заката к нам заехал доктор Бордо. Он держал свой коричневый стетсон обеими руками, словно пришел свататься. На нем была синяя рубашка с короткими рукавами, потемневшая от пота под мышками. Соседские дети перестали играть и уставились на доктора, вытирающего ноги о половичок перед тем, как войти внутрь. Я решила, что отец умер. В голове возник громкий звук проезжающего поезда и показалось, что я смотрю на всю комнату с матерью и доктором через уменьшающий бинокль, потому что все виделось очень маленьким.
Нет, сказал доктор Бордо, все совсем не так, как я подумала. Для некоторых смерть – это истинное спасение. Впрочем, лично он придерживался другого мнения. Отец жив, и это хорошие новости.
Тогда все дело в деньгах, сказала мать. Страховка от новых владельцев нефтеперерабатывающего завода не покрывает больничные расходы. Или расходы по уходу за больным после его выписки домой.
– Вы знаете, что я этот вопрос не решаю, – ответил доктор. Он замолчал и прокашлялся, словно у него что-то застряло в горле. Его руки были маленькими, белыми и женственными. Он сложил их на коленях и сказал, что нам надо обратиться к адвокатам профсоюза.
Но мать его уже не слушала. Она отошла к двери, чтобы отогнать стоящих на улице детей. Дети разбежались, словно в них выстрелили дробью. Она вернулась назад в комнату.
Доктор Бордо повторил, что он не принимал этого решения.
– Я вам не выставлю счета, – сказал доктор Бордо. Он попрощался и отъехал на своем белом «Бьюике».
На следующее утро нам позвонили из больницы и сообщили, что «Скорая» привезет отца домой. Нужно подойти, встретить его и разобраться с оплатой. Мама отнеслась к этому предложению с сарказмом. Она сказала в трубку, что гребаная «Скорая» может доставить отца голышом и посадить в шезлонг на лужайке у входа. А по поводу оплаты у нее есть только одно сообщение – за долги в тюрьму уже давно не сажают. Бесполезно бить по камню, ожидая того, что на нем выступит кровь.
Я слышала, как говорят о том, что заботиться об инвалиде – это все равно что заботиться о малом ребенке. Но ребенок каждый день растет и развивается. У него появляется новый зуб или он понимает, что предмет, которым он машет, является его собственной рукой. Инвалид – это бездонная яма, в которую ты вливаешь свои силы. Каждый день он смотрит на тебя взглядом, в котором ты читаешь больше усталости, чем в своих собственных глазах. Если жизнь, как считал Будда, – это страдание, чемпионат по тому, кто съест больше говна, то инвалид, без сомнения, его выиграет.
Возможно, что профессиональные медсестры привыкают к виду страдания. Я долго пыталась игнорировать необрезанный пенис отца, вставленный в трубку, красный от раздражения и лежащий вдоль ноги.
Однажды мать переворачивала его и обнаружила на спине пролежни – небольшие красные пятнышки в местах, где кожа соприкасалась с тканью. Через пару дней пятнышки превратись в наполненные жидкостью пузыри, которые лопнули и из них что-то сочилось. Потом эти пузыри стали становиться больше и глубже. Казалось, что его собственные кости пытались вырваться из его тела. Пролежни появились сначала на ногах, а потом и на спине, и на лопатках. Мать меняла повязки, кормила и мыла отца, отвечала на звонки из страховой компании по поводу выплат. Она работала так напряженно, как никогда. Отец часто пачкал кровать, поэтому стирки всегда было много.
Больнее всего мне давалось безмолвие отца. Если бы я знала, что он стал овощем, наверное, мне было бы по-своему легче. Но это было не так. Я постоянно искала того старого отца, которого так любила.
– Это Лиша звонила, – говорила ему я.
– Ошен харашо, – отвечал отец.
– Она переживает по поводу налогов на их мотели.
– Ааааа.
– Хочешь мороженое? Ванильное.
– Нет, нет, нет.
– Да ты попробуй. Давай положу тебе в блюдечко.
– Яма, – отвечал он.
– Конечно, мама уже ела.
Я хотела относиться к нему с достоинством, которого он заслуживал, но это достоинство определяли сложившиеся обстоятельства. У меня начисто отбило фантазию.
Отец умел дуться, как двухлетний ребенок. Если мать переворачивала его или меняла белье, а он хотел спать, он мог схватить ее здоровой рукой и начать с ней бороться.
Мне даже казалось, что иногда он специально какает в кровать для того, чтобы нам отомстить. Наверняка это было не так. Иногда нам приходилось два раза подряд менять белье и простыни, а он с мрачной миной лежал, положив здоровую руку на грудь, и не хотел нам помогать.
К нему несколько раз приходил логопед, но он не сказал ничего конкретного по поводу возможностей лечения.
– Вот что я тебе скажу, Чарли, – заметил он однажды утром за кофе. – Учись быть беспристрастной.
– Беспристрастность, мать ее, – ответила мама. – Я даже не знаю, есть ли он внутри этого тела или нет.
У меня была точно такая же проблема, как и у матери, и поэтому, возможно, я и оказалась такой никудышной сиделкой. Я всего один раз кормила отца без посторонней помощи, чем его чуть не убила.
Я купила ему в «Королевской ферме» картонную коробку густого супа с креветками. В то время отец питался молочными коктейлями, в которые мать разбивала по паре яиц, и магазинными молочно-шоколадными пудингами. Но когда я сняла пластиковую крышку с коробки и показала ему ее содержимое, его глаза загорелись. Подливка была густой и коричневой, как болотная вода, и от коробки исходил сильный запах чеснока и перца. На поверхности супа плавали несколько креветок и тонко нарезанный лук. Я представила себе, как запах манит отца и щекочет его ноздри. Он открыл розовый и беззубый рот, из которого мы уже давно вынули его вставные зубы.
Я вливала в него суп по ложечке в течение часа. Он перетирал его челюстями, а потом глотал с усилием, и ему надо было запивать густой суп водой из трубочки. Потом он кивал, чтобы я засовывала следующую порцию. Я была очень горда тем, что он у меня ест.
Я собирала ложкой остатки супа, как неожиданно заметила, что одна щека отца стала большой, словно у хомяка, который запрятал в нее еду. Он «спрятал» те креветки, которые не смог проглотить. Я выставила руку и сказала, чтобы он выплюнул мне на ладонь. Он с этой штукой задохнется, когда заснет, а глаза его уже закрывались.
Я сказала «Сплюнь», и в этот момент он отрубился и заснул. Я потрясла его за плечо: «Папа!» Я орала, но он не открывал глаза. Я засунула ему в рот указательный палец.
И тут он меня укусил. Еще до того, как открыть глаза, он настолько сильно сжал свои беззубые челюсти, что схватил и держал мой палец. Словно терьер, который поймал бисквит. Я простояла минуту с пальцем у него во рту и видела по его глазам, что он меня совсем не узнает. Потом я схватила пятерней его челюсть, как можно было бы схватить лошадь, когда хочешь ей вставить в рот уздечку. Он здоровой рукой ухватился за мою руку, что даже на следующее утро я видела каждый отпечаток его пальца.
На следующее утро он смотрел в стену, пока медсестра тщательно выбирала остатки креветок у него из-под языка.
Следующим вечером перед тем, как остаться с ним, мне пришлось напиться. Лиша и Рисовый барон пригласили меня в свой клуб, где я танцевала с разными докторами и продавцами страховки, которые постоянно глотали темный пунш на основе рома. Домой меня подвез некий Гомез на своей машине, больше похожей на бэтмобиль[71].
Глаза отца выглядели совершенно здравыми, когда я в них посмотрела.
– Привет, дорогая, – совершенно чисто и холодно, – повеселилась?
В соседней комнате мать оставила включенным ТВ с убранным звуком.
Лицо отца высохло и уменьшилось. Все впадины черепа впали еще сильнее и стали серого цвета. Но, может, я много выпила, и поэтому у меня была небольшая галлюцинация, и лицо отца превратилось в череп, но в ту секунду я его таким и видела. Потом он чихнул, я сказала: «Не болей», и он снова стал самим собой.
Я нажала кнопку и выключила телевизор. Картинка стала мгновенно уменьшаться и уменьшилась до звездочки-точки.
Я наклонилась к стоящей на полу коробке из-под обуви, в которой лежали все кассеты, на которых было подписано красным фломастером «Пит Карр». Я больше всего на свете хотела услышать, как отец рассказывает историю, как он раскручивает ее, словно крепкую леску, и забрасывает во времена и места, о которых я знаю только благодаря его голосу.
Я подняла кассету над железным бортиком кровати, в пространство, которое, как мне казалось, попадало в поле его зрения.
– Помнишь это? – спросила я.
– Ага, – ответил он. Он резко кивнул и улыбнулся.
– Не возражаешь, если я поставлю?
– Вай, – говорит он, и я воспринимаю это как «Поставь, если хочешь». Я нажала кнопку, и коричневая лента закрутилась.
Все это началось девятнадцатого июля тысяча девятьсот двадцатого года. В трактире под названием «У Бесси Мэй» в лесу. Там можно было поесть барбекю и выпить газированной воды. Когда полиции не было, подавали самогон.
И на самом деле все началось, когда Бак Нилан приехал на поезде на лесозаготовки. Бака мы назовем ушлым парнишей. Он не работал, любил играть и любил чужих жен.
Тем летом, когда в тех местах был Бак, парень по имени Нан Крокет со своим братом Угом работали на лесопилке вместе с моим отцом. У Бака что-то переклинило, и он решил, что у Нана что-то было с одной из его девчонок, а Нан был женатый человек. Он себе ничего лишнего не позволял. Но началось все это с того, что однажды Нан обыграл Бака в карты…
Дальше происходит следующее. Бак берет бритву, подкарауливает Нана и чуть его не убивает. Он его исполосовал этой бритвой. Мой отец отвозит Нана в город к доктору, который накладывает ему швы. Через три недели Нан снова появляется на лесопилке.
Отец спрашивает брата Нана по имени Уг о том, что Нан собирается делать. И Уг отвечает:
– Не знаю, что Нан собирается делать, но я знаю, что бы сам сделал в этой ситуации.
В общем, вернулся Нан на работу. И прошел год или что-то около того…
Однажды в субботу утром Нан подходит к нашему дому. Отец плохо слышал, поэтому все, кто хотел его увидеть, звали около дома мать. Она всех людей на лесопилке по голосу узнавала.
– Рут! – кричит Нан. И наши собаки залаяли.
– Заходи, Нан, они тебя не тронут, – говорит мать. – Том на кухне.
Отец сидел на кухне. В руках у него был стакан с молоком, в которое он накрошил кукурузного хлеба. Нан входит. – Не жди меня завтра на работе, не приду я… Я собираюсь сходить вечером в «У Бесси Мэй», – говорит Нан.
– А что у тебя за дело в «У Бесси Мэй»? – спрашивает отец.
И Нан отвечает ему, что он слыхал, что в трактире появится Бак Нилан.
– Ты занимайся своими делами, Нан. Скажи, чтобы Уг вместо тебя пришел и мне утром помог. Но зайди сюда вечером, – отвечает отец. Он понял, какие у Нана дела в трактире.
В тот вечер Нан приходит в трактир. Видит, что в дальнем конце зала сидит Бак Нилан. Сидит на стуле около пианино и играет. На нем черная шляпа с сатиновым ободком. Бак играет на пианино, а по его бокам стоят две дамочки и поют.
Нан входит, дамочки перестают петь и начинают пятиться, потому что понимают, что сейчас им здесь точно делать нечего. Бак видит, что дамочки уходят, и разворачивается на стуле. Ну, и когда он повернулся, в лицо ему уже смотрело дуло пистолета. Бам! Бам! Нан стреляет ему между глаз. На затылке Бака от выстрела появляется дыра, в которую можно вставить апельсин.
Нан спокойно вставляет пистолет за пояс и уходит.
Приходит Нан к нашему дому и зовет мать. Мать в кровати с отцом лежит. Отец спрашивает, кто там у ворот кричит. Мать говорит, что это Нан пришел.
– Нану мне нечего сказать, – говорит мать. – Я знаю, что он застрелил Бака Нилана.
Отец встает и в подштанниках выходит к Нану. Луна тогда была большая, как твоя сковорода.
– Том, – говорит Нан, – я слышал, что меня мистер Бишоп ищет.
Бивер Бишоп был тогда шерифом округа Джаспер.
– Да Бог с ним, с Бишопом, – отвечает папа. – Ты заходи и ложись поспи на веранде. Бишоп сюда зайдет, так что ты его не пропустишь.
И Нан говорит, что действительно пойдет вздремнет, а то сильно устал.
Приезжает на следующий день Бишоп и говорит, что в течение недели судья округа приедет на лесопилку. Шериф спрашивает отца, пустится в бега Нан или нет.
– Не, Нан здесь у нас будет, – отвечает ему отец.
Ну и конечно, через неделю к лесопилке подъезжает черный «Форд Model T». В нем сидит здоровый такой детина, с огромными руками. Волосы у него рыжие и все кудрявые. Не видел я волос красивее ни у мужчины, ни у женщины. Одет этот детина во все черное, как гробовщик. Подъехал на машине прямо к тому месту, где складируют свежие стволы деревьев, из которых сочится сок так, что если с наветренной стороны идешь, то очень легко запах учуять.
– Нан Крокет, – говорит судья, – ты же знаешь, что я могу за убийство в тюрьму тебя отправить?
– Знаю, сэр, – отвечает Нан, – но ты мог бы меня и на кладбище отправить после того, как Бак Нилан меня порезал.
Вот так говорит Нил. Говорит о том, что отомстил он Баку, и все тут.
И на этом дело и закрыли. Но никто о нем не забыл. В наших краях иногда происходили убийства, и все, кто их совершал, всегда к отцу потом приходили. Вот такой у меня был отец. С его идиотской шляпой. Я его сейчас, как живого, вижу…
Я проснулась оттого, что кассета закончилась и щелкала, потому что магнитофон надо было выключить.
Я была в Хьюстоне, когда к отцу приезжал его командир, капитан Пирс. Он потом стал полковником. После празднования в тот год дня высадки в Нормандии Пирс решил найти солдат, которые были тогда в его подразделении. Он узнал, что отец болен, приехал и снял комнату в «Холидей Инн». Дома была Лиша, когда Пирс в арендованном «Пинто»[72] подъехал к нашему крыльцу. Лиша сказала, что Пирс в своей жизни сделал много приседаний, потому что ноги в шортах были очень накаченными. На Пирсе была желтая рубашка для гольфа с маленьким крокодилом на груди. Он поцеловал руку матери, когда поднялся на крыльцо.
Отец отдал ему честь здоровой правой рукой и совершенно четко сказал: «Капитан Пирс». Капитан Пирс ответил: «Вольно, сержант Карр». Они вытирали слезы и обнимались, как два старых и хрупких привидения.
Пирс провел с отцом целый день и уехал только вечером. Они смотрели старые фотографии. Речь отца, когда он говорил о войне, была совершенно четкой. Однако разговоры его утомили, и он устал. Отец заснул, а полковник сидел рядом и ел пудинг.
Я поговорила с Пирсом по телефону.
– Ваш отец отказался стать офицером, – рассказывал он мне. – Он не хотел пить отдельно в офицерском клубе. Всех, кто был рангом выше сержанта, он называл «пуделями».
После нашего с ним разговора Пирс пил с матерью кофе почти до утра. Он рассказал ей несколько историй, которые мать не знала.
Отец был два раза ранен. Один раз немецкий солдат пропорол ему руку штыком. Я видела шрам на руке отца, но никогда не спрашивала, откуда он. Однажды отступавшие немцы взорвали мост, и отца завалило. Пирс решил, что отец погиб, и времени откапывать его не было. Но через несколько дней отец приехал на джипе, и на его лице была улыбка до ушей. Пирс считал, что причиной инсульта отца могло стать то старое ранение. Пирс уже пару раз давал показания о ранениях его солдат, что привело к тому, что армия США брала на себя расходы по лечению. Пирс считал, что можно будет попробовать этот способ и в случае с отцом.
В поисках старых армейских медицинских справок, доказывающих, что у отца было ранение в голову, я оказалась на чердаке нашего дома. Я несколько недель откладывала это мероприятие, чтобы дождаться дождя и чтобы не было так жарко. На самом деле я просто боялась туда подниматься.
В восточном Техасе с чердаками вообще лучше не связываться. В жарком и влажном климате на чердаках появляется черт знает что. На картоне появляется плесень, похожая на цветы на старинных обоях. Тараканы там размером с собаку. И есть большая вероятность того, что ты увидишь змей.
Помню, как змеи появились на чердаке дома Лиши. Однажды мы услышали, как на чердаке что-то падает, но потом не было звуков шагов или постукивания когтей, которые могли бы издавать мыши или еноты. Лиша взяла фонарик и поднялась на чердак, чтобы посмотреть, что там происходит, и вызвать людей, которые этим займутся. На чердаке не было помета мелких животных, но валялось что-то, напоминающее чулки. Когда Лиша подошла поближе и посветила фонариком, то поняла, что это змеиная кожа. Ее дом стоял неподалеку от болота, и в нем начали размножаться мокасиновые змеи.
Когда я достала из гаража лестницу, чтобы забраться на чердак, мне стало явно не по себе. Все утро по небу гуляли серые тучи. Когда наконец пошел дождь, небо разразилось за звуком разрываемого шелка. Капли застучали по листьям пальм. Жимолость затряслась под струями дождя. От бетонного крыльца поднимался пар. Я пробежала от гаража к дому и вся промокла.
Я забралась на чердак и потянула за электрический шнур, который в свое время протянул отец. Он прикрепил шнур к потолку строительным степлером. Я помогала ему и держала в руках лампочку, которая сейчас свисала с потолка и вся покрылась паутиной. Вокруг меня стояли лампы и мебель времен Эйзенхауэра.
Я принялась изучать все то, что хранилось на чердаке. В коробках были книги. В самом дальнем углу я заметила кожаный чемодан, и мое сердце екнуло. Чемодан был закрыт. Я воткнула в замок отвертку, ударила по ней моим маленьким детским молотком и замок открылся. Я вспомнила книжку со сказкой о Пандоре. На рисунках в той книжке была картинка, на которой изображена открывшая шкатулку Пандора. Из шкатулки вылетали демоны размером со стрекозу, а рот Пандоры округлился от удивления.
Потом я оттащила чемодан под лампу, чтобы мне было лучше видно. Я открыла крышку чемодана, и из него не вылетели демоны. В чемодане пахло мокрой бумагой. Сверху лежала пачка черно-белых фотографий, перетянутая бечевкой. Потом я нашла четыре коробочки для драгоценностей. Две коробочки были обтянуты черным вельветом, одна – ярко-синим сатином, а четвертая, малинового цвета, – шелковым поплином. В каждой из коробочек лежало обручальное кольцо.
– Вот и семейные драгоценности, – подумала я. Я взяла коробочки, положила их на поднос и решила спускаться вниз.
Но как только я встала, то с удивлением увидела такое, отчего выронила поднос, который упал мне на ноги. Пачки фотографий, коробочки с кольцами полетели в разные стороны, я сделала шаг назад и упала на коробку с елочными игрушками. Я слышала, как тяжесть моего тела давит шарики и лампочки на гирляндах. Пластиковая звезда порезала мне внутреннюю часть руки.
На дне чемодана лежала нога бабушки Мур. Нога была в толстом чулке. Там, где она должна была соприкасаться с бедром, чулок на ноге был завязан в узел. На ступне без пальцев все еще был надет ботинок. Я думаю, что даже вид гремучей змеи испугал бы меня меньше, чем эта нога из далекого прошлого.
Мама вошла на кухню, когда я стояла около открытого холодильника. Я пятерней выедала сердцевину половинки дыни, по подбородку тек сладкий сок. Мама спросила, что интересного я нашла на чердаке.
Вместо ответа я спросила ее об обручальных кольцах в коробочках, и атмосфера в комнате резко изменилась. Ее глаза стали похожи на испуганные глаза животных, которых держат в клетках.
– Это твои кольца? – спросила ее я. Она молчала.
– Не стоит сейчас меня этими кольцами укорять, Мэри, – ответила она. – Мне только этого сейчас не хватало.
Она пошла в спальню и легла в кровать. Из кухни я слышала, как она роется в своей жестяной банке с таблетками.
– Интересно, что она там ищет? – подумала я. – Наверное, какого-нибудь языческого бога под названием «валиум», «торазин» или «хальцион».
Я несколько десятилетий ломала голову над тем, какие именно демоны не давали матери спокойно жить. Что в ее прошлом сделало ее такой, какой она стала? Очень не многие прирожденные лжецы в конце концов начинают говорить правду, даже если считают, что это поможет им освободиться. Я несколько раз прилетала в Техас в надежде, что мать заговорит и расскажет мне о своем прошлом. Но она этого не делала. Даже отец до инсульта отказывался обсуждать эту тему. С выражением на лице, как у деревенского дурачка, он говорил:
– Черт, дорогая, вообще ничо не помню.
Лиша может подтвердить, что я долго упорствовала и не сдавалась. У нее тоже было много вопросов по поводу прошлого матери. В том мире, в котором жила мать, все люди, которые страдают по поводу прошлого, назывались нытиками и бездельниками-либералами.
– Подсознательное, Бог ты мой, какая херня, – говорила она. – Пережили и забыли. – После этого она снова принималась с остервенением драить губкой, обильно посыпая ее чистящим средством «Комет».
Несмотря ни на что, я все-таки узнала правду. Может быть, капля точила камень, а может быть, мне просто повезло.
После того как я нашла обручальные кольца, мать отказалась их комментировать. Она не собиралась обсуждать со мной свое прошлое.
– У меня нет сил заниматься отцом, когда ты с этим под руку лезешь, – заявила она и прижала руки к вискам, словно у нее разрывалась голова, и если она не будет ее держать, то та точно лопнет. – У меня голова раскалывается от боли.
По телефону я поговорила с моим бывшим психоаналитиком, который помог мне составить и записать в блокноте вопросы. Я прочитала ему все вопросы, чтобы он мог их проверить.
Чьи это обручальные кольца? Кто эти дети, о которых рассказывала бабушка Мур и фотографии которых она нам показывала? Почему ты сошла с ума после смерти бабушки? Зачем ты в ту ночь взяла в руки нож? Почему ты сказала доктору Бордо, что убила нас? Как тебя лечили в клинике?
Когда я приблизилась к матери со своим блокнотом, та заперлась в ванной. Я расхаживала взад-вперед по темноватому коридору, как львица в клетке, опасаясь того, что мать порежет себе вены лезвием для бритвы «Жилетт».
– Звони в полицию, если она это сделает, – советовал мне психоаналитик. Но в тот день мать мне тоже ничего не рассказала. Потом она три дня подряд отказывалась отвечать на мои телефонные звонки.
– Ты, видимо, не собираешься оставить всю эту тему в покое? – спросила она меня наконец.
– Нет, не собираюсь, – ответила я.
Тогда мы решили напиться. В нашем любимом мексиканском ресторане официант, не моргнув глазом, записал наш заказ в виде двух кувшинов с «Маргаритой». Его сын моментально принес нам чипсы и огнедышащую острую сальсу в глиняной плошке.
Конечно же, эти обручальные кольца принадлежали матери. Она вышла замуж, когда ей было пятнадцать лет – бабушка Мур хотела побыстрее выпроводить ее из дома. Через пару лет после свадьбы появился сын, которого назвали Тексом.
После рождения сына мать начала думать о том, как бы сбежать из Лаббока и от вездесущего ока очень критичной свекрови – фанатичной домохозяйки со шваброй в руках и взором, словно нещадное солнце. Когда мамин муж окончил колледж, она уговорила его устроиться на работу в Нью-Йорке. Молодая семья отбыла из Лаббока, поднимая колесами машины пыль. Ребенок лежал в корзинке на заднем сиденье.
Мама поселилась в Нью-Йорке. Ей очень понравилась жизнь мегаполиса – она брала коляску с Тексом и на метро добиралась до музеев. Ей захотелось рисовать людей, но муж был против – зачем ей рисовать голых незнакомых людей? Планы матери пришлось отложить еще и потому, что у них родилась зеленоглазая и светловолосая, как сама мать, дочка. Ее назвали Белиндой.
После рождения Белинды злобная фурия – свекровь прилетела из Лаббока в Нью-Йорк, чтобы помочь по хозяйству. Матери это не понравилось, и она устроилась на работу на полную ставку – делала зарисовки в лаборатории компании Bell. Муж работал на военную компанию, и теперь его жена тоже работала для победы в войне. Свекровь поджала губы, но не позволила себе никаких антипатриотических высказываний. Она стала заниматься детьми.
Однажды вечером мать вернулась с работы, дом оказался пустым, и никого из членов ее семьи в нем не было. Я представила себе, как мать идет от станции метро домой и на воротнике ее черного пальто лежат снежинки, создавая узор, словно на мантилье, которую надевают на девочек при первом причастии.
Мать переступила порог пустого дома. Отопление было отключено, и ее дыхание превращалось в облачка пара. Она прошла по пустым комнатам. Свет и телефон тоже отключили.
Соседи видели днем у подъезда грузовик и рассказали, что все утро свекровь руководила погрузкой вещей. В обед приехал на машине муж матери и забрал свекровь вместе с детьми.
К этому моменту рассказа я начала плакать. Мать тоже плакала. Соседи разрешили матери переночевать в их квартире на раскладушке. Они накормили ее и потом отвели в соседний бар.
– И там я напилась в первый раз в жизни. Конечно, я и раньше пила, но тогда напилась по-настоящему.
На следующий день она пришла в офис, в котором работал ее муж. Стол мужа был пуст, и на нем валялось несколько скрепок и неотточенных карандашей. Начальник не сказал матери, куда перевели ее мужа, заявив, что его работа секретная и имеет отношение к национальной безопасности.
Мама думала, что ее дети где-то рядом. В то время была война, и найти их было не так просто – по ночам на протяжении всего Восточного побережья страны был комендантский час, и нельзя было зажигать свет. Автобусы и поезда были забиты военными, и гражданским лицам было сложно перемещаться между городами.
– Даже если бы у меня были купоны на бензин, бензина тогда все равно не было, – вспоминала мать.
Ее родители переехали из центра Лаббока на ферму Мортон за городом. У них не было телефона. Письма ползли медленно. Когда отец матери, дедушка Мур, пригрозил пристрелить ее мужа, он написал это на открытке. Но родня со стороны мужа исчезла из Лаббока, не оставив адреса, по которому с ней можно связаться.
Прошло несколько месяцев. Мама стиснула зубы и продолжала жить дальше.
– Я убаюкивала себя мыслями о том, что дети появятся на следующей неделе, что их найдут мои родители после того, как наймут частного детектива.
Мать сняла маленькую квартиру и записалась на вечерние курсы рисования. После курсов она напивалась. Днем она работала в лаборатории, мучаясь от головной боли.
Через шесть месяцев после исчезновения семьи и детей скоропостижно скончался ее отец. «Кровоизлияние в мозг» – так было написано в свидетельстве о смерти. Звонок с этим известием мама приняла, когда замещала на коммутаторе компании подругу.
– Твой отец вчера ночью умер, – сказала тетя Одри, и мать стала вырывать все провода из коммутатора, разъединяя соединения и обрывая звонки.
Военные дали матери бумагу, позволяющую добраться на поезде до Техаса на похороны. Но в Чикаго ее сняли с поезда, потому что надо было везти солдат, и она застряла в городе на несколько дней. В Амарилло ее снова сняли, и оттуда она доехала до родительского дома на попутке.
После смерти мужа бабушка Мур стала немного не в себе. Она заперлась в кладовке, в которой хранила в пыльных банках консервированные персики. Когда мать зашла в кладовку, бабушка нисколько не удивилась. Она вышивала.
– Все говорят, что твой отец умер, Чарли Мэри, – сказала бабушка. Ее губы были плотно сжаты. – Но это не так. Он просто стал очень холодным.
Мать запомнила звук продеваемой сквозь ткань шелковой нити, стежки которой один за другим создавали рисунок цветущей сирени.
В гостиной сидели ее светловолосые тетушки, приехавшие поддержать сестру в кризисной ситуации.
– Они были, словно стервятники, – вспоминала мать. – Они обожали, когда у кого-то в семье возникали подобные ситуации. Они обожали чужие проблемы.
Когда мать вошла в комнату с графином лимонада, то услышала, что о ней говорят ее родные тетушки.
– Наверняка Чарли Мэри сделала что-то ужасное, отчего от нее убежал муж, – говорила одна из тетушек. – Нет дыма без огня.
Дети нашлись позже, когда мать уже вернулась в Нью-Йорк, а бабушка Мур вновь обрела некое подобие здравости. Произошло это совершенно случайно. Бабушка сидела в кафе в Лаббоке, когда в помещении появился страховой агент. Он спросил про полис бессрочного страхования жизни матери, за который уже давно не платили.
– Ее муж за себя исправно платит, но не платит за Чарли. Что будем делать с ее полисом, закроем? – спросил страховой агент.
Через пять минут бабушка уже знала адрес сбежавшего маминого мужа. Через два дня мать вылетела из Нью-Йорка в небольшой городок в Неваде.
Мать встретил шериф города и отвез по адресу, по которому жили ее дети. Как выяснилось, ее муж женился. Про первую жену он говорил, что она убежала или, может, даже умерла.
– Черт, а я даже не подозревала, что успела не только развестись, но еще и умереть, – сказала мать.
Шериф знал, что в ее черной сумочке из крокодиловой кожи лежит решение судьи из Нью-Йорка о том, что мать имеет полное право на опеку своих двоих детей.
Дом бывшего мужа матери оказался большим. Его дела, совершенно очевидно, шли хорошо. Дверь открыла бывшая свекровь матери. Шериф коротко объяснил ей, в чем дело, и та отошла, пропуская их в дом.
За фартук женщины держался мальчик, а маленькая белокурая девочка расставляла кубики на идеально чистом восточном ковре.
Мать наклонилась и протянула к ней руки, но девочка заплакала и спряталась за диван так, что видна была только ее макушка.
– Тогда-то я впервые серьезно задумалась, – сказала мать.
– Я только получила документы в суде, как мне сообщили о том, что дети нашлись. После этого я села в самолет. Я ни о чем не думала, не думала о будущем. Тогда у меня была однокомнатная квартира на Джоунс-стрит. – Лицо матери было мокрым от слез, но голос был ровным, словно ее слезы проливала другая женщина.
Бывшая свекровь подошла к дивану, а мальчик все еще прятался за ее юбками. Женщина взяла на руки плачущую внучку.
Мать села в кожаное кресло, открыла сумочку, в которой лежало решение судьи, и заплакала. Шериф, как солдат в ожидании приказа, стоял около окна.
– Я поняла, что в этой семье детям будет лучше, – сказала мать. – У них был отец и другая женщина, его жена, которую я не знала. Для детей у меня даже не было кроватей. Я работала, и за ними никто не смог бы присмотреть.
Тогда она приняла решение, которое можно назвать правильным или нет – она разорвала решение суда о предоставлении ей опеки над детьми, Тексом и Белиндой. Бывшая свекровь ехидно улыбалась. Шериф с облегчением вздохнул. Мать даже не стала обнимать детей, которые ее совсем забыли.
– И что же ты потом сделала? – спросила я.
– Вернулась в Нью-Йорк и стала искать мужчину, за которого могла бы выйти замуж и который помог бы мне вернуть детей.
Комната, в которой мы сидели, полностью исчезла.
– Но всем мужьям, которые у меня были, – мать обреченно махнула рукой, – всем им были неинтересны мои дети. И я от них уставала и уходила от них. Только твой отец был готов их взять. Твой отец был единственным…
После того как мать с отцом поженились, она написала письмо с просьбой отдать ей детей, но тогда они были уже слишком большими.
– Они сами не захотели ко мне переехать, – сказала мать. Ей об этом в письме ответила их мачеха. – После этого я словно попала в черную дыру. Я просто упала туда и даже этого не заметила. Как там, в физике, говорят о смерти планет? Взорвалась. Я взорвалась.
Вот такие у матери были демоны – ее маленькие дети. Она хотела быть с ними и стыдилась того, что их потеряла.
А почему она тогда подошла с ножом к двери нашей спальни? Она просто допилась до ручки.
– Я столько времени потеряла со всеми моими мужьями. И я потеряла детей. Даже ваше с Лишей появление не могло изменить этот факт. Мне было так плохо, как и тогда в пятнадцать лет, когда все это началось, – она считала, что в этом случае будет лучше нас убить. Она допилась до того, что у нее были галлюцинации о том, как она нас убивает. – Я видела вас в крови. Видела, как все стены забрызганы кровью.
Я спросила ее, почему она не рассказала нам об этом раньше. Обо всех замужествах и потерянных детях. Тут шестидесятилетняя мать ответила буквально так.
– Я боялась, что вы меня больше не будете любить.
На следующий день Лиша наняла частного детектива для того, чтобы тот нашел этих детей. Конечно, к тому времени они уже были далеко не детьми, им было больше сорока лет. На самом деле они хотели, чтобы их нашла мать. Через несколько недель после того они сами приехали к ней.
Наша встреча – это уже их собственная история, которую я не возьмусь рассказывать. Могу только сказать, что с тех пор в нашем доме стало очень светло.
Тогда в мексиканском ресторане мы с матерью не знали того, что может произойти в будущем. Пошатываясь, мы выходили из ресторана. Мы с трудом держались на ногах.
Садилось солнце, и, выйдя на улицу, я сощурилась. Было страшно жарко. От прикосновения к хромированным деталям внутри машины можно было обжечься. Я завела машину, и из кондиционера понесся поток теплого воздуха. Небо над нашими головами из желтого превращалось в пурпурное. Цвет разрезанной сливы, как выразилась мать.
Я выехала с парковки, думая о том, как отец лежит в своей больничной кровати. Каждый раз подъезжая к дому, я представляла себе стоящую перед ним «Скорую» и то, как накрытый простыней труп выносят на носилках.
От инсульта до смерти отца прошло пять лет. За это время отец стал таким легким, что я могла сама пересадить его в кресло. В конце жизни он чувствовал себя счастливым.
В тот вечер в машине я думала о том, что мы опоздаем к тому времени, когда должна уходить сиделка. Шины шуршали по асфальту, и в их шепоте я слышала: «Отец умер, отец умер».
Мама плакала. Она надела темные очки, в которых отражались казавшиеся мне в детстве доисторическими белые цистерны-нефтехранилища. Когда я была ребенком, мне казалось, что это яйца динозавров, из которых что-то рано или поздно вылупится. Потом за окном автомобиля появилось поле, поросшее васильками. То тут, то там над цветами кружились светлячки. Странно, подумала я, что эти насекомые так спокойно переносят яды, выбрасываемые заводами. Светлячки кружились в наступавшей темноте, словно кто-то зажигал и задувал свечки на торте.
Тогда все эти детали не показались мне такими красивыми, какими кажутся мне сейчас. На самом деле нам стоило бы сиять и радоваться после того, что мне рассказала мать. Все преступления, в которых мы себя винили, оказались мифами, сотканными из наших страхов. Мы не ждали хороших новостей вперемежку с плохими. Мы видели только темную сторону того, что рассказала мать. Я не знала, что отчаяние может быть обманчивым. Поэтому в те минуты чувствовала, что сижу в машине, словно в космосе, летящей в наступающей вокруг нас темноте.
Только оглядываясь назад, я понимаю, что в те минуты мы должны были светиться светом правды, тем самым светом, который выносит дух из сломанного тела и проносит его мимо страшных чудовищ. Я имею в виду освещенный белым светом туннель, через который пролетает душа умершего человека. Об этом туннеле говорили люди, оказавшиеся на пороге смерти, те, кто выжил после аварий, инфарктов или чуть не утонул, оставшиеся в живых благодаря усилиям врачей «Скорой помощи», реанимации или искусственному дыханию. Этот туннель – последний фейерверк, последнее фаер-шоу умирающего мозга.
Как бы то ни было, но мне нравится этот образ. Ты покидаешь привычное тело и легко, без усилий летишь по ярко освещенному туннелю к становящимся все более отчетливым силуэтам, оказывающимся по мере приближения твоими любимыми людьми, которые протягивают к тебе свои светящиеся руки и приветствуют тебя.
Благодарности
Благодарю моего агента Аманду Урбан из компании ICM, которая убедила меня предложить эту книгу издательству, и Нэн Грэм, купившую права на книгу для издательства Viking. Нэн – редактор и близкий друг – с энтузиазмом приветствовала мое начинание. Благодарю Кортни Ходелл из издательства Viking и мою сестру Лишу Хармон Скаглионе, которая подтвердила, что все написанное мной – правда. Спасибо Джеймсу Лафлину из New Directions. Благодарю Тобиаса и Кэтрин Вольфов, которые быстро и продуктивно вычитали окончательный вариант текста книги. Я очень признательна всем им.
Благодарю за гранты Фонд миссис Жиль Уайтинг и Мэри Инграхам из Колледжа Рэдклифф.
Мама прочитала только финальный вариант текста, но на протяжении двух лет отвечала на мои вопросы по телефону и электронной почте. Несмотря на болезнь, она даже собирала информацию для книги. Мама поддерживала меня, несмотря на то что в книге она изображена далеко не самым приятным образом. Я благодарна ей за смелость. Ее поддержка – это все для меня.
Замок из стекла
Женщина на улице
Я сидела в такси и думала о том, не слишком ли сильно разоделась для этого вечера. Подняла глаза и увидела свою маму – она копалась в помойке. Это было вечером и уже стемнело. Я застряла в пробке в двух кварталах от места проведения вечеринки. Холодный мартовский ветер разгонял пар, поднимающийся из люков канализации, и прохожие быстрым шагом шли по тротуарам, подняв воротники пальто.
Моя мама стояла всего в семи метрах от моего такси и копалась в мусорном бачке. На плечи она накинула какие-то тряпки, чтобы было теплее, и рядом с ней играла ее собака – помесь терьера и дворняжки черно-белой расцветки. Я прекрасно знала мамины жесты и мимику – исследуя содержимое помойки, она наклоняла голову и слегка оттопыривала нижнюю губу в поисках «сокровищ», которые вытаскивала из бачка. Когда она находила что-нибудь, что ей нравилось, ее глаза расширялись от радости. Ее волосы поседели и висели клочьями, глаза запали, но, тем не менее, это была моя мама, которую я прекрасно помнила, которая ныряла в море с высоких скал, рисовала в пустыне и читала наизусть Шекспира. У нее были все те же скулы, хотя кожа на лице была в старческих пятнах от солнца и ветра. Всем прохожим она представлялась обычной бездомной, которых в Нью-Йорке тысячи.
Последний раз я видела маму несколько месяцев назад, и когда она подняла глаза, меня охватил страх. Я испугалась, что она окликнет меня по имени и кто-нибудь из гостей вечеринки, на которую я отправляюсь, увидит нас вместе и раскроет мой секрет.
Я как можно глубже опустилась в кресле на заднем сиденье, попросила водителя развернуться и отвести меня назад на Парк авеню.
Такси остановилось у подъезда моего дома, швейцар открыл мне дверь, и лифтер нажал кнопку моего этажа. Муж был все еще на работе, и в квартире было пусто. Тишину нарушали только звуки моих шагов в туфлях на высоких каблуках по паркету. Меня очень взволновала неожиданная встреча с матерью, которая так радостно копалась в помойке. Я включила музыку Вивальди в надежде на то, что она успокоит мои нервы.
Обвела взглядом комнату. Вокруг меня стояли вазы начала XIX века, раскрашенные золотом и серебром. С полок смотрели кожаные корешки старых книг, купленных мной на блошиных рынках. Здесь были персидские ковры, старинные географические карты в рамках и огромное кожаное кресло, в котором я любила отдыхать вечерами. Я приложила все усилия для того, чтобы обставить квартиру и чтобы человеку, которым я хочу казаться, было бы в ней приятно жить. Однако эта квартира с ее обстановкой переставала приносить мне радость, как только я вспоминала о том, что мама с папой сидят где-нибудь на тротуаре. Я волновалась об их судьбе, но я и стеснялась того, какими они стали. Мне было стыдно за то, что я ношу жемчуга и живу на Парк авеню, а мои родители заняты тем, чтобы найти еду на этот вечер и теплое место для ночлега.
А что мне оставалось делать? Много раз я пыталась им помочь, но папа неизменно говорил, что им ничего не нужно, а мама просила у меня что-нибудь совершенно не вяжущееся с ее стилем жизни, наподобие флакона духов или членства в каком-нибудь фитнес-центре. Мои родители утверждали, что живут так, как им хочется.
После того как я спряталась в такси от мамы, я начала сама себя ненавидеть и ощущала неприязнь к своей дорогой одежде и квартире с антикварной обстановкой. Я подняла телефонную трубку, позвонила другу матери и оставила сообщение на автоответчике. Так, через автоответчик другого человека, мы с мамой общались. Мама перезвонила мне через несколько дней, и ее голос был спокойным и радостным, словно мы только вчера встречались на ланче. Я сказала, что хочу ее видеть, и попросила приехать ко мне, но мама отказалась и предложила встретиться в ресторане. Она любила есть там, где тебя обслуживают, и мы договорились о встрече в ее любимом китайском ресторане.
Когда я приехала в ресторан, мама уже сидела за столиком и внимательно изучала меню. Я обратила внимание на то, что она постаралась привести себя в порядок. Мама была одета в толстый серый свитер, на котором было всего несколько пятен грязи, и в черные мужские ботинки. Она умыла лицо, но на висках и шее все еще оставались черные разводы грязи.
Увидев меня, она радостно замахала рукой и воскликнула: «А вот и моя маленькая девочка!» Я поцеловала ее в щеку. Мама уже положил в свою сумку все пакетики соевого соуса, приправы для утки, а также кисло-сладкого соуса, которые были на столе. У меня на глазах она высыпала в сумку и плошку сухой рисовой вермишели. «Потом перекушу», – спокойно объяснила она.
Мы сделали заказ. Мама выбрала морских гадов Seafood Delight. «Ты же знаешь, как я люблю дары моря», – прокомментировала она свой выбор. Мама начала говорить о Пикассо. Недавно она просмотрела ретроспективу его работ и пришла к выводу о том, что он не такой интересный художник, как многие считают. По ее мнению, Пикассо не создал ничего стоящего после своего розового периода. Все его работы в стиле кубизма вторичны и малоинтересны.
«Меня беспокоит твое состояние, – сказала ей я. – Скажи, чем я могу тебе помочь».
Она перестала улыбаться. «Почему ты считаешь, что мне нужна помощь?»
«Я небогата, но деньги у меня есть. Скажи, что тебе нужно», – ответила я.
Она задумалась: «Купи мне курс удаления волос электролизом».
«Послушай, давай серьезно».
«Я совершенно серьезно. Когда женщина хорошо выглядит, она хорошо себя чувствует».
«Мам, перестань». Я почувствовала, что все мое тело напряглось, как всегда происходило во время разговоров на эту тему. «Я говорю о том, чтобы помочь тебе изменить свою жизнь и поэтому хорошо себя чувствовать».
«Ты хочешь помочь мне изменить мою жизнь? – спросила мама. У меня все в порядке. Это тебе нужна помощь. У тебя все ценности в голове смешались».
«Мам, пару дней назад я видела, как ты в мусорном бачке копалась в Ист-виллидж».
«Люди в этой стране слишком расточительны и не ценят вещи. Считай, что это мой маленький вклад в большое дело утилизации отходов». Она снова принялась за свой Seafood Delight. «А почему ты не поздоровалась?»
«Мне стало стыдно, и я спряталась».
«Вот видишь, – мама укоризненно направила на меня свои палочки для еды. – Вот об этом-то я и говорю. Тебя чересчур легко устыдить. Мы с твоим отцом такие, какие есть. Прими нас такими».
«А что мне отвечать на вопрос людей о моих родителях?»
«Скажи им правду. Нет ничего проще», – ответила мама.
II. Пустыня
Я горю. Это мое самое раннее воспоминание. Мне было три года, и мы жили в парке-стоянке прицепных вагонов в городке в южной Аризоне, название которого я не помню. Я стояла на стуле перед плитой. На мне было розовое платье, которое подарила мне бабушка. Мне очень нравился розовый цвет. Спереди платья, на животе, красовался бант. И иногда, крутясь перед зеркалом в этом платье, я представляла себя балериной.
В том момент я варила сосиски для хот-догов. Смотрела в кастрюлю и наблюдала, как они набухают и крутятся в кипящей воде. Было утро, и солнце нежно освещало маленькую кухню автоприцепа.
В соседней комнате мама напевала и рисовала картину. Наша черная дворняжка Жужу внимательно следила за мной. Я нацепила на вилку одну сосиску, наклонилась и предложила ее собаке. Сосиска была горячей, Жужу полизала ее и остановилась, снова уставившись на меня. Вдруг я почувствовала, что справа от меня что-то горит. Повернулась и увидела, что правая сторона моего платья пылает. Я оцепенела от ужаса и смотрела, как желто-красные языки пламени ползут по ткани на уровне моего живота. Потом огонь вспыхнул сильнее и коснулся моего лица.
Я закричала. Я почувствовала запах горелого и услышала треск моих горящих волос и ресниц. Жужу начала лаять. Я снова закричала.
В комнату вбежала мама.
«Мама, помоги!» – взывая к ней о помощи, я по-прежнему стояла на стуле и пыталась сбить огонь вилкой, которой зацепила хот-дог для Жужу.
Мама бросилась в соседнюю комнату и выбежала оттуда с одеялом, купленным в магазине списанных военных товаров, которое я очень не любила за то, что оно было колючим. Мама быстро набросила на меня одеяло для того, чтобы потушить огонь. Папы в тот момент не было, он куда-то уехал на машине, поэтому мама схватила меня и моего младшего брата Брайана и кинулась в соседний автоприцеп. Жившая в том автоприцепе женщина развешивала на улице выстиранное белье. Во рту она держала несколько прищепок для белья. Мама неожиданно спокойным голосом объяснила ей, что произошло, и попросила соседку подвезти нас до ближайшей больницы. Женщина выронила прищепки и свежевыстиранное белье прямо в пыль под ногами и, не сказав ни слова, побежала к машине.
Сразу по приезде в больницу сестры положили меня на носилки. Они говорили громким, озабоченным шепотом и разрезали большими блестящими ножницами то, что осталось от моего розового платья. Потом они подняли меня и переложили на большую железную кровать, в которой лежали ледяные кубики, и часть этих кубиков разложили по всему моему телу. Доктор с седыми волосами и в очках в черной оправе вывел мою маму из комнаты. Когда они выходили, я услышала, как доктор сказал, что мое положение очень серьезное. Сестры остались со мной. Одна из них сжала мою руку и сказала, что все будет хорошо.
«Я знаю, – ответила я, – но даже если будет и не очень хорошо, то все равно нормально».
Сестра еще раз сжала мою руку и прикусила нижнюю губу.
Комната была белой, маленькой и ярко освещенной. Вдоль стен стояли металлические шкафы. Я некоторое время рассматривала ровные ряды точек на облицовке потолка. Кубики льда лежали у меня на животе, ребрах и даже щеках. Краем глаза я заметила, что маленькая грязная ручонка появилась всего в нескольких сантиметрах от моего лица и схватила горсть кубиков льда. Я услышала громкий хруст и посмотрела вниз. Там внизу Брайан грыз лед.
Доктор сказал, что мне очень повезло. Мне сделали трансплантацию кожи, которую с ляжки пересадили на наиболее обожженные места на животе, ребрах и груди. После того как операция была закончена, всю мою правую сторону тела закрыли повязками.
«Смотрите, я наполовину мумия», – сказала я одной из медсестер. Та улыбнулась в ответ и подвесила мою правую руку на лямку, закрепив ее так, чтобы я не могла ею двигать.
Доктора и медсестры часто спрашивали меня: Как получилось, что я обгорела? Может быть, мои родители плохо со мной обращались? Откуда у меня так много ожогов, порезов и ссадин? Я отвечала им, что родители очень хорошо ко мне относятся. Ссадины и порезы у меня оттого, что я играю на улице, а ожоги оттого, что я варила сосиски. Меня спросили, как получилось, что трехлетний ребенок без присмотра сам готовит себе хот-доги. Да это просто, отвечала им я. Надо вскипятить воду, положить в нее сосиски – и все дела. Это же не какой-то сложный кулинарный рецепт, который ребенок не в состоянии повторить. Мне было трудно поднять кастрюлю с водой, поэтому я приставляла к раковине стул, залезала на него и набирала стакан воды. Потом опять же со стула я переливала этот стакан в кастрюлю. Я проделывала эту операцию до тех пор, пока кастрюля не наполнялась. Потом я зажигала конфорку, и когда вода закипала, я бросала в нее сосиски. «Мама считает, что я достаточно взрослая для этого, и часто разрешает мне готовить для себя», – заверила я всех интересующихся.
Расспрашивающие меня медсестры переглянулись, и одна из них что-то записала. Я спросила их, все ли в порядке, на что они ответили, что все хорошо.
Каждые два дня сестры меняли мне повязки. Старые, покрытые кровью, кусочками обожженной кожи и гноем, они снимали и откладывали в сторону. Потом они накладывали новую повязку из мягкой марли. Ночами я щупала свою шероховатую кожу там, где она не была закрыта повязками. Иногда я сковыривала корочку на ранах. Медсестры предупреждали, что этого не надо делать, но мне интересно было узнать, какого размера корочку я могу отодрать. Сдирав две корочки с ран, я представляла, как они разговаривают между собой тонкими, писклявыми голосами.
Больница, в которой я лежала, была очень чистой. Все в больнице было белое – стены, потолки и форма медсестер. Иногда они носили форму серебряного цвета. Серебряного цвета были кровати, подносы и медицинские инструменты. Все в больнице говорили вежливо и спокойно. Было так тихо, что слышен был скрип подошв медперсонала в коридоре. Я не привыкла к тишине и порядку, но мне в больнице понравилось.
Мне нравилось, что тут я лежала одна в палате. (В автоприцепе я жила в комнате с братом и сестрой.) В моей палате был даже телевизор. Дома у нас его не было, поэтому в больнице я часто смотрела ТВ. Моими любимыми передачами были «Ред Батонс» (Red Buttons) и сериалы с Люсиль Болл.[73]
Доктора и медсестры постоянно спрашивали меня, как я себя чувствую, не голодна ли и не нужно ли мне чего-нибудь. Медсестры приносили мне очень вкусную еду три раза в день и на третье давали фруктовый коктейль или желе Jell-O, а постельное белье меняли даже тогда, когда оно было совершенно чистым. Иногда я читала медсестрам, которые говорили, что я очень умная для ребенка моего возраста и читаю, как шестилетняя.
Однажды я заметила, что медсестра с белыми волнистыми волосами и синей тушью на веках что-то жевала. Я спросила ее, что она жует, и та ответила, что жует жвачку. До этого я никогда не слышала про жвачку, поэтому медсестра вышла и вернулась с целой упаковкой. Я вытянула из пачки пластинку, сняла бумажку, развернула фольгу и увидела покрытую мелкой сахарной пудрой жвачку. Я засунула пластинку в рот и была поражена неожиданной резкой сладостью вкуса. «Ух ты! Здорово!» – сказала я медсестре.
«Жуй, но ни в коем случае не глотай», – предупредила медсестра со смехом. Она улыбнулась и привела нескольких медсестер для того, чтобы показать, как я жую свою первую пластинку жвачки. Потом, когда эта медсестра принесла мне обед, она сказала, что я должна вынуть жвачку изо рта и что мне не стоит волноваться, потому что я смогу взять новую пластинку после обеда. И не нужно беспокоиться, что закончится пачка – тогда она мне купит новую. И вообще в больнице не надо ни о чем тревожиться. Если хочется, то тебе принесут мороженое или жвачку. Складывалось впечатление, что больница – это самое счастливое место на земле и мне лучше в нем остаться подольше.
Во время посещений в тихих коридорах больницы звучали пение, споры и смех членов нашей семьи. Медсестры на нас шикали, после чего мама, папа, Лори и Брайан на несколько минут понижали голос, но потом начинали снова говорить громко. Все оборачивались и смотрели на папу. Не знаю, потому ли, что он был таким красивым, или потому, что называл всех на ковбойский манер «партнер», а иногда – «гумба»[74] и закидывал назад голову, когда смеялся.
Однажды папа спросил меня о том, как медсестры и доктора ко мне относятся. Если они относятся ко мне плохо, то он их поколотит. Я сказала папе, что все относятся ко мне хорошо. «Ну, конечно, – ответил папа. – Они знают, что ты дочка Рекса Уоллса».
Мама желала знать, что именно хорошего мне сделал медперсонал, и я рассказала ей о жвачке.
«Вот как!» – сказала она. Мама считала, что жевание жвачки – это ужасная плебейская привычка пролетариата и медсестра должна была проконсультироваться с родителями перед тем, как предложить мне жвачку и приучать меня к столь вульгарным манерам. Она заметила, что поговорит с той медсестрой. «Ведь я же твоя мать и имею право знать, как тебя воспитывают», – объяснила она.
«А вы без меня скучаете?» – спросила я однажды мою старшую сестру.
«Нет, у нас много дел и постоянно что-то происходит», – ответила она.
«А что происходит?»
«Ну, все идет, как обычно».
«Лори, может быть, по тебе не скучает, но мы очень сильно скучаем, – вставил папа. – Тебе надо поскорее выходить из больницы доктора Пилюлькина».
Он присел на мою кровать и начал рассказывать историю о том, как однажды Лори укусил скорпион. Я уже много раз слышала эту историю, но мне нравилось, как папа ее рассказывает. Мама с папой были в пустыне, а Лори, которой тогда было четыре года, играла одна. Она перевернула камень, из-под которого вылез скорпион и ужалил ее в ногу. У Лори начались конвульсии, ее тело оцепенело и покрылось потом. Папа не доверял больницам и отвез ее к шаману из племени навахо, который разрезал место укуса и смазал каким-то лекарством, после чего Лори быстро выздоровела. «В тот день, когда ты обгорела, маме надо было отвести тебя к шаману, а не к этим пилюлькиным», – закончил свой рассказ папа.
Когда они приехали навестить меня на следующей неделе, голова Брайана была замотана грязной повязкой, на которой были видны следы засохшей крови. Мама сказала, что Брайан упал с кровати во сне и разбил голову, но они с папой решили не отвозить его в больницу.
«Вся комната была в крови, но, знаешь, одного ребенка в больнице нам вполне достаточно», – сказала мама.
«У Брайана такая крепкая голова, что, мне кажется, при падении пол пострадал больше, чем он сам», – заметил папа.
Брайан слушал родителей и громко смеялся.
Мама рассказала, что она купила мне лотерейный билет на ярмарке и выиграла полет на вертолете. Я никогда не летала на вертолете и была от этой новости в полном восторге.
«Когда я полечу?» – спрашивала я.
«Мы уже за тебя полетали, – ответила мама. – Ох, как было здорово!»
Потом папа начал пререкаться с доктором по поводу моих повязок. «Место ожога должно дышать», – объяснял он доктору.
Доктор ответил, что повязки необходимы для того, чтобы предотвратить заражение. Папа взорвался: «Да к черту заражение! Из-за этого у ребенка на всю жизнь шрам останется! Сейчас я и тебе шрам на память оставлю!»
Продолжение читайте в книге…
Джаннетт Уоллс
Примечания
1
Лэнг Р. Д. Расколотое «Я». СПб., 1995.
(обратно)2
Главная героиня книги и кинокартины «Унесенные ветром» (1939 года), в которой эту роль сыграла Вивьен Ли. Партнером Ли по фильму был Кларк Гейбл. – Примеч. пер.
(обратно)3
Two-Step (англ.) – американский народный танец двудольного размера с быстрым темпом, предшественник фокстрота. – Примеч. пер.
(обратно)4
Shuffleboard (англ.) – игра на размеченном столе или корте с использованием киев и шайб. – Примеч. пер.
(обратно)5
Bessie Smith (1894–1937) – американская певица, одна из наиболее известных исполнительниц блюза 1920–1930-х годов.
(обратно)6
В оригинале scab (англ.), что также переводится как «подлец», «мерзавец», а также «чесотка» и «парша». – Примеч. пер.
(обратно)7
Dust Bowl (англ.) – засушливый район с частыми пыльными бурями на западе США. – Примеч. пер.
(обратно)8
Crisco – американская марка разрыхлителей для теста и растительных масел, существующая с 1911 года. – Примеч. пер.
(обратно)9
The Night of the Iguana (англ.) – художественный черно-белый драматический фильм режиссера Дж. Хьюстона, экранизация одноименной пьесы Теннесси Уильямса. – Примеч. пер.
(обратно)10
Англ.: humidity – «влажность», stupidity – «глупость». – Примеч. пер.
(обратно)11
Азартная карточная игра, произошедшая от мексиканской игры кункен и популярная в США с 40-х годов XX века. В игре принимают участие два игрока. Используется колода из пятидесяти двух карт без джокера. Цель игры – выложить карты в определенных комбинациях. – Примеч. пер.
(обратно)12
См. «Сказки дядюшки Римуса» Дж. Харриса. – Примеч. пер.
(обратно)13
Daniel Boone (1734–1820) – американский первопоселенец и охотник, чьи приключения сделали его одним из первых народных героев Соединенных Штатов Америки. – Примеч. пер.
(обратно)14
Каджу́ны (англ. Cajuns – ке́йдженз; самоназвание фр. Cadiens – кадье́н) – своеобразная по культуре и происхождению субэтническая группа, представленная преимущественно в южной части штата Луизиана, именуемой Акадиана (около 400 тысяч), а также в прилегающих округах южного Техаса (около 100 тысяч) и Миссисипи (30 тысяч). – Примеч. пер.
(обратно)15
Sabine Pass (англ.) – небольшой город в округе Джефферсон, штат Техас. – Примеч. пер.
(обратно)16
The Andy Griffith Show (англ.) – американский сериал, выходивший в эфир в 1960–1968 годах. – Примеч. пер.
(обратно)17
Peggy Lee (1920–2002) – американская джазовая певица, автор песен и актриса, номинантка на «Оскар» в 1955 году. – Примеч. пер.
(обратно)18
Della Reese (р. 1931) – американская актриса и певица. Она начала свою карьеру в начале 1950-х годов с исполнения песен в жанре госпел, поп и джаз и добилась большого успеха в 1959 году с выходом хита в стиле ритм-н-блюз «Don’t You Know?». – Примеч. пер.
(обратно)19
Сам американский актер Джеймс Дин (англ. James Byron Dean) (1931–1955) в противовес своему утверждению погиб в автокатастрофе и красивого трупа не оставил. – Примеч. пер.
(обратно)20
Порода мясного рогатого скота, выведенная в графстве Ангус, Шотландия. – Примеч. пер.
(обратно)21
В оригинале «манчкины» (от англ. munchkin, букв. «жующий народец»: англ. to munch – жевать, чавкать; kin – семейство, род). Название одного из народов, описанных в книге «Удивительный Волшебник из Страны Оз» американского писателя Лаймена Фрэнка Баума, вышедшей в свет в 1900 году. В России она известна в пересказе А. Волкова под названием «Волшебник Изумрудного города». – Примеч. пер.
(обратно)22
Оригинальное название As I Lay Dying, вышел в 1930 году. – Примеч. пер.
(обратно)23
Lone-Star State (англ.) – «Штат Одинокой Звезды» (Техас). Получил такое название из-за флага со звездой и тремя полосами красного, белого и синего цветов. – Примеч. пер.
(обратно)24
Physalia physalis (лат.) – вид гидроидных из отряда сифонофор, в который входят полиплоидные и медузоидные особи. Выглядит как крупный прозрачный пузырь размером до тридцати сантиметров, заполненный газом, который удерживает животное на поверхности воды. Португальский кораблик внешне очень похож на медузу. Щупальца представителей этого вида несут огромное количество стрекательных клеток, яд которых опасен для человека. – Примеч. пер.
(обратно)25
В оригинале Jesus, Lover of My Soul, Pass Me Down the Sugar Bowl. – Примеч. пер.
(обратно)26
1/16 пинты или 29,5 миллилитра. – Примеч. пер.
(обратно)27
Молочный замороженный десерт без молочного жира, или мороженое для бедняков. – Примеч. пер.
(обратно)28
Maria Callas – греческая и американская певица, одна из величайших оперных певиц XX века. – Примеч. пер.
(обратно)29
Ария Parigi, O Cara звучит в самом конце оперы Верди «Травиата». – Примеч. пер.
(обратно)30
Джотто ди Бондоне, или просто Джотто (итал. Giotto di Bondone, ок. 1267–1337) – итальянский художник и архитектор эпохи Ренессанса. – Примеч. пер.
(обратно)31
The Ink Spots (букв. «Чернильные пятна») – чернокожая музыкальная группа из Индианаполиса, работавшая в жанрах ду-воп и ритм-энд-блюз, популярная в 1930 и 1940-х годах. Одной из наиболее известных песен группы является I Don’t Want to Set the World on Fire. – Примеч. пер.
(обратно)32
Esther Phillips (р. 1935) – американская певица, поет в стиле блюз, R&B, джаз и соул. – Примеч. пер.
(обратно)33
В оригинале Put No Headstone on My Grave, All My Life I Been a Slave. – Примеч. пер.
(обратно)34
Archie Comics – американское издательство, основанное в 1939 году (тогда называлось MLJ Magazines). Известно обилием серий про «типичного» подростка Арчи и его друзей. Также издает комиксы про Ежика Соника, а в 1990-х годах издавало «Черепашек-ниндзя». – Примеч. пер.
(обратно)35
В оригинале sed вместо said. – Примеч. пер.
(обратно)36
Первые две строчки старой ковбойской песни Goodbye Old Paint, I’m Leaving Cheyenne. – Примеч. пер.
(обратно)37
Первый куплет песни The Wish I Wish Tonight. – Примеч. пер.
(обратно)38
Англ. The Snake Pit. – Примеч. пер.
(обратно)39
В оригинале Eat me raw, mister. – Примеч. пер.
(обратно)40
Всемирная выставка (англ. World’s fair) или Экспо или Expo – международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. – Примеч. пер.
(обратно)41
House of the Rising Sun (англ.) – песня группы Animals. – Примеч. пер.
(обратно)42
Англ. Big Enough. – Примеч. пер.
(обратно)43
Англ. Sure Enough. – Примеч. пер.
(обратно)44
Appaloosa (англ.) – порода лошадей, выделяющаяся своей необычной чубарой мастью. Порода выведена в США. – Примеч. пер.
(обратно)45
Англ. On Top of Old Smokey. – Примеч. пер.
(обратно)46
Ninety-Nine Bottles of Beer (англ.) – известная народная американская песня, автор слов неизвестен. – Примеч. пер.
(обратно)47
Англ. Twilight Zone. – Примеч. пер.
(обратно)48
Pepto-Bismol (англ.) – товарный знак патентованного средства от расстройства и несварения желудка. – Примеч. пер.
(обратно)49
Уздечка без железа. Представляет собой кожаный недоуздок с обшитой мехом или кожей металлической дужкой, от концов которой идут металлические пластинки для пристегивания поводьев. – Примеч. пер.
(обратно)50
Zydeco (англ.) – музыкальный стиль, зародившийся в начале XIX века в юго-западных областях Луизианы среди креольского и каджунского населения. Характерные особенности – обильное синкопирование и быстрый темп. – Примеч. пер.
(обратно)51
Коктейль из джина с вермутом. Назван в честь Чарльза Гибсона (Charles Gibson), американского художника и иллюстратора, который прославился в качестве создателя идеала женской красоты. Излюбленным напитком художника был мартини с джином и маринованной луковицей, что и составляет основные ингредиенты коктейля. – Примеч. пер.
(обратно)52
Louie Louie (англ.) – песня Ричарда Берри, написанная им в 1955-м и выпущенная в 1957 году на стороне «Б» сингла Rock Rock Rock. – Примеч. пер.
(обратно)53
Англ. Dirty Dog. – Примеч. пер.
(обратно)54
Tennessee Ernie Ford (1919–1991) – американский певец, звезда жанров кантри и госпел. Его самый знаменитый хит Sixteen Tons, вышедший в 1955 году, является кавером песни Мерла Трэвиса. В Москве есть музыкальная площадка, названная в честь песни Sixteen Tons. – Примеч. пер.
(обратно)55
Эдвард Хоппер является автором одной из самых узнаваемых американских картин «Полуночники» (англ. Nighthawks), на которой изображены люди у стойки бара. – Примеч. пер.
(обратно)56
Дальнобойщиков. – Примеч. пер.
(обратно)57
National Velvet (англ.) – картина 1944 года. – Примеч. пер.
(обратно)58
Ребенок (исп.). – Примеч. пер.
(обратно)59
Charlotte’s Web (англ.) – детская книга американского писателя Элвина Брукса Уайта, опубликованная в 1952 году. – Примеч. пер.
(обратно)60
Alley Cat (также известная как Alleycat и The Alley Cat) (англ.) – популярная инструментальная песня, написанная известным датским пианистом и композитором Бентом Фабриком и выпущенная в 1962 году. – Примеч. пер.
(обратно)61
America the Beautiful (англ.) – американская патриотическая песня. Слова песни написала детская писательница Катарина Ли Бэйтс, а музыку сочинил церковный органист и руководитель хора Сэмюэл Уорд. Изначально Бэйтс сочинила стихотворение Pikes Peak, которое было опубликовано в 1895 году в журнале The Congregationalist. В 1882 году Уорд, не знавший о стихах Бэйтс, сочинил мелодию Materna на слова религиозного гимна XVII века O Mother dear, Jerusalem. – Примеч. пер.
(обратно)62
Perry Mason (англ.) – американский телесериал, транслировавшийся в 1957–1966 годах. В свое время сериал был «самым успешным и продолжительным среди сериалов об адвокатах». – Примеч. пер.
(обратно)63
Nancy Drew (англ.) – литературный и киноперсонаж, девушка-детектив, известная во многих странах мира, созданная Эдвардом Стратемаэром. – Примеч. пер.
(обратно)64
Исп. «яйца по-деревенски», мексиканская яичница, с добавлением красного перца, фасоли и острого соуса чили. – Примеч. пер.
(обратно)65
Volkswagen Karmann-Ghia Typ 14 – спортивный автомобиль на шасси Volkswagen 1200 с кузовами «купе» и «кабриолет», выпускавшийся с 1955-го по 1974 год. – Примеч. пер.
(обратно)66
Tom Wolfe’s Electric Kool-Aid Acid Test (англ.) – книга, в которой Вулф в своем высоко эрудированном и иногда старомодном стиле создал занятные портреты молодежной наркокультуры. – Примеч. пер.
(обратно)67
Коктейль с коньяком, сливками и шоколадным ликером. – Примеч. пер.
(обратно)68
Gunsmoke (англ.) – вестерн-сериал, транслировавшийся в 1955–1975 годах, а также несколько телефильмов под тем же названием. – Примеч. пер.
(обратно)69
«Омаха» – кодовое название одного из пяти секторов вторжения сил союзников на побережье оккупированной нацистами территории Франции в ходе операции «Оверлорд» во время Второй мировой войны. – Примеч. пер.
(обратно)70
Немецкое наступление на Западном фронте 16 декабря 1944 – 29 января 1945 года на юго-западе Бельгии. Англосаксонские историки данную операцию называют «Битвой за выступ». Немецкое название Wacht am Rhein – «Вахта на Рейне». – Примеч. пер.
(обратно)71
Batmobile (англ.) – автомобиль Бэтмена, персонажа комиксов и художественных фильмов. – Примеч. пер.
(обратно)72
Ford Pinto – субкомпактный легковой автомобиль, выпускавшийся компанией Ford Motor Company для покупателей в Северной Америке начиная с 11 сентября 1970 года по 1980 модельный год. Название Pinto означает пегую масть лошади. – Примеч. пер.
(обратно)73
Lucille Ball (1911–1989) – американская комедийная актриса и звезда телесериала «Я люблю Люси», получившая в США прозвище «Королева комедии».
(обратно)74
Goomba – сленговое обращение наподобие испанского compadre и итальянского compare, а также сицилийского cumpari, т. е. «кумпан». Используется главным образом среди жителей Нью-Йорка итальянского происхождения. – Прим. перев.
(обратно)





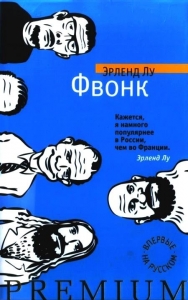
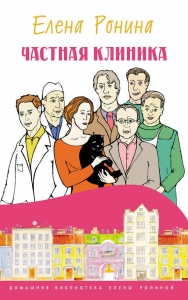




Комментарии к книге «Клуб лжецов. Только обман поможет понять правду», Мэри Карр
Всего 0 комментариев