Юрий Пензин К Колыме приговоренные
Если что-то и есть стоящего в моей книге, то оно — в правде о Колыме (как я ее понимаю) и в том, что говорят о Колыме, как представляют ее будущее простые люди. Истина всегда в них.
Юрий ПензинАвтор и Магаданская областная писательская организация выражают сердечную признательность мэрии г. Магадана во главе с Н. Б. Карпенко, генеральным директорам ОАО «Колымская угольная компания» и ОАО «Северовостокуголь» Н. П. Саратову и Ю. Е. Засько, благодаря вниманию и поддержке которых книга увидела свет. Нельзя не отметить и бескорыстную помощь приморских геологов В. А. Челпанова, А. А. Лугового и др., осуществивших компьютерный набор рукописи.
Об авторе и его книге
Творчество Юрия Пензина пока мало известно читателям. Некоторые его рассказы и даже не повести, а отрывки из них публиковались в газетах, в журнале «День и Ночь», в коллективном сборнике «Снегозор». В 1996 году во Владивостоке вышла брошюрка «В чужой колее» с десятком небольших рассказов Пензина. Вот, пожалуй, и все. Или почти все.
Сейчас Юрию Пензину 66 лет. Он кандидат геолого-минералогических наук. Всю трудовую жизнь отдал Колыме. Работал главным геологом Кадыкчанской углеразведки, так что быт колымских поселков знает не понаслышке. Юрий Петрович — специалист в своем деле: только что опубликована «Угольная база России» по Северо-Востоку в восемьдесят печатных листов, в которой более половины объема принадлежит Пензину. Это тысяча с лишним страниц машинописи!
Профессиональная занятость Пензина не оставляла времени для литературного творчества, несмотря на тягу к нему и несомненный талант. Лишь выйдя на пенсию, Юрий Петрович взялся за перо.
В написанном им сразу же в полной мере проявились и богатый жизненный опыт, и талант повествователя. Рассказы и новеллы Пензина о концлагерях сталинской эпохи, пожалуй, не ниже по уровню «Колымских рассказов» Варлама Шаламова. Но не только к этому историческому периоду обращается автор, временные рамки изображаемого им гораздо шире: от начала века (рассказ «На чужой земле») до последнего, «перестроечного» десятилетия, когда стали закрываться и разрушаться колымские поселки. И тут Юрий Пензин в определенном смысле выступает первооткрывателем: такой Колымы, как у него, в литературе Северо-Востока еще не было. В отличие от произведений северных «классиков», в которых Север в той или иной степени романтизировался, здесь мы встречаемся с жесткой реалистической прозой.
Автор не закрывает глаза на неприглядные стороны действительности, на проявления жестокости и алчности, трусости и подлости. Однако по прочтении рассказов не остается чувства безысходности, поскольку всему злому и низкому в них всегда противостоят великодушие и самоотверженность. Оттого и возникает по прочтении не желание сложить от бессилия руки, а активно бороться во имя добра и справедливости.
Несомненно и собственно литературное мастерство Юрия Пензина. Выпуклы, рельефны характеры его героев. Обрисовку их отличает психологическая достоверность и глубина проникновения. У каждого из них своя яркая, живая речь: то выспренно-интеллигентская, то простонародная, то с татарским или якутским акцентом. Живописны, зримы портретные характеристики героев. Великолепны, наконец, описания природы, которыми, к сожалению, все чаще пренебрегают современные авторы. Яркости сравнений, которыми щедро уснащает Юрий Пензин описания, способен позавидовать не только прозаик, но и поэт.
Хочется надеяться, что рассказы Юрия Пензина будут по достоинству оценены читателями и займут достойное, заметное место в литературе Северо-Востока.
Станислав Бахвалов,
член Союза писателей России
Колесо обозрения
I
Все колымские поселки, на первый взгляд, похожи друг на друга. На окраине частные застройки. Это жалкие остатки Дальстроя первых лет его существования. Поверить, что здесь живут люди, трудно. Покосившиеся, со слепыми, как в курятниках, окнами постройки, кажется, вот-вот развалятся, на месте разобранных на дрова заборов лежит истлевший до черноты горбыль, вместо улиц кривые закоулки, везде битые стёкла, мусор и постоянно пахнет помоями. Встретить здесь можно пьяного мужика или неопределённого возраста бабу с лицом, похожим на выжатую половую тряпку.
Далее, по ходу к центру, идут бараки. Они все одинаково вросли в землю, крыши, когда-то сложенные шифером, теперь, обнажая полуистлевшие стропила, зияют провалами, в покосившихся окнах таятся мрак и холод, на стенах за облупившейся штукатуркой куски ссохшейся в камень глины и битая дранка. В бараках пахнет кошками и жареным луком, на помойках, за уборными роются собаки. Живут в бараках рабочие, проститутки и пенсионеры.
В центре шлакоблочные Дом культуры, школа и административное здание. Рядом беленые, из кирпича коммунальные многоэтажки. Здесь всё в строгом прямоугольном измерении, без архитектурных излишеств, как в армейском гарнизоне, и, наверное, поэтому центральная площадь похожа на солдатский плац, а когда по ней ранним утром бегут на свои работы чиновники, кажется, торопятся они, опасаясь, что их могут внезапно остановить, выстроить в колонну и отправить на казарменное положение. Бродячих собак здесь нет. В праздничные дни на площади собираются толпы народа: мужики из-под полы пьют водку, бабы, разбившись по интересам, точат лясы.
У каждого посёлка есть и свои особенности. В посёлках золотодобытчиков всюду, даже и в центре, груды брошенного металла. Это и старые гидромониторы, и остатки от эстакад промприборов, и разобранные на мелкие запчасти бульдозера, и неиспользованные в строительстве балочные перекрытия. Всё искорёжено, поржавело и осело в землю, и не верится, что это — дело мирных рук человеческих, кажется, всё это осталось от случившегося здесь давно большого сражения каких-то сверхъестественных бронетанковых чудовищ. В посёлках угледобытчиков терриконы пустой породы и тяжёлые шахтные надстройки из бетона и металла. На погрузке грохот, как в дробильном цехе, у ствола надрывно, словно из последних сил, гудят вентиляторы. Кажется, ещё немного, и они, не выдержав напряжения, взорвутся и взлетят в воздух. Летом кругом угольная пыль, зимой вместо снега корки смёрзшейся в лёд сажи. Посёлки оленеводов более ветхие, в них меньше металла и больше тишины. Из металла тут только дымовые трубы у котельных. В одном из посёлков, чтобы накренившаяся набок труба не упала на котельную, она укреплена тросом за списанный трактор. Когда дует ветер, труба качается, в ней гудит, как в пустой бочке, а в тракторе от раскачки скрипит железо. В другом посёлке оленеводов кто-то из приисковых оставил вышедший из строя бензовоз. Местные дети тайком от родителей в цистерне курят, а мужики в кабине тайком от жён распивают водку.
Есть в посёлках и свои достопримечательности. Они не имеют ни художественной, ни исторической ценности, но замечательны тем, что не вписываются в колымский образ жизни. В одном из посёлков на самой окраине одинокий мужик поставил рубленый из толстой лиственницы дом с мансардой. Он высокий, как сторожевая башня, по площади не уступает церковному приходу, и отопить его зимой никакого угля не хватит. Когда мужика спрашивают, зачем он его построил, он чешет затылок, смеётся и отвечает: «Шут его знает! Взял да и построил!» В другом посёлке мужик поставил на крышу своего дома большой флюгер. Летом, когда дуют ветры, флюгер гудит и мечется из стороны в сторону, как пойманная в клетку птица, а сидящий в ограде под ним мужик смотрит на него, как на чудо, и удивляется: «О, даёт, зараза!» Во всех посёлках в котельных на дымовых трубах приварены железные петухи. Зачем они на Колыме, где не держат петухов, и никому нет дела до скандинавской символики, никто не знает.
Есть в каждом посёлке и известные люди. Известны они потому, что, как и поселковые достопримечательности, они не вписываются в колымский образ жизни. Колыма и холодом, и не радующими глаз пейзажами с изрытой бульдозерами землёй делает людей жесткими по складу ума и нетёплыми, хотя и с открытыми к чужой беде сердцами. Тот, кто не такой, оказывается у всех на виду, и одни из них отталкивают своей замкнутостью, другие, наоборот, притягивают открытостью. Открытость нередко бывает придурковатой, как у людей, которые ёрничают над собой и смеются над другими, потому что терять им в жизни уже нечего.
Вот Антошка Сухорукий. Ему под сорок, но выглядит он моложе. У него открытое лицо, сложен он сухощаво, как подросток, руки и ноги, словно на пружинах, всегда в движении, когда смеётся, лицо вытягивается и становится похожим на весёлую маску зайца с лубочной картинки. По центральной площади, где в праздники мужики из-под полы пьют водку, а бабы по интересам точат лясы, он ходит и тешит народ. На нём, несмотря на лето, шапка с откинутым набок ухом, драная фуфайка и войлочные ботинки.
— Ой, разлюбезная! — громко обращается он к разукрашенной в цветастое бабе. — Ой, раскрасавица ты моя, богом данная! И лицо-то у тебя — ясно солнышко, и туалеты-то у тебя заграничные, и сапожки-то твои посеребряны! Вот Бог дал таланту!
Все смеются, а баба в цветастом краснеет, как рак, и опускает глаза. Потом и она начинает смеяться, но получается у неё это не в лад с другими. Сначала она хихикает, как порченная девка на выданье, а потом фыркает, как лошадь.
— Да ну тебя! — наконец говорит она Антошке и отмахивается от него, как от жениха, пристающего с поцелуями.
Антошка идет к мужикам.
— От грехов воняете, яко псы бездомные! — кричит он им. — Для ради чего уста свои поганите сивухою? Али вы сатанинских выродков антихристы, али алкоголики богомерзкие? — И, подойдя к одному из мужиков, распахивает ему полу пиджака и строго спрашивает: «А эт-то ишто такое?!» У мужика в нагрудном кармане пиджака недопитая бутылка водки. Антошка достает её, запрокинув голову, из горла допивает водку и, возвратив мужику пустую бутылку, говорит:
— И Иисус Христос за ради нас, грешных, испил на кресте чашу горькую.
Все смеются, а мужик с пустой бутылкой расстроен.
— Ну, собака! — не выдерживает он. — До дна вылакал!
А Антошка уже у старух. Они сидят у подъезда ближайшего дома и моют кости всем, кто проходит мимо.
— Бесы в вас! — кричит им Антошка. — От глаз божьих, антихристы, прячетесь! На христовых слуг непотребно лаетесь!
И, вскинув руки к небу, вопрошает: «Да доколе же нам бесчестье ваше бесовское терпеть?! Да и как унять языки ваши змеиные?» А подойдя к старухам вплотную, грозит: «Ой, возьму сабельку вострую. Ой, возьму шашку булатную! Да порублю вам головы окаянные, да зарою вас в землю сыпучую!»
— Изыди, сатана! — шипят на Антошку старухи, но, зная, что просто так он не уйдет, наливают ему бражки.
Откуда Антошка набрался древнеславянской терминологии, никто не знает. Да и кому это нужно? Шут — он и есть шут! Знай, развлекай и смеши наших, а кто ты и что у тебя на душе, какие радости или печали, не наше дело! Когда Антошку нашли в канаве мертвым с пробитым черепом, никто не задумался: чьих это рук дело. Следователь, приехавший из района, решил, что убили Антошку в пьяной драке. А в какой и кто, выяснять не стал. В посёлке пьяных драк много и разбираться в каждой не хватит времени.
II
Иван Дюба, по прозвищу Бирюк, живёт в посёлке золотодобытчиков. Он грубо сложен, глаза на крупном лице спрятаны в поросшие длинным волосом брови, руки у него, как две большие кувалды, ноги зимой в серых под сорок пятый размер валенках, летом в грубо скроенных ботинках на толстой подошве. Ему около сорока, но выглядит он старше. Живет один в своём доме, друзей не имеет и знакомств не водит. Говорят, раньше он был общительным и открытым, а замкнулся, когда жена сбежала с любовником. Сейчас он работает ночным сторожем, днём его не видно, а вечером выходит из дому с ружьём и сидит на крыльце. Когда на ограду садятся вороны, он их стреляет и отдает своей собаке. У собаки со странной кличкой Дора крупная, как у бульдога, морда, глаза спрятаны в складках жира, зад тяжёлый и неповоротливый. Несмотря на такой вид, она не злая и ни на кого не лает. Это потому, что к Бирюку никто не ходит. И, наверное, остался бы Бирюк ни в чём, кроме замкнутого образа жизни, не замеченным, если бы не взял на воспитание мальчика, мать которого погибла в автомобильной аварии, а отец скрывался от алиментов. В поссовете ему это легко разрешили. Человек он непьющий, ни в чем плохом замечен не был, а то, что стреляет ворон, так что ж из этого. Ворона — птица глупая, на Колыме никому не нужная, за неё и штрафу ни с кого не взыскивается.
Мальчика звали Колей, и ходил он уже во второй класс. Весёлый и общительный при матери, после её смерти он замкнулся, и когда перешёл в руки Бирюка, по поведению мало чем от него отличался. В школе со сверстниками не участвовал в играх, к учителям стал относиться с подозрительной осторожностью, после школы, нигде не задерживаясь, шёл домой и садился за уроки. В свободное от уроков время на улицу не выходил, и теперь его часто можно было увидеть сидящим на крыльце с Бирюком в ожидании ворон. Со временем те, кто их часто видел на крыльце, стали замечать, что они похожи друг на друга. У Коли, как и у Бирюка, бросались в глаза большая голова, отчуждённый взгляд и неуклюжее сложение. Когда Бирюк убивал ворону, он молча относил её Доре и снова возвращался на своё место. Не было случая, чтобы он попросил Бирюка разрешить ему выстрелить по вороне. Видимо, в отличие от мальчиков своего возраста, стрельба из ружья его не увлекала.
Как относился Бирюк к Коле, никто не знал. Однако по тому, как он ежедневно сопровождал его в школу и из школы, можно было догадаться, что к нему он сильно привязан. Возвращаясь из школы, они заходили в столовую. Обедали неторопливо, как деревенские мужики: горчицу клали не в суп, а мазали на хлеб, сверху посыпали его солью, всё, что брали, не оставляя на столе, съедали, пообедав, аккуратно собирали на поднос посуду, и Коля относил её в посудомойку. После этого Бирюк покупал ему мороженое и яблок. Мороженое Коля съедал в столовой, а яблоки они уносили домой.
Учился Коля не хорошо и не плохо: в выполнении школьных заданий был аккуратным, но любимых предметов не было. Ему было все равно: решать ли задачи по арифметике, писать ли письмо по грамматике. Учительница, знавшая его до смерти матери, понимала, что придёт время и он станет таким, каким был раньше: любознательным и со здоровым к школе интересом. Когда она ушла на пенсию, на её место приняли новую, только что окончившую столичное педучилище. В этом училище её хорошо научили, как давать детям арифметику и грамматику, но не сказали ей, что у каждого из них своя душа и своё сердце, и относиться к каждому надо не как к компьютеру, в который можно заложить любые знания, а как к сложному и неповторимому явлению жизни. Поэтому она считала, что такие свойства, как любознательность и здоровый интерес к школе даются детям от рождения, а не обнаружив их у Коли, она, не долго думая, вызвала в школу Бирюка.
— Товарищ Бирюк, — заявила она ему, — у вашего Коли никакого интереса к школе. Откуда это?
— Я не Бирюк, а Дюба, — поправил он её, не обидевшись.
— Ах, извините! — вспыхнула учительница и, оправившись от смущения, тоном, исключающим всякие возражения, продолжила: — Я думаю, товарищ Дюба, отсутствие интереса к школе у Коли идет от лени и неумения по-настоящему трудиться. — И, вскинув на него в позолоченной оправе очки, видимо уже для порядка спросила: — Или у вас другое мнение?
Хотя Бирюк никаких педучилищ не кончал, мнение у него было другое. Он понимал: чтобы пробудить у Коли интерес к школе, надо сначала пробудить у него интерес к жизни. Понимая, что словами тут ничего не сделаешь, он взялся за дело.
Первое, что сделал Бирюк, он перестал стрелять ворон. «И правильно», — согласился с ним Коля, и с тех пор еду для своей Доры они брали в столовой из отходов. Потом Бирюк стал водить Колю в лес. Утром они шли на речку и слушали, как всё живое просыпается. Первыми просыпались пташки, похожие на воробьев. С первыми лучами солнца они уже порхали в кустах и выклёвывали там букашек. Потом начинали отбивать свои трели дятлы. Разбуженные этим бурундуки вскакивали на ветки стланика и, протерев глаза, начинали грызть орешки. Последними просыпались вороны. Лениво открыв глаза, они долго и подозрительно осматривали, что их окружает, а потом, тяжело взмахнув крыльями, куда-то улетали. Ходили Бирюк с Колей в лес и вечером. Там они разжигали костёр, кипятили чай и ужинали тем, что брали с собой. Иногда они оставались в лесу и на ночь. Коле нравилось наблюдать, как на небо из-за лесу выплывает луна. Ему казалось, что и на ней есть и пташки, похожие на воробьев, и дятлы, и бурундуки, только они во много раз меньше, чем на земле. Представить, что там живут и вороны, он не мог. Вскоре он так привязался к лесу, что возвращаться домой ему уже не хотелось.
— Давай жить в лесу, — предложил он однажды Бирюку.
— В лесу хорошо, — ответил ему Бирюк, — только люди там не живут.
— Почему? — не понял Коля.
— Не знаю, — признался Бирюк, а, рассмеявшись, добавил: — Наверное, боятся — медведи задерут.
— Всех не задерут, — заверил Коля и пообещал Бирюку, что когда вырастет, жить он будет только в лесу.
Это Бирюка насторожило. Он понял: лес — хорошо, но отчуждая им Колю от людей, он ничего в своём деле не добьётся. Надо найти ему увлечение и дома. Зная, что дети любят строить, он предложил ему поставить во дворе дома избушку не игрушечную, а настоящую, бревенчатую. Коля охотно согласился и вскоре с увлечением работал и топором, и пилой, как настоящий плотник. После избушки Дюба с Колей решили построили во дворе настоящее колесо обозрения. Начали они с чертежа, и тут Коля понял, что арифметика — это не просто действие с числами, но и предмет, без которого не рассчитаешь ни размера колеса, ни передачи к нему усилий от ручного ворота. Работа закипела, и к середине лета колесо обозрения было готово. При опробовании его Бирюк стал на ворот, а Коля с Дорой сели в одну из четырех кабин. И хотя колесо обозрения было небольшим, не более четырех метров, когда кабина оказалась наверху, у Коли захватило дыхание, а Дора от страха завыла. Покататься на колесе обозрения Бирюк с Колей стали приглашать поселковых ребятишек, а когда были построены качели и для малышей сделана песочница, их двор превратился в весёлый детский аттракцион. Мальчишки катались на колесе обозрения, девочки качались на качелях и играли в куклы в избушке, самые маленькие копались в песочнице, а Бирюк крутил ворот на колесе обозрения.
Прошло лето, и Коля пошел в третий класс. Теперь он уже был другим: на переменах, как и все дети, носился по коридорам, играл в догонялки, дёргал девчонок за косички, после школы на стадионе играл в футбол и запускал в небо бумажных змеев. И учиться он стал лучше. Любимым предметом у него стала арифметика.
По окончании первой четверти учительница собрала родителей на классное собрание. Дойдя в аттестации детей до Коли, она сказала:
— Товарищ Бирюк, а ваш Коля стал другим, у него по арифметике одни пятёрки.
— Я не Бирюк, а Дюба, — поправил он её, как и прежде, не обидевшись.
Вспыхнуть от смущения учительница не успела.
— Какой он Бирюк?! — возмутилась с задней парты женщина. — Бирюки аттракционов для детей не строят. Не Бирюк он, а уважаемый Иван Андреевич.
В классе раздались аплодисменты.
Возвращался Бирюк домой, как на крыльях. Дорогой он заскочил в промтоварный магазин и купил Коле меховую куртку и школьный ранец с блестящими застежками. «Чем мы хуже других!» — думал он.
И всё было бы хорошо, если бы зимой не появился в посёлке Колин отец. Это был хилый с узким, в лопаточку, лицом мужичонка.
— Коля — мой сын, — заявил он Бирюку, — и я его забираю!
— А это не хочешь? — ответил Бирюк и показал ему дулю.
Когда Колин отец пришёл к Бирюку во второй раз. Бирюк его побил и спустил с крыльца. Освидетельствовав побои в больнице, Колин отец подал на Бирюка в суд. Понимая, что на суде ему дадут срок, забрав Колю, Бирюк из посёлка скрылся. Остались от Бирюка с Колей дом с забитыми окнами, колесо обозрения и бревенчатая избушка. Зимой здесь всё в глубоком снегу и стоит мёртвая тишина, летом, когда дуют ветры, колесо обозрения скрипит, в бревенчатой избушке гудят сквозняки, по крыше дома хлопает кусок надорванного толя. Дети сюда не приходят. Их пугает пустой дом с забитыми окнами.
III
В посёлке угледобытчиков живет бабка Агашиха. Ей уже за семьдесят, но она шустрая, и ноги её носят, как молодую. Сложена Агашиха костляво, на сморщенном в стручок перца лице нос похож на кривую сосульку. В посёлке она практикует народную медицину, снимает сглаз и порчу. При советской власти её сильно зажимали: стыдили в поссовете, выставляли на всеобщее посмешище и даже напускали комсомольцев и милиционеров. Приходилось изворачиваться и прятаться. При демократах она воспрянула духом и практику свою поставила на широкую ногу. Дома, чтобы посетитель при входе в него сразу робел и ломал шапку, в верхний угол поставила киот с лампадкой. Бабы к ней ходили лечить детей, мужики шли, чтобы избавиться от алкоголизма. Заговоры от любых болезней у неё начинались с одной и той же фразы: «Как на море Окияне да на острове Буяне лежит камень Алатырь, а под ним сидит Упырь». Камень Алатырь олицетворял чудодейственную силу. Упырь — нечистую, от которой и шли все болезни. В конце заговора она говорила: «Аминь, аминь, аминь, над аминями аминь», и давала для употребления с едой, в зависимости от болезни, сушеных пауков, мышиного помёта, собачьей крови и земли со свежей могилы. Так как люди склонны больше выздоравливать, чем умирать, в чудодейственную силу Агашихи верили, а кто не верил, всё равно к ней шёл, надеясь на то, что хуже не будет. Даже деревенское просторечие шло на пользу Агашихе. Одно дело, когда врач в белом халате и тонометром в руках говорит с тобой на безразличном к твоей болезни языке и смотрит на тебя, как на посетителя, которых у него за дверью длинная очередь, и другое, когда перед тобой Агашиха, участливая в твоём горе, как в своём, и простая, как древняя старица из тихой обители.
Как в любой медицинской практике, и в Агашихиной были неудачи. Заболел как-то у соседки муж. Лежит месяц, два и вот уже, похоже, скоро помрёт. Соседка к Агашихе.
— Помоги, милая, — просит она, — недолго и умрёт завтра.
— Ты ето, милая, не гоношись, — говорит ей Агашиха. — Набери с яго поутру мочи в баночку, а я положу в ея кипрею свежаго. Как к утру завтряму кипрей зелёным останется, не помрёт твой суженый, а сжухнет да почернеет, воля божья, преставится.
Утром на следующий день с этой баночкой Агашиха бежала к соседке.
— Радуйся, радуйся, — махала она ею со двора, — кипрей-то зелёный!
— Чтоб ты сдохла! — зло бросила с крыльца ей соседка и захлопнула перед ней дверь.
Сосед, оказывается, в эту ночь преставился.
Когда в стране объявили, что каждый имеет право на любое вероисповедание, цена Агашихи стала выше. И это понятно. Народ в посёлке по части религии по-прежнему был тёмным и понять, что настоящий верующий в таких, как Агашиха, видит не божьих слуг, а слуг дьявола, не мог. Не понимала это и учительница начальных классов Серафима Антоновна, хотя она-то и являлась первым пропагандистом православного вероисповедания в посёлке. С присущей ей настойчивостью, она убедила директора школы в необходимости провести в её классе в виде эксперимента урок по Слову Божьему. Понимая, что детям нужно не только слово, но и яркий пример его воплощения в жизнь, она на этот урок пригласила Агашиху. Так как Агашиха о Боге никогда глубоко не думала, и зачем её зовут в школу, плохо поняла, она согласилась.
После слова о Боге, взятого из Евангелия, Серафима Антоновна обратилась к Агашихе:
— Агафья Ивановна, скажите и вы своё слово.
— А чё говорить-то? — не поняла её Агашиха.
— Ну, например, что случится, если дети не будут верить в Бога? — предложила Серафима Антоновна.
— А я знаю? — удивилась Агашиха.
Серафима Антоновна растерялась.
— Ну, а сами-то вы, Агафья Ивановна, наверняка, в Бога верите, — оправившись от растерянности, сказала Серафима Антоновна.
— А ето я не знаю, — ответила Агашиха.
Урок Слова Божьего был сорван. В коридоре Серафима Антоновна со слезами на глазах говорила:
— Агафья Ивановна, ну как вы так могли? Вы мне всё испортили!
У неё, как в родимчике, дёргалось правое веко и дрожали руки. Заметив это, Агашиха решила, что на Серафиму Антоновну кто-то напустил порчу. Отведя её в угол коридора, она зашептала:
— Милая, узнай, куда он до ветру ходит, да на тоё место и сама до ветру сходи. Враз всё снимет.
— Кто он? — не поняла Серафима Антоновна.
— А кто порчу на тебя напустил, — ответила Агашиха. — А не то, — добавила она, — ко мне приходи. Вылечу.
Убегая от Агашихи в свою учительскую, Серафима Антоновна плакала.
Настоящая, хоть и скандальная известность к Агашихе пришла после истории с Иваном Букиным. Здоровый, как бык, в молодости он мог в один присест выпить бутылку водки и, как ни в чём не бывало, продолжать застолье в другом месте. Случалось это с ним нечасто, в основном в праздники и в дни рождения. С возрастом это прошло, и выпивать он стал только по бутылке, но уже каждый день, а когда стал выпивать по рюмке, но по несколько раз в день, понял, что он — алкоголик, и ему пора лечиться.
— И-и, милай, да я и не таковских подымала, — встретила его Агашиха и, перекрестив три раза, и три раза сплюнув за дверь, сказала: — Значится, это так. Выпей севодни вечером бутылку водки, а завтра, когда похмель затрясёт, иди в лес и найди в нём осину. У ножки ей поклонись и скажи: «Осина, осина, возьми мою трясину, отыми ломоту, дай леготу». А опосля сыми с себя исподнюю рубаху, издери её на клочья и той клочья развесь на осине.
На прощанье Агашиха дала Ивану мешочек с землёй, взятой с недавно похороненного утопленника, и сказала, чтобы он эту землю подмешивал себе в еду.
Иван не раз ходил в лес, бухал в ноги осинам, рвал на себе рубахи, ел землю с могилы утопленника, ничего не помогало. Без рюмки не мог прожить и часа. Не вытерпев мук своего Ивана, жена побежала к Агашихе и сообщила, что прописанные ею средства мужу не помогают.
— И не таковских подымала! — сказала ей Агашиха и посоветовала: — Ты, милая, помай мышаку, посадь ея у банку с водкой и тую водку давай свому Ивану на похмелью. Да не говори ему про мышаку. Три дня пройдет и — как рукой сымет!
Три дня не прошло. Уже на второй день, когда жена ушла на работу, Иван решил узнать, что это за водка, которой она его похмеляет. Найти банку с водкой и плавающей в ней дохлой мышкой было не трудно, и вечером, побив жену, с этой банкой Иван отправился к Агашихе.
Агашиха, когда он к ней зашёл, сидела за столом и пила чай с любимым малиновым вареньем. Увидев Ивана с водкой и мышкой, она поняла: сейчас ей будет плохо. С испугу обронив чашку с чаем на пол, она закричала:
— Изыди, сатана!
И, как от нечистой силы, стала оборонять себя от Ивана крестными знамениями. Это ей не помогло. Иван заставил её выпить из банки всю водку, а дохлой мышкой отхлестал по губам. Когда на шум сбежались соседи и стали за неё заступаться, она кричала:
— А он меня ещё и снасильничал!
В это ей не поверили. Не поверил в это и суд, а Ивана за хулиганские действия приговорили к двум годам лагерей, но учитывая, что он — алкоголик, заменили их на лечебно-трудовой профилакторий. Лечить в этом профилактории никто никого не думал, водили под конвоем на работы и плохо кормили. Когда Иван из него вышел, он стал пить ещё больше.
IV
Яша Губан известен как борец за справедливость. Борется он со всеми, кто ворует и подличает. В этом он так наторел, что ему уже ничего не стоит поставить на место своего начальника, который давно греет руки на государственной собственности. Роста Яша небольшого, и когда выходит на трибуну со своей правдой, видна одна большая голова с похожими на лопухи ушами.
— Вот я и говорю, — заканчивает он своё выступление, — хватит, Иван Матвеевич, тёмными делами заниматься. И мы — не лыком шиты, и мы законы знаем.
Иван Матвеевич — это тот начальник, который греет руки на государственной собственности. У него широкое плаксивое лицо, толстый нос и выпуклые, как у индюка, глаза. Яшу он уже в который раз не понимает, и на стуле за председательским столом теперь ёрзает, как мелкий преступник на скамье подсудимых.
— Григорий Иванович, — говорит он секретарю партбюро уже в своём кабинете, — или я его убью, или он меня в могилу сведет.
— Натура у него такая, — спокойно замечает Григорий Иванович.
Иван Матвеевич вскакивает из-за стола и кричит:
— По-твоему, у него натура, а у меня её нет?! Да?! Ну, знаешь ли! — А, подойдя к окну и побарабанив по подоконнику пальцами, вдруг предлагает: — А не перевести ли нам этого подлеца на наружные работы? Хлебнёт на морозе лиха, глядишь, и про критику забудет.
— Эк хватил! — смеётся в ответ Григорий Иванович. — Да он из нас котлету сделает! Настрочит в райком, так, мол, и так, преследуют за критику. А там — сам знаешь: разговор короткий.
Разошлись Иван Матвеевич и Григорий Иванович по домам, так и не решив, что делать с Яшей.
Не жаловал Яша и районное начальство. Однажды, когда в посёлок приехал давний друг Ивана Матвеевича, председатель райисполкома, он напустил на него такую критику, что у этого председателя задёргалось веко и закололо в левом боку.
— А это ещё кто такой? — спросил он у Ивана Матвеевича после собрания.
— И не спрашивай! — ответил Иван Матвеевич. — В печёнках сидит! Хоть в могилу от подлеца зарывайся.
И рассказал председателю райисполкома всё, что вынес горького от Яши.
— И ведь ничего с ним не поделаешь, — закончил он свой рассказ. — Уволить хотел, да не тут-то было: не пьет, на работу не опаздывает, задания выполняет.
— А ты его поставь на руководящую работу, — вдруг предложил председатель райисполкома и, рассмеявшись, добавил: — Был у меня такой! Так я его — в заместители! И месяца не прошло — провалил работу. Я его — сразу и по шапке!
Через неделю Яша ходил в начальниках участка, а через месяц, когда участок запорол план, Иван Матвеевич его уволил. Так как всё делалось наспех, и поэтому оформлено, как положено не было, суд Яшу в должности начальника восстановил.
— А ты его уличи в воровстве, — дал новый совет председатель райисполкома.
— Как так? — не понял Иван Матвеевич.
— Ну, как воруют, учить нас не надо. А поймать на воровстве — на то у тебя есть помощники, — ответил председатель райисполкома.
На следующий день Иван Матвеевич приказал своему завскладом:
— Дай этому подлецу, — иначе он Яшу уже и не называл, — два лишних ящика гвоздей.
«Клюнет, как миленький, — потирал руки Иван Матвеевич, — а мы ему ревизию: где, куда вбивал гвозди? Ах, недостача! Ну, что ж, получай!»
Яша на гвозди не клюнул, налево их не пустил, и члены ревизионной комиссии ушли от него с носом.
Через неделю завскладом подбросил Яше два лишних ящика дефицитной краски, но Яша и на них не клюнул.
— Не ворует, говоришь, — удивился председатель райисполкома. — Тогда шей ему аморалку.
Хотя Яша был примерным семьянином и к чужим бабам, похоже, не приставал, Иван Матвеевич сделал ставку и на это. Другого выхода у него не было. Дела на Яшином участке шли из рук вон плохо, и это уже стало отражаться на выполнении плана всем управлением. А за невыполнение плана управлением, Иван Матвеевич знал: расплата в райкоме короткая. И председатель райисполкома тут не поможет.
Чтобы пришить Яше аморалку, за это дело взялся заместитель Ивана Матвеевича по хозяйственной части Трунин. Орудием своего коварного замысла он избрал свою помощницу по учёту неликвидов Ирину, которую за цветущий вид, общительность и лёгкий характер все звали Ириской. С мужчинами она была откровенно раскованной и перед теми, кто на неё обращал внимание, была готова на всё.
— Слушай, — сказал ей однажды Трунин, — что это на тебя Яша засматривается?
— Губан, что ли? — удивилась Ириска. — Вот уж кого мне не хватало!
На следующий день Трунин пошёл дальше.
— Яшу вчера видел, — сказал он. — Опять о тебе. Говорит, этой бы девке да хорошего мужа.
Ириска фыркнула и ничего не сказала.
Чтобы не спугнуть её, не раскрыть поспешностью свои карты, Трунин взялся за неё через три дня.
— Не знаю, и чего пристает ко мне твой Яша, — развёл он руками. — Говорит, в тебе есть что-то такое, чего нет в других женщинах. И в глазах у тебя какие-то искры, и сложена ты, как Софи Лорен. Извини, но я в тебе этого не нахожу.
Ириска смерила Трунина нехорошим взглядом и ничего не сказала.
В следующий заход Трунин сделал вид, что сердится:
— Да скажи ты, наконец, своему Яше, пусть он от меня отвяжется! — сказал он. — Несёт, что попало! Опять и глаза твои, и сложение. Уже и что-то грустное в тебе нашёл. Уж не обижает ли её кто, спрашивает.
Ириска глубоко вздохнула и тихо произнесла:
— Ох, уж эти мужчины!
Трунин понял, дело сделано, остается ждать результата. А результат пришёл скоро. Ничего не подозревавший Яша и раскрученная Труниным Ириска за неделю нашли друг друга. Вскоре по посёлку поползли слухи, что у них большая любовь, а через месяц по заявлению жены Яши его разбирали на совместном заседании партбюро и месткома. На нём единогласно было принято решение: рекомендовать начальнику управления освободить Яшу от занимаемой должности за аморальное поведение.
V
Григорий Мишин жил на окраине посёлка, где при Дальстрое располагался большой лагерь для особо опасных преступников. Среди ветхих, похожих на курятники, построек дом его выделялся сложенным из камня фундаментом и высокой крышей. Во дворе на могиле жены стоял сваренный из железа памятник. Прах её он перенёс сюда, когда участок, где она была захоронена на кладбище, наметили под снос. Умерла жена двадцать два года назад. Год до смерти она жила в тихом помешательстве, и Мишин ходил за ней, как за ребёнком. Сама она не могла ни постирать, ни помыть пол, всё валилось из рук. Незадолго до смерти у неё пропал аппетит, и когда Мишин звал её поесть, она всякий раз спрашивала: «Гриша, а это надо?» Сам Мишин в то время в звании майора служил в лагерной охране. Он, как и требовалось по службе, обеспечивал порядок в лагере, предотвращал из него побеги, если они случались, ловил беглецов, тех, кто пытался вырваться из окружения, стрелял. Вне службы он любил весёлые компании, охоту на уток и рыбную ловлю. Жену любил за тихий нрав, и не было случая, чтобы когда-то поднял на неё руку.
Сейчас Мишину уже далеко за шестьдесят, он тяжело сложен, лицо с глубокими, как порезы, морщинами, грубое, когда сидит на крыльце своего дома, с улицы похож на каменное изваяние. Он много курит, от водки не пьянеет, в еде неразборчив, сон, как у всех людей, которым терять нечего, глубокий. Ведет уединённый образ жизни, видимо, ещё и потому, что соседи уже давно переехали в коммунальные квартиры. Положена ли ему такая квартира, он не знает, и справляться о ней никуда не ходит. Ведь такие, как он, бывшие работники лагерной охраны, сейчас никому не нужны, на них смотрят как на сторожевых псов ГУЛАГа. Вот и недавно прискакала тут столичная журналистка и с ходу, словно только что выскочила из пролётки, и за воротами её ждут ретивые кони, застрекотала:
— Мне правду, и только правду! Кто, когда и где расстреливал политических заключённых в вашем лагере? Кому принадлежит инициатива этих расстрелов? Принимали ли и вы в них непосредственное участие? Где находятся останки расстрелянных?
Мишин послал её подальше, а вскоре, как сказали ему, в одной из центральных газет появилась статья «Запирательство не пройдет!» за подписью этой журналистки. «Дура!» — подумал о ней Мишин. В это время шла чеченская война, и ему было непонятно: почему эта дура не скачет по горящим в огне сёлам и не спрашивает об этой войне правды у тех, кто на ней, как и он когда-то на лагерной службе, не по моральному убеждению, а по приказу и воинскому долгу, принятому под присягой, делают своё дело.
Да что журналистка! Обидно было за другое. Немцы, участвовавшие в войне с нами, уже стали друзьями. Их широко встречают, везут на немецкие захоронения, помогают строить мемориалы памяти, и уже никто не думает: а сколько и они, и те, что в земле, пожгли наших городов и сёл, повесили и расстреляли мирных жителей, уничтожили солдат и офицеров. А он, как и другие, кто служил в лагерной охране, всё ещё преступник, которого не отдают под суд лишь потому, что ловко запирается в своих преступлениях.
Ну, ладно, немцы немцами, а вот и здесь, в посёлке. Пошёл как-то Мишин к главе администрации выписать угля по льготной цене.
— Только ветеранам! — обрезал его глава администрации.
Зная, что на Севере ветеранов дают всем, кто уходит на пенсию, Мишин спросил, что надо, чтобы получить ветеранское удостоверение.
— Ну, ты даёшь! — удивился глава администрации. — Скажи спасибо, что ещё на воле ходишь!
Не лучше встретили Мишина и в районной милиции, куда он ездил, чтобы получить разрешение на приобретение ружья. Ему хотелось, как и в молодости, посидеть в охотничьем скрадке, дождаться утренней зорьки, и пострелять уток, когда те садятся на кормёжку.
— Ну, знаете ли! — строго посмотрел на него начальник милиции. — Вам дай ружьё, а вы кого-нибудь застрелите.
Пришлось покупать нигде не зарегистрированное ружьё, каких в то время по рукам браконьеров ходило немало. Однако охота с оглядкой на то, что тебя с ружьём поймают, Мишину скоро надоела. Забросив его на чердак, он успокоился и об охоте перестал думать. Жизнь, замкнутая и до этого в неширокие рамки быта, теперь стала похожа на расписанную по уставу жизнь солдата. Утром Мишин вставал рано, завтракал оставшейся от ужина тушёнкой, потом шёл в магазин и закупал продуктов на день, вернувшись, готовил обед, после обеда спал, проснувшись, смотрел телевизор, в ужин выпивал стопку водки и укладывался спать на ночь. Когда от такого однообразия становилось невмоготу, Мишин шёл на могилу жены, выпивал там водки и, присев у оградки, уходил в воспоминания о прожитой с ней жизни. Воспоминания чаще всего были отрывочными, состояли из того, что в жизни было светлым и радостным. Что было в их жизни, когда жена сошла с ума, память Мишину ничего не сохранила. Одно осталось из этого: перед самой смертью жена, кажется, пришла в себя, взгляд, как у нормального человека, стал осмысленным, она глубоко вздохнула и тихо произнесла: «Гриша, а ведь я, кажется, умираю».
Пришло время, когда на окраине посёлка, где жил Мишин, кроме него никого не осталось. Одни переехали в выделенные администрацией коммунальные квартиры, другие покинули посёлок. Всё, что осталось после них, стало похоже на свалку строительного мусора из тёса, горбыля, ломаного кирпича и битой штукатурки. А вскоре сюда пришли бульдозера. Они сгребали всё в кучи, а шедшие следом рабочие эти кучи сжигали. Потом стало известно, что какой-то предприниматель из района, оформив земельный отвод на это место, решил построить здесь складские помещения. Когда дело дошло до дома Мишина, предприниматель, показав ему бумаги, сказал:
— А ты в них не значишься.
«Да как же это так?! — не понял Мишин. А предприниматель уже командовал, как и с какой стороны заходить бульдозером, чтобы легче снести его дом. Кровь ударила Мишину в голову, он бросился за ружьём. Зарядив его, он вышел на крыльцо и крикнул:
— Не дам!
Когда один из бульдозеров заехал траком на могилу жены, Мишин выстрелил. Бульдозерист тяжёлым мешком вывалился из открытой кабины. Все разбежались, а вскоре приехала милиция. Мишин в это время уже был на чердаке и готовился к бою. Забаррикадировавшись всем, что попало под руку, он выбрал патроны с картечью и проверил, свободно ли они входят в патронник. Несмотря на то, что кровь стучала в голове и сердце готово было вырваться из груди, он был спокоен. О том, что будет стрелять в невинных людей, он не думал. Для него это были уже не люди, а то зло, которое сломало его жизнь. Когда пули защелкали по крыше, Мишин прицелился в плохо укрывшегося милиционера и выстрелил. Милиционер дёрнулся, и было видно, как его тело свели судороги. После этого милиционеры отступили, а на их место приехали солдаты. Были они в бронежилетах и с автоматами. Первая очередь прошила над головой Мишина крышу, а вторая прошла ниже, по верхнему венцу дома. Отстреливаясь, Мишин видел: кольцо окружения сужается, и скоро с задней, открытой стороны дома, он будет простреливаться. Выпустив последний патрон с картечью, он зарядил ружьё дробью. Выстрел из неё был последним в жизни Мишина.
Светлые дали
I
Жаркие дни бывают на Колыме. Приходят они в июле, когда за недолгим весенним равноденствием наступает пора летнего разноцветья с прозрачным, как стекло, небом и долго не уходящим с него в свои короткие белые ночи солнцем. В полдень температура поднимается до тридцати градусов, смолкают птицы, прячутся в траве комары, на речных перекатах не играет хариус, юркие в другое время лета бурундуки лениво греются на солнце. На пригорках, поросших стлаником, в такие дни терпко пахнет хвоей, а в глубине леса прелым опадом.
В такие дни, несмотря на жару, хорошо думается, мысли светлые и чистые, легко ложатся в голову, и кажется, уже нет в этой жизни ни суетных блужданий по её глухим окраинам, ни вечных в своей неразрешимости вопросов, и всё так просто, словно ты только что родился и видишь мир незатуманенными жизнью глазами. А когда замечаешь, как таёжные дали утопают в голубой дымке, кажется, и за ними всё так же, как и здесь, легко и уютно, нет ни скованных камнем городов, ни изрытых и опустошенных земель, ни мутного над ними неба; всюду зелёные леса, терпко пахнет хвоей и на солнце греются бурундуки. И уже невозможно представить себе, что там, за этими далями, люди бранятся и ссорятся, путаются в противоречиях, ругают свою жизнь, спиваются и лезут в петли.
В один из таких дней инженер-геолог Ромашов Юрий Николаевич сидел на берегу реки у костра и ждал вертолёта. Скуластый, с короткой в кружок черной бородой и узкими коричневого цвета глазами, он был бы похож на татарина, если бы не большой, похожий на сосульку нос, который придавал его лицу обиженное выражение. Оно так бросалось в глаза, что прилетевший однажды в лагерь московский чиновник, увидев Ромашова вот так же у реки, удивился: «А это ещё кто такой?» «А это татарин, у которого лошадь украли», — пошутил кто-то, и с тех пор он стал проходить под этой длинной, но меткой портретной характеристикой. Сейчас у ног Ромашова лениво плескалась вода, за спиной в беспорядке валялись тюки с геологическим снаряжением, у вылинявшей на солнце палатки, на одном из тюков вверх лицом спал техник-геолог Митя. Он тоже в это лето отпустил бороду, но была она у него не в кружок, как у Ромашова, а по-козлиному жидкой и острой. Отличался Митя необыкновенно высоким ростом и неуклюжим сложением и был похож на длинный костыль, снизу к которому прицепили болотные сапоги, а всё остальное обрядили в мешковато сидящее тряпье. По натуре, как о таких говорят, он был большой ребёнок. В свои тридцать лет он забавлялся ловлей бурундуков и лесных пташек, а жуков сажал в пустые бутылки и наблюдал, как они устраивают своё совместное существование. Наверное, он считал, что жизнь — это очень простая штука и глубоко из неё в голову ничего брать не надо. И происходило это, скорее всего, не потому, что он отличался жизнерадостным характером, а наоборот, было видно, что смотрит он на жизнь как на преходящее явление, в котором нет ничего интересного, кроме того, что происходит сегодня. Всё, что было вчера, ему казалось скучным, а что будет завтра, ему не приходило в голову. Когда его кто-то однажды спросил, думает ли он жениться, он очень удивился и ответил: «А я знаю?»
В полдень застывшее солнце в зените своим отражением в реке уже было похоже на раскаленную сковороду, а когда с окружающих реку тополей срывался легкий ветерок и поднимал на ней мелкую рябь, оно расплывалось и, казалось, там плавится. Ромашову стало жарко и, скинув штормовку, он пошел к реке ополоснуться. И в это время из-за поворота реки показалась лодка. Сидели в ней трое: уже немолодые якут с якуткой и мальчик лет пяти.
— Дратуй, догор! — весело приветствовал якут Ромашова ещё из лодки, а когда он выпрыгнул из неё, Ромашов обратил внимание, что у него короткие ноги и добрые, как у всех немолодых якутов, глаза. Якутка была низкорослой, из-под белого её платка торчала черная косичка, лицо было плоским, нос пуговкой, а у мальчика такая большая голова, что, казалось, видишь ее через увеличительное стекло. Видимо, о том, что у него большая голова, мальчик не раз слышал от взрослых, потому что когда Ромашов внимательно стал на него смотреть, он поднял пухлые ручки вверх, обнял ими голову и, раскачиваясь из стороны в сторону, сказал:
— Голова бо-осой, босой.
— Умный шибка, преседателем будет, — рассмеялся якут и ласково погладил мальчика по голове.
— Внук, наверное? — спросил Ромашов.
— Засем внук, — удивился якут, — сыниска мой. Иннокентий звать.
А Иннокентий, пописяв в речку, уже стоял над раскинувшим в стороны болотные сапоги спящим на спине Митей и смотрел на него с завороженным любопытством. Потом, не отрывая от него глаз, он осторожно обошел его вокруг, а, вернувшись к костру, заявил:
— Дядя бо-осой, босой.
— Босой — тайга худо. Нога ломать мозно, — подбрасывая сухих веток в костер, заметил якут и стал раскуривать похожую на кривой сучок трубку.
«А ведь и правда», — вспомнив, как Митя в маршрутах постоянно заплетался в валёжнике и сбивал в кровь ноги, подумал Ромашов. И ему стало казаться, что если бы у якута не были короткими ноги, а якутка была не низкорослой, то, наверное, они бы жили сейчас не в тайге, а в городе и, как многие городские якуты, были бы высокими и стройными; он бы одевался в туго обтянутую ремнём гимнастёрку и ходил с обязательным для городских якутов портфелем, она была бы в приталенном платье и в туфлях на высоком каблуке. Не вписывалась в возникшие у Ромашова представления о таёжных якутах большая голова Иннокентия. Казалось, в тайге такая голова ни к чему, потому что живут в ней не по большому уму и трезвому расчету, а по многовековому опыту и природной находчивости. «Наверное, и правда «преседателем» будет», — улыбнулся Ромашов.
Напившись чаю, якуты уплыли, а вскоре проснулся Митя. Ополоснув лицо в реке, он присел к костру и закурил. Потом, словно его кто-то толкнул в спину, быстро поднялся на ноги, вздёрнул бородку вверх и, приложив ладонь к надбровью, стал смотреть в убегающее за горизонт небо.
— Гроза будет, — неожиданно сказал он и рассмеялся, — вот тебе и вертолёт!
— Откуда ты взял? — не понял его Ромашов.
Ничего, что предвещало бы грозу, на небе не было. Оно было таким же чистым и, как стекло, прозрачным, а появившуюся на горизонте белую дымку Ромашов принял за снеговую шапку горного Верхоянья. Однако через полчаса по верхушкам тополей, стоящих у реки, вдруг пробежал ветер, тайга загудела, в ней что-то ухнуло, а на обратной стороне реки поднялся вихрь. Он сорвал с деревьев всё, что можно, поднял с прибрежного песка столб пыли и стремительно, прямо через реку, понесся на Ромашова с Митей. Обдав их брызгами воды, поднятыми с реки, он сорвал с рядом стоящего тополя стаю сидевших на нём ворон и разбросал их высоко в небо. Не в силах с ним справиться, вороны кувыркались в небе так, словно их били там палками. Когда вихрь и вороны скрылись за сопкой, недалеко громко застучал дятел. Он, видимо, был сильно напуган, но на дереве своём удержался, и теперь стучал по нему, как из станкового пулемета.
— О, стервец, что делает! — весело заметил Митя, а когда увидел, что на поляну к костру, видимо, тоже от испуга выскочил бурундук, он бросился его ловить.
Стихло всё так же внезапно, как и началось. Тополь, с которого вихрь сорвал ворон, успокоившись, гордо вскинул свою крону в небо, тайга, тяжело вздыхая, обрела свои прежние угрюмые очертания, но по уже появившейся из-за Верхоянья свинцовой туче, казалось, гроза не обойдет стороной и скоро ударит громом и молнией. И тут в небе появился вертолёт. Первым его увидел Митя. Сначала он казался медленно движущейся по небу точкой, потом стал похож на комара, а при заходе на посадку уже был похож на большую стрекозу.
Выскочившие из вертолёта пилоты бросились помогать Ромашову с Митей загружать его снаряжением. Когда всё уже было готово к отлёту, вдруг исчез Митя. Ромашов кинулся его искать, но он как в реке утонул. А ветер опять раскачивал кроны тайги, тревожно гудел и где-то ухал так, словно взламывал там что-то тяжелое и громоздкое.
— Митя-а! — кричал Ромашов, но голос его, подхваченный ветром, казалось, уносился не туда, где, как он предполагал, мог быть Митя. Появился Митя у вертолета внезапно и совсем с другой стороны. В руках у него была клетка, в которой сидел бурундук.
— Словил! — радостно сообщил он Ромашову.
— Митя, — чуть не заплакал Ромашов, — ну разве так можно?!
Оказывается, бурундука, выскочившего от испуга на поляну, тогда Митя не словил, а только загнал на дерево, а сейчас, когда всё уже было готово к отлету и каждая минута была дороже золота, он там его долавливал.
Когда вертолёт поднялся в небо, стало ясно: на базу партии в Кадыкчан ему уже не пробиться. Прямо по его курсу стояла черная туча, она раскалывалась оглушительным громом и похожими на ломаные стрелы молниями, вертолёт бросало как шлюпку в штормовом море, в лобовое стекло били крупные капли дождя. С трудом пробившись до Озёрок, вертолёт сел на прибрежную косу Худжаха и все, кто в нём был, бегом бросились в посёлок. Пока добежали до гостиницы, все вымокли до нитки, а Митин бурундук, свернувшийся в клетке мокрым комочком, кажется, уже и не дышал.
Гостиничный номер был просторным, как больничная палата, с высоким потолком и узкой, как пенал, дверью. Посреди его находился большой овальной формы стол на толстых фигурных ножках, у стен стояли разделённые тумбочками железные кровати, убранные солдатскими одеялами, а в углу, прямо у входа, громоздилась печь с большой плитой и медным чайником на ней. Пока растапливали печь и развешивали одежду для просушки, Митя сбегал в магазин за вином. От выпитого вина и горячего чая всем стало хорошо, как после бани, и уже никем не замечалось, что за окном всё ещё идёт дождь, а за уходящим за таёжные дали громом сверкают молнии. Пилоты стали весело обсуждать свой опасный полет у грозовой тучи, Митя, обогрев у печи бурундука, стал отпаивать его ещё и вином, а когда он пить отказывался, Митя смеялся и говорил: «Ничего, я тебя и не этому научу», и только Ромашов, со своим обиженным выражением лица и похожим на сосульку носом, сидел в углу, на краю своей кровати и ничего не делал. Когда закончился дождь, на крыльце гостиницы кто-то, громко топая, очистил от грязи обувь, а потом в номер вошёл уже немолодой мужчина с открытым и ясным, как после купания, лицом.
— А, татарин, у которого лошадь украли, — рассмеялся он, увидев Ромашова, — ну, здравствуй!
Это был ветеринар местного оленеводческого колхоза Пряхин Иван Ильич. Вынув из кармана плаща бутылку коньяка, он пригласил всех к столу. От него шёл приятный запах свежескошенной травы, и нетрудно было заметить, что он только что из тайги, соскучился по живому общению с людьми и ему хочется выговориться.
— Вот я и говорю, — улыбаясь, кивнул он в сторону всё еще возившегося с бурундуком Мити, — каждому своё: одному лыко драть, другому на дуде играть. Митя, — позвал он, — иди ко мне в пастухи.
— Чего я там не видел? — угрюмо ответил Митя.
— Да ведь не твоё это дело — золото искать, — рассмеялся Пряхин. — Ты рядом с ним год просидишь и, убей меня бог, не увидишь.
«А ведь Пряхин прав, — подумал Ромашов, — плохой из Мити геолог. Только и делает, что бурундуков ловит да жуков в бутылки сажает».
— Не-е, — продолжал Пряхин, у каждого своё призвание. Не найдешь его: пиши — хана! — и хлопнув себя по коленям, рассмеялся: — Племяш у меня! Ну, целая история с ним! — И, видимо, готовясь рассказать эту историю, Пряхин закурил тонкую сигаретку, глубоко затянулся дымом и продолжил: — Сеструха у меня в Орле живет. Заехал я это к ней в прошлом годе, а она: «Ваня, помоги! С Витькой неладно!» Это племяша моего Витькой звать. «Что такое?» — спрашиваю. «А не знаю, — отвечает, — уж и к докторам водила, а они: что они? Известно, не свой ребенок, он и есть не свой. Говорят: у него, мамаша, одно малокровие. Не-ет, думаю, какое уж тут малокровие. Не ест, не спит, всё в окна смотрит да думает. Ты уж, Ваня, — просит, — поговори с ним. Боюсь, не случилось бы с ним неладное». Ну что ж, думаю, поговорить, так поговорить. А оказалось, — рассмеялся Пряхин, — говорить-то пришлось не с ним, а с теми, кто его за фортепьяну, будь она неладная, засадил. «У меня, дядя Ваня, — жалуется Витька, — на его силы воли нет». Ах ты, едрить твою в корень, силы воли у него нет! Спрашиваю у сеструхи: «Дура, ты зачем Витьку за фортепьяну засадила?!» А она: «Ах, как ты не понимаешь! Современный человек да без музыкального образования — ну уж, извини!» Ладно, я в Витькину музыкалку. Так и так, спрашиваю: «Он что, способности имеет?» А мне: «Мы в основном по прилежанию». «Так по прилежанию, — говорю им, — и обезьяну выучить можно». «Мы обезьян, — обиделись на меня, — музыке не обучаем». Так и сказали: не обучаем! Ну что с них взять! Выходит, у детей они музыкальные способности не развивают, а только их музыке обучают. И что вы думаете? — продолжал Пряхин. — Забрал я Витьку сюда. А здесь его на тракториста выучили и, прямо скажу, в десятку попали. «Я, — говорит, — дядя Ваня, теперь без трактора, как без рук. Я его нутром чувствую». Поправился, стервец, и ест, и спит, и в окна уже не смотрит. Вот так-то, — закончил свой рассказ о Витьке Пряхин.
— Так-то оно так, — согласился с ним один из пилотов, — да вот как в эту десятку-то попасть? Не каждому это дано.
— А я и говорю! — подхватил его замечание Пряхин и опять весело хлопнув себя по коленям, заявил: — В школе не тому учат! Смотрите, что получается: арифметике-то учат, чтобы жить по расчету, грамматике, чтобы жить по правилам, а как найти своё место в жизни не по расчету и этим правилам, а по призванию — ни в зуб ногой! Вот и выходит: получил образование, а дальше ни бабе свечка, ни чёрту кочерга, или, как говорят, божиться божусь, да в попы не гожусь. И что делать? Понятно, одни сдуру вверх, в начальство лезут, как будто управлять людьми можно и без призвания, другие, потыкавшись не в те двери, ищут место, где трубы пониже и дым пожиже.
— Ну, Иван Ильич, это вы, извините, загнули! — не согласился пилот. — Чтобы узнать призвание каждого, тут на ученика и по учителю мало.
— Разве дело в арифметике?! — воскликнул Пряхин. — Дело в принципе! А там — и дальше! Вот ввели же в школьное образование природоведение. Хорошо! А может, надо ещё и человековедение? А?
Ромашов участия в разговоре не принимал. Выпив рюмку коньяку, он вернулся на свою кровать. В номере уже было тепло, потрескивало в печи, чайник, словно обидевшись на то, что за коньяком его забыли, пыхтел и позвякивал крышкой, дым от пряхинской сигареты плавал по номеру красивым облачком, а когда с очистившегося от туч неба в окно заглянуло вечернее солнце, стены номера окрасились в яркие, похожие на радугу цвета, а пряхинский дым, поднявшись к потолку, стал сиреневым. От всего этого на Ромашова повеяло чем-то далеким, словно вернулся он в один из солнечных дней своего детства, а слушая Пряхина, думал: «Ах, какой хороший человек! И как он правильно говорит!»
Рассказ Пряхина, похоже, заинтересовал и Митю. Он сидел за столом, подперев голову левой рукой, и хотя на лице его блуждало сонное выражение, было видно, что оно ещё выражает желание Пряхина слушать.
— А тебя, дурака, что заставило идти в геологию? — обращаясь уже к нему, спросил Пряхин.
— А я знаю? — сонно ответил Митя. — Пошёл да и пошёл.
— Во как! — всплеснул руками Пряхин. — Вы посмотрите на него: пошёл да и пошёл! А ты, дурья башка, хоть знаешь, что в геологии от тебя пользы, как от козла молока?
— Ну, и что? — не расстроился Метя.
— Нет, вы посмотрите на него ещё раз! — вскричал Пряхин. — Ему и это нипочём! Да не твоё место — геология. Пойми это! Вот ты с бурундуком возишься. Зачем? — успокоившись, спросил Пряхин.
— А интересно, — посветлел лицом Митя.
— Интересно? — переспросил Пряхин. — Тогда скажи мне, что ты про оленей знаешь?
Оказывается, про оленей Митя знал больше, чем о геологии. Он знал, что они плохо видят, но хорошо слышат, питаются ягелем, а так как ягель содержит антибиотики, они не склонны к заразным и простудным заболеваниям. Половой зрелости они достигают в полтора года, спариваются в конце лета, рожают самки весной, по одному — два детеныша, выкармливают их молоком до новой беременности.
— Едрить твою в корень! — вскричал Пряхин. — Да ты ж профессор в нашем деле! — И вдруг, словно рассердившись на Митю, строго спросил: — Откуда ты это узнал?
— А интересно, — улыбаясь, ответил Митя. — Читал о них, да и дружок у меня пастух. Он рассказывал.
И тут Пряхина словно выстрелили из-за стола. Он подскочил к Ромашову и выпалил:
— Бумагу и ручку!
Вернувшись с ними к столу, приказал Мите:
— Пиши заявление! Принимаю тебя пастухом, а дурака валять не будешь, и ветеринара из тебя сделаю.
Когда Митя написал заявление, Пряхин взял его в руки, свернул в четвертушку и, показывая её пилоту, принявшему участие в разговоре о трудном поиске призвания, сказал:
— Вот вам — и в десятку!
И, видимо, уже представив, как он Митю выучит на ветеринара и поставит на своё место, а сам уйдет на пенсию, он глубоко вздохнул и, словно на кого-то обидевшись, тихо произнес:
— А нам, старикам, и на покой пора.
И хотя Ромашов понимал, что это он так, не подумавши, ему его стало жалко, а пилот, рассмеявшись, заметил:
— Иван Ильич, да на вас по утрам ещё можно воду возить, а вечером кататься.
— Ой, не знаю! — снова вздохнул Пряхин, и лицо его обрело неподдельно грустное выражение.
II
Проснулся Ромашов рано, но солнце, словно омытое утренней росой, уже стояло в небе. В его ласковых лучах все вокруг играло ярким многоцветьем: на склоне окружающих посёлок сопок светло и радостно зеленели похожие на свадебных невест лиственницы, выше утопал в густой зелени стланик, а поросшие ягелем вершины сопок отражали солнце яркой позолотой. Худжах, убегая в верховье узкой лентой, на перекатах серебрился как чешуя только что пойманной рыбы, на плёсах утопал в отражениях голубого неба. На западе, куда вчера ушла гроза, у самого горизонта висело похожее на барашка белое облако, и трудно было понять: снеговая ли это шапка одного из отрогов Верхоянья или это и на самом деле облако, оставшееся от грозовой тучи. А небо над головой было таким чистым и глубоким, что казалось, за ним уже ничего нет, и другие, неземные галактики люди придумали от желания видеть больше, чем на самом деле видят. Когда Ромашов посмотрел в небо, ему показалось, что он уже не на земле, а в этом небе, у него закружилась голова, и стало казаться, что какая-то неведомая сила подхватила его под руки и, подняв на высоту птичьего полёта, понесла в сторону застрявшего на западе белого барашка. От ощущения, что и это бездонное небо, и омытое росой утреннее солнце, и терпко пропахшее хвоей лесное многоцветье, и убегающий в верховье голубой лентой Худжах, всё это неповторимо и не пройдёт и часа, как навсегда уйдёт в прошлое, Ромашову чуть не до слёз стало жаль, что он всю жизнь торопил время, с нетерпением подталкивал его и в предстоящее завтра, и в далёкое будущее, забывая, что человеческая память коротка, она скоро стирает в себе картины, когда-то тронувшие твоё сердце, и оставляет тебе только горькие воспоминания о крутых поворотах жизни.
На крыльцо вышли пилоты. «Красота-то какая!» — удивился один из них и пошёл к реке умываться. Там он разделся и с разбегу нырнул в воду. Вынырнув, он громко фыркнул, ударил ладонью по воде, а потом поплыл на другой берег. Зная, что вода в реке ледяная и купаться в ней — значит схватить простуду, Ромашов не понимал, зачем он это делает.
— А он у нас морж, — словно угадав его мысли, ответил второй пилот.
На крыльцо вышел и Митя. Увидев пилота в реке, он удивился:
— О, даёт!
И что-то хмыкнув под нос, тоже пошёл к реке. Там он разделся догола и стал похож на голого журавля. Подойдя к берегу, он осторожно, словно боялся, что в воде его укусят, окунул в неё сначала одну ногу, потом другую. На большее его не хватило, и он застыл на берегу, похожий уже не на голого журавля, а на высокий телеграфный столб. А с другого берега реки его звал пилот:
— Плыви сюда, дурень!
Митя долго молчал, а потом, показав ему фигу, ответил:
— Во тебе!
Вернулись Митя и пилот вместе и по пояс голыми. Пилот был красным, как рак, только что вынутый из кипятка, а Митя весь в мелких пупырышках.
— Вот мы и искупались! — смеялся пилот и хлопал Митю по голой спине.
От намерения забросить Ромашова с Митей на Кадыкчан пилоты отказались. Много горючего было израсходовано на посадку в Озёрках и оставшегося едва хватало на возвращение в Усть-Неру, где базировался их авиаотряд.
Оставив Митю с геологическим снаряжением в Озёрках, Ромашов на попутке выехал в Кадыкчан. Там он надеялся взять в партии машину и, вернувшись в Озёрки, забрать снаряжение. Провожая его. Метя спросил:
— Юрий Николаевич, а вы меня к Пряхину отпустите?
— Отпущу, Митя, — ответил Ромашов. — Пряхин хороший человек. С ним тебе лучше будет.
— Не знаю, — грустно ответил Митя и словно уже не Ромашову, а себе, добавил: — Хороших людей много, а толку-то!
«Ах, Митя, Митя, — уже в машине думал Ромашов, — не знаешь ты, что жизнь складывается не по правилам арифметики. В ней всё сложнее. Тон её, общую атмосферу задает не большинство хороших и порядочных людей, а люди грубые и самоуверенные, потому что они напористее и наглее. В жадности они первыми садятся за стол, в силе плюют на право, в честолюбии рвутся к власти, а если кому-то не повезло и он видит, что уже не подняться, зло думает: «Мне ничего не надо, лишь бы у других ничего не было». Приходит время, и они подводят общество к черте, за которой жизнь становится невыносимой. И тогда, поневоле, на смену им к власти приходят люди порядочные и совестливые. Жизнь обретает новые формы и новое содержание. Случается это раз в сто лет, и переход к новой жизни становится исторической вехой. Не зря говорят: жизнь делают люди, историю пишет время».
В раздумье Ромашов не заметил, как миновали Трубный, а когда вышли в широкую долину, по форме похожую на большую лопату, он вспомнил, что Худжах в переводе с якутского и есть лопата. «И в этом, — подумал он, — крылись особенности обустройства своей жизни таёжными якутами. Они и без топографических карт хорошо ориентировались на местности, потому что топонимика их была привязана не к самим себе, а к природе, к её географическим особенностям. Это нынче, не успеют возвести посёлок, построить прииск, а название, в котором славится человек или его дело, уже готово».
Приближался полдень, и солнце, застрявшее слева, в боковом стекле машины, было похоже на горячий блин, смазанный топлёным маслом. Оно бежало за машиной, а когда дорога сворачивала в сторону, оно, опережая машину, казалось, весело над ней смеялось, а при повороте дороги в другую сторону отставало и становилось грустным. Дорога шла в сторону застрявшего на небе белого барашка, на ухабах в лобовом стекле машины барашек прыгал, а при подъезде к Худжахскому мосту вырос в белое, похожее на снежный ком облако.
У моста на дороге скопилось много машин. Оказывается, в грозу паводок подмыл одну из его опор, и переезд через него был опасен. Все ждали спада воды, когда можно будет переехать реку на ближайшем перекате. Шофера, убивая время, занимались, кто чем может: одни копались в своих моторах, другие слонялись от машины к машине, трое ловили в реке рыбу, а двое, один из которых, сидевший на корточках, был похож на утёнка, а другой, наоборот, широкоплечий и кряжистый, кипятили на костре чай. Ромашов подошел к ним. У похожего на утёнка лицо было круглым, как подсолнух, и всё в веснушках. И это похожее на подсолнух лицо, и вздернутый по-мордовски нос, и голубые с ласковым прищуром глаза говорили о том, что он человек добрый и всё ему в этой жизни по душе, а когда он посмотрел на подошедшего к костру Ромашова и ласково ему улыбнулся, Ромашову показалось, что он сейчас ещё и скажет: «А Вы мне очень нравитесь». Звали его Сёма, на вид, казалось, ему не больше двадцати. Широкоплечий и кряжистый был лысым, с носом, похожим на картошку, большая прямоугольной формы голова держалась на короткой шее. По возрасту он был старше, и Сёма называл его дядей Пашей.
— Чайку хотите? — пригласил Сёма Ромашова к костру.
Ромашов сел пить чай, а дядя Паша продолжил ранее начатый разговор.
— Ну, значит, еду я это еду, и что ты думаешь? Останавливает. Ну, я ничего: садись. А вижу, что-то не то: глаза ножичками, и всё зыркает — то на меня, то на дорогу. Ага… зыркает, значит… Ну я, не будь дураком, спрашиваю: «Куда едем?» А он: «В Степкино». «Эва, — думаю, — да Степкино-то совсем в другой стороне!» И за ключ! Он у меня сбоку лежал. Да где там! Наган на меня наставил, большой такой, зараза, и — руки вверх! А как «руки вверх», я же за баранкой? Ну, ладно. Едем. Ага… едем… У моста: «Сворачивай, — говорит, — влево». И наганом — в висок. Вижу: хана пришла! Под мостом он меня и кончит. «Эх, — думаю, — пропадать, так пропадать! И р-раз! На тормоза! Он башкой в стекло, а я хоп — и за наган! Скрутил, как курёнка. В милицию потом сдал, а мне оттуда благодарность. Говорят, как сбежал с лагеря, много невинных душ загубил.
Слушая его, Сёма улыбался, и по его лицу трудно было понять: верит ли он дяде Паше или нет.
— А вот ещё случай, — продолжал дядя Паша. — Еду я это на Долгий. Опять останавливают. Уже двое. Ага… двое… Ну, я ничего: садитесь. И опять вижу, что-то не то: у одного глаза — что твое шило, другой за пазухой что-то прячет. Да, за пазухой… Ну, я опять, не будь дураком, спрашиваю: «Далеко едем?» А не тут-то было! Молчат, как в рот воды набрали. А как к мосту, достают кинжалы… Длинные, зараза. Ну, думаю, пропадать, так пропадать, и опять — на тормоза! Справился, хоть и двое. Тоже много невинных душ загубили.
— Ой, дядя Паша, врёшь ты, наверное! — рассмеялся Сёма.
— Я вру?! — искренне удивился дядя Паша. — Я вру?! Ну, уж если я вру, то кто ж тогда и не врёт, — и подбросив сухих веток в костер, налил себе чаю.
Сидеть просто так и ничего не делать, Сёма, видимо, не мог. Прихватив рюкзак, он ушёл в лес.
Похоже, за то, что Сёма не поверил в его рассказы про большие наганы и длинные кинжалы, дядя Паша на него обиделся. С расстроенным видом он сидел у костра, швыркал похожим на картошку носом, а потом, не вытерпев, буркнул:
— Поезди с моё, а потом и говори!
А с реки неслись весёлые голоса рыбаков.
— Степка-а! — звонко кричал кто-то. — Иди, я нали-има словил!
Худой, в одних трусах и с большим ведром Степка бежал за налимом. Боясь сбить ноги о камни, он часто останавливался, потом делал длинные прыжки, а когда они не удавались, чтобы не упасть, балансировал руками, как канатоходец. Третий рыбак в болотниках стоял на перекате по колена в воде и пытался поймать хариуса на мушку. Убедившись, что хариус на мушку в такую воду не идет, он бросил удочку на берег и крикнул:
— Степка, неси бредень!
Степка бежал за бреднем и снова был похож на балансирующего канатоходца. Вдвоем они стали заводить бредень, а когда его вытащили, в нём оказался сиг.
— А мы си-ига словили! — кричал уже Степка первому рыбаку и бежал к нему за ведром.
Вернувшись с реки к костру, рыбаки стали готовить уху. Вымокшего больше всех Степку трясло, по-обезьяньи сморщенное лицо было серым, и хотя он не отходил от костра, согреться никак не мог.
— Дядь Паш, — стал просить он, — налей, а!
Оказалось, что дядя Паша, Сёма и эти рыбаки шли одной колонной, и дядя Паша, видимо, у них был за старшего.
— Только под уху, — отрезал дядя Паша, но когда Степка попросил ещё раз, он, буркнув: «На вас, алкоголиков, не напасёшься», — пошёл к машине за водкой.
И тут появился Сёма.
— Ребята, — сообщил он, — а я могилку нашел. Ей-богу!
Все пошли за ним. Поднявшись на сопку через лиственничный редкостой, вышли на каменистое плато с тремя гранитными останцами. У одного из них, похожего на каменное изваяние старого монаха, стоял высокий крест из лиственницы. От времени он почернел и потрескался, и поэтому блестящая на солнце бронзовая пластина, казалось, прикреплена к нему недавно. Красивым каллиграфическим почерком на ней было выгравировано:
«Аксёнов Петр Николаевич
Беликова Анна Ивановна
Вечный покой праху убиенных».
Вечером у костра говорили о могиле. Как всегда, когда речь идет о покойниках, говорили тихо, не перебивая друг друга.
— Слышал я, как будто бы он был капитаном из охров, а она зэчкой, политической, — говорил рыбак в болотниках. — И вышло так, — закурив, продолжал он, — что капитан этот в неё влюбился. А в зоне, понятно, какая любовь? Вот они и решили убежать вместе. Убежали, значит, и сюда, на эту сопку. Ну, понятно, всех охров на ноги и на поиски. На второй день здесь их и накрыли. Капитан долго отстреливался, а когда её убили, застрелился. И ещё, — бросив папироску в костёр, продолжил он, — говорят, выдал их место какой-то якут. Он, значит, вышел из тайги на них, — оленей, что ли, своих искал, не знаю, — а они, нет чтобы его убить и следы в воду, видно, пожалели.
Потрескивал костёр, кругом было тихо, а когда в окутанном уже сумерками лесу послышались чьи-то вздохи, показалось, что там кто-то ходит. После рассказа все молчали, а Сема с грустным выражением лица пристально смотрел в костёр и о чём-то думал.
Молчание нарушил дядя Паша.
— А я слышал по-другому, — ни к кому не обращаясь, сказал он. — Вроде бы они были не из зоны, а ехали на прииск с большими деньгами. Она — кассир, а он — охранник. Ну, едут они, значит, едут, он за рулём, а она рядом, со своей сумкой. Ага… с сумкой… И вдруг вот они — беглые! На дороге, значит. «Куда вам?» «А недалеко», — отвечают. Доехали до моста — выходи! Скрутили их и на сопку. Ее сначала снасильничали, а потом обоих, говорят, ножичками и зарезали.
Снова воцарилось молчание, и снова показалось, что в лесу кто-то ходит и тяжело вздыхает.
— А не выпить ли нам за упокой их души? — вдруг предложил Степка и вопросительно уставился на дядю Пашу.
Дядя Паша что-то недовольно буркнул, но, видимо, полагая, что отказать выпить за упокой души неудобно, пошел к машине за второй бутылкой. Когда выпили, обстановка разрядилась, только один Сёма всё смотрел в костёр и в разговоре участия не принимал. Видимо, история, связанная с найденной им могилой так его тронула, что ему было не до водки и не до разговоров.
— А я так думаю, — сказал уже успевший повеселеть Степка. — Человек умирает так, как живет. Твоей, дядя Паша, истории с ножичками я не верю, а вот что они погибли, можно сказать, геройски из-за своей любви — это правда. Вот им и по жизни и по смерти — и память. Вон какой крест-то, чуть не с самый камень, и латунка новая, всё как надо. Бабка мне рассказывала, — вдруг рассмеялся он. — Не знаю уж, правда это или нет. Сосед, говорит, был у неё, скряга — свет таких не видел. На сундуке с деньгами сидит, а рубашка — хоть рыбу лови, вся в дырах. И никому не верил, считал, что все ему хотят только зла. Думая, что и по смерти ему хорошего ничего не пожелают, когда умирал, говорят, велел на памятнике своем написать: «Вечный покой праху моему». Может, и неправда это, — закончил Степка, — кто знает.
Когда шофера ушли спать, Ромашов ещё долго сидел у костра. Мысли, навеянные могилой и рассказами шоферов, не выходили из головы. Теперь ему уже казалось, что истории людей складываются не из одних вех, знаменующих переход к новому качеству жизни. Это только внешнее проявление истории, и выражается оно в больших потрясениях, в войнах и революциях, а внутренние её слагаемые идут к нам из поколения в поколение от первобытного предка, впервые осознавшего себя человеком. И Аксёнов, и Беликова не выпали из истории, потому что своей любовью и смертью они оставили людям частичку своей души, которая через такие вот рассказы, как сегодня, будет передаваться и в новые поколения, формируя их духовную жизнь и нравственность. А Пряхин! Разве не оставил он и Мите, и племяннику память о добром и умном участии в их жизни. Такие люди, как они, если и выпадают из истории, то только под пером придворных или броских на сногсшибательные полотна историков, потому что эти люди не у власти, никого не давят силой и не лезут первыми за стол. Настоящая же история свидетельствует о том, что духовные и нравственные слагаемые её идут от таких людей, как Аксёнов, Беликова и Пряхин, и те исторические перевороты, что знаменуют переход к новому качеству жизни, возможны лишь, когда к этому созрели эти её слагаемые. Если этого не произошло, социальные потрясения выльются в нищету и голод, а в войнах и революциях прольется невинная кровь.
В Кадыкчан Ромашов добрался на второй день. Машину за снаряжением в Озёрки выделили, но отправили с ней не его, а завхоза. Предстояла долгая камералка, которую он никогда не любил. Снова он будет сидеть за обшарпанным столом, перебирать скучные бумаги, говорить то, о чём не раз говорилось, думать не о том, что трогает, а пережевывать свои мысли и тупеть от их серого однообразия. Но он знал, что светлый кусочек жизни, оставленный им при возвращении с поля, надолго останется в его памяти.
Прохиндей
— Саша, ты меня обожаешь? — спрашивает она.
— Об-божаю, — отвечает пьяный Саша, — но п-при одном условии…
— При каком? — надувает она губы.
Саша долго думает, потом поднимает вверх указательный палец и отвечает:
— Не п-претендуй!
— Но ты же обещал, — чуть не плачет она.
— Об-бещал, но не женюсь, — говорит Саша и, выпив водки, закусывает.
Она — это Верочка из промтоваров. У неё круглое, как блюдечко, лицо, пухлые губы и вздернутый вверх носик. Ей уже двадцать два, пора замуж, а женихов в посёлке нет. Кроме Саши, у неё Володя, но с ним неинтересно, потому что в нём нет того, что есть в Саше.
Саша — местный прохиндей. Хило сложенный, он похож на лысого кролика, которому обрезали уши. Любит напустить на себя туману, для чего говорит намеками или не договаривает. Когда в гостях его спрашивают, чего он хочет — чаю или кофе, он отвечает: «Допустим, чаю», — а если предлагают водки, он говорит: «Однако». За что его любят девки, понять трудно. Всем он обещает жениться, но ни на одной не женится.
Сейчас Саша у Верочки в гостях, но ведет себя так, словно не она, а он тут хозяин.
— Не кури! И без тебя душно! — сердится он, развалясь в кресле.
А Верочка не только курит, но и кусает губы. Ей обидно, что Саша не обращает на неё никакого внимания. Она знает: сейчас он в кресле вздремнёт, а потом уйдёт. И верно: вздремнув, Саша бодро вскакивает, — он словно и не пил, — идет на кухню, выпивает водки и говорит:
— Верунь, а мне пора.
Верочка становится у него на дороге:
— Куда?!
— Дела, дела, — отвечает Саша и уходит.
После Верочки Саша вдет к Леночке.
— Приветик! — бросает он ей с порога и, сбросив на ходу пальто, идет к ней в комнату и целует в щёчку.
Леночка — это не Верочка из промтоваров. Она правильного сложения, работает в Доме культуры и у неё на всё свои взгляды.
— А у нас новая постановка, — сообщает она Саше.
— Однако, — отвечает ей Саша и уже на кухне заглядывает в холодильник.
— А у меня сегодня коньяка нет. Будешь пить водку? — спрашивает Леночка.
— Допустим, — отвечает Саша.
Леночка собирает на стол и, вместе с этим, не забывает свою постановку:
— Знаешь, я решила изменить трактовку главной героини, а Яков Иваныч ни в какую. Ах, так! И прямо: или моя трактовка или без меня!
Зная, что после такого рода вступления Леночка переходит к главному: когда он на ней женится, Саша делает вид, что ему интересно её слушать. «Ишь ты!» — сердится он на несговорчивого Якова Иваныча.
Наконец, стол собран, они садятся и выпивают. Закусив, Леночка говорит:
— Саша, ты негодяй, но от меня не отвертишься.
— Удивляешь, — отвечает Саша и выпивает вторую рюмку.
— Когда в ЗАГС? — спрашивает Леночка.
— Паспорт потерял, — врёт Саша.
— Ты мне это уже говорил, — не очень сердится Леночка.
— Ленусь, знаешь что, — вскакивает из-за стола Саша, — ЗАГС — это старомодно. Давай повенчаемся в церкви.
— Здрас-сьте! А где церковь? — зло смеется Леночка.
— Построят, — отвечает Саша и наливает себе водки.
Леночка поднимается из-за стола и хочет крикнуть: «Ах, построят! А ну, иди отсюда!» — но не делает этого, потому что в посёлке нет женихов, а Яков Иваныч — еврей, и жену свою поэтому не бросит.
У Наденьки Сашу встречает её шестилетний Бориска.
— Ты когда на маме женишься? — строго спрашивает он.
— А где она? — заглядывает Саша на кухню.
— Мама сказала: если придет этот прохиндей, гони его в шею, — не отвечает на вопрос Саши Бориска.
В дверях появляется Наденька. У нее по-верочкиному круглое лицо, но нос, как будто его специально выращивали, большой и, как печеное яблоко, с малиновым отливом.
— Не запылился? — спрашивает она Сашу.
— Отнюдь, — отвечает он.
Наденька работает в продтоварах. В руках у неё большая сумка, в ней ветчина, яблоки и шампанское с водкой.
— Годится, — замечает Саша и помогает Наденьке всё выложить на стол.
За столом Наденька говорит ему:
— А я на тебя в суд подаю.
— Интересно, — улыбается Саша.
— У меня твоя расписка, в которой ты обещал на мне жениться, — продолжает Наденька.
— Я?! — удивляется Саша. — Писал расписку?!
— Да, писал, — говорит Наденька и показывает ему расписку.
Саша долго думает, даже зачем-то смотрит в потолок, и заявляет:
— Пьяный был.
— Хуже для тебя. В суде это — отягчающее вину обстоятельство, — пугает его Наденька.
Разговор поддерживает Бориска.
— А тебя в тюрьму посадят, — говорит он Саше.
— Не твоё дело, — отмахивается от него Саша и строго замечает Наденьке: — Мамаша, неправильно сына воспитываете.
И Наденька прогнала бы Сашу, да кому она нужна со своим Бориской.
Пришло время, и Саша нарвался на скандальные неприятности. Уже у Лидочки его встретил отец.
— Ты к Лидке? — строго спросил он.
— А она дома? — заглянул через его плечо Саша.
— Проходи, — не ответил отец Лидочки и повел Сашу на кухню.
У отца, как у боксера, была толстая шея и похожие на кувалды руки.
— Садись, — пригласил он Сашу за стол, — выпьем.
— Та-ак! — протянул он, выпив. — Значит, обещаешь, а не женишься. Хар-рашо! Разберемся!
— Да я ж это так… можно сказать, спьяну, — заюлил Саша.
— Хар-рашо! — повторил отец Лидочки и крикнул в спальню: — Лидка, выходи!
Из спальни вышла похожая на непроспавшуюся кошку Лидочка.
— Ну, чего тебе? — капризно надув губы, спросила она.
— Собирайся в ЗАГС! — приказал отец.
— Вот еще, придумал! — фыркнула Лидочка.
Видя такой оборот дела, Саша поднялся из-за стола и засобирался домой.
— А это видел? — подставил ему под нос кулак отец Лидочки.
Саша вернулся за стол, а Лидочка пошла в спальню переодеваться в подвенечное платье.
— И я с вами, — заявил отец и пошел переодеваться в выходной костюм.
Пока он копался в своем костюме, Саша успел юркнуть к Лидочке и сообщить ей о том, что у Верочки от него скоро будет ребёночек, и если она выйдет за него замуж, то им придется восемнадцать лет платить большие алименты.
— Я?! За этого негодяя?! — выскочила из спальни Лидочка. — Ни за что!
— Ребёночек?! — зарычал наполовину переодетый отец Лидочки. — А это видел? — и снова приставил к носу Саши кулак. А Лидочке объяснил: — Дура, кто ж это на детей от незарегистрированного брака алименты платит!
По дороге в ЗАГС Саша сбежал.
А женился Саша на замухрышке Тосе. Чем она его взяла — кто знает? Узнав это, Верочка поплакала, Леночка назло ему отбила еврея Якова Иваныча у жены, Наденька в порыве гнева порвала расписку, в которой Саша обещал на ней жениться, а отец Лидочки сказал:
— Я этого прохиндея всё равно убью!
Мишкин брат
Фамилия его, как и у Мишки, была Потанин, оба они происходили из древнего казачьего рода, осевшего в Якутии ещё с Михаила Стадухина. И если Мишку все звали Мишкой, то брата его не иначе, как только по фамилии, Потанин. Дело в том, что от своего казачьего рода достались ему в наследство широкая натура и независимый характер. Называть его поэтому Алёшей, как он проходил по метрикам, ни у кого не поворачивался язык. Да и по внешнему виду он никак не походил на Алёшу. Могучее сложение, большой лоб, низкие, как у быка, надбровья и широко расставленные глаза не вязались с этим по-интеллигентному мягким именем, а по-топорному скроенный нос придавал ему вид человека самоуверенного и грубого.
Помню, прошлым летом я, Мишка и этот Потанин сидели на берегу реки и ждали с другого берега лодку. Зная местные порядки, мы не надеялись на скорую переправу и, от нечего делать, слонялись по круто сбегавшему к реке галечному откосу и не знали, куда спрятаться от безделья. Противоположный берег с высохшей на солнце жёлтой глиной и убегающим вдаль болотистым редколесьем наводил уныние, ленивая река с мутной, как в луже, водой, кроме тоски, ничего не вызывала, а каркающие над головой вороны раздражали. Видимо, в якутском посёлке, что стоял за нами, на помойках они уже всё выбрали и теперь надеялись поживиться объедками, которые, как они хорошо знали, всегда оставляли им люди, когда переправлялись на другой берег. Не ошиблись они и с нами.
— Студент, — скомандовал Потанин, — делай костёр, а я за водкой.
Студентом он называл Мишку за то, что считал его хлюпиком и ни к чему не приспособленным в жизни. Мне казалось, что это не так. За Мишкиным мягким характером я видел по-человечески большую порядочность, а за неброскостью его слов — стремление уйти от скороспелых суждений о людях. Да и внешне он ничем не был похож на Потанина. У него было открытое лицо, по-детски доверчивый взгляд, а когда он улыбался, казалось, это он не просто улыбается, а ещё и дарит тебе свою улыбку.
— Ну, нар-род! — выругался Потанин, вернувшись из посёлка.
— Какой народ? — не понял я.
— А такой! — зло ответил Потанин и нервно, словно сомневаясь: уж не оставил ли он водку в посёлке, стал искать её в рюкзаке.
— Чего раскипятился-то? — не понял его и Мишка.
— А ты помолчи! — прикрикнул он на него и, достав бутылку водки, снял с неё пробку зубами.
Уже выпив, он всё ещё не мог успокоиться.
— Ведь им, чувырлам косоглазым, что ни дай, всё не то, — сердито продолжал он. — Дом — вот он, рядом. Русский дурак тебе поставил. Сиди в нём и пей свой вонючий чай. А он: скус не тот! Ах, ты, харя! Скус ему не тот!
— Да кто харя-то? — уже рассмеялся Мишка.
— А ты помолчи! — снова прикрикнул на него Потанин.
Я давно заметил: когда Потанин не в духе, он Мишке всегда затыкает рот.
— Да что случилось?! — рассердился и я.
— Ха! — зло рассмеялся в ответ Потанин. — Случилось! Чаю ему, видите ли, с костра надо! Спрашиваю: «Харя, почему не дома чай кипятишь?» А он: «Скус не тот!» Да тебя, чувырла, для скуса-то сначала отмыть надо! — и, кажется, немного успокоившись, сделал вывод: — Не-е, тунгусы — они и есть тунгусы.
— Каждому своё, — заметил я.
— Ну, не скажи! — снова вздёрнулся Потанин. — Со своим-то они давно бы хвост откинули. Только на нас и держатся.
Мишка этого не вытерпел.
— Любая нация, — твердо заявил он — имеет право на собственное существование.
— Нация — да, а тунгусы — нет! — обрезал Потанин, снизойдя, наконец, и до ответа Мишке.
И тут мы увидели, как к костру со связкой вяленого хариуса, шаркая стоптанными торбасами, подходит старый и, похоже, уже до костей высохший якут. Глаза у него слезились, а рука, в которой он держал связку с хариусом, тряслась.
— Вот он, твой народ! — расхохотался Потанин.
Подойдя к нам, якут несмело, словно боялся, что его прогонят, предложил;
— Рыбка хос? Кусай.
— Водки, что ли, захотел? — грубо перебил его Потанин.
— Зачем водыка? Водыка не нада, — ответил якут.
— Ну, так и вали отсюда! — послал его Потанин.
Услышав это, Мишка взорвался.
— Не смей так! — крикнул он.
Похоже, от обиды за якута он готов был Потанина ударить.
Обиделся на Потанина и якут.
— Зачем обижай? Обижай не нада, — сказал он.
И, оставив хариуса, побрел обратно в посёлок.
— Получил?! — уколол Потанина довольный Мишка. — Харя-то не он, а ты.
— А это мы, студент, посмотрим! — расхохотался Потанин и крикнул якуту: — Эй ты, иди сюда!
К сожалению Мишки и моему тоже, якут вернулся. Когда он пил, у него тряслись не только руки, но и голова.
— Якута молодец! — кричал Потанин и хлопал его по спине.
— О-о, водыка скусна! — заискивающе хихикая, отвечал ему якут.
Когда мы садились в лодку, якут уже не стоял на ногах. Он сидел на земле и, пьяно мотая головой, что-то бормотал под нос. Вокруг него, в оставшихся от нас объедках, копошились жирные вороны.
— Зачем старика поил?! — возмущался сидящий на корме другой, уже молодой якут. — Ваша дурак, что ли? — И зло сплевывал в воду.
Когда за переправу мы предложили ему деньги, он сплюнул, как и раньше, зло, но уже в лодку, где мы только что сидели, и сказал:
— Дурак бесплатно вожу!
— Вот тебе и харя! — смеялся Мишка, а Потанин, уже заметно пьяный, не сдавался.
— Ну, это мы еще посмотрим! — говорил он.
Вместе вот с такой дурью, у Потанина было и другое, на первый взгляд, прямо противоположное. Пришло ему как-то в голову приручить к своему двору всех бродячих в посёлке собак. Дело хорошее: кому не понравится, что этой вечно голодной и злой своре, рыскающей по улицам и помойкам, кто-то устроит свой приют. Ведь что только ни делали с этой четвероногой тварью, и всё бесполезно. Нанимали Ваську одноглазого на их отстрел. Получалось у него неплохо: с одним глазом, когда брал эту тварь на мушку, второй закрывать было не надо. Но и с ним вышла осечка: после отстрела двух-трех собак, другие, разобравшись, в чём дело, убегали в лес. Одичав, они становились ещё злее, и родители уже боялись выпускать детей за посёлок. Решили устроить им отлов. Приехали из района два пьяных мужика с веревочной сетью и длинными баграми. И из этого ничего не получилось. Гоняясь с матом за собаками, они сами путались в сети, а когда одну из них поймали, она подняла такой вой, что вслед за ней завыло всё собачье поголовье, в том числе и на цепях, одомашненное. Понятно, в защиту их поднялась общественность: одни — потому что облавы на собак с баграми и сетью травмируют детей, другие пошли дальше, стали доказывать, что бродячие собаки — наши санитары, без них мы бы давно задохнулись в смраде разлагающихся на помойках отходов. Мужиков из посёлка погнали, и дело на этом стало. И тут вдруг Потанин! Да ради бога, давай, Потанин, бери это дело в свои руки, наводи порядок! Что толкало Потанина на это дело, понять было трудно. Вероятно, все люди делятся на две категории. Одни уже со школьной парты знают, что им надо. Географию они учат, чтобы не заблудиться, арифметику, чтобы не ошибиться, а русский, чтобы не наговорить лишнего. О таких говорят; жизнь прожил, что за партой просидел. Другие — уже в первом классе ловят за окном ворон, дальше — по настроению, а потому — через пень-колоду, а в жизни как получится. И если из первых вырастают чиновники, бюрократы и академики, то из вторых, кто не угодил в тюрьму, либо бездельники, либо те, кто не знает, зачем лезет в гору и летит в небо, что ищет в тайге и тундре, чего ему надо, например, в ледяной Антарктиде или в безмолвной Арктике. Правда, выходят из них и учёные, но никогда — академики, потому что такие учёные, как правило, с раскаленным генератором идей в голове, из которых если что-то и тянет на открытие, то признаётся только после того, как учёные эти умирают. Потанин был из второй категории, и мне казалось, что и его предки шли в Сибирь не за соболями и мамонтовой костью, не за сытой жизнью и мирным покоем, а за тем неизвестным, по которому у всех, кто не знает, что делает, горит душа и чешутся руки. Так как Потанину дальше на восток идти было некуда, там лежала американская Аляска, а душа, как и у предков, у него горела и руки чесались, он, видимо, и взялся за этих собак. И это у него получилось. Ведь собаки знают, чего от них хотят люди, а перед теми, кто им хочет добра, они готовы разбиться в лепешку. Когда Потанина убили, на могиле его, особенно в осеннюю непогоду, так выли собаки, что всем становилось жутко. Правда, говорили, что это не собаки воют, а ветер в пустой бочке, которую поселковые сорванцы ради забавы затащили на кладбище.
А затеянное Потаниным собачье дело в посёлке тогда всех устраивало. Не тряслись за детей мамаши, не бегали с ними в амбулаторию за прививками от бешенства, никто не кусал уже и пьяных мужиков, правда, с помоек несло больше, но что поделаешь: и в полезном, какое бы оно ни было, всегда есть капля вредного. Довольные Потаниным, все закрывали глаза на его браконьерство, которым он занимался, чтобы прокормить собак. Прирученные им собаки во двор пускали не всех. Пускали дурачка Кузю, собиравшего в посёлке милостыню, чтобы прокормить себя и свою больную мать, пускали они и сторожа Ефима, который по своей глупой простоте своего добра не нажил, а за чужое готов был всадить любому в заднее место ружейной дроби, не трогали они и проститутку Тоню, о которой хоть и говорили, что она подстилка, но на самом деле отдавалась она мужикам не из похоти, а из жалости к ним. А вот снабженцу Ерохину, отгрохавшему кирпичный дом на одной зарплате, они порвали брюки и покусали ноги.
— Не воруй! — смеялся вслед ему Потанин.
Поселковой голове, обещавшему народу золотые горы и манну небесную, они откусили палец.
— Не обманывай! — смеялся и над ним Потанин.
А главное, они не терпели любителей выпить за чужой счет.
— К Потанину без бутылки не ходи! — смеялся он, когда эти любители убегали от него покусанными.
Конечно, в истории с собаками нельзя было не отдать должного и жене Потанина, Федосее. Какая это баба потерпит на своём дворе свору собак, а Федосея терпела, потому что у неё было доброе сердце и мягкая, как воск, душа. «Они же несчастные», — говорила она, и глаза её, большие и круглые, казалось, наполнялись слезами. Своего Потанина она называла ласково Потаня, хотя он её, как впрочем, и всех баб в посёлке, звал Фенькой. Рода она была кержацкого, а потому, как считал Потанин, глупого и никому не нужного. Однако это не мешало ему ставить её выше всех баб в поселке.
— Моя Фенька глупой породы, — говорил он соседке, — но тебе до неё, как до Киева.
Похожая на худую сороку, соседка обиженно дергалась:
— До какого Киева? До украинского, что ли?
— Дура! — смеялся Потанин. — По-твоему, Киев в Туркестане?
Соседка обижалась и, когда уходила, клевала Федосею:
— Подумаешь, цаца!
А Федосея Потанина и любила, и считала, что умнее его в посёлке никого нет. Ведь вот и собаки: не кто-то другой решил их приручить, а он, её Потанин. Чтобы подчеркнуть это, она при всякой встрече со знакомыми говорила:
— А мой-то Потанин опять собаку привёл.
Знакомые, не подавая вида, что над ней посмеиваются, говорили:
— Господи, да с таким-то мужиком чего не жить. Живи — не хочу!
Федосея этому радовалась, как ребёнок, а обиженная Потаниным соседка злилась. По натуре она, наверное, баба была неплохая, но, кто этим не страдает, держалась о себе высокого мнения. Свой острый нос она совала во все поселковые дела, по любому вопросу имела своё мнение, в общем, считала себя далеко не дурой. Да и из семьи она была немецкой. Отца ее звали Францем, правда, чёрт его дернул назвать её по-русски, Авдотьей. Поэтому, когда спрашивали её имя, она говорила:
— Ой, да зовите меня просто Францевной.
Вот эта-то Францевна и решила отомстить Потанину за его Киев. Недолго думая, она разнесла по посёлку, что Потанин ходит к чужой бабе. Она сама видела, как он ночью перелазил к ней через ограду. Кто поверил в это, кто нет, но никому не пришло в голову, что такого медведя, как Потанин, ни одна ограда не выдержит, да и зачем ему это делать, когда любая баба сама откроет ему калитку. Конечно, скоро слухи о коварном Потанине дошли до Федосей, и она от расстройства слегла в больницу. Для Францевны это не прошло даром. Одинокий и расстроенный Потанин дня через три после этого пригласил к себе сторожа Ефима. Когда они выпили, он сказал ему:
— Иди, скажи этой стерве: Потанин умер.
— Как умер? — не понял Ефим.
— Скажи, от кровоизлияния, — пояснил ему Потанин.
До Ефима, хоть он и был сильно пьян, дошло — что от него надо.
Францевна, когда он заявился к ней, сидела за столом и пила кофе из любимой чашечки.
— Потанин помер, — брякнул он ей с порога, а присев на табуретку, что стояла рядом, схватился за голову и сделал вид, что плачет. — Ведь вот, живой был, — стонал он, — а раз — и помер!
Францевна выронила из рук любимую чашечку, и от неё остались на полу одни осколки.
— Не может быть! — вскричала она и тоже схватилась за голову.
Держалась она за неё недолго. Вскочив на ноги, она воздела руки к потолку и застонала:
— Не-ет, Потанин не мог умереть!
Ефим решил, что она ему не верит.
— Да постыдилась бы, Францевна! Кровоизлияние у него.
Отыграв свою роль, Францевна бросилась в дом Потаниных, а Потанин, закрыв глаза, уже лежал вверх лицом на кровати.
— Ой, бедная Федосеюшка! Да за что же ей это?! — увидев его, взвыла Францевна по-новому.
Выла она не очень долго, а когда перестала выть, Потанин открыл глаза и сказал:
— Здорово, стерва!
Францевна, не ойкнув, как была, так и упала в обморок. В этот же день Федосею выписали из больницы, а на её кровать положили Францевну.
А погиб Потанин по-глупому. Шли они с Мишкой по улице. Как всегда, по солнечным дням, с рисовкой напоказ, разгуливали по ней голоногие пигалицы, старухи, кучкуясь у подъездов, ругали нынешние порядки, звонкоголосая детвора шныряла под ногами, и ничто, казалось, не предвещало беды. У магазина они встретили дурачка Кузю. Был он в грязном халате и в стоптанных, не по размеру, ботинках. Застывшая на лице мягкая улыбка и голубые с белыми ресницами глаза придавали ему вид подростка, а сбитая в грязную мочалку бородка — вид неопрятного старца.
— А у меня сегодня день рождения, — радостно сообщал он всем, кто проходил мимо.
Его поздравляли, подавали, кто что может, а потом всякий раз спрашивали:
— И сколько же тебе, Кузя, исполнилось?
Кузя морщил лоб, усиленно думал над ответом, а потом, безнадёжно махнув рукой, отвечал:
— Ой, что-то я забыл у мамки спросить!
Все над этим весело смеялись.
Сейчас перед ним торчали два подпитых придурка: один длинноволосый, с фингалом под глазом, другой с дебильным выражением лица и недопитой бутылкой водки. Они разыгрывали Кузю.
— А ну, Кузя, и сколько же я проживу? — спрашивал длинноволосый.
Кузя, отыгравший эту игру сто раз, поднимался на цыпочки, задирал вверх голову и выкрикивал:
— Ку-ку!
— Не-е, мало, — смеялся длинноволосый, и Кузя куковал сколько ему надо.
После этого придурок с дебильным выражением лица наливал ему водки.
— А ну, кыш! — погнал их Потанин.
— А ты не очень! — погрозили ему придурки и отошли в сторону.
При входе в магазин Мишка с Потаниным столкнулись с Францевной. Она недавно вышла из больницы и теперь строила из себя жертву злого заговора двух алкоголиков: Потанина и сторожа Ефима. Увидев Потанина, она юркнула у него под рукой, а когда отбежала на безопасное расстояние, крикнула ему:
— Чтоб тебя, бурбон, задавило-зарезало!
Да, всё бывает в жизни: одному, как говорят, волхвы пальцем в небо попали, другому дура ляпнет — и в точку.
Когда Потанин и Мишка вышли из магазина, придурки уже дрались друг с другом. Придурок с недопитой бутылкой, по-козлиному подпрыгивая, пытался ударить ею длинноволосого. Однако, понимая, что если промахнется, не попадет в голову, ему будет плохо, делал он это с трусливой опаской. Длинноволосый же, тоже подпрыгивая, отступал от него и делал вид, что в кармане у него нож. Вытащить его, опасаясь, что бутылка сразу полетит ему в голову, видимо, он тоже не торопился. Со стороны они были бы похожи на двух дерущихся петухов, если бы страшно не крыли друг друга матом.
— Эх, разве так дерутся! — снимая с себя пиджак, рассмеялся Потанин.
Когда Мишка попытался его удержать, он оттолкнул его в сторону и сказал:
— Студент, не мешай!
Увидев перед собой Потанина, длинноволосый хрипло произнес:
— Дядя, а ведь я тебя на перышко посажу.
— Давай! — двинулся на него Потанин и в это время сзади получил сильный удар по голове бутылкой.
— А, гад! — обернулся он к дебильному придурку и, схватив его за пояс, поднял над головой и, как котёнка, бросил на землю.
Придурок ойкнул, у него хукнуло в животе, и стих.
К длинноволосому Потанин обернуться не успел, его нож вошел ему в спину по самую рукоятку. Оставив нож в спине, длинноволосый бросился бежать, а Потанин, словно не веря тому, что случилось, прохрипел ему вслед:
— Падла, да он же меня зарезал!
В гробу Потанин, как покойник, не смотрелся. Лицо у него было свежим, а вздернутые вверх брови и вытянутый к подбородку нос придавали ему вид человека, удивленного тем, что с ним случилось. Казалось, он сейчас встанет из гроба, расправит плечи и, ни на кого не глядя, выйдет из дому.
Случай на ферме
Старик Яков Мохнач, несмотря на свои шестьдесят лет, всё ещё был крепким и ни на какие болезни не жаловался. Широкий в плечах, с грубым, словно выточенным из камня лицом и лопатообразной бородой, он был похож на сибирского старовера. Жил он один, в своем доме. Сын с невесткой жили в соседнем посёлке и у него бывали редко. В молодости Мохнач был первым на гулянках и в драках, за поножовщину сидел в тюрьме, выйдя из нее, женился, но замашек на гулянки и драки не оставил. Окстился он в пятьдесят лет, после смерти жены. А когда понял, что все эти пятьдесят лет ушли не на то, что надо, замкнулся в себе и стал вести отшельнический образ жизни. Если же появлялся на людях и вступал в разговоры, то всегда был чем-то недоволен. Молодые ему не нравились за то, что не уважают старых, а старые — за то, что долго сидят у молодых на шее. И если правда, что люди, профукавшие ни за копейку жизнь, в старости становятся жадными, то в Мохначе это проявилось в самом неприглядном виде. Он никогда и никому не занимал денег, ходил в старье, питался кашами и пустыми похлебками. Получая приличную пенсию, всем жаловался: «На копейку-то скоро и ноги протянешь». И вместе с тем Мохнач не терпел, если кто-то, поверив в его бедность, ему сочувствовал. Когда не раз слышавшая его жалобы на копеечную пенсию соседская девочка, выпросив у родителей на мороженое, предложила ему: «Дедушка Мохнач, возьмите рублик», — он на неё затопал ногами.
Из жадности Мохнач подрабатывал сторожем на свиноферме. Платили мало, и главный заработок составлял закол свиней. От каждой свиньи он брал по ляжке, кроме этого ему шли все потроха. С этим соглашались, так как лучше его колоть и разделывать свиней в посёлке никто не мог. В помощники себе Мохнач брал белоруса Гришу, которому в прошлом году исполнилось двадцать лет. На Колыму Гриша приехал недавно и, затурканный её суровым бытом, жил незаметно и тихо.
В день закола Мохнач вставал рано, тщательно умывался и, как на праздник, надевал чистую рубаху. На ферму он приходил, когда никого там ещё не было. Когда появлялась заведующая, он сердито спрашивал: «А вы не могли прийти позже?» Недоволен он был и тем, что ему приготовили: ножи казались ему тупыми и короткими, паяльная лампа плохо горела, он всем грубил, а если заведующая спрашивала: «Чего такой злой?», он грубо отвечал: «Если все будут добрыми, кто свиней колоть будет?» И заведующая, и все, кто был на ферме, знали, что сейчас он пошлёт к себе домой Гришу за ножами, — хотя, понятно, и сам бы мог принести их, когда шёл сюда, — потом потребует, чтобы заменили паяльную лампу, проверит прочность настила, на котором будет колоть свиней, посмотрит, достаточно ли принесли соломы.
На заколе Мохнач преображался. Из сварливого и куражливого старика он превращался в ловкого и веселого работника. Лицо его светлело, глаза обретали лихорадочный блеск, покрикивая на помогавших ему бабёнок, хлопал их по задницам и называл касатками. С Гришей они понимали друг друга без слов. В задачу Гриши входило уложить свинью набок, почесать ей брюхо, а когда она успокаивалась, длинным и похожим на штык немецкой винтовки ножом Мохнач бил ей точно в сердце. Уходили на тот свет свиньи без визга и предсмертных судорог. Палили свиней Мохнач и Гриша поочерёдно, а разделывал их один Мохнач. Делал он это без топора, специальным, похожим на мачете ножом. Не слышно было ни треска костей, ни хруста сухожилий, всё, казалось, отделялось как на вареном мясе, без всяких с его стороны усилий.
После закола Мохнача с Гришей вели в сторожку, где был накрыт стол. Непьющий Мохнач здесь выпивал водки. Выпив, хвалился: «Мне свинью заколоть, что другому комара убить». Участвующие в застолье работники фермы слушали его, не перебивая, и обращались к нему только по отчеству. «Без вас, Яков Михайлович, — говорила заведующая фермой, — уж и не знаю, что бы мы делали». «Ну, уж, — скромничал Мохнач, — так и не знаю». Когда работники фермы уходили, за столом оставались Мохнач с Гришей. «Ты, Гриша, у меня учись, — говорил Мохнач, — заколоть свинью — дело непростое». «У мяне, дядя Яша, руки ня те», — жаловался Гриша. «Руки у всех одинаковы, — не соглашался с ним Мохнач, — тут глазомер нужен». Словом, для Мохнача закол свиней был большим праздником, ему нравилось, что его уважают здесь и ценят, и, видимо, поэтому на бедность свою он уже не жаловался. Напротив, когда на столе заканчивалась водка, он доставал из кармана бумажник, хлопал им по столу и с задором решившегося на пьяный разгул восклицал: «Эх, гулять — так гулять!» Правда, после этого в бумажнике он долго копался, а когда давал Грише деньги и посылал его за бутылкой, говорил: «Если там не хватает, так ты уж добавь». «А як же!» — хватался Гриша с места и бежал за водкой.
На одном из последних заколов работники фермы обратили внимание на то, что Мохнач сильно изменился. Он был вялым, как с похмелья, в глазах не было прежнего лихорадочного блеска, когда бил свинью в сердце, казалось, делал он это с каким-то ему известным тайным наслаждением, а при сливе крови в тазик глаза его оставались мутными, как у пьяного. И в сторожке, за столом он был не таким, как раньше. Он как будто отходил от чего-то тяжёлого, глаза его бессмысленно бродили по стенам, а когда его что-либо спрашивали, он отвечал или невпопад, или с большим опозданием. Бумажником он уже по столу не хлопал и Гришу за водкой не посылал. Не все понимали, что с ним случилось. Одни говорили, что это он от старости, другие считали, что он втайне от всех стал много пить. И его стали бояться. «Кто знает, что у него на уме», — говорила заведующая фермой. Кончилось всё это плохо. На последнем заколе он зарезал Гришу. Случилось это так.
Когда в сторожке все из-за стола разошлись, Гриша попросил Мохнача: «Дядя Яша, а тябе ня трудно показать мяне трошки, як ты у сэрдце борову точно вгадуешь?» «Могу», — ответил Мохнач и, взяв похожий на штык немецкой винтовки нож, стал точить его на бруске. «Ты чаго?» — не понял его Гриша. «Главное, длина свиньи, а по ней бери на один или два вершка от лопатки», — не ответил на вопрос Гриши Мохнач и медленно, как крадучись, стал приближаться к нему. Лицо его дергалось, руки дрожали. «Ты чаго?!» — уже закричал Гриша. «Не бойся, сынок», — глухим, как из трубы, голосом сказал ему Мохнач, и, подойдя к нему вплотную, отмерил от подмышки левой руки два вершка. И тут же его нож оказался в сердце Гриши.
Гришу через два дня похоронили, а Мохнача, после медицинского освидетельствования и недолгого следствия, судили. Обросший, с тупым из-под нависших бровей взглядом, на скамье подсудимых он был похож на крупного зверя, посаженного в клетку. Когда его спросили, зачем зарезал Гришу, он глухо, как из ямы, ответил:
— Рука сорвалась.
Дед Игнатий и Антошка
Осень на Колыме — лучшая пора года. Омытое утренней росой небо весь день чистое и, как стекло, прозрачное, тайга, утопая в ярком многоцветье, за горизонтом сливается с небом, в долинах рек полыхает золотом пожелтевших тополей и чозений, на склонах сопок скрывается в густой зелени кедрового стланика, в перелесках горит ярко-красной вороникой. Воздух чист и прохладен, пахнет смородиной, кедровой смолой и прелыми грибами.
Дожди в это время года идут редко и с ними часто приходят грозы. Начинаются они с безобидного облачка на горизонте. Оно белое и кудрявое, но вскоре разрастается в тучу и становится похожим на ледяную глыбу. Первые капли дождя редкие и крупные, как градины, ветер порывистый, в посёлке он крутит вихри, в лесу гудит и ломает кроны. Первая молния похожа на ломаную стрелу, за ней следует такой удар грома, что, кажется, раскалывается небо и разламывается земля. Проходит гроза быстро, после неё идёт мелкий дождь, а потом на небе появляется радуга. Она неестественно яркая и поэтому кажется наклеенной на небо.
Сегодня Антошка и дед Игнатий дома одни. Мать и отец Антошки уехали в Магадан. Перед отъездом мать наказывала деду:
— Ты уж, папа, следи за Антошкой. Он такой непоседливый.
А отец, наоборот, уходя, весело сказал:
— Ты, Антон, за дедом смотри. Он у нас такой: не досмотришь, на улицу убежит, шпаны наприводит.
Сейчас уже полдень, и Антошке скучно. Он ходит по избе, заглядывает под кровать: не там ли лежит потерянный вчера мячик, потом идёт на кухню, берёт со стола оставленный матерью пирожок, но есть не хочется. Подойдя к окну, он крошит пирожок на подоконник, но мухи его не едят, они бьются о стекло, отскакивают от него, как мячики, а когда это им надоедает, садятся на него и чистят крылья. А за окном сидит дед. Голова у него, как в муке, вся белая, грудь худая, глаза, как у слепого, похожи на две пустые стекляшки. Когда он смотрит на солнце, Антошке кажется, что он его не видит, потому что не щурится и не мигает. Деда Антошке жалко и, вынув из комода краски, он рисует ему солнце. Получается оно у него рыжим и совсем не таким, как его представляют взрослые. На нем, как и на земле, живут люди, они похожи на бедуинов, каких видел Антошка, когда ходил с отцом в кино. Лица у бедуинов, как кофе, коричневые, сами они худые и высокие, сидят на верблюдах, в руках у них подзорные трубы, и смотрят они в эти трубы на землю. Что они на ней видят, Антошка рисует в левом углу рисунка. А рисует он там всё, что за окном. И хотя раскинувшиеся по сопкам заросли стланика у него похожи на общипанную овцами поляну, жёлтые тополя и чозении — на соломенные скирды, а река — на кривую дорогу, он представляет это по-другому, наверное, потому, что и взрослые художники видят на своих картинах не то, что на них есть, а то, что они хотят увидеть. По зарослям стланика у него бегают бурундуки, в тополях и чозениях — зайцы, а над рекой летают утки.
Люди на рисунке Антошки маленькие, как лилипуты. У них узкие плечи, тонкие с соломинку руки и ноги, и большие головы. Глаза у всех круглые, как у испуганных кошек, и все они бегают, как будто чего-то ищут. Дед у Антошки на переднем плане и, как ему кажется, очень похож на настоящего. Чтобы деду было смешно, когда Антошка покажет рисунок, он подрисовывает ему тараканьи усы. Они такие длинные, что теперь похожие на лилипутов люди уже бегают не по земле, а по усам деда.
А настоящий дед Игнатий всё сидит под окном и по-прежнему смотрит на солнце. На нём он не видит Антошкиных бедуинов, он весь в прошлом и видит себя на солнечном крыльце материнского дома в Антошкином возрасте. На месте раскинувшихся по сопкам зарослей стланика он видит за своим селом поросшие высокой травой дубовые подлески, река ему кажется протокой, в которой он ловит пескарей, долина её ему представляется в желтом убранстве хлебным полем, где мать вяжет снопы, а он бегает за кузнечиками, а в ярко-красной воронике он видит костры, зажжённые косарями на ночь.
Вспомнив, что Антошку пора кормить, дед Игнатий идет в избу. В избе, уронив голову на подоконник, Антошка спит. Уложив Антошку в постель, дед Игнатий садится на его место к окну и смотрит на улицу. По ней ходят люди, бегают собаки. Вот появляется соседка. Она идет из магазина, в руках у неё большая сумка с продуктами, она готовится к свадьбе сына. И дед Игнатий вспоминает свою свадьбу. Играли её в Ильин день. В деревне в этот день в поле никто не работал, не косил и не убирал сена. Считалось, что если в этот день будешь работать, Илья-пророк нашлёт на землю холодные дожди, гром и молнии. День свадьбы был светлым, небо чистым, солнце ярким, народу на свадьбе было много, играли гармони, пели песни, девки водили хороводы. В них, помнит дед Игнатий, девки пели о том, что жених — он не с перекати-поля, у него и сапоги хромовые, и рубаха шелковая, и хозяйство, и дом, а его Глаша им отвечала:
Мне не надо дом кирпичный, — Был бы милый симпатичный. Был бы милый по душе, — Проживем и в шалаше.При воспоминании об этом дед Игнатий прослезился. Ведь Глаша умерла рано, когда дочери ещё не было и двух лет. Умерла она без него, в это время шла война, и он был на фронте. Спохватившись, что вдруг Антошка проснётся и увидит, как он плачет, дед Игнатий быстро утёр слёзы.
А над посёлком уже собиралась туча. Дед Игнатий её не сразу увидел, потому что собиралась она с обратной стороны дома. Перед тем, как туче закрыть окно, по улице пробежал ветер, он поднял столб пыли и унёс его в сторону реки. Потом упали первые капли дождя. На дороге они зашлепали, сворачивая пыль в калачики, а в окно застучали, как градом. Когда туча закрыла всё небо, ударил гром и засверкали молнии. Сквозь завесу дождя посёлок стал похож на брошенное задворье, дома стали кособокими, окна пустыми, и деду Игнатию показалось, что это не его посёлок, а тот хутор, из которого они в войну выбивали немцев. Тучи над посёлком ему казались пороховой гарью, в раскатах грома он слышал залпы артиллерийских орудий, в блеске молний видел разрывы снарядов. Закрепившись на окраине посёлка, он бьёт из пулемёта немцев, выскакивающих из горящих хат. В огне они похожи на снятые через черную копирку фигурки, и ему кажется, что стреляет он не по живым людям, а по их теням.
С сильным ударом грома просыпается Антошка.
— Дед! Дед, — зовет он из спальни, — я боюсь!
Дед Игнатий идёт в спальню и ложится с ним. Прижавшись к деду, Антошка успокаивается. С дедом ему всегда хорошо. Лучше, чем с отцом и матерью. Он его никогда не ругает и не берется, как отец, за ремень. Жалко вот, что он скоро умрёт. «Уж и не знаю, — слышал он, как мать жаловалась соседке, — дотянет ли он до Нового года». Как скоро придет этот Новый год, Антошка не знает, — он и считать-то еще не умеет, — но представляет его уже не так, как раньше — с ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой, — а с большим и красным гробом, в котором лежал соседский дядя Митя, когда его хоронили. У него было жёлтое лицо, острый нос и такие сердитые брови, что казалось, он ещё и чем-то недоволен. Представить таким своего деда в гробу Антошке страшно, и он просит:
— Дед, ты не умирай.
— С чего ты взял, что я умру, — смеётся дед Игнатий и гладит Антошку по голове.
— А мама говорила, — отвечает Антошка и ещё крепче прижимается к деду.
Гроза скоро проходит. Вместо неё идет мелкий дождь. По крыше он словно сеет крупой, а окна от него плачут.
Под шелест дождя Антошка засыпает, а дед Игнатий возвращается в своё прошлое. Вот он в вагоне поезда, рядом дочь, нашёл он её в одном из уральских детдомов. Едут они домой, на родную Тамбовщину. За окном вагона, вот как и сейчас, идёт мелкий дождь, и когда поезд проходит затянутые им жёлтые поля и уже оголённые осенью редколесья, кажется, что он идёт туда, где никогда не бывает солнечных дней, где всё сыро и безысходно. В вагоне душно и шумно, махорочный дым висит коромыслом, играет гармошка. В нём много калек и нищих: калеки возвращаются с японского фронта, а нищие собирают милостыню. Среди нищих есть и в военной форме. Вот один из них: у него помятое, цвета печёного яблока лицо, глаза мутные, как с тяжелого сна, левый рукав гимнастерки пустой. Он ищет, где выпивают. Ему наливают кто из жалости, а кто из пьяного куража. В соседнем купе, где тоже выпивают, его спрашивают:
— Солдат, с какого фронта?
— С японского! — звонко отвечает солдат.
— Дядя, — вдруг раздается звонкий голос из этого купе, — а гимнастерка-то у тебя с чужого плеча!
— С какого чужого?! — сердится на этот голос солдат.
— А с такого! — отвечает голос. — Гимнастерка-то не с японского фронта, а с немецкого.
Дядя, размахивая спрятанной под гимнастеркой левой рукой, бежит из вагона, а в купе хохочут.
— Молодец, Сашок, на понт взял! — хлопают там по плечу хозяина звонкого голоса.
Дочь. Игнатия сидит рядом с ним, на ней серая косынка, протертая на локтях кофта и стоптанные ботинки. С бледным и узким лицом и с глубоко запавшими глазами, она похожа на нищенку. В то, что она рядом с отцом, поверить ей трудно, всё кажется, что и отец, и этот вагон, и люди в нём — это сон, который может внезапно оборваться.
— Папа, — спрашивает она у отца, — а война правда кончилась?
— Правда, девонька, правда, — улыбается ей сержант, что сидит напротив.
У сержанта по-мордовски круглое лицо, весёлые глаза, на японском фронте он потерял половину правой ноги, а на левой руке три пальца.
— Эх, братка, — улыбается он и Игнатию, — заживем мы теперь — лучше и не надо!
А Игнатий тоже не может поверить, что дочь с ним рядом. Сколько он хватил, где только не был, пока нашёл её.
На одной из станций Игнатий покупает бутылку самогонки и с сержантом они выпивают. От самогонки у него кружится голова, ему легко, он словно парит в воздухе, и уже не кажется, что поезд идёт туда, где не бывает солнечных дней, и где всё сыро и безысходно. Там, куда идёт поезд, его родное село, в нём он поднимет свой дом, выучит дочь, поставит её на ноги.
— Ничего, и мы заживем! — словно понимая, о чем думает Игнатий, говорит сержант.
Он тоже из деревни, там у него жена и две девочки.
— Вот, — показывает он на потерянную ногу, — всё равно ждут. Приезжай, пишут, родимый тятенька, хоть какой.
Сказав это, сержант отворачивается к окну и курит.
Встречали сержанта с мордовским лицом похожие на него дочери и маленькая, с подростка, жена. Все плакали от радости, а когда шли с вокзала, девочки крепко держались за его костыли, а жена всё никак не могла найти себе места. Она суетилась, как пойманная в клетку мышка, то забегала вперед, то отставала, и всё не могла успокоиться, чтобы не плакать.
Не проснись Антошка, дед Игнатий, наверное, ещё долго бы находился в своём прошлом. Чего только не было в его жизни, пока не поставил дочь на ноги, не выучил её, не выдал замуж. Но Антошка проснулся, и они выходят на улицу. Дождя уже нет, воздух чист и прохладен, пахнет свежескошенной травой, смородиной и прелыми грибами, солнце уже на закате, а с другой от него стороны в небе яркая радуга. Дед Игнатий и Антошка садятся на крыльцо и смотрят на радугу. Деду Игнатию она говорит о том, что завтра будет хорошая погода, ребятишки пойдут за смородиной, бабы — за брусникой, а мужики — на реку ловить хариуса. Он бы и сам сходил на реку, посидел у костра, послушал, о чём говорят мужики, но нет уже сил, да и Антошку не на кого оставить. А Антошке кажется, что за радугой большой и красивый мир, в котором с неба никогда не сходит солнце, а на земле круглый год стоит лето.
Запоздалое прозрение
В ленинградский период жизни Марья Филипповна обрела широкий круг друзей и знакомых из числа людей, причастных к искусству. Одни из них уже состояли в творческих союзах, другие ходили в кандидатах на вступление в них.
Сама Марья Филипповна окончила институт с гуманитарным направлением, занималась самообразованием, и поэтому на всё имела свою точку зрения. Выражала она её по-разному, всё зависело от темы и аудитории, но всегда делала это с большим и артистическим подъёмом.
— Ах, этот Айвазовский! Сколько в нём экспрессии! — восклицала она, когда речь шла о живописи.
В кругу литераторов она говорила:
— Как хотите, а Драйзера я обожаю!
Если речь шла о музыке, предупреждала:
— Только не говорите о Бетховене! Это моя слабость!
Видимо, полагая, что в суждениях её много оригинального и смелого, и они не каждому нравятся, она всякий раз подчеркивала:
— Не знаю, как вы, а я хочу одной правды.
В аудитории попроще, где в искусстве выше отечественного не поднимались, Мария Филипповна была более категоричной и не терпела возражений.
— Кто это вам сказал, что Пушкин — поэт народный? — перебивала она собеседника и, ссылаясь на «Евгения Онегина», говорила, что Пушкин — зеркальное отражение высшего общества в его время. Если собеседник с ней не соглашался и отсылал ее к «Цыганам», она сердилась:
— Не путайте, пожалуйста, народ с цыганами.
Уже немолодой Марья Филипповна переехала жить на Колыму. Устроившись в своём посёлке библиотекарем, она стала искать равных себе по интеллекту. Сделать это оказалось непросто. Посёлок был небольшим, все были заняты своей работой, и до её интересов никому не было дела. В библиотеку ходили одни дети и брали книги только с картинками. Однажды парни из общежития забрали у неё весь комплект журнала «Огонек», а когда вернули, оказалось, что все иллюстрации красивых девушек в коротких юбках и с глубокими декольте вырезаны. Один раз пришел старый эвенк по имени Миколка.
— Читай не умей, — сказал он. — Дай толстый книг, внук учить нада.
— Как же Вы его будете учить, если читать не умеете? — спросила Марья Филипповна.
— Внук голова большой, сам учить будет, — ответил Миколка.
Ходил в библиотеку вдовый хохол Поддуба. И он брал толстые книги, но каждую из них возвращал на следующий день. Заподозрив, что Поддуба их не читает, Марья Филипповна по содержанию одной из них задала ему несколько вопросов. Поддуба по каждому из них краснел и мялся, как нерадивый школьник на экзаменах, а потом вдруг сказал:
— Марья Филипповна, диты у мэни сироты, лыхо мэни з ными.
И предложил ей выйти за него замуж. Марья Филипповна замуж за него не вышла, она всё ещё жила искусством. Много читала, переписывалась с ленинградскими друзьями и даже писала работы на литературоведческие темы. Ленинградские друзья отвечали редко, в письмах обязательно что-то просили, один биохимик постоянно просил выслать ему оленьего ягеля для изучения его молекулярной структуры методом ядерно-магнитного резонанса. Марья Филипповна ягель ему высылала, пока не узнала, что из него он делает на подпольную продажу антибиотики. В отзывах на литературоведческие работы из редакций журналов Марье Филипповне писали, что они оригинальны по постановке вопросов, но опубликованы быть не могут, потому что содержат спорные положения и противоречия.
Шли годы, Марья Филипповна старела, с тонкими чертами лица и стройно сложенная по приезду на Колыму, теперь она стала приземистой, в сложении появилась угловатость, на лице морщины. Когда ленинградские друзья её совсем забыли, а журналы перестали отвечать на её работы, Марья Филипповна ощутила большой перелом в осознании себя. Она поняла, что и ленинградцы, и журналы для неё были, образно говоря, зеркалом, в котором она хотела увидеть себя не хуже других, теперь же, лишившись его, уже никогда не узнает, кто она есть на самом деле.
С осознанием этого изменился и образ жизни Марьи Филипповны. Вставала она поздно, днём, кроме как по домашнему хозяйству, ничего не делала, вечером шла в библиотеку, отсидев в ней положенные часы, возвращалась домой, ужинала и ложилась спать. Всё стало однообразным и серым, ничто в её жизни не горело и не тухло, всё катилось само собой, без желаний и воли. В квартире, словно в ней не было окон и не зажигались огни, всё стало тусклым, давно не передвигавшаяся мебель, казалось, вросла в пол, а от старости стала похожа друг на друга. Марья Филипповна уже путала диван с тахтой и часто засыпала там, где её захватывала ночь, утром искала в кухонном буфете то, что лежало в комоде, а видя себя в полированной дверке шифоньера, думала, что смотрится в зеркало. Вкрался в квартиру и запах старости. В нем стояли приторность горькой полыни и затхлость курной избы.
По весне Марью Филипповну стала мучить бессонница, и она поехала в район к психиатру. Кабинет его был расположен в психоневрологическом отделении больницы. В ожидании приёма к нему сидел крупного сложения мужчина лет пятидесяти пяти в поношенной пижамной куртке, потёртых армейских галифе и в тапках на босу ногу. У него были толстые усы, кавказский нос и живые, с лёгкой, как после небольшого похмелья, поволокой глаза.
— А-а, и ты сюда! — весело встретил он Марью Филипповну. — Давай! Здесь всех принимают! И дураков, и умных. Не знаю, как тебя звать, а меня Иваном Парфёнычем, — представился мужчина, — вот он, лепила наш, — мотнул тапком Иван Парфёныч на дверь кабинета психиатра. — Захарием Марковичем звать. Заходи, — и, забросив ногу на ногу, рассмеялся: — Сразу спросит: а в какой это карете Пушкин на свидание с Натали ездил? Какой ответ, такой и диагноз, но имей в виду: не шизиков у него не бывает. А я его один раз спрашиваю: «Захарий Маркович, а на каком это коне сидел Кутузов, когда ему голову оторвало?» «Как, — удивился он, — и ему уже голову оторвало?!» Вот это и есть наш лепила, — снова рассмеялся Иван Парфёныч.
«Сумасшедший или пьяный», — не поняла его Марья Филипповна. А Иван Парфёныч, уже широко расхаживая по комнате, продолжал:
— Вот ты говоришь: сумасшедший должен сидеть за решёткой. Ха! Как бы не так! А почему Наполеона за неё не посадили? Разве загубивший из больного тщеславия и каких-то высоких, только ему известных соображений, тысячи жизней не сумасшедший? А возьми Македонского? И он не сумасшедший? Тогда скажи: чего ему надо было в Индии? А? Ну, ладно, допустим, наш Гурий, — махнул Иван Парфёныч рукой в сторону расположенной через коридор палаты больных, — он хоть и говорит, что Македонский, но в Индию-то никого не водил и никого в ней не гробил. Так за что же его за решётку, а Македонского в великие полководцы? А? — сердито закончил Иван Парфёныч.
«Да нет, он, кажется, и не сумасшедший, и не пьяный», — подумала Марья Филипповна, а Иван Парфёныч, сменив тон с сердитого на бодрый, продолжил:
— Вот возьми в Германии. Я там в войсках служил. Чуть что не так, а ну, иди сюда, скотина! В Индию захотел! Ну, так покажем тебе Индию! Не посмотрим, что ты майор. И к полковнику! А он, — хоть мы с ним в училище и с одной чашки-ложки ели, — не подходи! Кричит: под суд отдам! Ну, потом отойдёт, конечно, и мирно: Ваня, забудь Индию, а то усы повыдергаю.
«Сумасшедший», — поняла, наконец, Марья Филипповна.
Психиатр Захарий Маркович, очень похожий на лысого суслика, слушал Марью Филипповну с улыбкой, за которой, казалось, прячется что-то лукавое и только ему известное, а когда спросил: пьёте ли, и Марья Филипповна ответила: нет, хихикнул так, словно ему пощекотали пятку. Выписав рецепт, он весело спросил:
— И о Кутузове рассказали?
— Рассказали, — призналась Марья Филипповна.
— Ой, и народ! И чего только не придумают! — всплеснул руками Захарий Маркович.
А провожая Марью Филипповну, заверил ее: уж он-то точно знает, что ушёл Кутузов из жизни не на лошади.
Дома Иван Парфёныч долго не выходил из головы Марьи Филипповны. «Да, он сумасшедший, — думала она, — ну, и что из этого? Дай бог каждому быть таким сумасшедшим». Всё, что он рассказал о Захарии Марковиче, ей показалось оригинальным и, наверное, близким к правде, а о Наполеоне и Македонском — глубоким и для неё новым.
В следующий раз Марья Филипповна столкнулась с Иваном Парфёнычем в столовой отделения, куда она зашла в ожидании приёма к Захарию Марковичу. В столовой были рубленные топором столы, в одном из углов лежало сваленное в кучу грязное в жёлтых пятнах белье, в другом на тумбочке стоял с потертыми мехами баян. Видимо, столовая служила еще и прачечной, и комнатой отдыха. Иван Парфёныч сидел в углу у баяна в одном нижнем белье.
— А-а, опять пришла! — сердито встретил он Марью Филипповну. — Давай! И тебя под нож пустят!
— Что случилось, Иван Парфёныч? — спросила Марья Филипповна.
— А Гурия зарезали! — зло ответил он и, ударив кулаком по тумбочке, выругался.
— Как зарезали?! — не поняла Марья Филипповна.
— А так, взяли и зарезали! На аппендиците! — вскочил на ноги Иван Парфёныч. — Что с ним чикаться! Старый, без ума, в Македонские метил. Кому такой нужен! Под нож его! А теперь гогочут, сволочи: мы, говорят, самого Македонского зарезали!
И, уже не замечая Марьи Филипповны, Иван Парфёныч стал метаться по столовой, кому-то грозил в окно, а когда заметил её, зло крикнул:
— Я бы твоего Достоевского к стенке! И Раскольникова с ним! Это они придумали философию: человек не вошь и убить его трудно, но если он стар и никому не нужен, убить можно. И убивают старуху! Так давайте убивать евреев, ведь и они паразиты, живут, как и старуха, на проценты. А потом и на Гималаи! Возьмемся за монахов! Тоже ничего не делают, сидят там и коптят своё гималайское небо!
— Иван Парфёныч, к врачу, — позвала его вошедшая в столовую санитарка.
— Ма-алчать! — вдруг затопал на неё ногами Иван Парфёныч. — Я и тебя к стенке!
В столовую вбежали два санитара, накинули на Ивана Парфёныча смирительную рубашку и поволокли к двери.
— К стенке! Всех к стенке! — кричал он, вырываясь из их рук.
— А-а, сука! Ещё кусаешься! — вскрикнул один из санитаров, и так ударил Ивана Парфёныча по лицу, что у него хлынула из носа кровь.
Дома Марья Филипповна плакала, ей было жалко Ивана Парфёныча.
А Гурия она видела всего один раз. Худой, сгорбленный старостью, с сильно вытянутым к подбородку лицом и с бессмысленным взглядом похожих на оловянные шарики глаз, он, словно запинаясь за что-то, ходил по коридору и разговаривал с собой.
— Македонский, на завтрак! — позвали его.
Вздрогнув, Гурий подозрительно посмотрел на того, кто его зовёт, и по-детски мягким голосом спросил:
— А вы на самом деле считаете, что я — Македонский?
— А как же! — рассмеялись в ответ.
— И мне иногда кажется, что я — Македонский, — тихо произнёс Гурий и пошёл в столовую.
На спине его халата Марья Филипповна увидела надпись краской: Македонский. Она поняла, что сделал это кто-то из обслуживающего персонала для смеха.
«Иван Парфёныч прав, — уже в постели думала Марья Филипповна. — В мире много стариков, калек, нищих, все они живут за счёт других, что же — убивать их? А где сострадание? Ведь оно надо не только им, оно надо и нам. Без него мы не люди». Марья Филипповна хорошо помнила «Преступление и наказание» Достоевского и в молодости восхищалась им, а Раскольникова понимала как сверхчеловека, поднявшегося над нравственными законами жизни. Большинство людей, думала она тогда, живут по этим законам, а кто их преступает, делятся на преступников ради личной корысти, — они сидят в тюрьмах, — и на таких, как Раскольников, преступающих закон из высших, не подвластных простому человеку соображений. Сейчас Марья Филипповна Раскольникова понимала по-другому, а вспомнив, что говорил Иван Парфёныч о Наполеоне и Македонском, подумала, что различий между ними и Раскольниковым по существу нет. Все они, преступая жизни людей, хотели стать над миром, над человеком, только Наполеон с Македонским по-крупному, а Раскольников по-мелкому. «Господи, как это всё просто, — думала Марья Филипповна, — нужно быть ненормальным человеком, чтобы не понимать этого».
В эту ночь Марья Филипповна не могла долго уснуть. Когда перед ней появлялся избиваемый санитарами Иван Парфёныч, у неё от жалости к нему сжималось сердце, и она снова плакала. Уже проваливаясь в сон, она вдруг увидела Поддубу и услышала его голос: «Диты у мэни сироты, лыхо мэни з ными». «Господи, как его жалко», — подумала она.
Утро было светлым, за окном стояло раннее солнце, оно было ласковым и весёлым, в квартире Марьи Филипповны стены казались все в позолоте, а на полированном шифоньере играли зайчики. «Поеду, попроведаю Ивана Парфёныча», — подумала она, проснувшись.
Больные были на прогулке, и Ивана Парфёныча Марья Филипповна нашла за больницей на скамейке, пристроенной к палисаднику. Вид у него был как после продолжительной и тяжелой болезни, одет он был в накинутый на нижнее бельё больничный халат.
— Вы ко мне? — спросил он Марью Филипповну тоном, с каким обращаются к незнакомым людям, а заметив её растерянность, сказал:
— Да нет, я вас помню. Извините, что раньше вам тыкал. Это у меня бывает, когда я не в порядке.
Марья Филипповна принесла ему варёных яиц, пирожков с брусникой и папирос. Быстро спрятав папиросы под халат, он сказал:
— Курить нам запрещено. В туалете курим, — но всё-таки закурил, а чтобы дежурившая медсестра этого не заметила, после каждой затяжки прятал папиросу в рукав халата.
— А вы ко мне из жалости или по доброте? — вдруг спросил он.
Как ответить на этот вопрос, Марья Филипповна не знала. Ведь всё, что случилось с ней с тех пор, как узнала Ивана Парфёныча, что пережила и передумала за это время, она и сама до конца не осознала.
— Впрочем, не надо отвечать, — видя замешательство Марьи Филипповны, сказал Иван Парфёныч. — Я ведь так спросил, к слову. Наверное, чтобы поговорить с вами. Вы же знаете, в нашем богоугодном заведении много не наговоришь, не с кем. Поэтому уж простите, если заговорю вас, — и, спрятав в карман затушенный окурок, продолжил: — Понятно, жалость возвышает одного и унижает другого, а доброта возвышает и дающего, и принимающего. Она, как талантливая книга: и автора возвышает, и читателя делает чище. Тут к нам, — тихо рассмеялся Иван Парфёныч, — священник ходит. Спрашиваю: отец, Бог добрый или злой? Добрый, отвечает. Какой же он добрый, говорю ему, если половину человечества, не верующего в него, грозит поразить громом и молнией, напустить язву и утопить в море. Значит, он только наполовину добрый. Изыди, сатана, не кощунствуй, сердится на меня священник. Бог всеобъемлющ и половин у него не бывает. Вот и поговори с ним! А я так думаю, — вынув из кармана окурок и прикурив, продолжил Иван Парфёныч, — доброта — она не от ума, а от сердца, и поэтому в ней нет половины, она не делится и не умножается, она невыборочна, она для всех.
— Так это же Толстой, Иван Парфёныч, — заметила Марья Филипповна.
— Вы правы, — согласился с ней Иван Парфёныч и добавил: — Толстой в этом выше Бога.
— Иван: Парфёныч, не курите, пожалуйста, — сказала появившаяся из-за спины медсестра.
— Хорошо, Лидочка, — ответил Иван Парфёныч и затушил окурок. — Хорошая девушка, — заметил он ей вслед, — только она и плакала о Гурии.
Возвращалась Марья Филипповна от Ивана Парфёныча просветленная и радостная, как с праздника. «Какой он умница, как он глубоко мыслит, — думала она о нём. — И как хорошо, что я не сильно лезла, к нему со своим мнением». За свой ленинградский образ жизни, где она на всё имела свою точку зрения, ей уже давно было стыдно.
Вечером Марья Филипповна ходила к Поддубе. В избе его было темно и сыро, у двери, где под умывальником находилось ведро, пахло помоями, у печи стояла неопрятная, с нечёсаными волосами толстая баба. Сам Поддуба сидел на кровати и подшивал валенки. Лицо его было опухшим, как с похмелья, за спиной сидели мальчик с девочкой и из поставленной между ног кастрюли ели картошку. Разговора у Марьи Филипповны с Поддубой не получилось. Он смущённо молчал, а она не знала, о чём с ним говорить. Видимо, чтобы разрядить обстановку, Поддуба встал с постели, вынул из-под стола бутылку водки и предложил выпить. Марья Филипповна отказалась, и это совсем смутило Поддубу. Молчала и баба, что стояла у печи, а когда увидела бутылку, подошла к столу, налила полстакана водки, выпила и, не закусывая, вернулась к печи. Когда Марья Филипповна уходила, баба пробурчала ей в спину: «И чёрт вас тут носит», а Поддуба, провожая её, уже на улице, вдруг рассмеялся, как смеются, когда плачут, и сказал:
— Бабу нашов, а диты сироты.
В сентябре Марью Филипповну вызвали в район на совещание библиотекарей. Там, в первый же день, она пошла к Ивану Парфёнычу. В больнице ей сказали, что за Иваном Парфёнычем приезжал сын и увёз его с собой. Медсестра, которую он называл Лидочкой, увидев её, сказала:
— А вам письмо.
На скамейке, где они с Иваном Парфёнычем сидели в прошлый раз, Марья Филипповна читала письмо и плакала.
Рецидивист Пронька
1
От детства память Проньке сохранила длинные зимние вечера, когда за окном гудели метели, а в поле, за деревней выли волки. В доме в такие вечера было холодно, а Проньке хотелось есть, но есть было нечего, и он ждал, когда придут мать с отчимом. Приходили они поздно и всегда пьяными.
— Покорми выродка! — командовал отчим и, не раздеваясь, падал в постель.
— Сам выродок! — отвечала ему мать и совала Проньке в руки принесённый с собой пряник.
Пронька пряник ел, а мать, гладя его по голове, пьяно причитала:
— Да и кто же это тебя, мою кровинушку, окромя твоей родной матери и покормит-то!
Отчим, которого, казалось, не свалишь и оглоблей, умер от водки. Выпив её литр без закуски на спор с деревенскими придурками, он пошел домой. Дорогой его хватил удар, и, не ойкнув, он свалился в придорожную канаву. В деревне его за тяжёлый характер не любили, и поэтому особых сожалений по поводу случившегося матери никто не выразил. Да мать, наверное, в них и не нуждалась. Без него она как будто бы даже помолодела, и хотя по-прежнему пила водку, но уже без запоев и тяжелых похмелий, а открыто и весело, и утром, сколько бы не выпила вчера, на работу не шла, а, как казалось, вприпрыжку бежала. Если же её пытались остановить и завести с ней разговор, она отмахивалась и на ходу бросала:
— Уж извиняйте, а мне некогды.
Проньку после смерти отчима она стала замечать не только когда он был голодным, но и когда он что-нибудь вытворял. Он тогда убегал из дома и прятался в огороде, а мать, выйдя на крыльцо, кричала:
— Пронькя-а, иди, я тебя побью!
Пронька идти домой не собирался, а когда приходил вечером, она уже всё забывала. Отца своего Пронька не знал.
— Ты у меня от енарала, — смеялась мать и добавляла: — Чтоб ему, сатане, там и издохнуть.
Видимо, Пронькин «енарал» в то время сидел в тюрьме.
Ушла мать из жизни так же нелепо, как и отчим. Взявшись в нетрезвом состоянии вершить стог сена, она сорвалась с него и угодила на чьи-то вилы.
Ничего хорошего не вынес Пронька и из детдома. Директор его, по прозвищу Козедуб, в своих питомцах видел одно будущее ворьё, лагерь которым уже здесь заказан. Когда кого-то отправлял в колонию, он говорил: сдал на зону. Проньку Козедуб сдал на зону в четырнадцать лет за то, что он в драке пырнул стукача ножичком.
За колючей проволокой колонии, с её сторожевыми вышками и надзирателями, или, как их здесь называли, надзиралами, детдом Проньке казался раем, и он его часто вспоминал. Нравился ему в детдоме учитель физики Нил Федотыч. От него всегда пахло чесноком и водкой, а толстыми усами, горбатым носом и деревянно раскачивающейся походкой он был похож на капитана дальнего плаванья.
— А ну, Проня, помоги мне, — говорил он на своих уроках.
Пронька раскручивал проводки, цеплял их к висящему на нитке металлическому шарику, и когда опыт удавался и из шарика вылетали с треском искры, Нил Федотыч говорил:
— Молодец, Проня, Фарадеем будешь.
Проньке это не нравилось. Кто такой Фарадей, он не знал, но представлял его с большой, как у филина, головой, с длинными ушами и, как у всех нерусских, толстым пузом.
— Я не Фарадей, я Пронька, — разозлился он однажды на Нила Федотыча.
Нил Федотыч в ответ рассмеялся, погладил Проньку по голове и сказал:
— И русские Проньки не дураками были.
Видимо, свои опыты, прежде чем показать ученикам, Нил Федотыч практиковал вечерами в своём физическом кабинете. Однажды этот кабинет сгорел, а Нила Федотыча из школы выгнали.
Здесь, в колонии, тоже была школа, но была она с большим трудовым уклоном. От этого уклона у Проньки вечерами болела спина и ныли руки. Выучили его здесь на каменщика, а на штукатура не успели: пришел срок, и его перевели в лагерь. А сам Пронька научился в колонии воровать и курить. Правда, воровать в ней особенно было нечего, но слямзить с общего стола пайку хлеба или увести банку варенья из чужой посылки ничего не стоило. А с лишней пайкой хлеба ничего не стоило и заиметь курево. И ещё научился в колонии Пронька презирать всё, что стояло над ним. Он видел, что и начальник колонии, и все его надзиралы только с виду чистенькие, а копни поглубже — гад на гаде. Все они говорят: трудись — человеком станешь, а сами только и делают, — что водку пьют да баб по вечерам в колонию водят. И учат: не воруй, а у одного на ворованных харчах морда лопается, у другого — офицерский ремень на пузе не сходится. С такими представлениями о своих надзиралах и уменьем воровать в лагерь Пронька сразу вписался. И отсидеть бы ему там год и на волю, так нет: схлопотал новый срок. А случилось это так.
Практически он был уже бесконвойным, и когда надо было ехать в недалеко расположенный от лагеря посёлок за продуктами, направляли и его как грузчика. В одну из таких поездок он спёр со склада бутылку водки, и они с приставленным для блезира к нему охранником её выпили. Когда шофёр вольнонаёмник, он же экспедитор, пошел оформлять на груз документы, а охранник в машине уснул, Пронька решил сходить на протекающую рядом с посёлком речку. Присев на её обрывистый берег, он закурил и стал наблюдать — что происходит вокруг. А вокруг, оказывается, происходило такое, что Пронька забыл всё на свете. В тихой, похожей на заводь речке вместе с домашними утками купалось и полуденное солнце. Когда утки хлопали по воде крыльями, оно разлеталось на разноцветные осколки, а когда они уплывали на другую сторону реки, солнце собиралось в круглый и, как казалось Проньке, улыбающийся ему блин. Потом он заметил, как у берега играет рыба. Видимо, она и на самом деле играла, потому что водяных блох, прыгающих по водной глади, если и хватала, то так, между прочим. Не успел Пронька оторваться от рыб, как голопузый, с курносым носом мальчик подогнал к речке на водопой двух белых коней. Напоив коней, он подвел их к Проньке и, подавая ему повода, сказал:
— Подержи, я окунусь.
С разбегу он нырнул в воду и так долго не выныривал, что Пронька напугался — уж не утонул ли. Мальчик вынырнул прямо под уток, и они с испугу, громко крякая, бросились в разные стороны. Неожиданно на берегу появилась похожая на молодую купчиху баба с двумя пустыми ведрами.
— Уж не цыган ли? — глядя на Проньку, рассмеялась она.
— Почему цыган? — не понял её Пронька.
— А кони-то не твои. Не украл ли?
И, заметив, как Пронька растерялся, она рассмеялась еще веселее. Набрав воды, баба ушла, а вскоре и мальчик забрал у Проньки своих белых коней.
Закурив и присев снова на берег речки, Пронька увидел на другой её стороне косарей. Они широко махали косами и в высокой по пояс траве казались порхающими над ней бабочками. За ними стеной стояла окутанная в сизую дымку тайга, а дальше, за той тайгой по краю голубого неба плыли белые, как снег, облака. «Вот она какая, воля-то!» — думал Пронька, и от горечи, что он её не имеет, у него сжималось сердце. А когда косари, собравшись у шалаша, стали петь песни, ему захотелось плакать. После барачных нар, зарешёченных окон и грубой охраны всё, что сейчас стояло и жило перед ним, казалось ему взятым из мира, опустившегося на землю откуда-то сверху, с какой-то другой, неведомой ему планеты. И эта похожая на заводь речка, и купающиеся в ней вместе с румяным солнцем утки, и этот мальчик с двумя, как снег, белыми конями, и весёлая молодуха с пустыми ведрами, и похожие на бабочек косари, и их грустные песни — всё это никак не вязалось ни с его лагерной жизнью, ни с тем, что он узнал и увидел в козедубовской колонии, с пьяницей матерью и с отчимом, сгоревшим от водки. Всё прошлое теперь ему казалось неуклюжим нагромождением нелепых и никак не связанных друг с другом событий, воспоминания о которых давили голову и теснили грудь, и казалось, что вместе с ними он опускается на дно мутной реки и перекатывает там тяжёлые камни. И накатила тогда на Проньку такая обида за свою неудавшуюся жизнь, и так ему стало жалко себя, что он уже и на самом деле заплакал. Может, это ещё и от выпитой водки, — ведь от неё мужики плачут пьяными слезами, — кто знает, но когда Пронька перестал плакать, он решил: бежать! Представить себя в лагере после того, что он увидел, он уже не мог. Перемахнув вплавь через речку и обойдя стороной косарей, он углубился в тайгу.
Поймали Проньку в тайге через два дня. Там его и били, и травили собаками, а в лагере намотали новый срок. Но и этот срок Пронька не дотянул. За то, что бросился на охранника, ударившего заключённого, намотали новый. На этом сроке ему стало всё равно, где жить: на воле или здесь, в лагере. Хотя он и помнил, что воля — это особый мир, в котором всё: и зелёные луга, и голубые реки, и бездонное небо даны человеку для того, чтобы нормально жить, радоваться тому, что ты есть на свете, но мир этот его уже не трогал, так как он понимал: увидеть его ему, видимо, уже никогда не суждено. Пронька перестал думать о воле, и лагерь после этого стал ему родным домом, хотя в нём по-прежнему ругалась и зверела охрана, кусали на нарах клопы, сводило от недоедания желудок. Видимо, не зря говорят: привыкнуть можно ко всему, когда привыкать больше не к чему.
Ещё сильнее изменилось отношение Проньки к тому, что было за лагерем, когда в общей сложности отсидел он в нём двенадцать лет. Как крот, которому подземелье — дом, а всё, что наверху, он не терпит за светлые дни и свежий воздух, так и у Проньки всё, что было на свободе, уже отталкивало и вызывало ненависть. «Сюда бы всех, да на баланду!» — зло думал он. Да и воспоминания о зелёных лугах и голубых реках, и бездонном небе уже никак его не трогали и отталкивали, как искусственные цветы у гроба покойника. Словом, весь мир для Проньки разбился на две части: одна — это лагерь, где всё — от утреннего подъёма и до вечерней поверки стало привычной и потому не тяготившей нормой жизни, и другая — за лагерем, чужая и ненавистная ему. Не вписывался во вторую часть Пронькиного мира курносый мальчик с белыми конями. Он, как гвоздь, сидел в его памяти, иногда снился, и тогда Пронька видел его на одном из этих белых коней и на другой стороне речки, где косили сено косари. Конь вставал на дыбы, было слышно, как фыркал, а потом нёс мальчика в окутанную сизой дымкой тайгу. Пронька боялся, что мальчик сейчас скроется и он о нём ничего не узнает. «Как звать-то?! — кричал он ему вслед. «Пронькя-а! — отвечало ему из-за речки эхо. Иногда Проньке снилось, что за этим мальчиком и он скачет на белом коне, но скачет не по земле, как этот мальчик, а в небе, и тогда у него кружилась голова и замирало сердце.
Когда кончился Пронькин срок и его выпустили на свободу, он поехал в тот посёлок, где видел этого мальчика. «Найду через ту бабу с вёдрами», — надеялся он, подъезжая на попутке к посёлку. Лицо этой бабы он хорошо помнил, а мальчик, наверное, уже вырос, и его он едва ли узнает. «Хоть посмотрю на него, — думал Пронька, — а сойдемся, так, может, и жить вместе будем».
Посёлок был небольшой, и по запомнившимся приметам бабу Пронька нашёл быстро. Она полола в огороде картошку и была только в лифчике и плавках, и уже не такой молодой, как раньше. Она пополнела и поэтому, казалось, осела в росте, живот, сложенный двумя толстыми в верёвку складками, выпирал из плавок, большие в два вареника губы выражали неудовольствие встречей с незнакомым и прихватившим её в таком виде человеком.
— Чего, чего? — не поняла она Проньку.
Когда Пронька торопливо и путано стал рассказывать о том дне, когда она ходила на речку за водой, а мальчик там купал коней, баба рассердилась.
— Какой мальчик? Какие кони? — зло спрашивала она.
— А помните, в том году у вас заключённый с речки убежал? — ухватился Пронька за последнюю надежду заставить её что-то вспомнить.
— Заключённый? — задумалась баба. — Кажись, помню. Да, да, помню. В том году ещё баня у меня сгорела. — И подозрительно посмотрев на Проньку, спросила: — Да уж не ты ли это будешь тот заключённый? А?
Видимо, баба заключённых в своей жизни никогда не видела. Узнав, что Пронька и есть тот заключённый, что сбежал с речки, она уставилась на него, как на что-то упавшее с неба.
— Вот вы какие! — наконец выдавила она из себя.
Мальчика она вспомнила.
— Да это ж первый бандюга в посёлке! Что только не творит: и по огородам чужим лазит, и ножичком всех пугает, и девок, что ни есть, портит, — говорила она Проньке.
— Звать-то как? — перебил он её.
— А Пронькой подлеца звать, Пронькой, — ответила баба.
«Ишь ты! — удивился Пронька. — И сны бывают в руку».
Нашёл своего тёзку Пронька сидящим на крыльце большого дома с девкой. Он по-прежнему был курносым, а широкий лоб и маленькие, как у крота, глаза придавали ему жуликоватый вид. Крупно сложенная девка была с помятым лицом, казалось, она только что проснулась и теперь, глядя тупо в землю, приходит в себя.
— Тебе чего? — грубо встретил Проньку широколобый тёзка, когда он взялся было открывать к нему калитку.
Пронька растерялся.
— Да мне… — начал он и запнулся, потому что не знал, как это можно сразу, в двух словах объяснить, зачем он сюда пришёл.
— Ну! — уже с угрозой в голосе стал наступать на него широколобый.
— Да я… понимаешь… давно уж это было, помнишь… — путано начал объяснять Пронька широколобому, зачем он к нему пришёл.
Не дослушав его до конца, широколобый толкнул девку в бок и спросил её:
— Ты чё-нибудь поняла?
— Ничё, — сонно ответила девка.!
Тогда широколобый поднялся с крыльца, грязно выматерился и заорал:
— А ну, дядя, канай отсюда!
Пронька не уходил. Он всё стоял за калиткой и не знал, что делать.
— А вот мы на перышко его! — достал из кармана широколобый ножичек.
Конечно, Пронька ножичков не боялся, он и сам ими не раз помахивал, но и связываться с широколобым не хотел, и поэтому как стоял, так и остался стоять у калитки.
— Ах, так! — вскричал широколобый. — Нюрка, неси ружьё.
— Счас, — неохотно поднялась Нюрка с крыльца и ушла в дом.
Когда она вернулась с ружьём и широколобый стал его заряжать, Пронька понял: делать ему тут нечего. Сплюнув, он оставил калитку и чуть не бегом бросился по улице. Сзади его ещё долго раздавался смех. Широколобый заливался мелко, по-бабьи, а девка ухала, как в пустую бочку.
2
Вернулся Пронька в свою деревню и не знал, что в ней делать. Работы не было, никто его уже не помнил, а если кто и помнил, то боялся: кто знает, что у этого зэка на уме. Иной раз на него находила такая тоска, что хоть в петлю. Не помогала и водка. Когда выпивал, болела голова, хватало сердце и жить ещё больше не хотелось. «А ты женись», — посоветовал ему сосед и вечером привел бабу; У нее был, как у мужика, крупный нос, тяжелый зад и кривые, в разные стороны, толстые ноги. А когда Пронька заметил, что у этой бабы один глаз искусственный, подумал: «Ну, такую ещё и найти надо».
— Я согласная, — заявила баба и выставила на стол бутылку водки.
Выпив, продолжила:
— Горбатого не лепи, откуда ты — знаю. А если я к тебе с душой, то — во!
И показала Проньке похожий на кувалду кулак, а потом пояснила:
— Тело бери, а душу не трожь!
Когда, готовясь к первой брачной ночи, она вышла из дому, сказав, что до ветру, Пронька набросился на соседа.
— Пронь, да я ж для хохмы, — смеялся сосед.
— Ну, так забирай свою хохму и кати отсюда! — сказал ему Пронька.
Они ушли, а на Проньку накатила обида. «За кого они меня приняли? — думал он. — За идиота?» Но вскоре стал себя успокаивать. «Зэк, — он и после тюрьмы зэк. Кроме, как этой стерве, никому и не нужен», — уже думал он. В этом же он убедился, когда пытался устроиться на работу в бригаду сезонных строителей, залетевших сюда с Кавказа.
— Нэ-э, — обрезал его бригадир, — вороват будеш.
— Да не вор я, — стал убеждать его Пронька.
— Э-э, — не поверил бригадир, — махорка турма воровал? Воровал. Пайка хлэб воровал? Воровал. Извины, друг, — закончил он разговор, — нэ приму!
Когда Пронька окончательно убедился, что и здесь, и, наверное, в другом месте он никому не нужен, ему стало приходить в голову: а не вернуться ли в лагерь? Ведь это так просто: сопри в магазине бутылку водки, да так, чтобы тут же поймали — вот и лагерь! И, наверное, он так бы и сделал, если бы не встретил Нила Федотыча, учителя физики из колонии. Нил Федотыч уже не походил на капитана дальнего плаванья. Усы у него обвисли, горбатый нос сморщился и стал похож на кривую морковку, и ходил он уже не деревянно раскачивающейся походкой, а шаркая ногами, и, казалось, боялся — как бы не оступиться. Водкой и чесноком от него уже не пахло. «Свою бочку выпил», — сказал он Проньке. Нил Федотыч пригласил его к себе, и они просидели с ним до позднего вечера.
— Вот ты, Проня, говоришь: лагерь — одно, нелагерь — другое. Да так ли уж это? — говорил Нил Федотыч. — Может, это придумал ты для удобства своей жизни? А? И такое бывает. Помню, был у нас директор школы, — чтоб ему пусто на том свете было, — разделил всех учеников на умных и неумных. Одних поставил налево, других — направо, а сам Наполеоном между ними. Понятно, левых он одарит, правых ударит. Просто, а главное, удобно: не надо ломать голову над тем, что и из неумных детей вырастают умные, а из умных — дураки. Да что там говорить! — со старческой безнадёжностью махнул он рукой. — Разделили вот мир на божественный и земной. И что же? Всем удобно: верующий — греши да кайся, неверующий — что хочу, то и ворочу. Нет, Проня, выброси из головы всё, что придумал. Лагерь — нелагерь! Да не место же, в конце концов, красит человека, а человек место.
Потом Нил Федотыч говорил о том, что Проньке в своём лагере было удобно, потому что не надо было там ни о чём думать: ни о работе, которую не выбирал, ни о еде, которую не готовил. Конечно, работа тяжёлая, еда хреновая — и это плохо, а хорошо — не думай ни о чём, не ломай голову, для этого начальство поставлено.
— Знаешь, Проня, — закончил разговор Нил Федотыч, — кати-ка ты на Север. Был там и скажу: народ — что надо, да и работы навалом.
И Пронька уехал на Север. Устроился он в геологическую партию канавщиком. Работа, как казалось ему, не бей лежачего: выбил бурки, взрывник бабахнул и покидывай после него лопаткой. А пошли дожди — лежи в палатке и поплёвывай. Сначала это ему нравилось, а потом словно обрезало: осточертело лежать в палатке, да и работа — что это за работа! С утра, не дай бог, тучка на небе, всё — отбой, дождь будет! До обеда просидели, нет дождя. На работу? Опять нет: канавы далеко, пока это до них доберёшься. Да в лагере бы за такую работу шкуру сняли. А ведь было же время, когда в этом лагере Пронька только и думал: как сачкануть, обвести лепилу, пристроиться шнырем. Выходит, и без работы не лучше. И Пронька стал ходить на свои канавы один и в любую погоду. Его не поняли.
— Ай в люди хочешь выбиться? — спросил его однажды работавший с ним напарник.
А потом кто-то пригрозил:
— Проня, не высовывайся!
«Да пошли вы!» — послал их Пронька. А дальше — еще хуже. Когда он стал давать кубы в два раза больше, чем другие, начальство его стало хвалить и носиться с ним, как с писаной торбой. «Ах, если бы не вы, Прокопий Макарович…», — говорил начальник партии, — «Благодаря вам, Прокопий Макарович», — повторял за ним начальник отряда. «И чего поют?» — злился на них Пронька. А допелись они до того, что канавщики его возненавидели. Хотели побить, да побоялись: кто знает, что у этой урки на уме. А Пронька стал уединяться. После ужина он шёл на речку, сидел на её берегу и думал: что делать дальше. Понятно, канавщики — бич на биче и из своих подвалов и теплотрасс выбрались они сюда на лето не на работу, а на отдых от беспробудного пьянства И голодного прозябания. И их понять можно: они такие, какие они есть. Не мог понять Пронька других. Послушаешь вечером после ужина их разговоры: артисты!
— Мирта Ивановна, — словно подкрадываясь, говорит начальник партии уже немолодой, похожей на крепко сколоченную колоду женщине, — вам нетрудно будет завтра озадачить студентку Нину на отборе образцов?
— Альберт Николаевич, зачем вы так говорите, — обиженно надувает губы Мирта Ивановна, — поднимать практический уровень Ниночки — моя прямая обязанность.
— Вы уж, пожалуйста, — еще раз просит начальник.
Мирта Ивановна глубоко вздыхает, потом вдруг охватывает руками голову и стонет:
— Ах, опять эти магнитные бури! И как у меня от них голова болит! Передали, они и завтра будут.
И смотрит на всех с такой болью на лице и такими по-коровьи печальными глазами, что кажется, вот-вот и расплачется.
Пронька понимает: на этой корове — воду возить, а она ломает роль женщины с тонкой натурой, глубоко и ранимо чувствующей окружающий мир с его магнитными и немагнитными бурями.
— А у вас как? — спрашивает она рядом сидящего завхоза Копняка.
Колодообразный, как и она, Копняк её не понимает.
— Чего как? — спрашивает он.
— Голова болит? — уточняет Мирта Ивановна свой вопрос.
— Какая голова? — опять не понимает Копняк.
— Счастливые люди! — восклицает Мирта Ивановна. — Нервы — канаты, психика — железная, ну, а остальное… Что скажешь: каждому своё!
Всякое утро Мирта Ивановна встречает с мольбертом и на высокой горе, расположенной рядом с лагерем. Там она рисует восходящее солнце.
— Ах, сколько в нём экспрессии! — говорит она, когда возвращается в лагерь.
Вечером, забыв, что и сегодня магнитные бури. Мирта Ивановна читает стихи.
— Я живу, словно в сне неразгаданном На одной из удобных планет,воздев руки к небу, тянет она через нос.
Закончив читать стихи, восклицает:
— Ах, этот Северянин!
Кто такой Северянин, Пронька не знает, но стихи его ему нравятся. Слушая Мирту Ивановну, он видит перед собой эту планету. Окутанная голубой дымкой, она летит к звёздам, на ней и реки, и леса, и горы, но не такие, как на Земле, а ярче и красочнее. Иногда на этой планете он видит мальчика с двумя белыми конями, и тогда ему кажется, что баба тогда в посёлке всё перепутала и послала его не к этому мальчику, а к кому-то другому. «Конечно, перепутала, — убеждает он себя, — при чем тут этот широколобый придурок».
К концу полевого сезона неожиданно для всех Мирта Ивановна стала волочиться за Копняком. То ли этот Копняк, заблудившись однажды ночью в лагере, случайно попал в её палатку, или она своим спиртом его туда заманила — кто знает, но Копняк после этой ночи, похоже, был готов провалиться сквозь землю. Теперь у вечернего костра Мирта Ивановна брала в руки гитару и, направив на него подернутые любовной поволокой глаза, пела:
— Ах, зачем эта ночь Так была коротка? Не болела бы грудь, Не страдала душа.От смущения у Копняка краснел нос, а когда, пытаясь остановить Мирту Ивановну, он начинал ей крякать, Проньке его было жалко.
Как ни странно, но, похоже, благодаря Мирте Ивановне, Пронька не стал уже так прямо и категорично делить мир на лагерный и нелагерный. Если раньше из лагеря все люди на свободе ему казались одинаковыми, чужими и безразличными, то она своей игрой в тонкую натуру хотя и отталкивала, но в то же время и вызывала у него живой интерес, а стихами Северянина — большое уважение, за любовь же к Копняку ему её, как и Копняка, было жалко. Да что Мирта Ивановна! Ведь и бичам, возненавидевшим его, он, в своём делении мира на две части, не находил места. Они, в его представлении, торчали, как камни на дороге, разделяющей эти части. И Пронька, наверное, навсегда бы забыл о том, что мир делится на лагерь и нелагерь, если бы об этом ему не напомнил один из геологов. Всё свободное время, по-старчески сгорбившись у костра, в круглых, по-детски небольших очках этот геолог просиживал над кроссвордами. С одним из них он подошел к Проньке и спросил:
— Как по-вашему будет: выяснение отношений?
— Что по-вашему? — не понял Пронька.
— Ну, по-лагерному, — уточнил геолог.
Проньке ударило в голову, он хотел послать геолога подальше, но, взяв себя в руки, успокоился и ответил:
— Разборка.
— Раз-бор-ка, — вписал геолог в кроссворд и вернулся к костру.
Не нравился Проньке и пижонистый, похожий на общипанного с хвоста кулика младший геолог Одинец. Похоже, он был большим бездельником и, зная это, прикрывался бойким видом и красивой, с вычурным прибабахом, фразой. Когда начальник партии ставил перед ним задачу, он, не дослушав его до конца, нетерпеливо перебивал:
— Альберт Николаевич, вы дайте мне физиономию вопроса, а в остальном — я уж как-нибудь сам.
Получив физиономию вопроса и отойдя в сторону, недовольно говорил:
— И чего соловьёв разводит?!
Вечером, вернувшись с маршрута, он бросал у костра свой рюкзак с образцами и со студенткой Ниной шел на речку. Было слышно, как дорогой он спрашивал её:
— Нинон, между нами, девочками, ты когда замуж выйдешь?
А начальник партии в это время просматривал его образцы, морщился и многие выкидывал в кусты. Вернувшегося с речки Одинца это не смущало. Обнаружив, что рюкзак наполовину пуст, он смеялся и говорил Нине:
— Очередной выкинштейн!
Начальника партии Проньке было жалко. «Эх, Альберт Николаевич, — думал он, — мягкий ты человек. Да этого бездельника поганой метлой гнать надо».
Если же начальник собирал, всех и ставил общую задачу, после его выступлении брал обязательное слово Одинец.
— А не думаете ли вы, Альберт Николаевич, — начинал он, — что ваши предложения — это всего лишь метод пробного тыка? Не лучше ли нам идти широким фронтом, так сказать, с фланговым охватом?
Выступления его, видимо, ему самому нравились, после них он важно и долго перед всеми пыжился, а что касается предложений Альберта Николаевича, говорил о них:
— Видали мы его указявки!
А вот студентка Нина Проньке нравилась. Она ещё, как школьница, носила на голове большой из светлого шелка бант, лицо у неё было, как у кошки, круглое, глаза голубые и большие, и в них, кроме душевой открытости и мягкой доброты, ничего не было. К Альберту Николаевичу она относилась с большим уважением, Одинца, похоже, недолюбливала, а бичей боялась. Когда они напивались тайно выстоянной в кустах браги, она избегала их и жалась то к Альберту Николаевичу, то к Мирте Ивановне. К Проньке она, видимо, относилась хорошо. Ему она давала читать книги, а когда он ей их возвращал, всегда спрашивала:
— Интересно?
И так при этом смотрела на Проньку, что казалось, скажи он — неинтересно, она бы от обиды за книгу расплакалась. Видимо, она и жила-то только своими книгами, а на жизнь смотрела ещё по-детски, как на что-то не совсем ей понятное и поэтому интересное.
Наконец, в лагерь геологов пришла осень. С её прозрачным, как стекло, небом, задумчивыми в жёлтом убранстве далями, запахом прелого опада и шорохами падающих с тополей листьев Пронька почувствовал в себе что-то новое, что кружило ему голову, а когда он поднимался на речной утёс и смотрел на раскинувшиеся перед ним просторы, его охватывало чувство воздушного полета. Теперь уже не казалось, как в заключении, что природа — это искусственные цветы у гроба покойника. Мир, объявший и эту природу, и всех, с кем он проработал лето, для Проньки стал одним, и не было в нём уже прежнего деления на лагерь и нелагерь, а сам он себя чувствовал уже не пешкой в руках чужой воли и слепого случая. «А Нил-то Федотыч прав», — вспоминал он разговор с ним перед отъездом на Север.
Перед вылетом с поля геологи решили истопить баню. Пока она топилась, бичи напились браги и уже буйствовали в своей палатке. Первым помылся Альберт Николаевич, а за ним в баню пошла студентка Нина. Пронька в это время готовил себе бельё и заодно укладывал свои пожитки для отлёта. Вдруг он услышал громкие голоса, топот ног, и к нему в палатку вбежал Одинец.
— Прокопий Маркович, — вскричал он, — студентку насилуют!
В чём был, Пронька вскочил из палатки. Перед баней уже собрались геологи, они что-то кричали, суетливо бегали, но в баню кинуться боялись. Бич, насилующий там Нину, грозил им через окошко, что всех перережет, а Нина, уже задыхаясь, кричала и звала на помощь. Как Пронька ворвался в баню, взял ли он топор в предбаннике или где-то в другом месте, он не помнил. Топор расколол бичу голову и он, не ойкнув, свалился на пол.
Проньку судили и дали семь лет. По суду выходило, что если бы у бича, как и у Проньки, был топор, то тогда не было бы превышения оружия нападения, и его бы, Проньку, оправдали.
Простые люди
Посёлок горняков, заброшенный в верховья Колымы, состоял из осевших в землю деревянных одноэтажек с облупившейся штукатуркой и покосившимися окнами. С его убогостью не вязались светлые черепичные крыши да широкая, как городская магистраль, улица. Омытая дождями черепица в солнечные дни блестела, как новая, на улице в такие дни мальчишки гоняли мячи, а взрослые сидели кто на крыльце, кто на завалинке, и ничего не делали. Посёлок был небольшой, и все друг друга хорошо знали. Никого уже не удивляло, что Нюрка Огольцова почти каждый год выходит замуж и, как по заказу, через каждые три рожает детей, что Коротеня много пьёт, а напившись, выходит на крыльцо и играет на гармошке, знали, что Бояриха гонит самогонку, а пенсионер Пряхин откладывает деньги на свои похороны. На окраине посёлка, откуда уже начиналось болотистое редколесье, с мужем Николаем жила Вера Ивановна. К ним недавно приезжала дочь и оставила им своего Лёвку.
Жизнь в посёлке протекала мирно и тихо, и с тех пор, как у Боярихи сгорела баня, в которой она по ночам гнала самогонку, особых событий в ней не было. Жили открыто, ни в чём не таясь и не высовываясь, и понимали друг друга с полуслова. Если кто-то умирал, хоронили сообща, а когда приходили праздники, гуляли одной компанией. Иной раз казалось, что от такого тесного общения и одинакового образа жизни и по облику все стали похожи друг на друга. Выражалось это в неброском виде, спокойном выражении лиц и неторопливых движениях. Отличались только по возрасту да ещё по тому, что каждому дано с детства. У рыжей Нюрки Огольцовой были ореховые глаза, у толстой Боярихи — пухлые, как оладьи, щеки и длинный нос, щуплый Коротеня отличался большими, как лопухи, ушами и тонкой шеей, Пряхин был крупно сложен, как слон, неповоротлив, а болтливый и словоохотливый Николай у Веры Ивановны, когда говорил, казалось, половину своих слов проглатывает, и поэтому понять его всегда было трудно, у самой же Веры Ивановны были по-овечьи грустные глаза и большие, как у деревенских баб, руки.
Объединял этих людей не только одинаковый образ жизни, объединяла их и работа. Никто из них не поднялся в ней высоко, работали там, где прикажут, и делали — что скажут. Так как работа для них являлась неотъемлемой частью жизни, как, например, еда или сон, ею они не тяготились и не лезли в ней в передовики, но и не опускались низко. Работали — как работалось, а вечером шли домой и занимались своими делами. И так изо дня в день до первых праздников или других знаменательных событий.
Недавно у Нюрки опять состоялась свадьба. Жених, надувшийся за столом индюком, делал вид, что женится на ней, исходя из самых серьезных побуждений. У него были круглые навыкате глаза, толстая шея и похожий на клюв орла большой нос. Одет он был в новый, хорошо подогнанный к его полной фигуре костюм, зубы и портсигар у него были позолоченными. Звали его Георгием, и было заметно, что в нём течёт нерусская кровь. Когда его спросили, и сколько же стоит этот портсигар, он ответил:
— Дывести рубыл.
Нюрка от любви к этому Георгию, похоже, совсем обалдела. Она жалась к нему, как кошка к теплому камину, подкладывала ему в тарелку что повкуснее, а когда он обронил на пол вилку, она так бросилась за ней, что чуть не перевернула стол. А сам Георгий Нюрку называл мой Анэ и смотрел на неё, как кот на сметану, а когда его спросили, не помеха ли ему её дети, он ответил:
— Дэти — мой слабость.
Коротеня на свадьбе играл, пока не свалился со стула, а Бояриха так плясала, что звенела на столе посуда. Когда она пригласила в круг пенсионера Пряхина, и он не отказался:
— Эх, где наша не пропадала! — весело крикнул он и выдал таких кренделей, что никто их от него и не ожидал. Неповоротливый в трезвом состоянии, тут он гоголем заходил вокруг Боярихи, на когда пошёл вприсядку, не выдержали ноги и он, расстроенный, вернулся на своё место. А Бояриха, выбивая дроби, уже пела:
— Говорил матаня речи. Под столом мне ногу жал. Окрутил меня в тот вечер, А под утро убежал.И припевала:
— Оба-на, оба-на! Вся уха расхлёбана!Не выдержал, чтобы не выйти в круг, и Георгий.
— Генацвале, — крикнул он не свалившемуся ещё со стула Коротене, — лэзгинку!
Коротеня играть лезгинку умел, а Георгий, выждав нужный момент, так пошёл по кругу, что когда застриг вытянутыми на дыбки ногами, казалось, что ещё немного, и он взлетит в воздух. «Цхы!» — резал он этот воздух воображаемым в руке кинжалом, а потом, словно его укусили за пятки, запрыгал по кругу мячиком. За ним вышла и Нюрка. Не понимая, что танец грузинский, она по-русски, с прискоком и чуть ли не вприсядку пошла вокруг Георгия, а потом, словно и её укусили за пятки, запрыгала, как прыгают хохлы, когда танцуют гопака. Растерявшись, Коротеня перестал играть, а Георгий, похлопав Нюрку по плечу, сказал:
— Молодец, Анэ!
Потом пели песни. В веселых задавала тон Бояриха, а грустные запевала Вера Ивановна. Голос у неё был высокий и по-девичьи чистый, и когда она пела, казалось, стоит открыть дверь, и песня её вылетит на улицу, поднимется над посёлком, над его черепичными крышами, и улетит в небо. А когда доходили до песни «Сронила колечко», в которой Вера Ивановна, словно уже не пела, а рассказывала о несчастной женщине, покинувшей и детей, и мужа из-за любви к другому, Пряхин, от которого тоже когда-то ушла жена, шёл на кухню и там курил.
После песен шли разговоры. Бабы, сбившись в кучу, сначала тараторили каждая о своём, а потом переходили и к Нюркиной свадьбе.
— Нюр, ты этого черкеса держи! — советовала Бояриха и бросала в сторону Георгия: — У-у, глазищи-то выпучил! Того и гляди — зарежет!
— И черкесы — люди, — не соглашалась с ней Вера Ивановна.
А на Георгии уже сидел словоохотливый Николай. Похоже, он пытался доказать ему, что Колыма не хуже Грузии, но так проглатывал слова, что понять его было трудно.
— Зачэм нэ по-русски говорыш? — спрашивал его Георгий.
Расходились под утро. Нюрка, видимо, оттого, что всё так хорошо получилось, и теперь у неё начнется новая и не такая, как раньше, скучная жизнь, то смеялась, то плакала, а Георгий говорил:
— Мой её Капказ увезёт.
Бросил Нюрку Георгий через месяц. Оказывается, на Кавказе у него была своя семья, а на Колыму он приехал за легким рублем, и Нюрка у него была очередной подстилкой. Успокаивали Нюрку все.
— Чтоб у этого басурмана глазья повылазили! — грозила Бояриха кулаком в ту сторону, где, как ей казалось, находился Кавказ.
Вера Ивановна давала Нюрке успокоительные капли и вместе с ней плакала, а успевший уже где-то выпить Коротеня обещал Нюрке, что в первом же отпуске он найдет эту кавказскую суку и обязательно её зарежет. Зная, что в горе бывает полезно и выпить, Пряхин пришёл с бутылкой. Нюрка быстро опьянела и снова стала плакать. Принесли вторую, а потом Коротеня сбегал и за гармошкой. Разошлись в полночь и с песнями.
— Не жили хорошо — и не стоит начинать, — успокоил на прощанье Нюрку Пряхин.
Прошло лето, настала осень, и в одну из её ненастных ночей Пряхин умер. Деньги, что копил на похороны, он завещал Вере Ивановне. На них похоронили его, как положено, обмыли, обрядили в чистое, обили гроб красным шёлком, в мехцехе, где он работал кузнецом, из листового железа сварили красивый памятник, заказали оркестр. На похороны вызвали сына. Работал он в леспромхозе, и как писал отцу, зашибал там большие деньги. Ещё говорил Пряхин, что сын постоянно зовёт его к себе, но он не едет потому, что у сына своя семья, с которой и без него, старого Пряхина, ему забот хватает. Пряхину не очень верили. Сейчас, небритый и нетрезвый, с рыжим овином спутанных на голове волос, сын Пряхина был больше похож на спившегося бродягу. На гроб отца он упал грудью и, мотая над ним лохматой головой, застонал:
— Эх, папаня-а!
Выговорить он больше не мог, его, видимо, душило горе.
На кладбище, когда уже собирались опускать Пряхина в могилу, приехал директор прииска.
— Товарищи, — сказал он в прощальном слове, — сегодня мы провожаем в последний путь нашего дорогого Максима Петровича. И в общественной жизни, и за своим никогда не остывающим горном Максим Петрович для нас был примером для достойного подражания. Трудно поверить, что его уже нет, ещё труднее удержать слёзы, — вытер он глаза вытащенным из кармана платочком.
Закончить свою речь директор уже не мог.
— Эх, да что говорить! — махнул он бессильно рукой и, склонившись над гробом, тихо произнес: — Спи, наш дорогой товарищ.
Грянул оркестр, и Пряхина опустили в могилу. Бросив первым на его гроб горсть земли, директор уехал, а в толпе пошли разговоры:
— А директор-то, смотри, и нашего брата не забывает, — говорил Коротеня.
— И на похороны простого кузнеца время нашёл, — повторяла за ним заплаканная Бояриха.
А кто-то из толпы заметил:
— А что, и кузнец, братцы, — человек!
Ох, не знали они, что было утром в кабинете директора!
— Кадры! — скомандовал он своей секретарше.
Через минуту стояла перед ним кадровичка.
— Узнай-ка, милая, — попросил он её, — как звали Пряхина. — А когда она пошла поднимать свою картотеку, он бросил ей вслед: — Да посмотри, кем он у нас работал?
А поминки прошли хорошо. Выпили по сто пятьдесят граммов водки, закусили блинами, потом принесли рис с изюмом и жареную курицу. Все Пряхина поминали добрым словом, и никто, даже Коротеня, не напился. Правда, сын Пряхина был всё так же нетрезвым. Он плакал, как от зубной боли, мотал из стороны в сторону головой и, похоже, всё ещё не мог поверить, что его папаня умер.
— Ведь надо же — был и нету! — пьяно разводил он над столом руками.
Зимой в посёлке появилось телевидение. Первыми купили телевизор Вера Ивановна с Николаем. Теперь каждый вечер все собирались у них. Когда за окном под пятьдесят и от мороза спирает дыхание, у жарко натопленной печи, за столом с закусками и горячим чаем, да ещё и у голубого экрана телевизора жизнь кажется не такой уж и серой и беспросветной, и если на экране появляется диктор и рассказывает о последних событиях в стране и мире, то почему бы вместе с ним не порадоваться за чьи-то успехи, не посочувствовать тем, кому не повезло, не перенестись с этим диктором, например, в Африку, в какое-нибудь Конго, где от голода мрут дети, а взрослое население убивает друг друга. И уже кажется хорошо, что ты не в Конго, а здесь, на Колыме, где никто никого не убивает, а Лёвка, выполняющий сейчас уроки на кухне, не голодный и от бабушкиных пирожков уже воротит нос.
А вот и кино. Оно не наше, американское, и, наверное, поэтому каждый в нём видит своё. Бояриха в главном герое, с таким же, как у неё, длинным носом, видит прощелыгу, который в конце фильма себя покажет, Вера Ивановна видит в нём положительного человека, Нюрка — коварного обманщика, а Коротене, успевшему с Николаем пропустить на кухне полстакана водки, длинный нос героя кажется смешным, потому что, когда он целует свою девку, нос ему мешает, и он, кажется, готов его куда-нибудь спрятать, но не делает этого, потому что делать это при девке неудобно. Потом Коротене кажется, что у героя не только длинный нос, но и большие уши, и когда он ест, они у него шевелятся, а когда оказывается в постели и занимается со своей девкой любовью, они прыгают у него, как зайчики.
— Коротеня, проснись! — толкает его в бок Бояриха.
Едва не свалившись со стула, Коротеня открывает глаза и видит; что герой со своей девкой и на самом деле в постели, но уши у него не прыгают.
— Фигня какая-то! — говорит он и идёт на кухню, где его ждет Николай с недопитой бутылкой.
А Лёвка пыхтит над уроками. У него что-то не ладится, и он ждёт, когда Коротеня с Николаем допьют свою бутылку и дед сядет с ним за уроки. Когда на столе появляется новая бутылка, он идет в комнату, где смотрят телевизор, и жалуется:
— А деда водку пьёт.
Глубоко вздохнув, Вера Ивановна идёт на кухню.
— Николай, у тебя же сердце, — говорит она.
Но бутылки на столе уже нет, она спрятана под лавку, и Коротеня с Николаем делают вид, что заняты беседой. Когда Лёвка возвращается, Коротеня строго спрашивает:
— Лёвка, а почему это ты плохо учишься, а?
А Лёвка и на самом деле учится плохо. По арифметике и грамматике у него одни двойки, только по пению — хорошо.
— А он еще и поёт, — смеется Коротеня и советует Николаю Лёвку выпороть.
— Меня, помню, батя пока не опояшет, я и за книжку не садился, — сообщает он.
А Бояриха, всякий раз, когда уходит, гладит Лёвку по голове и говорит:
— Не будешь учиться, дураком станешь.
Защищает Лёвку одна Нюрка. По её мнению, во всем виноваты учителя.
— Дети-то не свои, — говорит она, — чужие, вот и ставят им двойки.
Лёвке это нравится, он благодарно смотрит на Нюрку, а когда она уходит, говорит Вере Ивановне:
— Баб, иди к нам в училки.
Весной, на пилораме, где Коротеня распускал на доски брёвна, ему отрезало кисть левой руки, и его отправили на пенсию по инвалидности. Сначала он упал духом, а потом взял себя в руки и виду, что ему плохо, не показывал. А вскоре к нему зачастила Нюрка.
— И картовки-то не почистит, — говорила она.
Потом она стала Коротеню обстирывать, убирать у него квартиру, а потом забрала его к себе. Свадьбу не играли: не молодые, да и сходятся-то не по любви, а по необходимости. Посидели, выпили немного, Коротеня попиликал одной рукой на гармошке, но никому под неё не пелось. Бояриха весь вечер сидела молча. Видимо, без Пряхина, с которым она иногда проводила вечера, жить ей стало скучно. Когда расходились, решили завтра сходить на его могилку.
Утро на следующий день выдалось солнечным, небо стояло чистым, и на кладбище уже пели птицы. Николай с Коротеней взялись поправлять могилку, Нюрка пошла собирать на неё цветы, а Вера Ивановна с Боярихой стали накрывать стол на расстеленной у могилки скатерти. Лёвка с Нюркиными ребятишками бегали за кладбищем, гоняли там бурундуков и ловили бабочек. Когда сели помянуть Пряхина, сначала поставили на его могилку рюмку водки и накрыли её кусочком хлеба, а потом уже выпили сами. О Пряхине говорили по-доброму, ведь в посёлке он никому не сделал зла, никого не обидел, ни о ком не сказал дурного слова. Помянув Пряхина, каждый стал думать о своём. Веру Ивановну и Николая беспокоил Лёвка, — как-то он осилит свою школу, — Нюрка думала, как поднять детей, Коротеня, научившийся шить унты и торбаса, надеялся, что на этом заработает, а Боярихе казалось, что уж в этом-то году сын обязательно приедет и заберёт её к себе.
Анна
Анну, казалось, вырубили из дерева, а её мужа, Диму, сложили из того, что от дерева осталось. Ростом Анна с хорошего мужика, лицо крупное, лоб крутой и прямоугольный, глаза круглые и мутные, как у стельной коровы. Ходит она тяжело, словно проваливаясь в землю, говорит мало и как в трубу, вставляя между твердыми согласными широкие гласные.
— Дымитрий, гыде мой халат? — гудит она по утрам из спальни.
У худого и лысого Димы подвижное, как у суслика, лицо, глаза навыкате, но невыразительные, он, кажется, не ходит, а прыгает, говорит, как вытягивает из дудочки мягкие мелодии.
— Аньюта, гиде мои штаны? — тянет он в эту дудочку утром из спальни.
— Быруки на комоде, — отвечает Анна из кухни, где готовит пирог с рыбой на завтрак.
Друг к другу они притерлись, как колеса к телеге, и живут мирно, душа в душу. После пирога с рыбой они расходятся по своим работам: Анна на шахтную погрузку, Дима — в снабсбытовскую контору. Есть у них сын, Петька, но в кого он, в мать или отца, сказать трудно. Он ещё ясельного возраста, а как известно, дети в этом возрасте похожи друг на друга, как вылупившиеся из яйца цыплята. Вечером, после работы, они катают его по посёлку в коляске. В упряжке Анна, вид у неё неприступный, как у старшины караульного взвода, а Дима прыгает вокруг коляски, как козлик: то отгоняет от Петьки комаров, то поправляет на нём одеяло. Потом он берёт Анну под руку и, подлаживая свой мелкий шаг под её широкий, становится похожим на солдатика, которому попасть в ногу со своим взводом никак не удается. В посёлке, где рожать своих Петек годами откладывают до возвращения на родные земли, их многие не понимают, а бабы, скрывая к Анне зависть, говорят: «Забрюхатеть-то и дура сможет».
Известно, что здоровые и полные люди часто добрее худых и хилых. Не была исключением из этого и Анна. При всём своём крупном сложении и крепком здоровье смотрела она на таких, как сама, с состраданием. И всё было бы хорошо, если бы сострадание к чужим бедам иногда не оборачивалось своей бедой.
Работало на шахте в то время много заключённых. Крепкие из них рубили в забое уголь, а к погрузке, где работала Анна, был прикреплён еврейчик Яша. За что такую жалкую фигурку, похожую на больного подростка, могли посадить, догадаться было невозможно, а поверить в то, что говорил сам Яша, было трудно. По-его выходило так. Стоял он в своем Житомире в очереди за селёдкой и, от нечего делать, скрутив десятку в трубочку, катал её в ладонях. Кто-то спросил его: «Яша, ты что делаешь?» Так как в очереди люди ничего не делают, а просто стоят, он ответил: «А дурака валяю». Его тут же схватили и увезли на житомирскую Лубянку. «Десятку катал?» — спросили его. «Катал», — ответил Яша. «Дурака валяю, говорил?» «Говорил». «Та-ак! — ударили на Лубянке по столу. — По-твоему выходит, что товарищ Ленин — дурак!» И показали Яше портрет Ленина на десятке. Яша схватился за голову и застонал, как от зубной боли. Дали ему десять лет, как в насмешку, за каждый рубль из злополучной десятки по году. «Скажу вам за это, — смеялся Яша, — и то хорошо, что не катал жид Яша в Житомире целых двадцать пять рублей».
На погрузке Яша занимался мелким ремонтом, топил печи и убирал мусор. В последнее время по его вялым, словно из-под палки, движениям, одышке и глубоко впавшим глазам было заметно, что он болен, а по тому, как у него загорались глаза, когда бабы на погрузке садились обедать, было видно, что он постоянно голодный. Вынести такое сердобольная Анна не могла. Тайком от баб, а главное, от лагерной охраны, которая брать что-либо у вольнонаёмных заключённым строго запрещала, она стала подкармливать Яшу. Однажды она принесла ему пирог с рыбой. Спрятавшись за печку, Яша набросился на него, как голодная собака. Глотал его, почти не разжёвывая, у него дёргалось лицо и дрожали руки, а когда озирался по сторонам, был похож уже не на голодную собаку, а на испуганного мышонка. И тут вдруг раскрылась дверь, и на пороге появился краснорожий сержант из охраны.
— А эт-та что такое?! — заорал он и, выхватив из рук Яши остатки пирога, бросил их на пол и растоптал сапогами. После этого он вернулся к Яше и отработанным приемом ударил его по лицу. Анна этого не вынесла. Подойдя к сержанту, она с размаху двинула ему в челюсть.
— А, падла! — закричал сержант и в ответ ударил её кулаком в грудь.
И тут под руку Анне попала кочерга. Получив удар кочергой по голове, сержант упал и, дрыгнув сапогами, потерял сознание.
Сержанта откачали в больнице, а Анне в суде дали три года.
Катает теперь по посёлку коляску с Петькой один Дима, а Анна катает вагонетки с глиной на зэковском кирзаводе.
Обида
В одну из летних ночей терапевт Кузьма Петрович Лодочкин находился на дежурстве в поселковой больнице. Было уже два часа ночи, но в одной из мужских палат не спали. Оттуда доносились весёлые голоса, прерываемые смехом, а в перерывах между ними звенела посуда. «Опять пьют», — понял Кузьма Петрович. Палата, по распоряжению главврача, была выделена для поселкового начальства, и сейчас в ней лежали завторгбазой Чемоданов, его заместитель Кузькин и председатель поссовета Хорев. Попали они сюда не от большой болезни, а после простуды, полученной на пьяной рыбалке. У Чемоданова после неё кололо в правом боку, у Кузькина — в левом, а у Хорева кружилась голова. После того, как отзвенела посуда, в палате пошли анекдоты. Все они шли из еврейского быта и поэтому были похожи друг на друга, как школьные сочинения, списанные с одной шпаргалки. «Ах, Абрам, и за какие это ви мине деньги говорите?» — ломался в еврейском акценте Кузькин. Так как все догадывались, что ответит Абрам Саре, палата не ожидая, что скажет сам Кузькин, взрывалась от хохота. «Вот шельма, — гудел сквозь него Чемоданов, — значит, так и сказал: за не из тех, что в моем кармане!» Раздавался новый взрыв хохота. После анекдотов в палате сели за карты. Раздавая их, Чемоданов пыхтел, как паровоз, а Хорев, когда проигрывал, всякий раз говорил: «Твоя взяла!» Перед сном все пошли в туалет. Шли по коридору строем: первым, деревянно переставляя ноги, шёл толстый Чемоданов, за ним, нога в ногу, шагал похожий на столб Хорев, а худой Кузькин, путаясь в своих шлепанцах, то отставал от строя, то тыкался в спину Хорева. Вернувшись таким же строем в палату, они успокоились, а Кузьма. Петрович, закрывшись в кабинете главврача, решил немного вздремнуть. Однако, провалявшись на диване с полчаса, он понял, что не уснет. Похожая на мышиную возню путаница мыслей давила голову, а тикающие над головой часы, казалось, отсчитывали не время, а ход чего-то потустороннего. Кузьма Петрович решил остановить раздражающие его часы, а когда поднявшись с дивана, сделал это, ему стало ещё хуже. В кабинете воцарилась тяжёлая, как в подвале, тишина, углы и стены кабинета, казалось, потемнели, и, наверное, поэтому стол главврача стал похож на саркофаг. «Как в склепе», — подумал Кузьма Петрович, и чтобы сбросить с себя мрачное настроение, подошёл к окну.
А за окном стояла белая ночь. Всё, что было видно из него, казалось призрачным и невесомым. Уходящие к горизонту дали растворялись в словно вытканной из ситца дымке, лес за посёлком был похож на затянутое моросью редколесье, дороги, уходящие в него, тонули там, как в вате, а сам посёлок казался бесцветным и невыразительным, как карандашный рисунок. Вид из окна совсем испортил настроение Кузьме Петровичу, на место мышиной возни мыслей пришло сознание тупой безысходности. Уже казалось, что и его жизнь, как и эта белая ночь, и бесцветна, и невыразительна. В прошлом, казалось ему, не было ничего яркого, всё шло само собой, а сейчас, когда пришла старость, кроме желания скорее уйти на пенсию, ничего не осталось. И он бы, наверное, ушёл, если бы этого так страстно не желали его сослуживцы. Главврачу, якобы за его несносный характер, он давно стоит поперек горла, метивший на его место фельдшер Кадашкин готов отправить Кузьму Петровича не только на пенсию, но подальше, где пенсия уже никому не нужна, а массажистка Домна Ивановна, которую он не раз ставил на место, не терпела его присутствия даже в одном помещении. «Ишь, чего захотели! — зло думал о них Кузьма Петрович.
В дверь кабинета, где находился Кузьма Петрович, постучали, и на пороге появился сторож больницы Ефим Мошин. «Тебя ещё не хватало!» — раздражённо подумал Кузьма Петрович. На грубом, словно сколоченном из дерева лице Мошина плавала нахальная улыбка, но входил он в кабинет с вкрадчивой, как у провинившегося кота, осторожностью. Таким он был постоянно, когда приходил, чтобы опохмелиться. Причина этого крылась в той роли, какую он играл в больнице. В ней он только числился в сторожах, на самом деле его использовали на мелких хозяйственных работах, без которых, как известно, ни одна больница не обходится: подметал двор, ремонтировал столы и стулья, чинил электропроводку, помогал патологоанатому Павлу Ивановичу в морге укладывать покойников в удобное для него положение. Когда он уходил в запой, для главврача это были чёрные дни. «Как хотите, — жаловался он на пятиминутках, — а без Мошина мы как без рук». Зная это, Мошин считал, что опохмелять его больница обязана и поэтому после запоя за очередной мензуркой спирта шёл с расплывшимся в наглую улыбку лицом, но, понимая, что в этом можно нарваться и на несговорчивого врача, делал это с вкрадчивой осторожностью. Не оставалось от неё и следа, как только он выпивал. Вся фигура его приобретала независимый вид, а тон, с которого начинал разговор, был развязным.
— Ну, и как живём? — спросил он Кузьму Петровича после того, как выпил.
Не получив ответа, Мошин сказал:
— Вот смотрю я на тебя, — (когда Мошин выпивал, он всем тыкал), — смотрю на тебя, — повторил он, закуривая, — и думаю: зачем это люди сидят по ночам в больнице и ничего не делают? Скажешь: а вдруг кто-то копыта станет отбрасывать? Ну, и что? Кому записано умереть, тому никто не поможет. — И вдруг, словно его пощекотали под рубахой, Мошин мелко хохотнул и продолжил: — Был у нас в лагере такой же, как ты — кожа да кости. И тоже — не ел, не спал, всё по ночам в больнице сидел. Для меня, говорит, больной — святое дело: себя положи, а его поставь на ноги. Ну, и что? Первым и скопытился. Утром пришли, а у него и голова набок. Вот тебе и святое дело! Не-е, — затушил в цветочном горшке папиросу Мошин, — кому что записано! Одному: живи — не хочу, другому — что козлу в чужом огороде: по рогам и в ящик! А потому сиди и не высовывайся. Без тебя обойдутся. Вот смотри, — снова хохотнул Мошин, — чего надо твоему Павлу Иванычу? Копается в покойниках, как в своем кармане, а зачем? А я, говорит, Ефим, причину смерти узнаю. Вдруг убийство совершилось, задушили кого, к примеру, жена мужа, а я по лёгким-то и вижу. Ну, что с дурака взять! — всплеснул руками Мошин. — Да ты сначала на жену свою посмотри! Курва она, гуляет с кем ни попадя, а ты — ни ухом, ни рылом. Выпьем это с ним, радуется: эх, Ефим, жена у меня — ну прямо, что надо! И ласковая, и красивая, хоть картину с неё пиши. Дурак ты, думаю, её пороть надо, а ты — картину!
Слушать Мошина Кузьме Петровичу было неприятно, и он был рад, что наконец-то пришло утро, и Мошину пора было уходить. Первым на работе появился главврач. Небольшого роста, с круглым, как у монгола, лицом, за стол он, казалось, не сел, а вкатился шариком.
— И как дежурство? — весело спросил он Кузьму Петровича. — Не устали?
И уже из-за стола, копаясь в бумагах, как бы между прочим, спросил:
— А как пенсионные дела? Оформляете?
За ним появилась Домна Ивановна. Она тяжело дышала, а когда стала натягивать на свою полную фигуру халат, никак не могла попасть в правый рукав, а когда попала, халат треснул. Заметив Кузьму Петровича, удивилась:
— И вы здесь?
С опозданием появился и Кадашкин. В раздёрганном виде и с помятым лицом, он был похож на человека, только что выскочившего их переполненного автобуса.
— А, коллега, как живем-здравствуем? — приветствовал он Кузьму Петровича, и, ловко накинув на себя халат, попросил: — Можно вас на пару минут?
Кузьма Петрович вышел с ним в коридор. В коридоре Кадашкин взял его за пуговицу пиджака, покрутил её в одну сторону, потом в другую и неожиданно спросил:
— Скажите, коллега, медсестра, что с вами сидит на приеме, Израилева, кажется, не из тех?
— Из каких не из тех? — не понял Кузьма Петрович.
— Да нет! Вы не подумайте, что я махровый антисемит, просто у меня на этот счёт свои принципы, — не ответил на вопрос Кузьмы Петровича Кадашкин. — А работать-то, — оставив его пуговицу, добавил он, — я могу хоть с чёртом.
«Во как! Уже и уволили! — зло думал Кузьма Петрович, выходя из больницы. — Ну, да мы еще посмотрим!»
Осенью Кузьме Петровичу исполнилось шестьдесят лет. На юбилей, с шампанским и подарками, нагрянули сослуживцы. Домна Ивановна, что не терпела Кузьму Петровича в одном помещении, здесь по поручению коллектива поднесла ему большой букет цветов, а главврач, которому он стоял поперёк горла, от имени этого коллектива зачитал поздравительный адрес. Читал он его с подъёмом и выразительно, а после фразы: «Для нас, дорогой Кузьма Петрович, работать с Вами и учиться у Вас большое счастье», — громко крякнул и зачем-то почесал затылок. После того, как выпили и закусили, слово взял фельдшер Кадашкин. Мастер на все речи: от свадебных до похоронных, теперь, надеясь, что уж после юбилея-то Кузьма Петрович обязательно уйдёт на пенсию, он превзошел самого себя.
— Посмотрите на нашего дорогого юбиляра! — начал свою речь Кадашкин. — Кто скажет, что перед нами шестидесятилетний старец?! Никто! Перед нами юноша, полный свежих сил, лучезарных надежд и неутомимой энергии! — А когда Кадашкин перешёл к характеристике профессионального облика Кузьмы Петровича, его словно чёрт ударил по затылку. Он вытянулся в палку и закричал: — Не-ет! Кузьма Петрович не рядовой медик, он выше! Только ему подвластны тайны медицинской науки, только он до глубины души предан своему делу, только он не щадит своих сил и не спит ночами, только он достоин; своего высокого призвания! Так пожелаем же этому талантливому труженику и. дальнейших творческих успехов, и больших радостей в жизни!
Раздались аплодисменты и возгласы: «Ура! Ура!»
— И ещё! — вздёрнулся по-новому Кадашкин. — Посмотрите, кто сидит с ним рядом, что это за дама, полная и божественной красоты, и ангельского обаяния. Ба! Да это же Анна Федуловна! — всплеснул руками Кадашкин.
Кузьма Петрович его не понял: рядом с ним сидела Анна Фёдоровна, но никакой Анны Федуловны рядом с ним не сидело. А Кадашкин продолжал:
— Вот она, верная спутница нашего юбиляра. Вот оно, то чудесное создание природы, которому мы обязаны его здоровьем. Счастья вам, дорогая Анна Федуловна! — закончил Кадашкин свою речь.
За жену Кузьма Петрович обиделся, а то, что говорили о нём, принял за тот вздор, какой всегда несут на юбилеях и всё было бы ничего, если бы Кузьма Петрович не был из той категории людей, которые в выпившем состоянии не терпят лжи и режут в глаза правду-матку. После первой рюмки, заметив весело беседующего с Домной Ивановной главврача, Кузьма Петрович подумал: «С чего это он крякал и чесал затылок, когда читал мой адрес?» И ещё вспомнил Кузьма Петрович, что, читая этот адрес, главврач нередко бросал на Кадашкина насмешливо-недоуменные взгляды, а когда закончил читать и сел за стол, сказал ему тихо: «Ну, ты и даешь!» Ясно, что адрес писал Кадашкин, а главврач к нему руки не прикладывал. После второй рюмки Кузьма Петрович вспомнил, за что массажистка Домна Ивановна не терпела его в одном помещении, а однажды пообещала посчитать ему рёбра. Эта корова посмела тогда сказать ему: «Вы хоть и терапевт, но носа передо мной не задирайте!» «Ах, так!» — не вынес этого Кузьма Петрович и, как всегда, поставил её на своё место. Вот тогда-то она и заявила: «Ну, попади ко мне, и посчитаю же я тебе рёбра!» После третьей рюмки Кузьма Петрович взял слово. Сначала, как и положено юбиляру, он поблагодарил всех за то, что не забыли старика, но когда дошёл до своей правды-матки, его словно ударили по голове. Главврача он обозвал прохвостом, Кадашкина — трепачом, а Домну Ивановну — хамелеонкой. В заключение он сказал, что пенсии его никто не дождётся, и работать в больнице он будет до самой смерти. Разошлись с юбилея, как с поминок.
Утром Кузьма Петрович почувствовал сильные боли в правом боку.
— Говорила, не пей, — рассердилась на него жена. — У тебя же больные почки.
К вечеру у Кузьмы Петровича поднялась температура, открылась рвота, и его положили в больницу. Оказался он в палате, расположенной рядом с той, где лежали Чемоданов, Кузькин и Хорев. До половины ночи Кузьма Петрович не мог уснуть. Как и раньше, за стеной громко смеялись, звенела посуда, рассказывали анекдоты и играли в карты. Когда Чемоданов, раздавая карты, хлопал ими по столу, Кузьме Петровичу казалось, что это его бьют по голове. Он хотел подняться и постучать в стену, но, опасаясь, что разбудит этим больных в палате, раздумал. Однако когда за стеной стихло, ему стало ещё хуже. С наступившей тишиной, казалось, он опустился на дно болота и там плавает в нём с ощущением свинцовой тяжести во всём теле. Потом его стала мучить тошнота. В скученной из двенадцати коек палате пахло потом, грязным бельём и гноем. От этого у Кузьмы Петровича кружилась голова, и то, что он видел перед собой, плыло, как в тумане. Непотушенная лампочка над головой плыла в сторону окна, а «Богатыри» Васнецова на стене уходили под потолок.
В десять утра начался врачебный обход. Делали его главврач и Кадашкин. Когда они подошли к кровати Кузьмы Петровича, главврач сухо спросил:
— На что жалуетесь, больной?
— В палате бы надо проветрить, — сказал Кузьма Петрович.
— Это мы знаем, — ответил главврач и приказал Кадашкину:
— Обследовать больного и назначить лечение.
— Слушаюсь! — ответил по-военному Кадашкин и, как показалось Кузьме Петровичу, даже пристукнул каблуками.
— И ещё, — попросил Кузьма Петрович, — уймите соседнюю палату. Спать никому не дают.
— И это мы знаем, — ответил главврач и направился с Кадашкиным к следующему больному.
«Значит, Кадашкин уже на моём месте», — понял Кузьма Петрович. Словно в подтверждение этого, следующему больному Кадашкин уже давал свои указания, а когда уходил с главврачом из палаты, было слышно, как сказал ему:
— Простите, коллега, за совет, но если подумать по-умному, то…
Что надумал Кадашкин по-умному, он унёс с собой за дверь.
На приём к Кадашкину Кузьма Петрович попал, отстояв длинную очередь.
— На что жалуетесь? — встретил его Кадашкин и, не выслушав до конца, сказал: — Всё понятно. Острый приступ уремии. — И, уже записывая что-то в его карту, добавил: — Вам надо бросить пить.
— Я не пью, — возмутился Кузьма Петрович.
— Все не пьют, — закончил прием Кадашкин и стал диктовать Израилевой рецепты. Делал он это с упором на латынь, а когда Израилева плохо её понимала, он возмущался: — Не понимаю, чему вас учили в институте!
«И я его терпел!» — зло думал Кузьма Петрович, возвращаясь в палату. В постели, укрывшись с головой одеялом, он старался забыть всё, с чем столкнулся сегодня в больнице. Но это ему не удавалось. Противные рожи главврача и Кадашкина прыгали перед глазами, а их надменное поведение и оскорбительные слова не выходили из головы. «Ну, погодите, — думал Кузьма Петрович, — выйду из больницы, я вам покажу! Вы у меня попрыгаете! Подхалима Кадашкина — из больницы вон! Уж это я устрою. Главврач? Я и с него спрошу. Почему это у тебя для начальства отдельная палата? А почему в ней пьют, как в кабаке? А почему в общих палатах задыхаются от вони? Да и наглого Мошина я поставлю на место. Хватит ему сшибать мензурки со спиртом и оговаривать врачей!»
Случаи на штольне
Проходка разведочной штольни шла плохо: не хватало аммонита, давило кровлю, но чаще всего выходил из строя вентилятор, и тогда в забое появлялся прораб горных работ, грузин Кухилава.
— Вай, какой пиль! — хватался он за голову, и лицо его, и без того сморщенное в постоянной заботе, собиралось в плаксивую гримасу. По-пингвиньи сунув нос в вентиляционный рукав и убедившись, что в нём нет струи, он бежал на вентилятор, а рабочие выходили из штольни на поверхность и курили.
Сегодня из неё вышли забойщик Басманов и его помощник Рябошапка. Было около десяти часов утра, поднявшееся над тайгой солнце уже хорошо прогревало землю, с Аргатаса, вскинувшего в небо белые от всё ещё нестаявшего снега отроги, тянуло освежающей прохладой, небо, словно омытое утренней росой, было чистым и прозрачным, ниже устья штольни весело звенел ручей. Однако Басманову с Рябошапкой сегодня было не до природы, вчера вечером в бараке между ними произошёл разговор, после которого у каждого осталось подозрение во взаимной неискренности. Басманов, согласившийся в немецком плену идти в разведшколу, готовившую диверсантов для заброски их в советский тыл, решил, что Рябошапка его в этом выдаст, а Рябошапка понял, что если он это не успеет сделать, Басманов, чтобы скрыть своё преступное прошлое, наверняка устроит ему несчастный случай в забое штольни. Когда над тобой висят многопудовые заколы, обрушить тебе их на голову ничего не стоит.
Курили они, сидя на корточках и прислонившись спиной к деревянной разделке устья штольни. Крупно сложенный Басманов в этом положении чувствовал себя неловко, поэтому иногда вставал и, разминая ноги, выходил на эстакаду, а когда кончил курить, затоптал окурок в землю и глухо спросил:
— Значит, заложишь?
— Хвёдор, — вскочил по-заячьи Рябошапка, — я когда-нибудь закладал?
— Кто знает, — угрюмо заметил Басманов и пошёл к ручью.
Там он ополоснул водой лицо, присел на попавшуюся под ноги корягу и, хотя от куренья у штольни во рту всё ещё было горько, снова закурил. Уверенности в том, что Рябошапка его не выдаст, у него не было. Ведь не зря ещё в немецком концлагере, где они сидели вместе, многие подозревали его в стукачестве и даже говорили, что к ним он переведён из другого концлагеря, в котором за стукачество ему уже грозила удавка. «И всё-то мне не везёт» — думал Басманов, сидя у ручья. Разведшколу, куда он пошёл с намерением сразу же, как забросят в советский тыл, сдаться своим, окончить ему не дали, и здесь мог ли он предположить, что судьба и после войны сведёт его с этим Рябошапкой?
А разведшколу Басманов не окончил, потому что не прошел психологической проверки у Генриха Крюгера. Случилось это так. На первом занятии Генрих всех предупредил: «Хотя я имею плохой русский язык, я очень хорошо понимайт тайный душа русский варвар». Потом он стал вызывать каждого курсанта в свой кабинет и, направив ему в лицо похожую на автомобильную фару лампу, задавал разные вопросы и всё что-то записывал в свой блокнотик. Басманов выдал себя, видимо, не на этих вопросах, а на том, что надо было повторить за Генрихом. «Сказай честно, — приказал он: — Я желаю драться з великий Германия». Когда Басманов это сказал, Генрих скривил в усмешке губы и что-то записал в свой блокнотик. Оторвавшись от блокнотика, он снова приказал: «Сказай честно: я желаю драться з варварский Советский Союз». После того, как Басманов и это сказал, Генрих вскочил на ноги, ударил кулаком по столу и крикнул: «Руссиш швайн!»
По дороге из разведшколы до лагеря конвоировал Басманова старый немец, похожий больше не на солдата, а на пивовара. Было ему уже явно за пятьдесят, и Басманова это не удивило: война шла к концу, и немец, видимо, был из тех, кто шёл по последнему запасу. Глаза у него были по-тюленьи вялыми, взятую поперек большого живота винтовку он нёс, как палку, и Басманову разоружить и пристукнуть его ничего не стоило. Сделал он это, как только они вошли в разрушенную бомбёжкой часть города. В ней же, питаясь тем, что доставал из-под обломков, он дождался взятия города советскими войсками. На допросе он показал, что бежал не из разведшколы, а из концлагеря. Разбираться с ним особо не стали, но на всякий случай отправили прямиком на Колыму, без права выезда в другие районы страны. Таким же порядком, но позже, сюда был направлен и Рябошапка. И вот опять они вместе, и кто знает, чем это теперь кончится.
Басманов понимал, что прямых доказательств стукачества Рябошапки в немецком плену у него нет, и поэтому взять его на этом он не сможет, а если Рябошапка заложит его с разведшколой, то это быстро проверят, а уж потом попробуй докажи, что шёл ты в неё с намерением сдаться своим. Не то сейчас время, чтобы верили на слово. Конечно, устроить в забое этому Рябошапке завал он сможет, но надо ли это делать: а вдруг он и не думает его закладывать? Не губить же человека по одному лишь подозрению. Когда Басманов, так ничего и не придумав, поднялся с коряги и, бросив окурок в ручей, собрался идти к штольне, за спиной он услышал шаги. Обернувшись, он увидел Кухилаву. Лицо Кухилавы уже не морщилось в плаксивой гримасе, наоборот, на нём светилась улыбка, а вытерев о траву вымазанные в солидоле руки, он весело сказал:
— Всё, Басман, пиль больше нэт! Кухилава вентилятор зделал!
И, присев на корягу, где только что сидел Басманов, закурил.
«А не рассказать ли всё ему? — мелькнула мысль у Басманова. — Может, он подскажет, что делать?» Кухилаву он знал уже около года и за это время убедился, что на него в любом деле можно положиться. Как и Басманов, он был из бывших военнопленных и тоже числился в невыездниках. Отослав Рябошапку в забой заряжать шпуры, Басманов сел рядом с Кухилавой и сказал:
— Поговорить надо.
— Говоры, — рассмеялся Кухилава, — язык разминка любыт.
— Не до разминки, — вздохнул Басманов, — дело серьезное. Только тебе и откроюсь. Ну, а выдашь — бог тебе судья.
— Я видам?! — вскочил, как ужаленный, Кухилава. — Я видам?! Ты зачем обижаешь грузын? А? Грузын в войну бил предател? Бил? Назови хоть один грузин предател! — и немного успокоившись, добавил: — Хохла предател бил, прибалта — бил, грузын никогда предател нэ бил!
Выслушав Басманова, Кухилава сказал:
— Э-э, дорогой, Рябошапкин проверка надо.
— Какая проверка? — не понял Басманов.
— Мой знает, какой проверка, — ответил Кухилава и, немного подумав, сказал: — Все стукач — болшой трус.
Потом он спросил, в каком лагере, где и когда сидел Басманов вместе с Рябошапкой, и были ли у них в то время показательные расстрелы военнопленных.
— Были, — ответил Басманов, — замполита Григорьева расстреляли. На плацу. За то, что уговаривал военнопленных на побег. Наверняка, кто-то выдал его. Может, и Рябошапка, разве сейчас узнаешь.
— Хар-рашо! — потёр руки Кухилава.
— И ещё, — вспомнил Басманов, — когда Григорьева поставили к стенке, он на кого-то из военнопленных показал рукой и громко крикнул: «Убейте эту падлу! Она меня выдала!» На плацу нас было много, и узнать — где стоит эта падла, было невозможно.
— Очень хар-рашо! — как будто обрадовался и этому Кухилава.
Вскоре из штольни вышел Рябошапка.
— Шпуры заряжены, — сообщил он.
— Эй, друг, иди-ка сюда! — позвал его ласково Кухилава. — Разговор, туда-сюда, имеем!
Когда Рябошапка подошел к ним, Кухилава внимательно посмотрел на него, потом, подойдя сзади, снял с него шапку и осмотрел ему голову и уши, и неожиданно, уже обращаясь к Басманову, сказал:
— А ведь эта он!
— Кто — он? — вздрогнул Рябошапка.
— А та падла, что заложила замполит Григорьев, — ответил ему Кухилава.
— Какой Григорьев? Никакого Григорьева я не знаю! — вскричал Рябошапка.
— Басман, я же за этим стукач стоял, когда Григорьев крикнул: «Убейте этот падла!» Он тогда морда от людей прятал, а я видел, — и ещё раз зайдя к Рябошапке сзади, сказал: — И голова — тот, и уши они. Не-ет, Рябошапкин, грузын не обманешь, грузын всё помнит.
— Да не знаю я никакого Григорьева, — закричал уже в испуге Рябошапка.
— Басман, и ты не знаешь Григорьев? — спросил Кухилава.
— Знаю, расстреляли его, — ответил Басманов.
— Ай-я-яй! — схватился за голову Кухилава. — Басман знай, я знай, а Рябошапкин не знай! Как это? А?
Припёртый в угол, Рябошапка крикнул Кухилаве;
— А докажь! Докажь, что я, а не другой морду прятал!
— Выходит, помнишь, Рябошапкин, как Григорьев стреляли. И морда, помнишь, как прятал, — тихо сказал Кухилава и, не прощаясь, ушёл со штольни.
А Басманов и Рябошапка пошли в забой. Вечером Басманов возвращался в барак один. Вскоре после того, как ушёл Кухилава, Рябошапка, сославшись на то, что у него разболелся живот, вышел из штольни и скрылся в тайге.
В ресторане
Выйдя на пенсию, старший бухгалтер Губин стал никому не нужен и потому потерял интерес к жизни. Не отличавшийся и до пенсии ни здоровьем, ни внешним видом, теперь он похудел и осунулся, а на плохую погоду его мучил ревматизм. И если говорят, что старость — не радость, потому что она больна и у неё нет будущего, то для Губина это была только половина горькой правды, вторая, не менее горькая её половина терзала и мучила его, когда он возвращался в своё прошлое. Вся прошлая жизнь казалась ему уже не жизнью, а сценой провинциального театра, в котором он играл роли, не свойственные ни его натуре, ни его способностям. По натуре — тихий и безвольный, выдавал он себя за человека с ярким и сильным характером, способности его были небольшие, а ломал он из себя неординарную личность. Думал ли кто, что он и на самом деле человек неординарный, Губин не знал, так как занятый только собой, других не замечал, а верил ли он в это сам, — кто знает — ведь посмотреть на себя со стороны и по-настоящему оценить — кто ты, наверное, никому не дано. Не сомневался Губин в одном: жена в него не верила.
— Ты хоть передо мной-то не ломайся, — говорила она часто.
Жену Губин не любил, считал её недалёкой и поэтому не обращал на неё внимания. Теперь, когда всё позади, и нет уже ни придуманного им театра, ни жены, и сидит он в дешёвом ресторане с пожелтевшими обоями и потрескавшимся потолком, у Губина не выходит из головы, что жизнь он свою по-дурацки и просто так, ни за что, профукал. «Иначе не сидел бы в таком ресторане», — казнит он себя.
Видимо, подумав об этом, он выразил что-то и вслух, потому что перед ним вырос официант и тоном университетского профессора, которому бездарные студенты уже надоели, как горькая редька, сказал:
— Я слушаю вас.
— Мне бы салатик и рюмку водки, — попросил Губин.
— С салатом водку не подаем, — обрезал официант.
— А с чем? — несмело решил узнать Губин.
Брыкнув, как молодая лошадь, ногами, официант повернулся к нему задом и крикнул швейцару:
— Порфирий, сколько можно говорить: таких, как он, в ресторан не пускать!
Губина бросило в жар, потом ему показалось, что его окатили холодной водой, а когда заметил, что все, кто были в ресторане, смотрят на него с нескрываемой усмешкой, он почувствовал себя загнанным в узкую клетку, выбраться из которой можно только боком. Наверное, так бы он и сделал: вышел из ресторана, натыкаясь на столы, если бы не выручил по-бычьи сложенный мужик с соседнего столика.
— Эй ты, харя! — крикнул он вслед вихляющему задом официанту. — За что керю обидел?!
Когда официант не обратил и на него внимания, он выругался, выпил рюмку водки, не торопясь, закурил, и уже потом объяснил Губину.
— Запомни раз и навсегда, — сказал он, — в этой рыгаловке водку без горячих блюдов не дают!
Когда Губин окончательно пришёл в себя, его разобрала злость на официанта. «Да как он смел? — дрожало всё у него внутри. — Или я ему уличный мальчишка?!» И вспомнив, что у него в кармане двести сестриных рублей, он решил показать себя.
— Официант! — крикнул он и зло топнул под столом ногой.
Через час Губин был под хорошим градусом, от неоднократных заказов горячих блюд у него ломился стол, похожий на профессора официант носился от его столика на кухню и обратно скаковой лошадью. Но Губину этого уже было мало. Забыв, что недавно ругал свою жизнь за её дешевую театральность, он стал ломаться перед соседями по столику в роли незаурядной личности.
— Извините, — взял он за локоть пучеглазого соседа справа, — вы, случаем, не учёный?
— Случайно, я — не учёный, — спрятал под стол сосед локоть.
— А жаль! — не понял его Губин. — Поговорили бы!
И потянулся снова к его локтю.
— Вы мене локоть-то оставьте, — с еврейским акцентом попросил недовольный сосед и сделал вид, что занят курицей.
В разговор вмешивается сидящая напротив Губина толстая дама. У неё жирные губы и смеющееся лицо.
— Простите, — обращается она к Губину. — А вы что, учёный?
— Да как вам сказать, — мнётся Губин. — Нынче ведь куда ни плюнь — всё в учёного. — А освободившись от напускной скромности, сообщает: — Доктор наук, к вашим услугам.
— И каких? — смеётся дама.
Заметив, что дама не из простых и, ляпнув не то, с ней можно попасть впросак, Губин осторожничает.
— А разных! — смеётся и он, но, видимо, сообразив, что шутовской тон для учёного не годится, спрашивает:
— Простите, а вы в Гонолулу не бывали?
— В Гонолуле? — поправляет его дама. — Нет. А что у вас в этой Гонолуле?
Откинувшись на спинку стула и заложив ногу на ногу, Губин сообщает:
— О-о, и не спрашивайте! Ежегодные командировки, научные изыскания. В основном, по семейству разнокрылых.
— Выходит, вы — доктор разных наук и специализируетесь по разнокрылым, — уже ехидничает дама.
Губин, знавший в жизни только себя и не видевший поэтому других, ехидства её не замечает. Он даже пытается показать свою науку о разнокрылых в занимательном виде. Для этого поднимает в локтях руки и машет ими, как крыльями, на уровне плеч. Дама этого не выдерживает. Она прыскает от смеха, толкает в бок пучеглазого соседа и спрашивает:
— Ёсик, ты когда-нибудь такое видел?
Ёсик молчит.
После разнокрылых, извинившись перед дамой, Губин идет в туалет. Перед входом в него он с бесцеремонной фамильярностью бьет швейцара по плечу и говорит:
— Уж извиняй, брат Порфирий, подвёл я тебя!
И подавая ему небрежно вынутую десятирублевку, добавляет:
— Порядки и мы знаем!
А когда выходит из туалета, подмигивает ему уже как старому знакомому.
А в ресторане уже музыка: бренчит расстроенное пианино, плачет старый саксофон и ухают барабаны. Губин, в отличие от других, заказывает классическое.
— Простите, — объясняет он толстой даме, — классика — моя слабость. — И спрашивает: — А как вы её находите?
Дама смеётся, говорит, что классику она никогда не теряла, но Ёсик приставания Губина к даме уже не выносит.
— Вы перестаньте приставать к неизвестному вам человеку. Это же, — швыряет он салфетку на стол, — не вытерпливает никаких пределов!
— Ёсик, — успокаивает его дама, — не сердись! Он такой забавный!
Когда дама со своим сердитым Ёсиком уходит, Губин остается один, и его охватывает чувство, какое испытывают артисты, когда они с большим сожалением расстаются со зрителем после удачно сыгранного спектакля. Увидев по-бычьи сложенного мужика за соседним столиком, он подходит к нему, вежливо отвешивает ему поклон и говорит:
— Примите мою искреннюю признательность за любезно оказанное содействие по части хамского поведения официанта.
Мужик пьян и Губина не узнает.
— А ну, кати отседа! — мычит он и хватается за вилку.
«Хам!» — решает Губин и возвращается к своему столу.
За столом он выпивает водки, но она его не успокаивает, наоборот, толкает на неодолимое желание показать себя снова в чём-нибудь ещё. Когда оркестр ударил по залу «Лезгинкой», и, словно подхваченные ветром, грузины кинулись по кругу, в хвост им пристроился Губин. Как и они, он стал стричь пол ногами, гортанно цхыкать и резать воздух воображаемым в руке кинжалом. В зале над ним смеялись, но он этого не замечал, а когда грузины сели за свой стол, он сел с ними, крикнул: «Да здравствуют генацвале!» и выпил чужую рюмку водки. Грузины этого не потерпели. Один из них с длинноклювым носом и толстыми усами вывел его из-за стола и сказал: «Дарагой, у тебя свой компания, у нас свой. Катай отсюда!» «И они — хамы! — рассердился Губин. — Пора бы их уже гнать из наших ресторанов».
Теперь настроение у Губина за своим столом уже плохое. Ему кажется, что в ресторане кругом хамы, и поэтому поговорить ему не с кем. Увидев, как смотрит на него усатый офицер с неподалеку расположенного столика, Губин решает: «И он хам!» И как это часто бывает с теми, у кого плохое настроение, он замечает то, что при хорошем настроении никогда бы и не заметил. Он снова видит и пожелтевшие в ресторане обои, и его потрескавшийся потолок, а когда до него доходит, что и за это, а не только за водку и закуску, только что отвалил официанту уйму сестриных денег, он готов убить и себя, и этого официанта, и всех, кто подвернется под руку. «А ведь всё началось с него, с этого хама, — вспомнил Губин, — он отказался принести водку с салатом». И тут его нервы не выдерживают.
— Официант! — кричит он и бьет кулаком по столу. Когда официант появляется, он приказывает: — Салат и рюмку водки!
Так как по ресторанным порядкам рассчитавшийся клиент при новом заказе считался, как вновь обслуживаемый, официант ответил:
— С салатом водку не подаем.
Всё! Для Губина это последний удар!
— А, гад! — кричит он и опрокидывает на официанта стол.
Ему крутят руки, он вырывается и кричит:
— Хамы! Все хамы!
А когда его ведут из ресторана, злость на всех сменяется жалостью к себе, и он плачет. За что его так?! Почему за него никто не заступается? У выхода из ресторана он оборачивается к залу и выкрикивает:
— Эх, вы! А ещё люди!
Тяжелая встреча
У реки встретились двое: врач районной санэпидстанции Николай Иванович Морозов и сторож совхозной свинофермы Ефим Колюжный. Раньше они знакомы не были, встретились случайно, на рыбалке, и сейчас, с наступлением ночи, решили заночевать вместе у костра. Из леса несло гарью недавно прошедшего пожара, с реки тянуло сыростью, луна, застрявшая в стоящей рядом корявой лиственнице, казалась тяжелой и неповоротливой. В отблесках костра худой с желтушным лицом Николай Иванович выглядел старше своих пятидесяти лет, а сколько лет Колюжному, определить было трудно. Мешало этому непроницаемое, словно скрытое деревянной маской лицо. Был он неповоротлив, с толстым, как у бабы, задом.
— Вот я и говорю, — продолжил разговор Колюжный, — каждому — что записано. Одному: живи — не хочу, другому: по рогам — и в ящик. И потому, скажу тебе так: если ты никто, гнида, сиди и не высовывайся, ну, а вылез в люди — гуляй, Вася. Вот возьми меня, — закурил Колюжный, — всё прошёл, и Крым, и Нарым, и медные трубы. И ничего: живу, и не плохо, дай бог каждому. Почему, спросишь. А потому, скажу тебе, что знал я своё место в жизни.
Голос у Колюжного был грубым, казалось, он не говорит, а вытягивает из горла ржавые канаты.
— Был у нас в лагере, — продолжал он, — вот как ты: кожа да кости. А нет! Подавай ему своё! Я, говорит, политический, и вы не имеете права со мной так обращаться. Ах, по-свински! — узнал начальник лагеря. Ну, ладно. А начальник, скажу тебе, оторви да брось, я у него на дому печки топил. Бывало, напьётся, ружьё в руки и кричит: Ефим, бросай! Это петушка, значит. Ему этих петушков заключённые специально в лагере выращивали. Ну, понятно, бросишь петушка, а он трах — и готово! Молодец, говорит, Ефим, хорошо петушков бросаешь! У других это не получается, а у тебя получается. А я что делал, — хохотнул Ефим, — перед тем, как бросить петушка, я ему гвоздик в гузку. Ну а с гвоздиком-то, не захочешь, да взовьешься. Ну, ладно! Вызывает это он к себе того, политического, ну, пьяный, конечно, и приказывает: бросай петушка! А тот: я не холуй! Ах, не холуй! Тогда получай! Вывели его вечером за ворота лагеря, — бедный, и идти-то сам не мог, понимал, куда ведут, — и всё: был политическим, стал покойником, — закончил рассказ Колюжный.
«Где-то я его видел», — думал Николай Иванович, слушая Колюжного. И лицо, похожее на деревянную маску, и этот грубый голос напоминали ему что-то далёкое и словно вынесенное из тяжёлого сна.
— А вот ещё случай, — закурив, продолжил Колюжный. — Это уже на Мальдяке. Начальник лагеря, ой, и курва был! Плохое, говоришь, питание? Накормит селёдкой и на два дня без воды. В бараке дуб? На три дня в холодный карцер. Попрыгаешь — согреешься. И ведь знал, курва, кто чем дышит. Хитришь? В карцер на солёную воду. Шибко горячий? В холодный карцер и на десять суток. Гордый? Уборные чистить! И попади это ему один раз на глаза Хаббидулин. Замухрышка, скажу тебе, плюнуть не на что! Мы его Махметкой звали. Ах, аллаху молишься! — увидел начальник. Ну, так я покажу тебе аллаха! В карцер! В холодный! А Махметка, — что с татарина взять, — выйдет из него и опять бух на колени и башкой об пол. Ах, ты еще и гордый?! На уборные! А Махметке и это нипочем. Моя аллах, говорит, самый балшой нашалнык. А дальше — комедия! Вызывает начальник его к себе, сует ему в нос шматок свиного сала и приказывает: «Жри, падла!» А татарину, понятно, свинина — что тебе лягушка. И — что с дурака взять, — сам жри, собак! — кричит ему Махметка. Ну, понятно, начальник за наган и — нет Махметки.
Колюжный бросил окурок в костёр, сплюнул в сторону и, видимо, собираясь рассказать что-то ещё, рассмеялся и ржаво прогудел:
— Гы-ы, комедия!
«Вспомнил!» — ударило в голову Николаю Ивановичу. Это — «гы-ы, комедия» он слышал от Колюжного на Мальдяке.
Да, вот он, этот Мальдяк… Заколюченный в три ряда лагерь, сугробы синего под ночным небом снега, из окна больницы, где он дежурит, край морга, а дальше, за колючей проволокой, лес, за ним голая наверху сопка, и небо; оно тёмное, как траурное покрывало, и всё в белых звездах, и большая, чуть не в полсопки луна, она холодная и похожа на грубо отесанную под шар ледяную глыбу. А в больнице, в палатах, стиснутые грязными стенами и тяжёлым потолком кровати с жёлтыми лицами больных, запах грязного белья, пота и гноя, стоны, бред, и только в одной палате, для безнадёжных, тихо, как в морге. В ней лежат обречённые на скорую смерть, бороться за жизнь у них нет уже ни сил, ни желания.
В полночь стучат в дверь. Заходят два санитара из морга с носилками и лейтенант, в руках которого аккуратная, в дерматиновом переплете тетрадка. Идут в палату обречённых. Лейтенант по тетрадке сверяет лагерные номера больных, а санитары укладывают на носилки крайнего от двери больного. «Что вы делаете?! — кричит Николай Иванович. — Они же ещё живые!» «Только де-юре, — щеголяет знанием латыни лейтенант, — а постфактум, гражданин Морозов, они покойники». Когда все больные были снесены в морг, лейтенант приказал: «Наведите порядок в палате. Завтра поступает новая партия». «Ах, вот оно что! — понял Николай Иванович. — В больнице не хватает мест. Решили освободиться от безнадёжных». Распорядившись об уборке палаты, Николай Иванович пошёл в морг. Там он чуть не потерял сознание. Санитары деревянными колотушками разбивали головы больным. Всё было, как в страшном сне.
Под низким потолком с жёлтой лампочкой глухие удары колотушек следовали один за другим, не сразу добитые стонали, до кого дошла очередь, просили пощады. Один из обречённых пытался броситься на санитара, но у него не хватило сил, и он, уткнувшись головой в пол, заплакал. Санитар ударил его по затылку колотушкой и, рассмеявшись, прогудел; «Гы-ы, комедия!» Это и был Колюжный.
— Я тебя спрашиваю, — прервал лагерные воспоминания Николая Ивановича Колюжный, — ты чего молчишь?
— А ведь я тебя, гада, вспомнил! — зло ответил ему Николай Иванович и стал укладывать в рюкзак рыболовные снасти.
— Ты чего? — не понял его Колюжный, а когда понял, что Николай Иванович собирается уходить, прогудел: — Гы-ы! Комедия!
По тропе, ведущей в посёлок, Николай Иванович, кажется, не шёл, а бежал. В голове гудело, как в колоколе, перед глазами стоял освещённый жёлтой лампочкой морг, в ушах стучали колотушки, разбивающие головы больным.
Дом на Кондратихе
Говорят, срубил этот дом какой-то Кондрат, а зачем — никто уже не знал. Не было тогда здесь никаких промыслов, не посещали эти места якуты, никто не искал здесь золота, а дом, словно наперекор этому, был пятистенным, из толстой лиственницы, с тесовой, украшенной резным коньком, крышей и высокими окнами. Срублен он был на пологом берегу небольшого озера среди кустарникового подлеска. За ним стеной возвышались тополя и лиственницы. Говорят, после смерти Кондрата в доме ещё долго жила его жена, которую все, кто заезжал сюда из тайги, звали Кондратихой, а когда умерла и она, прозвище по мужу осталось в названии озера. Ещё при ней за домом на пригорке сначала обосновался какой-то многодетный якут, а потом, на скорую руку соорудив времянки, перебрались сюда лесорубы. Лесоповал у них затянулся на годы, и времянки выросли в посёлок с одной улицей и продуктовой лавкой. Улица была кривой и узкой, не было на ней ни отсыпанной дороги, ни тротуара, а времянки с годами так одряхлели, что, казалось, ещё немного, и они развалятся. А дом Кондрата, хотя и осел уже в землю, по сравнению с ними выглядел барской усадьбой. Когда кто-то впервые приезжал в посёлок и, пройдя по его кривой улице, выходил к этому дому, всегда удивлялся: а это ещё откуда? Так как дом стоял от посёлка на отшибе и не вписывался в его улицу, ему не дали и номера, и, видимо, поэтому он обрёл собственное имя — дом на Кондратихе.
С тех пор, как умерла жена Кондрата, в доме этом никто не жил. И дело не в том, что отопить такую громадину зимой было трудно, отталкивал он всех дурными о себе слухами. Говорили, что умер Кондрат не своей смертью, а его убила Кондратиха со своим полюбовником, и там, где сейчас его могила, на самом деле в ней никого нет, так как тело убитого Кондрата полюбовник сбросил в озеро. Сам он после этого стал много пить и допился до того, что в этом озере утонул. Одни говорили, что утонул он в нём по-пьянке, другие — потому, что его совесть замучила. Что было на самом деле, да и вообще, убивала ли Кондратиха с этим полюбовником своего мужа — никто толком не знал. Одно было известно: умирала Кондратиха, как все убийцы, тяжело. Опухшая от водянки и изъеденная какой-то язвой, перед смертью она так кричала, что хоть уши затыкай и убегай из дому, а когда уже совсем отходила, просила прощения у своего покойного Кондрата. Похоронили её впритык с его могилой. Однако копавшие могилу поселковые мужики говорили, что гроба Кондрата они в ней не видели, хотя по их расчетам, если бы Кондрат в могиле лежал, они бы на него обязательно наткнулись. Верить им было трудно: могилу они брали на пожог и были сильно пьяными, поэтому сжечь гроб и кости Кондрата и не заметить, как выкинули их вместе с землей, им ничего не стоило.
Слухи о том, что Кондрат умер не своей смертью, усилились, когда в дом вселилась Анна Ивановна по фамилии Ломидзе, сосланная в посёлок за мужа. Сначала стали замечать, что свет у неё по ночам горит не в одном окне, а сразу во всех, и за ними ходят какие-то похожие на привидения тени. Потом стали говорить, что всякий раз в полночь кто-то выходит на крыльцо, тяжело на нём вздыхает и долго курит. Так как Анна Ивановна не курила и жечь по ночам во всех окнах свет ей было ни к чему, по посёлку пошли слухи, что делает это не она, а поднявшийся из озера покойный Кондрат. Даже видели, как он выходил из него в белых кальсонах. Поселковые бабы в это верили. «А все покойники ходят в белых кальсонах», — говорили они. Мужики в это верили мало, но таинственности от этого вокруг дома на Кондратихе меньше не становилось. Ведь и они думали: так это или не так, мы не знаем, но, как говорится, дыма без огня не бывает.
А Анна Ивановна вела замкнутый образ жизни и в посёлке появлялась только за тем, чтобы взять продуктов в лавке. Была она низкого роста, плотная и с большой копной седых волос на голове. Оттого, что волосы были не причёсаны и по голове разбросаны как попало, а лицо у Анны Ивановны было грубым и с глубоко впавшими глазами, она была похожа на ведьму. Продуктов она набирала всегда много, и о ней уже говорили: «Эту торбу ещё и прокормить надо!» А другие смеялись: «Это она привиденьев кормит!» Говорили также, что муж у неё был большим военным начальником, в войну командовал полком, а когда война закончилась, он где-то сказал не то, что надо, и, как это тогда было положено, ему дали пятнадцать лет колымских лагерей, а Анну Ивановну за него сослали.
Слухи о привидениях в доме на Кондратихе, наверное, продолжались бы долго, если бы в это дело не вмешался Валька Щиблетов. На материке он ходил в комсомольских секретарях какого-то большого завода, а когда его из этих секретарей турнули, он приехал на Колыму и на ней быстро спился. Здесь, на лесоповале его держали, потому что других, непьющих, на нём не было. А побудил его вмешаться в это дело, видимо ещё не совсем потухший в нём комсомольский зуд. «Я покажу им привидения!» — решил он однажды и, не долго думая, прокрался ночью к окну дома на Кондратихе. Вместо привидений за окном он увидел трех здоровых мужчин, сидящих за столом, похоже, над какой-то картой. Один из них, широкоплечий, похожий на грузина, тыкал в неё пальцем и что-то быстро говорил. Другие, слушая его, согласно кивали головами. В углу комнаты, где они сидели. Валька заметил два стоящих вверх дулом автомата. «Да это ж беглые!» — обожгла его догадка. Тихо, так, чтобы ничего не хрустнуло под ногами, он выбрался со двора и бросился в посёлок.
Дома Валька долго не мог прийти в себя. «Вот тебе и привидения!» — стучало у него в голове. А когда он успокоился, то вспомнил, что после того, как Анна Ивановна Ломидзе вселилась в дом на Кондратихе, из недалеко расположенного лагеря был совершён дерзкий побег трех заключённых. Ночью они прокрались в караульное помещение, разоружили охрану и, прихватив с собой два автомата и пистолет, скрылись в тайге. «Конечно, это они!» — понял Валька и стал думать: что делать? Донести властям? Можно, конечно, если они уголовники. А если политические? Так как у Вальки ещё не прошла злость на комсомол за то, что его он из своих рядов вытурнул, вопрос: надо ли сдавать властям политических, мучил его до утра. Днём он пил, а вечером не вытерпел: проболтался корешу. Проболтался не потому, что решил выдать властям беглых, а просто так, без всякого умысла. Ведь удержать язык за зубами, когда он сильно чешется, дано не каждому, а уж Вальке, язык которого на комсомольской работе никогда за зубами не держался, тем более. Вскоре о том, что Анна Ивановна укрывает трех беглых, знал весь посёлок, а через три дня на вездеходе в посёлок нагрянули эмвэдэшники.
Бой у дома на Кондратихе шёл сутки. Сначала он был вялым. Пристреливаясь, эмвэдэшники из своих укрытий не высовывались. Видимо, чтобы ускорить дело, капитан, командовавший ими, выдал всем спирту. Пьяные, они бросились в атаку, но тут же, оставив троих убитыми, отпрянули. Во время атаки впереди, с пистолетом в руках, бежал капитан. Он страшно матерился, а когда получил пулю, неловко взмахнул руками и упал лицом в землю. Наконец, эмвэдэшникам удалось прокрасться к дому с той стороны, где не было окон, и поджечь его. Из горящего дома вышли похожий на грузина мужчина и Анна Ивановна. Когда их окружили, мужчина вытащил из кармана пистолет и выстрелил себе в голову, а Анна Ивановна бросилась на эмвэдэшников и закричала: «Стреляйте, гады! Стреляйте!» Стрелять в неё никто не стал. Тогда она вернулась к застрелившему себя мужчине, упала ему на грудь и стала плакать. При этом она гладила его лицо и все повторяла: «Гриша! Гриша!»
Забрав Анну Ивановну, эмвэдэшники уехали, а вскоре в посёлке стало известно: застреливший себя мужчина был её мужем.
В колесе жизни
I
Когда развалился прииск Отрожный, все кто мог, разбежались в поисках нового места работы. Остались Егор Толмачёв, работавший раньше начальником участка, бывший ссыльный Калашников, где и кем только не работавший Фестивальный, безродная баба Уля, дурочка Ганя и ещё несколько человек, которым податься было некуда. Посёлок отключили от электричества и центрального отопления, закрылись почта и баня, магазин перенесли в районный посёлок, добраться до которого летом можно было по реке, а с наступлением холодов — по зимнику.
Жили, кто как может. Егор Толмачёв держал теплицу, в которой выращивал огурцы и помидоры, промышлял на реке рыбой, а в тайге оленями, Калашников и баба Уля жили пенсией. Фестивальный, отоварившись в кредит в районе, завозил на всех, с расчётом и на зиму, продукты и одежду, а потом брал за них хорошие деньги. Другие жили бог знает чем. Одни, видимо, доедали оставшиеся от коммунистов запасы, другие прилавливали в реке рыбу, собирали в тайге ягоды и грибы, бичи, обосновавшись в брошенной школе, ели бродячих собак, дурочка Ганя побиралась.
Уютный, похожий раньше со стороны реки на дачную усадьбу, посёлок обветшал и уже, казалось, осел в землю. Сложенный из крупноблочного камня и красного кирпича Дом культуры стал похож на развалившуюся крепость, за выбитыми окнами в коммунальных домах, казалось, прячется что-то враждебное, даже таёжный подлесок, окружавший посёлок, казалось, осунулся и стал мельче. Уже не шумели здесь остроконечные чозении, не раскачивались на ветру тополя и ивы, не щебетали по утрам юркоголовые пташки, кричали одни вороны, да по ночам выли голодные собаки.
У каждого из оставшихся в посёлке в прошлом была своя жизнь, свои заботы и радости, и каждый о ней вспоминал по-своему. Кто-то думал, что прожил её не так, как надо, кому-то она казалась не хуже, чем у других, Егор Толмачёв, вспоминая своё прошлое, никогда не задумывался, хорошее оно или плохое. Он жил так, как считал нужным, да и память-то сохранила ему одни крутые повороты жизни. Вот он сидит на берегу реки, осень, подытоживая лето, осыпала землю красной, как кровь, брусникой, обметала речные заросли чёрной смородиной, бурундуки, сделав зимний запас кедровых орешков, лениво греются на солнце, напоённый лесным ароматом воздух и бодрит, и кружит голову. И для Егора это лето не прошло даром. И ягод, и сушёных грибов хватит на всю зиму, на проданные с теплицы помидоры Варе, своей жене, справил шубу, себе купил «Москвич», а соседу, можно сказать, за так помог срубить баню. Выбрав из сети рыбу, Егор идёт домой. Уже вечер, застывшее солнце в закате серебрит кроны лиственниц, от одиноко стоящих чозений бегут длинные тени, тропа, по которой он идёт, весело кружит в зарослях ивы, а дальше в засохшем мелкотравье убегает до самого горизонта, где над смутными очертаниями посёлка уже курится вечерняя дымка и слышно, как лают собаки. Настроение у Егора хорошее, несмотря на свою тяжеловесность, он идет легко, и, кажется, наддай ещё шагу, и вот он — твой посёлок. В нём до гвоздя в чужом заборе знакомая ему улица, его дом с высоким крыльцом и светлой верандой, на цепи Серый, он, как всегда, показывая свою верность Егору, то лижет ему руки, то облаивает заросли ивы на задах двора, где, наверное, ему кажется, прячутся чужие люди.
Настроение у Егора портится, когда он представляет, что дома его ждёт встреча с сыном Митей. Его Егор не любит за мягкотелость и бабий характер. «И в кого такой?» — думает он. У самого Егора характера — хоть занимай, жена только с виду тюха-матюха, а тронь, закусит, и убей, не отступит, а Митя, как от чужого дяди: ни отцовского характера, ни Вариной настырности. «Может, и правда, от этого хлюпика?» — думает Егор, имея в виду учителя, с которым Варька крутила до него. Правда, по расчётам получалось — не от него, но кто этих баб знает: рога наставить им и живому мужу ничего не стоит. Снимало подозрение с Вари одно: у Мити была такая же на голове круглая лысина, как и у него, а у учителя лысины на голове не было. Хотя и это не всегда успокаивало. Когда Митя, по-девичьи опустив глаза в землю, мямлил там, где надо было сказать слово, и этим становился похожим на учителя, Егора опять одолевало сомнение. «И не у лысых бывают лысые», — думал он.
Сейчас Егор понимал, что вина за мягкотелость Мити лежала не на учителе, а на нём. В детстве, пытаясь сделать своего Митю во всём примерным, он лупил его, как сидорову козу, в школе, опасаясь, что Митя свяжется с хулиганьём и сорванцами, пресекал каждый самостоятельно сделанный им шаг, и женил-то он Митю не на той, что Мите нравилась, а на дочери зажиточного соседа. Невестка оказалась стервой, сразу же после свадьбы села Мите на шею, а от них с женой потребовала, чтобы их с Митей выделили в отдельный стол и в своё хозяйство. А дальше ещё хуже: невестка совсем озверела и на Мите каталась уже, как хотела, на жену бросалась с кулаками, а с Егором перестала разговаривать. Кончилось это тем, что Митя запил, а невестку Егор выгнал из дому.
В тот год у Егора пали от запора свиньи. Кто-то подсыпал им в корм цемента. Так как мешки с цементом и комбикормом в кладовке стояли рядом, Егор в случившемся обвинил жену. И хотя потом по посёлку поползли слухи, что пали свиньи от чужой руки и по злому умыслу, говорили даже, что не обошлось здесь и без участия невестки, злоба на жену у него осталась. «Она — не она, — думал он, — а свиней нет». А Митя уже допился до того, что стал ходить под себя. Не вытерпев этого, однажды Егор натыкал его в постель носом. Жена плакала, кричала: «Что же ты, злодей, делаешь?!» После этого и в том, что Митя ходит под себя, Егор стал винить жену. «Потакаешь, вот и ходит», — зло говорил он ей.
Разладились отношения у Егора и с зажиточным соседом, отцом невестки. Они перестали здороваться, отгородились друг от друга забором, а когда дочь соседа родила сына, он стал говорить, что это не от Мити, а от тех кобелей, с которыми она болталась в подворотнях. И здесь у Егора с женой пошёл разлад. Увидев, как однажды, прихватив из дому бутылку молока, она юркнула в дом соседа, он, когда она вернулась, сказал: «Ещё увижу, как ты к этой суке ходишь, убью!» «Да он же вылитый Митя», — расплакалась жена, но и это Егора не тронуло. «От него — не от него, всё равно не наш», — думал он.
Жена умерла в тот день, когда сыну Мити исполнилось пять лет. Рано утром она взялась печь шанежки и пироги с брусникой. Увидев это, Егор буркнул: «Опять этому ублюдку», — и вышел на улицу. Уже щебетали птицы, солнце, словно омытое утренней росой, ласково разбрасывало свои лучи по крышам домов и верхушкам чозений, с центральной площади посёлка из репродуктора неслась весёлая музыка, и, казалось, ничто не предвещало беды. Когда Егор собрался возвращаться в дом, во дворе появился сосед. «Иди, — сказал он, — Варя умерла». «Как умерла?!» — не поверил Егор. Сосед ничего не ответил, повернулся и вышел со двора. Умерла Варя от разрыва сердца, а осенью сын Митя сгорел от водки. Егор остался один, и теперь, когда развалился прииск, никуда не уехал, потому что его никто нигде не ждал, а здесь на кладбище покоились жена с сыном, на могилы которых он ходил в день их смерти.
Демократов, объявивших Россию свободной от принуждения властью, Егор не понял, и принял это, как насмешку над здравым смыслом. Свободны, считал он, только бичи и нищие, но за это они расплачиваются болезнями и голодом. А власть — она и потому власть, что отбирает у людей свободу, а взамен гарантирует им здоровый образ жизни. Свободу, думал он, могут позволить себе только там, где всё так хорошо, что только её и не хватает, а где до хорошего, как в России, далеко, необходимо принуждение, иначе будет ещё хуже. Этого-то, считал Егор, демократы и не понимают.
В отличие от Егора Калашников был городским жителем. До ссылки он читал лекции в университете по политэкономии. Пока он читал их по тем конспектам, на которых учился сам, у него всё шло хорошо, и ему прочили хорошее будущее. И личная жизнь у него складывалась неплохо. Жена Ася, работавшая в университете старшим библиотекарем на полторы ставки, успевала всё сделать и по дому. Вечером готовила ужин, чистила мужу выходной на лекции костюм, гладила рубашку, а утром подавала ему кофе с бутербродом. В отличие от него, сложенного угловато, она была стройной, а тонкие черты лица, глаза цвета чёрной смородины и опущенный ниже плеч волос придавали ей вид кавказской красавицы. «Ася, а ты у меня красивая», — говорил ей Калашников. «Сплюнь, — смеялась она, — сглазишь». Иногда он замечал, что после этого она подходила к окну, долго смотрела в него и о чём-то думала. Были у неё и другие странности в поведении, которые Калашников относил на особенности её характера. Например, когда к ним приходили гости, она, подав на стол закуски, ссылалась на головную боль и запиралась в спальне. Однажды, проснувшись ночью, он нашёл её на кухне. Она сидела за столом, зажав руками голову. «Ася, что с тобой?» — спросил он. Испуганно посмотрев на него, она ответила: «Коля, я боюсь: с нами что-то случится». «Ты, наверное, плохой сон видела», — предположил он. «Нет, это не сон, это что-то другое», — сказала она и, поднявшись из-за стола, ушла в спальню.
Когда Калашникову надоело читать лекции по конспектам, он сел за более глубокое изучение материала. Начал он с Роберта Оуэна, с его «Книги нового нравственного мира» и кончил «Капиталом» Маркса. И тут он обнаружил, что оба автора правы, но подход к устройству справедливого общества у Роберта Оуэна гуманней, чем у Маркса. Первый в основу своего подхода взял то, что идёт к нам из глубины веков, снизу, от простого народа, от его вымученного в страданиях опыта; второй — всё, что идёт сверху, от тех, кто берётся управлять этим народом. По Роберту Оуэну, строительство нового общества путём усовершенствования его нравственного сознания требует много времени, по Марксу — всё это можно сделать быстро и не дожидаясь, когда общество к этому нравственно созреет, достаточно иметь хорошее правительство. И, понятно, поднять неподготовленный к построению нового общества народ можно только с помощью революции, а за ней всегда кровь и страдания. Да и дальше — не лучше. Управлять таким народом можно только с помощью принуждения, а за этим стоят уже моральные страдания и народа, и самого правительства. Народ от этого тупеет, правительство ожесточается. В конце концов, всё это приводит к распаду общества, к новым революциям и новым правительствам. Конечно, и это — движение вперёд, но сколько за этим революций, крови и страданий!
Лекции Калашникова не по конспектам, а по тому, как он понимал теперь свою политэкономию, к добру его не привели. Всё началось с вызова к ректору.
— Николай Иванович, зачем всё это вам надо? — спросил он.
Калашников взялся объяснять ему, почему представления о построении справедливого общества у Роберта Оуэна гуманней, чем у Маркса. Начал он это с колонии Нью-Ланарк, в которой Роберт Оуэн с помощью доверительных бесед с её обитателями и ряда удачных мероприятий по искоренению насилия, воровства и пьянства на добровольных началах создал общину. Это, по мнению Калашникова, и должно являться сейчас образцом построения справедливого общества без марксовского насилия. Ректор слушал его, не перебивая, когда часы, висевшие на стене, пробили три часа, он, сверив их со своими, подошёл к ним и подвёл стрелки, потом, делая вид, что слушает, стал перебирать на столе бумаги, а когда Калашников кончил, сказал:
— И дался вам этот Роберт Оуэн.
Потом за Калашникова взялся секретарь парткома. С острыми, как у хорька, глазами, слушая его, он не отвлекался ни на часы, ни на бумаги, а бдительно навострив уши, не пропускал ни одного слова и всё что-то записывал в свой блокнотик. Выслушав Калашникова, он сказал ему:
— Вы свободны.
Разумеется, всё это не обошло стороной Асю. «Коля, тебя посадят!» — плакала она. Вскоре у неё открылись сильные головные боли, и её положили в больницу.
После того, как и в местном КГБ Калашников стал доказывать, что Роберт Оуэн гуманней Маркса, его судили и дали десять лет ссылки на Колыму. Уже здесь, на Отрожном, он узнал, что Ася попала в психиатричку и там отравилась. На прииске он работал сначала сторожем, а потом экономистом, а когда прииск развалился, он никуда не поехал, потому что ехать ему было не к кому.
Если Егор Толмачёв шёл по жизни прямо, не жалея ни себя, ни других, то Фестивальный по ней прыгал, как ловкий заяц. Женился он рано и по любви, похоже, и жена его любила, но разошлись они, не прожив и двух лет. После этого Фестивальный понял: любовь — это не главное в жизни. Она — как приходит, так и уходит, а жизнь остаётся. Оставив жене сына Вову, Фестивальный бросился в гущу новой жизни. Сначала она ему показалась простой, как игра в лото: повезёт — хорошо, не повезёт — плохо. Не понравилось, что ничего от тебя не зависит. Вскоре он перепрыгнул в другую жизнь, которая ему показалась похожей на игру в шашки. Она его увлекла: можно было брать на том, кто часто фукал. Однако, понимая, что на одних фуках много не возьмёшь, он пошёл дальше. Новая жизнь оказалась сложнее и походила на игру в шахматы. Здесь Фестивальный хорошо освоил ход конём, но взять на этом много не смог. Противники его владели не только конями, но и фигурами покрупнее. Наконец, Фестивальный столкнулся и с теми, кто считал, что жизнь — это игра в карты. Так как в этой жизни можно было не только играть, но и жульничать, вписался он в неё как нельзя лучше.
Образное представление о жизни, как игре, привело Фестивального в тюрьму. Зажулив кругленькую сумму на фиктивных документах в организации, где он числился старшим бухгалтером. Фестивальный бросился в бега, но его поймали и дали три года. Однако и в тюрьме он остался верен своему представлению о жизни, как игре: числился истопником, а ходил в доносчиках. За это ему ставили зачёты, и он через два года освободился.
После тюрьмы Фестивальный где только не был и чем только не занимался. В Магадане его видели в Колымснабе, на трассе — в диспетчерах, на Чолбоге — в цехе по выделке камуса, на Отрожном в последнее время он ходил в завхозах. Когда в стране объявили свободу слова и частного предпринимательства, он приветствовал её как долгожданное и милое сердцу событие в своей жизни. «Как думаешь, это надолго? — спрашивал он Калашникова. «Свобода и частная собственность несовместимы», — отвечал Калашников. «Однако!» — весело смеялся Фестивальный. К Калашникову он относился как к человеку умному, но с большим приветом и забегал к нему просто так, покалякать и выпить с ним рюмку водки. А вот Егора Толмачёва он обходил стороной и, даже непонятно почему, боялся. Когда видел его сидящим на крыльце своего дома с тяжёлой, как у быка, головой и низким надлобьем, думал; «Этот и зарезать может».
Бабе Уле было уже за семьдесят и, судя по здоровью, она доживала свой век. На Колыму она приехала после окончания педучилища, на Отрожном до пенсии работала учительницей младших классов. Не имея своих детей, всю доброту своего сердца она отдала ученикам. Любили бабу Улю не только ученики, но и все, кто её знал. Небольшого ростика, широкая в поясе, по улице она, казалось, не ходила, а каталась. Всё, что происходило в посёлке, принимала близко к сердцу: беда у кого — поможет и советом, и последней копейкой, заболеет кто — утешит добрым словом, а помрёт — проводит на кладбище. Сохранился у неё подаренный школой телевизор, работающий на батарейках. Кому хотелось узнать, что творится в стране и происходит в мире, шли к ней и его смотрели. «Ах-хах-хах!» — ахала баба Уля, видя в нём, как разваливается в стране всё, что строили коммунисты, а когда сообщали о том, как в бывших государствах Советского Союза обижают русских, он охала: «Ох-хох-хох!». Фестивального она не любила, считала его мелким пакостником, а за то, что в разговорах он часто шаркал ножкой, звала его Шаркуном.
Бичей было трое. У одного из них, Артиста, были длинные, как у журавля, ноги и седая бородка клинышком. Второй, Дудя, вытянутым вперёд лицом и редкими, вразброс, усами походил на гренландского тюленя. Третий, Ванятка, имел, как у мышки, маленькие глаза, и такие же, как у неё, вздёрнутые вверх круглые уши. Прошлого бичей никто не знал, да они и сами о нём, наверное, плохо помнили. На всех они имели одну большую из алюминия кастрюлю, в которой варили собачью похлёбку. У Артиста была гитара без верхнего баса, на ней он хорошо играл, и при настроении пел песни. Бичи не думали, как Егор и Калашников, о власти и народе, не плутовали и не хитрили, как это делал Фестивальный, не ахали и не охали, как баба Уля, жили — как получится. Когда за выделанные под унты собачьи шкуры Фестивальный привозил им водки, они её пили, а Артист пел под гитару придуманные им частушки. Одна из них была такого содержания;
Хочешь — по свету иди, А не хочешь — здесь сиди. Ахнешь или охнешь, Всё равно подохнешь.Ванятка и Дудя, пристукивая, как на барабане, по кастрюле ложками, весело за ним подпевали:
Ахнешь или охнешь. Всё равно подохнешь.Дурочка Ганя, которой было, наверное, не больше четырнадцати лет, в посёлке появилась недавно и неизвестно откуда. У неё были тонкие черты лица, вздёрнутые вверх чёрные ресницы, в подёрнутых дымкой глазах таилось что-то по-детски наивное, и если бы не кривой рот и не, как у зайчихи, узкий лоб, она вполне могла бы сойти за красавицу. Прося милостыню, она ничего не говорила, а просто вытягивала к тому, у кого её просила, сложенную в лодочку ладошку и опускала глаза в землю. Получив её, она низко кланялась и говорила:
— Во спасение нашего Исусе.
Жила она с бабой Улей и побиралась не потому, что нечего было есть, а по привычке, от которой баба Уля отучить её не могла. «Ганя, — просила она её часто, — не надо просить милостыню». «А я, бабушка, — отвечала ей Ганя, — это не для себя, а во спасение Исусе!»
II
Лето было жарким. Не остывшее в короткие ночи солнце уже с утра щедро разбрасывало свои лучи по жёлтым от ягеля сопкам, рассеивало над рекой туманы, вспаивало запахом спелой смородины глухие распадки, днём, застыв в зените, не торопилось уходить с неба, а вечером, похожее на большой медный шар, долго висело в закате. Этим летом на зиму Егор Толмачёв заготовил солёных огурцов, намариновал помидоров, насушил грибов, засыпал в ларь бруснику, холодильник, вырытый в мерзлоте под полом, забил олениной. Оставалось взять у Фестивального муки, крупы и сахара. Пошёл он к нему, собрав последние помидоры в теплице, вечером.
— А-а, Егор Кузьмич, — встретил его Фестивальный в ярком, как японское кимоно, халате и в комнатных из камуса тапках, — моё почтение! Не хотите ли рюмку коньяка?
— У меня свой коньяк, — ответил Егор.
— А-а, понимаем, — хихикнул Фестивальный, — понимаем!
Пристрастия к спиртному у Егора не было, но самогон в доме не выводился. Выпивал Егор с устатку, по праздникам, да когда ходил на могилы жены и сына. А у Фестивального в сделанном под дуб буфете, за фигурно инкрустированным стеклом чего только не было: и коньяк в бутылках, похожих на немецкую с длинной ручкой гранату, и рижский бальзам в плоских из глины сосудах, и ликёры с винами в фасонистых бутылках с яркими этикетками, русская водка стояла в пузатом графинчике. Заметив, что Егор обратил на его буфет внимание. Фестивальный, подделываясь под тон человека, живущего со вкусом и в своё удовольствие, сказал:
— Коллекционирование — моя страсть.
На стенах в доме Фестивального висели толстые ковры, пол уложен мраморной плиткой, а в спальне застелен медвежьей шкурой. Ломился у Фестивального и склад, пристроенный к дому: мешки с мукой и крупой — под самый потолок, в углу — тюки с одеждой и обувью, на полках — хозяйственный инвентарь и домашняя утварь. Заломил за всё это Фестивальный и цены.
— Откуда ты их взял? — не понял Егор.
Фестивальный сморщил лицо в плаксивую гримасу:
— А меня как грабят?!
— Кто грабит? — не понял Егор.
— В районе! В районе, Егор Кузьмич! Ведь там такое ломят, что шапка с головы валится. Говорю им: побойтесь Бога! А они: катись со своим Богом знаешь, куда?! И матом меня! Вот и поговори с ними! А доставка сюда, Егор Кузьмич?! Один бензин — что стоит! Не-ет, — схватился за голову Фестивальный, — не знаю, что и делать! И так прикинешь, и этак, а всё себе в убыток. Хоть бросай всё и беги отсюда.
Когда за всё, что ему надо, Егор предложил свои цены. Фестивального чуть не хватил столбняк. Он долго ничего не мог выговорить, а потом, словно его укусили, дёрнулся, шаркнул ножкой и, сделав реверанс в сторону Егора, произнёс:
— Грабьте, Егор Кузьмич! Режьте! Всё ваше! Можете — вон стоит — и бутылочку коньяка с собой прихватить. А я — что я? Я, как всегда, к вашим, так сказать, бесплатным услугам.
— Как хочешь, — сказал Егор и собрался уходить.
Фестивального это испугало.
— Погодите, — встал он ему на пути, — погодите, Егор Кузьмич. Не будем ссориться. Согласен! Цена ваша, но, так сказать, с одной небольшой приставочкой. Народу этому — махнул он рукой в сторону посёлка — об этом — ни гу-гу! Они же по такой цене меня разденут!
Ничего не говоря, Егор вышел со склада. «Вот сволочь!» — плюнул ему вслед Фестивальный. Придя домой, с расстройства он выпил сразу две рюмки конька, а потом, упав в кресло, стал думать, что делать. Ведь этот Толмачёв ему может всё испортить! Настроит поселковых тунеядцев не брать у него ничего да, не дай бог, сговорится с районным лесником якутом Иннокентием, ему на своей лодке забросить сюда товар ничего не стоит. «Ну, тунеядцы! — злился после третьей рюмки Фестивальный. — Тут, как проклятый: не спишь, спины не разгибаешь, а они сидят и только и делают, что баклуши бьют! А цены им подавай! Иначе нос воротят!»
Ночью Фестивальный спал плохо, а под утро ему приснился сон. Сидит он на высокой, похожей на вулкан, горе, вокруг него такие же, как и под ним, другие горы, на каждой из которых сидит по тунеядцу, и, пуская колечками дым в небо, лениво курят. «Да это ж наши!» — узнаёт он. «Эй, вы, сукины дети! — кричит им Фестивальный. — Когда работать будете?!» Ему никто не отвечает. «О, пся крев!» — почему-то уже по-польски ругается Фестивальный, и ему хочется взять в руки плётку и отхлестать этих тунеядцев. Потом на одной из горок появляется лавка, в которой сидит якут Иннокентий с круглой, как сковорода, мордой. Он зазывает тунеядцев в свою лавку за товаром, но они, всё так же пуская колечками дым в небо, к нему не идут. «И правильно делают», — думает Фестивальный. Проснувшись, он завтракает на скорую руку, бежит к реке, заводит мотор своей лодки и вихрем уходит вниз по течению.
А в это время в доме Калашникова сидит Егор, он пьёт чай, а Калашников курит. Лицо у Калашникова сердитое, а, ударив ладонью по столу, он кричит:
— Нет, вы посмотрите на него! Оказывается, свобода и нравственность несовместимы!
— Да успокойся ты! — просит его Егор.
— Не успокоюсь! — кричит Калашников. — Не успокоюсь, пока ты, забубённая твоя голова, не поймёшь, что только свободный человек способен самостоятельно мыслить, а следовательно, усваивать нравственные ценности, а раб безнравственен уже потому, что он, безропотно подчиняясь своему господину, теряет себя как личность.
— Давай, Николай Иванович, попроще, — говорит Егор, — и ближе к жизни. Свобода — это когда над тобой никто не стоит. Верно? А это, согласись, уже безвластие. А оно, как известно, развязывает руки любителям пожить за чужой счёт. Возьми Фестивального! Ведь этот прыщ скоро сядет всем на шею, а взять его — не моги. У нас — свобода!
— А ты думаешь, — перебил его Калашников, — прижми твоего Фестивального, он станет нравственно чище? Да никогда! Затаится, подлец, и станет злее, а, следовательно, ещё более безнравственным.
— И пусть! — уже горячится и Егор. — Затаившись, других не будет развращать. А то ведь смотри, что получается: прихожу вчера к этим артистам, — махнул он рукой в сторону проживающих в школе бичей, — говорю: ребята, давайте в артель, рыбу ловить, а они: пусть Фестивальный её ловит.
— Не одни же у нас Фестивальные, — заметил Калашников.
— Во! — вскочил Егор. — Тут-то мы, пожалуй, и разберёмся! По-моему, Фестивальных в стране тысячи, и дай им волю — на шею сядут и всё развалят. А так как слов они не понимают, выход один: в стойло их! У тебя же: Фестивальный — исключение, а другие, как ты сказал, способны усваивать нравственные ценности и без принуждения. Значит — давай им свободу. Согласен, но где они — эти Нефестивальные?!
— Выходит, Егор Кузьмич, — рассмеялся Калашников, — расходимся мы с тобой не по существу вопроса, а по взглядам на людей, на общий уровень их нравственного развития?
— Получается, так, — согласился Егор и, попрощавшись с Калашниковым, пошёл к бичам.
Он всё ещё надеялся, что уговорит их ловить рыбу. У него самого рыба была — и вяленая, и солёная, и мороженая в холодильнике, — однако, понимая, что баба Уля с Ганей и Калашников с ценами Фестивального зиму на свои пенсии не протянут, он решил заготовить рыбы и им. Да и бичам бы она не помешала: бродячих собак в посёлке осталось немного.
А у бичей было плохое настроение. С похмелья у них болели головы, а на похмелку ничего не было. Фестивальный, умотав из посёлка, расплатиться за шкуры с ними не успел. Когда Егор зашёл к ним, они лежали на полу, Ванятка, свернувшись калачиком, спал, а Артист и Дудя тупо смотрели в потолок.
— Ну что, ребята, договорились? — бодро спросил Егор. — Сети-то поставить — раз плюнуть.
— Силов у нас нету, — сказал Дудя.
— Да вы ж так сдохнете! Жрать-то зимой что будете?! — рассердился Егор.
— А это не твоя забота, — поднялся с пола Артист.
У него было поцарапано лицо, а указательный палец перевязан грязной тряпкой.
— Где это тебя угораздило? — поинтересовался Егор.
— Где? Где? — недовольно буркнул Артист, но договорить ему не дал уже проснувшийся Ванятка.
Он закатился в булькающем смехе и, уже утирая выступившие на глаза слёзы, сказал:
— Ето, дядь Егор, его в героической засаде, где мы с Дудей окружали Веркиного Полкана.
— Ну вот, — рассмеялся Егор, — скоро не вы — собак, а они — вас. Ну, так как, договорились? — снова спросил он.
— Егор Кузьмич, самогона дашь, пойдём, — предложил Дудя.
Егор согласился.
Вечером Егор пошёл к Ивану Бурову. Жил Буров замкнуто, ни с кем не общался, а по обросшему густой щетиной лицу и нелюдимому исподлобья взгляду был похож на таёжного бродягу. Появился он в посёлке, когда прииск уже развалился, и что это за человек, никто не знал. Поговаривали, что он скрывается от власти, но так ли это — кто знает. «И мне до этого нет дела», — думал Егор, подойдя к его дому. Ему надо было одно: уговорить Бурова, чтобы он взялся с ним за охоту на оленей. Егор бы и без него настрелял их, сколько надо, но попробуй один вынеси из тайги мясо.
Буров сидел за столом и ел кашу.
— Чего надо? — встретил он Егора.
Раньше Егор видел-то его, наверное, не более двух раз и поэтому только сейчас заметил, что он сильно косоглазит.
— Иван, — сказал он ему, — пошли со мной в тайгу.
— Это ещё зачем? — нахмурился Буров.
— За оленями. Иначе зимой сдохнем, — и рассказал, как ломит цены Фестивальный, и что будет с бабой Улей и Калашниковым, да и с другими, у кого денег осталось немного.
— А они мне до фени! — заявил Буров.
— Та-ак! — поднялся Егор. — Значит, до фени! А сам как думаешь жить?!
— А это моё дело! — ответил Буров.
— Ну, так вот! — крикнул Егор. — С первой же моторкой — вон из посёлка!
— А ты, я вижу, круто берёшь, — вдруг рассмеялся Буров. — А крутых я уважаю. — И, поднявшись из-за стола, весело сказал: — Ладно! В тайгу, так в тайгу!
— Ну, это другой разговор, — успокоился Егор.
Когда он уходил, Буров сказал:
— Значит, коммуну решил устроить. Ну, что ж, давай!
Через два дня в посёлок пришёл на моторной лодке Иннокентий. Скорый на подъём и всегда в хорошем настроении, он, как казалось Егору, не просто живёт, а ещё и радуется жизни. О таких людях, как он, обычно говорят: они не знают, что с ними будет завтра, но то, что они имеют сегодня, им хватит на всю жизнь.
— Егорша, — приветствовал он Егора с порога, — а я тебе подарка привёз!
И достал из корзины двух курочек и петушка. Курочки, оказавшись на полу, заквокали и бросились под стол, а петушок, хлопнув крыльями, зло уставился на Егора.
— Что нового в районе? — спросил Егор.
— Всё нова! — рассмеялся Иннокентий. — Демократ много. Говорит: ломай всё, жизнь другой делать будем.
— Ломать — не строить, — заметил Егор. — Что ещё нового?
— Всё нова, — смеялся Иннокентий. — Фестивальна видел. Егоршу, говорит, не любит. Голову ломать ему будет.
«Ну, с этим-то прыщом я справлюсь», — подумал Егор.
На следующий день утром Егор отнёс бабе Уле петушка с курочками. Баба Уля была им рада, а Ганя, увидев их, испугалась и забилась в угол.
— Чего это она? — не понял Егор.
— Да она ж, сердешная, никогда их не видела, — ответила баба Уля. — Ничего, привыкнет.
После этого Егор пошёл к Верке. Эта не первой молодости баба скрывалась на Отрожном от ревнивого мужа, грозившего её зарезать за то, что в районе спуталась с директором магазина, в котором работала старшим продавцом. Здесь она жила с замухрышистым мужичком Веней, сильно похожим на забитого монастырского служку, и Верка при своём крупном сложении выглядела ему тётей.
— Я твоим бичам, — встретила она Егора на крыльце, — за Полкана головы оторву!
— Да они такие же мои, как и твои, — ответил Егор.
— Говори! — рассмеялась Верка. — По рыбалкам-то ты их водишь, не я. — И, подперев руками бока, спросила; — Чего надо-то?
— Верка, займи денег? — попросил Егор.
— Денег?! — выпучила она на него глаза. — А они у меня есть?!
В это время позади неё открылась дверь, и из неё высунул голову Веня.
— А ты чего?! — прикрикнула на него Верка. — Закройся! Без тебя обойдёмся!
Обиженно шмыгнув носом, Веня закрыл дверь.
Егор знал: деньги у Верки есть, не из тех она, кто от своих мужей убегает голыми. Однако понимал он ещё и другое: просто так Верка денег не даст, и поэтому был вынужден раскрыть ей свои планы.
— Этого Шаркуна давно пора к ногтю, — согласилась она с Егором.
Отсчитав ему деньги, рассмеялась:
— Расплачиваться-то как будешь?
Егор хотел было объяснить, как он это сделает, но когда понял, что она имеет в виду, хлопнул её по заднице и сказал:
— Не боись, старый конь борозды не испортит!
Иннокентий Егора уже ждал на реке.
— Егорша, ты где пропадал? Район скорей нада! — сказал он.
— Что там, в районе, ждут тебя? — спросил Егор.
Иннокентий рассмеялся:
— Район — хорошо: кино ходи, ресторан гуляй, русски Маруся щупай!
А уже в лодке, весело рассекающей волны, он пел: «И тайга — хорошо, и река — хорошо, а района лучше».
Пучеглазый, с отъевшейся, как у хомяка, физиономией, директор районной продбазы Егору сказал:
— А муки нету!
— Как нету? — не понял Егор.
— А вот так! Нету, и всё! — обрезал директор.
Оказалось, что нет на базе не только муки, но и крупы, и даже соли. «Фестивального работа», — понял Егор и решил идти за помощью в районную администрацию. С председателем её, Кошкиным, он был знаком по совместной работе на Отрожном. На нём Кошкин ходил в освобождённых секретарях парткома, поднимал идеологический уровень трудящихся, воспитывал их в духе коллективизма и преданности партии.
— А-а, Егор Кузьмич! — встретил Кошкин Егора и, поднявшись из-за стола, крепко пожал ему руку, а заказав через вошедшую с Егором секретаршу кофе, спросил: — И как живём-радуемся?
Егор, рассказав всё, что происходит на Отрожном, спросил: несёт ли кто в районной администрации ответственность за брошенных в посёлке людей.
— Узнаю, Егор Кузьмич, узнаю, ты всегда за людей готов был горло перерезать своему начальству, — улыбаясь, сказал Кошкин, — только нынче-то, — развёл он руками, — время другое. Это раньше, при коммунистах, хочешь — не хочешь, его, этого человечка-то, и накорми, и напои, а упал, подними да и поставь на ноги. И что скрывать, — вздохнул он, — иждивенцев наплодили — пруд пруди. Его, подлеца, гнать надо! Ан нет! Пожури, а зарплату выдай. А нынче, Егор Кузьмич, каждый за себя. Не вписался в колесо жизни — вон на обочину. И правильно! Работать надо! Хватит с ними нянчиться!
Егор понял: разговаривать с Кошкиным на эту тему — зря тратить время, и он решил перейти на Фестивального, чтобы хоть этого-то прыща поставить на место.
— Ни в коем случае! — вскричал Кошкин.
— Да это же спекулянт! — не понял его Егор.
Кошкин расхохотался:
— Егор Кузьмич, да нет в наше время спекулянтов! Это всё — предпринимательство!
— А что, в этом предпринимательстве уже и муки на складе нет? — спросил Егор.
Узнав, в чём дело, Кошкин поднял телефонную трубку.
— Фомич, ты? Слушай! Придёт от меня тут один, муки ему дай.
По тому, как Кошкин мыкал в трубку, кряхтел и недовольно морщился, Егор понял, что разговор по телефону идёт о нём и о Фестивальном.
— Ну, ладно, ладно! Не ссориться же нам из-за этого. Придёт — дай, — закончил разговор Кошкин.
Возвращался на Отрожный Егор с Иннокентием. Как и раньше, лодка весело резала волны, а Иннокентий пел: «И района — хорошо, и Маруся — хорошо, а тайга лучше».
— Откуда это ты всё берёшь? — смеясь, спросил Егор.
— А Пушкин много читаю, — ответил Иннокентий.
III
Зима сковала Отрожный. Засыпала его глубоким снегом, затянула толстым льдом окна и замела дороги. Задавленный таёжным безмолвьем под низким, в свинцовой тяжести небом, он казался нежилым, и только выбитые в снегу тропы да редкий лай собак говорили о том, что не всё ещё здесь вымерло.
Баба Уля с Ганей ходили за курочками и петушком, Калашников, которому из района привезли «Философию права» Гегеля, читал и делал из неё выписки, Иван Буров больше находился в охотничьем зимовье, бичи, когда не пили, выходили на подлёдный лов рыбы, Верка крутилась по хозяйству. Фестивальный, готовый взорвать посёлок, сидел и думал: что делать? Хозяином Отрожного был Егор. В его руках было всё, что давало посёлку жизнь. Все, кто мог работать, у него работали. На Бурове с двумя помощниками лежала обязанность по заготовке оленины, бичи не только ловили рыбу, но и валили на дрова лес, очищали от снега оставшийся на котельной уголь, Верка отвечала за распределение и выдачу продуктов питания, а когда питание стало общественным, с бабой Улей и Ганей варила обеды и ужины, муж её, Веня, с Калашниковым топили на кухне печи и носили воду. Фестивальный в общественной жизни посёлка не участвовал, он приторговывал тем, что не привёз из района Егор: керосином, хозяйственным инвентарём и домашней утварью. Дела шли плохо, и он ждал, когда организованная Егором коммуна развалится. И не только ждал: он принимал и меры. Видя, как круто взялся Егор за дело, он стал искать тех, кто им недоволен.
А Егор, став полновластным хозяином посёлка, и на самом деле никому не давал спуску и чужих советов уже не терпел. Когда бичи вовремя не заготовили дров на кухню, он не стал спрашивать почему, а лишил их положенного им в воскресенье самогона. И сделал он так зря. Если бы он узнал, почему бичи не заготовили дрова, то взялся бы не только за них, но и за Фестивального.
— Зашёл бы, поговорили, — сказал Фестивальный однажды Дуде, встретив его на улице.
Дома, угостив его водкой, спросил:
— Всё под Егором ходите?
Дудя ничего не ответил.
— Ну-ну, — похлопал Фестивальный Дудю по плечу, — ай плохо под ним? — и пропустив рюмку водки сам, сказал; — А у меня к тебе дело.
— Чего тебе? — буркнул Дудя.
— Шкуры надо, — ответил Фестивальный, а рассмеявшись, спросил: — Или по собакам уже не промышляете?
Решив набить на этом деле цену. Дудя ответил:
— Силов нету. Их же окружать надо.
— Ну-у, — ещё раз похлопал Фестивальный его по плечу, — силов-то мы прибавим.
И выставил на стол две бутылки водки.
— Задаток, — сказал он, — а замочите Веркиного Полкана, с меня ещё бутылка.
Бичи в тот день напились, и, понятно, им уже было не до заготовки дров в столовую.
Не стал разбираться Егор и с Буровым, когда узнал, что отстреливал он оленей не только диких, но и тех, что представляли собой жалкие остатки развалившегося совхоза «Чолбога». Пожаловался на Бурова пришедший из тайги пастух.
— Куахан кии[1], — показал он на него, — совхоз таба[2] стрелял.
— Пожалуется ещё — голову оторву, — сказал Егор Бурову.
Буров промолчал, но по тому, как зло посмотрел на Егора, было видно, что он и сам способен кому угодно оторвать голову.
А пастух, уже дёргая Егора за рукав, канючил:
— Водыка дай!
Вечером пастух напился вместе с Буровым, обещал, что жаловаться на него больше не будет, и называл его уже учугей кии[3], а Буров стучал кулаком по столу и грозил, что Егора пристрелит.
Запретил Егор побираться и Гане.
— Ишь, моду взяла! — сказал он бабе Уле.
— Егор, — не поняла она его, — тебе что, девка дорогу перешла?
— Не голодная, — перебил её Егор. — И ещё: к Фестивальному она часто ходит. Он что — в благодетели записался? Думает, что без него не обойдёмся?
Вечером, в свободное время, Егор приходил к Калашникову, они пили чай, иногда водку и вели разговоры на разные темы. В чём-то они сходились, а иногда спорили и не понимали друг друга. Например, сходились они на том, что частная собственность людей развращает, делает их ненасытными и злыми, а общество делит на массу несправедливо обиженных и кучку тех, кто живёт за их счёт. И этому, считали они, способствует не только то, что заложено в людях плохого, но и объективные условия. Частная собственность, концентрируясь в руках немногих, даёт возможность им быстрее обогатиться. Если бедному человеку иной раз и выйти-то на работу не в чем, да и с одолевающими его болезнями он всё более теряет способность продуктивно трудиться, то богатый, вкладывая свои капиталы в дело, без труда извлекает из них большие себе прибыли. Не сходились Егор с Калашниковым в вопросе права и власти, и здесь они спорили, не уступая ни в чём друг другу. Начиналось это, как правило, не с общих рассуждений, а с разговора, приземлённого до Отрожного.
— Егор Кузьмич, не круто ли ты ведешь дело? — спрашивал Калашников.
— На войне — как на войне, — отвечал Егор.
Калашников начинал сердиться:
— О какой войне ты говоришь?! Где она — на Отрожном?!
— Война — не война, — отвечал Егор, — а распусти их — всё рухнет.
— Вот видишь! — нервно вскакивал со своего места Калашников, — ты уже и Отрожный делишь на их и на себя! Они, выходит по-твоему, быдло, а ты — их хозяин.
— Не сгущай краски, — начинал сердиться и Егор. — Быдло — не быдло, а не заставь их работать, с голоду сдохнут, а пальцем не ударят.
— Хорошо, — как будто бы соглашался Калашников, — пойдём дальше. Они работают из-под твоей палки, но не потому, что в необходимости Этого ты их убедил. Понятно, подневольный труд убивает человека как личность, он тупеет и становится злым. Это ясно, как белый день, но я не об этом, а о тебе. Вот ты, Егор Кузьмич, согласен со мной, что частная собственность — это зло, но не согласен — что неограниченная, как, например, у тебя, власть — тоже зло. А ведь они в контексте нашего спора ничем не отличаются. И то, и другое — это, прежде всего; власть, и не важно, что первая — власть капитала, а вторая — власть права. Ведь и власть права ведет к расколу общества на богатых и бедных, потому что с неограниченным правом ничего не стоит обогатиться за счёт тех, кто его не имеет. А отсюда то же самое: бедные тупеют и становятся злыми, богатые развращаются в ненасытном желании иметь больше.
— Я, Николай Иванович, на Отрожном не обогатился, — обиделся Егор.
— И без этого можно брать чужое. Власть-то ведь она во всём развязывает руки, — заметил Калашников.
— Это что, намёк? — рассердился Егор.
Намёк это был или не намёк — кто знает, но случилось с Егором и такое, что его не красило.
— Расплачиваться-то когда будем? — смеясь, спросила его однажды Верка.
— Так я ж расплатился, — не понял её Егор.
— Ха, — расхохоталась она, — а кто это говорил, что старый конь борозды не испортит!
С этого всё и пошло. Сначала они таились от людей, а потом и это делать перестали. Встречались они открыто, а когда в субботу Егор шёл в баню, шла за ним и Верка. Один раз в баню прибежал Веня, но Верка его оттуда выпнула. Вскоре он запил и из похожего на забитого монастырского служку превратился в живой скелет с рыжей щетиной на лице. В одну из суббот, когда Егор с Веркой мылись в бане, он удавился.
Делать гроб взялся Артист, а Дудя и Ванятка пошли копать могилу. Хорошего материала на гроб не было, и сбивал его Артист из разобранного школьного шкафа. Веню ему было жалко, и он старался, чтобы гроб получился как настоящий, но у него это не получалось, и он злился. Когда осталось сделать крышку, появился Егор. «Тебя тут не хватало», — зло подумал Артист, а Егор, увидев гроб, закричал:
— Что, гробов делать не умеешь?!
— Да пошёл ты! — послал его Артист.
— Что ты сказал?! — крикнул Егор и, бросившись на Артиста, ударил его по лицу.
Утерев разбитые в кровь губы. Артист сказал:
— Ну, падла! Я тебе это припомню!
Хоронить Веню Егор не пошёл и в тот день напился до бесчувствия.
После случившегося бичи решили уйти из посёлка. «Мы люди вольные, — говорили они, — и под этой падлой ходить не желаем». Отговорил их, ссылаясь на то, что до района далеко, а морозы — не высовывай и носа, Буров.
— Силов нету, а то бы ушли, — согласился с ним Дудя.
После смерти Вени Верка решила перейти к Егору, но он её не принял.
— Приходить приходи, а насовсем — не надо, — сказал он ей.
«Ну, погоди! — злилась, возвращаясь домой, Верка. — Приду я к тебе, козёл старый!»
Весна приходить на Отрожный не торопилась. Уже стоял март, а всё так же давили морозы, небо было низким, застывшая стеной тайга хранила угрюмое молчание, на реке по ночам трещал лёд, а днём мела позёмка. Егор, всё в тех же заботах, ходил по посёлку, требовал от всех работу, следил за тем, чтобы в столовой хорошо готовили обеды, иногда его видели пьяным и, зная, на что он способен в таком состоянии, избегали с ним встречаться. Если отбросить последнее, казалось, всё идёт как раньше. На самом деле это было не так. После того, как удавился Веня, замкнулась в себе баба Уля, с Егором она перестала разговаривать, бичи, если и работали, то как получится, а Веркиного Полкана не трогали лишь потому, что боялись Егора, хотя других собак ловили и выделанные из них шкуры меняли у Фестивального на водку. Буров со своими мужичками не вылазил из тайги, но что там делал, толком никто не знал, Верка с борщей и оленьих поджарок перешла на каши и холодные закуски. Уже не было на кухне во время обедов и ужинов ни весёлого оживления, ни шуток, ни смеха. Не пели там, как раньше, под гитару бичи, когда Егор им наливал самогона, не подпевала им баба Уля, не хохотала во всё горло Верка, когда босые Дудя с Ваняткой, задрав штаны до колен, исполняли танец маленьких лебедей, а Артист с кухонным ножом в зубах отплясывал лезгинку. Всё стало по-другому, и все это видели, не замечал этого один Егор.
— Не до танцулек, — говорил он, когда Калашников затрагивал этот вопрос.
А Фестивальный жил в ожидании перемен к лучшему. Он, как лиса на заячьем гоне, чувствовал, что Егор загоняет себя в угол сам, и ему. Фестивальному, надо только его туда подтолкнуть. Подпаивая бичей, он всё больше натравливал их на Егора, а Артисту, имея в виду случай с гробом Вени, говорил;
— Ну, я бы этого никогда не потерпел!
Прямых намёков, что надо подстроить Егору, Фестивальный бичам не давал, но, провожая их, всегда говорил:
— Не боись, ребяты! Здесь: закон — тайга, прокурор — медведь!
Бурова Фестивальный к себе не приглашал, но однажды, уже поздно вечером, когда все в посёлке спали, пришёл к нему сам.
— Чего тебе? — встретил его Буров.
— Покалякать надо. Дело есть, — ответил Фестивальный, потирая с мороза руки.
— Калякай, — разрешил Буров.
Словно подкрадываясь. Фестивальный приблизился к столу и выставил на него бутылку водки.
— Сгодится, — сказал Буров.
— Сухая ложка рот дерёт, — хихикнув, согласился с ним Фестивальный.
Когда выпили, Буров спросил:
— О чём калякать хотел?
— Да знаешь, Иван, может всё это пустое, одни разговоры, но, как говорится, дыма без огня не бывает, — начал Фестивальный.
— Говори, — прервал его вступление Буров.
— Да что говорить, — продолжил Фестивальный, — мне-то оно надо, что зайцу пирамидон, а тебя это касается.
— Ну! — поднял голос Буров.
— Да слышал я, Егор Толмачёв треплется. Правда, пьяный он был. Верить-то этому как? Хотя и кто его знает! Не зря говорят: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
— Слушай, — вскричал Буров, — перестань веники жевать. Говори по-человечески.
— Во, я и говорю, — заторопился Фестивальный, — пьяный Егор говорил, что ты, Иван, в бегах от власти, и поэтому у него на крючке.
— И что?! — спросил Буров.
Фестивальный растерялся:
— Да я так, на всякий случай, Иван. Мне-то до этого — дело десятое.
— Ну, так и кати отсюда! — выпроводил Буров Фестивального.
Наконец, в одном из трезвых разговоров с Калашниковым до Егора дошло, что дела на его Отрожном идут плохо, но его это только разозлило.
— Я покажу им! — кричал он. — Они будут жить по-моему!
Провожая его, Калашников сказал:
— Егор Кузьмич, не поймёшь, что не то делаешь — ты обречён.
— Ну, это мы ещё посмотрим! — крикнул на прощанье Егор и хлопнул дверью.
После этого он совсем озверел и пить стал ещё больше. В ответ на это люди его возненавидели, и если к кому-то он шёл в дом, от него закрывались.
— Я пок-кажу вам! — кричал он на улице, когда был пьяным.
Отдыхали от него, когда он уходил в запои. В них он запирался в своём доме и никуда не выходил. Однажды, когда запой перевалил на вторую неделю, у него взломали дверь, но дома его не оказалось. Нашли его на реке, вмерзшим в прорубь, в которой бичи ставили свои сети для подлёдного лова рыбы. Сам ли он в неё бросился, помог ли ему кто-то в этом, никто не знал. Похоронили его рядом с женой и сыном. На кладбище баба Уля плакала, Верка, видимо, отплакав своё ночью, молчала, а бичи, успевшие хорошо выпить, зарывая могилу, мешали друг другу. Калашников со сморщенным в плаксивую гримасу лицом, сгорбившись, стоял в стороне. Бурова на кладбище не было.
IV
Река, освободившись ото льда, словно взбесилась. В ревущем потоке она несла вывернутые с корнем деревья, вздымалась волной на стрежне, крутила водовороты, кидаясь мутными потоками на берег, оставляла на нём кучи мусора и клочки грязной пены, на крутых поворотах с грохотом била в обрывы и уносила с собой сорвавшиеся с них куски щебня и камня.
Калашников проснулся рано. После смерти Егора он стал плохо спать, по ночам часто просыпался, и его охватывало чувство, какое, наверное, испытывают отшельники, разочаровавшиеся и в своём затворничестве. Казалось, что он уже никому не нужен, а жизнь, если она и идёт, то непонятно куда и зачем. А по утрам его охватывало ничем не объяснимое беспокойство, словно потеряв что-то, он мучается не за то, что потерял, а за то, что не знает, что потерял. В такие минуты он выходил из дома и шёл на реку. Там он успокаивался и, покурив, возвращался домой. Сегодня этого не случилось. Взбесившаяся река и, словно наперекор ей, тихое утро с ясным солнцем и голубым небом говорили, что не только на Отрожном, а и везде, куда ни пойди, всё неустойчиво и противоречиво, и нет ничего в мире такого, на что можно положиться. И люди, и эта природа — всё преходяще, и нет ничего в ней вечного, всё — как в колесе, не знающем ни к чему ни зла, ни жалости. Давно ли и эта река, и тайга, окружающая её, были скованы трескучими морозами, занесены глубоким снегом и задавлены свинцовым небом. А вот уже, освободившись от тяжёлого льда и вырвавшись на свободу, река взламывает всё, что попадает на пути, а тайга, сбросив зимнее оцепенение, уже гудит и раскачивает свои кроны. Так и у людей, думал Калашников, независимо от их сознания, опыта и ума, крутит колесо жизни свои истории, в которых одно сменяется другим, а потом, словно в насмешку, всё возвращается к тому, что уже было.
А на Отрожном после смерти Егора, все — словно сорвались с цепи. Бичи загуляли. Буров, не отставая от них, пил один, Верка нашла себе нового хахаля. Фестивальный умотал в район за новой партией товара, дурочка Ганя снова ходила по посёлку и просила милостыню во спасение Исусе, только баба Уля жила, как и раньше. Она кормила петушка с курочками и собирала к Пасхе яйца.
В один из вечеров баба Уля пришла к Калашникову.
— Ох-хох-хох, — заохала она, входя к нему, — что ж это получается, Иван Николаевич? Все — как с ума сошли. Никакого удержу: гулеванят, как перед концом света. Слышала, Верка-то совсем истаскалась, да и столовку, вроде, собирается закрывать.
— Да, баба Уля, вы правы, — согласился Калашников. — Но что делать! Будем надеяться: отгуляют да за ум возьмутся. — Народ-то не совсем пропащий.
— Ой, не знаю, — вздохнула баба Уля. — Народ-то вроде и не пропащий, да уж больно гулящий. Того и гляди: сожгут ни-то что или друг дружку порешат. Вон Ванятка-то уж побитый ходит. Да и Верка-то грозила поджечь своего хахаля, если в дом не пустит.
Уходя, баба Уля сказала:
— И при Егоре-то в последнее время было не так, как надо, а уж сейчас и того хуже.
После разговора с бабой Улей Калашников решил сходить к Верке. Спросонья, непричёсанная, с отёкшим лицом, встретила она его неприветливо.
— Чего пришёл-то, — спросила она, — не спится, что ли?
— Вера, у меня к вам просьба, не закрывайте столовую, — ответил Калашников.
— Ха! — раскрыла рот Верка. — А кому она нужна? В неё ходят-то три калеки да одна побирушка.
Накинув на себя халат и поправившись у зеркала, рассмеялась:
— Вижу, заместо Егора взялся. Валяй! Вольному воля! Только вот что: в кассе денег нет, продуктов — на две похлёбки, дрова бичи пропили.
— Вера, но деньги же были! — удивился Калашников. — Мне Егор говорил!
— Были да сплыли! — расхохоталась Верка. — Егор-то на что пил?!
Пообещав, что денег он найдёт, Калашников пошёл к бичам. Дорогой он думал: «Чужие деньги Егор бы не пропил».
А бичи гуляли.
— А-а, Николай Иванович, — встретили они Калашникова, — наше вам с кисточкой!
И предложили ему выпить водки. Надеясь, что, выпив, он скорее найдёт с ними общий язык, Калашников не отказался.
— А закусон?! — делая вид, что строжится, спросил Дудя у Ванятки.
— Ей момент! — вскричал Ванятка и, открыв кастрюлю, посвистел в неё и позвал: — Полканчик, игде ты?
И достал Калашникову кусок мяса. «Да это же Веркин Полкан!» — догадался Калашников и, хотя желание найти общий язык с бичами у него не пропало, есть он его отказался.
— А зря! — заметил Дудя. — Закусон — во!
Пилить и колоть дрова в столовую бичи отказались:
— Пусть Фестивальный их колет, — сказали они.
Когда Калашников уходил, Артист, провожая его, сказал:
— Николай Иванович, бросьте это дело. У Егора не получилось, и у вас не получится. А дрова — что дрова? Заготовим мы — а что дальше? Не дровами же вы людей кормить будете.
Дорогой он встретил Верку. С распущенными волосами и в расстегнутой кофте она бежала с палкой в руке. Увидев Калашникова, крикнула:
— Да я им, падлам, за своего Полкана головы оторву!
Понимая, что без денег всё равно ничего не сделаешь, на следующий день Калашников пошёл за ними к Фестивальному.
— О-о, какие гости! — шаркнув ножкой, всплеснул Фестивальный руками. — И какая радость! И, пардоньте, Николай Иванович, что хотите; коньяку, водки?
— Знаете, я к вам по делу, — отказался выпить Калашников.
— Слушаю, — вытянувшись, снова шаркнул ножкой Фестивальный.
— Мне нужны деньги, — сказал Калашников, — на столовую. С выручки сразу верну.
— Николай Иванович, — развёл руки Фестивальный, — и вы туда же! Ну, ладно Егор! Он бурбон, домостроевская орясина, а вы-то?! У вас же университетское образование! Неужели и вы не понимаете, что на дворе свобода индивидуального предпринимательства, а коммуны, — рассмеялся он, — мы уже, так сказать, проходили.
Денег Фестивальный не дал.
— Что вы, Николай Иванович, — сказал он, — у меня их и отродясь не бывало, а что было, проел. Сами знаете: при Егоре-то, кроме убытков, ничего не имел. Нет, нет, нет! — замахал он руками, думая, что Калашников всё ещё стоит на своей просьбе, — и не просите, Николай Иванович, денег у меня нет!
К Бурову Калашников пошёл, чтобы узнать: будет ли он ходить в тайгу за оленями. От пьянки Буров отошёл, и когда появился у него Калашников, сидел за столом и клеил болотные сапоги. За оленями в тайгу он идти отказался.
— Летом их не бьют, — сказал он. — Да и зачем? Всех в посёлке не прокормишь. Егор хотел это сделать, да и сломал себе шею. И ты сломаешь, Николай Иванович.
Провожая Калашникова, он сказал:
— Егора я не убивал. А кто его увёл к проруби, не знаю. И вот что, — добавил Буров, — как придёт Иннокентий, отправь с ним в район Ганю. Бабе Уле осталось немного, а без неё местная сволота девку испортит.
С советом отправить Ганю в район Буров опоздал. Однажды вечером к Калашникову прибежала заплаканная баба Уля.
— Николай Иванович, горе-то какое! — запричитала она с порога. — Ведь Ганя-то брюхата!
— Как брюхата?! — не понял Калашников. — От кого?!
— Господи, да от Шаркуна! От Шаркуна, Николай Иванович! Ведь как Егор-то умер, она снова к нему стала ходить.
— Не может быть! — не поверил Калашников, а когда баба Уля рассказала, что Ганя не только ходила к нему, но и возвращалась от него иногда нетрезвой, он сказал:
— Баба Уля, я его убью!
Фестивальный сидел в кресле и, словно ожидая кого-то, держал на столе две рюмки и хорошую закуску.
— А, Николай Иванович! — сделав вид, что не удивился, встретил он Калашникова. — Проходите, гостем будете!
— Гад ты! — вскричал Калашников.
— Ну, зачем так? — не растерялся Фестивальный, а узнав, в чём дело, сказал:
— Ну-у, это ещё доказать надо!
Уходя от него, Калашников злился: «Ну, почему я не Егор? Почему я не дал ему в морду?»
Через неделю после этого баба Уля умерла. Как и Вене, гроб ей сколотил Артист, а могилу выкопали Дудя с Ваняткой. На кладбище, кроме них и Калашникова, были Верка и Буров, Тани на кладбище не было. Когда выносили гроб бабы Ули из дому, она сказала: «Вы, дяденьки, её хороните, а я посижу с курочками». Помянули бабу Улю тихо: посидели за столом, сказали о ней доброе слово, выпили по рюмке водки и разошлись, а утром, на следующий день, Верка разносила по посёлку, что Буров после поминок, ворвался в дом Фестивального, бил его и кричал: «Вот тебе за бабу Улю! Вот тебе за Ганю!» Правда это было или нет, кто знает, но Фестивальный после того вечера три дня из дому не выходил, а вскоре стало известно, что Буров из посёлка куда-то исчез.
В середине лета в посёлке появился Иннокентий.
— Жалко, ой, как жалко Егоршу! — говорил он на кладбище. — И бабку Улю жалко. Зачем они умирал?
Дома Калашников спросил, что нового в посёлке.
— А всё нова, — ответил Иннокентий. — Фестивальна видел. Говорил, голову Егорше ломал. Кошкину Фестивальна бегал, говорил: Отрожный открывать дача нада. Бизнес, говорил, будет. Тайга: делай, что хошь, — пей, гуляй, русски Маруся щупай. Район далеко, глаз не видно.
С Иннокентием в район Калашников отправил Ганю, а вскоре и на самом деле в посёлок пришёл трактор со стройматериалами, и на берегу реки, в чозениевой роще началось строительство дачи. Построили её быстро, огородили высоким забором, у самой реки из смолистой лиственницы срубили баню.
Завершили лето на Отрожном два события. Первое, на первый взгляд, незначительное, было связано с бичами. Собрав свои нехитрые пожитки, они ушли из посёлка.
— Ой, не к добру это! — почему-то решила Верка.
Что она имела в виду, непонятно, но бичи, как известно, просто так ниоткуда не уходят. Не зря же говорят: крысы бегут с корабля, обречённого на гибель, а бичи уходят с насиженных мест, судьба которых уже не в руках человеческих.
Второе событие было связано с приездом на Отрожный Кошкина. В один из солнечных дней на реке из-за поворота к посёлку выскочила моторная лодка, а за ним появился водомётный катер. На лодке сидел Фестивальный, он выбирал фарватер, Кошкин в окружении весёлой компании с девками был на катере. На берег они сошли с песнями и громкой музыкой. Солидность Кошкина подчёркивали умеренная полнота, высокие на толстой подошве сапоги, полувоенный френч и серый в синюю полоску галстук, идущий за ним с тяжёлой магнитолой в руках тщедушный Фестивальный в сравнении с ним выглядел мальчиком на побегушках. Вскоре они скрылись на даче.
Что случилось на даче, видела одна Верка. Уже поздно вечером, когда сумерки и опустившийся на реку туман окутали посёлок, вспыхнула на даче баня. Выбросившись в небо ярким пламенем, огонь охватил её сразу со всех сторон. А потом в бане со звоном вылетело стекло, и кто-то стал кричать: «Горим! Помогите, сукины дети!» Окно было размером с локоть, и поэтому тот, кто кричал, вылезти через него не мог. Когда прибежавшие с дачи убрали подпиравший дверь горбыль, из бани выскочили голыми: первый Кошкин, а за ним какая-то девка. Кошкин матерился, а девка, подпрыгивая за ним козой, закрывала срамное место веником.
Баня быстро сгорела, а на её месте остались одни обугленные головёшки. Прежде чем поджечь, оказывается, её со всех сторон облили бензином. Бензин взяли с катера из запасного бачка. Кто это сделал, установить не удалось. Так как в это время в районе орудовала шайка разбойников, и главарём её был якобы Буров, пошли слухи, что и это дело его рук. И ещё говорили, что скрывался Буров раньше на Отрожном от Кошкина, который завёл на него какое-то уголовное дело.
По возвращению в район Кошкин собрал совещание руководящих работников своей администрации, на котором было принято решение: всех с Отрожного немедленно выселить. Вскоре на месте его осталось одно пепелище. Сгорел ли он в лесном пожаре, каких в том году на Колыме было много, пожёг ли его кто-то из тех, кого выселили, или сделано это было по указанию Кошкина, неизвестно.
По-разному сложилась судьба отрожненцев. Верка вернулась к своему мужу, снова работает старшим продавцом, директор магазина, с которым она крутила любовь, своё уже нахапал и сейчас на материке. Слышно было, что поймали Бурова. Его судили и, говорят, дали большой срок. Из бичей остался один Дудя. Ванятка зимой замёрз у автовокзала, а Артист повесился. Ганя побирается, как и раньше, просит милостыню во спасение Исусе. Фестивальный владеет большим магазином. Калашников живёт в общежитии. Он часто вспоминает Отрожный. Теперь ему кажется, что Егор Кузьмич во многом был прав. Да, свободны только бичи и нищие, но за это они расплачиваются голодом, болезнями и преждевременной смертью. А свобода для всех — это трагедия. Она оборачивается вседозволенностью сильных и наглых, и бесправием слабых и совестливых. Нужна власть, а уж какая — это зависит от того, кто под ней ходит. На Отрожном с его непростым народом нужна была власть Егора Кузьмича. С ним не поднялся бы Фестивальный, не сунулся бы в посёлок Кошкин, а остальные, хотя и ходили бы под его нелёгкой властью; но зато были бы и сыты, и одеты. Иногда Калашников вспоминал и своё университетское прошлое. Как человеку, пережившему тяжёлую болезнь, прошлое кажется не главным в жизни, так и Калашникову его университетское прошлое с лекциями о построении справедливого общества по Роберту Оуэну казалось мелким и наивным, словно и не жил он тогда, а искал себя в мире взятых из книг нравственных ценностей. И было непонятно; за что он загубил свою жизнь в ссылке, а Асину в психиатричке.
Капитан Аксёнов
У командира взвода охраны лагеря Д-302, капитана Аксёнова, жена и дети погибли во время войны. Сам он, после полученной на этой войне контузии, в строевых частях служить не мог, и когда ему предложили назначение на Колыму, в лагерную охрану, он согласился. Здесь он надеялся забыть своё горе и, если позволит здоровье, дотянуть до пенсии. Лагерь Д-302 был женским, сидели в нём и по уголовным статьям, и по политическим. По политическим больше сидели дети и жёны врагов народа. Работали все на кирпичном заводе по 10–12 часов в сутки. Работа была тяжёлой, кормили плохо, и поэтому многие на работе падали в обморок, а в бараках и больнице умирали от дистрофии. Капитан Аксёнов понимал, что помочь он им ничем не сможет, и поэтому зачерствевшее на войне его сердце здесь ещё больше зачерствело. В рамках, определяющих служебные обязанности, он составлял расписание караулов, разводил их по постам, писал рапорты, делал отчёты, а что было в лагере за этим, его мало интересовало. Особой жалости и большого сострадания к тем, кто падал в обморок и умирал, у него не было, видимо, ещё и потому, что случалось это каждый день и являлось уже нормой лагерной жизни.
Жил капитан Аксёнов в посёлке, занимал комнату в старом бараке. В нём, как и в лагере, жизнь его не отличалась большим разнообразием. Утром, проснувшись, шёл на общую кухню, разогревал тушёнку, кипятил чай, позавтракав, шёл на службу. Вернувшись вечером, опять разогревал тушёнку, грел утренний чай, ужинал, читал газеты и, покурив, ложился спать. К такому распорядку свободного от службы времени он привык, и его этот порядок не тяготил, как не тяготит всё, что становится повседневной нормой быта.
Однажды Аксёнову поручили просмотреть дело заключённой Беликовой, посаженной в лагерь за отца. Отец её был полковником и ещё в начале войны был осуждён на 25 лет лагерей за критику сталинской стратегии её ведения. Дело Беликовой затребовали наверх в связи с тем, что отец её из своего лагеря бежал. Что уж из этого дела там хотели взять — кто знает, а Аксёнову было поручено проверить, всё ли в нём заполнено, как положено.
В деле Беликовой оказалась не до конца заполненной графа: образование. Стояло — незаконченное высшее, а какой институт и какой факультет, указано не было. Вечером, когда заключённые вернулись с работы, Аксёнов вызвал её в свой кабинет. Так как все заключённые были для него на одно, ничего не выражающее лицо, когда она вошла в кабинет, он на неё не посмотрел. И если бы не оказалось, что до войны она училась в том же институте, что и он, ушла бы она от него без всякого с его стороны внимания. И хотя факультеты у них были разные: у неё — филологический, у него — исторический, учились они в одни и те же годы. Она поступила в институт после десятилетки, а он после рабфака.
— Профессора Янковского помните? — не отрываясь от дела, поинтересовался он.
— Его только и осталось, что помнить! — услышал он в ответ.
— Не понимаю, — поднял он голову.
Посмотрев на него с близоруким прищуром, и усмехнувшись с едва скрываемым презрением, Беликова ответила:
— Расстрелян — как враг народа.
И по тону ответа, и по не ускользнувшей от него презрительной усмешке Аксёнов почувствовал, что в этой небольшого роста и хрупкой женщине таится сильный характер. Зная, что на таких в первую очередь падает тяжесть административных мер по наведению порядка в лагере, он спросил:
— На что жалуетесь?
Уже не скрывая презрительной усмешки, Беликова внимательно осмотрела его лицо и, кажется, не найдя в нём того, что искала, поднялась со стула и спросила:
— Я могу идти?
Как правило, после работы, в своём бараке, Аксёнов не перебирал в памяти событий прошедшего дня, но этот случай долго не выходил у него из головы — и в первое время даже мешал уснуть. «Странная женщина», — думал он, лёжа в постели, и видел перед собой её глаза с близоруким прищуром и презрительную усмешку в опушенных уголках губ. Стал он замечать её и на работе. В цехе по обжигу кирпича, где было жарко и поэтому женщины сбрасывали с себя верхнюю одежду, он заметил, что выглядит она подростком и у неё сильно выпирают ключицы, столкнувшись же однажды с ней на выходе из цеха, он обратил внимание на то, что у неё карие глаза и чёрные, с коричневым отливом, волосы. Выделяя её из общей лагерной массы, он, помимо своей воли, стал обращать внимание и на других заключённых. Оказалось, что не все они на одно, ничего не выражающее лицо, а были среди них и весёлые, и грустные, и решительные, и испуганные. Подобное с ним случилось в Германии, когда он по одной из улиц Магдебурга вёл колонну пленных немцев. Тогда она ему тоже казалась вся на одно, по-заячьи испуганное лицо, но когда обратил внимание на белобрысого подростка, видимо, из команды гитлерюгенд, шагающего весело и бодро, похоже, и бравирующего этим, он увидел, что одни из пленных смотрят на него с поощряющей улыбкой, другие, постарше, с осуждением и сожалением. Однако когда этот подросток выскочил из колонны и бросился бежать в сторону разрушенного бомбёжкой здания, и Аксёнов его пристрелил, вся колонна снова обрела для него одно, по-заячьи испуганное лицо.
В последнее время Аксёнову стало казаться, что выглядеть Беликова стала хуже. Однажды он даже видел, как, толкая вагонетку с кирпичом, она упала на рельсы, и долго не могла подняться, а вскоре он узнал, что она лежит в больнице с дистрофией. «А ведь она там умрёт», — подумал Аксёнов и решил отнести ей что-нибудь поесть. В палате Беликова лежала в постели на спине и под одной простынёй. Здесь она казалась ещё меньше ростом, лицо её было бледным, глубоко впавшие глаза, казалось, ничего не выражали, потрескавшиеся губы были синими. Узнала ли она его, Аксёнов не понял. Когда он передал ей то, что принёс, она отвернулась к стене, и по лицу её побежали слёзы.
— Сразу всё не ешьте, плохо будет, — предупредил он её и вышел из палаты.
В другой раз, когда к ней пришёл Аксёнов, она уже могла ходить. Встретившись с ней в коридоре, он передал ей завёрнутый в газету бутерброд с маслом, а она, посмотрев ему прямо в глаза, спросила:
— Зачем вы это делаете?
Аксёнов пожал плечами. Он и сам не очень понимал, зачем это делает. Ведь всё это выходило за рамки служебных обязанностей, где раньше его ничто не трогало. «Веду себя как мальчишка», — думал он. Посмотрев, что ей принёс Аксёнов, Беликова со стеснительностью девочки улыбнулась ему и сказала:
— Вы уж извините меня, я поем при вас.
Чтобы не стеснять её, Аксёнов решил выйти из больницы и покурить на улице. Когда он вернулся, половины бутерброда уже не было.
— Плохо не будет? — спросил он.
В ответ Беликова рассмеялась и сказала:
— От этого плохо не бывает.
И сообщила, что врач разрешил ей не воздерживаться в еде.
— Я уже не дистрофик, — весело сказала она.
Постепенно они разговорились. Беликова рассказала о том, что мать её умерла, когда ей не было ещё и десяти лет, жили они вдвоём с отцом, по военным гарнизонам, как цыгане, искочевали всю страну. Как и за что арестовали отца, не сказала. Аксёнов много о себе не говорил, только сказал, что семья его погибла во время бомбёжки.
— Выходит, и вы одиноки, — грустно заметила Беликова.
— Разве и вы одиноки? — не понял Аксёнов.
— Я думаю, отец мой расстрелян, — ответила Беликова.
Забыв, что он выдаёт не подлежащие среди заключённых распространению сведения, Аксёнов сказал:
— Ваш отец жив.
— Как жив?! — вскричала Беликова и схватила Аксёнова за руку.
Убедившись, что это правда, она уткнулась лицом в стенку коридора и стала плакать. «Папа, папа, милый папа!» — повторяла она сквозь слёзы.
После больницы Беликову определили на лёгкую работу — учётчицей отгружаемого с завода кирпича. Вскоре она выглядела уже лучше, чем до больницы: на лице появился румянец, глаза обрели живой блеск, а вздёрнутая на голове белая косынка с двумя хвостиками сзади придавала ей задорный вид. «А ведь она красивая», — глядя на неё, думал Аксёнов, а когда, уже в своём бараке, долго не мог уснуть, спрашивал себя: «Уж не влюбился ли?» Во время одной из встреч он сказал ей:
— Аня, я часто о вас думаю.
Так как обращение по имени никак не вписывалось в грубую лагерную жизнь, оказалось оно для Ани, да, наверное, и для самого Аксёнова, неожиданным. В ответ, о чём-то немного подумав, Аня рассмеялась и сказала:
— А я вас сегодня во сне видела.
Кто знает — как начинаются близкие отношения между мужчиной и женщиной, но у Ани с Аксёновым они начались с этого. Теперь они стали встречаться чаще, нередко под надуманным предлогом, Аксёнов вызывал её в свой кабинет. Так как у Ани был большой срок заключения, о будущем они не думали, жили только настоящим. И как все, кто покалечен судьбой, они и этим были счастливы.
Известно, что чужое счастье многим колет глаза, и поэтому, чтобы его сохранить, надо с ним прятаться. К сожалению, в жизни такое встречается редко. В ней, наоборот, чтобы забыться в горе и зализать свои раны, прячутся от людей несчастные, а счастье — оно у каждого на лице, и его ни от кого не скроешь. Не скрыли его от окружающих и Аня с Аксёновым. Его вызвали на партбюро и вынесли строгий выговор, а Аню за связь с опером, — так заключённые называли всех охранников, — в бараке стали звать оперной подстилкой. Для Аксёнова не прошло это незамеченным и за пределами лагеря. Однажды в его комнату ввалилась пьяная компания офицеров, среди которой выделялся похожий на цыгана лейтенант Дергачёв. Выпив, он стал хвалиться своими любовными похождениями в лагере, не стесняясь в выражениях, обнажал их грязные стороны, а в заключение сказал, что эти лагерные шлюхи за кусок хлеба готовы на всё. Аксёнов слушал его с чувством глубокого отвращения, ему казалось, что таких, как Дергачёв, надо гнать из охраны в три шеи. Когда все стали расходиться, Дергачёв подошел к нему, с пьяной ухмылкой похлопал его по плечу, и сказал:
— А твоя шлюха и мне бы сгодилась.
Этого Аксёнов не вынес. Размахнувшись, он ударил Дергачёва по лицу. Не ожидая этого, Дергачёв растерялся, а когда пришёл в себя и понял, за что получил по лицу, зло сказал:
— Ну, Аксёнов, я тебе это припомню!
Неизвестно, чем бы закончилась история любви Ани и Аксёнова, если бы администрации лагеря Д-302 после пересмотра Аниного дела наверху, не было предписано перевести её на Серпантинку, в лагерь, известный на Колыме тем, что живым из него почти никто не выходил. Узнав об этом, Аксёнов решил бежать с Аней из лагеря. Вечером он почистил пистолет, зарядил запасные к нему обоймы, собрал в вещмешок всё, что было из продуктов, на всякий случай положил в него гражданскую одежду, а утром после развода вывел Аню за ворота лагеря и сел с ней на первую попавшуюся на трассе машину. Он знал: пока в лагере не поднимут тревоги и по указанию сверху не начнутся поиски, подозрения на трассе они ни у кого не вызовут: Аня — зэчка, которую везут куда надо, а он — её сопровождающий опер. Машина шла на Хандыгу, вёл её весёлый паренёк с похожим на детский расписной горшок круглым лицом.
— Ни фига себе! — рассмеялся он, увидев рядом с собой Аню. — Ты почему такая?
— Какая? — не поняла Аня.
— Красивая! — ответил, всё ещё смеясь, шофёр. — Еврейка, наверное?
— Почему еврейка? — не понял его и Аксёнов.
— А евреи все красивые, — ответил шофёр и, словно всё ещё не веря, что рядом с ним садит такая красавица, посмотрел на неё ещё раз и добавил: — Ну, ты даёшь!
Аню это развеселило.
— Да и ты ничего! — пошутила она.
— А это само собой, — согласился шофёр.
В постоянном с утра нервном напряжении, расслабился и Аксёнов. Он стал смотреть не только на дорогу, где можно нарваться и на случайную проверку документов, но и на всё то, что открывалось из кабины машины. А за ней весело играло на небе солнце, таёжные дали утопали в туманной дымке, справа, на поросшей ягелем сопке, паслись якутские олени, а когда пошли на Чёрный прижим, на дорогу выбежал заяц. Увидев машину, он высоко подпрыгнул и скрылся в придорожных кустах. «Всё будет хорошо», — думал Аксёнов. Увидев же, как на дороге подпрыгнул заяц, ему показалось, что и этого зайца, и это голубое небо, и весёлое на нём солнце он уже где-то видел. И память неожиданно вернула его к войне.
Не поладивший с командиром молодой лейтенант Аксёнов был направлен в штаб полка для перевода в другое подразделение. Ознакомившись с рапортом на него, в штабе решили, что лейтенант заслуживает наказания, а учитывая, что он ещё и с характером, направили его командиром штрафного взвода. Уже на следующее утро взвод бросили на подавление дота, который, выходило, никому — ни артиллерии, ни танкам — не взять. Аксёнов уже перед боем понял, что выйти из него живым он едва ли сможет. Если штрафников убивала только вражеская пуля, то к нему она могла прилететь и с их стороны. Вот тогда-то, вспомнил Аксёнов, перед тем, как идти в бой, над ним стояло такое же, как сейчас, голубое небо, так же весело играло на нём солнце, а когда пошли на дот, в болоте из-под ног его выпрыгнул заяц, и так же высоко подпрыгнув, бросился в ближайший кустарник. Аксёнов из этого боя вышел живым. «А ты, парень, в рубашке родился», — удивился этому командир батальона.
Вспомнив это, Аксёнов решил, что и сейчас ему повезёт, и побег их с Аней обязательно будет удачным. Зная, что интенсивные поиски беглецов с постами и проверкой документов на трассах продолжаются месяц, а потом они переносятся на авиапорты и пароходные пристани, он решил, что этот месяц они с Аней отсидятся в тайге. Когда машина прошла прижим и поднялась на вершину перевала, Аксёнов сказал шофёру:
— Останови-ка, браток.
— Что, придавило? — рассмеялся шофёр и остановил машину.
— Ну, вот что, — продолжил Аксёнов, — я вижу, ты парень хороший, и не из тех, кто продаёт и закладывает. Удачи тебе!
Догадавшись, в чём дело, шофёр растерялся, на лице появилось даже что-то похожее на испуг, а оправившись, удивился:
— Ну, вы и даёте!
Потом достал из-под сиденья сумку, вынул из неё буханку хлеба и, подавая её Аксёнову, сказал:
— В тайге сгодится. А я, — добавил он, — могила: никого не видел, ничего не слышал.
Когда Аня с Аксёновым сошли с дороги и пошли в сторону леса, он крикнул вдогонку:
— Капитан, береги её!
Вполне возможно, что с таким опытом работы в лагерной охране, как у Аксёнова, побег их с Аней мог бы оказаться и удачным, если бы не помешал непредвиденный случай. Через четыре дня на них вышли два якута, искавшие в тайге отколовшихся от стада оленей. Не догадаться, кто такие Аксёнов и Аня, они не могли. И ещё они знали, что беглецы, скрывая свои следы пребывания в тайге, часто убивают тех, кто на них выходит. Ночью они сбежали, а уже через сутки Аксёнов и Аня были взяты в оцепление. Когда оно развернулось в наступательный порядок, Аксёнов решил дать бой. Надеялся ли он, что из него выйдет живым, кто знает. Ведь представить, что думают и на что решаются обречённые, никому из нас не дано, потому что у жизни одна логика, а у смерти, когда она рядом, другая. Видимо, поэтому и Аня, когда Аксёнов предложил ей сдаться, отказалась.
— Умрём вместе, — тихо сказала она и, прислонившись к груди Аксёнова, заплакала.
Когда она успокоилась, он стал готовиться к бою. За вывернутым корнем старой лиственницы выбрал удобное для обороны место, проверил пистолет, запасные обоймы из вещмешка переложил в нагрудный карман. А оцепление было уже недалеко, лаяли собаки, солдаты, прячась за деревьями, готовились к открытию огня. Когда оцепление вышло на рубеж уверенного поражения, оттуда раздался крик;
— Аксёнов, сдавайся!
По голосу Аксёнов узнал: кричит лейтенант Дергачёв. В ответ ему он выстрелил в его сторону.
— А, сука! — крикнул Дергачёв и подал команду солдатам открыть огонь.
Зная, что после первого залпа солдаты станут занимать новый, ближе к нему, рубеж, Аксёнов переждал его, а потом, когда солдаты, перебежками, бросились к этому рубежу, он открыл по ним прицельный огонь. Впереди с автоматом бежал Дергачёв. Аксёнов даже заметил, что он был пьян. Запинаясь за кочки и падая, он грязно матерился. Скрывшись же за деревьями, он крикнул:
— Аксёнов, ты уже труп!
И пьяно расхохотался.
«Только по нему! — решил Аксёнов, и когда Дергачёв высунулся из-за дерева, он выстрелил. Видимо, пуля попала ему в голову. Вздёрнувшись и неловко выронив из рук автомат, Дергачёв уткнулся лицом в землю.
Первая пуля попала Аксёнову в левое предплечье. Увидев, что оно в крови, Аня, сорвав с себя косынку, бросилась его перевязывать. Видимо, когда она её срывала, кто-то из солдат это заметил и сделал прицельный выстрел. Цепляясь руками за Аксёнова, она сползла на землю и уткнулась головой ему в колени. Пытаясь её поднять, Аксёнов увидел, как в предсмертной судороге она хочет ему что-то сказать. «Аня, прости меня», — хотел сказать ей Аксёнов, и он, видимо, это сказал, но не услышал своего голоса, потому что вторая пуля сразила его насмерть.
На чужой земле
I
Память о прошлом не подвластна ни уму, ни сердцу. В тихие летние вечера она уводит в годы, полные умиротворения и покоя; в бессонные ночи, с неподвижной луной и холодными звёздами, сковывает сердце тяжестью тех лет, когда всё казалось чужим и беспросветным; весёлые от солнца и щебета птиц рассветы возвращают в далёкое и, не зависимо ни от чего, безоблачное детство. Память Еремея Зиннатулина, неподвластная и этому, сохранила только тяжёлые и крутые повороты жизни. Поэтому ему всегда казалось, что здешняя жизнь у него началась не с церковного прислужки в Охотске, а с того шурфа, в котором он добывал своё последнее золото. Помнил он его так хорошо, что казалось, и было-то это не шестьдесят лет назад, а совсем недавно.
Вот он, молодой Ерёма, один в раскинувшейся на сотни вёрст тайге, бьёт шурф и надеется на одну свою удачу. Шурф идёт плохо, и Ерёма с каждым днём слабеет и теряет силы. А на забое опять глина. Скованная вечной мерзлотой в камень, она не даётся на кирку, а на пожог оттаивает в четверть лопаты, и так липнет к ней, что не поддаётся на выброс, и приходится складывать её в бадью, а потом, выбравшись из шурфа, вытаскивать на верёвке. Ерёма понимает, что если глины будет много, до наступления весеннего таяния снега он не дойдёт до плотика, и шурф зальёт водой. А весна уже рядом. Солнце поднимается рано, а в полдень уже так припекает, что снежные сугробы под тяжестью талой воды оседают, а на крутых южных склонах сползают к их подножью. От блестящего на солнце снега у Ерёмы режет глаза, а ночью, в зимовье, от боли в них он долго не может уснуть. И сон всегда тяжёлый, похож на обмирание, а утром болит всё тело и, как в церковном колоколе, гудит в голове. Не позавтракав, он идёт на шурф, опускается в него по верёвке, выбрасывает из него оставшиеся от ночного пожога уголья и только после этого, возвратившись в зимовье, завтракает остатками вчерашнего ужина, пьёт настоянный на сухом смородиновом листе чай и курит. В последнее время, чтобы совсем не остаться без курева, он в мешочек с табаком подмешивает сухое корьё. Жить без хлеба, на одной оленине, он привык, а без табака как жить, он не представляет. Кажется, без него он не сможет ни уснуть, ни взяться утром за работу. С этим табаком он уже стал обманывать себя. Окурки он прячет за печкой, в консервной банке, и когда по мешочку с оставшимся табаком прибрасывает, на сколько его хватит, окурки он в расчёт не берёт. А оленя он подстрелил с месяц назад, и оставшегося от него мяса, по его расчётам, хватит дней на двадцать. Потом, когда уже начнётся половодье, надо будет выходить из тайги. Дорогой он прокормится куропатками, которых можно ловить и на петли. Оставшиеся к ружью пять дробовых патронов, как и окурки за печкой, он в расчёт не берёт. Обманывать себя таким образом у Ерёмы уже вошло в привычку. Ведь и этот последний шурф он раньше не брал в расчёт. И теперь вышло так, что вся надежда только на него. В других шурфах золота он намыл мало. Научил Ерёму обманывать себя, не принимая в расчёт того, что у тебя всё-таки имеется, русский мужик при товарной перевозке скота по только что открывшейся железке от Казани через Москву в Хабаровск. Случилось это так.
В Казань Ерёма Зиннатулин попал, избегая призыва на внезапно разразившуюся в четырнадцатом году германскую войну. Сделал он это по настоянию отца, известного в своей деревне тем, что ни с кем не ладил и делал всё по-своему. Женился он не на татарке, а на русской, наперекор всем, принял не мусульманскую веру, а православную и записался в крящены, сыну дал русское имя, жил в деревне не как все, в огороженной высоким забором рубленой избе, а открыто, на горе и в мазанке, а когда сыну пришла пора идти на войну, он и ей наперекор, сказал Ерёмке, что хоть он и русской веры, воевать за русских ему не с руки. Выделил отец из своего запаса ему новые шаровары и цветной камзол, обул в мягкие ичиги, отдал ему свой стеганый бешмет, и иди, сын, ищи свою удачу на чужбине. На вокзале в Казани, где Ерёмка искал возможность сигануть зайцем в любую сторону света, у него вскоре кончились выделенные отцом деньги, а стеганый бешмет и камзол украли. Русский мужик, с которым они потом месяц добирались до Хабаровска в одних с бычками товарных вагонах, подобрал его за вокзалом, где он, грязный и голодный, прятался от людей в заброшенном сарае. Плата за то, что он в пути будет ходить за бычками, была одна — кормёжка. Передавая хозяйство Ерёмке, мужик сказал, что везут они четырнадцать бычков, когда же Ерёмка их пересчитал, бычков оказалось пятнадцать. Пятнадцатого, сказал на это мужик, забудь, он не в расчёт. И хотя дорогой постоянно голодали, и пятнадцатого бычка можно было обменять на продукты, они его не тронули. «Ну, вот и хорошо!» — сказал мужик в Хабаровске, отвёл бычка на базар, взял за него хорошие деньги, а Ерёмке купил суконный армяк. Вот с тех пор Ерёмка и взял в привычку что-то не брать в расчёт, чтобы потом это получалось как неожиданная прибавка к твоему положению.
А в шурфе всё шла глина. За два дня было пройдено не больше, чем на две лопаты, и по тому, что глина меняла цвет с серого на голубой, Ерёма знал, её будет ещё много. Когда в шурф стала поступать талая вода, целый световой день ему пришлось убить на проходку водоотводной канавы. Вечером в зимовье пришёл мокрым, в сапогах хлюпало, вся куртка была вымазана жидкой глиной. Не хотелось ни есть, ни топить печь, было одно желание: упасть на нары и ни о чём не думать. В остывшем за день зимовье было холодно, с порога несло сквозняком, а от наступившего вечернего заморозка окно затягивало инеем. За собой Ерёма уже давно не убирал. На полу было полно мусора, в углу валялись обглоданные им кости, на столе стояла уже давно не мытая посуда. Пересилив себя, Ерёма решил растопить печь. Когда он полез в карман за кресалом и огнивом, его словно ударили по голове: на поясном ремне мешочка с золотом, с которым он никогда не расставался, не было. «Обронил в ручей!» — обожгла его догадка, и он, в чём был, выбежал из зимовья. В ручье мешочка с золотом не оказалось, а в шурф, занимаясь водоотводной канавой, он сегодня не спускался, значит, мешочек унесло по ручью вниз. Где его там искать?! Звеня на перекатах, ручей то прятался в расщелинах крутых склонов распадка, то уходил под еще не растаявшие сугробы снега. «Всё пропало!» — стучало в сознании Ерёмы, когда он, решив раскапывать первый по ручью сугроб, шёл в зимовье за лопатой. Когда же он вошёл в зимовье, его снова как ударили по голове: ремень с мешочком золота лежал на нарах! «Да как же так?! — не понял Ерёма. Выходит, дело дошло до того, что он уже не всегда знает, что и делает. Взяв ремень и опоясавшись им, он пряжку обмотал бечёвкой и завязал её на два крепких узла. «Так-то вернее будет», — решил он и, поужинав строганиной, лёг спать.
Как добил шурф, Ерёма плохо помнил. Осталась в памяти бегущая по стенкам его вода, она была как лёд холодной, от неё немели руки, а мокрые ноги казались чужими, но ещё хуже было, когда он вылазил из него и лотком в ручье промывал поднятую породу. От дующего с верховьев распадка холодного ветра леденела куртка, а руки уже коченели и плохо слушались. Ещё запомнил Ерёма, что золота было много, и в одном из лотков оказался самородок величиной с большой палец. Что было дальше, Ерёма не помнил. Больного в зимовье его нашли якуты. Очнувшись, он увидел, что перед ним на коленях стоит старый якут и оттирает ему руки. У него было доброе, всё в мелких морщинах, лицо, узкие, как у всех якутов, глаза, и по-козлиному жидкая бородка. Другой, молодой, якут стоял за ним и, кажется, улыбался. Увидев, что Ерёма очнулся, он сказал: «Околевал, однако». Ерёма схватился за пояс: где золото?! Золото было на месте. Потом перед Ерёмой всё стало расплываться, исчезли оба якута, перед глазами полыхнуло чем-то красным, и он потерял сознание.
Выходили Ерёму в якутском стойбище отваром из каких-то горьких, как полынь, кореньев. Когда он уходил из стойбища, решил оставить якутам немного своего золота. «Эн ирэки!» — рассердился на него старый якут, а молодой, смеясь, перевёл: «Глупый ты!» И добавил: «Якут золото не нада. Олень лучше». Ерёма пообещал, что в Охотске он купит много оленей и осенью их сюда пригонит, но когда молодой якут перевёл это своим сородичам, они, видимо, не поверив в это, весело рассмеялись. Тогда Ерёма снял с плеча ружьё и подал его старому якуту. «Учугей са! — обрадовался якут и, хлопая по плечу рядом стоящую молодую якутку, сказал: «Красивый дьахтар! Учугей кэргэн!» «Хороший ружьё, — перевёл молодой якут. — Возьми за него красивый девка, хороший супруга». «Женилка у меня не выросла», — пошутил Ерёма, а когда молодой якут это перевёл, все якуты снова весело рассмеялись. «Хороший народ», — подумал о них Ерёма. Ох, не знал тогда Ерёма, что придёт время, и он с этого хорошего народа будет драть три шкуры.
II
В Охотске Ерёма долго не знал, куда приложить руки и что делать с золотом. Хорошо ещё, не приохотился к водке, а иначе оставил бы его в кабаке, или хуже: пришибли бы вместе с ним охотники до чужого добра. Жил он на постое у попа того прихода, где раньше ходил в прислужках. Поп, как и он, водку не пил, вёл скромный образ жизни, и мясо ел только по большим праздникам. Делал он это, как понимал Ерёма, не из религиозных соображений, а по большой жадности. Собираемые с прихожан деньги он складывал в кожаный мешочек и прятал его не в церковной ризнице, как это делают часто попы, а в своей избе. Однажды, поздней ночью, когда Ерёме не спалось, он увидел, что прячет поп свой мешочек под полом в специально вырытом погребке. «Ну, и дурак! — подумал он. — Кто это не знает, что деньги под полом и прячут». Для чего поп копил деньги, Ерёма не понимал. Детей у него не было, самому — хоть завтра в гроб ложись, а у старухи его было плохо с головой. Она часто заговаривалась, когда на неё сильно накатывало, ходила по дворам и просила милостыню, а в другое время больше сидела в углу, на лавке, а как приходил вечер, просила у попа поесть. «Сысоюшка, — тихо просила она — ни-то кашки мне положь», — и дрожащей рукой вытаскивала из-за спины заранее приготовленную миску. При этом у неё дрожала не только рука, но и подбородок, а глаза бегали, как у пойманной мышки. «Бог положит», — хмуро отвечал ей Сысой. Старуха прятала миску опять за спину, крестилась и, глядя на Сысоя с таким видом, словно каши она этой уже и наелась, говорила ему: «Спаси тебя Господи!» «Ну, нет, — глядя на то, как живёт поп, думал Ерёма, — я так жить не буду». А как жить иначе, он не очень представлял. Пока его жизнь от поповской ничем не отличалась. Вместе с ним ходил в церковь, вместе хлопотали по хозяйству, и если поп прятал свои деньги под полом избы, то и он своё золото закопал под корявой, в два рога, лиственницей на окраине Охотска. Конечно, Ерёма понимал, что золото надо пустить в дело, но какое в Охотске можно открыть дело, если половина его жителей были бродяги, а вторая половина жила тем, что по случаю перепадало в руки? Хорошо жили лавочник да приказчик, но с ними, понимал Ерёма, каши ему не сварить.
А помог Ерёме определиться с золотом случай. В конце лета подошло к Охотску японское торговое судно. От него отчалила тяжело гружёная лодка, а когда она пристала к берегу, из неё ловко выпрыгнул коротконогий, с бритой головой и большим брюхом японец. «Дратуй, капитана!» — приветствовал он встречавшую его толпу и, прижав руку к сердцу, стал всем кланяться. Два его помощника, у каждого из которых за поясом торчали похожие на турецкий ятаган большие кинжалы, стали разгружать лодку. Началась торговля. Со стороны якутов и эвенков шла пушнина, а с японской — мука, соль, табак, чай, и всё, чем в тайге рубят и пилят лес, из чего стреляют и в чём варят оленину и кипятят чай. Японца звали Накамурой, а он всех, кто брал у него товар, хлопая по плечу и ласково улыбаясь, называл «капитаной». «А что, если не они сюда, — подумал Ерёма об эвенках и якутах, — а я в тайгу со всем этим добром!» От этой мысли Ерёму вздёрнуло, как застоявшегося в упряжке молодого жеребца от удара хлыста своего хозяина. Он понял: зимой, когда никаких здесь японцев не будет, цены на товар, да ещё с доставкой в тайгу, определять будет только он и так, как это ему надо. Не откладывая дело в долгий ящик, он на своё золото взял с японского судна всё, что считал нужным. С Накамурой на этом судне, расставаясь, они выпили по чашечке сакэ и остались друг другом довольны. Видимо, считая, что на русском языке «дратуй» — не только «здравствуй», но и «всего хорошего», когда Ерёма отплывал от судна, Накамура кричал ему с палубы: «Капитана, дратуй!»
И до наступления зимы Ерёма не терял времени даром. Сговорившись с кузнецом, он из каждой двуручной пилы, разрезав их пополам, сделал две одноручных. Тунгусы домов не строят, понимал он, а на всё остальное и эти пойдут. Цены же на них решил он оставить как на двуручные. В табак, исходя уже из своего опыта, он подмешал корьё, спирт, который в тайге ценится выше золота, разбавил водой, а чайники он решил продавать без крышек, а потом, на втором заходе, продавать и их по новой цене.
Весть о том, что в тайге появился купец со своим товаром, быстро облетела всё побережье Охотского или, как называли его эвенки. Дамского моря вплоть до Алдана и верховьев Колымы и Индигирки. Базу нового промысла Ерёма определил в своём зимовье, имея в виду, что в свободное время он будет промышлять и золотом. В помощники он взял почти за так недалёкого ума и уже совсем было затурканного колымской жизнью белоруса Янку. В рваном армяке, худой, с конопатым, в небольшое блюдечко лицом, он был похож на подростка, убежавшего из дома. «А де вянтовка?» — сразу потребовал он у Ерёмы. Получив её, Янка шмыгнул носом, подтянулся и стал делать вид, что в оружии он толк знает. Внимательно осмотрел затвор, проверил винтовку на прицельность, а заглянув в ствол, с укоризной посмотрел на Ерёму и солидно сказал: «Нэ порадок». И взялся ствол чистить. «А де нож?» — закончив чистку ствола, спросил он. Нож ему Ерёма дал, и он его сразу нацепил на пояс и не расставался с ним, даже когда спал. Похоже, кроме винтовки и ножа Янке от Ерёмы ничего было не нужно. «Такого придурка мне и надо», — решил Ерёма.
К зимовью из толстого леса Ерёма пристроил склад и посадил у него на цепь взятую в Охотске похожую на волка бродячую собаку. Чтобы собака меньше спала, он держал её впроголодь, а когда кормил, травил её палкой. От этого, считал он, она будет злее. Назвал он собаку Алданом. Главная обязанность Янки, как и Алдана, заключалась в охране Ерёминого товара, когда сам Ерёма разъезжал по тунгусам. Заниматься торговлей Янке он не доверял и поэтому, собираясь в очередной отъезд, всякий раз наказывал: «Никого не пускать! Кто полезет — стреляй!» Янке такой наказ нравился. Он подтягивался, поправлял на поясе нож и говорил: «У мянэ воны нэ зрадуются».
Чем больше у Ерёмы ломился склад от пушнины, тем жаднее становился он. За одноручные пилы он брал уже двойную цену, а за каждую крышку к ранее проданному чайнику при повторном объезде меньше беличьей шкурки не брал. Взялся он за хорошую плату и крестить тунгусов. Опыта в этом он набрался у отца Сысоя, у него же перед отъездом выпросил ризу и крест. Склонил он на свою сторону даже и тех, кто верил шаманам. По его выходило, что дух, с которым общаются шаманы при камлании, и на самом деле является святым, но ходит он под христианским Богом вместе с его сыном Иисусом Христом. И поэтому-то Ерёма крестит их не просто так, а во имя Отца-Бога, его сына Иисуса Христа и ихнего святого духа. Тунгусы в это верили, а про Ерёму говорили: «У-у, бачка умный!»
Весной Ерёма стал всё чаше ездить в то якутское стойбище, где его выходили от схваченной на шурфу болезни. Не пилы и не чайники возил он в этот улус, а бусы из сердолика и серебряные серьги да спирт, ничем не разведенный, и чай настоящий, плиточный. И ездил он туда к той девке, которую ему предлагал старый якут за подаренное ему ружьё. Звали её Сардана, и были у неё не по-якутски большие глаза и длинные, дугой подкрученные вверх чёрные ресницы. Когда Ерёма смотрел в эти с подкрученными ресницами глаза, у него кружилась голова, и хотелось взять эту Сардану в охапку и унести за улус в тальниковую рощу. Старый якут, которого звали Гермогеном, был её отцом и Ерёму в его желании понимал, не понимал его молодой якут Афанасий, которому Сардана уже приходилась женой. Когда Гермоген напивался привезённого Ерёмой спирта, он шёл к дочери и зятю и звал их к себе в гости. «Киль мене, — говорил он, — чай бар, арыгыы бар»[4]. У Сарданы, как у кошки перед прыжком на мышь, вспыхивали глаза, она начинала прихорашиваться, а Афанасий ругался на Гермогена. «Сарынгы эн!»[5] — кричал он и зло сплёвывал на пол. Однажды, когда напился и Афанасий, Ерёма Сардану унёс в тальниковую рощу. Уже было тепло, над ними щебетали птицы, рядом, словно уговаривая кого-то, журчал ручей, но они этого не замечали. Они были в том миру, где всё без слов сливается в одно дыхание и замирает в сладкой истоме готового выпрыгнуть из груди сердца.
Известно: любовь всегда идёт вразрез с делом. Случилось это и у Ерёмы. Чем больше он ездил к Сардане, тем меньше пополнялся склад пушниной. Да и Сардана стала уже не той, что была раньше. Широкий нос на осунувшемся лице стал шире, глаза, похожие раньше на спелую смородину, потускнели, а на ногах, когда Ерёма её раздевал, он видел грязные потёки. Чем меньше Сардана нравилась Ерёме, тем чаще она говорила ему своё «таптыбын», что по-русски означало «люблю». А так как любовь не в меру всегда отталкивает, Ерёма, в конце концов, к Сардане совсем охладел и перестал к ней ездить. А когда она сама приехала к нему в зимовье, он её погнал обратно. Сардана тогда плакала, падала перед ним на колени и целовала ему руки, но Ерёма остался неподступен. Конечно, если бы связь с ней не отражалась на деле, он, наверное, и не погнал бы её. «Дело — прежде всего», — твёрдо решил тогда Ерёма.
Всё это кончилось очень плохо. Однажды, когда Ерёма был в отъезде, Сардана снова прибежала к его зимовью. Стоял вечер, Янка, дремал и если бы не злой лай Алдана, она бы проскочила и в зимовье. Проснувшись и увидев у зимовья тунгуса в кухлянке, Янка и не стал гадать, кто это, а, как велел ему Ерёма, прицелился в него и выстрелил. Тунгус упал, а Янка, криво усмехнувшись, сказал: «Говорыл, воны нэ зрадуются».
Ерёма понял, что в этом деле, если оно дойдёт до Охотска, несдобровать и ему. И он решил его замять. Для этого он привёз в своё зимовье Гермогена с Афанасием, посадил их за стол, налил им спирту, и когда они выпили, забрав с собой и Янку, — вывел их на улицу. Там он снял с цепи Алдана и посадил на неё Янку. «За смерть Сарданы!» — объявил он Афанасию, а когда Афанасий перевёл это Гермогену, старик рассердился и, тыкая рукой в сторону Ерёмы, сказал: «Кини куахан кии»[6]. Два дня пили Ерёма с Гермогеном и Афанасием спирт, и два дня сидел на цепи Янка. Убежавший в тайгу Алдан через сутки вернулся и, бросившись к Янке, стал лизать ему лицо. Янка прижал его к себе и горько заплакал. «За що мянэ наказалы?» — не понимал он.
III
Разбогатев на пушнине, Ерёма открыл в Охотске свою лавку и стал уже не Ерёмой, а Еремеем, а в кругу местной знати и Еремеем Ринатовичем. И всё было бы у него, наверное, хорошо, если бы в Охотск не пришла советская власть. Его эта власть признала кулаком-мироедом, а когда Янка на собрании, где его принимали в комсомол, честно признался, что он убил тунгуску, власть эта стала копать под Еремея новое дело. И Еремей решил бежать в тайгу. Лавку его уже реквизировали, остался спрятанный в тайнике карабин, но одного карабина в тайге мало. Без муки, соли, да и без одежонки в ней долго не протянешь. Но где на это взять денег? И тут Еремей вспомнил про тайник попа Сысоя. Сам Сысой уже давно умер от сердечного приступа, а помешанная его старуха, перебиваясь на подаянии, жила одна. И Еремей решил этот тайник вскрыть и забрать из него деньги. «Зачем они старухе, — думал он, — и считать-то не умеет». В избу её он прокрался, когда она ушла побираться. Кожаный мешочек Сысоя оказался на месте, но когда Еремей стал его вытаскивать из тайника, он услышал за спиной: «Ай, Сысоюшка, что потерял?» Стояла за спиной старуха Сысоя и, глядя на Еремея, угодливо ему улыбалась. Еремей от неожиданности выронил из рук мешочек, и из него посыпались на пол деньги. Увидев это, старуха бросилась их собирать. Руки и голова у неё тряслись, из горла вырывалось что-то похожее на злое шипение змеи, изо рта текли слюни. «А ведь она меня выдаст!» — испугался Еремей. Словно в подтверждение этого, старуха, поднявшись с пола, зло посмотрела на него и прохрипела; «У-у, гадина!» «Что делать?!» — ударило в голову Еремея. А старуха уже швыряла в него поднятые с пола деньги, а когда они кончились, бросилась на него. Чтобы старуха не поцарапала ему лицо, Еремей её оттолкнул, а когда она бросилась на него снова, он ударил её по голове. Старуха упала на пол и, закатив глаза, стала биться в припадке. Когда припадок кончился, и старуха стихла, Еремей решил, что она отдала богу душу, но, уже собирая с пола деньги, он услышал, что она ещё хрипит. Собрав остатки денег, он поставил мешочек на пол, подошёл к старухе, опустился перед ней на колени и взял её за горло. Дёрнувшись всем телом, старуха обмякла. Прежде, чем уйти, Еремей приложил к её груди ухо и послушал, бьётся ли у неё сердце. Убедившись, что оно не бьётся, он взял мешочек с деньгами и скрылся за дверью. Пробравшись к себе задами, Еремей спрятал мешочек в поддувало нетопленой печи, выпил водки и лёг спать. Уже засыпая, подумал: «И человека убить просто».
В тайге Еремея тунгусы приняли холодно, а Афанасий при встрече от него отвернулся. Когда же Еремей попытался с ним заговорить, он сердито ответил: «Ойдоболун»[7]. Гермоген же и из юрты к нему не вышел. И Еремей обосновался в своём зимовье. «Так-то оно лучше», — думал он. Тунгусов он теперь ненавидел, а советской власти боялся. А она уже и сюда стала заглядывать. Приезжал комсомолец по фамилии Петухов и агитировал тунгусов за построение социализма в отдельно взятой стране, был и врач, лечивший всех бесплатно, а милиционеры, нагрянувшие внезапно, всё кого-то искали. «Уж не меня ли?» — испугался тогда Еремей. Хорошо, хоть в его зимовье не догадались они заглянуть. «Надо и отсюда бежать», — решил Еремей. Но куда бежать? На побережье — советская власть, а с другой стороны беспросветная тайга, в которой одному не выжить. И тут Еремей вспомнил: года два назад, в своём торговом промысле, вышел он в верховье Охоты на стойбище богатого якута Сивцева. Тогда они не поладили. Сивцева не устроили его цены, а Еремею не понравилось, что Сивцев отказался пить с ним спирт. Торговать же с трезвыми тунгусами в то время Еремей не умел. Сейчас, надеялся он, общий язык они найдут. Ведь и Сивцеву, с его стадами оленей, советская власть едва ли по нутру. А вдвоём, да с этими-то стадами, они найдут, что делать. Уйдут за перевал на Индигирку или Колыму, а там — ищи их.
Ночью, перед тем, как отправиться на поиски Сивцева, Еремею не спалось. То ли потому, что предстояло идти в неизвестность, или оттого, что собиралась гроза и было душно, на Еремея накатила тоска. «Вроде и жил, и не жил», — думал он. Вся здешняя жизнь показалась ему бессмысленной, словно и не жил он здесь, а по чьей-то чужой воле перекатывал тяжёлые камни с одного её берега на другой. «Ну, и что ж с того, что был богат? — думал он. — Разве от этого мне было лучше, чем простому тунгусу? Да нет! Ел так же, как и этот тунгус, не в три горла, и пил не заморские вина, и ходил в такой же, как он, кухлянке; только тунгус всему этому радовался, а я всю жизнь боялся — как бы это у меня не отняли». Что-то и другое тревожило Еремея, но что — разобраться в этом он не мог.
Отчего-то вдруг он вспомнил о Сардане, ему её впервые стало жалко. «Завтра схожу к ней на могилу», — решил он. Да и Янку Ерёме стало жалко: и за то, что посадил его на цепь, и за то, что после признания на собрании в убийстве Сарданы Янку не приняли в комсомол, а по суду дали большой срок. Казалось, Ерёма в эту ночь должен был покаяться в убийстве старухи отца Сысоя. Нет, этого не случилось! Видимо, он считал так: что не вредно, то и полезно. Ведь никому же не стало хуже оттого, что он её убил, а уж самой-то старухе и подавно: слава богу, отмучалась.
Утром Еремей и на самом деле решил сходить на могилу Сарданы. Подходя к стойбищу Гермогена, он увидел, что там собралась большая толпа народу, посредине которой стоит комсомолец Петухов и что-то рассказывает, а переводит его на якутский язык Афанасий. У Петухова был по-мальчишески вздёрнутый вверх нос, на голове ловко сидел красноармейский шлём, на поясе, в кожаной кобуре, висел наган. «Товарищи, — говорил он, — советская власть — это власть народа без капиталистов и помещиков. Она пришла к вам, чтобы вы не знали ни голода, ни холода, а для этого, товарищи, вам надо прежде всего разделаться со своими кулаками и мироедами. Эти паразиты вас грабили, отнимали у детей последний кусок мяса, а жён и дочерей ваших насиловали». К числу этих паразитов он отнёс и Еремея Зиннатулина. В заключение он крикнул: «Смерть кулакам и мироедам!» — и сдвинул кобуру с наганом ближе к животу, где её удобнее расстегнуть. «У-у, бачка умный!» — расходясь, говорили якуты. Сидевший в кустах Еремей всё это слышал. Не заходя на могилу Сарданы, он спустился к Охоте и пошёл вверх по её течению.
На Сивцева Еремей вышел через неделю. До него рука советской власти ещё не дотянулась, но о ней он всё знал от прибившегося к нему при побеге от этой власти белогвардейского прапорщика Гусева. Договорились идти в верховье Индигирки, где на Худжахе жил младший брат Сивцева Николай. Предстояла длинная дорога, и подготовка к ней заняла немало времени. Сам Сивцев готовил нартовые упряжки, дочь Саргылана и жена шили запас одежды и укладывали по-походному продовольствие, два сына, Кеша и Гоша, собирали оленей в одно стадо, Еремей, как мог, помогал Сивцеву, а прапорщик Гусев ничего не делал, потому что был болен. В своей фуражке со сломанным козырьком, в видавшей виды шинелишке, узколицый и со слезящимися от простуды глазами, он был похож на пойманную в клетку небольшую зверушку, у которой уже нет и желания из неё выбраться. Даже пистолет, висевший в кобуре на его ремне, казался игрушечным. «Этот не дойдёт», — понял Еремей и не стал обращать на него внимания. Сивцеву было тоже не до него, и ходила за ним Саргылана. Она поила его отваром каких-то трав, когда плохо ел, давала ему мясного бульона, готовила ему в дорогу одежду. Сыновья Сивцева больше были при стаде, а когда приходили в стойбище, много ели, а наевшись, крепко спали. Проснувшись, снова ели, и уже потом шли к стаду. «С этими не пропадёшь», — думал о них Еремей.
Вышли в путь, когда смёрзлась земля и выпал снег. Нарты по неглубокому снегу шли легко, застоявшиеся олени бежали быстро, через каждые два дня делали привал и ждали, когда Кеша и Гоша подойдут со своим стадом. И всё бы хорошо, да с каждым днём слабел прапорщик Гусев. В дороге он уже не вставал с нарт, а на привале не выходил из юрты. А мороз уже давил по-зимнему, в распадках от спрессованного холодом воздуха спирало дыхание, а на перевалах дули такие ветры, что и кухлянка не грела. На Колымском повороте Гусеву совсем стало плохо. Он уже часто терял сознание и бредил. На одном из привалов, придя в себя, попросил у Еремея бумагу и карандаш. Оказывается, он и видел плохо. С трудом отыскав в гимнастёрке очки, он нацепил их дрожащей рукой и стал писать. По лицу его бежали слёзы, и было видно, что он скоро опять потеряет сознание. Закончив писать, он свернул в четвертушку бумагу и, подавая её Еремею, прошептал: «В Рязань. Маме».
Перед сном Еремей с Сивцевым держали совет. «Всё равно умрёт», — говорил Еремей и предлагал оставить Гусева здесь, а самим идти дальше. Иначе, считал он, они надолго застрянут, и кто знает, чем это кончится. Сивцев не соглашался. «Зачем человек бросай, — говорил он, — человек бросай — худо». А Саргылана, услышав, что предлагает Еремей, зло посмотрела на него и, обращаясь к отцу, сказала: «Кини куахан кии». Еремей понял: она сказала, что он плохой человек. Потом Саргылана что-то долго говорила отцу на своём языке, а когда она кончила, Сивцев сказал Еремею: «Мой дочка оставайся. Гусев худо. Лечить будет». Еремей понял: они договорились о том, что Саргылана остаётся с Гусевым, а когда его поднимет, нагонит их. И тут вдруг в углу юрты, где лежал Гусев, раздался хлопок выстрела. Обернувшись туда, все увидели: Гусев дёргался в предсмертной судороге, рядом с ним лежал пистолет, из дула которого тонкой струйкой выходил дым. Значит, он был в сознании и всё, что о нём говорили, слышал.
Похоронили Гусева под старой лиственницей в неглубоко вырытой яме. На затёсе лиственницы Еремей вырубил топором: «Гусев». Ни имени его, ни года рождения никто не знал.
На брата Сивцева, Николая, вышли в разгар зимы. Жил он со своей семьёй на Худжахе, оленей у него было немного, и промышлял он ещё охотой. По его выходило, что и сюда советская власть уже добралась. Прошлым летом были здесь из Олы и Нагаево её представители, уговаривали вступать в колхоз, а сам Николай тем летом ходил у геологов в проводниках. Еремей понял: от советской власти ему не убежать, а когда прошла зима и приехали геологи, он устроился у них промывальщиком.
Опыт в промывке золота у Еремея был большой, и он скоро выдвинулся в число лучших промывальщиков. Потом взялся бить шурфы, и здесь показал себя как надо, а к концу полевого сезона уже ходил в завхозах. И это, с его опытом, полученным в Охотске, когда он держал свою лавку, было ему с руки. А однажды, когда геологи потеряли россыпь, он, прикинув по-своему, посоветовал им пробить шурф на правом борту ручья. Шурф пробили и нашли в нём золото. «А из вас бы хороший поисковик получился», — сказал тогда Еремею начальник партии и посоветовал ему поступить на курсы геологов в Нагаево. Еремей от курсов отказался, а осенью, когда геологи уехали, он вернулся к братьям Сивцевым. С ними он пас оленей, промышлял белку, а как прошла зима, с Кешей и Гошей ловили рыбу на Дарпире. С ними на этом озере была и Саргылана. Она разделывала рыбу, солила её и вялила, собирала грибы и смородину. Сложением и вздёрнутыми вверх чёрными ресницами она была похожа на Сардану и, видимо, поэтому Еремею нравилась. Когда Кеша и Гоша уходили на рыбалку, он к ней приставал, но всегда получал отпор. При этом глаза её, как у змеи, горели ненавистью, а один раз она даже схватилась за нож. «Из-за прапорщика Гусева», — думал Еремей. Не зная якутского языка, он не мог ей объяснить, что этот прапорщик и без него бы, не выдержав дороги, умер. Его Еремею было не жалко, хотя мнение о нём изменилось. «Не хлюпик, — думал он. — Хлюпики не стреляются».
Чем больше упорствовала в своём Саргылана, тем больше она Еремею нравилась. Его желание овладеть ею стало таким, что он готов был её изнасиловать. И он бы это сделал, если бы не вмешались в их отношения Кеша с Гошей. Узнав, что он пристаёт к сестре, они его погнали из юрты. И началась после этого у Еремея бродячая жизнь. Пока не кончилось лето, он ходил с геологами, к зиме прибился к охотнику-одиночке и бил с ним белку, потом устроился завхозом в организованный недавно оленеводческий колхоз, но там ему не понравилось, потому что много над ним стояло начальства. Год работал в Оймяконе на метеостанции, но и её бросил: замучило безделье. Память об этом отрезке жизни Еремею сохранила мало. Казалось, что тогда, если он что-то и делал, то не знал, зачем, а срываясь с одного места на другое, никогда не задумывался, что на прежнем месте ему могло быть и лучше. А когда такой же, как он, бродяга предложил податься с ним в Нагаево, он согласился. «Может, там найду, что делать», — подумал он.
IV
После тайги посёлок Нагаево Еремею показался городом. Уже возводились каменные дома, работали столовые, магазины и баня, строились авторемонтные мастерские, достраивалось здание электростанции, по улицам бегали машины, по узкоколейке, проложенной в верховье Магаданки, ходил паровоз. Всё ещё не зная, что советская власть с самого начала поднимается под твёрдым красным флагом, Еремей не мог понять, почему паровоз назвали «Красный таёжник». И не только это не понял Еремей. Когда он попытался устроиться в дом приезжих, ему дали карточку для заполнения. В одном из её пунктов стояло: социальное положение. Не зная, что это такое, он обратился за разъяснением к дежурной. Пристально посмотрев на него, одетая в военную гимнастёрку дежурная ответила: «Есть два положения: рабоче-крестьянское и эксплуататорское, — и уже с подозрением окинув обросшего чёрной бородой Еремея, добавила: «А для кулаков-мироедов и других угнетателей трудящихся масс местов у нас нету», — а накинув на нос в железной оправе очки, строго спросила: «А вы отмечались в управлении НКВД?»
Схватив свой сидор, Еремей выскочил на улицу и бросился по ней, куда глаза глядят. Когда на этой улице он увидел колонну молодых людей, идущих ему навстречу твёрдой поступью и с высоко поднятыми головами, ему показалось, что все они похожи на комсомольца Петухова.
На ночь Еремей устроился в заброшенном сарае, а рано утром его схватили люди в военной форме. Их было двое. Один из них, со шрамом на лице, сразу стал копаться в его сидоре, а обнаружив в нём песцовые шкурки, сказал: «Годится». Второй, крупного сложения мордоворот, выяснив, откуда Еремей, приказал: «Айда с нами». «Попался!» — стучало в голове Еремея, когда эти двое вели его под своим конвоем. Однако привели они его не в милицию, а в похожий на сарай глинобитный домик, прилепившийся к посёлку со стороны бухты. В нём на полу сидели два приблатнённого вида мужика и играли в карты. Рядом стояла недопитая бутылка водки, у колоды карт кучкой лежали часы, цепочка и позолоченный браслет. В углу, на ящике из-под консервов, сидел как жердь длинный парень. Был он уже хорошо подпитым, и его качало. Увидев, как входят Еремей и его конвоиры, он взял лежащую на полу гитару и хрипло пропел:
Открывай, мамаша, двери. Сын израненный идёт. Грудь порезана ножами, С под рубашки кровь течёт.«Заткнись! — цыкнул на него поднявшийся из-за карт один из приблатнённых в клетчатой кепке и хромовых сапогах. Суетливо, как будто его кто кусал под рубашкой, он подскочил к Еремею, оценивающе на него посмотрел, а потом, обернувшись к тому, что со шрамом на лице, коротко спросил: «Кто?!» «Как велел, пахан. Морда бусурманская, за охра сгодится», — ответил со шрамом.
«Куда я попал?» — всё ещё не мог понять Еремей. А попал он в известную в те годы банду Мордачкова. Она совершала кражи и грабежи, своими действиями терроризировала население, а в последнее время под видом работников НКВД проникала в советские учреждения и грабила их. Еремея они наметили для организации побега своих дружков из лагеря. По их плану предполагалось, что он, переодетый в форму охранника, проведёт в лагерь под видом заключённых этого, в клетчатой кепке, и мордоворота. У них под одеждой будет оружие, а Еремей, как татарин, не вызовет на воротах подозрения. В то время большая часть лагерной охраны состояла из татар. Еремей понимал: заартачься — они его зарежут.
Так как у бандитов работа была ночная, они вскоре легли спать. Когда уснули, Еремей подумал: «Не убежать ли?» К несчастью своему, и этого он не мог сделать. Бандиты его всё равно бы в посёлке нашли, а заявить о них в милицию — и самого загребут. «Что же делать?» — думал он. Оттого, что придумать Еремей ничего не мог, он совсем упал духом, и его охватило такое чувство безысходности, от которого хоть накладывай на себя руки. И он, кажется, впервые за всю свою колымскую жизнь вдруг вспомнил, что и у него есть своя родина, где, наверное, ещё живы и отец, и мать, а сестрёнка Фатима наверняка уже замужем. И словно во сне, перед ним всплыли картины детства. Вот он, босоногий Ерёмка, вдёт с реки по пыльной улице, над ним голубое небо и яркое солнце, лёгкий ветерок ласкает лицо и грудь, у поворота на церковную площадь посреди зелёной лужайки, вытянув вверх шею, стоит белый, как снег, гусь и косит на Ерёмку злым глазом. Когда Ерёмка оказывается с ним рядом, гусь, внезапно растопырив крылья и вытянув шею по земле, бежит к нему и больно клюёт в ногу. «А-а!» — кричит Ерёмка и прячется за церковную ограду. А на крыльце церкви сидит сторож и играет на балалайке. «Киль менде»[8], — зовёт он Ерёмку, а когда Ерёмка к нему подходит, даёт ему пряник. А дома Ерёмку ждут отец и мать. Они сидят за столом, на отце белая рубаха, на матери вышитая цветами кофта, на столе, в большой глиняной миске, целая гора варёной картошки, от которой до самого потолка вдёт пар. Обжаренная с луком, она хорошо пахнет, а когда Ерёмка садится за стол и её ест, она кажется ему вкуснее пряника.
А вот Ерёмке уже семнадцать. Стоит тёплый вечер, с реки тянет прохладой, пахнет черёмухой и липой, а на окраине села играет гармошка. Там сабантуй, и Ерёмка идёт туда. Ждёт его там Флера, и они договорились, что после сабантуя пойдут вместе домой и будут целоваться. Целоваться им нравится, но когда Ерёмка захотел больше и полез ей однажды под сарафан, она его ударила и убежала домой. Когда Ерёмка, уже в восемнадцать лет, в своих новых шароварах и цветном камзоле, уходит из села, чтобы не попасть на войну, за селом его догоняет Флера. Она виснет у него на шее, плачет, а в лесу, куда они свернули с дороги, она ему отдаётся. Пока Ерёмка не скрылся на повороте за этим лесом, она всё стояла и махала ему рукой.
При воспоминании о матери с отцом и о Флере Еремею так захотелось домой, что хоть бросай всё и беги туда. И Еремей это бы сделал, если бы у него были деньги хотя бы на пароход. По железной дороге от Владивостока до дома он бы добрался и зайцем. И он решил добыть эти деньги с бандитами. «Один хороший налёт, — подумал он, — и деньги в кармане». Сделать это Еремею не удалось. Вечером, когда бандиты послали его за водкой, их накрыла милиция.
Трудно сказать, что было бы с Еремеем дальше, если бы он не встретил в Нагаево начальника партии, который на Худжахе предлагал ему поступить на курсы геологов. Теперь, когда он предложил ему это снова, Еремей не отказался. О том, что он когда-то жил в Охотске, Еремей скрыл, а документы, свидетельствующие об этом, сказал, сгорели в одном из таёжных пожаров. По рекомендации этого начальника партии Еремея на курсы приняли без особой проверки его прошлого в органах НКВД. Поселили его в общежитие и поставили на бесплатное питание в рабочей столовой.
Одна половина курсов уходила на политзанятия, вторая — на геологию. Первую из них проводил уволенный в запас капитан из управления местных лагерей Дурновцев. Лысый, небольшого роста, в широких галифе и туго затянутой офицерским ремнём гимнастёрке, он был похож на графин, которому снизу подцепили обутые в сапожки короткие ноги. Видимо, по указанию сверху, вытекающему из порядка построения социализма в отдельно взятой стране, занятия он свои начал с изучения дисциплинарного устава Красной Армии. При входе его в класс все вытягивались в стойку «смирно», а дежурный докладывал ему о готовности класса к занятиям. Благодаря Дурновцеву Еремей понял, что построить социализм в отдельно взятой стране трудно, а поэтому от всех его строителей требуются армейская дисциплина и строгий порядок. Следующая часть занятий Дурновцева заключалась в изучении биографии Ленина. Здесь он был подкован хуже, чем в дисциплинарном уставе, и ломил такое, что у подкованных более его курсантов вяли уши. «Итак, — заявил он на первом занятии, — главный вождь мирового пролетариата, товарищ Ленин, родился в городе Симбирёвске». «Не в Симбирёвске, а в Симбирске», — кто-то поправил его из класса. «А это мы ещё посмотрим!» — не согласился Дурновцев, а умнику, выскочившему с подсказкой, по биографии Ленина на экзаменах вкатил двойку. После всех этих занятий социализм Еремею представлялся в виде большой казармы с одинаково вытянутыми в стойку «смирно» солдатами революции, а в передней этой казармы, на высоком пьедестале, он видел Ленина. Так как представить живой образ «главного вождя мирового пролетариата» Еремей не мог, на его месте он видел лысого Дурновцева, перетянутого широким офицерским ремнём с блестящей пряжкой.
Вторую часть занятий, геологическую, проводил геолог из управления Марий Евгеньевич. Был он сухощавого сложения с аккуратным большим носом и толстыми усами. Рассказывал он о геологии увлекательно и интересно, но Еремею казалось, что многое он выдумывает. Когда он рассказал об обитавших на Севере мамонтах и сказал, что они сами по себе вымерли, Еремей ему не поверил. «Убежали куда-нибудь», — подумал он. А вот всё, что рассказывал Марий Евгеньевич о золоте, Еремей слушал, затаив дыхание. А Марий Евгеньевич рассказывал о нём так, что казалось, он сам видел, как оно вместе с вулканами выносилось из земли, застревало в кварцевых жилах, вымывалось оттуда водой, переносилось по ручьям и рекам, осаждалось на плотике. Однако экзамен Марий Евгеньевич принимал строго и только Еремею поставил «отлично». А после экзамена он, как и начальник партии на Худжахе, сказал ему: «А из вас хороший поисковик получится», — и записал его фамилию в свой блокнотик. Прощаясь, он пожал Еремею руку и сказал: «Старайтесь, молодой человек. Золото нам во как нужно!» — и срезал себя по горлу.
Направили Еремея на Хаттынах, туда получила направление и Шура Субботина, с которой у него на курсах сложились дружеские отношения. Внешне она была непривлекательной: у неё был крутой лоб, широко расставленные глаза и мужиковатое сложение, и привлекала она Еремея только тем, что отличалась независимым характером и большой напористостью. Такие люди Еремею всегда нравились. Его и к Саргылане-то тянуло, наверное, за её неприступность и твёрдый характер, и прапорщика Гусева стал уважать после того, как он застрелился, а вот Сардану, жену Афанасия, перестал уважать, как только она стала вешаться ему на шею. И если бы её не убил Янка, и воспоминаний бы о ней, наверное, у него не осталось.
Перед отъездом на Хаттынах Еремей с Шурой решили съездить в парк культуры и отдыха, где по случаю слёта передовиков ожидались большие торжества и интересные мероприятия. Стоял тёплый июль, и, словно по заказу, на небе по-праздничному играло солнце, с моря тянуло освежающей прохладой, в парке было много зелени и щебетали похожие на воробьёв юркоголовые птички. «Славно-то как!» — говорила Шура и тянула Еремея то к оркестру, который играл марш, то к качелям, где катались дети. На качелях катались и они. У Шуры на них захватывало дыхание и кружилась голова, а Еремею на них хотелось подняться ещё выше. Потом они смотрели, как играют в волейбол. Еремей его видел впервые, и, наверное, поэтому ему казалось, что у него бы получилось лучше, чем у тех, кто в него играл. Потом они смотрели выступление артистов. Они пели, плясали и показывали фокусы и гимнастические упражнения. На танцплощадке Шура учила Еремея танцевать, но у него ничего не получалось, и он ей часто наступал на ноги. Шура смеялась и называла его медведем. В книжном киоске она покупала книги, а в буфете Еремей пил пиво. Когда настал вечер, они решили сходить в кино. И тут, при подходе к клубу, Еремей увидел стоящего у его входа Афанасия. Узнал его и Афанасий. Ничего не говоря, он быстро скрылся в клубе, а через несколько минут Еремея уже вязала милиция.
IV
Обвинили Еремея по двум статьям: соучастие в убийстве Сарданы и убийство старухи Сысоя. Первое обвинение вытекало из следственных документов, связанных с Янкой, а по второму, как показал Афанасий, Еремея видели, как он в день убийства старухи выходил из её избы. Еремей всё отрицал, говорил, что Янке никаких указаний по части стрельбы в тех, кто приходил без него, не давал, а в день убийства старухи его в Охотске не было, а был он в тот день на рыбалке. «Ха! — смеялся на первом допросе следователь. — Выходит, я — не я, и жопа не моя!» Еремею он чем-то напоминал прапорщика Гусева; он также был похож на пойманного в клетку небольшого зверька, только глаза у него были не слезящиеся, как у прапорщика, а острые и бегающие. «Ну-ну, — весело продолжал допрос следователь, — значит, перед нами серафимчик о шести крыльях? Н-да! — брался он за голову. — А мы-то ду-умали!» И вдруг, ударив кулаком по столу, закричал: «Встать, падла!» Еремея на этом допросе били, топтали сапогами, потом он потерял сознание и ничего дальше не помнил.
После этого на допрос Еремея долго не вызывали, а когда вызвали, допрашивал его уже другой, совсем не похожий на первого, следователь. Этот был небольшого роста, но крупного сложения, через высоко сидящие на носу очки глаза казались большими, как у коровы, короткие с пухлыми ладошками руки были похожи на тюленьи ласты. Говорил он мягко и тихо, и словно не с Еремеем, а с самим собой. «Говорите, не убивали старуху, ну что ж, и ладно», — согласился он с Еремеем и предложил ему из своего портсигара папиросу. Еремей уже не курил, но тут он от папиросы не отказался, а когда закурил, то так раскашлялся, что его чуть не вырвало. Следователь это понял по-своему. «Больше вас бить не будут, — сказал он, — а лёгкие мы вам подлечим». Покопавшись в бумагах и найдя нужную, продолжил: «Значит, о старухе ни слова. Хорошо. Давайте о другом». И направив на Еремея свет похожей на автомобильную фару лампы, вкрадчиво спросил: «Когда вы последний раз встречались с Накамурой?» «С каким Накамурой?» — не понял Еремей. «Каким Накамурой? Японцем, разумеется», — ответил, улыбаясь, следователь. Никакого Накамуры Еремей не помнил. Следователь нажал под столом кнопку, и в кабинет ввели Афанасия. Вид у него был жалкий, осунувшееся лицо, как у старухи, было морщинистым, но в глазах горели злые огоньки. «Начальник, зачем меня турму сажал, — накинулся он на следователя, — не я старух убивал, он старух убивал!» И показал рукой на Еремея. «Хорошо, хорошо, — согласился с ним следователь, — и вы не убивали, и гражданин не убивал. А кто убивал, мы разберёмся. Скажите, Афанасий, кто такой Накамура, когда и где с ним встречался этот гражданин?» «Накамура — кулак, — вскричал Афанасий, — большой мироед, он с нас шкур драл, капитана нас дразнил!» И тут Еремей всё вспомнил. Когда Афанасия увели, он обо всём, что было связано у него с этим Накамурой, рассказал следователю. Даже вспомнил, как этот Накамура, провожая его, кричал с палубы: «Капитана, дратуй». «Ох, уж эти самураи! — смеялся и следователь, а утерев платочком выступившие на глаза слёзы, спросил: «А о чём вы ещё с ним говорили?» «Да он же по-русски ни бельмеса!» — удивился Еремей, что следователь так ничего и не понял. «Хорошо, хорошо, — согласился с ним следователь, — он ни бельмеса, и вы ни бельмеса. А договаривались ли вы о том, что и дальше будете поставлять ему на судно, ну, конечно, не за так, своё золото?» Вспомнив, что на языке жестов они об этом договаривались, отрицать этого Еремей не стал. «Ну, вот и ладненько», — обрадовался следователь, а когда Еремей уходил, он попросил его подписать протокол допроса.
Еремей из этого допроса ничего не понял. Не понял он и всего, что было на следующем допросе. Следователь интересовался Марием Евгеньевичем. Долго расспрашивал, как он проводил занятия, что на них говорил, не затрагивал ли политических вопросов. Еремей, как мог, на всё отвечал, и было видно, что следователь им остался доволен. В конце допроса спросил: «Выходит, он вам одному поставил за экзамен отлично?» Получив утвердительный ответ, он Еремея похвалил, а потом поинтересовался, что ему говорил Марий Евгеньевич после экзамена. Когда Еремей ответил и на это, следователь потёр руки и переспросил: «Так и сказал: золото нам во как нужно?! И последний вопрос, — решил, видимо, уже отпустить Еремея следователь. — Что записал ваш Марий Евгеньевич в свой блокнотик, когда беседовал с вами?» «Не знаю», — ответил Еремей. «Хорошо, хорошо, — опять потёр следователь руки, — и с этим разберёмся. А теперь протокольчик подпишите» — попросил он Еремея и велел отвести его в камеру.
«Как он всё это узнал?» — не понимал Еремей, сидя в своей камере на нарах. Откуда было знать ему, что в казарме, какой он, по Дурновцеву, представлял социализм, кроме одинаково вытянутых в стойку «смирно» солдат революции, были ещё и стукачи. Ведь в тайге, где он провёл большую часть своей жизни, их не было. Догадываясь, что за новым следствием таится что-то более опасное, чем за первым, он решил рассказать обо всём соседу по нарам, украинцу Ткачуку. Было видно, что он человек грамотный, а кто-то в камере говорил, что на воле он ходил в известных в крае коммунистах и занимал высокие должности. С каждого допроса его приводили избитым, но он, как казалось Еремею, не падал духом. Наоборот, чем больше его на допросах били, тем он крепче держался в камере. «Ничого, хлопци, — говорил он, — бувае и хуже». И рассказывал о том, как в годы японской интервенции в Приморье он попал в плен, и японцы, пытаясь узнать, где находится полевой штаб Лазо, не били его, а кормили селёдкой и не давали пить, а рану на голове посыпали солью. «Усолили мэни, стервы, як саму селёдку», — смеялся он. Здесь же обвиняли его в создании контрреволюционной шпионско-диверсантской организации, одной из главных задач которой являлась передача колымского золота Японии. «О дурни! — не понимал он своих следователей, — я ж этих самураев бив, як гадючий потрох! — И уверенно добавлял: — Ничего, товарищ Сталин во всём разберётся!» «Видно, и у них не всё ладно», — слушая его, думал Еремей. Верил ли Ткачук, что товарищ Сталин во всём разберётся, кто знает. По ночам он метался во сне, стонал, с кем-то разговаривал, а вечерами подходил к окну, долго смотрел сквозь решётку в небо и тихо повторял: «Думи, мои думи, лыхо мэни з вами». Выслушав Еремея, он сказал: «Хлопец, та ж тоби з Японией, як и мэни, шпионскую дыверсию цепляють». Дня через два после этого Ткачука вызвали на допрос, а с него он уже не вернулся. В камере пошли разговоры, что он на этом допросе бросился на следователя, и его пристрелили. Так ли это, точно никто не знал.
А вскоре вызвали на допрос и Еремея. «Ну, что ж, дело наше идёт к концу», — потирая руки, сказал ему следователь и опять предложил папиросу. Еремей от неё отказался и спросил, в чём его обвиняют. Ткачук оказался прав: его обвиняли в злоумышленном вредительстве советской власти, выразившемся в подготовке передачи Японии большого количества золота. Когда Еремей стал это отрицать, по распоряжению следователя в кабинет ввели в кровь избитого человека. Один глаз, как показалось Еремею, у него был выбит, под другим был большой синяк, на лице, похоже, ему тушили папиросы, а от усов остались одни кровавые клочья. С большим трудом Еремей узнал в нём Мария Евгеньевича. «Ну, вот мы и встретились, — весело заметил следователь и, ткнув пальцем на Еремея, спросил: «Он?» Ответить Марий Евгеньевич ничего не мог, у него хрипело в горле, и он, похоже, уже терял сознание. Его вздёрнули за пиджак, облили водой, и когда следователь повторил вопрос, он обхватил голову руками и заплакал. «Ну, вот и хорошо, — сказал на это следователь, — примем это и за раскаяние, и за признание». После этого Марию Евгеньевичу дали подписать протокол очной ставки. Было видно, что, подписывая его, он не знает, что делает. Руки и голова у него тряслись, а зрачок невыбитого глаза бегал, как у человека, которому на шею накинули петлю.
На следующем допросе Еремей категорически стал отвергать предъявленное ему обвинение, и его стали бить. Бил его тупоголовый верзила, и делал он это с садистским наслаждением и в определённой последовательности. Приступая к своему делу, всегда спрашивал: «С чего начнём, татарская морда?» И начинал не с удара по голове, после которого Еремей терял сознание, а с короткого тычка в живот. У Еремея темнело в глазах, спирало дыхание, а когда он падал на пол, верзила ему выкручивал руки и ноги. Удар по голове был последним, после него Еремея отливали водой и волокли к следователю. Что происходило у следователя, Еремей понимал плохо. У него кружилась голова, казалось, стоит неловко повернуться, его тут же вырвет, когда лицо следователя расплывалось, оно становилось похожим на коровью морду, вопросов Еремей не понимал, а слова «диверсия», «золото», «враг народа» тупо били ему по голове и не о чём не говорили. Еремей понимал: в таком состоянии он может поставить свою подпись под любым протоколом допроса. Чтобы этого не случилось, он старался оставить в убегающей в бессознание памяти одно: ничего не подписывать.
Расстрела Еремею не дали, но срок раскрутили на полную катушку. Избежал расстрела он, видимо, потому что дело о соучастии в убийстве Сарданы и об убийстве старухи Сысоя, как надо, до конца не довели, а по второму делу его, видимо, спасло только то, что он не подписал последних протоколов. Как бы в это время ни стряпали дела на врагов народа, видимо, кому-то пришло в голову, что дело Еремея о сговоре с японцами вредить советской власти, о которой, когда он жил в Охотске, никто ничего не знал, не лезет ни в какие ворота. И всё-таки по суду он прошёл, как обвиняемый по 58-ой статье.
VI
Попал Еремей на ураново-касситеритовый рудник Бутугычаг. Закрытый от мира каменной громадой гор, а от солнца и неба тяжёлыми тучами и липкой, как пот, моросью, он не значился ни на каких географических картах, а в спецслужбах проходил под особым литером. Опутанный колючей проволокой, лагерь выделялся сторожевыми вышками с пулемётной охраной, двухэтажным административным зданием, обогатительной фабрикой с высокой дымовой трубой, а всё остальное — и бараки, и хозяйственные пристройки к ним, казались никому не нужными и всеми покинутыми. Только утром, когда били подъём и выстраивались на работы, лагерь оживал, но и в нём, обезличенном колоннами, бригадами и отрядами, живых людей не было, поэтому и в строю стояли не Ивановы и Петровы, а их номера и литеры. Обезличена была и охрана: вся на одно, по-казарменному тупое лицо, она различалась только по званиям, и лишь собаки, рвущиеся с её поводков, имели свои клички. Вся эта серая масса, пропахшая потом и зловонием разлагавшихся в струпьях тел, разводилась по своим рабочим местам. В забоях, раздирая в кровь руки, рубили и взрывали руду, по штольням и уклонам в коробах и тачках поднимали её на поверхность, доставляли на фабрику, дробили в шаровых мельницах, отправляли на варку, поддерживали циркуляцию в сгустителе, извлекали из ловушек «мыло» и отправляли оставшийся концентрат на просушку. И всюду — и в забое, и на фабрике — из руды и концентрата шло невидимое глазу всепроникающее радиоактивное излучение, одинаково незаметное и охраннику, и зэку, но совсем не безобидное, когда через два-три месяца и у тех, и у других выпадали волосы, чернело тело, и только когда они умирали, первого хоронили под красной звездой, второго под колышком с жестяной биркой. Правда, и это было дано не каждому. Зимой закопать в скованную мерзлотой землю десятки трупов в день, и не в ущерб производственному плану, было невозможно, и поэтому свозили трупы в ледник Террасный, и лежали они там, пока не стает этот ледник и не растащат их хищные звери.
Если бы не столкнулся Еремей в этом лагере с односельчанином, отбывающим срочную службу в охране, и его бы снесли в Террасный. Односельчанин был из татар, и звали его Максутом. Небольшого роста и слабого сложения, он выглядел жалко, а когда, спотыкаясь о придорожные камни, вёл колонну с винтовкой наперевес, казалось, что он её уронит и поднять уже не сможет. Рассказал он Еремею и о его родных. Отец, оказывается, жив, считает, что германской войны Еремей не избежал, думает, что не избежал он и гражданской и где-то геройски сложил свою голову. Как всегда, всем наперекор, не сошёлся он и с советской властью, не вступил в её колхоз, а не сослали его никуда потому, что был стар и еле двигал ногами. Мать умерла от тифа, сестра уже замужем и имеет двух детей. И Флера тоже замужем. Она вышла в передовики и не сходит с районной доски почёта. А церковь в селе снесли, но сторож, что играл на балалайке, жив, но на ней уже не играет.
Всё, что рассказывал о родном селе Максут, Еремея не очень трогало. Ему, как и всем, кто не прожил и половины жизни, но уже столкнулся лицом к лицу со смертью, было не до прошлого, одно, с тупой беспощадностью, и днём, и ночью, сверлило голову: как выжить? И не вернулся он, как это случилось с ним в избушке банды Мордючкова, при рассказе Максута, ни к детству своему, когда белый, как снег, гусь клевал его в ногу, а церковный сторож угощал пряником, ни к тому времени, когда он целовал Флеру, а на сабантуе играли гармошки. Страшась будущего, жил Еремей одним настоящим, и когда в лагерь стала поступать по американскому ленд-лизу консервированная колбаса, он ей радовался, но не как утоляющей голод еде, а как средству выживания. Была бы таким средством не эта колбаса, а что-то другое, например, кора лиственницы или ветки стланика, он бы ел и их, не чувствуя в них горечи. А, слушая Максута, он думал: «А ведь и тебя снесут в Террасный». Он видел, как с каждым днём Максут худеет, землистый цвет не сходит с лица, лихорадочно блестящие глаза уже не скрывают предсмертной, как у всех обречённых, тоски. Зная, что Максуту всего-то ещё восемнадцать, Еремею его было жалко.
А спас Еремея от смерти в Бутугычаге не сам Максут, а случай, связанный с ним. После двух суток непрерывного дождя расползлись дороги и вздулись реки. Колонну, в которой шёл и Еремей, вели на добычную штольню. По бокам её, с винтовками наперевес и с собаками, шла охрана. Сыпал дождь с мокрым снегом, дул ветер, дорога, по которой вели колонну, раскисла, в рытвинах и ухабах скопились глубокие лужи. Зная, что шаг в сторону — получишь пулю, зэки луж не обходили, шли прямо по ним, черпая холодную, как лёд, воду своими чунями. Максут шёл справа, мокрая шинелишка его не грела, он еле передвигал ногами, и, казалось, дойти до штольни у него не хватит сил. Глядя на его синее от холода лицо, на котором, казалось, не тает уже и снег, Еремей подумал: «Нет, долго он не протянет». Не лучше выглядели и другие охранники. И у них, как и у Максута, были синие лица, сгорбившиеся на спине мокрые шинели; и они прятали от холода в этих шинелях свои руки. Как и Максуту, им тоже было по восемнадцать, и они, как и он, вели колонну туда, где ни им — защитникам отечества, ни зэкам — врагам народа, не было пощады от радиоактивного излучения, за которым стояла смерть. «Их-то за что?» — не понимал Еремей. По-боевому выглядел один начальник колонны, старшина Кабин. Был он нетрезвым. Считая, что водка выводит из организма радиоактивный яд, пили её все, кому к ней был доступ. Лицо у Кабина от водки было красным, хоть кипяти на нём чайник, поэтому снег, падая на него, сразу таял. «То-оропись!» — покрикивал он, бегая из одного конца колонны в другой.
При спуске в долину реки дорога пошла по её обрывистому берегу. Словно обезумев, река несла на себе вывороченные с берега коряги, крутила водовороты и гудела так, что закладывало уши. Максут шёл у колонны со стороны реки. Когда колонна вышла на участок, сжатый с обратной стороны отвесной скалой, там, где он шёл, раздались крики. Обернувшись туда, Еремей увидел, что обрыв, по которому шёл Максут, оползает в воду, а сам он уже в реке, и его быстро несёт по течению. Скинув с себя бушлат, Еремей бросился за Максутом. А его уже крутило в водоворотах и захлёстывало волнами. Захлёбываясь и сам, Еремей успел схватить Максута одной рукой за ворот шинели, а другой уцепиться за подвернувшуюся корягу. На повороте реки их вынесло на мель. Первым подбежал к ним старшина Кабин. «Где винтовка?!» — заорал он на Максута и ударил его по лицу. Ответить Максут ничего не мог. Затравленно глядя на старшину, он дрожал всем телом и прятал руки в рукава шинели. «А ты, — обернулся старшина к Еремею, — держи!» И подал ему фляжку с водкой. Еремей сделал несколько глотков, но горечи водки не почувствовал. Допив остатки водки, старшина внимательно и со всех сторон осмотрел Еремея, даже пощупал изношенную до дыр правую гачу и, смеясь, заявил: «А ты, стерва, в рубашке родился!» Оказывается, когда Еремей прыгнул в воду, охрана, думая, что в возникшей суматохе он решился на побег, по нему стреляла. Распоряжением администрации колымских лагерей за спасение охранника Еремея перевели в другой, менее опасный для здоровья лагерь, Максут за утопленную в реке винтовку пошёл под суд, а те, кто стрелял в Еремея и не попали в него, сели на губу.
Перевели Еремея в лагерь на Аркагалу, где зэки добывали уголь. Расположенный в пойме реки, лагерь состоял из одних бараков, за колючей проволокой стояли остроконечные чозении, выше, на склоне небольшой сопки, рос лиственничный редкостой, вершина сопки пряталась в зелёном ковре стланика. Не было здесь, как на Бутугычаге, каменной громады гор, солнце редко сходило с неба, а когда шли дожди, они были тёплыми и непродолжительными.
Первым делом Еремея, как и всех, кто с ним прибыл, повели в баню. В предбаннике им брили лобки и выдавали мыло. Впервые за всю свою лагерную жизнь Еремей увидел здесь женщину. Круглолицая, как кошка, с рыжими кудряшками на голове, в предбаннике она представляла лагерную санчасть, рядом с ней сидел тупорылый опер и пытался обнять её за талию. «Ах, это вы всё от скуки!» — жеманно отталкивая его, говорила она. Опер вздёргивал, как лошадь, головой, прижимался к ней ещё ближе, и гудел: «Ну, вы и придумали!» А ведь в Бутугычаге никому, даже и операм, было не до женщин. Всё, что связано с ними: и нежные слова, и горячие поцелуи, от которых кружится голова и захватывает дыхание, и то, что приходит за этим, выжигалось там навсегда урановым излучением.
Всё остальное на Аркагале было не лучше, чем на Бутугычаге. В бараках всё те же воры в законе и суки, между которыми постоянно шли кровавые разборки, те же из-под бензина бочки, приспособленные под печки, такие же клопы на нарах и прокопчённые до черноты низкие потолки. Под землёй, где добывали уголь, катали его по штрекам и поднимали наверх по уклонам в коробах с ледяным поддоном, основные выработки крепили лесом, а камеры, откуда брали уголь, оставались не крепленными, и когда сверху вываливались куски и глыбы пород, они калечили и убивали тех, кто в них находился. Недавно на одной из шахт произошёл взрыв метана. Одну часть зэков вынесли на поверхность мёртвыми, вторую, с ожогами, отправили в больницу. Не избежал больницы и Еремей.
Случилось это уже после войны. На шахты стала прибывать новая сила из бывших польских и украинских солдат армий Крайовы и Бендеры, прибалтов из корпуса «лесных братьев», русских офицеров, не вписавшихся в устав Советской Армии, евреев, забравшихся высоко под чужими фамилиями. Весь этот «интернационал» был брошен на выполнение и перевыполнение производственных планов. Полковники рубили под землёй уголь, заслуженные строители возводили бараки, известные врачи выжаривали из зэковской одежды вшей и варили из стланика противоцинготное пойло.
В одну из своих смен Еремей работал на поверхности. Подавая через шурф в шахту своему напарнику крепёжную стойку, он поскользнулся, потерял равновесие и упал в него на голову. Боли он не почувствовал, но двигаться не мог. В больнице установили — сломан шейный позвонок. Оперировал Еремея хирург Макаров с такой же, как и у него, полной катушкой лагерей. Видимо, с этой катушкой он так свыкся, что никогда не падал духом, по больнице ходил, словно приплясывал, а когда делал операции, весело тру-рурукал, или мурлыкал, как кот, которого гладят. К казарменному спирту он прикладывался, но только в неоперационные дни. Хотя спирт он и заедал чем-то отбивающим его запах, узнать, что он выпил, было нетрудно. Входя в палату при обходе, он в этом случае всякий раз говорил одну и ту же фразу: «Ну что, кролики, живы?» И весело потирал руки. В один из таких дней в больницу привезли опера с аппендицитом. Об этом опере говорили, что он по отношению к заключённым хуже зверя. Вылавливая в тайге беглецов, он не приводил их в лагерь, а убивал как при попытке к бегству, для доказательства же, что они пойманы, приносил своему начальству кисти отрубленных у убитых рук. Макаров, делая ему операцию, оставил марлевый тампон в полости вскрытия. Опер умер от перитонита, а Макарова отправили рубить уголь с полковниками. Там его вскоре задавило породой, и забыл ли он тампон в опере, потому что был выпивши, или сделал это специально, узнать было не у кого. Однако Еремея до случая с опером он успел прооперировать.
Пока Ерёмей был неподъёмным, ходил за ним санитар, которого в палате все звали Павло. Он Еремея и кормил, и выносил из-под него судно, а раз в неделю обтирал мокрым полотенцем. У него было крупное, как у многих хохлов, лицо, глаза всегда были затянуты коровьей печалью, когда подходил к больному, всегда глубоко вздыхал и осторожно садился на краешек его кровати. Ходил он не только за Еремеем. Литовца с выбитыми при взрыве запальника глазами он, как и Еремея, кормил, а также водил его в уборную, писал ему письма на родину. Молодого парня из Львова, привезённого с вольфрамового рудника Алескита с зацементированными лёгкими, он отпаивал отваром каких-то трав; обожжённому при взрыве метана шахтёру менял повязки, а когда шахтёр кричал от боли, Павло его, как мог, успокаивал. «Не хочет в забой, вот и ходит за нами», — не верил Еремей, что он ухаживает за больными по доброте своего сердца. Поверил он в это, когда увидел, как Павло плачет, узнав, что литовец, добравшись до уборной один, в ней повесился. «Як я не доглядев!» — казнил он себя, обхватив голову руками. Поверив, что Павло ходит за больными по доброте своего сердца, понять его до конца Еремей всё же не смог. «Разве всех пережалеешь?» — думал он.
После больницы Еремея, как не способного к физической работе, направили на лёгкий труд. В бане он выжаривал вшей из одежды заключённых и выдавал мыло, в морге выбивал на жестянках из консервных банок номера покойников, в бараке ходил в шнырях, а оступившись и что-то сместив в позвоночнике, снова попал в больницу. Павло уже в ней не было. Видимо, из большого сострадания к больным он ударился в религию, и когда больница засыпала, он в своей каптёрке молился Богу. За этим занятием его прихватил замполит лагеря, решивший, непонятно зачем, устроить больнице ночную проверку. «А это что ещё за богадельня?!» — вскричал он и вызвал главврача. Вольнонаёмный главврач, узнав, в чём дело, послал замполита куда надо и ушёл домой, а Павло вернули в лагерь на общие работы.
После больницы сначала Еремей ходил в истопниках, потом снова попал в морг, где из консервной тары сколачивал гробы покойникам, перебивался он и в шнырях, иногда направляли его на заготовку стланика, и в конце концов ему стало всё равно, что делать. Заставили бы ловить клопов на нарах или собирать вшей с покойников, он бы и это делал. Так как с годами притупилось чувство голода, ему стало всё радио, что есть. Когда в брюквенную баланду стали добавлять что-то похожее на сою, а кашу заправлять постным маслом, он этого не заметил. Махорку, которую другие, кто не курил, выменивали на хлеб, он отдавал за так тому, кто первый попросит. В безразличии ко всему он перестал думать и о том, что и его когда-то отсюда выпустят, и у него будет другая, не такая, как здесь, жизнь. Поэтому, если у тех, кто с нетерпением ждал освобождения, время шло мучительно медленно, то у него оно стояло на месте, и спроси его: какой идёт год и что сегодня за месяц, он бы на этот вопрос не ответил.
Выпустили Еремея из лагеря в 54-м. Отсидев двадцать с лишним лет, он так и не понял — за что. Убийство старухи Сысоя и соучастие в убийстве Сарданы прошли по его делу незамеченными, а что касается диверсий и шпионажа в пользу Японии, то при освобождении ему выдали документ, свидетельствующий, что по этой части он реабилитирован.
VII
На воле, как и в лагере, Еремею было всё равно, как жить и что делать. Поселился он на Контрандье, расположенной в 12-ти километрах от Колымской трассы, в брошенной избушке. Ремонта в ней делать не стал. Забил фанерой то, что было выбито в окнах, заткнул тряпьём щели, прочистил поддувало в печке, укрепил на ней плиту, кровать нашёл в кладовке, а чтобы она не развалилась, стянул её проволокой. Жил он замкнуто, ни с кем не общался, да и к нему никто не ходил. Забегал иногда сосед, чтобы выпить бутылку водки подальше от глаз своей жены. Был он, как костыль, длинный и с таким худым задом, что когда садился на стул, Еремею казалось, он в нём проваливается. «Ты за что сидел?» — выпив первую, и не закусывая, строго спрашивал он. Получив ответ, мотал головой и говорил: «Не-е, не верю. Политика — дело тонкое, а у тебя, извини, дед, харя бандитская». За «харю» Еремей не обижался, ему было всё равно, что о нём говорят или думают. Все люди для него стали одинаковыми — не хорошими и не плохими — и, столкнись он сейчас и с тупоголовым верзилой, что выбивал из него дознание с вопроса: «С чего начнём, татарская морда?» — он бы и ему ничего не сделал. Видимо, все эти исправительные лагеря со сроком заключения, как у Еремея, если и правят человека, то в одну сторону: в полное равнодушие и к себе, и к другим, а если иногда что-то и трогает этого человека, то выражается это, как у детей, в наивной простоте и пустом любопытстве. Когда соседа чуть не задавила машина, и Еремей видел, как он выпрыгнул из-под её колёс по-птичьи сразу двумя ногами, он подумал, что сосед, наверное, с испугу наложил в штаны, а чтобы узнать, так ли это на самом деле, решил сходить к нему вечером. По-своему он понял и то, что случилось вчера в магазине. Когда продавщица его обсчитала, и в очереди это заметили, поднялся шум. Кто-то обозвал её толстой мордой, а худая, как селёдка, баба зло кричала: «Ты кого обманываешь?! Ты кого обманываешь?! Посидела бы с его, так знала!» «И посижу!» — не сдавалась продавщица, а когда стала довешивать Еремею крупы взамен обсчитанного, назло всем перевесила её в два раза. «И чего шумят?» — не понял Еремей, а уже на улице, вспомнив, как продавщица крикнула «и посижу», рассмеялся. Представить в два обхвата бабу в лагере он не мог. Подходя к дому, он опять вспомнил о ней. Не понимая, с чего это так можно растолстеть, подумал: «Больная, наверное». Не понял он и поселковых баб, когда они стали возмущаться тем, что кроме соседа к нему с бутылками стали бегать от них и другие мужики. Особенно возмущалась жена самого соседа. «Этот лепресированный, — разносила она по посёлку, — всех наших дураков споит». Не зная, что истоки пьяного зла своих мужей бабы часто ищут не в своих дураках, а в других, Еремей недоумевал: «А я-то при чём? Я же не пью». Не так, как надо, понял Еремей и письмо, полученное от сестры. «Здравствуйте, Еремей Ринатович, — писала она, — огромный вам привет от бабушки Фатимы, от меня и вашего двоюродного внука Коськи». Понятно, письмо писала не сестра, она, наверное, только диктовала, а писал его двоюродный внук Коська. «Живём мы хорошо, — продолжал Коська, — картошки накопали много, недавно отелилась корова, того и вам желаем. А об вас мы узнали от дяди Максута, который тоже недавно умер». С трудом вспомнив, кто такой Максут, Еремей подумал, что спасла его от урановой смерти на Бутугычаге, видимо, утопленная им в реке винтовка. Скорее всего, после суда на отсидку он был направлен в другой, не такой, как Бутугычаг, страшный лагерь. «А ещё мы от него узнали, что вы напрасно сидели в сталинских лагерях, и пострадали за свои твёрдые убеждения, — писал Коська. — И ещё бабушка просит, чтобы я прописал про нашу жизнь. Говорит, что старая вешалка Флера ходит к ней каждый день и всё о вас выспрашивает. Если у вас, Еремей Ринатович, будет время, напишите ей, как живёте. А в деревне все говорят, что вы ещё и герой гражданской войны, и чуть не сложили за неё свою голову. И председатель приходил к нам с бумажкой, которую я вам и посылаю. Он хочет, чтобы в нашей деревне был уголок памяти». В конце письма Коська написал: «Ждём ответа, как соловей лета». А председатель в своей бумажке писал: «Во исполнение обязательного решения правления, и в отсутствии наличия документов, подтверждающих вашу неизвестную деятельность на полях гражданской войны и участие в своей реабилитации по массовым политическим репрессиям, прошу выслать копии своих документов для того, чтобы такого не повторилось». Внизу стояла подпись председателя правления Орешкина и большая гербовая печать.
Из-за этого письма Еремей долго не мог уснуть. Перед ним, как в нелепом сне, вставали то Фатима в образе матери, то Коська, у которого, как у всех детей, уши были похожи на лопушки, а Флера представлялась в ярком сарафане и с длинной, по-татарски заплетённой косой. Его мучило, что их он никак не может увязать во что-то целое, имеющее хоть какой-то смысл. Они стояли перед ним то все вместе, то куда-то разбегались и таяли, как призраки. Не понял Еремей и письмо председателя Орешкина. «Может, новое дело решили на меня завести?» — подумал он, и это его не напугало. Для него и лагерь, в котором непонятно за что сидел, и новая жизнь, где тоже не всё было понятно, слились в одно целое с навсегда утонувшим в беспамятстве началом и без всякого, хоть как-то различимого, конца. Видимо, когда человек теряет прошлое и не видит будущего, ему всё равно, что с ним будет сегодня.
Однажды, возвращаясь из магазина, Еремей заметил, что за ним идёт лопоухая, с коротким хвостом, собака и принюхивается к его сумке. «Голодная, наверное», — подумал Еремей, а когда она несмело прошла за ним во двор, он накормил её. Уходя, собака остановилась у калитки, обернулась к Еремею, и посмотрела на него так, словно хотела ему что-то сказать. Через день, когда Еремей снова пошёл в магазин, всё это повторилось, а вскоре, уже наевшись, собака не стала уходить со двора, а садилась на задние лапы и смотрела на него, как на своего хозяина. «Пусть живёт», — решил Еремей и оставил её у себя. С ней у него появились заботы. Если раньше днём он больше сидел на крыльце и ничего не делал, а ночью крепко спал, то теперь надо было ещё и ходить за собакой: кормить её, следить, чтобы она никого не покусала или не напугала детей, а однажды, когда она порезала лапу у магазина, где было много битого от водочных бутылок стекла, он мазал порез солидолом, прикладывал к нему болотный мох. К осени она поправилась, и Еремей стал ходить с ней на реку. По дороге она бежала впереди и всё, что казалось в придорожных кустах подозрительным, облаивала, а на реке, когда однажды на них вышел лось и стал сердито бить копытами в землю, она смело бросилась на него и угнала в тайгу. Сторожила она Еремея и когда он дремал в сделанном на скорую руку шалаше. Уходящая в предзимье осень уже сбрасывала последние в лесу листья, кругом было тихо, а с реки тянуло освежающей прохладой, запах смородины кружил голову, и, наверное, поэтому Еремею казалось, что он не здесь, на реке, в своём шалаше, а где-то в другом месте, где нет ни пьяного соседа, ни заброшенной на окраину посёлка его избушки, ни баб, которых он не понимает. Иногда Еремей видел куски своего прошлого, но он не всегда верил, что это действительно оно, а однажды, когда перед ним встало лицо белоруса Янки, и он вспомнил, как садил его вместо Алдана на цепь, ему стало не по себе. «Не может быть!» — не поверил он в это.
С собакой Еремей стал возвращаться не только в прошлое, но иногда стал заглядывать и в будущее. Правда, и оно было связано только с ней. Собака была сукой, и Еремей стал думать, что он будет делать со щенятами, когда она их принесёт. Утопить их, как делают многие, он не сможет, а раздать соседям — кто их возьмёт. «Оставлю у себя», — решил он.
А собака охраняла Еремея не только на реке, но уже и дома. Особенно она не любила, когда к нему ходили пьяные. Из них она пропускала только соседа, и, видимо, потому, что ходил он к Еремею часто. Однако в избе, когда он раскрывал свою бутылку, она, зло посмотрев на него, уходила на улицу. «О, падла, пьяных не любит!» — бросал он ей вслед, а выпив, как всегда, строго спрашивал Еремея: «Ты за что сидел?» и обзывал его харей бандитской. И если раньше Еремею было всё равно, что он о нём говорит, то теперь он готов был его ударить, и, наверное, не столько за себя, сколько за собаку. «Сам ты падла!» — думал он, глядя на уже пьяного соседа.
Приходил сосед к Еремею всегда без закуски, а когда выпивал, закусывал его сухим луком. «Закусон — во! — смеялся он. — Запах отбивает!» И рассказывал о том, как жена, проверяя по запаху, выпил он или нет, воротит от лука в сторону нос и говорит, что от него пахнет стервой. Однажды с бутылкой водки он принёс селёдку. Когда собака, зло посмотрев на него, собралась уходить, он ткнул селёдкой ей в морду. Собака бросилась на него и укусила ему руку. «А-а, падла!» — заорал сосед и пнул её в бок. Этого Еремей не вытерпел. Широко размахнувшись, он ударил соседа по голове, а когда сосед упал на пол, стал пинать его ногами. Что было потом, Еремей помнил плохо. Пришёл он в себя, когда соседа увезла скорая. Сидел он за столом и пил недопитую соседом водку. К нему жалась собака и тихо скулила.
Непутёвая жизнь
Осень пришла внезапно. Ещё вчера ярко светило солнце, небо было безоблачным, в лесу пели птицы и грелись на солнце бурундуки, терпкий запах кедровой смолы и прелых грибов кружил голову, а сегодня с утра потемнело небо и пошёл дождь со снегом, а вечером, с похолоданием, всё укрылось в густой снежной завесе. За ночь снег растаял, а когда пришло новое утро, хмурое и ветреное, лес уже сбрасывал последние листья, попрятались бурундуки, смолкли птицы.
В доме Семёна было холодно, в трубе нетопленой печи гудел ветер, а когда он бил по окнам, звенели стёкла и скулила собака.
— Да замолчи ты! — ругался на неё Семён.
Настроение у него было плохое. Обычно в такую погоду к нему приходили тяжёлые думы о не так прожитой жизни, всплывали в памяти мрачные картины ухода от жены, когда на прощанье, чтобы помнила, он выбил ей зубы; поездки в Тюмень к матери, откуда он, беспробудно пропьянствовав два месяца, вернулся обратно, не оставив ей ни копейки; и всего того, что было потом и в грязных кабаках, и у дешёвых проституток, после которых тошнило, и у корешей, которых он ненавидел, но держался за них, потому что держаться было не за кого. Всё это прошло, осталась горечь от воспоминаний и никому не нужная старость. От слабости уже часто темнело в глазах и хватало сердце. «И на похороны не придёт», — думал он о жене, когда казалось, что вот он — конец, рядом.
А жена жила в соседнем посёлке, и жила неплохо. Дочь, Варю, уже подняла на ноги, а двое детей от нового мужа заканчивали школу. «Ведь и я так мог прожить», — думал Семён, и от обиды, что прожил не так, хотелось плакать.
А ведь всё начиналось хорошо. С женой он познакомился в праздничной компании у соседа. Был он тогда молод, хорошо сложен, нос, который сейчас высох в кривую сосульку, был по-кавказски с красивой горбинкой, глаза не были цвета прокисшего студня, в них горел огонь и сверкало пламя, да и в плечах он был — чуть не в сажень. Это сейчас они высохли, а ключицы стали похожи на две сухие мозоли. На вечере громко играла музыка, пили вино и шампанское, когда шли танцевать, казалось, танцевали не парами, а одним весёлым кругом. В одном из них Семён поймал её за руку и, бесцеремонно прижав к себе, закружился с ней в вальсе. Когда танец закончился, она оттолкнула его от себя и сердито спросила: «Ты со всеми так танцуешь?» «Только с такими, как ты!» — рассмеялся в ответ Семён. Звали её Люба, и первое, что бросилось в глаза: у неё были красивые, как ландышевый лепесток, губы и толстые в дугу брови. В тот вечер Семён увёл её к себе, а утром не отпустил, оставив её, как тогда казалось, навсегда. Это всё, что сохранила ему память светлого о жене. Дальше всё было словно в тяжёлом сне, после которого, как с похмелья, болит голова и не хочется ничего делать. Табором повалили в дом кореша, они сладко ели, много пили, не обращая внимания ни на жену, ни на родившуюся уже Варю, драли пьяные глотки, драл с ними глотку и Семён. «Или твои дружки, или я!» — наконец не вынесла этого Люба. Выбил ей зубы на прощание Семён в пьяном виде, а когда проснулся утром у кореша, особых угрызений совести не чувствовал и ни в чём не каялся. Тогда ему казалось, что жизнь его только начинается, в ней много разных дорог, и от того, что случилось, их не убавилось.
К матери в Тюмень он поехал, не раздумывая, зачем, и накордебалетил там такого, что ей, наверное, до сих пор икается в гробу. Купил подвернувшегося под руку «Жигулёнка» и стал катать её по городу. Тогда ей было уже за шестьдесят, она плохо видела, и зачем сын катает её по городу, не понимала. В машине её тошнило, а на колдобинах, где Семён не сбавлял газу, подбрасывало, как куклу. «Господи, — не понимала она, — и зачем тебе эта легковушка?» «Жить хорошо, мамаша, никому не запретишь!» — смеялся в ответ Семён. После того, как мать наотрез отказалась кататься на легковушке, он стал катать на ней старых дружков. К вечеру, почти каждый день, выезжали за город, где жгли костры, жарили шашлыки и пили водку. О том, что с Любой разошёлся, матери Семён не говорил, по его словам, она с Варькой в это время была по путёвке в Крыму. «И где вы деньжищ-то столько берёте? — не понимала мать. — Она по Крыму катается, ты здесь». У Семёна и на это был тот же ответ: «Жить хорошо, мамаша, никому не запретишь!» Так как не запретишь никому жить и плохо, наконец, по-пьяни Семён не вписался в поворот и врезался в телеграфный столб. Хорошо, столб оказался деревянным и старым, срезал его Семён, как бритвой, и хотя машина пошла на металлолом, все в ней остались живы. После штрафа за столб денег осталось только на обратную дорогу, и поэтому, не оставив матери ни копейки и не попрощавшись с нею, Семён вернулся на Колыму. Мучила его совесть за этот свинский поступок только в самолёте. Уходил он от матери тайно и ночью, когда, как он думал, она спит. Однако при выходе из дома в окне её вспыхнул свет, и, обернувшись, Семён увидел, как она плачет. Забыл он об этом в Магаданском аэропорту, как только встретил дружка и закатил с ним на двое суток в ресторан, и вот только сейчас, когда пришла старость, словно поднявшись из могилы, мать опять стояла перед ним в окне и плакала. «Господи, и за что я её тогда обидел?» — спрашивал себя Семён, и ему хотелось вернуться в Тюмень, прийти на могилу матери и горько выплакаться.
А ветер всё стучал по окнам, и скулила собака.
— Да замолчи же ты! — замахнулся на неё Семён и, наверное, ударил бы, если бы она не забилась под кровать.
От холода у Семёна стали стыть ноги, и он решил растопить печь. Она долго не разгоралась и дымила, а ветер, не переставая бить в окна, уже перекинулся на крышу. В сильных порывах он так бил по ней, что, казалось, сотрясаются стены дома. «Нет, не придёт она на похороны», — снова подумал о жене Семён, и ему захотелось от обиды на неё, и от печного дыма, и от этого ветра забиться, как и собака, под кровать и ни о чём не думать.
Вместо этого он вышел на улицу. На крыльце его ударило ветром и осыпало снежной крошкой. Окутанный белой мглой посёлок казался всеми брошенным, на телеграфных столбах гудели провода, в доме, через улицу, стучал ставень и скрипела калитка. В конце улицы из переулка вышла женщина и направилась к дому Семёна. Укрываясь от встречного ветра, она держала низко голову, а когда ветер усиливался, становилась к нему спиной. «Уж не жена ли?!» — заметив в ней что-то знакомое, испугался Семён. Бросившись в избу, он зачем-то закрылся на крючок. Нет, это оказалась не жена. В окно Семён видел, как женщина, всё так же укрываясь от ветра, прошла мимо и в сторону его дома не обернулась.
Ведь и с ней, как и с матерью, Семён, уже после развода, столько накордебалетил, что и вспоминать об этом не хочется. Началось всё с Варьки. После того, как оставил её с матерью, думал он о ней мало. Ему было всё равно; научилась ли она ходить или всё ползает, здорова или болеет, на это, думал он, есть мать, которая и обязана следить за ней. И поэтому, когда дочери было уже шесть лет, и он столкнулся с ней на улице, едва её узнал, хотя похожа она была на него, как похожи две капли воды друг на друга: такой же с красивой горбинкой нос, глаза прямые и ясные, и даже лёгкую походку она взяла у него. «Ну, Варька, ты и даёшь!» — удивился Семён и вечером пришёл к ней и матери в гости. «Уж не заблудился ли?» — удивилась и мать. Шёл к ним Семён без всякой задней мысли, думал: зайду, посижу, о чём-нибудь покалякаю и, как говорят французы, адью, мадамы! Так не получилось. Жена показалась ему более красивой, чем раньше. Глаза, которые не отличались выразительностью, стали похожи на две спелые смородины, талия оказалась, как у горянки, а зад и вытянутые в струнку ноги были похожи на коньячную рюмку. «А не начать ли нам, Любаша, всё сначала?» — предложил он ей. «С какого начала?» — рассмеялась Люба. — С дружков и водки?» «Ни-и!» — замахал на неё руками Семён и поклялся, что водить в дом дружков никогда не будет и пить завяжет до самой смерти. И ещё пообещал Семён на месте выбитых шесть лет назад зубов вставить ей золотые. Сделать он этого не успел, через месяц скрутился с соседкой хохлушкой Фросей. Полная и неповоротливая, но ловкая на язык и руку, она ещё и хорошо гнала самогонку. Нырял к ней Семён по ночам, когда Люба в своей больнице была на ночных дежурствах. Видимо, эта Фрося ставила на Семёна по-крупному: поила только первачом, кормила копчёным салом и домашнего изготовления колбасой и часто говорила: «Ты, Сеня, хлопець, що надо, а Любка твоя — тьфу! Як та кобыляка, що от хозяина брыкаеть». Семён на её слова не обращал внимания. Оказалось, напрасно: Фрося от слов перешла к делу. С Любой перестала здороваться, при встрече смотрела на неё сверху, а в посёлке Семёна уже называла мий Сеня. Когда до Любы дошло, что творит Семён под её носом, она его выгнала. Фросю за длинный язык Семён побил, но легче ему от этого не стало, и вскоре он ушёл в свой первый запой. После трёх дней беспробудного пьянства очнулся в бараке у проститутки, татарки, имя которой в посёлке никто не знал. В глазах стояли зелёные круги, в голове гудело, как в паровозной топке, но опохмелиться было нечем. Всё, что оставалось, вылакала татарка, но и этого, оказывается, ей было мало. Когда Семёна потянуло на рвоту и он бросился к помойному ведру, она, не обращая на это внимания, канючила с кровати: «Татарка селовал? Селовал. Титька ломал? Ломал. Бутылька давай!»
Денег у Семёна не было, и он пошёл к корешу, который когда-то от него не вылазил. «Дай опохмелиться», — попросил он его. «А у меня есть?» — ответил кореш и с видом, что куда-то торопится, оставил Семёна. «Ну, сука!» — обругал его вслед Семён и пошёл к другому корешу. У этого тоже опохмелиться не оказалось, потому что, как сказал он, жена ему только что обчистила все карманы. Семён пошёл к третьему корешу. У этого жома, знал он, водка всегда есть, но за просто так он её не даст. Прихватив на обмен за неё новую куртку, Семён появился в его доме. «Годится», — осмотрев куртку, сказал кореш, а потом, строго посмотрев на Семёна, приказал: «Выйди!» Семён понял: кореш не хочет показать, где прячет водку. Увидеть через окно, что прячет он её в подполе, было нетрудно. Пили вместе, а когда кореш напился и уснул, Семён залез в подпол и унёс из него всю водку. Этого ему хватило, чтобы постепенно выйти из запоя. «И они на похороны не придут», — подумал Семён, вспомнив своих корешей.
А на улице уже была ночь, и, хотя не дул ветер и небо больше, чем наполовину, очистилось от туч, казалось, таит она в себе, как всё, что наступает сразу после непогоды, что-то неустойчивое и тревожное. Луна была похожа на рысь, выслеживающую жертву, звёзды, словно приклеенные к небу, были неподвижны, застрявшая на востоке туча в бледном свете луны казалась большой ледяной глыбой. Такие ночи на Колыме обычно бывают в преддверии холодных зим, в течение которых уже кажется, что жизни нигде нет, кругом мрак, беспросветье и скованный морозом камень. В посёлках в такие зимы люди мрут чаще и на кладбищах постоянно пылают костры от проходки могил с помощью пожогов. «А мне и могилу-то копать будет некому», — подумал Семён, и его охватило известное только верующим беспокойство за то, что будет с ним после смерти. Видимо, в связи с этим он вспомнил, как в прошлую зиму в посёлке под бараком замёрз приблудившийся бич, и пока искали, кому копать могилу, и пока её выкопали, бродячие собаки обгрызли ему лицо. Когда Семён представил, что и у него после смерти собаки могут обгрызть лицо, ему стало не по себе. «Только не это!» — произнёс он вслух, а собака, услышав его голос, вылезла из-под кровати и запросилась на улицу.
Выпустив собаку, Семён решил немного выпить. Водка у него была постоянно, но выпивал он теперь нечасто, лишь когда накатывала тоска и всё становилось безразличным. Правда, облегчение, наступавшее с водкой, проходило быстро, и потом становилось ещё хуже. Выпив, Семён лёг на кровать и, надеясь, что уснёт, укрылся одеялом. Но сон к нему не шёл. Вместо него пришли воспоминания о лагере. «Помахал ножичком, — встретил его начальник лагеря. — Хорошо! Теперь помашешь лопатой!»
А попал в него Семён, можно сказать, по пьяной глупости. Шёл по улице, настроение было хорошее — только что распили с корешем бутылку, — и вдруг драка! Дрались три пьяных мужика, и понять, кто кого бьёт, было невозможно. Все страшно матерились и махали руками, и каждый бил того, кто первым попадался на кулак. «Дураки!» — подумал Семён и решил их разнять, но как только оказался среди них, получил такой удар в лоб, что потемнело в глазах. Придя в себя, он разозлился на мужиков и так поддал одному из них под челюсть, что тот улетел к забору. Второму попало в ухо. «Ах, на нас!» — вскричали мужики и дружно бросились на Семёна. Когда они стали перекидывать его от одного кулака к другому, он вспомнил, что в кармане у него перочинный ножик. Достался он в бок мужику, что был ближе. Мужик остался жив, и срок Семёну определили небольшой — всего три года.
А в лагере, когда Семён с ним освоился, ему понравилось. До него он допился уже до ручки, случались и белые горячки, а тут хоть лопни: нет водки! Ну, а на нет, как говорится, и спроса нет. Правда, сначала тянуло, а потом и это прошло. И вот наконец-то Семён смог оценить свою баламутную жизнь по-трезвому. «Боже мой, — схватился он тогда за голову, — как я мог так жить: вечные пьянки, дебоши, проститутки, продажные кореша!» Выпоров себя таким образом, Семён словно вышел из бани, в которой отхлестал себя веником. Теперь ему казалось, что после лагеря он будет жить, как все нормальные люди, а главное, не будет пить. И действительно, когда вышел из него и кореша предложили ему водки, он обрезал: «И на дух её не надо!»
Понравилось Семёну в лагере и жить по расписанию. До него жизнь его была похожа на жизнь барана, отбившегося от своей отары: ни кола, ни двора, сегодня холодный, завтра голодный, утро путал с вечером, а один раз летом, решив, что на улице зима, вышел из дому в шубе. А здесь утром тебя поднимут, вечером спать уложат, на работу — не шалтай-болтай, а строем, с работы — обязательно проверят: не затерялся ли где, и кормят три раза в день, и кино раз в неделю показывают. Конечно, кто попал в лагерь не из той жизни, какой жил Семён до лагеря, тем всё это не нравилось, хотелось не по расписанию, а по-своему, а его, познавшего, как это жить по-своему, жизнь по расписанию устраивала. Всё это было замечено лагерным начальством, и за примерное поведение освободили Семёна на полгода раньше.
Сразу после освобождения Семён сошёлся с брошенкой Настей, работавшей посудомойкой в столовой. Узкоплечая, с подёрнутыми коровьей поволокой глазами, она была похожа на монастырскую послушницу. Да и поведением она от неё ничем не отличалась. Никто не слышал, чтобы она кому-то сказала грубое слово, со всем, что ей говорили, соглашалась, если же обижали, плакала. За что её мог бросить муж, было непонятно. Когда её об этом спрашивали, она отвечала: «Видно, не угодила». Пока водка Семёну на дух не шла, жизнь с Настей была — лучше и не придумаешь. «Настёна, — говорил он в хорошем настроении, — а не родить ли нам киндера?» «Я согласна», — отвечала Настя и краснела, как девочка. Теперь, размечтавшись перед сном, Семён видел себя порядочным отцом, он давно непьющий, сыну уже семь лет, на улице солнце, и он ведёт его в школу. На сыне форменная куртка, новые ботинки, за спиной ранец с блестящими застёжками, на нём чёрного цвета костюм, белая рубашка, галстук в красную полоску и фетровая шляпа. «А это ещё кто такой?» — не узнают его. «Да это же бывший муж Любки, помните, не просыхал от водки», — отвечает кто-то. «Семён, что ли? Да не может быть!» — не верят ему. А Любка в это время стоит у всех за спиной, от обиды, что потеряла такого мужа, кусает губы, а он, раскланиваясь с теми, кто его узнаёт, на неё — ноль внимания.
Получилось всё по-другому. Начав с пива, Семён закончил водкой. Снова пошли пьянки, дебоши, кабаки и проститутки. Однажды, напившись до одурения, он выгнал из дому Настю. Вернувшись к себе, Настя плакала, а потом успокоилась и стала жить, как жила раньше. Когда её спрашивали, за что бросил Семён, она отвечала: «Видно, не угодила».
Вспомнив о Насте, Семён решил: «Завтра схожу к ней». Жила она по-прежнему одиноко, из посудомоек по состоянию здоровья перешла в сторожа, и теперь кто видел её сидящей на крыльце магазина с ружьём, не мог представить, что эта тихая, никому в свою жизнь не сделавшая зла старушка, может из этого ружья ещё и выстрелить. «Прощения у неё попрошу», — думал Семён, и ему казалось, что если он это сделает, умирать ему будет легче.
После истории с Настей Семён уехал в леспромхоз. Валить лес у него уже не было силы, и поэтому его поставили на пожог отходов от лесоповала. Работы было немного, и вскоре он приспособился гнать самогонку. Для этого в глухом углу лесоповала, в овраге, соорудил что-то похожее на шалаш, в нём он ставил брагу, а как выгнать из неё самогон, хорошо знал из Фросиного опыта. Так как дело было поставлено на большую ногу, дали ему в помощники паренька, которого, видимо, за мягкий характер и покорные, как у телёнка глаза, все звали ласково Федик. Жизнь на лесоповале стала одним большим праздником. Вечером пили, утром опохмелялись, а днём делали вид, что работают. Сам Семён за самогонным аппаратом уже не сидел, это делал Федик, а он ходил в распорядителях. Решал: когда, как и сколько гнать, кому, за что и в каком количестве выдать. Пожогом отходов лесоповала он уже не занимался, за него это делали другие. «Не жизнь, а малина!» — радовался Семён и, набивая себе цену, перед лесорубами ломался. «Самогон — дело тонкое, — говорил он, — на него особый нюх надо!»
И всё было бы хорошо, если бы не сменилось на лесоповале начальство. Новое, разнюхав, в чём дело, бросилось искать: кто гонит самогон. Сделать это было нетрудно, и вскоре новый начальник участка застукал за ним Семёна с Федиком. Гнал самогон Федик, а Семён в это время сидел у шалаша и курил. «Та-ак, — сказал начальник, — самогон гоните!» «Кто гонит, а кто и курит», — ответил Семён и, не торопясь, удалился в сторону, где валили лес.
На следующий день приехала милиция. Она составила акт и конфисковала самогонный аппарат. Вскоре состоялся суд, на котором судили Федика за незаконное изготовление спиртных напитков. Семён на нём проходил в качестве свидетеля. «И он гнал!» — указывая на него, жаловался суду Федик. «Я гнал?!» — возмущался Семён и просил суд записать в протокол умышленный оговор свидетеля подсудимым. Федику дали два года, а Семён вернулся на лесоповал. «А ты, оказывается, падла!» — сказали ему на лесоповале. Делать было нечего, покинув его, Семён вернулся в посёлок.
После этого Семён долго бродяжничал, мотаясь из посёлка в посёлок, сшибал с чужих столов куски хлеба, в кабаках допивал оставленное в кружках пиво, спал зимой на автовокзалах и в теплотрассах, летом в подъездах и на чердаках. Наконец, его осудили за тунеядство и сослали на поселение в глухой посёлок, расположенный за Нижнеколымском. Там он, никому не нужный, дотянул до пенсионного возраста и с копеечной пенсией вернулся в посёлок.
В эту ночь Семён так и не уснул. Утром снова поднялся ветер, он бил по крыше и гудел в трубе, по окнам хлестал дождь со снегом. Иногда казалось, что в дверь кто-то стучит, но за ней никого не было.
После похорон
У Вани три дня назад умерла мать. Хоронили её поздно вечером, всё ждали какого-то родственника. Вечер был пасмурный, небо в холодной облачности, ветер, срывая с тополей последние листья, зло разбрасывал их по кладбищу. Родственником оказался брат матери. Появился он, когда мать уже собирались опускать в могилу. Грубо, словно из дерева сколоченный, с густой шапкой седых волос на голове и давно небритый, он был похож на лесоруба, только что вышедшего из леса. Когда для него раскрыли гроб, он огорчённо крякнул, достал из кармана похожий на грязную ветошь платок и, высморкавшись в него, сказал: «Ну, сеструха, ты и удумала!» На поминках, после каждой рюмки он, как и на кладбище, крякал, сморкался в платок, и всё удивлялся: «Ить надо же! Удумала!» Ваню, как ещё маленького, за стол не посадили, дали ему на кухне блинов и рисовой каши с изюмом и сказали, чтобы он тут не распускал нюни. Дело в том, что на кладбище, когда мать опускали в могилу, он вдруг разревелся, а потом долго не мог успокоиться. Ни каши, ни блинов Ваня есть не стал, у него сильно болела голова, а в горле, казалось, что-то застряло. Когда с поминок все ушли, за столом остались отец и похожий на лесоруба брат матери. Отец сидел, словно опущенный в яму, сидел с низко склоненной головой, лицо у него было серым, когда выпивал, ничем не закусывал. Брат матери, выпив, закусывал блинами, но глотал их так, словно в каждом из них лежало по камню. Когда они легли спать, Ваня сел у окна и стал смотреть на улицу. За окном была уже ночь, как и на кладбище, дул ветер, в сильном порыве он стучал по крыше, когда на небе из-за рваной облачности появлялась луна, Ване казалось, что она похожа на лицо злой старухи.
Уснуть Ваня долго не мог. Он слышал, как вставал отец, тяжело вздыхая, выпивал водки и, посидев за столом, возвращался в постель. Когда Ваня уснул, ему приснился сон. На кладбище, где хоронили мать, стояло много народу, ярко светило солнце и не было ветра. В гробу мать была не с жёлтыми пятнами на лбу и не худая, с опущенным, как в яму, животом, а похожа на девочку с румяным лицом и пухлыми щеками. Казалось, сейчас она встанет из гроба и, как ни в чём не бывало, пойдёт с кладбища. От этого сна Ваня проснулся, у него сильно билось сердце, и долго не верилось, что матери уже нет в живых. Когда уснул он снова, во сне увидел то же кладбище, но день был пасмурным и на кладбище кричали вороны. Мать уже была зарытой в могиле, а её брат большими, на толстой подошве сапогами могилу эту утаптывал.
Разбудил Ваню отец.
— Вставай, сынок, поешь чего-нибудь, — сказал он.
На столе стояла сковорода с разогретыми со вчерашнего стола блинами, в окно светило солнце, было слышно, как за ним щебечут воробьи. Лицо у отца уже не было серым, на нём появились красные пятна, а брат матери, похоже, сильно выпивший, никак не мог попасть вилкой в блин. Когда Ваня поел, отец сказал:
— Сынок, ты сиди дома, а мы пойдём на кладбище.
— Зачем? — не понял Ваня.
— Так надо, — ответил отец, и они с братом матери вышли из дома.
Одному Ване стало страшно. Он боялся выйти из кухни в комнату: вчера в ней стоял гроб с матерью, и казалось, стоит ему там появиться, как он увидит мать с жёлтыми пятнами на лбу и опавшим, как в яму, животом. Быстро набросив на себя пиджачок, он выскочил на улицу.
Дом, в котором теперь остался Ваня с отцом, находился на брошенной многими окраине посёлка. Кругом было запустение, от заборов остались одни жерди, на улицах валялся мусор, в окнах заброшенных домов таился мрак и холод, а за теми, что были забиты досками, казалось Ване, живут злые люди. Лишь дом дяди Семёна, что стоял напротив, через дорогу, был крепко сложен, с большим крыльцом и высокими окнами. Так как и на улице Ване одному было страшно, он пошёл к дяде Семёну. Во дворе, ласково виляя хвостом, его встретила собака, а ходившая под окном серая курочка, увидев его, спряталась под крыльцом. Дядя Семён сидел за столом и ел жареную картошку с солёными огурцами. У него был большой лоб, толстые губы, как у всех пьяниц, синий с красными прожилками нос и по-мышиному маленькие глазки.
— Чего пришёл? — встретил он Ваню.
Не зная, что ответить, Ваня сказал:
— У меня мама умерла.
— Ну, и что? — уставился дядя Семён на Ваню мышиными глазками. — Все там будем. И ты, придёт время, умрёшь. А за Нюрку, — так звали мать Вани, — можно и выпить. Мать! — крикнул он на кухню, — налей-ка мне! За Нюрку надо выпить. Сын её пришёл.
Жена дяди Семёна вынесла бутылку водки и молча поставила её на стол. Выпив рюмку, дядя Семён отодвинул бутылку на край стола и сказал жене:
— А это забери. Больше не хочу.
В посёлке все знали, что этот дядя Семён, скрывая своё пристрастие к водке, часто выламывался перед женой в роли человека, которому, в отличие от других, бросить пить ничего не стоит. «Мать, — звал он её, — вот гляди, водка на столе, а я — ни-ни! — И смотрел на бутылку, как смотрят на лукавого, которого давно раскусили. — Не-е, — куражился он, — меня не возьмешь! Не из таковских! Всякое видывал! Другой за тебя маму родную слопает, а я, смотри, мать, ни в одном глазе! И на дух её не надо! Одно название! А дай, так я её, заразу, об угол, и вот он — трезвый, как стёклышко. Не-е, — не унимался он, — я могу и пить, могу и не пить. Не то, что Нюркин алкоголик, — имел он в виду отца Вани. — С ним рюмку, а вторую он и без тебя вылакает. Однова говорю: Петря, бросай пить, а он: не могу! Ха, не могу! Спрашиваю: а я? Ну, Семён, говорит, ты — дело другое, у тебя воля железная».
И всякий раз, что бы ни говорил Семён, к бутылке его словно чёрт подталкивал под локоть. «Ладно, — соглашался он с ним, — рюмку, и больше — ни-ни! Хватит! А то и на самом деле алкоголиком станешь».
Утром, когда жена вставала, чтобы растопить печь, Семён, уткнувшись головой в стол, крепко спал, перед ним стояла пустая бутылка.
Сейчас, выпив, он стал ломаться и перед Ваней.
— Слабак твой папка! Ой, слабак! Выпили как-то. Он — в ноль, а я — стёклышко. Утром приходит: дай, Сеня, на похмелку, умираю. А дальше: ум-мора! Заместо водки налил ему керосина. Ну, понятно: выпил, глаза на лоб, а потом на меня, стерва! Да где там! Пендаля — и с крыльца его!
От отца дядя Семён перешёл к матери Вани.
— И она. Царствие ей Небесное, была не лучше, — начал он о ней. — Нет, чтобы Петро своего, когда напьётся, носом в угол, а она; «Ах, Петенька!» Вот и ах! Алкоголиком его сделала! И ведь ничего ей не скажи! Я, говорит, и без вас, Семён Иванович, знаю, что с мужем делать. Ну, знаешь, так знай! Твоё дело!
Вдруг дядя Семён заёрзал на стуле, заглянул под стол, а не найдя там ничего, крикнул на кухню:
— Мать, плесни-ка ещё!
Выпив рюмку, он, как и раньше, отодвинул бутылку на край стола и сказал:
— Всё! Это последняя!
— Вот я и говорю, — закусив огурцом, вернулся к разговору дядя Семён, — и мать твоя не лучше. Да и гонору в ней было — прямо не подходи! Я, говорит, образование имею! Ха, образование! Да образованных сейчас — плюнь, не промахнёшься! А толку-то! Он образованный, а выпить не на что. Нальёшь ему, а он от радости из ботинок готов выскочить.
Лицо у дяди Семёна было уже красным, лоб в поту, мышиные глазки стали похожи на оловянные шарики.
— И строила из себя цацу, — продолжал он. — Посмотришь: кочерыжка на двух спичках, а туда же! Я, говорит, не из тех, что вы думаете, Семён Иванович. Ха, не из тех! Мать, — крикнул он на кухню, — помнишь, ревновала меня к ней! Так я тогда понарошку. Чтобы тебя подразнить. А она, не поверишь, клюнула! Свиданку назначала. Ну, да я — держи карман шире! Не из тех, что по чужим бабам шастают.
— Да и по дому, — не мог остановиться дядя Семён, — прыгает, суетится, а толку — что от сороки. Посуда — как твоё свиное корыто, на столе — хоть метлой мети, хватит одно — другое уронит. Вот и тебя: бросилась к утюгу, а ты из зыбки выпал. Оно бы ладно: просто выпал, так нет, головкой ударился. Теперь вот и думай: что из тебя выйдет. Может — ничего, а может — и дураком станешь. Не-е, — мотал головой дядя Семён, — мать у тебя была — хуже не придумаешь! Назвал бы стервой, да язык не поворачивается, покойница всё-таки.
От обиды за мать Ваня готов был заплакать, но не делал этого, опасаясь, что тогда дядя Семён его выгонит. А домой идти он боялся: всё казалось, что увидит там гроб с покойной матерью. Боялся он и остаться один на улице. Его пугали окна в заброшенных домах, казалось, что за ними прячутся злые люди. Не понял этого дядя Семён.
— Ну, ладно, поговорили, пора и честь знать, — сказал он и выпроводил Ваню из дома.
На улице Ваню охватил страх. Ему казалось, что из домов с забитыми окнами сейчас выскочат злые люди, уведут его с собой и посадят в тёмную яму. От охватившего страха он не мог уже и плакать, а когда бросился бежать по улице, ему казалось, что злые люди бегут за ним, в руках у них длинные ножи, они тяжело топают сапогами и вот-вот его схватят. Пришёл в себя и успокоился Ваня на речке, куда вывела его улица. На ней было тихо, только внизу, на перекате, торопясь его оставить, она, казалось, с кем-то переговаривается. Прямо перед Ваней, на неподвижной глади плёса, как в зеркале, отражалось солнце и голубое небо. Когда из воды выпрыгивали рыбы и поднимали волны, солнце на плёсе разбегалось на цветные кусочки. Год назад, вспомнил Ваня, в такой же день с отцом и матерью они были здесь: отец на удочку ловил рыбу, мать на той стороне реки собирала малину, а он делал на реке запруды. Рыба в запруды его не шла, и он тогда пошёл в лес, где взял палку и этой палкой стал сшибать головы иван-чаю. В одном месте из-под ног его выскочил бурундук. Он ловко забрался на лиственницу и оттуда, как показалось Ване, погрозил ему лапкой. Потом Ваню стал звать отец. «Ваня, — весело кричал он ему с реки, — иди, я рыбу словил!» У рыбы была блестящая чешуя, красные плавники и испуганные глаза. Она билась о камни, а когда Ваня взял её в руки, успокоилась. Потом отец научил его, как надо ловить рыбу. Первая рыба попалась скоро. Когда он вытаскивал её из воды, от радости у него так захватило дыхание, что чуть не выронил из рук удочку. А мать на той стороне всё собирала малину. Вскоре он услышал её голос. «Сынок, — ласково звала она, — иди поешь малинки». Река была глубокой, и к матери перенёс Ваню отец на перекате. Наевшись малины, Ваня стал проситься к отцу, чтобы половить рыбы. Обратно, на том же перекате, отец переносил и мать. Сидя у него на загривке, она делала вид, что погоняет его прутиком, и весело смеялась. Когда отец ради шутки собрался с загривка сбросить её в воду, она завизжала, как девочка, и стала ещё сильнее бить его прутиком. На берегу — Ваня это хорошо видел, — отец, сняв её с рук, крепко прижал к себе и поцеловал в губы.
Потом они жгли костёр и варили уху. Солнце уже шло к закату, оно было похоже на большой медный шар, а горы, за которые оно закатывалось, на сложенные из красного камня крепости. На отце была белая рубаха, высокие болотные сапоги, когда Ваня смотрел на него сквозь отблески костра, он ему казался сказочным великаном. Мать была в голубом трико, на шее у неё был шёлковый с белой полоской шарфик, у реки, где она, умывшись, стала расчёсывать волосы, Ване показалось, что мать похожа на большую красивую птицу, которой ничего не стоит подняться в небо.
За ухой отец с матерью обсуждали свои дела и строили планы на будущее. «Ничего, мать, привезу с Аяна лесу и дом поставлю». Ване в этом доме он обещал выделить отдельную комнату, в которой он, когда пойдёт в школу, будет выполнять свои домашние задания. Ничего этого не получилось. Зимой, после Нового года, мать заболела, и что только отец ни делал: каких врачей ни вызывал, в какие больницы ни возил, подняться она уже не смогла.
Воспоминания о том светлом дне, когда он с отцом и матерью был в прошлом году здесь, сладко затуманили Ване голову, и он, положив её на колени, уснул.
Разбудил Ваню голос за спиной:
— Соколик, ай из дому выгнали?
Обернувшись, он увидел старушку, в одной руке которой была брезентовая сумка, в другой палка. Это была известная в посёлке побирушка Агафониха. Она часто приходила в дом Вани, и мать её всегда усаживала за стол и кормила. У неё не было зубов, и поэтому хлеб она крошила на кусочки и размачивала их в супе. Поев, оставшиеся на столе крошки собирала в ладошку и их тоже съедала. У неё был острый нос, и когда она выбирала с ладошки хлебные крошки, Ване казалось, что Агафониха похожа на курочку, склёвывавшую с корытца свои зёрнышки. После этого она рассказывала Ване сказку про Иванушку хорошего и Иванушку плохого. Иванушка хороший, когда вырос, старых родителей своих почитал, работать их не заставлял, кормил коврижками со сметаной, и каждый день поил мёдом, и за это, когда умер, на том свете жил в раю и ел одни сладкие яблоки. Иванушка плохой, наоборот, когда вырос, к родителям относился плохо, кормил объедками со стола, упрекал, что ничего не делают, и поэтому на том свете на нём черти возили дрова и кормили его одними помоями. Выслушав эту сказку, Ваня всегда говорил: «А я буду Иванушкой хорошим». Агафониха ласково гладила его по голове и говорила: «А я в етом, миленький, и не сумлевалась».
Воспоминания, связанные с матерью и Агафонихой, больно сжали Ване сердце, а когда он представил, что этого уже никогда не будет, с криком: «Бабушка, у меня мама умерла!» уткнулся ей в подол и так заревел, что уснувшая на кусте ворона с испугу чуть было с него не свалилась.
Вечером Ваня с отцом и Агафонихой сидел за столом. Брат матери, оказывается, уже уехал. Отец водку не пил, на нём была белая рубаха, и он уже не походил на человека, опущенного в яму. Агафониха крошила хлеб, мочила его в супе, а когда собранные в ладошку крошки съедала, как и раньше, была похожа на курочку. За окном наступала ночь, на небе зажигались первые звёзды, в доме на стене тикали часы, в печке потрескивали дрова, и Ване казалось, что на том свете, когда он будет есть одни сладкие яблоки, он обязательно заберёт к себе мать, а когда умрёт отец и тоже окажется на том свете, он и его в беде не оставит.
Случай на Зырянке
I
Заброшенный на Верхнюю Колыму посёлок Зырянка сохранил в себе оставшийся от сибирского казачества патриархальный облик. И хотя над ним уже кружат вертолёты, заходя на посадку, ложатся на крутые крылья «аннушки» и уходят в далёкие спирали пассажирские авиалайнеры, по другую от аэродрома сторону, на крутом берегу Ясачной, сохранилось с Дальстроя добротно рубленное из лиственницы здание речного пароходства, на другой стороне её с дореволюционного времени стоит уже осевший в песок колёсный пароход, а где-то в окрестностях, наверное, можно найти остатки жилищ казаков-первопроходцев из отряда Дмитрия Зыряна. Отсюда вниз по Колыме в конце прошлого века с женой и двадцатилетним сыном уходил в свой последний путь известный исследователь Северо-Востока Иван Дементьевич Черский. Недалеко сохранилась его избушка, где он готовил походное снаряжение и, по опросам местных жителей, делал наброски предстоящего пути. Видимо, оттого, что в посёлке ещё нет зданий, сооружённых из бетона и камня, всё, что связано с прошлым, органически вписывается в его деревянную архитектуру, и, если вы не лишены чувства воображения, вам нетрудно представить себя и первым землепроходцем, и участником экспедиции Черского, и пассажиром колёсного парохода, и матросом дальстроевского речного пароходства. А если вы зайдёте в местную столовую, размещённую, как и пароходство, в рубленном из лиственницы здании, и увидите сделанные из толстой доски столы, деревянные сундуки вместо стульев и вытянутые вдоль стен скамьи из грубо оструганных плах, вам покажется, что вы в том трактире, где когда-то казаки, по случаю удачного сбора ясака, пили брагу и ели местную строганину и сибирские пельмени. Располагают к этому и занятые в столовой женщины, которых кто-то ловкий на язык окрестил поварёшками. На первый взгляд, все они кажутся на одно лицо — одинаково скуластые, с небольшим вздёрнутым вверх носом, и заметно раскосыми глазами. И этому удивляться не надо, ведь в каждой из них течёт кровь от тех далёких браков, что совершались между русскими и якутами. И только при внимательном взгляде замечаешь, что каждая из них имеет и своё лицо, а при близком знакомстве с ними убеждаешься ещё и в том, что при всём различии характеров они одинаково неповторимы в сплаве упорства и вспыльчивости аборигенов и ленивой рассудительности русских.
Вот Яна Юрьевна Беликова. В столовой она работает с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье отдаёт себя местному краеведческому музею. У неё коричневого цвета глаза, чёрные до плеч волосы и тонкая талия. В столовой она сидит за кассовым аппаратом и всё боится, как бы кого не обсчитать. Однажды с ней это случилось, она обсчитала на десять копеек грузина, приехавшего в посёлок на заработки. Ночь она спала плохо, а рано утром побежала к нему, чтобы вернуть деньги. «Маладэц! — похвалил её грузин. — На тэбе за это десят рубыл!» И положил ей десятирублёвую бумажку в нагрудный разрез платья. Яна Юрьевна от десятки отказалась, а грузин внимание к себе с её стороны понял по-своему. Теперь он ходил в столовую не раз в день, как раньше, а все три раза, и всякий раз, сидя за столом, стрелял в неё похожими на острые кинжалы взглядами. Привыкшие к любвеобильным посетителям поварёшки не обратили бы на это внимания, если бы у грузина не был нос, похожий на клюв большого попугая. Когда с таким носом он наклонялся над тарелкой, чтобы зачерпнуть в ней ложку супу, казалось, им он в ней что-то ещё и выклёвывает. «Что ты с ним будешь делать?» — смеялись над Яной Юрьевной поварёшки. «С кем?» — не понимала она. «С носом!» — смеялись они, а однажды одна из них, фыркнув, сказала: «Извини, Янка, но такие носы уже никто не носит». Зачастил грузин к Яне Юрьевне и в её краеведческий музей. «Какой богатств!» — восхищался он выставкой ондатровых и соболиных чучел, а увидев резную кость из бивня мамонта, сказал: «Мой его купит». Ходил грузин по музею с прямой, словно вытесанной из дерева осанкой, и, похоже, искал в нём не одни культурные ценности, а что-то ещё и другое. Кремнёвому ружью он заглянул в дуло, в якутскую юрту сунул нос и что-то в ней понюхал, у волка потрогал зубы: не чужие ли, а у лося заявил, что «такой крупнорогатый скотын Капказ уже нэт». Похоже, всё это он делал с расчётом, что Яна Юрьевна его видит и наверняка восхищается его деловым вниманием к музейным экспонатам. В одно из своих посещений музея он попросил у неё книгу отзывов посетителей и написал в ней: «Дарагой Янэ за прекрасны выставк от капказки друг». Терпение Яны Юрьевны лопнуло. С присущей ей категоричностью она заявила грузину, чтобы он больше к ней в музей не ходил. «Болшой дур! — рассердился на неё грузин. — Выгод тёплы дружб нэ понимаеш!» Возможно, Яна Юрьевна не поступила бы так с грузином, если бы не дорожила репутацией своего музея. Она была твёрдо уверена, что Зырянка без её музея была бы уже не Зырянкой, а тем захолустьем, в котором живут одни безродные Иваны. Прямо при входе в зал музея у неё висел плакат со словами Пушкина: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». Спасая своих земляков от постыдного малодушия, Яна Юрьевна не избежала его в своей семье. Муж её, учитель географии, не раз в год уходил в длительные запои. Чтобы скрыть это, она шла в поликлинику и, унижаясь, выпрашивала там справки о том, что он болен. Не отказывал ей в этом терапевт Моисей Иванович, но и он в последнее время, увидев её в своём кабинете, испуганно вздрагивал, семенил короткими ножками к двери и, плотно её прикрыв, говорил:
— Ах, Яна Юрьевна, если между нас сказать, и меня за раз из клиники погонят!
Яна Юрьевна стала ходить к хирургу. У этого была по-бычьи сложенная голова, крупный, в спелую грушу, нос, и он, кажется, ничего не боялся.
— Та-ак, — встречал он Яну Юрьевну, — что мы ему в прошлый раз ломали? Руку? Хар-рашо! Поломаем ему теперь ногу.
А когда провожал её, всякий раз говорил:
— Шею бы твоему подлецу поломать!
Яна Юрьевна пыталась уберечь своего алкоголика от запоев тем, что прятала от него деньги. Получалось это у неё плохо. У мужа на них было такое тонкое чутьё, что находил он их везде, даже в мусорном ведре, когда же она запирала их на замок в комоде, он вскрывал его специально сделанной отмычкой.
Детей Яна Юрьевна не имела и не уходила от мужа, видимо, из жалости к нему. Музей же, как могло показаться на первый взгляд, был для неё тем уголком, в какой обычно забиваются люди, убегая от своих несчастий. Однако это было не так. Она часто ходила в клуб и перед показом фильмов выступала с лекциями по истории своего края. И что скрывать: Яна Юрьевна не была здесь исключением из той многочисленной категории лекторов, которые стремятся не только раскрыть свою тему, но и показать себя и глубиной мышления, и академической строгостью языка. Царская политика по отношению к местному населению у неё была сугубо колониальной, насаждаемое казачеством общественное устройство авторитарным, якуты в национальной структуре при них были не просто якуты, а якутские компоненты, а шаманы являлись махровыми служителями языческого культа. Другой становилась Яна Юрьевна, когда переходила к событиям, связанным с конкретными личностями. Рассказывала она об этих событиях простым языком, и так увлекалась ими, что, казалось, видит их не со стороны, а является их участницей. А когда она рассказывала о последнем сплаве по Колыме Черского, цитируя дневник его жены, Марфы, написанный ею, когда он умирал, — после слов: «Мужу всё хуже. Боже мой, что будет дальше?» по лицу её, казалось, бежали слёзы.
Другая поварёшка, Верка Амосова, работала в столовой на раздаче. В свои двадцать пять лет она была бы похожа на подростка, если бы этому не мешали большие груди и короткие, с выразительными икрами, ноги. Ловкая на язык и на руку, она успевала послать, куда надо, заглядевшегося на неё посетителя и шлёпнуть в его тарелку на второе не то, что он просит.
— Ну, знаете ли! — обижался посетитель.
В ответ Верка смеялась, и ловко одёрнув на себе юбку и кокетливо поправив на груди кофточку, начинала перед ним форсисто выламываться.
— О, стерва! — не зло ругался посетитель и шёл со своей тарелкой к столу.
Показав ему в спину язык, Верка бралась за второго посетителя.
Мужа у Верки не было, но был сын Колька, которого она родила в шестнадцать лет. Сейчас Кольке было девять лет, и они с Веркой больше походили на сестру и брата. Когда он приходил в столовую, Верка с ним занималась уроками. Всякий раз эти уроки проходили по одному и тому же сценарию.
— Почему в пустыне ничего не растёт? — раскрыв учебник географии, строго спрашивала Верка.
— А потому, что там песок, — твердо отвечал Колька.
— А почему там песок? — шла дальше Верка.
— А потому, что там ничего не растёт, — отвечал Колька.
— Господи, — вздыхала Верка, — и в кого ты такой оболтус?
— В тебя, мама, — отвечал Колька и, забрав у неё свою географию, делал вид, что занятия по этому предмету закончены.
Иногда на вопросы по географии переходил и Колька. Однажды, придя в столовую, он громко, так, чтобы все услышали, спросил Верку;
— А почему море солёное?
— Потому что в нём много соли, — ответила она.
— А вот и не так! — звонко рассмеялся Колька. — Море солёное, потому что в нём селёдки плавают.
Так как трудно представить Верку без парня, который бы за ней не ходил, такой парень у неё был. Все его в посёлке звали Пахой, и был он, в отличие от Верки, неуклюже сложен и с постоянным выражением на лице горькой скуки и тупого ко всему безразличия. Зачем они, такие разные, встречаются, никто не знал. Когда Паху об этом спрашивали, он отвечал:
— А мне без разницы.
Работал он в жилуправлении сантехником, и похоже, что и в нём ему было всё без разницы. Когда его посылали с ремонтом на квартиру, он всякий раз спрашивал;
— А оно надо?
А Верка, жизнь которой не сложилась сразу с рождения Кольки, видимо, смотрела на своего Паху, как на обязательное для всех женщин, хотя и не совсем нужное приложение. К залётному на Зырянку геологу из Москвы, от которого родился Колька, она ездила, но от отцовства, ссылаясь на неопределённость их отношений, он отказался.
Когда Верка стала плакать, его мать, выпроводив её за дверь, сказала: «Таких вас много, а он у меня один».
И это была первая любовь Верки, а будет ли вторая — кто знает. Ведь это в окрепшем возрасте потерянная любовь не ломает человека и не отбивает желания найти другую, а в её, тогда шестнадцатилетнем, она убила не только это желание, но и всякую веру в мужскую порядочность. Видимо, не случайно, когда поварёшки собирались своей компанией, выпив, Верка всякий раз срывалась на свою частушку:
Всё бы пела, всё бы пела, Всё бы веселилася. Но одно меня сгубило: Рано я влюбилася.И начинала после этого плакать. «Дура ты!» — не понимали её. — И чего плачешь? Поднимешь своего Кольку, и не такого жениха отхватишь!» Услышав это, Верка утирала слёзы и зло говорила: «Я их всех ненавижу!»
Видимо, не находила себя Верка в сыне. Известно, что родившие ребёнка в возрасте с ещё неокрепшими взглядами на жизнь, навсегда лишаются материнского к нему чувства. Верка здесь не стала исключением. Пока Кольке не исполнился год, она не знала, что с ним делать, когда он поднялся на ноги и весело забегал по комнате, она стала на него смотреть, как на игрушку, сейчас она видела в нём то, что хоть как-то заполняет пустоту её несложившейся жизни.
II
Всё случилось так неожиданно, что поверить в это было трудно. Удавилась Верка. Нашли её в верёвочной петле в дровяном сарае. Записки она никакой не оставила, и поэтому по посёлку поползли невероятные слухи: одни говорили, что незадолго до смерти она получила из Москвы письмо, в котором залётный отец Кольки грозил ей, что приедет на Зырянку и Кольку у неё заберёт, другие утверждали, что довёл её до этого Паха, который в последнее время, якобы, бил её уже смертным боем, прошли слухи о том, что её изнасиловали грузины, и она этого не вынесла. Понятно, гадай — не гадай, толку от этого мало, и Верку уже из могилы не поднимешь. Вполне возможно, о том, что потянуло её в петлю на самом деле, догадывалась одна Яна Юрьевна, но даже если бы это было и так, она бы этого никому не сказала.
Незадолго до смерти Верки грузины устроили в столовой вечер по случаю удачного окончания сезона колымских заработков. Был он устроен по обычаям древнего Кавказа. За длинным, во весь зал, столом разместились одни грузины, а русские девки, которых привели они с собой, сидели на скамье у одной из стен столовой. Все грузины были в длинноклювых кепках, говорили только на своём языке и пить не торопились. Выделялся среди них тот, что сидел в центре стола. Он был выше всех ростом, в новом защитного цвета костюме, и своим острым носом и чёрными глазами в пуговку походил бы на грача, если бы не был при ярко-красном галстуке. Было видно, что он здесь старший, и, видимо, поэтому, в виде исключения, ему разрешалось иметь рядом с собой девку. Смуглая и небольшого роста, она была похожа на цыганского подростка, а когда грузин вставал и начинал по-своему что-то говорить, она, заглядывая ему в рот, уже была похожа на галчонка, ожидающего в своём гнезде положенную ему от матери порцию пищи. Обсудив свои дела, грузины выпили, и только после этого разрешили русским девкам садиться с ними за стол. Чтобы скрыть испытанное у стены унижение, одни из девок стали ломаться за столом, как порченые невесты на выданье, другие, не дожидаясь своих кавалеров, наливали себе в стаканы водки и пили её, не закусывая. Потом начались танцы, а после них, выпив ещё, все пошли в пляс. Девки запрыгали, как лошади, а когда стали по-русски выбивать дроби, запрыгала на столе посуда; грузины, дружно поднявшись на дыбки, с видом галантных кавалеров стали их обтанцовывать и делали это так, словно перед ними не пьяные девки, а никем не порченые красавицы. Был на вечере и грузин, волочившийся за Яной Юрьевной. В танцах и пляске он участия не принимал, с грустным видом сидел за столом, пил вино и много курил. Теперь Яне Юрьевне было его жалко, и ей хотелось на прощанье сказать ему доброе слово. Сделать она это не успела. В конце вечера грузин сам подошёл к ней и, подавая ей красивый букет цветов, сказал: «От всей капказки сэрдца, — и, мягко улыбнувшись, добавил: — Вы замечателны чалвэк и красывы женщин».
Когда грузины заканчивали свой вечер лезгинкой, в столовой появился муж Яны Юрьевны. У него были мутные, как с долгого сна, глаза и неуверенные движения, и трудно было понять: пьян ли он или с большого похмелья. Примостившись с окончившим танец грузином, он выпил с ним рюмку водки и вскоре куда-то исчез.
А утром, когда поварёшки пошли на работу, они обнаружили, что касса Яны Юрьевны вскрыта и все деньги, собранные с грузинов за вечер, из неё исчезли. Из буфета исчезли три бутылки водки, но на эту мелочь никто не обратил внимания. В посёлке с тех пор, как много лет назад заловили на мехах заезжего воришку и без суда его хорошо поколотили, воровства не было, и поэтому случившееся в столовой сразу облетело весь посёлок и стало предметом догадки: кто это сделал? Наружная дверь в столовую была не взломанной, окна были целы, значит, украсть деньги мог только тот, кто уходил из неё последним. А уходила последней из неё Верка. Подрабатывая уборщицей, он в тот вечер, хотя и была немного выпившей, когда все разошлись, решила помыть в столовой полы. Несмотря на то, что в Веркино воровство никто не верил, не переставала настаивать на нём заведующая столовой Серафима Карловна. В посёлке она появилась недавно, до этого ходила в завмагах на Арылахе, говорили, что её оттуда за что-то погнали, а здесь она быстро устроилась заведующей столовой по какой-то протекции из Якутска. У неё было похожее на тыкву лицо, оплывшие жиром глаза и толстые, в два больших чебурека, губы. Утром она вызвала Верку в свой кабинет и, усадив её прямо перед собой, сказала:
— Одно из двух: либо ты, девка, признаешься и вернёшь в кассу деньги, либо я дело передам в прокуратуру.
— Да иди ты! — послала её Верка и, хлопнув дверью, вышла из кабинета.
Вечером состоялось собрание коллектива столовой. На нём Серафима Карловна заявила прямо: украла деньги Верка. В столовой она оставалась одна и выходила из неё последней.
— Не брала я никаких денег! — кричала в ответ Верка, а когда Серафима Карловна стала настаивать на своём, она обозвала её курвой.
— От курвы слышу! — взорвалась Серафима Карловна и так от злости двинула ногой стол, за которым сидела на председательском месте, что чуть не опрокинула стоявший на нём графин с водой. Её успокоили и стали говорить, что Верка не могла украсть деньги, хотя бы потому, что не её руками вскрывать секретный замок на кассе.
— Да я его и гвоздиком открою! — заявила на это Серафима Карловна.
— Ну, если с опытом, то конечно, — сказал кто-то негромко с заднего ряда.
Услышав это, Серафима Карловна вспылила:
— Попрошу без намёков!
Наконец, вызвали сторожа, деда Ефима, что дежурил в ночь кражи.
— Ась? — не понял он первого вопроса Серафимы Карловны.
— Я тебя спрашиваю, — громче спросила она, — ты у Верки магазин принимал?
— Кады? — не сразу понял он. — Вчерась, што ли? Кажись, примал.
— Кажись, кажись! — вспылила Серафима Карловна. — Что у неё было в руках?
— Известно што, сумка, — ответил дед Ефим.
— А что в сумке, не видел?
Это деда Ефима рассмешило:
— Ай, сама не знаешь, што вы в сумках отседа выносите! — А потом, словно обидевшись на кого-то, заявил: — Нешто я дурак? И я понимаю: кажный жить хочет, а Пахе ейному ещё и бутылку дай.
Толкового от деда Ефима ничего не добились. Ушёл и он, не поняв, зачем его вызывали. На следующий день о том, что его вызывали на собрание, он рассказал своему сменщику, татарину Абдулле.
— Зачем говорил: Верка сумку таскал?! — рассердился Абдулла. — Твой дурак, что ли?! — И, обхватив голову руками, простонал: — Ой, пырападал Верка! Ой, турма ей будет!..
Поняв свою оплошность, дед Ефим бросился к Серафиме Карловне и заявил, что никакой сумки в руках Верки он не видел.
— Ха-а! — расхохоталась Серафима Карловна. — Покрываешь?! Так и запишем!
В заявлении на имя прокурора она написала, что краденые деньги, по показанию сторожа, Верка выносила в сумке, и если этот сторож сейчас юлит и от первых показаний отказывается, то это потому, что Верка, заметая следы своего преступления, его подкупила. А это ещё раз свидетельствует о том, что деньги украла она.
Вскоре Веркой занялся следователь. Он был молод, но уже хорошо знал: если, не признавая вины, мужик ведёт себя нагло, а баба плачет, пиши — виноваты! А Верка, убедившись, что дело зашло далеко, и всё против неё, уже не раз плакала. Поэтому, считал следователь, ему ничего не остаётся, как только выяснить обстоятельства совершённой ею кражи. Да и какие обстоятельства? И они налицо. Одна, ночь, касса рядом. Сторож отказывается от показаний? Господи, да сунь этому старому дураку бутылку водки, он и от мамы родной откажется. Так рассуждал следователь, а сидящая перед ним Верка всё плакала. Задав ей несколько ничего не значащих вопросов, он попросил подписать её протокол допроса. Верка подписывать его отказалась. «Ах, так!» — рассердился следователь и стал грозить ей тем, что привлечёт к её делу и сторожа, а это уже будет не воровство, а грабёж, за который оба схлопочут большие сроки.
Происходило это накануне ночи, в которую удавилась Верка. Так как никто не знал, что у неё было со следователем, увязать с этим её смерть никому не пришло в голову. Все были уверены, что Верка к краже денег в столовой никакого отношения не имеет.
Верку похоронили, а сына её, Кольку, забрала к себе Яна Юрьевна и куда-то с ним из посёлка исчезла. Сделала она это, видимо, после того, как поняла, что деньги в столовой украл её муж. Во-первых, это было видно по тому, что касса была не взломана, а вскрыта отмычкой. Опыта на это, как известно, он набрался на вскрытиях комода, где Яна Юрьевна прятала от него деньги. Во-вторых, в ночь кражи он дома не ночевал. Ей же он сказал, что ночевал у друга. А это оказалось неправдой. Друг в ту ночь, как выяснила она, был на рыбалке. В-третьих, с тех пор, как это всё случилось, он стал пить ещё больше, хотя Яна Юрьевна денег ему на выпивку не давала. Более того, однажды, когда он спал, она обнаружила в одном из карманов его штанов крупную сумму денег. И ей стало ясно, как он совершил кражу. Выпив с грузинами рюмку водки, он не ушёл из столовой, а, выйдя в прихожую, спрятался там в мужском туалете. Когда Верка ушла из столовой, он вскрыл кассу, забрал из неё деньги, из буфета две бутылки водки, и снова спрятался в туалете. Утром, когда все пришли на работу, ему ничего не стоило незаметно выйти из туалета и скрыться на улице.
После того, как Яна Юрьевна уехала из посёлка, мужа её за пьянку из школы выгнали и вскоре он совсем опустился. Обросший, в рваном пиджаке и стоптанных туфлях, утром он отирался у магазина и выпрашивал себе на похмелье, а вечером шёл в пивнушку и допивал там оставленное посетителями в кружках пиво. Последний раз его видели на могиле Верки. Говорили, что он там плакал и просил у Верки прощения. Правда ли это — сказать трудно. Куда потом исчез муж Яны Юрьевны, точно сказать никто не мог.
Голубевы
I
После пяти лет развода Голубевы решили сойтись. Он, Арсентий Павлович, в свои шестьдесят лет выглядит старше, у него лысая голова, маленькие с жёлтым отливом глаза, сложен словно из сухих палок, когда идёт, осторожно, не сгибая ног в коленях, кажется, ничего перед собой не видит. Вернувшаяся к нему Вера Григорьевна, наоборот, полно сложена, несуетлива, и хотя ей тоже под шестьдесят, была бы похожа на деревенскую молодуху, если бы не печальные и подёрнутые старческой дымкой глаза.
Разлад в семье, приведший к разводу, начался с Арсентия Павловича. Заподозрил однажды он Веру Григорьевну в измене, а когда убедился, что её не было, подозрительного отношения к ней не оставил, а мелочный учёт каждого её шага стал у него привычкой. Выражалось это не прямо и открыто, а, как у всех подозрительных людей, скрывалось под личиной здравого смысла и объективных обстоятельств. Когда, по его мнению, Вера Григорьевна приносила из магазина не по доходам много мяса, он просил её на ужин поджарить ему отдельно рыбы, а за столом говорил: «Ты, милая, ешь это мясо, а я, со своим никудышным пищеварением, и на рыбке посижу». Если она долго задерживалась у соседки, он встречал её в постели с видом человека, у которого внезапно прихватило сердце, и просил как можно быстрее дать ему валидолу. Докатился Арсентий Павлович и до мелких подлогов. Решив проверить, строгий ли учёт ведёт Вера Григорьевна семейным расходам, он стал похищать из её кошелька небольшие суммы и прятать их в укромное место. В поисках их бедная Вера Григорьевна сбивалась с ног, а Арсентий Павлович, выждав некоторое время, и сам брался за поиски. Перебирал содержимое комода, заглядывал под кровать, копался в мусорном ведре, а вынув деньги из укромного места, говорил: «Эх, ты, ворона! И угораздило тебя их туда засунуть!» «Да не ложила я туда деньги!» — оправдывалась Вера Григорьевна. «Ну, не я же их туда ложил!» — сердился на неё Арсентий Павлович. Всё это Вера Григорьевна могла бы и стерпеть, если бы не история с сыном. С открытой натурой и твёрдым характером, среди друзей он был всегда на виду, в школе учился неплохо, много занимался спортом, и Вера Григорьевна думала, что её Паша станет либо военным, либо спортсменом. Кем станет сын, Арсентий Павлович не думал. Он, как и Веру Григорьевну, допекал его мелочами. Школьный дневник он проверял ежедневно и всё высматривал, нет ли в нём подтирок и подделок. Особенно не верил пятёркам. «А это ещё откуда?» — спрашивал он и чуть ли эти пятёрки не обнюхивал. Если сын просил денег сразу и на кино, и на мороженое, в мороженом он ему отказывал. «От мороженого ноги стынут», — шутил он иногда при этом. Когда на мороженое сыну давала деньги Вера Григорьевна, он говорил ей; «Потакай, потакай, потом плакать будешь». А в десятом классе, когда у сына появились запросы больше, чем на кино и мороженое, из дома стали исчезать деньги. Вера Григорьевна догадывалась, что берёт их Паша, а скрывала это, чтобы избежать скандала с отцом.
После школы Паша выбрал физкультурный институт. Из него он писал, что дела у него идут хорошо, институтское начальство и преподаватели им довольны, а когда через два года приехал на каникулы, его было уже не узнать. Он возмужал, взгляд его стал острее и жестче, а две вертикальные складки на переносице подчёркивали решительность и твёрдость характера. Ходил он в дорогом, спортивного покроя костюме, в белых кроссовках фирмы «Адидас», и с короткой под ёжик причёской был похож на супермена из детективного боевика. Привёз он с собой два чемодана дорогих вещей, от модных галстуков до японской видеоаппаратуры. «Откуда это?» — удивилась Вера Григорьевна, а когда нашла в бумажнике Паши крупную сумму денег, часть из которых была в валюте, её охватил страх. «Тренером подрабатываю», — объяснил ей своё состояние Паша и попросил спрятать чемоданы подальше от чужих глаз. Вера Григорьевна ему не поверила. Всё говорило о том, что богатство Паши — дело рук нечистых. На тренерскую зарплату его не приобретёшь и в десять лет. И почувствовало тогда материнское сердце Веры Григорьевны, что стоит за этим что-то ужасное и непоправимое. И, словно в подтверждение этому, Паша стал много пить, а напившись, хвастал тем, что умеет жить, но ночью стонал и скрипел зубами, а проснувшись, шёл к окну и долго там курил.
В конце каникул к Паше приехал институтский дружок Вадик. Как и Паша, он был спортивно сложен, одет по последней моде, на лице его выделялись грубые, как у боксёра, скулы и похожий на картошку нос. Они не вязались с открытыми, небесного цвета глазами и тонкими, в ландышевый лепесток, губами. Казалось, таится за лицом Вадика что-то и жёсткое, и вместе с тем по-женски мягкое. Вера Григорьевна, видимо, увидела в Вадике только последнее, и поэтому он ей понравился. Да и характер у него был ко всему открытый и во всём жизнерадостный. «Ты, мамаша, за Паху не волнуйся. За такого, как он, пятерых дают», — весело успокаивал он Веру Григорьевну, а хлопая Арсентия Павловича по плечу как уже давно знакомого, говорил ему: «А ты, дед, молодец! Такого, как Паху, не каждый сделает». Вере Григорьевне в подарок он привёз модные сапожки, а Арсентию Павловичу французскую куртку с позолоченными застёжками.
С приездом Вадика Паша стал меньше пить, и по ночам не стонал и не курил у окна. Вскоре, забрав привезённые Пашей из института чемоданы, они улетели в Магадан. Вернулись без чемоданов, весёлые и слегка выпившие. «Главное, мать, — бодро говорил Вадик Вере Григорьевне, — не падать духом! А остальное — приложится», — и цитировал строки из Есенина: «Жить нужно легче, жить нужно проще, всё принимая, что есть на свете». А Паша, оставшись с ней наедине, говорил: «Ты за меня, мать, не беспокойся, у меня всё хорошо».
Забрали Пашу, когда Вадик уже от них уехал. Поздно вечером пришли два милиционера, предъявили ордер на арест и надели на него наручники. За грабежи с применением насилия бандой, в которой состоял Паша, дали ему десять лет. Вера Григорьевна после этого чуть не сошла с ума, а Арсентий Павлович стал бояться, что и их с Верой Григорьевной за укрывательство преступной деятельности сына и хранение награбленного могут посадить. Подаренные Вадиком Вере Григорьевне модные сапожки, а ему французскую куртку он сжёг в печке. Не сгоревшие от куртки позолоченные застёжки ночью он вынес с золой на задворки и закопал там в землю. В остальном несчастье на нём никак не отразилось. Он остался таким же подозрительным и мелочным, а когда видел, как Вера Григорьевна от случившегося страдает, говорил: «Так тебе и надо. Не потакала бы, так и не посадили».
Вскоре Вера Григорьевна от Арсентия Павловича ушла. Переехала в соседний посёлок и устроилась там вахтёром в женском общежитии. Дали ей в общежитии отдельную комнату. Её она побелила, покрасила окна и двери, скопив денег, купила телевизор, а потом и завела кошку. На вахте, когда делать было нечего, она вязала общежитским девчонкам кофты, а вернувшись к себе, готовила еду, смотрела телевизор и писала письма сыну. В ответных письмах сын жаловался, что в лагере ему тяжело, работает он на лесоповале по двадцать часов в сутки, кормят плохо, охрана злая, в бараке холодно и заедают клопы. Вера и таким его письмам была рада: жив — и уже хорошо. В посылках она ему высылала тёплые вещи, сало и сахар. Всякий раз, отправив посылку, вечером, уже в постели, она представляла своего Пашу на лесоповале и одетым, и сытым. Вот он, этот лесоповал, все заключённые на нём в рваных куртках, поношенных телогрейках, дырявых сапогах, а её Паша в тёплом свитере, меховой куртке, на ногах у него вязаные ею носки и новые сапоги. Работает он ловко, начальство им довольно, а вечером в бараке он ест сало и пьёт чай с сахаром. От радости за Пашу у неё сладко сжималось сердце, а по лицу бежали тёплые слёзы. Сильно расстроилась Вера Григорьевна, когда от сына получила письмо, в котором он просил, чтобы сало и сахар она ему не посылала. Всё это, оказывается, забирают у него блатные урки. Тогда Вера Григорьевна написала письмо лагерному начальству, в котором просила проследить, куда уходят высылаемые сыну продукты. После этого Пашу она представляла уже по-другому. Вот он, вернувшись с лесоповала, понуро сидит на своих нарах, у него высохшее от недоедания лицо, впавшие глаза, под ними чёрные круги, а напротив блатные урки едят его сало и пьют чай с его сахаром, но вот входит начальство, оно отбирает у урок сало и сахар, и отдаёт всё это Паше. «Ешь, сынок», — торопит его Вера Григорьевна, опасаясь, что начальство из барака скоро уйдёт, и у Паши опять всё отнимут.
А в общежитии Вера Григорьевна скоро стала своим человеком. За ровный характер, доброту и отзывчивость девчонки полюбили её, как родную мать. Бегали к ней и с радостью, и с горем, и просто так, почесать языки и скоротать время. В долгие зимние вечера, когда за окном трещали морозы, все собирались на кухне. Вера Григорьевна занималась вязанием, у ног её терлась и мурлыкала кошка, а девчонки варили супы и мыли кости женихам. Мыли легко и весело, представляя кого шустрым и скорым на руку, а кого и толстопятым пнём. Иногда брали бутылку вина, а выпив, пели песни. От весёлых песен к концу вечера переходили к грустным, и тогда Вере Григорьевне девчонок становилось жалко. Ей казалось, что и у них жизнь как надо не сложится, что и они, покинув своих нелюбимых мужей, будут жить в общежитии. «Помоги им. Господи, — просила она, — не наведи на них беду».
В один из таких вечеров Вере Григорьевне принесли письмо от начальника лагеря, в котором сидел Паша. Прочитав его, она потеряла сознание. В письме сообщалось, что её сын, Голубев Павел Арсентьевич, умер. Пришла в сознание Вера Григорьевна в больнице, а отлежав в ней неделю, поехала в лагерь, в котором умер Паша.
Принял её заместитель начальника лагеря по воспитательной работе. Крепко сложенный, с лицом, словно снятым с армейского плаката, он сообщил, как отрапортовал: «Ваш сын, Голубев Павел Арсентьевич, умер от инфаркта». Когда Вера Григорьевна стала плакать, он поморщился, а потом, словно в оправдание, сказал: «Лагерь — есть лагерь. За всеми не уследишь». «При чём тут «не уследишь», — не поняла его Вера Григорьевна, но заместитель начальника лагеря уже вызывал солдата, чтобы он проводил её на могилу сына.
Солдатом оказался тщедушный татарчонок, шинель на котором висела, как на огородном пугале, а сапоги были такими не по размеру большими, что когда он, волоча их по земле, вёл Веру Григорьевну на кладбище, казалось, в каждом из них лежит по тяжёлой гире. На кладбище, похожем на огород, утыканный деревянными палочками, татарин указал, под какой из них лежит Паша. Тупая боль сдавила сердце Веры Григорьевны, у неё закружилась голова, и она, упав на могилу Паши, застонала. Плакать она не могла, что-то сдавило горло, а грудь словно обложили тяжёлыми камнями. Придя в себя, Вера, Григорьевна достала из сумки бутылку водки и ржаного хлеба. Налив водки в рюмку, она поставила её у Пашиной палочки, а сверху положила отрезанный от булки кусочек хлеба. А татарин, увидев это, вдруг застонал: «Ой, матка, как жалка тебя! Как жалка-а!» Вера Григорьевна налила и ему водки. Выпив и утерев рукавом шинели губы, он снова застонал: «Ой, лагерь плохо! Ой, как плохо! Паси бог его попадай!» А когда Вера Григорьевна спросила, как умер Паша, он удивился: «Зачем помирай? Он не помирай, его урка убивал». «Зачем же они обманывают?» — не поняла Вера Григорьевна лагерное начальство.
Когда они вернулись в лагерь, заместитель начальника, увидев татарчонка пьяным, строго заметил Вере Григорьевне: «А вот этого бы делать не надо!» и, вызвав сержанта, приказал ему: «На губу татарскую морду!» Перед тем, как уйти, Вера Григорьевна спросила его, умер ли Паша, или его убили. Вытянув лицо в деревянную мину, он ответил: «Не беспокойтесь, мамаша, на смерть вашего сына у нас имеется медицинское заключение».
II
Вернувшись домой, Вера Григорьевна узнала, что Арсентий Павлович лежит в больнице с ишемией сердца. Она решила его навестить. Увидев её, Арсентий Павлович заплакал, у него затряслись руки, а лицо сморщилось в мокрую тряпку. Плакал он в кровати, и было видно, как под одеялом мелко, как от холода, трясутся у него и колени. Успокоившись, он тихо, с нездоровым присвистом в горле, спросил:
— На могилке-то была?
От жалости к нему и, наверное, оттого, что он напомнил ей о сыне, Вера Григорьевна тоже расплакалась, а когда выплакалась, впервые со смерти сына почувствовала, что ей стало легче, словно горе, которое она носила в себе одна, теперь разделила с Арсентием Павловичем.
Известно, богатых людей горе разъединяет, а бедных соединяет. Вера Григорьевна и Арсентий Павлович не были богатыми, и поэтому, когда он вышел из больницы, они решили остаток жизни прожить вместе.
Вернувшись в свой дом, Вера Григорьевна его не узнала. За прошедшие с их развода пять лет он как будто осел в землю и стал меньше, у него прохудилась крыша и покосились окна. В самом доме на стенах у пола облупилась штукатурка, и поэтому казалось, что они не рублены из леса, а сложены саманом, в спальне покосился пол, потолок на кухне был чёрным от сажи, по столу и стенам бегали тараканы, а когда Вера Григорьевна открыла хлебницу, она увидела, что их там целое полчище. Они, давно никем не пуганные, на Веру Григорьевну не обратили никакого внимания, только один из них сердито застрекотал не неё усами.
Изменился и Арсентий Павлович. Он, как и дом, осел в росте, высох, у него потухли глаза, а грудь так впала, что казалось, за ней если что-то и есть, то по-детски маленькое и тоже высохшее. Ходил он по дому как слепой, шаркая ногами и не сгибая их в коленях. Изменился и его характер. От мелкой подозрительности не осталось и следа. Наоборот, он стал безразличен ко всему, что делала Вера Григорьевна. Да и к себе он относился с таким же безразличием. Похоже, ему было всё равно, где он живёт и чем занимается. Утром выходил на улицу, бродил по двору, трогал калитку: не совсем ли развалилась, а когда она развалилась, собирать её не стал. А по дому только и делал, что вечерами подметал пол на кухне, да в последнее время брал Библию, клал её перед собой на стол, но читает ли он её, понять было трудно. Раскрытой она подолгу лежала перед ним на одной странице. Безразличным он стал и к еде. Единственно, что ему из неё нравилось, так это ржаной хлеб с луком и квасом. Ел он это с нездоровым аппетитом, хлеб глотал, как камни, а запив его квасом и закусив луком, чистил пальцем зубы. Увлечён он этим был так, что ничего вокруг себя не замечал, а если оборачивался в сторону Веры Григорьевны, то, похоже, её не видел. Однажды Вера Григорьевна обратила внимание, что когда он ест, от него попахивает водкой. На следующий день, заметив, что перед едой он вышел из дому и скрылся в сарае, она поняла: водку он прячет в нём. И ей до слёз стало его жалко. Когда он вернулся, она сказала:
— Арсентий, если хочешь выпить водки, не скрывай от меня этого.
И заплакала.
— Да, Вера, попивать я стал, — признался ей Арсентий Павлович.
Пришла зима. Морозы сковали посёлок, ночами он погружался в тяжёлую, как в склепе, тишину, одинокие с жёлтым отливом в небе звёзды были похожи на глаза рыси, не лаяли собаки, огни в окнах тонули, как в вате.
Зима в Арсентии Павловиче, казалось, убила всё, что оставалось ещё живого. Он не выходил на улицу, больше сидел на кухне у печи, ночь и день слились у него в одно целое. Страсть к хлебу с квасом и луком у него прошла, а когда выпивал рюмку водки, ничем не закусывал, а брал с полки Библию и садился с ней за стол. Занимало Арсентия Павловича в ней не то, что написано, а то, что он видел за этим в своём нездоровом воображении. Адама и Еву он представлял голыми подростками, ворующими в чужом саду яблоки, Ноя — похожим на толстозадого мясника, а Иисуса Христа — с козлиной бородкой. Подобно слепому, воспринимающему звук как образ, в каждом древнееврейском имени он видел свои предметные очертания. Имя Иаков, казалось ему, вытянуто из пустого кувшина, Руфь — из пастушьей дудочки, в имени Аминадава, казалось, кроется что-то неуклюжее и приземлённое, а в Левин, наоборот, лёгкое и воздушное. И если длинную родословную Иисуса Христа семинаристы заучивают, как таблицу умножения, Арсентию Павловичу она давалась легко, как занимательное художественное произведение. За фразой «Салмон был отцом Вооза, чьей матерью была Рахав» он видел заброшенную в степи усадьбу, где похожий на турка Салмон ходит в управляющих, толстозадый Вооз на быках возит с реки в бочке воду, а чахоточная Рахав, закрывшись в спальне, читает молитвы. Иначе, чем апостол Иоанн, представлял Арсентий Павлович и конец света. Ему казалось, что семь ангелов, выплёскивающих на землю чаши божьего гнева, в своих льняных одеждах и с арфами в руках, не смогут опуститься на холодную Колыму. И поэтому, если земля и горела и избивалась градом, и сотрясались на ней горы, и заливались моря и реки людскою кровью, то сложенная вечномёрзлым камнем Колыма для Арсентия Павловича оставалась нетронутой. Она ему представлялась огромным, как материк, айсбергом среди бушующего в пламени и крови океана. После Библии Арсентий Павлович ложился спать, и как человек, которому в жизни терять нечего, спал крепко.
Вера Григорьевна жила домом и заботой об Арсентии Павловиче. По дому она варила, стирала, вечерами вязала по заказам кофты, но сны у неё были не такие крепкие, как у Арсентия Павловича. Она часто просыпалась, в полнолуние у неё болела голова и давило под сердцем, а если просыпалась близко к рассвету, её охватывала тревога за что-то такое, что случится, казалось, скоро и принесёт с собой новое горе. Исключением были ночи, когда во сне видела Пашу. Снился он ей всегда в том возрасте, когда ходил в школу, и если она видела его весёлым и здоровым, проснувшись, радовалась за него, как за живого. Утром она рассказывала сон Арсентию Павловичу, и он, как и она, за Пашу радовался, и оба уже думали, что лагерное начальство ошиблось, Паша жив и скоро вернётся домой.
— Ты же его мёртвым-то не видела, — говорил Арсентий Павлович, — а там мало ли что? Направили в другой лагерь, а в документах напутали.
И лицо его становилось светлым, как у верующего после причащения, а в глазах было столько тепла и радости, что, казалось, в душе его кто-то зажёг лампадку. День проходил легко, как после сладкого вина, но вечером, когда приходило отрезвление, Арсентий Павлович запирался в спальне, а Вера Григорьевна, оставшись на кухне, плакала.
Прошла зима, а весной, когда уже стало подтаивать, совсем сдал Арсентий Павлович. Он не вставал с кровати, а когда пытался сделать это, у него кружилась голова и подкашивались ноги. В груди у него хрипело, как в ржавой трубе, лицо стало серым, как у покойника, ночью он стонал и часто просил воды. Вера Григорьевна вызвала врача. В посёлке об этом враче ходили плохие слухи, говорили, что он безжалостен к больным и особенно не чикается со стариками.
— Ничего хорошего, — сказал он Вере Григорьевне, — тромбоз сердечной мышцы и воспаление лёгких.
Когда она спросила, не умрёт ли Арсентий Павлович, он ответил, как выстрелил:
— А почему бы и нет! Возраст-то какой?!
Говорят, тяжёлого больного лечат не лекарства, они только располагают к выздоровлению, а лечат его уход и тёплое внимание. С ними больной набирает силы и желание жить, так как видит, что он ещё кому-то нужен. Не случайно самая высокая смертность от естественных болезней в тюрьмах, а самая низкая — на войне, потому что заключённый чувствует себя никому не нужным изгоем, а солдат знает, что он нужен товарищам и его с нетерпением ждут дома.
Вера Григорьевна взялась за Арсентия Павловича как за больного ребёнка. Отпаивала его отварами лечебных трав, ставила на грудь горчичники и тёплые компрессы, делала облепиховую ингаляцию, готовила куриные отвары и молочные каши.
— Да ты у меня, Арсентий, всех переживёшь, — бодро говорила она ему, хотя в то, что он встанет на ноги, плохо верила.
— Ах, кому я нужен! — отмахивался от неё Арсентий Павлович.
— Вот те на! Да в посёлке мне проходу не дают. Только и спрашивают: как Арсентий Павлович, как Арсентий Павлович? — врала Вера Григорьевна.
— Ну, уж! — не верил Арсентий Павлович, но по тому, как у него светлело лицо и загорались глаза, было видно, что сообщением Веры Григорьевны он очень доволен.
Поднялся Арсентий Павлович на ноги в середине лета. Посёлок уже утопал в яркой зелени, солнце, ненадолго спрятавшись в белую ночь, остальное время не сходило с неба, а если небо затягивали тучи, шли тёплые дожди, после них поднимались с земли в небо белые, как молоко, туманы. В это лето было много грибов, раньше времени созрела голубика и почернела смородина, в тёплые вечера из затянутых в лёгкую дымку распадков несло прохладой, а терпкий запах хвои и багульника кружил голову.
После болезни Арсентий Павлович перестал читать Библию. Теперь она ему казалась тяжёлой, как написанная на древнеславянском языке книга, а родословная Иисуса Христа, лишившись прежних образных представлений, стала похожа на бессмысленное нагромождение неуклюжих, как булыжники, слов. Не пошла ему и водка. От неё болела голова и мучила изжога. Лишившись Библии и водки, Арсентий Павлович стал похож на отшельника, ожидающего в своей келье предсмертного отпущения грехов. Совсем пропал у него и аппетит. Когда Вера Григорьевна звала его к столу, он спрашивал: «А это надо?» Если же она приносила еду в постель, он долго ковырялся в ней, а отставив её в сторону, говорил:
— Что-то не хочется.
Стал он заговариваться. Случалось с ним это редко и чаще всего вечером, когда в ожидании ночи сидел у окна. Сначала, жалуясь то на здоровье, то на непогоду, он разговаривал сам с собой, но потом мысли его путались, язык заплетался, и всё, что уже потом говорил, было похоже на клёкот нездоровой птицы.
Понимая, что Арсентий Павлович долго не протянет, смерти его Вера Григорьевна не пугалась. Без него жизнь ей представлялась пустой и бессмысленной, как у старой и никому не нужной лошади. Стараясь продлить его дни, она делала всё, что могла, а когда ему совсем неможилось, вызывала врача. Приходил всё тот же, что не чикался со стариками.
— О, дед, а ты ещё живой?! — удивлялся он всякий раз, переступая порог дома.
А когда уходил, говорил Вере Григорьевне:
— И месяца не протянет.
Получилось не по этому врачу. Первой умерла Вера Григорьевна. Шла из магазина, дорогой у неё подкатило под сердце, тупо ударило в голову, что-то похожее на красную змейку мелькнуло перед глазами, и, как оступившись в яму, она упала на дорогу. Умерла она, как сказали врачи, от инфаркта.
На похороны Веры Григорьевны из Хабаровска прилетела сестра Арсентия Павловича. Она и взяла на себя всю заботу о них, а Арсентий Павлович, кажется, не очень понимал, что случилось. Когда Вера Григорьевна лежала в гробу, он, как пойманный в клетку зверёк, сидел в углу и смотрел на всех с выражением испуганного недоумения на лице. Веру Григорьевну он, кажется, не видел, а если его взгляд переходил к ней, смотрел на неё, как на чужую. Когда гроб вынесли из дома и позвали его с собой на кладбище, он не понял, чего от него хотят, а когда вернулись с кладбища, свернувшись калачиком в постели, он крепко спал. После похорон сестра Арсентия Павловича забрала его с собой в Хабаровск.
Большие Погосты
Стояло по-осеннему холодное утро. И хотя первые лучи солнца уже играли на вершине поросшей ягелем сопки, небо было серым, а не очнувшийся ото сна посёлок казался нежилым и со стороны вскинутого на пригорок погоста был похож на неуклюже сложенное из старого тёса задворье. Было видно, что всё в нём осело по самые окна, а когда над ним закурились первые дымки, то казалось, идут они не от натопленных печей, а откуда-то из-под земли, где под слоем прошлогоднего опада тлеет сырая солома. Даже Мангазея, так весело игравшая волной вчера, теперь, уже скованная ледяными заберегами, была молчалива, и лиственницы, коряво застывшие на её берегу, пугали угрюмым одиночеством. Посёлок назывался Большими Погостами, а название это шло, как говорили старожилы, от первых русских землепроходцев. Так ли это — кто знает, — но многое здесь: и древнерусское — Погосты, и река — Мангазея, видимо, взявшая своё название от первых землепроходцев из Сибири, и размываемые ею в половодье на обрывистом берегу останки древних поселений, всё это говорило о том, что Большим Погостам много лет. Об этом же свидетельствовала и расположенная выше по течению Попова горка, названная так за то, что на ней ещё до революции, удавился поп местного прихода.
На этих Больших Погостах Андрей уже трое суток сидел в ожидании катера. Закончился полевой сезон, осталось вывезти геологическое снаряжение и собранные за лето образцы горных пород.
Наверное, если бы не было на свете геологии, Андрей был бы неплохим историком. В школе он знал наизусть «Слово о полку Игореве», а в университете зачитывался Карамзиным, его «Историей государства российского». Поэтому, сразу утром, зная, что сегодня катера не будет, он пошёл к бабке Мануйлихе, о которой говорили, что она, как никто другой в посёлке, знает его прошлое.
Встретила Андрея остроносая, с серым, как сухая кочерыжка, лицом старуха. Её глубоко впавшие глаза, казалось, прятали что-то ехидное, не вязалось с этим подчёркиваемое узким подбородком и опущенными уголками губ кислое выражение лица.
Узнав, зачем он пришёл, она рассердилась:
— Ай, нанял ты меня!
По совету тех, кто его сюда направил, Андрей налил ей водки.
— Ишшо удумал! — ещё сильнее рассердилась она, но водку выпила.
После водки ехидное выражение лица у Мануйлихи сменилось на хитрое, Андрею даже показалось, что, выпив вторую рюмку, она ему подмигнула. Щербатый рот её при этом скривился в гримасу улыбки, а подбородок мелко задёргался. «Может, она того», — растерялся Андрей, но Мануйлиха уже рассказывала:
— Было, андел мой, всё было. Ета нонче: не родимшись — уже захоронимшись. А тады, почитай, и не мёрли, — и прижав сухую ладошку ко рту, захихикала. — Сусид мой, чтоб его лихоманка съела, уж боле ста, а мне: я, грит, Фрося, бяз табе, как бяз рук. Давай, грит, примай.
— И приняла? — рассмеялся Андрей.
— Чаго? — не поняла Мануйлиха. И вдруг словно её подменили. Она встала со своей лавки и, бормоча что-то под нос, ушла в другую комнату. Вернулась она с палкой, а увидев Андрея, стала смотреть на него, как на человека, только что вошедшего в дом.
— Да я про соседа, — напомнил он ей о прерванном разговоре.
— Какого ишшо сусида?! — опять не поняла Мануйлиха.
И, видимо, совсем забыв, что хотела рассказать, набросилась на Андрея:
— Я табе такого сусида задам!
«А она и правда того», — понял Андрей и уже за дверью слышал, как Мануйлиха продолжала ругаться:
— Ходют тут, просют, язви их в душу!
А за воротами, обернувшись, он увидел, как Мануйлиха, стоя на крыльце, стучала по нему палкой и кричала:
— Сама три дни не жрамши!
Обогнув угол дома Мануйлихи, Андрей вышел на центральную площадь, если так можно было назвать место, где громоздилось деревянное, похожее на амбар, здание Дома культуры, слева от него под вывеской «Смешторг» стоял недавно рубленый магазин, а справа, на фундаменте из серого камня, кособоко ютилась с подслеповатыми окнами кузня. Говорили, что раньше, до революции, на её месте стояла церковь, от неё остался только этот каменный фундамент, а служил в ней тот поп, который удавился. Сейчас из распахнутой настежь её двери несло затхлой гарью, было видно, что уже давно в ней никто ничего не делал. На крыше кузни, на высоком шесте, стояла сделанная из ниточного чюрючка и жестяного пропеллера вертушка. Когда с Мангазеи тянуло ветром, она сначала испуганно вздрагивала, а потом начинала метаться, как пойманный в клетку воробей. «Она-то зачем здесь?» — не понял Андрей. И кузня, и амбар Дома культуры давно обветшали, и свежесрубленный «Смешторг» выглядел среди них как куриное яйцо в гнезде из прелой соломы. Говорили, что рубили его чуть ли не каждый год после очередных, словно по заказу устраиваемых кем-то пожаров.
Андрей решил зайти в Дом культуры. Он слышал, что у заведующей его, и по совместительству библиотекарши, имеются материалы по истории Больших Погостов. Подходя к нему, он увидел через окно сидящую в библиотеке за длинным, как пенал, столом простоволосую женщину с утиным носом и глубоко, как в яму посаженными глазами. Когда Андрей вошёл к ней, он её не узнал. На голове её уже сидел похожий на копну рыжий шиньон, на кончике носа висели в позолоченной оправе очки, в руках, прямо перед носом, она держала красочно иллюстрированный журнал. Нетрудно было догадаться: преобразилась она для встречи с Андреем.
— Вы к нам? — не отрываясь от журнала, через нос спросила она.
«Ну, артистка!» — удивился Андрей.
— Если за большой литературой, у нас Толстой, — уже выходя из-за стола, сообщила она.
Увидев, что у неё отвислый зад и короткие ноги, и ещё раз обратив внимание на её по-утиному длинный нос, Андрей понял, за что её в посёлке прозвали Уткой.
— Да мне бы… — начал он, но Утка его перебила:
— Говорят, молокане пошли с Толстого. Как вы на это смотрите? — и так уставилась на Андрея длинным носом, что ему показалось: не дай он ответа, она его клюнет.
— Да нет, — рассмеялась она, — дело не в этом. Толстой и без молокан Толстой, а вот молокане без него — одни глупые обряды. Вы согласны?
— Да мне бы… — опять было начал Андрей, но Утка его снова перебила.
— Как хотите, а без Толстого я вас не отпущу.
— Да не надо мне Толстого, — прервал ее, наконец, Андрей, — мне другое…
— Другого у нас нет! — обрезала его Утка и, обиженно поджав губы, села за стол на прежнее место. А когда узнала, что нужно Андрею, она, снова водрузив на кончик носа очки и уткнувшись им в свой красочно иллюстрированный журнал, заявила: — Этим не располагаем.
«И у этой с головой, наверное, неладно», — подумал Андрей, выходя из Дома культуры.
На улице, у входа в кузню, на деревянном обрубке сидел небольшого роста мужичок, несмотря на тёплый день в ватной шапке и драной фуфайке. У него были плутоватые навыкате глаза, морковного цвета нос и узкий, весь в тонкую морщинку лоб.
— Эй, дай закурить, — увидев Андрея, крикнул он.
Закурив, он встал с обрубка и, глядя с усмешкой на Андрея, спросил:
— А выпить не найдется?
Выпить у Андрея не нашлось. Мужичок, похоже, не расстроился.
— Что, с вавилонами? — мотнув головой в сторону Дома культуры, рассмеялся он. Андрей понял, что он спрашивает об Утке. Из дальнейшего разговора с ним, Андрей узнал, что работает он кузнецом, а так как ковать в посёлке в последнее время стало нечего, то ещё и по совместительству сторожем «Смешторга». А до Больших Погостов, как охотно рассказал он, где только его не носило. В Карелии он по молодости валил лес, разобравшись, что это ему не с руки, устроился проводником на поезд дальнего следования, оказавшись на Дальнем Востоке, связался с корейцами, тайно промышлявшими в тайге женьшенем, в Охотске служил в рыбоохране, на Врангеле для столичных зоопарков отлавливал белых медведей, на Большие Погосты его занесло случайно: отстал от экспедиции, изучавшей древние могильники. Похоже, за всё в своей жизни он брался легко и с большой охотой, ради простого, не связанного с практической пользой интереса, а как только этот интерес проходил, он с такой же лёгкостью и новой охотой брался за другое дело.
— Я вольная птица, — гордо говорил он.
Внезапно с Мангазеи ударило ветром. На крыше Дома культуры что-то захлопало, а вертушка над кузней, словно этого только и ждала: так замоталась и засвиристела, что казалось, ещё немного, и она, сорвавшись с шеста, улетит воробьём в небо.
— А она-то здесь зачем? — спросил Андрей.
— А интересно, — ответил мужичок и, задрав в её сторону голову, весело осклабился.
Вдруг лицо его озарилось внезапно нахлынувшей радостью.
— Идё-от! — подмигнул он Андрею и мотнул головой в сторону идущей к магазину тётки с таким крупным лицом, что вывернутые вперёд губы казались двумя большими пельменями. Когда тётка поравнялась с ними, мужичок кинулся к ней и с наигранной на лице радостью сообщил:
— Анна Ивановна, а ко мне братка приехал.
— Какой ещё братка? — выдавила через нижнюю губу Анна Ивановна.
— А вот! — схватил мужичок Андрея за руку. — Он самый! Ивахой звать!
— Ну, и что? — не поняла Анна Ивановна.
— Как что?! — удивился мужичок. — Встретить надо!
— Ну, так и встречай! — отрезала Анна Ивановна и, после долгого копания в замке, открыла дверь магазина и скрылась в нём.
— И не таких брали! — кинулся за ней мужичок.
Вернулся он из магазина с бутылкой водки.
— Идём, засандалим! — потащил он Андрея в кузню.
Представился мужичок Елеской. На закуску из кармана фуфайки он достал луковицу.
— Сгодится, — сдувая прилипшие к ней крошки хлеба, сказал он, и с хрустом раскусив её пополам, одну половинку положил перед Андреем.
Выпив, неожиданно спросил:
— А бабу хошь?
Андрей от бабы отказался.
— А зря, — не понял его Елеска. — С ними интересно.
Допив водку, вышли из кузни покурить. На небе уже светило солнце, казалось, оно не плывёт по нему, а крадётся рыжей кошкой. Из тайги несло прохладой и терпким запахом хвойного опада. На Мангазее весело звенели перекаты, и если бы всё ещё не очнувшийся от сна посёлок да не копошащиеся в мусоре, рядом с кузней, грязные вороны, могло показаться, что лучше этого места ничего нет на свете.
— И чего спят? — сплюнув в сторону посёлка, недовольно пробурчал Елеска. А когда бросил в копошащихся ворон камень, они даже не обратили на это внимания. — Вот стервы! — выругался он.
Странно, но от водки Елеска не стал весёлый, а, казалось, даже был недоволен тем, что её выпил. Плутоватое выражение лица сменилось на кислое, в глазах навыкате появилось что-то по-коровьи грустное.
— И чего спят? — недовольно повторил он и, присев на свой деревянный обрубок, тупо уставился на вертушку.
— Крутит, стерва! — плюнув в её сторону, сказал он.
А посёлок и на самом деле, как вымер. Даже дыма из печных труб, появившегося утром, не стало видно. Похоже, хозяева топили утром печи не затем, чтобы в уюте и хорошем настроении начать день, а просто потому, что за ночь избы выстыли, и чтобы совсем в них не околеть, сунули они в свои печи по охапке соломы, подожгли её, и снова с головой укрылись под одеялами. Так как не стучали при этом двери, и не было слышно ничьих голосов, видимо, и по малой нужде после долгого сна сходили они в свои помойные вёдра.
— А жрать им дай! — уже ругался Елеска. — И ведь в реке рыбы: лови — не хочу. А они, подлецы, морды — что твоё корыто, выйдут на неё, сядут и ждут: когда сама рыба в рот запрыгнет. Не народ, а ироды!
На крыльцо магазина вышла Анна Ивановна. Торбой приспособившись на его верхней ступеньке, она так уставилась на Елескину вертушку, словно, как и он, увидела в ней что-то интересное.
— Стерва, — охарактеризовал её Елеска.
Это не пролетело мимо ушей Анны Ивановны.
— Сам ты стерва! — вяло оторвавшись от вертушки, незлобно ответила она.
— А ты ещё и дура! — рассмеялся Елеска.
— От дурака и слышу! — опять не разозлилась Анна Ивановна.
Позевав открыто, не прикрывая рта, Анна Ивановна вернулась в магазин, а Елеска стал опять ругать посёлок.
— Говорил им: давайте в артель. Рыбу ловить будем. А они морду корёжат: «Мы яё, паря, ня развадили и ловить, паря, ня сабираемси». «А жрать-то что будете?» — спрашиваю. — «А ето уж не тваё, — говорят, — собачье дело». Вот и поговори с ними!
— Так ты бы уезжал отсюда, — предложил Андрей.
— А мне что! — ответил Елеска. — Я вольная птица. Могу и уехать.
И неожиданно рассмеявшись, отчего лицо его опять обрело плутоватое выражение, предложил:
— А хошь анекдот?
— Давай, — согласился Андрей.
— Спрашивает один генерал другого, — начал Елеска, — «Ты как думаешь, среди гражданских есть умные?» «Не знаю, — отвечает генерал, — что-то не видел, чтобы они строем ходили».
— Хороший анекдот, — заметил Андрей.
А Елеска уже, словно самому себе, повторил:
— А я вольная птица, — и, понизив голос, добавил: — Пусть в дураках, но не строем! Да и не в этом дело, — вдруг как будто рассердился он на кого-то, — я так думаю: каждый из нас по-своему в дураках ходит. Вот возьми хоть и её, — махнул он рукой в сторону сидящей в библиотеке Утки: — Придёт ко мне: «А я к вам, товарищ Елеска, с Толстым, со Львом Николаевичем». Ты бы мне, говорю ей, лучше вместо Льва Николаевича водки принесла. А она: «Толстой и водка не совместимы». Не совместимы так и вали отсюда. Уходит. А потом и с водкой. «Пейте, — говорит, — а я, товарищ Елеска, всё равно из вас человека сделаю». «Ха, сделаю! — расхохотался Елеска. — Она мне Льва Николаевича читает, а я лежу и водку трескаю. Вот и выходит, и с Толстым в голове в дураках ходить можно.
— А Анна Ивановна? — спросил Андрей.
— У этой чувырлы, — ответил Елеска, — дурак — кто не ворует. Тащит с магазина — что ни попадя. А недостача: пожар — и концы в воду.
Узнав, что Андрей ищет в посёлке следы первопроходцев, Елеска плутовато улыбнулся, а потом предложил:
— Идём к Матильде! У этой первобытной миклухи на одной только роже вся история инородцев.
— А она из коренных? — решил уточнить Андрей.
— Кореннее не бывает! — весело ответил Елеска и потащил его за собой на окраину посёлка, расположенную на крутом берегу Мангазеи.
Солнце уже катилось к закату, тяжелела тайга, с реки тянуло сыростью, и кругом было так тихо, что когда за Поповой горкой, в распадке, вдруг затрубил лось, казалось, это кто-то ударил в большой бубен.
Заспанная Матильда встретила их в ночной рубашке и с бигудями на голове.
— Ты, сто ли? — узнала она Елеску, а увидев Андрея, глупо хихикнула и стала прикрывать рукой полуобнажённую из-под рубахи грудь.
«Якутка», — догадался Андрей и присел на стоящую у двери деревянную лавку. Рядом с ним оказалось помойное ведро, из которого несло чем-то кислым, прямо перед ним громоздилась большая, из грубого камня печь, за ней стояли кровать с ржавой спинкой, обшарпанный стол на тонких ножках и на стене висело засиженное мухами и сколотое в правом нижнем углу зеркало. Слева у стены, на деревянном сундуке, спал похожий на кутёнка мальчик. Проснувшись, он слез с сундука, подошёл к помойному ведру и, ни на кого не глядя, пописал в него.
— Коляса, мой сынок, — представила его Андрею Матильда и снова, как при встрече, зачем-то хихикнула.
После этого она бросилась растапливать печь. Было видно, что Елеске она рада и готова разбиться перед ним в лепёшку.
Несмотря на полноту и уже осевший зад, крутилась перед ним, как девочка, а когда Елеска попросил воды, она так кинулась к бачку, — что чуть его не опрокинула. Зажарив что-то на печи и приготовив стол, она хитро подмигнула Елеске и выскочила из дому.
Вернулась Матильда с русской Верой. На Вере было хорошо проглаженное светлое платье, гладко уложенные на голове волосы, а в глазах, казалось, утонули две уже больших, но ещё не совсем созревших смородинки. Было видно, что чувствует она себя здесь стеснённо, а когда сели за стол, то так примостилась на его углу, что казалась за ним лишней. А Матильда за столом всё жалась к Елеске и ласково заглядывала ему в глаза.
— Пей, Елеска, — подливала она ему водки, но и сама при этом себя не забывала.
Вскоре она опьянела. Уже сильно пьяная, она обнимала Елеску и пела:
— Карасо, ой, карасо! Поселуй меня есо!А делая вид, что бьёт его по щеке, грозила:
— Плохо буцес селовать. По мордам буду давать.А Вера, похоже, ничего не ела и не пила. Глаза её были опущены в стол, а когда она отрывала их от стола и смотрела на Андрея, ему казалось, что она хочет перед ним за что-то извиниться.
К вечеру Матильда так опьянела, что Елеска вынужден был уложить её в постель.
— Дай водыка! — просила она из постели.
Елеска водки ей не дал, а когда вернулся к столу, смеясь, заметил Андрею.
— Вот тебе и инородцы!
Вскоре проснулся Коля.
— Ись хочу, — подойдя к Елеске, сказал он.
Елеска посадил его на колени и стал кормить, как ребёнка, из ложки.
— Ешь, Коля, ешь, — говорил он и гладил его по голове.
Когда Коля наелся, Елеска заставил его пописать, а потом уложил в постель. Вернувшись за стол, он махом опрокинул в себя рюмку водки и твёрдо, словно отпечатал, произнёс:
— Ничего, и из него человек выйдет!
С наступлением ночи он стал собираться на дежурство в магазин.
— Дядя Елеска, возьми меня с собой, — попросил не успевший ещё уснуть Коля.
— Давай, — согласился Елеска.
Колю словно выстрелили из постели. Через минуту он уже стоял перед Елеской одетым и, видимо, боясь, что Елеска раздумает, держал его крепко за руку. Глаза его горели такой радостью, что из-под нависшего на лоб козырька, как и у Елески, ватной шапки казались ярко расцвеченными фонариками.
— Ну, быстрее, — торопил он Елеску и, видимо, всё ещё опасаясь, что он раздумает, говорил: — Я мамку боюсь. Она пьяная — дура.
Провожать Веру домой пошёл Андрей. На дворе уже стояла ночь, в предвестии заморозка из тайги тянуло холодом, луна, зависшая над Поповой горкой, была похожа на большой медный шар, тяжёлая тишина давила уши, и ни в одной избе в посёлке не было огня. Казалось, так и не очнувшись днём ото сна, он уходил в новую ночь, как в топкое болото, из которого возврата ему уже никогда не будет.
Дорогой Вера молчала, шла так, словно боялась оступиться, а у дома сказала:
— Если хотите, ночуйте у меня.
Дома у неё было уютно и чисто. В переднем углу на небольшом столике лежала стопка книг, у окна стоял небольшой, с зелёными пуфками диван, кровать Веры напротив дивана была отгорожена ситцевой шторой, на окнах висели в желтый горошек занавески. За чаем Андрей спросил:
— И чем же вы тут живёте?
Вера, ничего не ответив, опять, как у Матильды, посмотрела на него так, словно хотела перед ним извиниться. И только тут Андрей заметил, что перед ним не взрослая девушка, а подросток. Не успевшие расправиться по-женски плечи придавали Вере сутуловатость, движения были, как у мальчишек, угловаты, от неё, как от берёзки, ещё не до конца налившейся соком, веяло свежим дыханием весны и набиравшим силу здоровьем.
— Так чем же вы живёте? — повторил свой вопрос Андрей. — Ведь что-то у вас, наверное, тут есть?
— А у нас одна скука, — ответила Вера и, кажется, за всё время первый раз улыбнулась.
Спать Андрей лёг на диван, а Вера ушла на свою кровать. В окне стояла всё такая же большая и медная луна, и в свете её через ситцевую штору было видно, как Вера, раздевшись, села на кровать и стала о чём-то думать. Потом, порывисто поднявшись, она вышла к Андрею. На ней, кроме короткой ночнушки, ничего не было. Кровь, словно её выстрелили из ружья, ударила Андрею в голову. «Только не это, — испугался он, — ведь она ещё ребёнок!
— Вера, зачем это? — выдавил он из себя и встал с дивана.
Услышав, что сказал Андрей, Вера вздрогнула, как от удара, бросила на него по-детски беспомощный взгляд и, заплакав, убежала за штору.
А утром Андрея разбудил пожар. Горела изба Матильды. Вокруг неё уже бегали люди, какой-то мужик багром стаскивал с крыши полуобгоревшие доски, кто-то лопатой забрасывал в горящие окна землю, но было видно, что пожар уже ничем не остановишь. Выкидывая в раскалённое небо пламя, он с треском пожирал всё, что попадалось ему на пути. Недалеко от пожара, на пригорке, стоял Елеска с Колей на руках.
— Матильда сгорела, — сообщил он Андрею.
Ни по выражению его лица, ни по тону, каким он это сказал, не было видно, что смерть Матильды его сильно тронула.
— Все там будем, — словно в подтверждение этого, добавил он, а обращаясь к Коле, спросил:
— Ну, что, Коляша, жить-то со мной будешь?
Андрею показалось, что спросил он это с такой лёгкостью, словно речь шла о временной и ничем не обременительной для него обязанности.
От чего случился пожар, толком никто не знал. Так как Матильда курила, вполне возможно, закурив в постели, она уснула, не затушив окурка.
А в полдень за Андреем пришёл катер. Провожал его один Елеска. Он уже был выпивши, рядом с ним стоял Коля, лицо Коли было всё в саже. Вымазался он в ней, видимо, ещё на пожаре. Вид у него был жалкий и похож он был на черномазую зверушку, пойманную в клетку.
— Ничего-о, — гладя его по голове, пьяно тянул Елеска, — я из него человека сделаю.
Когда катер отходил от причала, на обрывистом берегу реки Андрей увидел Веру. Она стояла одна, дувший с реки ветер рвал на её голове косынку. Потом, когда катер уже уходил за поворот, он видел, как к ней подошли Елеска с Колей, и они, постояв ещё немного, вместе пошли в посёлок.
Повесть о Никите
I
После отбоя, когда все уснули, а дежурная по детдому Кривоножка закрылась в учительской, Никита прокрался в свой класс и сел писать в тюрьму матери письмо. Чтобы Кривоножка его не застукала, дверь он запер на швабру, а свет в классе не стал зажигать. И без него было светло: на Колыме стояли белые ночи.
«Здравствуй, мамка, — начал своё письмо Никита. — Живу я здесь хорошо. Кормят каждый день, а в воскресенье водят в кино и в баню. А учусь я уже во втором классе. По письму у меня хорошо, а по арифметике не очень».
Никите показалось, что кто-то ходит за дверью. «Не Кривоножка ли?» — подумал он и, прокравшись к двери, прислушался. Вообще-то он больше боялся не её, а ненавистного всем в детдоме Казимира. Убедившись, что за дверью никого нет, Никита стал писать дальше. «А воспитатель наш Казимир грозит всех отправить в колонию. Конечно, всех не отправит, а вот Зубаря отправит. Поэтому ты рукавички пока не высылай, Зубарь всё равно их отберёт. А если ты их уже выслала, то ладно. Найду, где спрятать. Вот шапка у меня, мамка, плохая, когда идем из бани, мёрзнет голова. Если у вас там есть шапки, то вышли. Тогда я рукавички отдам Зубарю, а за это он мне оставит шапку. Ещё говорят, что у вас там есть бушлаты. Если вышлешь, не откажусь. Мой шубур совсем поизносился».
Спохватившись, что слишком много просит и ни к чему расхлюндился, Никита решил написать что-нибудь весёлое. «А вчера этот Казимир, — написал он, — перед школьной линейкой заставил Скувылдину из первого класса плюнуть Лёшке в карман за то, что Лёшка плюнул в её карман, когда она в столовой хвасталась своим новым платьем. Скувылдина, когда плевала в Лёшкин карман, плакала, а все смеялись».
Представив, как и мамка над этим будет смеяться в своей тюрьме, Никита написал: «Посмеёшься, так и легче будет». На всякий случай, — вдруг и это мамке покажется смешным, — он добавил: «Ночью в своей палате мы ловим тараканов. Кто меньше всех наловит, тому Зубарь ставит пять щелбанов».
Подумав, о чем бы ещё написать, Никита вспомнил, что недавно к нему в детдом приходил странный дядька. «Ах, совсем забыл! — написал он. — Приходил ко мне какой-то дядька и сказал, что он мой папка. Но это не тот папка, который жил у нас, когда тебя забрали в тюрьму. Этот был с бородой. Ты уж напиши мне, кто у меня настоящий папка. И вот ещё что, — вспомнил Никита, — наша Кривоножка сказала мне, что ты лишена материнства. Что это такое, я не понимаю. Напиши мне, мамка, и об этом. А Кривоножка, — решил добавить Никита, — сама шлюха. Я видел, как она целовалась с Казимиром в учительской».
У Никиты устала рука, и он решил передохнуть. Подойдя к окну, он увидел за ним свою учительницу, Марию Ивановну. Она шла в сторону своего дома с двумя тяжёлыми сумками. Шла она, переваливаясь с боку на бок, как утка, а оттого, что сумки оттягивали ей руки, она была похожа ещё и на деревенскую бабу, несущую с реки в вёдрах воду. Вернувшись к столу, Никита решил написать и о ней.
«А учительница наша, Мария Ивановна, очень добрая. Всех жалеет. Один раз она брала меня к себе домой. Наелся я у неё от пуза, и она мне говорила, что у вас есть зачеты. Ты уж, мамка, их заработай. Вдвоём, когда тебя выпустят, нам будет легче».
На этом Никита решил закончить письмо, но услышав, как на улице городские ребята с весёлым смехом пробежали в сторону речки, добавил: «На улицу нас пускают редко. Когда делать нечего, я сижу у окна и всё думаю о тебе».
Не успел Никита выдрать из тетрадки листы со своим письмом, как в дверь сильно постучали. Растерявшись, он не знал что делать. В классе спрятаться было негде, а дверь всё равно откроют. По голосу за дверью он узнал, что стучит Кривоножка.
— Открой! — кричала она и всё сильнее дёргала дверь. Ворвалась Кривоножка в класс, когда швабра сама выпала из дверной ручки.
— Дай сюда! — вырвала она из рук Никиты тетрадку и тут же стала читать его письмо. Читала она вслух, растягивая слова и, делая ударения на том, что запрещалось писать детдомовцам. Хватило её только до того места, где Никита написал, что она шлюха.
— Сучонок! — взвизгнула она и так ударила Никиту по лицу тетрадкой, что у него потемнело в глазах. После этого она порвала тетрадку на мелкие кусочки и заставила Никиту выбросить их в урну.
II
Никита был готов убить Кривоножку. «Шлюха! Шлюха! Шлюха!» — зло шептал он, уткнувшись лицом в подушку и заливаясь слезами, а когда представил, как и мамка, не получив его письма, тоже будет плакать, чуть не разревелся на всю палату. А ночью ему приснился страшный сон. За ним, тяжело топая сапогами, бежал по коридору Казимир, в руках у него была плётка, размахивая которой, он кричал: «У-у, гадёныш!» Выгнав Никиту из коридора в зал, где детдомовцы уже были выстроены в линейку, он стал кричать: «Бейте его! Бейте!» От этого сна Никита проснулся и снова стал плакать. Он знал, что завтра Казимир его накажет.
Наказал Никиту Казимир не так, как это ему приснилось. Окинув линейку злым взглядом, он вывел из строя Никиту и приказал Кривоножке:
— А ну-ка, Анжелика Сидоровна, спросите у этого гадёныша, что он писал ночью.
— Ах, Казимир Иванович, да что тут спрашивать! — обиженно вздёрнула плечиками Кривоножка. — Пусть сам и расскажет.
Так как Никита не знал, что говорить, она стала задавать ему наводящие вопросы.
— А расскажи-ка нам, как это Зубарев, или по-твоему, Зубарь рукавички у ребят крадёт? — спрашивала она. — И как это ты его уже в колонию отправил?
Захлёбываясь слезами, Никита стал плакать.
— Перестань плакать, твои слёзы ничего не стоят, — повысила она голос. — А про Скувылдину что писал? — шла она дальше. — А про Лёшку своего? Не помнишь? Ну, а что про Казимира Ивановича нашего ты писал, я и спрашивать не хочу.
— Кто?! Я краду?! — закричал Зубарь из строя. — Я краду?! Да я тебя, падлу…
— Да он ещё и не то писал! — окрылённая его поддержкой, воскликнула Кривоножка.
По её выходило, что в письме Никита охаял весь коллектив детдома, но о том, что она шлюха и целуется с Казимиром в учительской. Кривоножка умолчала.
— Казимир Иванович, в карцер его! — орал Зубарь, а Кривоножка, сделав вид, что плачет, отвернулась к окну.
— Карцеров у нас нет и не будет! — перебил его Казимир и приказал запереть Никиту на двое суток в холодный чулан.
— Ах, Казимир Иванович, — глубоко вздохнула пришедшая в себя Кривоножка, — вы так правы, так правы! Конечно же, в холодную его. Пусть там и пишет свои письма.
Никите стало страшно. Совсем недавно в чулане, куда его решили посадить, всю ночь пролежала мёртвая тётка. Когда утром Казимир с двумя мужиками выносил эту тётку из чулана, он видел её в синих подтёках лицо и колотушками раскинутые на носилках жёлтые ноги. Представив себя в этом чулане, Никита от охватившего его ужаса перестал плакать и, как показалось, провалился в холодную яму, из которой уже никогда не выбраться.
И Никита решил бежать из детдома. И сделать это надо, думал он, пока его ещё не посадили в чулан. Помогла ему убежать Скувылдина. В туалет, где он спрятался, чтобы во время завтрака выскочить в окно, она принесла ему его шубур и шапку.
— Я Кривоножке не верю. Она стерва, — сказала на прощанье Скувылдина, а когда Никита стал натягивать на себя шубур, она подала ему бумажный свёрток. В нём лежали кусочек хлеба и котлетка. Никита хотел поблагодарить Скувылдину, но вместо этого заплакал. Видимо, такое случается со всеми, кто, оказавшись один на один со своим горем, вдруг ощущает на себе чьё-то тёплое участие.
— Ты, Никита, не плачь, — увидев его слёзы, сказала Скувылдина. — Там, — махнула она рукой за детдом, — тебе лучше будет.
Выскочив в окно и перемахнув через оградку, Никита бросился бежать по улице. Ему казалось, что за ним гонятся и вот-вот схватят. В одном из проулков, спрятавшись за чей-то сарай, он просидел до вечера, а когда улицы опустели и в городе стало тихо, Никита пошёл искать дом, в котором они жили с мамкой. Он помнил, что район, в котором они жили, назывался Нахаловкой, а за их домом была глубокая канава, в которой, когда мамки долго не было и сильно хотелось есть, он собирал пустые бутылки и, сдав их в киоске по двенадцать копеек за штуку, покупал себе хлеба. Теперь он решил в этом доме жить один, пока мамку не выпустят из тюрьмы. Конечно, он понимал, что без неё ему будет трудно. «Ничего, — успокаивал он себя, — проживу и на бутылках». В канаве, у которой мужики каждый день пили водку, их было всегда много. Успокоив себя таким образом, Никита повеселел и даже решил, что когда мамка выйдет из тюрьмы, они заберут к себе Скувылдину. «Не помешает», — подумал он и смело направился в ту сторону, где, как казалось ему, находится Нахаловка. Ориентировался Никита по высокой трубе, что, как он помнил, стояла у кочегарки, недалеко от их дома. Однако, добравшись до этой трубы, Никита понял, что попал не туда: и труба, и сама кочегарка были совсем не похожими на те, что стояли рядом с его домом. А когда он, оглядывая город, стал искать свою трубу, его бросило в жар: весь город был утыкан трубами, и все они, как близнецы, были похожи друг на друга. Никита растерялся. Холодное в закате солнце уже пряталось за сопку, улицы пустели, выскочившая откуда-то злая собака стала его облаивать. Убегая от неё, Никита юркнул в подъезд первого попавшегося на глаза дома. Там на лестничной площадке последнего этажа он забился в тёмный угол. Что делать? Постучаться в чью-то дверь и попросить, чтобы оставили на ночь, он опасался: вдруг сдадут в милицию! Никита хорошо знал: всех беглецов в детдом приводили милиционеры. Спуститься вниз и выйти на улицу? Он боялся там и собаки, и наступающей ночи.
Ничего не оставалось, как ночевать на лестничной площадке. Смирившись с этим, Никита успокоился. Перед сном он съел скувылдинские кусочек хлеба и котлетку.
Проснулся Никита оттого, что кто-то его толкал в бок. Высунув голову из шубура, он увидел над собой маленькую старушку. Она ему ласково улыбалась и спрашивала:
— Ты чегой-то тут спишь, соколик? Ай дома своего нету?
Никита хотел было шмыгнуть у неё из-под ног, но раздумал. У старушки было доброе лицо, остренький, как сосулька, носик, а когда она улыбалась, казалось, из глаз у неё выскакивают смешные искорки. «Эта в милицию не сдаст», — решил Никита, и когда старушка пригласила его к себе, он согласился. У неё он напился чаю с вареньем, узнал, как пройти в район своей Нахаловки, а когда она спросила, кто он и откуда, Никита сначала растерялся и не знал, что ответить, а потом, не очень отдавая отчёт, зачем, придумал историю, как, возвращаясь поздно вечером от родной тётки, заблудился в городе.
— Ой, пострел, омманываешь! — не верила старушка.
Чтобы показать ей, что он говорит правду, и убедить её в том, что он не из каких-нибудь там бродяжек, Никита сказал, что отец его чуть ли не самый главный начальник в городе.
— И-и-и, вот и помала тебя! — весело рассмеялась старушка. — В Нахаловке-то начальство отродясь не жило.
Напившись чаю, Никита собрался уходить.
— Иди, соколик, и в Нахаловке живут люди, — сказала ему на прощанье старушка.
III
Никита думал, что в его доме никто не живёт. Когда его забирали в детдом, дверь он замкнул на амбарный замок. Увидев же, что замка нет и дверь приоткрыта, он растерялся. Зайти в дом: а вдруг там уже сидит милиционер и ждёт его, не зайти: а что дальше? И Никита, стараясь не шуметь, на цыпочках прокрался к окну. Через него он увидел, как у стола в длинных, чуть ли не до колен, трусах стоит дядька и мешает ложкой что-то в сковородке. Ноги у него были кривые, как у обезьяны, а на голове большая лысина. Кончив мешать, дядька облизал ложку, сел за стол и достал из-под него бутылку водки. «Милиционеры водку не пьют», — успокоился Никита и решил зайти в дом.
— А ты кто? — встретил его дядька.
Никита назвал своё имя.
— Ну, и что? — не понял тот.
Так как милиционерского в дядьке ничего не было, а в глазах, хоть он и спрашивал строго, играли весёлые огоньки, Никита осмелел.
— А это мой дом! — ответил он.
— Ха-а, — расхохотался дядька, — может и водка, что стоит на столе, твоя? А может и галифе, — махнул он рукой на вешалку, — твои?
Никиту словно окатили кипятком: на вешалке поверх галифе висел китель с золотыми, как у милиционеров, погонами. «Попался!» — мелькнуло у него в голове, и он стал отступать к двери, чтобы за неё шмыгнуть.
— Да погоди! — остановил его дядька. — Не мильтон я. Охранник.
«В тюрьме работает», — понял Никита и успокоился.
— А зовут меня дядя Стёпа. И давай-ка, гусь лапчатый, к столу, — уже одеваясь, предложил дядька Никите.
В сковороде ещё шкворчала тушёнка, на которую Никита сразу и набросился. Дяди Стёпы он уже не боялся, а тушёнка была такой вкусной, что он и не заметил, как её съел.
— Молодец! — похвалил его дядя Стёпа. — А теперь слушай. Я знаю всё: ты убежал из детдома. И мать твою знаю. Она сидит в тюрьме, где я работаю. Так вот, Никитка, закладывать я тебя не стану, а если не убежишь от меня, устрою тебе с матерью свиданку.
— Правда? — не поверил Никита, а когда по серьёзному выражению лица дяди Стёпы понял, что он не врёт, его словно подбросило к небу, а в голове застучало: «Мамку увижу! Мамку увижу! Мамку увижу!»
Когда дядя Стёпа, уже одетый в военное, уходил на свою, как он сказал, долбаную службу, у порога он хлопнул каблуками, приставил руку к козырьку фуражки и, делая вид, что перед ним высокое начальство, спросил у Никиты:
— Разрешите идти?
Никита весело рассмеялся, а выскочив из-за стола, тоже вытянулся по-военному и сказал:
— Разрешаю!
Когда дядя Стёпа ушёл, Никита подумал: «Вырасту, военным стану».
Вечером дядя Стёпа пришёл с женщиной. Звали её тётей Зиной. На ней была высокая, с рыжими подпалинами, причёска, короткая юбка и длинные, как у цапли, ноги. Выпив, дядя Стёпа играл ей на гитаре и пел матерщинные частушки.
По этим частушкам выходило, что дядя Стёпа однажды ночью ходил к голым девкам в баню, но у него там ничего не вышло.
— Тра-ла-ла, тру-лу-лу!
Надавали по мурлу! — признавался он.
Представив, как девки, выскочив из бани голыми, бьют дядю Стёпу по мурлу, Никита рассмеялся, а тётя Зина, выслушав частушки до конца, сказала:
— Дурак ты, Стёпа!
В ответ дядя Стёпа хлопнул её ладошкой по заднице и весело расхохотался.
Всё это Никита видел, сидя за печкой, на которой пёк себе из хлеба поджарки. Печка, разбрасывая по стенам и потолку светлые блики, весело трещала дровами, поджарки вкусно пахли, когда их Никита ел, они хрустели на зубах, как леденцы из топлёного сахара. Такие леденцы Никита научился делать, когда ещё жил с мамкой. Он и сейчас бы их мог сделать, но неудобно просить у дяди Стёпы сахара. Ещё Никита помнил, что у печки всегда вокруг него крутилась кошка Василиса. Когда она тёрлась о его ноги, у неё палкой поднимался хвост, а если Никита брал её на колени, она, мягко уткнувшись ему в живот, тихо мурлыкала. Вспомнив о кошке, Никита спросил у дяди Стёпы:
— А где Василиса?
— Василиса? — не понял его дядя Стёпа, а когда узнал, что Никита спрашивает о кошке, ответил: — Сбежала твоя Василиса. Весна пришла, она и сбежала.
Никите дядя Стёпа показался уже чем-то расстроенным. Он не играл на гитаре и, глядя в окно, о чём-то думал. Уже засыпая, Никита слышал, как тётя Зина спросила:
— И всё-таки, Стёпа, что ты думаешь с ним делать?
— А я знаю? — рассердился дядя Стёпа. А вздохнув, добавил: — Что ни делай, а обратно его надо.
«Уж не обо мне ли? — испугался Никита.
Утром, после того, как тётя Зина покормила Никиту, дядя Стёпа повёл его в тюрьму на свиданку с матерью. Над ними уже играло тёплое солнце, небо было голубым и чистым, улица, на которую они вышли из Нахаловки, была широкой и светлой, встречные, казалось Никите, им с дядей Стёпой ласково улыбаются. В ожидании предстоящей встречи с мамкой у него от радости прыгало сердце, и казалось, что дядя Стёпа по улице с ним идёт слишком медленно. Потом они долго ехали в автобусе, а когда из него вышли, Никита увидел перед собой высокий из толстых досок забор, по верху которого была натянута колючая проволока. «Тюрьма», — догадался он. У ворот тюрьмы их встретил часовой в тяжёлых сапогах и сером бушлате. На голове его была ватная шапка, а за плечами винтовка. От него пахло табаком и казармой.
— Здравия желаю, — улыбаясь через прокуренные усы, поздоровался он с дядей Стёпой, а Никите, погладив его по голове, ласково сказал: — Гарный хлопчик, гарный. Вот мамка зрадуется.
У ворот, отойдя от Никиты, дядя Стёпа и часовой о чём-то долго говорили, а когда стали расходиться, дядя Стёпа сказал:
— Если что, пусть подождут.
— Усё, Степан, як договорылись, — ответил ему часовой и снова ласково погладил Никиту по голове. «Добрый дядька», — подумал о нём Никита.
В тюрьме дядя Стёпа завёл Никиту в комнату, где ничего, кроме кровати, покрытой серым одеялом, и обшарпанной тумбочки, не было. Через узкое в грязных потёках окно были видны тюремные бараки, а дальше, по углам окружающего их забора, голубятниками торчали сторожевые вышки. «Отсюда не убежишь», — подумал Никита.
Вскоре дядя Стёпа привёл мамку.
— Два часа, Маслова. Время пошло, — строго сказал он и вышел из комнаты.
— А-а, сынка, — встретила мамка Никиту, — ну, здравствуй.
Никита бросился ей в подол юбки и стал плакать. Всё, что накопилось в нём за последние дни, выплеснулось в горькие слёзы. Ему было жалко себя, жалко мамку, и чем больше он плакал, тем труднее ему было остановиться.
— Ну, хватит, — оторвала его от юбки мамка и села на кровать.
Успокоившись, Никита увидел, что мамка сильно постарела. Она как будто бы стала меньше ростом, под глазами появились мешки, из-под косынки на морщинистый лоб, как попало, выбивался седой волос, на груди выпирали худые ключицы. От неё, как и от часового, пахло чем-то кислым.
— А тебя, мамка, когда выпустят? — совсем успокоившись, спросил Никита.
— Скоро, сынка, скоро, — ответила она, — обо мне не беспокойся. И здесь, кто умеет, живёт.
— А ты рукавички мне выслала? — спросил Никита.
— Рукавички? Какие рукавички? — не поняла мамка. — А-а, рукавички! — вспомнила она. — А как же, выслала! Не получил?
— Нет, — ответил Никита.
— Значит, в дороге затерялись, — объяснила мамка и, подойдя к окну, стала в него смотреть.
За ним Никита увидел в гимнастёрке и сильно потёртых брюках похожего на старичка военного с ведром в руках. Когда этот военный зашёл к ним в комнату и стал подбрасывать в печь уголь, мамка, расплывшись, как показалось Никите, в нехорошей перед ним улыбке, спросила:
— Гражданин начальник, закурить не найдётся?
— Хоть бы при дите-то не курила, — буркнул в ответ военный, но папироску мамке дал.
— Спасибо, гражданин начальник. И за мной не станет, — хрипло смеясь, что-то пообещала ему мамка и стала жадно, взасос курить папироску.
— Да иди ты! — зло сплюнул военный в её сторону и вышел из комнаты.
«Зачем она стала курить?» — расстроился Никита, а когда увидел, как, не докурив, она плевком затушила папироску и окурок спрятала в карман, решил: «Выйдет из тюрьмы, отучу её курить».
— Ну, как ты живёшь? — наконец, спросила мамка.
Так как Никита всё своё горе уже выплакал ей в подол, о чём рассказывать, он уже не знал. Немного подумав, он рассказал, как Кривоножка порвала его письмо и заставила выбросить клочки в урну.
— Выйду, этой суке ноги из задницы выдерну, — пообещала мамка.
А узнав, что Никита убежал из детдома, сказала:
— И правильно сделал. Детдом для дураков. — И, словно спохватившись, быстро заговорила: — Адресок у меня, сынка, есть. Здесь, в городе. Сашок его звать. Примет! Скажи, мамка велела. Он тебя не обидит и делу научит.
Никита хотел ещё рассказать мамке об учительнице Марье Ивановне, но раздумал. «Ей, наверное, это будет неинтересно», — решил он. А о чём ещё говорить с ней, он опять не знал. Выговорившись про Сашка, замолчала и мамка. Она всё смотрела в окно и, кажется, кого-то ждала. И действительно, скоро за окном появилась девка в такой же тюремной одежде, что и мамка. Войдя в комнату, она в тряпочке что-то передала мамке, а когда мамка, вынув из кармана окурок, отдала ей, она его жадно докурила. После того, как девка ушла, мамка, подавая тряпочку Никите, сказала:
— Спрячь. Здесь деньги. Купишь нам вина, тебя и завтра сюда пустят. Да вино-то на воротах спрячь под шубур.
«И здесь пьют», — расстроился Никита.
— И вот ещё что, — вспомнила мамка. — Дам тебе ещё один адресок. Папки твоего. Сходишь, если там, скажешь: выйдет мамка, голову открутит. — И зло добавила: — Стервь поганая!
Спросить у мамки, кто его настоящий папка, этот или тот, с бородой, что приходил к нему в детдом, Никита не решился. Да и не хотелось ему уже этого делать. Ведь ему казалось, что встреча с мамкой будет другой. Она, как и он, будет плакать и ласково гладить его по голове. Никита всё ей о себе расскажет, а она после этого опять будет плакать и снова его жалеть. Оттого, что всё произошло иначе, Никите было грустно, а мамка, что сидела сейчас на кровати, показалась ему чужим человеком.
— Ну, что, сынка, иди. Чего сидеть-то, — услышал он её голос.
У своего барака она помахала ему рукой и быстро в нём скрылась. К воротам тюрьмы Никита шёл и тихо плакал. Ему было обидно, что всё так плохо получилось, а когда подумал, что ж ему теперь делать дальше, он совсем упал духом.
У ворот его встретили дядя Стёпа и тот же, в сером бушлате, часовой. Похоже, они уже выпили. От них пахло вином, а у часового лицо было, как морковка, красным.
— Ну, вот и хорошо, — сказал ему дядя Стёпа и, крепко взяв за руку, повёл к воротам.
И тут Никиту словно ударили по голове: за воротами стояла синяя с красной полосой машина с двумя милиционерами. «Бежать!» — мелькнуло в его голове. Вырвавшись из рук дяди Стёпы, он с криком: «Мамка! Мамка!» бросился обратно к её бараку. А когда, уже у барака, Никита снова стал её звать, но из него никто не вышел, он упал на землю и так застонал, что часовой, прибежавший за ним, не знал, что делать. Постояв немного перед Никитой, он опустился перед ним на колени и стал гладить по голове. «Успокойся, дитко! Успокойся», — говорил он ему, а когда Никита поднялся, он увидел на лице часового слёзы.
— Дяденька, возьмите меня к себе! — бросился он к нему, — я вам всё буду делать.
Часовой опять стал гладить его по голове, а потом, закинув винтовку за спину, взял его на руки и отнёс к милицейской машине. Когда Никита понял, что его сейчас увезут в детдом, ему стало всё безразлично. Как и перед школьной линейкой, когда за письмо Казимир приказал посадить его в чулан, ему показалось, что он снова попал в холодную яму, из которой никогда не выберется. К машине, которую уже заводили милиционеры, подошёл дядя Стёпа.
— Ты прости меня, Никитка. Тебе там лучше будет, — сказал он.
Никите он показался уже совсем другим, словно появившимся из чужой и далёкой от него жизни.
В детдоме Никиту долго допрашивал Казимир. Похоже, он боялся, не вынес ли чего лишнего Никита из его, как он говорил, закрытого заведения. Закончив допрос, Казимир отвёл его в чулан и запер на ключ. Через двое суток его из чулана выпустили. Всё в детдоме было, как и раньше: по-лошадиному топая, носился перед утренней линейкой Казимир, Кривоножка подгладывала, не пишет ли кто по ночам в классах письма, Зубарь ставил по пять щелбанов тем, кто мало наловил тараканов, Скувылдина, когда её заставляли плевать в чужие карманы, плакала, только Никита стал другим. Он замкнулся, огрубел, лицо обрело тупое выражение.
IV
Никита потерял всякий интерес к тому, что его окружало. Поведут ли сегодня в кино, посадят ли опять в чулан — не всё ли равно! Кругом всё одинаково плохо, и люди, уже казалось ему, все обманщики. Кривоножка, эта гадина, всем наврала про письмо, дядя Стёпа обещал, что не сдаст милиционерам, сдал, да и мамка тоже врёт: никаких рукавичек она ему не высылала. Где бы это они затерялись? А главное, хотелось Никите, чтоб к нему никто не приставал, не лез с разговорами. Даже со Скувылдиной не хотелось говорить. А она сразу, как только его выпустили из чулана, пристала:
— Ты мамку видел, да?
Никита ничего ей на это не ответил.
— Ты меня слышишь? — не отставала она.
Никита молчал.
— У тебя ухи есть? — уже сердилась Скувылдина, и когда Никита и на это ей ничего не ответил, она надула губы и сделала вывод:
— Игоист ты, Никита!
Что такое «игоист», Никита не знал, но догадывался, что слово это ругательное. Так обзывала Скувылдину тётка, которая иногда к ней приходила. А за что — Никита не очень понимал. Тётка эта Никите не нравилась. Сразу было видно: она злая. Губы у неё были тонкие, а нос, как шило, острый. «Ну, знаешь ли! — клевала она Скувылдину этим носом. — Не большая барышня!» Похоже, Скувылдина у неё что-то просила, а тётке это не нравилось. А что могла просить Скувылдина? Конечно, поесть что-нибудь. Перед тем, как уйти, тётка всякий раз спрашивала у Кривоножки, как кормят детей. Услышав ответ, удивлялась: «Да что вы говорите?! И нормальные дети этого не видят! А по воспитательной части как?» — шла она дальше. Узнав, что и с этим всё хорошо, просила: «Вы уж, пожалуйста, с моей-то построже. Ведь у неё родители-то, сами знаете, злоупотребляли». После ухода тётки Скувылдина всегда куда-то пряталась, а если этого не делала, то было видно, что настроение у неё плохое. Раньше Никите её было жалко, а теперь, после всего пережитого, жалости к ней уже не было. «Да и она, наверное, всё врёт, — думал он. — Никакого отца у неё нет. Все знают: он от водки сгорел, а платье она получила по почте не от него, а от какой-то бабушки».
Зима пришла внезапно. С утра пошёл снег, днём он облепил дома и деревья, а к вечеру разыгралась вьюга. Всю ночь она била в окна и стучала по крыше. В палате стало холодно, из неутеплённых окон понесло сквозняками, тараканы, срываясь с холодных стен и потолка, разбегались по своим щелям. Никита, с головой укрывшись одеялом, не спал. Он ни о чём не думал, а если что-то и приходило в голову, то быстро забывалось. На месте дяди Стёпы с гитарой появлялся часовой с винтовкой и прокуренными усами. Он гладил Никиту по голове и говорил: «Вот мамка зрадуется!» Потом перед глазами мелькала плачущая Скувылдина, за ней появлялся нахальный Зубарь, он скалил зубы и кричал: «В карцер его!» А мамка, если и приходила Никите в голову, то была совсем не похожей на ту, что он видел на свиданке. Никите теперь она казалась расстроенной тем, что не так его встретила, не поплакала вместе с ним и ничего о себе не рассказала. За всё, что случилось с ней, Никита винил теперь одну Кривоножку. Не отбери она у него письма, мамка, прочитав его, поняла бы его и сейчас не курила и не пила, а зарабатывала бы зачёты.
Утром, заходя в детдом с улицы, все из обслуживающего персонала потирали замёрзшие лица и, оставив в прихожей валенки, в тапках шли на свои рабочие места, а в обед, когда в прихожей никого не было, в кривоножкины валенки Никита насыпал колотого стекла. Вечером, когда Кривоножку с распоротой ногой увезла скорая, весь детдом подняли на ноги. Даже сторожа, дядю Егора, мобилизовали на поиски остатков колотого стекла в карманах детдомовцев. Правда, он был так пьян, что долго не мог понять, чего от него хотят.
— Фамильё-то как? — спрашивал он у Казимира, уже выворачивающего карманы у выстроенных в линейку детдомовцев.
— Какое фамильё? — не понимал его Казимир.
— Так энтого, — мотал дядя Егор головой в сторону линейки, — преступника.
— Да иди ты!.. — посылал его Казимир подальше.
Если бы не этот дядя Егор, Никита наверняка бы попался. Пьяный, он не заметил в его кармане оставшихся крошек стекла. Казимир, конечно бы, сразу их нашёл.
Вечером, когда всех распустили, дядя Егор пришёл к ним в палату. Делал он это всякий раз, когда напивался, и ходил к ним, как говорил, чтобы покалякать. Рассказывал он всегда одно и то же, про какой-то Туркестан, в котором он рубил бандитам головы. По его выходило, что шашка в полку у него была самая длинная, а конь такой, что только ему и давался. В полку он был на самом высоком счету, а с командиром, как говорил, у него была одна чашка-ложка. Нынешней своей жизнью дядя Егор был недоволен.
— Нешто это жизнь, — ругался он, — супротив той — одна канителя.
— А где твой Туркестан? — смеясь, спрашивали его детдомовцы.
— А где турки живут, — не задумываясь, отвечал дядя Егор.
— Турция, что ли? — не понимали детдомовцы.
— Турция — не Турция, а называется Туркестаном, — выкручивался дядя Егор и, видимо, чтобы не показать своего незнания географии, поднимался со своей табуретки и говорил:
— Ну, хватит бобы разводить. Пора спать.
В этот раз такого разговора с дядей Егором не получилось. Дело в том, что Казимир, осматривая карманы Зубаря, нашёл в них остатки ворованного им с кухни изюма. И хотя этого изюма детдомовцы никогда на своих столах не видели, Зубаря Казимир уже по правде решил отправить в колонию. Теперь Зубарь сидел на своей кровати расстроенный и ни с кем не разговаривал.
— Турок ты! — напал на него дядя Егор. — Воровать не умеешь.
По его выходило, что воровать можно, но попадаться нельзя, а попался, считай — ты дурак, и ходи в этих дураках до самых новых веников. Видимо, у него это шло оттого, что всех детдомовцев он считал людьми пропащими, и ждёт их всех тюрьма и каменные, как он говорил, кальеры.
— Да иди ты! — как и Казимир, послал Зубарь дядю Егора подальше.
— А ты не хохлись! — успокоил его дядя Егор. — И в колонии люди.
Когда он ушёл, Зубарь поднялся со своей кровати, подошёл к Никите и больно ударил его по лицу.
— Из-за тебя, падла, попал! Ты Кривоножке стекло подсыпал! — крикнул он.
Никиту словно окатило кипятком, у него потемнело в глазах. Не помня себя, он бросился на Зубаря и свалил его на пол. Задыхаясь от злости, он стал его душить, а потом бить по лицу. Зубарь пытался вырваться, но у него это не получалось. Было видно, что действует он одной правой рукой, а левая рука его плохо слушалась. «Отпусти!» — наконец попросил он Никиту, а когда поднялся с пола, отошёл к стене и, отвернувшись от всех, заплакал. Никите, как и всем в палате, стало ясно, что Зубарь не тот, каким себя представлял, верховодство своё над детдомовцами брал только горлом и угрозами. На самом деле, умело скрывая свою сухорукость, одной рукой он только и мог, что бить им щелбаны.
На следующий день Зубаря увезла милиция, а вскоре всем стало известно, что сухоруким он стал ещё в раннем детстве. Говорили, что пьяный отец, промахнувшись в мать, попал ему палкой в руку. А в детдоме всё стихло. Что-то будет дальше?
V
До весны в детдоме ничего особенного не произошло, только для предстоящего отъезда в пионерлагерь приняли баяниста, да когда распустились за окнами тополя, умерла Скувылдина. Отчего она умерла, толком никто не знал. Вечером была здорова, а утром нашли мёртвой и почему-то в чулане. Прошёл слух, что она отравилась снотворными таблетками, но в это мало кто поверил: где Скувылдина могла взять снотворные таблетки?
На следующий день гроб с её телом выставили в красном уголке и всех детдомовцев колонной по одному повели для прощания с ней. У гроба со скорбным лицом сидела её тётка, на голове у неё была чёрная кисея, а в руках белый платочек. Правда, никто не видел, чтобы она плакала. Девчонки идти к гробу боялись, да и мальчишки шли к нему с вытянутыми в испуге лицами, только одного Никиту это не пугало. Свой ужас перед мёртвыми он пережил в чулане, когда ему казалось, что с жёлтыми ногами тётку никто отсюда не выносил, и она всё ещё лежит в углу. Проходя у гроба Скувылдиной, он заметил, что у неё сильно заострился нос, а на лице застыло что-то сердитое. Ему даже показалось, что она сейчас встанет из гроба и скажет ему как раньше: «Игоист ты, Никита».
Скувылдину похоронили и стали готовиться к отъезду в лагерь. Казимир бегал по детдому и всё что-то укладывал и увязывал. Кривоножка примерялась к своей летней одежде, а баянист разучивал новые песни. И в поведении, и во внешнем виде у него было много странного. Говорил он со всеми ласково, но в глазах, глубоко спрятавшихся под тонкие, как у женщины, брови, таилось что-то пустое и холодное. И губы у него были, как у женщины: мягкие, похожие на розовый лепесток. Поэтому, хотя на голове у него и была большая лысина, его сразу прозвали Тёткой.
Лагерь, в который завезли детдомовцев, был расположен на берегу Эмтегея и состоял из подслеповатого и длинного, как пенал, барака, белого с высокой верандой домика и дизельной. В барак поселили детдомовцев, а в домике обосновались Казимир, Кривоножка, Тётка и сторож, он же дизелист, дядя Егор. Недалеко от лагеря на поросшем карликовой берёзой пригорке находилось кладбище, на могилах которого вместо памятников стояли колышки с прибитыми на них жестянками. За ним были видны развалины старых бараков, а над ними возвышались уже покосившиеся сторожевые вышки. Понятно, это была зона, а на кладбище на жестянках значились номера умерших заключённых. Детдомовцы этого кладбища боялись и никогда туда не ходили.
День в лагере начинался с Тёткиного баяна. Под него всех будили, выстраивали в линейку и заставляли заниматься гимнастикой.
— Раз-два, раз-два! — командовала Кривоножка, и если кто не поспевал за ней или делал не так, как ей хотелось, она докладывала Казимиру. А Казимир, хоть и не просыхал вместе с дядей Егором от водки, время на наказание провинившихся находил. Каждого из них, под личным присмотром, он заставлял обежать барак пять раз, того же, кто этого не мог сделать, лишал ужина.
— Нешто так можно, — выговаривал ему дядя Егор, а когда провинившийся, не пробежав свои пять кругов, падал и, как рыба на берегу, жадно хватал воздух, сокрушённо качал головой и говорил: «Абы чего не вышло».
В ответ Казимир, как всегда, посылал его подальше, и они шли похмеляться. Делали они это на берегу реки, прислуживала им Кривоножка. Здесь она уже была не в спортивном трико, а в купальном костюме.
— Ах, Казимир Иванович, хорошо-то как! — восклицала она. — Вы только посмотрите: красота-то какая! Вот оно: и небо вам, и солнце, и пташки поют, и речка играет. Не-ет! — вздымала она вверх руки: — Что ни говорите, Казимир Иванович, а Достоевский прав: только красота спасёт мир!
— Чё это она? — не понимал её дядя Егор.
Казимир в ответ крякал и тихо, так, чтобы не услышала Кривоножка, объяснял:
— Дуру гонит!
Во всём этом не принимал участия Тётка. В плавках он лежал в стороне и вяло смотрел в небо. Основная его работа была вечером, когда он готовил детдомовцев к выступлению художественной самодеятельности на районном смотре. Делал музыкальные сопровождения акробатическим этюдам, аккомпанировал хору, надеясь отличиться на смотре, особое внимание уделял сольным номерам. Лучшей исполнительницей их считал армянку Лолу, которая, несмотря на свои неполных десять лет, уже пела красивым женским сопрано.
— Талант, — говорил он, и Лола, услышав это, старалась петь ещё лучше.
У неё были чёрные глаза, вздёрнутые вверх ресницы, и когда она пела, эти глаза становились похожими на смородинки, подёрнутые утренней росой. С ней Тётка занимался, даже когда все уже укладывались спать.
— Не ндравится он мне. Ой, не ндравится! — говорил о нём дядя Егор, а когда этот Тётка смотрел на него пустыми, ничего не выражающими глазами, делал вывод: — Магнитизёр какой-то!
А Никита, после того, как побил Зубаря, взял над всеми верх. Зубаря, отправленного в колонию, ему было не жалко. «Туда ему и дорога!» — думал он. Чтобы удержать свою власть, Никита завёл дружков. Втихаря от него в детдоме их называли прилипалами. В задачу этих прилипал входило доносить ему о тех, кто делал не по его, приводить в исполнение вынесенные им наказания, с теми же, кто об этом доносил начальству, — а их в детдоме называли стукачами — он разделывался лично. Конечно, Никите не приходило в голову, что и прилипалы, и стукачи одинаково поступают подло, а поэтому и тех, и других надо наказывать. Но что поделаешь! Там, где над всеми стоит сила, а не право, и не для Никитиной головы всё запутывается в такой сложный клубок, что разобрать в нём, что хорошо, а что плохо, трудно.
VI
В конце лета к Никите приехал тот дядька с бородой, что называл себя его папкой. Был он в геологической штормовке, на широком, армейского образца ремне висел в кобуре наган. Никите он привёз компас и показал, как им пользоваться. Сидели они на берегу Эмтегея, кругом пели птицы и светило солнце, где-то за горой трубил лось. Объяснив ещё раз, как пользоваться компасом, дядька спросил:
— А ты меня помнишь, Никита?
Никита его не помнил.
— Ну, как же?! — не поверил он. — Да помнишь, ты был маленьким, а мы с тобой и с мамкой ездили в Сочи, на море. Помнишь? Ты ещё бегал за чайками и бросал в них камни.
Когда дядька рассказал, как они катались на белом пароходе, Никита всё вспомнил. Оказывается, и чайки, и этот белый пароход, и голубое море — всё и раньше было у него в голове, — но он думал, что или это ему когда-то приснилось, или он сам всё придумал. Теперь он и мамку вспомнил. Она была в красивом голубом купальнике, на голове у неё была шляпка с красным пёрышком, она всё смеялась и обнимала Никиту. Вспомнил он и дядьку. У него были крепкие плечи, загорелое лицо, и Никиту, когда они шли с пляжа, он всегда уносил на своей горбушке.
— А это ты был? — спросил Никита.
— Конечно! — обрадовался дядька. — Я! Помнишь, мы ещё в цирк с тобой ходили. Там клоун был, а потом львов показывали.
Никита этого не помнил.
— Ну, ничего! — успокоил его дядька. — Всё вспомнишь! Вот погоди, закончу поле, заберу тебя, и заживём мы, Никита, с тобой — ай да ну!
Уже перед тем, как уйти, он признался, что Никите он не родной папка, а как бы приёмный. На мамке он женился, когда Никите и года не было.
— Ну, ничего! — снова стал успокаивать он Никиту. — Не это главное! Главное, что мы будем вместе!
Никита не знал: верить ему или нет. Сначала ему казалось, что этот дядька его заберёт, но когда стали прощаться, и он стал думать о чём-то своём, Никита решил: не заберёт, обманет и он.
В бараке Никита долго не мог уснуть, всё думал об этом дядьке. «Нет, не заберёт!» — решил он окончательно и, расстроенный, встал с кровати и подошёл к окну. За окном уже стояли сумерки, было тихо, из-за гор вылазила большая луна. И тут Никита увидел: Тётка, а за ним Лола идут в сторону кладбища. «Куда это они? Ведь ночь скоро!» — не понял он. Заподозрив в этом что-то неладное, Никита оделся, тихо вышел из барака и, спрятавшись в кусты, стал следить, куда они пойдут. Вскоре они скрылись за кладбищем, и он, подкравшись к ним, стал смотреть, что они будут делать.
Тётка, присев на крайнюю за кладбищем могилу, пригласил сесть рядом с собой Лолу. Подозрительно посмотрев вокруг: не видит ли их кто, он достал из кармана фляжку и сказал:
— Выпей, Лолочка, это морс.
— Я здесь боюсь, — захныкала в ответ Лола.
— Дурочка, лагерь-то рядом, — стал успокаивать её Тётка.
Но Лола всё хныкала. Тогда Тётка вдруг рассердился.
— Да пей ты, дура! — закричал он и стал тыкать ей в губы свою фляжку.
Руки у него тряслись, а лицо дёргалось. Лола выпила и через несколько минут свалилась на могилу, как мёртвая. И тут Тётка стал её раздевать. Снял с неё платье и трусы, и уже, дёргаясь, как в припадке, разделся сам и набросился на голую Лолу.
— Ты что, гад, делаешь?! — закричал Никита.
Тётка вскочил с Лолы и, вздёрнув на себя штаны, хрипло спросил:
— Ты один?
Что было дальше, Никита помнил плохо. За ним бежал Тётка, а он, не разбирая, что под ногами, от него убегал. Уже подбегая к дизельной дяди Егора, он стал кричать:
— Помогите! Помогите!
А дядя Егор, как всегда в это время, был пьяным. Не разобравшись, в чём дело, он стал пулять из своей берданки в воздух и кричать:
— Держи вора!
Когда же он понял, что случилось, бросился за убегавшим в лес Тёткой. Со второго заряда он попал ему в ногу. Вскоре поднялся весь лагерь, и с помощью Казимира Тётку связали, а Лолу, укутав в одеяло, принесли в барак. К утру, не приходя в сознание, она умерла. Тётку увезла милиция, а когда детдомовцы вернулись из лагеря, они узнали, что и Скувылдина, отравленная им, перед смертью была изнасилована.
VI
Дядька с бородой, или он же теперь уже приёмный папка, Никиту не обманул. В конце лета, перед самой школой, он пришёл в детдом, и не один, а с очень красивой, похожей на большую куклу с белыми кудрями, женщиной. В руках у него была большая, спортивного покроя сумка, в которой лежала одежда для Никиты, а женщина оказалась его нынешней женой.
— Ну, посмотрим, посмотрим, — смеялась она и смотрела на Никиту тоже, как на куклу. — А ничего. Парень — что надо! — гладила она его уже по голове.
У неё были пухлые, как у девочки, губы, а когда она смеялась, было видно, что зубы её наполовину золотые. Дядька с бородой казался намного её старше, хотя тоже выглядел хорошо. С чёрной, клинышком, бородкой, со смуглыми скулами и прямым носом он был похож на красивого татарина.
Никите было собраться, что нищему подпоясаться. Он побежал в палату, забрал из тумбочки подаренный ему компас, а с вешалки прихватил свой шубур и шапку. «Пригодятся» — решил он, но жена дядьки, увидев эти шубур и шапку, рассмеялась:
— Ты уж оставь их кому-нибудь.
Оставил их Никита Лёшке, у которого, как он знал, никого из родителей в живых не осталось, они утонули на сплаве леса. Лёшка стоял грустный, было видно, что ему не хочется расставаться с Никитой. Да и сам Никита, когда уже совсем собрался и надо было уходить, вдруг почувствовал, что и ему не очень весело. Что-то, показалось, опустилось в груди, а когда он увидел, что все детдомовцы вышли на крыльцо его провожать, он чуть не заплакал. Ведь он хорошо понимал, что им едва ли выпадет такое счастье, какое выпало ему. Среди провожавших стояла и Кривоножка. Она тоже махала ему рукой, а когда Никите показалось, что она плачет, он подумал: «Зря я ей тогда стекла подсыпал».
В квартире, куда привели Никиту, было тепло и уютно. В одной комнате, посредине, на толстых резных ножках стоял круглый стол, важно, словно его тут ничего и не касалось, выпячивался от стены диван, напротив, весь в позолоченных узорах, стоял шкаф с книгами. В другой комнате чуть ли не всю её половину занимала тахта, за ней стоял голубой торшер, а рядом на стене висело большое зеркало, под которым на тумбочке лежали разноцветные флакончики и коробочки. Такого Никита никогда в жизни не видел, даже у Марии Ивановны, детдомовской учительницы, этого не было. Растерявшись, Никита юркнул на кухню и там притих.
— А ты чего это здесь? — рассмеялась жена дядьки и вдруг без всякого перехода сказала:
— Ну, вот что, Никитка. Давай без всяких папок-мамок. Его, — кивнула она в сторону дядьки, — зови дядей Валей, а меня — тётей Леной.
После ванны, в которой Никита даже пытался поплавать, сели за стол. Всё было вкусно, но особенно Никите понравились блинчики с изюмом. Он их съел, наверное, штук пять, и съел бы больше, но неудобно было перед тётей Леной. Спать Никиту положили на диван. И хотя на нём было удобно, не давило ни бока, ни спину, уснуть он долго не мог. Он думал: а что сейчас в детдоме? Наверное, тоже, как и он, легли спать, может, кто-то ловит тараканов, а кто-то просто сидит на своей кровати и о чём-то думает.
Утром дядя Валя сообщил, что через день он летит в поле собирать остатки своих отрядов, а Никите сказал, что заберёт его с собой. «Вот это да!» — обрадовался Никита и стал собираться в дорогу. На следующий день они встали рано и, позавтракав, поехали в аэропорт.
В аэропорту дядю Валю, оказывается, многие знали и при встрече пожимали ему руку. После того, как он сходил в диспетчерскую, за ним стал бегать какой-то коротышка с круглым, как арбуз, брюхом и просить:
— Валентин Петрович, может, уступишь вертолёт? Молоко на Моме киснет.
— У тебя молоко, а у меня люди, — твёрдо отвечал ему дядя Валя.
«Наверное, большой начальник, — подумал о дяде Вале Никита. — Вертолётами командует».
А дядю Валю уже опять окружили люди, он им что-то объяснял, вынув из планшетки карту, что-то на ней показывал Никите, сидевшему в углу на рюкзаке, хотелось подойти к дяде Вале, послушать, о чём там говорят, но он боялся: вдруг кто-то оттолкнёт его и скажет: «А это ещё кто такой под ногами путается?» А он не «кто такой», он сын, пусть приёмный, но сын Валентина Петровича.
Вертолёт, прежде чем оторваться от земли, сначала на ней два раза подпрыгнул, а потом так быстро взмыл вверх, что у Никиты захватило дух.
— Что, страшно?! — смеясь, кричал ему дядя Валя, но в вертолёте стоял такой гул, что Никита только и услышал: «О-о, …а-ашно?» Стало тише, когда, набрав высоту, вертолёт пошёл по своему курсу. В иллюминатор Никита видел, как, убегая назад, и дороги, и речки становятся прямыми, как стрелы, а дома, которые на земле казались большими, вдруг становились игрушечными. Уже в самом небе вертолетчики позвали Никиту в кабину. Зайдя в неё, он обмер от страху. Ему показалось, что стеклянное брюхо кабины, под которым зияла глубокая пропасть, сейчас обвалится, и Никита вместе с вертолётчиками полетит в неё. Когда он пришёл в себя, один из вертолётчиков посадил его в своё кресло и дал в руки руль. «Вот это да!» — обрадовался Никита и так крепко сжал руль, что, казалось, никто его уже от него не оторвёт.
Второй раз Никите стало страшно, когда вертолёт стал заходить на посадку. При развороте ему показалось, что горы, находившиеся до этого внизу, вдруг стали падать на вертолёт справа, а потом, при новом развороте они стали падать слева. Только когда вертолёт выровнялся, Никита понял, что это не горы падали на вертолёт, а он поворачивался к ним то одним, то другим боком. Из вертолёта Никита вышел с лёгким головокружением. Хотя он стоял уже на твёрдой земле, ему казалось, что он всё ещё летит в небе.
Загрузившись какими-то ящиками, вертолёт взмыл в небо, а дядя Валя с Никитой остались у геологов. Несмотря на то, что в вертолёте Никита натерпелся страху, глядя ему вслед, он думал: «Вырасту, обязательно вертолётчиком стану».
Геологи дядю Валю встретили с большой радостью. Наварили из хариуса ухи, из оленины сделали поджарку, а когда он достал из своего рюкзака фляжку спирта, они дружно крикнули: «Ура!» Выпив, они под гитару пели свои геологические песни, дядя Валя с ними тоже пел и был похож уже не на красивого татарина, как раньше, а на артиста из кино, которое Никита видел ещё в детдоме.
Наевшись, Никита решил сходить в лес. Отойдя недалеко от палатки, он присел на валежину и стал наблюдать, что происходит вокруг. Первым появился бурундук. Запрыгнув на ветку стланика, он стал смотреть на Никиту так, словно увидел в нём что-то очень интересное. Казалось, ещё немного, и бурундук спрыгнет с ветки и, махая хвостиком, подбежит к нему. Однако когда Никита стал звать его к себе, бурундук, испуганно свиркнув, убежал в кусты. Потом появилась ворона. Она села над головой Никиты и стала громко каркать. Потом, видимо, это ей надоело; и она, выпучив глаза, стала смотреть на Никиту. Смотрела ворона долго и сердито, и Никите стало казаться: ещё немного, и она скажет: «А я тебя сейчас клюну». Потом Никита решил сходить на речку. Подходя к ней, он попал в густые заросли чёрной смородины. Была она сладкой и таяла во рту. Обобрав один куст, Никита взялся за другой, но на него у него сил уже не хватило. «Да тут её хоть два дня ешь, всё равно останется», — подумал он. На речке он наблюдал, как играют на перекате хариусы, в протоке видел уток. По ней они плавали, как заводные игрушки, а когда, выклёвывая что-то на дне, окунали в воду головы, то на поверхности оставляли похожие на лодочки хвостики. Уже в лагере Никита решил: «Лучше буду геологом».
А утром на следующий день дядя Валя повёл Никиту на охоту. Себе он взял двуствольное ружьё, а ему дал одностволку. За лагерем он научил, как из неё стрелять, чтобы не промахнуться. Дальше от лагеря, у тропы, ведущей к реке, они сделали засаду на оленей. Кругом стояла такая тишина, что казалось: она не настоящая, а это и Никите, и дяде Вале кто-то заткнул ватой уши. Наверное, поэтому поднявшееся над тайгой солнце, казалось, не плывёт по небу, а стоит на месте. Даже бурундуки куда-то все попрятались. «Это хорошо, — тихо сказал дядя Валя, — пойдут олени, птицы гам поднимут». И действительно, когда в глубине распадка раскаркались вороны, через несколько минут появились олени. Их было пять, и шли они друг за другом. Передний, с высоко поднятой головой, часто нюхал воздух, и когда ему что-то казалось подозрительным, останавливался и хуркал. «Стреляй первым», — прошептал дядя Валя Никите. Когда олени подошли совсем близко, Никита выстрелил, за ним выстрелил и дядя Валя. Олень упал, потом он пытался подняться, но ноги его уже не держали.
Уже дома, сидя за столом с оленьей поджаркой, дядя Валя, показывая на Никиту, говорил тёте Лене:
— Его работа.
— Кормилец ты наш, — смеялась тётя Лена и гладила Никиту по голове.
Через два дня Никита пошёл в школу. Там он встретил Марию Ивановну. Оказывается, она работала не только в детдомовской школе, но и здесь. Никите она обрадовалась, долго с ним разговаривала, спрашивала, как он теперь живёт, а когда уходила, сказала:
— Ты уж, Никита, меня не подведи. Учись хорошо.
«Да, — подумал Никита, — арифметику мне надо подтянуть».
А своя учительница Никите не понравилась. Она, хотя ноги у неё были и прямыми, чем-то сразу напомнила Кривоножку.
— Новенький, значит. Ну-ну! — встретила она его в своём классе и посадила на заднюю парту.
Класс был не такой, как в детдоме. Все тут были чисто одеты, на голове у девчонок торчали похожие на заячьи хвосты бантики, у некоторых в ушах уже висели серёжки, мальчишки, словно только что вынутые из-под горячего утюга, ходили в красивых куртках и ловко обтягивающих джинсах.
Новую учительницу звали Инессой Савельевной. У неё был по-еврейски длинный нос и такая узкая переносица, что, казалось, глаза при желании могли бы посмотреть друг на друга. Похоже, она уже ходила в детдом и справлялась о Никите. Догадался он об этом потому, что в классе пошли разговоры о том, как он разоблачил насильника.
— Фу, какая гадость! — фыркали девчонки, слушая эти разговоры, а мальчишкам, как понял Никита, представлялось: окажись они на его месте, они бы обязательно отобрали у дяди Егора ружьё и сами бы пристрелили этого гада.
Никите всё это не нравилось, а иногда даже казалось, что девчонки на него смотрят с нескрываемой брезгливостью, словно не Тётка, а он и насиловал девчонок в детдоме. Даже Вера, с которой они подружились, как только Никита начинал рассказывать ей о насильнике, дёргалась, словно её кусали, и говорила:
— Не надо!
«Сама же просила», — не понимал её Никита.
Совсем расстроился Никита, когда на приближавшийся новогодний праздник ему дали роль какого-то негодяя, у которого на маске должны быть обязательно злые зубы, чёрные усы и большой, до самых ушей, рот. Маску такую Никита не стал делать и на праздник не пошёл.
Учился Никита в целом неплохо. Русский, как и в детдоме, шёл хорошо, а вот арифметика всё ещё хромала. Помочь в ней взялась Вера. Почти каждый день, после уроков, они оставались в классе, и она постоянно твердила Никите, что арифметика — это такой предмет, где надо мыслить абстрактно. Что такое «абстрактно», Никита не понимал, но несмотря на это, Вера уже задавала ему вопросы. «Что такое десятичное счисление?» — строго спрашивала она. «Ну, это когда до десяти», — не понимая, чего она от него хочет, отвечал Никита. «А вот и неправильно! — говорила она. — Это счисление, в корне которого лежит цифра десять». И непонятный корень, и почему это цифра десять не стоит, а лежит, Никиту сбивало с толку, а Вера шла дальше. «Что такое дробь?» — спрашивала она. «Дробь? — не мог вспомнить Никита, что о ней говорила Инесса Савельевна. — Ну, это…, это когда дробят». «И опять неправильно, — уже сердилась Вера. — Дробь — это число, которое состоит из числителя и знаменателя». А это Никиту уже совсем сбивало с толку, и ему казалось, что арифметику придумали люди, голова у которых не на месте. «Жизнь — одно, а арифметика — другое», — говорила и Вера, и они шли домой. До её дома идти им было по пути, а дальше Никита шёл один. Дома, уже в постели, он думал: «И кому нужна такая арифметика?» Его расстраивало ещё и то, что Вера на занятиях говорила про арифметику точь-в-точь, как и сама учительница, Инесса Савельевна, а он хотел, чтобы она говорила о ней проще и понятнее.
Однажды, расставаясь с Верой у её дома, Никита услышал, как кто-то из окна ей сердито крикнул: «А ну, домой!» На следующий день в школу пришла её мама. Никита в этот день был дежурным по классу, и поэтому в коридоре, у входа в класс, где мыл тряпку и готовил мелки, слышал, как она зло спрашивала у Инессы Савельевны:
— Кто этот Никита, скажите мне?
Что отвечала Инесса Савельевна, Никита не слышал, но мать Веры уже кричала:
— Он детдомовец! Понимаете, дет-до-мо-вец! А у них там — чего только не бывает.
— Да, да, — слышал уже Никита и Инессу Савельевну, — как бы из этого, и на самом деле, чего не вышло, — говорила она. А в конце разговора заверила: — Не волнуйтесь, мамаша, мы примем меры.
Через два дня Никиту перевели в другой, параллельный класс, а Вера при встрече с ним опускала глаза и не здоровалась. Всё для Никиты стало плохо, учиться уже не хотелось, он замкнулся в себе, стал грубым, а когда один из мальчишек в новом классе стал приставать к нему, он его сильно побил. За это тут же дядю Валю вызвали в школу, а вечером у Никиты с ним состоялся разговор.
VII
Через неделю дядя Валя улетел в поле, и Никита остался с тётей Леной. Вскоре он познакомился с ребятами со двора. Утром, когда надо было убирать квартиру, — на это у тёти Лены не хватало времени, — со двора уже кричали: «Никита, выходи!» Вчера из-за них чуть не опоздал в школу со своей арифметикой — ловили за городом в речке рыбу. Прибежал в школу в болотниках и без учебника. Хорошо, хоть вместо Инессы Савельевны, уехавшей в отпуск, занималась с ним Мария Ивановна. Она посмеялась над ним, а потом, кажется, о чём-то подумав, вдруг сказала:
— А давай-ка, Никита, попробуем без учебника.
И стала рассказывать об арифметике по-своему. Оказывается, десятичное счисление пошло ещё от древних людей и всё потому, что у них, как и у нас на руках, было десять пальцев. Когда этих пальцев для счёта им не хватало, они говорили: два раза по десять, а если и этого было мало, говорили: три раза, и так могли делать сколько угодно. А дроби — и того проще. Если у тебя, например, яблоко одно, и ты его разделил на две части — вот тебе и дробь, — одна вторая. Вверху яблоко — оно одно, а внизу — две его части. Разделил на три — уже и одна третья. «Ничего себе!» — удивлялся Никита, слушая Марию Ивановну.
Хорошо складывались у Никиты отношения с дворовыми ребятами. Выделялся среди них Игорь, который учился уже в седьмом классе. Он организовывал игры, водил ребят на речку, намечал, куда пойдут завтра, и хотя никогда ни на кого не кричал, не пускал в ход кулаки, его все слушались. Никите, привыкшему в детдоме к тому, что всё решает сила, это было непонятно. Иногда ему казалось, что ведут себя ребята таким образом с Игорем по какому-то тайному сговору, который они скрывают от него, потому что он бывший детдомовец. И Никита на них за это не обижался, а наоборот, как мог, старался войти к ним в доверие. Ни в чём и никогда им не врал, если они делали что-то не так, никого не закладывал, в опасных ситуациях не трусил, в общем, старался показать, что на него во всём можно положиться. Видимо, в этом он однажды перебрал. Когда один из первоклашек случайно проболтался родителям о том, что они лазили по чужим огородам, и родители в связи с этим подняли шум, он, чтобы ещё раз показать себя с хорошей стороны, этому первоклашке разбил нос. «Ну, это ты зря», — не понял его Игорь, и после этого словно всех ребят подменили. Они стали смотреть на него косо и уже не всегда с охотой приглашали с собой. Правда, потом, когда этот первоклашка, сорвавшись с обрыва, стал тонуть в реке и Никита его спас, отношение к нему изменилось. Его опять стали приглашать на игры, а когда играли в войну, он нередко уже ходил в командирах отряда.
А тётя Лена словно не жила, а летала по какому-то только ей известному небу. Утром, наскоро попив чаю, хватала плащ и, выскочив с ним на улицу, набрасывала его там так, словно надевала на себя крылья; к автобусу она не шла, а, не видя ничего перед собой, летела; вечером, вместо того, чтобы спокойно поужинать и сесть за телевизор, бегала по квартире с карандашом в зубах и с какой-то книжкой в руках, в которой то что-то подчёркивала, то загибала страницы.
— Ты знаешь, как это здорово! — бросала она Никите на ходу.
— Тётя Лена, а где ты работаешь? — решил спросить Никита.
— Ах, Никитка, в клубе я работаю, в клубе. Пьесу ставим, — отвечала она и снова бросалась на свою книжку.
— «Артистка, значит», — решил Никита и расстроился. Ему казалось, что все артисты — народ ненадёжный, и за ними смотри да смотри, как бы они чего не выкинули.
А тётя Лена уже приглашала Никиту в клуб, как она сказала, на премьеру пьесы Чехова «Чайка». Никита согласился и на следующий день вечером уже сидел в первом ряду клубного зала. Главную героиню, Нину, которая и представляла чайку, оказывается, играла сама тётя Лена. Никите сразу не понравилось, что уже в первом акте она стала целоваться с артистом, который в пьесе проходил по фамилии Треплев. Когда они целовались, он не понимал: по-настоящему это или понарошку? Правда, потом, когда измученная жизнью Нина, подняв руки к потолку, со слезами на глазах, восклицала: «Я так утомилась! Отдохнуть бы мне, отдохнуть!», Никите тётю Лену было жалко, а когда, уже в конце пьесы, она рыдала и, ломая руки, кричала: «Я чайка! Помните, вы подстрелили чайку!», Никита готов был плакать.
В этот вечер тётя Лена пришла домой поздно и не одна, а с этим Треплевым. Оба они были выпившими. «Этого ещё не хватало!» — расстроился Никита и ушёл на кухню. Оттуда он слышал, как Треплев о чём-то просил тётю Лену, а она хотя и отказывала ему, но когда он её стал целовать, не сопротивлялась. «И зачем она это делает?!» — готов был убить её Никита.
Утром он ушёл из дома, когда тётя Лена ещё спала. Весь день проходил по городу, к вечеру сильно проголодался, но возвращаться домой не хотелось. «И чего ей надо? — не понимал он тётю Лену. — Ведь всё есть. Живи — не хочу!» И снова, как тогда, в детдоме, ему стало казаться, что все люди обманщики, никто по-честному жить не хочет. На какой-то не очень знакомой улице Никиту прихватил дождь, а потом ударил такой ветер, что в домах зазвенели окна, а с крыши одного из них сорвался лист железа и, описав в небе большую дугу, как подстреленная птица, упал на дорогу. Никита спрятался в подъезде первого попавшегося дома, в ботинках у него уже хлюпало, и его трясло от холода. Когда Никита немного отогрелся, ему показалось, что в этом подъезде он был раньше. «Наверное, когда убежал из детдома», — подумал он. И ему так захотелось зайти к той старушке, что угощала его здесь чаем с вареньем и называла его соколиком. «Пойду-ка я к Марии Ивановне», — вдруг решил Никита и, как только прошёл дождь, побежал в сторону её дома.
Марии Ивановне Никита сказал, что ночевать у неё отпросился у тёти Лены.
— Ну, и проходи, места хватит, — сказала ему Мария Ивановна и стала собирать на стол ужин.
Ел Никита молча, уткнувшись в тарелку, говорить ему ни о чём не хотелось.
— Ты чего такой грустный? — спросила Мария Ивановна.
— Так, — ответил Никита, — голова болит.
Конечно, он понимал, Мария Ивановна догадывается, что с ним что-то не то, что-то он не договаривает и пришёл сюда не просто переночевать, а за чем-то ещё и другим.
— А ты расскажи, Никита, — сказала ему Мария Ивановна, — легче будет.
Никита опустил голову и, казалось, вот-вот расплачется. Тогда Мария Ивановна подошла к нему и стала гладить по голове.
— Ой! — вдруг испугалась она. — А у тебя и правда голова горит!
Температуры у Никиты оказалось ровно тридцать восемь.
— Никитушка, да что же это с тобой?! — застонала Мария Ивановна и бросилась искать в аптечке нужные для него таблетки.
После таблетки, которая Никите не показалась горькой, Мария Ивановна напоила его чаем с малиновым вареньем и уложила в постель.
— Ты постарайся уснуть, — гладила она его в постели по голове, — утром легче будет.
Вспомнив, что утром ему, хочешь — не хочешь, а надо идти домой, встречаться с тётей Леной, делать вид, что он ничего той ночью не видел и не слышал, Никита сказал:
— Мария Ивановна, я не хочу домой.
— Вот тебе на! — не поняла его Мария Ивановна.
— Не хочу! — повторил Никита и заплакал.
Успокоившись, он всё рассказал Марии Ивановне, не скрыл, что тётя Лена с Треплевым целовалась. Мария Ивановна, выслушав его внимательно, глубоко вздохнула и отошла к окну.
— А правда, что все люди обманщики? — спросил её Никита.
— Что ты? Что ты? — испугалась Мария Ивановна. — Нет, конечно! Откуда ты это взял?
Никита хотел ей рассказать, как все его обманывали: в детдоме Кривоножка, дядя Стёпа, когда он убежал из него, а мамка в тюрьме, но у него так болела голова, что сделать это он уже не мог.
— А дядя Валя твой, — уже сквозь сон слышал Никита, — тоже обманщик? А друзья твои, и они обманщики? Нет, Никита, это всё хорошие люди.
«Дядя Валя не обманщик», — уже проваливаясь в сон, подумал Никита.
Утром Никиту домой привела Мария Ивановна. Увидев его, тётя Лена бросилась к нему и заплакала.
— Никита, милый! — обнимала она его. — Милый мой!
Под глазами у неё были чёрные круги, за ночь она, оказывается, обегала все больницы, побывала даже в морге и уже собиралась поднимать на ноги милицию. Когда Мария Ивановна ушла, тётя Лена уложила Никиту в постель и села с ним рядом. За ночь она так осунулась, что Никите показалось сильно старой и уже не такой красивой, как раньше. Ему её стало жалко, и он сказал:
— Прости, тётя Лена, уходить из дому я больше не буду.
Услышав это, тётя Лена снова стала плакать.
— Ты, ты, Никита, прости меня, — слышал он сквозь слёзы, — это я, дура, во всём виновата.
Никита хотел её успокоить, сказать ей что-нибудь хорошее, но у него сильно болела голова, и тянуло в сон. Уже засыпая, он увидел себя в клубном зале, на сцене была тётя Лена, она, рыдая, ломала себе руки и кричала: «Я чайка! Помните, вы подстрелили чайку!»
Через неделю прилетел дядя Валя. Он похудел, лицо его вытянулось и загорело, но был весёлым, а увидев Никиту, подбросил его вверх и весело закричал:
— Здравствуй, Никита!
Прилетел дядя Валя на два дня за какими-то планшетами, а заодно — смеялся он — узнать, не слишком ли они тут без него разбаловались. Тётя Лена, как показалось Никите, была растерянной и грустной, а он не знал, как себя вести, чтобы не выдать тётю Лену.
За ужином он попросил:
— Дядя Валя, возьми меня с собой.
— А как же арифметика? — не понял он.
— Мария Ивановна отпустит, — ответил Никита и рассказал, что с её помощью в арифметике теперь он знает всё.
— Так уж и всё? — рассмеялся дядя Валя, а Никита, чтобы он поверил, стал рассказывать ему и про десятичное счисление, и про дроби, правда, второпях у него получилось, что дроби придумали древние люди, а десятичное счисление пошло от яблок.
Через два дня Никита уже сидел в вертолёте. Под ним тонула похожая на красивую открытку земля, сбоку играло яркое солнце, рядом сидел дядя Валя, он был весел, и Никите с ним было так хорошо, что казалось, лучшего в жизни ничего не бывает.
VIII
Прошло двенадцать лет. Никита окончил Московский геологоразведочный институт, и его направили в экспедицию, начальником которой был дядя Валя. Встречала его в аэропорту тётя Лена, дядя Валя, сказала она, в командировке. Она сильно постарела, казалось, осела в росте, лицо обрело выражение, какое бывает у людей, отживших своё и умиротворённых тем, что имеют. Когда шли к автобусу, Никита заметил, что идёт она с такой предупредительной осторожностью, словно боится оступиться. Дома, за столом, она плакала и всё повторяла:
— Ах, Никитушка, как я тебе рада!
Оттого, что тётя Лена никак не могла остановить слёзы, Никите стало казаться, что у них с дядей Валей что-то случилось.
— Да не смотри ты на меня так, — успокаивала его тётя Лена, — это я от радости!
Вечером приехал дядя Валя. Он почти не изменился, но был уже без бороды и с большими залысинами.
— Ну, здравствуй! — встретил он Никиту и крепко пожал руку.
По его рукопожатию, от которого у Никиты чуть не хрустнула рука, было видно, что он по-прежнему здоров, а когда разделся до пояса, чтобы ополоснуться, и стало видно, как на спине забегали желваки, Никита подумал: «Да на нём хоть воду вози!» А дядя Валя уже сидел за столом и командовал:
— А ну, мать, неси нашу!
«Нашей» оказалась настойка, от которой у Никиты перехватило горло.
— Ничего! — смеялся дядя Валя. — Это сначала, потом привыкнешь!
Без бороды дядя Валя уже не был похож на того красивого татарина, каким его помнил Никита, теперь его лицо округлилось, а губы стали толще.
— Не жалко? — спросил Никита про бороду.
— Когда снимают голову, по бороде не плачут, — ответил дядя Валя и рассказал такое, во что Никита не сразу поверил.
Экспедиция, оказывается, уже дышит на ладан, разваливается техника, бегут люди, а вверху никому до этого нет дела.
— Они там что, — возмущался дядя Валя, — совсем уже?
Никита понимал, что речь идёт о московских реформаторах, взявшихся за переустройство России.
— Лошадь, и ту, чтобы пахала, кормят! — уже кричал дядя Валя. — А тут зарплату по году не дают!
Тётя Лена пыталась дядю Валю успокоить, но это его ещё больше взрывало.
— Реформы надо делать не сверху, а снизу! — снова кричал он и, кажется, ничего перед собой не видел, а когда Никита что-то хотел ему сказать, он набросился и на него: — Вы там, в Москве!..
— Да я-то при чём, дядя Валя? — смеясь, заметил Никита.
— И ты у меня смотри! — пригрозил ему дядя Валя. — Экспедицию мою не тронь! Обойдёмся и без ваших реформ!
— Вот так всегда, — жаловалась на него вечером тётя Лена. — Как о работе, так в крик. И сердце уже… и скорую вот вызывали, а ему всё — экспедиция.
На следующий день Никита пошёл в тюрьму к матери. Пока он учился, она, с небольшими перерывами, оттуда не выходила. У ворот тюрьмы, как и тогда, с дядей Стёпой, стоял часовой в тяжёлых сапогах и сером бушлате. И от него пахло табаком и казармой. Никите даже показалось, что он сейчас подойдёт к нему и, как тот, из детства, скажет: «Вот мамка зрадуется!» Нет, этот часовой наставил на него винтовку и строго спросил:
— Ты чаго сюда прийшол?
Никита чуть не рассмеялся: и этот говорил с белорусским акцентом. Часовой стал звонить начальству — можно ли пропустить Никиту.
— Усё, усё, — пыхтел он в трубку, — я ему и говору…
Пропустили Никиту, когда он в дежурной оформил пропуск. Встретил его капитан с аккуратными усиками и с весёлым, похожим на чугунок лицом.
— Та-ак! Так! Так! — затакал он, узнав, зачем пришёл Никита. — Маслова, говоришь? Ну, что ж, Маслова, так Маслова. Посмотрим.
И покопавшись в похожей на амбарную книге, весело сообщил:
— Умерла твоя Маслова.
Так как Никита ожидал этого, его больше расстроил капитан, сообщившей о матери, как о курице, которую подстрелили ради потехи.
— А вы всем детям так сообщаете о смерти родителей? — зло спросил Никита.
Капитан вздёрнул на него усики и удивился:
— Так ты, простите, вы её сын? А я думал, …впрочем, неважно, что я думал, — опустил он голову. — Она-то говорила, что у неё никого нет.
Уже прощаясь с Никитой, капитан жаловался:
— А как не умереть! Жрать нечего. Хоть портянками их корми! Хуже, чем в концлагере!
«И сюда реформы докатились», — подумал Никита.
После тюрьмы Никита пошёл в детдом. Первой, кого он встретил, была Кривоножка. Худая и раньше, теперь она высохла так, что стала похожа на селёдку, у которой внутри всё вынули, но не стали есть, потому что она уже протухла. И действительно, от неё шёл такой неприятный, с кислым привкусом запах, что у Никиты защипало в носу. Чуть позже он вспомнил, что в детдоме все так пахнут, и от него когда-то так же пахло.
А Кривоножка уже плакала, но было видно, что подойти к Никите и обнять его стеснялась.
— Плохо живём, Никита, ой, как плохо! — жаловалась она, сопровождая его по детдому.
А детдом Никите показался не похожим на тот, что он помнил. Коридоры стали уже, а потолки выше, окна темнее, а чулан, в котором сидел двое суток, он не узнал. Был он настолько тесен, что Никита не мог понять: где тут могла лежать та мёртвая тётка, у которой, когда Казимир с мужиками выносил в коридор, на носилках были колотушками разбросаны в стороны жёлтые ноги. В палатах детдомовцы смотрели на Никиту кто с испугом, а кто с тупым безразличием. По их худобе и пепельного цвета лицам было видно: они голодны и мало видят света. У Никиты при виде их щемило сердце, а в горле застревал сухой комок, освободившись от которого, он, наверное бы, заплакал.
— Плохо, ой, как плохо! — жаловалась рядом Кривоножка и, видимо, чтобы хоть как-то скрыть всю эту убогость, то поправляла на неубранных кроватях постели, то смахивала бегающих по столу тараканов. «И сюда докатилось!» — подумал Никита и спросил:
— А почему они не в лагере?
— Какой лагерь! — замахала руками Кривоножка. — Уже давно его никто не видит!
В учительской, за чашкой чая, она рассказала о тех, кого он знал. Казимир Иванович и Мария Ивановна, оказывается, уже умерли, а сторож, дядя Егор, всё ещё жив, но, похоже, совсем свихнулся. Придёт в детдом и только детей пугает: кричит, что надо всех в Туркестан.
— А с Марией-то Ивановной мы уж и из дому — то крупы, то ещё чего им носили, — переходила Кривоножка к детдомовцам. — А как умерла она, да зарплату не стали давать — где уж тут! — и снова плакала, и снова жаловалась: — Ой, плохо, Никита, ой, как плохо!
Никите хотелось обнять Кривоножку, сказать ей что-нибудь ласковое, но он стеснялся это сделать, потому что в учительской были посторонние. Уже расставаясь с Никитой, Кривоножка вспомнила:
— А ведь Зубарь здесь, в городе! В мастерской по ремонту обуви работает. Как-то приходил.
«Зайду к нему», — решил Никита и, выйдя из детдома, пошёл искать мастерскую.
— Пришёл! Ну-ну! — встретил его Зубарь. — А я думал, обойдёшь и здрасьте не скажешь.
На нём был брезентовый фартук, руки — все в смоле от дратвы, на голове большая, непричёсанная куча седых волос.
— Пойдём в кафе, — предложил он, — там и поговорим.
В кафе они заказали водки и овощной салат на закуску.
— Из колонии-то я, как стукнуло под паспорт, сразу в лагерь попал, — рассказывал о себе Зубарь. — А там порядки свои. Как узнали, что сухорукий, чуть что, сразу в рыло! Терпел, терпел, да одного на перо и посадил. Ну, понятно, ещё намотали. А там пошло: и в суках сопли на кулак мотал, и в паханах ходил. Всё было!
— А как сейчас? — спросил Никита.
Зубарь словно испугался этого вопроса.
— Сплюнь, — тихо сказал он. — Так хорошо, что боюсь — не потерять бы чего. Валька, баба моя, — лучше не надо, а сын, …эх, Никитка, сын у меня — вылитый я, а от неё — одно название.
— Какое название? — не понял Никита.
— А Валькой его назвали. Валька Зубарев! Понял? — смеялся Зубарь, и было видно, что сын для него то главное, за которым счастливые люди ничего не видят и не слышат.
— А всё Валька! — говорил Зубарь уже о жене. — Говорит: завяжешь, сына рожу. А родила, не поверишь, плакал.
Лицо у Зубаря, которое Никите в мастерской показалось грубым и по-бычьи тяжёлым, теперь горело румянцем. Когда выпили по второй, он заметно опьянел.
— Ничего-о! Мы ещё родим! — кричал он уже на всё кафе.
Услышав его, плюгавенького вида паренёк с соседнего столика по-заячьи осклабился и громко спросил:
— И как это мы смогем? А? Дядя!
— Это ты мне?! — поднялся из-за стола Зубарь. — Мне?! А ну выйдем, падла!
Никите с большим трудом удалось предотвратить драку, а Зубарь, когда они вышли из кафе, всё ещё кричал:
— Да я этого падлу!
Его трясло, глаза зло горели, а лицо снова обрело бычье выражение. «Вот так и новые сроки получают, — подумал Никита. — Ведь ударь он плюгавенького, побежит этот подлец в милицию, а там — понятно: «Зубарь?! Рецидивист?! Ну, так одна тебе и дорога».
Дома дядя Валя, расстроенный, сидел за столом, а тётя Лена лежала в постели.
— Ноги, — кивнул он в её сторону, — полиартрит, будь он неладный.
Услышав, что пришёл Никита, тётя Лена, поднявшись с постели, стала объяснять, что и где приготовлено на ужин.
— Да лежи ты, лежи, — сказал ей дядя Валя и стал собирать на стол.
Когда дядя Валя узнал, что Никита ходил в тюрьму, он вздохнул и сказал:
— Памятник матери поставил. Как-нибудь сходим.
Дней через пять Никита встретил Зубаря, и они договорились сходить на кладбище к могилам Скувылдиной и Лолы. Узнав от него, что похоронены они рядом, а на могилах нет оградок и деревянные надгробия погнили, Никита через дядю Валю заказал в экспедиции одну для них большую оградку и два сварных памятника. Ставить их увязался за ними дядя Егор. Похоже, и правда, с головой у него было не ладно, но Никиту он узнал.
— Ишшо бы забыть! — сказал он. — Вдвоях Тётку ловили.
Ставили оградку и памятники Никита с Зубарем, а дядя Егор им только мешал.
— Знаменье мне такое вышло, — говорил он, сидя у разложенного недалеко костра, — андел из земли вышел, скоро помряши, сказал. — Вздохнув и уставившись бессмысленным взглядом в небо, продолжал: — А хоша бы и так! Бояться онной — враз скопытисся. Эй, сынки! — закричал он Никите с Зубарем, — а игде она, энта, как её?
— Дурака валяет, — заметил Зубарь, — водки захотел.
Выпив водки, дядя Егор стал пугать их Туркестаном. Оказывается, в нём, как он говорил, всех порубят турецкими ятаганами, но сначала люди будут есть человечину, потому что другого у них ничего не будет. А потом уже тех, кто останется, будет заедать вошь и большая, с лошадь, саранча. Когда же все погибнут, появятся новые люди о семи пальцах на руках и ногах, и с железными, как у рыцарей, головами.
— Туды им и дорога! — кричал дядя Егор, видимо, имея в виду тех, кто погиб от вшей и саранчи. — Сами себя, паскуды, закопамши!
Вскоре, притулившись к чужому памятнику, дядя Егор уснул, а Никита с Зубарем, поставив оградку и памятники на могилы Скувылдиной и Лолы, сели их помянуть. Кругом было тихо, внизу, за кладбищем, в косых лучах заходящего солнца ярким светом играли верхушки уже пожелтевших тополей, выше, в малиновых всполохах краснотала и густой зелени стланика поднимались в небо сопки, пахло хвоёй и разлагавшимся опадом. Всё говорило о том, что природа в увядании своём полна здоровых сил и светлой надежды на своё будущее. «Боже мой, — думал Никита, — ведь всё создано для жизни: радуйся, бери, что надо! Так почему же так всё плохо, отчего ни у кого ничего не ладится?»
Зима Никите показалась такой длинной, что иногда хотелось плюнуть на всё и бежать с этой Колымы, куда глаза глядят. В экспедиции, где он устроился геологом, словно всё в эту зиму вымерло: остановился транспорт, мехцех стал похож на груду брошенного металла, не стучал по утрам кузнечный молот, не надрывалась пилорама, люди, спрятавшись в конторе, не работали, а высиживали за столами своё время. Нужны ли они кому, будут ли давать им зарплату — никто не знал. «Как жить-то будем?» — спрашивали они друг у друга, и если кто-то отвечал: «А как получится», или «Спроси что-нибудь полегче», это никого не удивляло. Все свыклись с безысходностью и тупым равнодушием ко всему, что происходит. В начале зимы ещё ругали правительство, а сейчас перестали и это делать. «Толку-то!» — думали все.
Когда пришла весна и река очистилась ото льда, Никита уговорил Зубаря сплавиться с ним по Индигирке до Оймякона. Ещё на практике в одном из её скалистых обрывов он обнаружил кварцевую жилу с богатым рудным золотом. «Проверю её, — думал он, — может, в ней промышленное содержание». «А что, давай!» — согласился с ним Зубарь, и они стали готовиться к сплаву. Привели в порядок резиновую лодку, насушили сухарей, запаслись патронами к ружьям и с наступлением солнечных дней вышли на сплав. Индигирка, всё ещё не освободившаяся от талых вод, гудела на перекатах, бросалась волной на плёсах, у прижимов крутила водовороты. Похоже, Зубарю всё это нравилось. «Где наша не пропадала!» — кричал он Никите и ловко правил лодкой.
На одном из прижимов они утонули. Их затянуло в грот, вымытый рекой в крутом обрыве.
На перевале
I
Много тысяч лет назад эти ущелья, распадки и гроты были скрыты многометровой толщей горного ледника. Вспахивая их днища и оставляя за собой груды песка, щебня и камня, он спускался вниз, в долину Анюя. На её поросших жалким кустарником просторах бродили стада диких оленей, рыскали голодные волки, вытаптывали лежбища мамонты и, наверное, уже курились дымки от кострищ, оставленных первобытными охотниками, а здесь, в этой громаде гор и льда, стояла мёртвая тишина, и только сорвавшийся из-под копыта горного барана камень да крик заблудившейся здесь птицы нарушали её. Сегодня здесь проходит перевал от Анюя на север до Чауна. Зимой, как и тысячи лет назад, здесь всё сковано льдом, стоит такая же мёртвая тишина, спрессованный морозом воздух свинцом давит голову, в полярные ночи, когда всё утопает в глубоких сумерках, охватывает щемящее сердце чувство одиночества, и уже кажется, что ни здесь, и нигде в другом месте нет никакой жизни, всюду холодный камень, лёд и непроглядная тьма.
Весной всё меняется. С восходом солнца оживают горы, незаснеженные их скальные вершины кажутся колоннадами, подпирающими небо, ниже: и снег, и обнажившийся под ним лёд в ярком, как само солнце, блеске вызывают чувство, какое испытывает человек в головокружительном спуске на лыжах. На самом перевале, в набухшем от воды снежном крошеве, уже тонут ноги, и слышно, как где-то рядом, пробиваясь к свету, монотонно журчат первые родники. А ещё ниже, в долине Анюя, разбросанный по снежному покрывалу лиственничный редкостой кажется похожим на причудливо сотканный ковёр. Там бродят стада домашних оленей, кружат над ними птицы, а к вечеру загораются костры, и отсюда, с перевала, они кажутся огнями, зажжёнными пришельцами из далёкого прошлого.
Лето на перевале — пора яркого разноцветья. В ясные дни вершины гор полыхают золотом оленьего ягеля, склоны их утопают в зелёном ковре кедрового стланика, в прогалинах с ярко-красной вороникой отцветает жимолость, пахнет настоем кедровой смолы, перекликаясь друг с другом, сбегают с гор ручьи. Ниже, на Анюе, всё утопает в зелени, а сам он на перекатах серебрится, как чешуя только что пойманной рыбы, на плёсах утопает в отражениях голубого неба.
Уже третий год отряд из экспедиции Соломатина ищет на этом перевале золото. Наверное, с другого уже давно бы спросили: где это золото, но с Соломатина спросить не каждому дано. Он известный человек в районе, состоит членом бюро райкома партии, является председателем какой-то важной комиссии в райисполкоме, да и вид у него такой, что не сразу подступишься. С широким, как у быка, лбом, маленькими и ничего не выражающими глазами, в обращении он неизменно холоден, и хотя редко повышает голос, всегда кажется, что чем-то недоволен. Даже и в том случае, когда собеседник толковый и убедителен в своих доводах, он, не глядя ему в глаза, говорит: «Ну, это мы ещё посмотрим».
Что заставляет Соломатина искать золото на перевале? Ведь и ему известно, что ледниковые отложения никогда богатыми золотом не бывают. Этот тяжёлый металл осаждается на плотике в промышленных концентрациях только после того, как речной поток, не раз перебуторив свои наносы, унесёт его на многие километры от коренного источника. Видимо, в геологии многое идёт не от ума и знаний, полученных геологом в учебных заведениях, а оттого, что ему дано природой. А это, как известно, идёт к нам не только от отца и матери, но и скрытыми от нас путями передаётся из поколения в поколение от того первобытного предка, которому мы обязаны своим происхождением. В этом отношении у геолога много общего с охотником. Охотника, ведущего свою первобытную родословную от мелкого птицелова, никаким калачом не заманишь вглубь тайги за крупным зверем, он и в подлеске настреляет себе куропаток сколько надо, другой ломит в тайгу, сидит ночами и днями в засадах и бьёт там лося или оленя, потому что его первобытный предок охотился и на них, и, наверное, на мамонтов. Соломатин, будь он охотником, ходил бы только на крупного зверя. Поэтому и в геологии, считал он, надо искать не там, где надёжно, но мелко, а там, где редко, но крупно. А здесь, на перевале, он искал коренной источник золота, рядом с которым, как он знал, не в каждом шурфу золото, но в каком оно есть — обязательно в крупный самородок. А искать мелкое золото внизу на Анюе, считал он, не его дело. Пусть этим занимаются серые геологи. И всё бы сошло Соломатину с рук, если бы в то время ещё многое не сохранилось от Дальстроя. Да, Дальстрой ликвидировали, застрелился его бывший начальник Павлов, вместо Дальстроя появился совнархоз, прииски и экспедиции обрели экономическую самостоятельность, но ничего ещё не изменилось в сознании людей. Руководитель, сняв с себя погоны, всё так же, по-армейски, требовал выполнения плана любой ценой, подчинённый, сбросивший с себя зэковский бушлат, в душе оставался невольником. Потребовали выполнения плана и с Соломатина. Сделал это секретарь райкома Рябов. У него было по-деревенски простое лицо, весёлые глаза, и когда он ездил по трудовым коллективам, его можно было бы принять за невзыскательного председателя колхоза, если бы всё ещё не носил он на широком, офицерского образца ремне наган в жёлтой кобуре. Однако в своём кабинете, когда прятал наган в сейф, он преображался и становился другим: лицо его вытягивалось в строгую маску, взгляд становился тяжёлым и неподвластным.
— Ну, что, Соломатин, — заявил он однажды на заседании бюро райкома, — второй год план по приросту запасов проваливаешь.
Соломатин не растерялся.
— Ну, это ещё обсудить надо, — спокойно ответил он.
Обсуждение приняло крутой оборот, и Соломатину вынесли выговор. Злой, он сразу после бюро выехал на перевал. А там после зимней шурфовки уже били скважины ударно-канатного бурения. Геологом отряда на перевале была его жена, Анна Андреевна. Внешне она была бы похожа на подростка, у которого ещё не оформилась фигура, если бы этому не мешали по-старчески грустные глаза и мелкие под ними морщинки. Рабочие её любили и всегда были рады, когда она приезжала на буровые.
— Анна Андреевна, — звали они её к костру, — идите с нами чай пить.
И угощали её брусничным вареньем. Такое отношение к ней с их стороны, видимо, было связано не только с тем, что и она к ним была всегда добра и внимательна. Считая, что её бугай — так за глаза они звали Соломатина, — по отношению к ней деспот, они её ещё и жалели. И здесь они были правы.
Замуж за Соломатина Анна Андреевна вышла в неполных двадцать два года после окончания геолого-географического факультета в Томском университете. Соломатин уже тогда был о себе особого мнения и к окружающим относился с той долей превосходства, какая ещё не обижает человека, но уже задевает его самолюбие. Анна Андреевна этого в нём не видела, потому что была ослеплена к нему своей любовью. И особое о себе его мнение, и отношение к окружающим с оттенком превосходства она принимала за естественное стремление каждого человека утвердить себя как личность. Лишь позже она поняла, что это тяжёлая черта его характера, идущая от желания брать из жизни только крупное. На работе, хотя и быстро шёл в гору, он считал, что это только начало. Будучи ещё геологом, он уже предлагал развивать работы только широким фронтом и делать ставку на поиски одних крупных месторождений. Свои выступления на совещаниях он всегда начинал с фразы: «А я полагаю…» Не лучше вёл он себя и дома. Когда Анна Андреевна предложила ему откладывать деньги на чёрный день, он заявил: «У меня чёрных дней не будет!» Поднявшись до начальника экспедиции, он сразу же переориентировал направление работ на крупное золото, а дома на Анну Андреевну стал смотреть, как на приложение к его дальнейшему производственному росту. От неё он стал требовать более внимательного за собой ухода, а когда она однажды спросила, не пора ли им завести детей, он твёрдо заявил:
— Подождут!
Перестала Анна Андреевна вмешиваться и в его геологические дела. Случилось это, когда на одно из её предложений он обрезал:
— Не твоё дело!
После этого Анна Андреевна дома замкнулась в себе, а на работе делала вид, что соломатинские дела её не касаются.
II
В тот день, когда Соломатин после заседания бюро райкома злой ехал на перевал, Анна Андреевна была там и занималась документацией поднятой из скважины породы. День был солнечный, сбегавший с соседней сопки ветерок приносил запах чёрной смородины, рядом весело Журчал ручей, и у неё было хорошее настроение. Рабочие, остановившие на время её документации бурение, недалеко собирали грибы и бруснику.
— Анна Андреевна, — звали они её весело, — идите к нам!
Анна Андреевна и рада была бы пойти к ним, да хотелось скорее закончить работу. Помогал ей промывальщик Юлий Маркович. Он недавно вышел из заключения и, видимо, поэтому всё ещё держался от всех в стороне. Худой, с лицом, словно снятым со старой иконы, он был похож на больного, ещё не поднявшегося с постели. Глаза у него были по-еврейски выпуклые, а ресницы, как у молодых женщин, длинные. За что такого человека могли посадить в лагерь, догадаться было трудно. Когда Анна Андреевна закончила документацию и собралась идти за брусникой, нагрянул Соломатин.
— Почему стоите?! — закричал он, выскочив из машины.
Анна Андреевна пыталась было ответить ему, но он зло крикнул:
— Не твоё дело! Где мастер?!
Подошёл мастер.
— Немедленно собрание! — приказал ему Соломатин.
На собрании, срываясь на мат, он кричал:
— Я вам, сукины дети, покажу, как не работать!
И грозил всех пустить под расчёт. Рабочие молчали, и это ещё больше злило Соломатина.
— Мастер, отвечай! — приказал он.
— А что отвечать! — сказал мастер. — Бури — не бури, а золота-то нет!
— Чего?! — не понял его Соломатин. — Какого золота?!
Когда до него дошло, что надо мастеру, он взорвался:
— Ты за что у меня зарплату получаешь? А? За золото или за скважины?!
— А ты на меня не кричи, — спокойно ответил мастер. — Таких, как ты, я видел!
Фамилия мастера была Зубов. На Колыме он прошёл огни и воды, сидел в лагере, за побеги его били и травили собаками, и теперь он был похож на вытесанного из грубого камня буддийского монаха.
Расходились с собрания, как из бани, где всех окатили помоями. «Выходит, мы быдло», — думали многие. Видимо, чудовищный молох Дальстроя не до конца выдавил из этих людей стремление стать человеком не только через личное благополучие, но и в осознании своей полезности в общем деле.
Домой Анна Андреевна ехать с Соломатиным отказалась. Она решила, что здесь, наедине с собой, быстрее отойдёт от боли, нанесённой ей грубым поведением мужа с рабочими.
— Баба с возу, кобыле легче, — сказал ей на это Соломатин.
Ночевала Анна Андреевна в кухонном балке с поварихой Варварой. Это была бойкая и ловкая на руку баба. Вечером они напекли блинов, а когда сели за стол, Варвара достала бражки. Выпив, Анна Андреевна стала плакать.
— Не плачь, дурёха, — успокаивала её Варвара. — Все они одинаковы: сначала на руках, а потом на пинках.
— А у меня и на руках не было, — не могла успокоиться Анна Андреевна.
Выйдя перед сном на улицу, она увидела сидящего у затухающего костра Юлия Марковича. В ситцевом покрывале белой ночи он был похож на седого старца, поникшего в своих горьких думах. «И у него, наверное, не всё ладно», — подумала она и подошла к костру.
— И вы не спите, — не удивился ей Юлий Макарович и, подбросив сухих веток в костёр, закурил. А потом, мягко улыбнувшись, заметил: — Вот ведь в лагере не курил, а тут — на тебе!
— А что так? — спросила Анна Андреевна.
Горько усмехнувшись, Юлий Маркович ответил:
— А в лагере я, Анна Андреевна, жил надеждой: выйду из него, и вот она тебе — новая жизнь! Бери её и знай радуйся. А перед самым освобождением возьми да на пилораме палец, — показал он на его обрубок на левой руке. — А ведь я до лагеря-то, Анна Андреевна, скажу вам откровенно, в неплохих артистах ходил и был, можно сказать, известным скрипачом. Ну, а теперь… Ах, что палец? Вот, в жалких промывальщиках хожу.
«Господи, его-то за что могли посадить?» — думала Анна Андреевна.
— Ах, всё просто! — словно угадав её мысли, сказал Юлий Маркович. — Дочка моя за рулём сидела, а тут он, этот пьяный. Ну, и всё — прямо и насмерть. И что тут поделаешь, Анна Андреевна? В милицию: берите, говорю, за рулём я сидел. Вот и посадили.
— Но вас, наверное, дома ждут? — спросила Анна Андреевна.
— Что вы! — удивился Юлий Маркович. — Разве из заключения кого-то ждут! Жена другого нашла, а дочка, бог ей судья, сначала писала, а потом перестала. Видно, не до меня.
Негромкий голос Юлия Марковича мелодично вплетался в тихое журчание рядом пробегавшего ручья, и поэтому, когда внизу, на Анюе, внезапно протрубил лось, Анне Андреевне показалось, что это не лось, а кто-то другой, большой и сильный, и не на Анюе, а вверху, на скальном утёсе, прогудел в широкую, кованную из железа трубу. Словно испугавшись этого, Анна Андреевна, быстро попрощавшись с Юлием Марковичем, ушла в свой балок. Уснуть она долго не могла. Перед ней, словно в тяжёлом сне, вставал бычеподобный образ Соломатина. Образ ругался и топал ногами, казалось, ещё немного, и он бросится на рабочих с палкой. Потом появлялся Юлий Маркович. Видела его Анна Андреевна со скрипкой в руках на ярко освещённой сцене. На нём был элегантный фрак, волосы у него спадали до плеч, а глаза горели вдохновением. Льющиеся из скрипки грустные мелодии до слёз трогали слушателей, а когда они бурно аплодировали Юлию Марковичу, и на его глазах появлялись слёзы. Потом она стала тонуть в каком-то болоте, над ней кружили черные птицы, а далеко, за болотом, кто-то гудел в свою кованную железом трубу.
На следующий день, уже к вечеру, на попутке, Анна Андреевна вернулась домой. Соломатина дома не было, постель его была не заправлена, посуда на столе не убрана, в квартире было сыро и холодно. Надо было браться за уборку, но делать её Анне Андреевне не хотелось. «К чему? — думала она. — Не всё ли равно, как теперь жить». Поздно вечером заявился Соломатин. Он был слегка выпивши и поэтому возбуждённый.
— Всё, — заявил он с порога, — мастера твоего я уволил!
— За что?! — не поняла Анна Андреевна.
— А пусть не высовывается! — зло рассмеялся он. — Ишь, золота захотел! — И повесив плащ на вешалку, добавил: — Кто хочет много, тот теряет всё!
На следующий день, рано утром, Анна Андреевна уехала на перевал. Делать ей там было нечего, и она стала помогать Варваре готовить обед рабочим. Поздно вечером, когда все уже легли спать, она вновь застала Юлия Марковича одного у костра.
— Анна Андреевна, — радостно встретил он её, — ах, как хорошо, что вы пришли! А я вас так ждал!
— И я хотела с вами встретиться, — ответила ему Анна Андреевна.
С тех пор они стали часто встречаться. Что побуждало их к этому, они, видимо, и сами хорошо не понимали. Известно, что беда небитых людей разъединяет, а битых — сплачивает. Первые в ней, как правило, ожесточаются, вторые становятся добрее. Видимо, и Анну Андреевну, и Юлия Марковича свела не любовь, а свалившаяся на каждого из них беда.
III
Пришла зима, с бурения перешли на шурфовку, а золота на перевале всё не было. Соломатин выходил из себя и с перевала уже не вылазил. Сам опускался в шурфы, проверял: добиты ли они до плотика, не отходил от промывальщиков, следил: правильно ли они промывают породу, нередко сам брал лоток и работал им, как опытный промывальщик. Вода в колоде была горячей, и когда он вынимал из неё руки, на морозе они немели и покрывались ледяной коркой. От этого они огрубели и вскоре стали похожи на две большие мозоли.
А морозы на перевале всё крепчали. Ледники обретали первобытный вид, ущелья, распадки и гроты обрастали льдом, не заходили сюда дикие олени, не кружили в небе птицы. Когда работы на шурфовке прекращались на короткий отдых, наступала мёртвая тишина, а спрессованный морозом воздух свинцом давил голову и вызывал тревожное чувство безысходности. Сон рабочих в балках был беспокойным, они громко стонали и беспокойно ворочались, словно в своих снах перекатывали тяжёлые камни. Соломатин в такое время выходил из балка и разжигал костёр. Сидя у него, он думал: что делать дальше? Не будет до конца года на перевале золота — его, по настоянию Рябова, с работы снимут. В рядовые геологи он не пойдёт, друзей, которые поддержали бы его в это время, у него нет, жена совсем стала чужой и уже редко бывает дома. «Мне бы ещё месяца три-четыре», — думал он. Но где их взять: до нового года осталось полтора месяца, а после него сразу в райкоме заседание бюро, в управлении балансовая комиссия, а после неё и оргвыводы. В такие минуты Соломатин часто вспоминал мастера Зубова. И не потому, что он его ни за что уволил, нет! Однажды, когда Соломатин приехал на перевал, этот Зубов ему сказал: «Не там, начальник, золото ищешь, — и указав на распадок, в верховье которого стояли два гранитных останца, сказал: — Вот там оно». Тогда Соломатин грубо его обрезал, а сейчас всё чаще приходила в голову мысль: «А может Зубов прав? Ведь он на золоте собаку съел».
А Анна Андреевна и Юлий Маркович, как только Соломатин уезжал с перевала, возобновляли свои встречи. Делали они это теперь в балке у поварихи Варвары. Она угощала их бражкой, а выпив с ними, уходила в соседний балок играть в лото со своим, как она говорила, полюбовником. Наедине, в своих разговорах, Анна Андреевна и Юлий Маркович всё больше находили в себе общего, а в обнаруженных различиях видели гармонию, дополняющую их добрые отношения. И как все счастливые люди, вокруг себя они видели только то, что хотели видеть. В окружающих перевал ледниковых нагромождениях они видели полные экспрессии альпийские пейзажи, в гротах, им казалось, таятся всё ещё неразгаданные тайны, а гранитные останцы были для них похожими на старинные замки. К сожалению, ни Анна Андреевна, ни Юлий Маркович не знали, что счастливые люди должны прятаться, а не высовываться на люди, потому что немало среди этих людей и тех, кому чужое счастье поперёк горла. Когда у Варвары отношения с полюбовником разладились, терпеть встречи Анны Андреевны с Юлием Марковичем ей стало невмоготу. Теперь она бегала по балкам и с присущим бывшим зэчкам цинизмом разносила всё, что происходит в её балке, когда Соломатин уезжает. А однажды, когда он стал ругать её за грязный котёл, грубо хихикнув, она заявила:
— Вы бы, гражданин начальник, в свой котёл заглянули!
На следующий день, когда Анна Андреевна приехала домой, Соломатин её не пустил.
— Иди к своему еврею! — сказал он.
После этого Анна Андреевна уволилась из экспедиции, устроилась учительницей географии в школе, где ей дали место в общежитии. А Соломатин, закрыв квартиру на замок, уехал на перевал. Он всё так же лазил по шурфам, промывал лотком пески, лицо от мороза стало грубым, как наждачная бумага, а когда оброс, стал похож на таёжного старовера. На рабочих он уже не кричал, не погонял их грубым матом, да и у них отношение к нему изменилось. «С таким начальником работать можно», — говорили они. Однажды, когда в одном из шурфов нашли немного золота, он поехал в посёлок и привёз спирта. Пили сутки, а отоспавшись, наверстали в работе всё, что было потеряно по пьянке. Во время её пьяная Варвара сильно поколотила своего бывшего полюбовника. Его пришлось отвезти в больницу, а её после того, как, закрывшись в своём балке, она три дня пила бражку и никого туда не пускала, пришлось отправить домой. Готовить рабочим обеды Соломатин поручил Юлию Марковичу. Он видел, что на промывке от него толку мало. Конечно, за связь его с Анной Андреевной Соломатин мог дать ему расчёт, но, видимо, полагая, что по таким воробьям, как Юлий Маркович, из пушек не стреляют, решил его не трогать. Это ещё больше укрепило рабочих в хорошем мнении о Соломатине. А сам Соломатин, несмотря на то, что золото по настоящему всё ещё не шло, кажется, впервые в жизни почувствовал себя человеком, которому и мелочи в радость. Ему нравилось после работы сидеть с рабочими в балке, пить с ними чай, слушать их простые, ни к чему не обязывающие разговоры. Не было в этих разговорах ни бурных суждений о людях, ни зависти к ним, ни подозрения их в злом умысле. Казалось, в балке одна большая, дружная семья, в которой всё отлажено вперёд на долгие годы. Всё это для Соломатина было новым, и как всё новое, оно заставило посмотреть на себя со стороны. И, кажется, впервые за много лет у него появилось сомнение в том, что он считал обязательным в своей жизни. Верно ли, что в ней он делал ставку только на крупное, не потерял ли он за ним те мелочи, которые и составляют радости жизни? В своём стремлении утвердить себя по большому счёту он не видел душевной теплоты от простого общения с людьми, не испытывал удовольствия от участия в товарищеских застольях, не замечал, что рядом есть по-другому устроенная жизнь, в которой люди радуются, что они живы, что у них есть дети, что над ними голубое небо и яркое солнце.
К новому году золота на перевале не нашли. На бюро райкома Соломатину вынесли строгий выговор и рекомендовали управлению освободить его от обязанностей начальника экспедиции. Зная, что среди членов бюро нет ни одного геолога, Соломатин не проронил на нём ни слова. В управлении же, как он ни доказывал, что золото на перевале есть, с работы его уволили. И было бы странно, если бы этого не произошло. На смену эмвэдэшникам Дальстроя, приказы которых не обсуждались, пришли партийные секретари, выполнение рекомендаций которых считалось обязательным.
После этого Соломатин из посёлка исчез. Последний раз его видели в ресторане с Зубовым. И хотя они пили водку, было видно, что ведут деловые разговоры. А говорили они о золоте на перевале. Оба были уверены, что оно там есть, и это, несмотря на прошлые между ними разлады, их объединяло. Договорились они ехать вдвоём на перевал и бить шурфы в распадке с двумя останцами в верховье, где, как считал Зубов, золото обязательно будет.
На перевале все работы уже были прекращены, буровые вывезены, и поселились Соломатин с Зубовым в брошенном здесь старом балке. Жизнь их стала похожа на жизнь отшельников, у которых в однообразии быта потерян счёт времени. Всё измерялось числом пройденных шурфов и количеством в них золота. Они не замечали, что давно не мылись, уже не чувствовали в обмороженных руках боли, обросли так, что стали похожи друг на друга. В минуты короткого отдыха падали в сон, как в яму, проснувшись, на скорую руку пили чай с галетами и шли на шурфы. Проходили их на пожог, в забое работал Зубов, а на воротке стоял Соломатин.
Наступил апрель, а настоящего золота всё не было. С таянием снега стало топить шурфы. Пришлось у шурфов проходить водоотводные канавы. В балок возвращались мокрыми. Простыв, Соломатин заболел. Сначала он горел от высокой температуры, а потом стал терять сознание и бредить. И как все в таком состоянии, стал путать явь с больным воображением. Ночью секретарь райкома Рябов с наганом в руке гонялся за ним по улицам, похожая на кабаниху пьяная Варвара бросала в него грязные миски и кричала: «В свой котёл загляни!» Потом появлялась жена. С распущенными, как у ведьмы, волосами и в исподней рубахе она стояла у ручья и через него бросала в него камни. Когда он попытался к ней подойти, она внезапно куда-то исчезала. В минуты сознания у него сильно болела голова, и его мучило, что он не может встать, чтобы напиться. Мысли, что приходили в голову, были тяжёлыми, они никак не вязались друг с другом, и Соломатину казалось, что он в них тонет, как в болоте. Зачем ему золото на перевале? Ради чего он гробит своё здоровье и укорачивает этим свою жизнь? Ради славы? Если это так, тогда ради чего ищет золото Зубов? Ведь ему-то славы от него не будет. Конечно, можно допустить, что у Зубова, как у старого поисковика, золото было страстью, как, например, у рыбака рыба, которую он ловит не ради промысла. Тогда почему такое же отношение к золоту у рабочих? Ведь Соломатин видел: на том собрании, где Зубов заявил, что бурят они не только ради бурения, за которое им платят, но и ради золота, они были на его стороне. Их тогда он не понял. Выходит, в них есть что-то такое, чего нет в нём.
В одну из ночей, когда Соломатин был в полубессознательном состоянии, его мучило бессилие оттого, что не мог справиться с бесконечным рядом чисел, который он пытался привести к общему знаменателю. Они прыгали перед ним, как мячики, убегали в разные стороны, и ему казалось, что это средние содержания золота по шурфам, и если он приведёт их в порядок, то найдёт место, где надо его искать. В ту ночь он часто вскакивал с нар и начинал лихорадочно собираться на работу.
— Куда ты? — останавливал его Зубов. — Встанешь на ноги, тогда и пойдешь.
— Шурф… шурф не добили! — дрожа всем телом, хрипел Соломатин.
— Какой шурф? — не понимал его Зубов.
Соломатин хватался за голову, начинал что-то бессвязно бормотать и, совсем обессилев, снова падал на нары. Выздоровление к Соломатину пришло внезапно. Проснувшись однажды утром, он почувствовал себя так легко, словно никогда и не болел. Голова была свежей, как после здорового сна, в руках и ногах было столько силы, что хоть сейчас же бери лопату и иди на работу.
— Ты о каком это шурфе говорил? — спросил его Зубов.
— Шурф, говоришь? — потёр рукой лоб Соломатин. — А знаешь, Зубов, ведь это тот шурф, где мы с тобой на валун сели.
— Ну, и что? — не понял Зубов.
— Там золото! — твёрдо сказал Соломатин. — Во сне его видел!
— Эх, во сне! — рассмеялся Зубов. — Да мало ли что мы во сне видим!
— Нет! — не согласился Соломатин. — Это не только сон, я в этом сне всё, что мы с тобой сделали, перелопатил. Вот смотри!
И раскрыв карту, объяснил по ней Зубову, почему в этом шурфе должно быть золото.
— А ведь ты, Соломатин, пожалуй, прав, — согласился с ним Зубов.
Золото в шурфе Соломатин с Зубовым нашли. Сразу под валуном оно пошло с содержанием, какого оба в своей практике не знали, а с плотика они подняли два больших самородка. Вечером в балке они выпили браги. Зубов скоро опьянел, и уже весёлый, всё спрашивал у Соломатина:
— Нет, ты скажи, зачем людям золото? А?
Соломатин, кажется, его не слышал. Он тупо смотрел в стол и о чём-то тяжело думал.
— Что молчишь? — не отставал Зубов.
Когда до Соломатина дошло, чего от него хочет Зубов, он, словно очнувшись от сна, сказал:
— Не знаю, Зубов. Я ничего в этой жизни, Зубов, не знаю, — и, поднявшись из-за стола, быстро вышел из балка.
Через три года за открытие богатейшего месторождения золота на перевале Соломатину была присуждена Государственная премия, но это его не обрадовало. В истории с этим золотом в нём как будто бы что-то перегорело. Хотя его и восстановили в должности, и озадачили большими планами, ему было всё равно: в каких рангах он ходит. Говорят, такое случается с больными, приговорёнными врачом к тяжёлой и неизлечимой болезни.
На реке Туманной
1
После того, как закатилось солнце, сразу похолодало, с реки потянуло сыростью, а на обратной её стороне, над обрывом, собралась похожая на облако туманная дымка. С вечерними сумерками она опустилась на воду, быстро разрослась и вскоре затянула всё вокруг. Словно схваченные зимней стужей, застыли прибрежные тополя, река, так весело катившая свои воды днём, стала похожа на протоку с тяжёлой и вязкой, как расплавленное олово, водой. Вскоре смолкли птицы, попрятались в своих норах бурундуки, перестала плескаться в реке рыба.
Вросшая в землю избушка рыбаков, с высокой, сделанной из горбылей крышей, в тумане была похожа на брошенную якутами юрту, и только слабо мерцающий огонёк в окошке говорил о том, что в ней кто-то живёт. Трое рыбаков: колодообразный Дядин, лысый, с лицом, вытянутым в редьку, Генкин и плоскогрудый, похожий на татарина, Гуров играли в этой избушке в карты, а сидевший у печки ничем не приметный Сёмин злился: «И как это им не надоедает! Как вечер, так карты!»
А игра была в самом разгаре.
— Бей козырем! Козырем бей! — зло кричал Гуров.
— А они у меня есть?! — отвечал Генкин и, выкинув на стол карту, бормотал: — Гля-ка, учитель нашёлся!
— Кхы! — с размаху бил своей картой Дядин и, довольно ухмыляясь, брал взятку.
Тасуя на новую раздачу карты, Гуров злился:
— Говорил тебе, козырем бей!
— Да пошёл ты! — отвечал Генкин. — Не было у меня козыря!
— Было — не было, а надо было козырем, — не соглашался с ним Гуров.
«И вот так всегда! — думал Сёмин. — Орут! А чего орут — и сами не знают!»
Однако, готовясь к новому заходу, картёжники стихли. Гуров, раздавая карты, вёл им счёт. Дядин, закуривая и не раскрывая своих карт на столе, бормотал: «Не будем дыбиться, хай козыриться». Генкин, заглядывая в каждую полученную им карту, успевал следить и за Гуровым: не мухлюет ли? Когда карты были розданы, Генкин сделал ход под Дядина.
— Ыхы, — ответил на этот ход Дядин и тяжело задумался над ответной картой.
— Не ыхыкай, а ходи, — посоветовал ему Гуров и полез в карман за сигаретами.
Пользуясь тем, что Дядин думает, а Гуров копается в сигаретах, Генкин свистнул из колоды карту. После этого, делая вид, что зевает, спросил Гурова:
— Как думаешь, рыба завтра будет?
— Какая рыба? — не понял его Гуров.
— Ну, в реке, какая ещё рыба, — ответил Генкин.
— При чём тут рыба? — подозрительно посмотрел на него Гуров и вдруг, догадавшись, в чём дело, сказал тихо: — Положи, падла, карту!
— Какую карту?! — сделав вид, что не понимает, удивился Генкин.
Вскочив на ноги, Гуров крикнул:
— Положи, гад, карту!
— Какую карту? — ещё больше удивлялся Генкин.
В ответ Гуров перевернул на него стол. Всё, что на нём было: и карты, и грязная посуда, и горящая свеча, — полетело на пол.
Этого Сёмин не выдержал. Хлопнув дверью, он вышел из избушки. Спрессованный сыростью туман уже закрыл всё вокруг. Даже землянки, сделанной под холодильник рядом с избушкой, не было видно. Вместо неё зияло что-то похожее на яму с бурой, как в болоте, водой. Липкая морось, проникая Сёмину в лёгкие, давила ему грудь, от потери привычных ориентиров у него кружилась голова, тяжёлая, как в стоячей воде, тишина пугала ожиданием чего-то неожиданно громкого. «Как мне всё это надоело!» — думал Сёмин и ругал себя за то, что решил провести свой летний отпуск на рыбалке. Ведь он и поехал-то на неё не из-за рыбы, — её и в магазине сколько хочешь, — он надеялся, что на природе и отдохнёт, и наберётся новых впечатлений. Природу он очень любил, особенно ему нравились ясные дни с голубым небом и ярким солнцем, а здесь — вот уже месяц, и всё эти проклятые туманы.
Решив разжечь костёр, Сёмин пошёл за дровами. Запнувшись в кустах за скрытую в траве корягу, он упал и сильно поцарапал лицо. «Всё! Хватит! Завтра же домой!» — решил он. Однако когда Сёмин разжёг костёр и успокоился, домой он выбираться раздумал. С его ногой, вывернутой в коленке ещё в детстве, по тайге и болотам дорога ему не под силу.
Посоветовал Сёмину отдохнуть и набраться новых впечатлений на природе начальник экспедиции Кукин. «Всё, — сказал он ему, — своё ты, Сёмин, сделал! Полугодовой баланс подбил, бери отпуск и с моими орлами марш на природу. А поможешь им — получишь по наряду». Работал Сёмин в экспедиции бухгалтером, и что там говорить; калькуляторы и счёты за зиму ему надоели, как горькая редька. А тут случай, так почему бы им не воспользоваться! Надеялся Сёмин, что и с товарищами своими найдёт общий язык. Ведь все они были из простого народа: Дядин работал в экспедиции кузнецом, и было видно, что выше кувалды он никогда не поднимется, Генкин всю жизнь перебивался на подсобных работах, а Гуров до инвалидности был промывальщиком, а когда обморозил ноги, и на одной из них ему отрезали пальцы, стал истопником.
Однако с первых же дней рыбалки Сёмин почувствовал, что своих товарищей он не понимает. Началось это с динамита. На одной из рыбалок, в глухой заводи, они так ахнули, что вся рыба — от мальков до крупной — всплыла вверх брюхом. «Да это же злостное браконьерство!» — хотел крикнуть он, но этого ему не дал сделать Гуров.
— Греби её лопатой! — крикнул он, а сам с Дядиным стал заводить на неё сеть.
Не нашёл он общего языка с ними, когда вернулись они с рыбалки. Привыкший к порядку и точному учёту, Сёмин, перекладывая рыбу из лодки в тару, взялся её считать поштучно. Увидев это, Генкин расхохотался;
— О, арихметик нашёлся!
Сёмин не знал, что на промысловой рыбалке поштучный учёт рыбы никто не ведёт, считают её мешками.
Не поняли Сёмина и вечером, за картами. Видя, что эти карты перерастают в ругань, он предложил:
— А не сыграть ли нам, ребята, в шахматы?
— Чего? — не понял его Генкин.
А Гуров и Дядин в его сторону даже не посмотрели.
На следующий день, утром, они предложили Сёмину на рыбалку с ними не ходить, а остаться в избушке и готовить ужин. «Ну, уж нет!» — решил Сёмин и первый сел в лодку. Никто ему ничего не сказал, однако на рыбалке для него это не прошло даром: все делали вид, что рядом с ними Сёмина нет, а когда он бросился помогать вытаскивать из реки сеть, Гуров его обрезал:
— А это ещё зачем?
А вечером в тот день прикатил к ним начальник экспедиции Кукин на своём водомёте. Прикатил он не один, а с девкой. Узнав её, Сёмин ахнул: девкой оказалась его сотрудница, кассирша Инина Верка. «Да она ж ему в дочери годится!» — не понял Кукина Сёмин. А Кукин прикатил не только с ней, но и с водкой. Вечером у костра состоялась большая пьянка. Верка через этот костёр сначала прыгала и, как дура, смеялась, а когда напилась, плясала около него, изображая из себя цыганку. Потом Кукин увёл её в избушку и долго оттуда не возвращался. Утром, набив рюкзак икрой, а водомёт рыбой, он собрался уезжать. Провожать его Сёмин не пошёл, но всё, что происходило на берегу, видел и слышал. На посошок все там выпили, а прощаясь, Кукин сказал:
— Молодцы, ребята! Так держать! — и спросил: — Может, надо чего, говорите.
И тут произошло такое, чего Сёмин никак не ожидал. Весело рассмеявшись, Генкин сказал ему:
— Начальник, арихметика забери!
Кукина словно ударили по голове палкой.
— Ни в коем случае! — вскричал он. — Мне этот Сёмин на работе плешь — во как проел! Нет, нет, и не просите! Не возьму!
Сёмина бросило в жар. Да что же это такое?! Выходит, правильный бухгалтерский учёт материальных и денежных ценностей в экспедиции ему поперёк горла! Да и Генкин — тоже хорош! А ещё земляк! «Ну, погодите!» — злился Сёмин. А рыбаки, возвращаясь с реки, возмущались:
— Водки — и по бутылке на рыло не привёз, а икры и рыбы хапнул на два ящика, — ругался Гуров.
А Генкин, поравнявшись с Сёминым, расхохотался:
— Вот она — твоя арихметика!
2
Выбрасывая в ночь последние блики, вяло догорал костёр, с реки тянуло холодом, отяжелевший от сырости туман, казалось, уже никогда не рассеется, и утром не будет на реке ни солнца, ни голубого неба, ни щебета птиц, ни ласкового дуновения ветра; а днём этот туман станет душным и липким, в ночь же снова отяжелеет от сырости, и так будет всегда, пока существует и сама река, и похожая на якутскую юрту избушка, в которой всё ещё дуются в карты и переворачивают друг на друга столы с грязной посудой. «Вот так и в жизни, — думал Сёмин, — всё — как в этом тумане. Тыкаешься в ней, как слепой котёнок, а куда, зачем — и сам не знаешь». А жизнь и на самом деле обделила Сёмина главным: она уже с детства направила его не по тому пути, который был ему предназначен призванием, а по другому, ею самой выбранному.
Уже тогда, в своей деревне, Сёмин так отдался во власть окружающей его природы, что кроме её, казалось, ничего и не видел. Когда приходила весна и прилетали ласточки, глядя, как они весело стригут голубое небо, ему казалось, что и он вместе с ними со свистом режет нагретый солнцем воздух; летом, слушая шорохи леса, он с замиранием сердца ждал, что из него сейчас кто-то выйдет и позовёт его с собой, и от этого ему было и страшно, и вместе с тем так хотелось, чтобы его туда-увели и показали то, что он никогда ещё в жизни не видел; осенью, когда вода в реке становилась прозрачной, как оконное стекло, в глубоких её омутах он видел не только испуганное выражение своих глаз, но и волшебное таинство подводного мира. Первыми книжками Сёмина стали рассказы о знаменитых путешественниках. Читая о Пржевальском, он вместе с ним открывал в Монголии новые кочевые племена, на Тибете изучал горные ледники и беседовал с далай-ламами, а с Арсеньевым ходил по следам уссурийских тигров и исследовал горы Сихотэ-Алиня. И быть бы Сёмину путешественником, так нет — жизнь повернула по-своему. А случилось это так.
На летних каникулах после шестого класса, выгоняя колхозных коней в ночное, он упал со своей лошади и поломал ногу. В больнице её срастили, но оказалось, не так, как надо, а когда срастили заново, она оказалась кривой в коленке. После седьмого класса, распределяя ребят по работам, председатель колхоза сказал ему: «Всё, сынок, по физической части тебе — не дорога», — и направил его учётчиком поступающей на склад сельскохозяйственной продукции. От обиды неизвестно на кого ночью Сёмин плакал, а потом, на работе, видя, как сверстники гарцуют на лошадях и даже водят трактора, до боли в сердце завидовал им. После десятого класса Сёмин уехал в город и, надеясь неизвестно на что, подал документы для поступления в университет на географический факультет. «Что вы, — сказали ему в университете. — У нас и от здоровых отбоя нет!» Вернулся Сёмин в свою деревню убитый горем и долго не знал, что делать. Кого-то из его сверстников уже весело провожали в армию, кто-то собрался ехать на далёкую новостройку, а ему, с его ногой, и эти пути были заказаны. И опять выручил председатель колхоза. «Не вешай носа!» — сказал он ему и, заявив, что не место красит человека, а человек место, определил его в колхозную бухгалтерию на учёт материальных ценностей.
Известно, деревня испокон веку не терпела тех, кто сидел в конторе за бумагами. Не стал здесь исключением и Сёмин. «Ишь, морду-то отъел!» — говорили о нём в деревне. И это несмотря на то, что морда его толстой никогда не была. А когда у него стала гноиться нога на месте перелома и он обратился в больницу, о нём стали говорить, что он ещё и симулянт. Он даже слышал, как одна из деревенских баб говорила в конторе: «Сама в окошку-то видела, как он ногу гвоздиком ковырял». А другая замечала: «Работать не хочет, вот и ковыряет». Сёмин хотел выйти к ним из своей бухгалтерии и сказать: «Дуры!», но не сделал этого, потому что знал: на бабий роток не накинешь платок. Через год не стали ладиться у него отношения с председателем колхоза. Началось это с того, что Сёмин обнаружил недостачу зерна на складе. Догадываясь, что зерно уходит налево, он написал докладную председателю. «Ну, ты даёшь!» — удивился председатель и для обсуждения его докладной собрал правление колхоза. На правлении Сёмин готов был провалиться сквозь землю. Выходило, что в сельском хозяйстве он большой профан и делает не то, что ему положено. Оказывается, зерно со склада налево не уходит, а, теряя там влагу, усыхает, а если и уходит, то не налево, а в соседний колхоз в обмен на запчасти к тракторам. Сёмину сделали выговор и предупредили: не лезь не в своё дело. После этого Сёмин совсем упал духом: значит, он не ко двору и простым колхозникам, и тем, кто руководит ими. Кто же тогда он? Выходит: ни то ни сё, или, как говорят, ни богу свечка, ни чёрту кочерга.
С тех пор Сёмин замкнулся в себе и кроме, как к счёт-фактурам и составлению месячной отчётности, ни к чему не прикасался. Однако продолжаться так долго не могло. Человек, как известно, всегда стремится к более полному выражению себя как личности, и если чего-то в нём недостаёт, он заполняет это другим. Неумные много кричат и машут кулаками, обиженные строят врагам козни, нищие верят в чудо. Колхозный же бухгалтер Сёмин, чтобы совсем не высохнуть на счёт-фактурах и месячной отчётности, по вечерам уносился в головокружительные водовороты далёкой от своего колхоза жизни. Вот он на полярной льдине, дрейфующей прямо к полюсу, ураганный ветер уже срывает палатку, термометр от мороза зашкаливает, он и его товарищи по-эскимосски ищут спасения в ледяных гротах. В Амазонии он прорубается сквозь тропические джунгли, кругом ядовитые змеи, мучает малярия, но Сёмин не сдаётся, он глотает хинин и пьёт водку. В Африке он покоряет Сахару, на Гималаях — ледник Джомолунгма. Представляя всё это, Сёмин забывает, что у него кривая нога и на все придуманные им подвиги он не способен. Наоборот, словно наперекор этому, уже в сибирской тайге потрёпанного медведем товарища он выносит на своих плечах к зимовью, на Индигирке бросается с утёса за товарищем, сорвавшимся в воду, и спасает его.
Кто знает, чем бы всё это у Сёмина кончилось, если бы к ним в деревню не приехал в отпуск с Колымы Генкин. Стояла весна, а Генкин, напуская на себя колымского форсу, ходил по деревне в собачьих унтах и меховой куртке, и пил только коньяк, и курил одни дорогие сигареты. Колыму он, оказывается, исходил вдоль и поперёк, ломал на ней тайгу, бил зверьё, тонул в реках, а когда замерзал, отогревался только неразведённым спиртом. Выходило даже, что открывал он и крупные месторождения золота. Подчёркивая это, Генкин говорил, что здесь нужна уже не грубая сила и железная техника, а точный расчёт и умная голова. И поэтому, когда собравшийся с ним на Колыму Сёмин спросил, возьмут ли его туда с кривой ногой, Генкин, постучав себя по голове, ответил: «Главное — во!» И добавил: «Со мной, Сёмин, не пропадёшь!»
3
Колыма на Сёмина произвела ошеломляющее впечатление. Добираясь из Магадана до кукинской экспедиции автобусом, он поражался её бескрайним далям, над тенькинскими пропастями у него кружилась голова, заснеженные шапки гор среди лета ему казались чудом, а когда, увидев, что утки на озёрах не шарахаются от автобуса, спросил у сидящего рядом Генкина, кто их тут разводит. Генкин расхохотался: «Во даёт! Да это ж дикие!» Понравился Сёмину и посёлок геологов. Укрытый тополями и чозениями, стоял он на берегу реки с такой прозрачной водой, что когда Сёмин посмотрел в неё, то увидел себя, как в зеркале. Дома геологов были рубленными из смолистой лиственницы и хорошо ухоженными. В посёлке были магазин, больница, почта и телеграф. Словом, всё, что увидел Сёмин на Колыме, ему очень понравилось. Она один к одному вписалась в его представления о том мире, которого ему не хватало в колхозе, когда он сидел на счёт-фактурах и месячной отчётности.
Хорошо встретил его и Кукин.
— Дорогой мой, — вскричал он, — да ты-то как раз мне и нужен!
И предложил ему место бухгалтера по учёту материальных ценностей.
— Что вы! — испугался Сёмин. — Только не это!
— Не понял, — буркнул в ответ Кукин и, ещё раз заглянув в трудовую книжку Сёмина, спросил: — И кем же ты хочешь? Стаж-то у тебя один — бухгалтерский.
Конечно, Сёмин хотел только на полевые работы, а кем — это ему было всё равно. Поэтому, входя в кабинет к Кукину, он даже пытался скрыть, что хромает на кривую ногу. Видимо, удалось это ему плохо.
— А что у тебя с ногой? — спросил Кукин.
— Да так, — замялся Сёмин, — что-то приболела, — и, хлопнув по ноге рукой, весело добавил. — Пройдё-от!
— Ну, что ж, ладно. Иди на комиссию, а там посмотрим, — сказал Кукин и, показывая, что разговор окончен, уткнулся в бумаги.
В больнице, как когда-то и в университете, Сёмину сказали:
— Что вы! У нас и от здоровых отбоя нет!
После этого ему ничего не оставалось делать, как согласиться на место бухгалтера. Проработав в этой должности три года, Сёмин понял, что и здесь, как и в колхозе, он оказался не ко двору и простому народу, и экспедиционному начальству. Простой народ говорил, что он не работает, а протирает штаны, а Кукину он не нравился за мелочность в учёте материальных ценностей. Сёмин опять замкнулся в себе, на работе кроме неё ничего не знал, дома мучился от безделья, и, понятно, когда Кукин предложил ему поехать с артелью на рыбалку, он сразу согласился. Однако, как теперь оказалось, и здесь он не нашёл того, что ему хотелось. Он видел, что товарищи по рыбалке его не понимают, зовут его «арихметиком», а Кукину он, оказывается, уже и плешь проел.
Когда костёр совсем затух, Сёмин вернулся в избушку. В ней было темно, как в погребе, храпел Дядин, а Гуров скрипел зубами. «Такие злые, как Гуров, — подумал Сёмин, — наверное, и во сне злятся». Нащупав своё место на нарах, Сёмин прилёг, но уснуть долго не мог, мучила духота, назойливо гудели комары, а когда уснул, ему приснился страшный сон. Стоит он в церкви, она вся в тяжёлых образах, под потолком, украшенным древнерусской росписью, горят свечи. Перед ним огромная, в медной оправе чаша с водой, в которой плавают серебристые с неестественно длинными хвостами рыбы. За чашей стоит священник в позолоченной ризе, в руках его кадило, на голове похожий на царскую корону шлем. «Ба, да это ж Дядин!» — узнаёт его Сёмин. А рядом с Дядиным стоит голый Генкин и, зажав срамное место ладошкой, трясётся то ли от испуга, то ли оттого, что ему холодно. Помахав перед ним кадилом. Дядин крестится и громко говорит: «Посвящая чадо Божие Генкина во христианство, да окунём его в эту чашу, да отпустим ему грехи тяжкие, да избавим его от лукавого». Но Генкин в чашу лезть не хочет, да и не знает, как это делать. Тогда Дядин отставляет кадило в сторону и, показывая, как это надо делать, перешагивает через край чаши и опускается в неё по горло. «Вот так, мой сын! Вот так, мой сын!» — говорит он. И тут появляется в церкви Гуров. На голове его длинноклювая, как у грузин, кепка, а в руках плётка. Он подскакивает к голому Генкину и, огрев его плёткой по спине, кричит: «А ну, падла, лезь в воду!» А в это время Дядин, запутавшись в своей ризе, в чаше уже тонет. «Помогите!» — захлёбываясь водой, просит он. Сёмин бросается к нему на помощь и просыпается. У него сильно бьётся сердце, кружится голова, а придя в себя, он думает: «К чему бы это?»
Утром решили ставить сеть на другой стороне реки под обрывом. Переплыв её, Гуров остался, чтобы проверить сеть, а остальные пошли по краю обрыва смотреть, где её лучше поставить. Впереди шёл Дядин, за ним Генкин, а сзади Сёмин. Стоял всё тот же туман, и тропу, по которой они шли, было плохо видно. Не вписавшись в один из её поворотов, Генкин спотыкнулся о булыжник.
— Ты, дорогу-то выбирай! — крикнул он Дядину.
— Ыхы, — ответил Дядин.
А дальше произошло всё так быстро, что если бы потом спросили у Сёмина, так ли это всё было, он бы ответить на этот вопрос, наверное, не смог. На втором повороте Дядин сорвался в реку. Упал он в воду как бочка и сразу же стал бессмысленно махать руками.
— Я за лодкой! — крикнул Генкин и бросился бежать к Гурову.
«Какая лодка?! — не понял Сёмин. — Дядин-то уже тонет!» А Дядин и на самом деле уже тонул. Ко дну его тянули болотные сапоги и быстро намокший брезентовый плащ. Он уже захлёбывался, а когда пытался сбросить с себя плащ, уходил под воду. Думал ли Сёмин, когда, сбросив с себя плащ и сапоги, бросился за ним, что и сам утонет — кто знает. Наверное, нет. Видимо, в таких ситуациях человек не думает, что он делает.
Оказавшись в воде, Сёмин успел ухватиться левой рукой за башлык плаща уходящего в воду Дядина, а правой стал грести к берегу. Захлёбываясь и сам, пристать он к нему никак не мог. Берег был обрывистый, и уцепиться на нём было не за что. Когда, хватаясь за каменные выступы, он пытался это сделать, его тут же срывало сильным течением. Как их с потерявшим сознание Дядиным вынесло за обрыв и каким образом он его вытащил на уже пологий берег, Сёмин не помнил. Откачали Дядина приплывшие на лодке Гуров с Генкиным, а Сёмин после сильной рвоты отошёл сам. Когда все пришли в себя, Гуров, отозвав Генкина в сторону, ударил его по лицу и сказал:
— А это тебе за трусость!
Отношение к Сёмину после того, как он спас Дядина, изменилось: Гуров видел в нём человека, на которого можно положиться, Генкин стыдливо перед ним жался и даже заискивал, а Дядин, когда совсем отошёл, сказал ему:
— По гроб тебе, Сёмин, обязан.
Изменилось отношение Сёмина и к ним. О Гурове он думал: «Ну, и что ж, что злой, зато справедливый». Генкин? Да бог с ним, какой уж есть, другого из него всё равно не получится, а Дядин ему нравился за деревенскую простоту и несуетливость. Стал Сёмин играть с ними и в карты. «А что — неплохо, — думал он, — во всяком случае, лучше, чем сидеть и ничего не делать». А однажды Дядин попросил его научить игре в шахматы. Теперь когда они сидели над ними, Гуров и Генкин стояли рядом и следили за игрой. Когда Дядин в ответ на его ход произносил своё «ыхы», Гуров, как и в картах, говорил: «Ты не ыхыкай, а ходи».
Рыбалка в этот сезон получилась удачной: наловили рыбы больше, чем требовалось по кукинскому наряду. А в начале следующего сезона, когда Кукин, предлагая Гурову, Генкину и Дядину снова ехать на рыбалку, спросил: «Может, ещё кого возьмёте с собой?» — все в один голос ответили:
— Только Сёмина!
— Во как! — удивился Кукин и Сёмина с ними отпустил.
Тупик
Всё в этом посёлке говорило о том, что поставлен он на скорую руку. Разбросанные как попало избы были одинаково небольшими, без сеней и хозяйственных пристроек, с покосившимися крышами и подслеповатыми окнами. Недостроенные, уже почернели от старости, и было видно, что достраивать их никто не собирается. Жили в посёлке лесорубы, и было странно, что выбрали они для него место не где-то в лесу на берегу речки, а на болоте, у поросшей осокой старицы. Вода в старице для питья оказалась непригодной, и воду брали из вырытых на её берегу колодцев. Непонятным было и название посёлка — Тупик. Какие могут быть тупики в раскинувшемся на сотни вёрст таёжном безбрежье! В этом Тупике и сидели мы с татарином Ринатом в ожидании вертолёта. Прошло уже трое суток, вертолёта всё не было, и мы мучились от безделья.
А сам посёлок, словно навсегда осевший в болотной сырости, днём вымирал, даже не лаяли в нём собаки. Только однажды, возвращаясь из магазина, встретили мы на улице заплаканную девочку.
— Ты чего плачешь? — спросили её.
— Мама котков задавила, — ответила она и ещё больше расплакалась.
— Как задавила? — не поняли мы.
— Пьяная была, — ответила девочка.
Оказалось, что в кровати, под боком у этой пьяной мамы, ночью окотилась кошка, и задавила мама котят, видимо, когда переворачивалась с одного бока на другой. А вечером, недалеко от дома, что мы снимали с Ринатом, обсуждали это событие бабы.
— Машка-то, стерва, котят задавила, — смеялась одна.
— Да неужто?! — удивлялась другая.
— Ай, правда?! — не верила третья. — Пойду, у Ефима спрошу.
Видимо, даже и такое событие было заметной частью жизни посёлка. Казалось, пройдут годы, и чтобы отличить эту Машку от других, будут говорить;
— Какая Машка? А та, что котят задавила!
Других событий, нарушающих сон среди дня, в посёлке не было, ночью же, наоборот, казалось, он просыпался. Где-то на его окраине начинала визжать пилорама, куда-то с грохотом падали брёвна, свистел локомобиль. К утру же опять всё стихало, и, странно, на территории лесопилки не было видно ни пиленых брёвен, ни распущенных из них досок, куда-то убирались даже опилки. Казалось, ночью из тайги кто-то приходит в посёлок, тайно разделывает заготовленную леспромхозом древесину и всё куда-то увозит.
Ринат в ожидании вертолёта каждое утро выходил на крыльцо, долго смотрел в небо и, вернувшись, ругался;
— Здохнул твой бертолёта!
А тут ещё повадился ходить к нам вечерами бывший учитель местной школы, Агеев. В посёлке его звали Агеем, и своей лопатообразной бородой и сросшимися на переносице густыми бровями он походил на старообрядца. Было заметно, что он многого начитался, ещё больше по-своему переосмыслил, а судя по тому, как с лекторской последовательностью излагал свои соображения, можно было догадаться, что приходил он к нам для разговора на заранее продуманные темы и с уже готовыми выводами. И его можно было бы слушать, если бы не излагал он свои соображения твёрдым, по-армейски поставленным голосом. Казалось, что говорит с тобой не Агей, а кто-то стучит тебе по голове. И второе — все темы разговора, как на выбор, у него были крупными, и когда в них, ударяясь в крайности, он выходил за рамки повседневной жизни, слушать его было неинтересно. А в разговорах он обращался только ко мне, а Рината если и замечал, то так, между прочим. Словно отмахивался от мухи. Видимо, полагая, что все татары скроены на одинаково невысокую колодку, их, как и самого Рината, называл он Ибрагимами.
Сегодня он пришёл опять с новой темой.
— Вот вы сказали, — начал он, — старость — не радость.
И хотя я этого ему не говорил, он, уже обращаясь ко мне, как к своему оппоненту, продолжал:
— Что ж, я с вами согласен, но только наполовину. Старость — не радость, когда она бездетная, а согревают её дети, и уж не знаю, кто это сказал, — развёл он руками, — что дети — цветы жизни, но уверен, сказал это тот, кто был молод, здоров и искал только своё счастье, а в старости, когда искать уже нечего, дети — это не цветы, а плоды дерева, которое ты посадил однажды.
— Твой плоды кушай, что ли? — рассмеялся Ринат.
— Ибрагим, — обрезал его Агей. — А ты сиди! Сиди тут и думай, может, что и придумаешь. А мы уж с Николаем Ивановичем.
— Что, твой с Миколай уходить собрался? — не понял его Ринат.
— Куда уходить? — не понял его и Агей.
— Куда! Куда! — рассердился Ринат. — Сам говорил: сиди, Ибрагим, думай, а мы с Миколай. Куда с Миколай собрался?
— Тьфу ты! — рассердился и Агей. — Ему про Федота, а он про ворота.
— Какой Федота?! Какой ворота?! — опять не понял его Ринат и, сердито бормоча что-то под нос, вышел на улицу.
Вернувшись, зло посмотрел уже и на меня, и сказал:
— Сапсем твой бертолёта здох!
А Агею возникшей заминки в разговоре хватило, чтобы перейти к новой теме.
— Вот вы говорите, — снова он начал от моего имени, — что уважают за ум, а любят за сердце.
— Да не говорил я вам этого! — начал уже сердиться и я.
— Как не говорили?! — сдвинул на меня брови Агей. — А кто, если не вы?
— Может, Ринат? — решил пошутить я.
— Ну-у! — не согласился Агей. — Ибрагимам это не под силу. — И, делая вид, что строжится, спросил Рината: — Ибрагим, ты это говорил?
— Говорил, — охотно согласился Ринат и добавил: — Только твой ум — дурак! Его я сапсем не уважай!
— Ну, ладно, шутки в сторону, давайте поговорим о другом, — решил сменить и эту тему Агей. И, подумав, предложил: — Давайте поговорим о нашем землепашце.
— О каком ещё землепашце?! — не вытерпел я.
Не обратив внимания на то, что я уже начинаю сердиться, Агей продолжил:
— Вот вы говорите, полководцу жизнь кажется полем битвы…
«Господи, — взмолился я, — да когда же ты, долдон, меня-то перестанешь трепать?!
— …политику она кажется нивой созидания, — между тем продолжал Агей, — а философу — книгой мудрости.
«И где это ты всё вычитал?» — злился я.
А Агей шёл дальше:
— И только землепашец знает, что она, эта жизнь, есть на самом деле. Его поле, где он пашет, сеет и убирает хлеб, — это и поле битвы, и нива созидания, и книга мудрости.
— И чито говорит? — пожимая плечами, не понимал Ринат.
— И какая несправедливость! — не обращая на него внимания, выкидывал Агей руку к потолку. — Полководцы бросают его в кровавые битвы, политики поднимают на восстания, а философы забивают голову этому, извините, уже дураку, — посмотрел он, наконец, и на Рината, — отвлечёнными понятиями о смысле жизни.
Теперь Ринат понял его по-своему.
— Я дурак?! — вскричал он. — Я дурак?! Да мой батка был кназь, а мамка театры играл. Понял?! — и, сплюнув в его сторону, добавил: — Сам дурак!
— Так дайте же ему власть! — не слушая Рината, уже кричал Агей. — Полководец у него будет пахать землю, политик — сеять, а философ — убирать хлеб!
— Ну, это вы слишком! — заметил я ему как можно спокойнее. — А кто же станет воевать?
— Войн не будет! — отрезал Агей.
— А кто будет управлять государством?
— И государства не будет! — опять отрезал Агей.
Что будут делать философы, я не успел спросить.
— Землепашец — всему голова! — опередил этот вопрос Агей.
На следующий день Агей поднял тему о классовых противоречиях в современном обществе. Всё это было бы, наверное, интересно, если бы не было взято им из «Капитала» Маркса. Словом, со своими разговорами на крупные темы надоел он нам, как горькая редька. И мы очень удивились, когда пришёл Агей к нам в болотных сапогах и с ружьём.
— А не сходить ли нам на охоту? — бодро спросил он с порога.
«Лучше на охоту, чем его слушать», — решил я и стал собираться. А Агей уже командовал;
— Ибрагим, твоё дело — шурпа. Где котелок?
Собрав всё, что нужно, мы двинулись в сторону недалеко расположенного озера. Впереди размашисто шёл Агей, за ним — я, а сзади, чертыхаясь на кочках, плёлся Ринат. Взятая Агеем собачка то путалась под ногами, то убегала далеко вперёд и там на кого-то лаяла. Звали собачку Лёлька, и своим пушистым хвостом, густой шерстью и невыразительными глазами она была похожа на маленькую росомаху.
На озеро пришли, когда уже закатилось солнце, а пока разложили костёр и поужинали, наступила ночь. Утки на озеро садились на рассвете, и мы, соорудив у костра лежанку, расположились на ночь. Кругом было тихо, над головой висела луна, за нами стояла тёмная стена леса, за которой, казалось, кто-то прячется. Когда там раздавались шорохи, Лёлька вздрагивала, поднимала уши и тихо скулила. В мягком свете луны озеро, как в чашке, отражало звёздное небо, а сама луна в нём была похожа на подвешенный к другому берегу медный шар. Когда от волнения на озере он раскачивался, казалось, что вместе с ним раскачивается и озеро. На том же берегу горели костры, их было много, и когда они ярко вспыхивали и выбрасывали в небо искры, казалось, что там не такие же, как и мы, охотники, а пришельцы с другой планеты, и они нам подают сигналы. И эта похожая на медный шар луна, и тёмная стена леса, за которой кто-то прячется, и таинственные костры на другом берегу озера, и звёзды, убегающие в космическое пространство, говорили о том, что мир неповторим в своём многообразии, а Вселенная бесконечна.
— Ну, нет! — разбудил тишину ночи Агей. — Что ни говорите, Николай Иванович, а Вселенная не бесконечна.
«Господи! — чуть не вскричал я. — Да помолчи же ты хоть здесь!»
Но Агея остановить уже было невозможно.
— Все эти учёные, — продолжал он, — только и доказали, что Земля круглая и имеет свою географию. Всё остальное — домыслы и гипотезы; тайна атома не разгадана. Вселенная не изучена, да и остальное — большие нули.
От его, как из бочки, голоса кто-то проснулся в лесу, что-то затрещало и упало с дерева, а мне, как и раньше, в посёлке, показалось, что говорит со мной не Агей, а кто-то долбит меня по голове.
— Да и конечная ли она, эта Вселенная? — стал сомневаться он. — Не знаю. Да и кто это знает? Видно, не нашего это ума дело. Да и мы-то кто такие? — с раздражением спросил он. — Уж не та ли молекула, которую пустили на Землю, чтобы посмотреть, уживётся ли она на новом месте?
В интонации, сопровождавшей всё, что говорил теперь Агей, крылось разочарование, видимо, тем, что мир ему вдруг показался непознаваем, а в голосе, обретшем трескучие нотки, чувствовалось что-то такое, что его раздражало. Когда с неба упала звезда, он глухо заметил:
— Вот и она упала. Туда ей и дорога!
А услышав, как Ринат, перевернувшись с одного бока на другой, перестал храпеть и, как суслик, засвистел носом, он набросился и на него:
— Спит — и пузырья вверх! Нет, чтобы в костёр подбросить!
И, взяв топор, ушёл в лес. Вернулся он с большой охапкой сухих сучьев и всю её разом кинул в костёр. Через минуту костёр выбросил в небо высокое пламя, горящие ветки с треском полетели в стороны, и казалось, ещё немного, и от уже загоревшегося вокруг нас мха начнётся лесной пожар. Агея это не трогало, а увидев летящий в небе спутник, он схватил ружьё и выстрелил в его сторону.
«Что это с ним случилось? — не понял я. Если раньше, в посёлке, Агей был всегда спокоен и больше походил на человека, философски осмысливающего страницы своей и чужой жизни, то теперь, как больной Гоголь, спаливший свои «Мёртвые души», он готов был спалить всё вокруг, а спутники расстрелять из ружья.
— А пусть не летают! — зло сказал он, выбрасывая из патронника пустую гильзу.
Ринат от выстрела проснулся и долго не мог понять, что случилось, а увидев, как Агей выбрасывает гильзу, сказал;
— Сапсем вихнулся!
На рассвете, когда стали собираться на озеро, Агей свою Лёльку поднял пинком, а в скрадке всё никак не мог найти нужного ему патрона. В уток он стрелял молча, без суеты и азарта и, казалось, даже не целясь.
— А вы, Николай Иванович, неправильно стреляете, — с плохо скрываемой неприязнью сказал он после охоты, — стрелять надо не в утку, а в стаю.
Видимо, он был прав, потому что настрелял он уток в два раза больше, чем я. А у костра Ринат уже укладывал в мешок вытащенных Лёлькой из озера уток, на таганке висел котелок, в котором что-то клокотало и булькало, рядом с костром, на клеёнке, были разложены хлеб, зелёный лук и редиска, бутылка водки торчала горлышком вверх из воды рядом протекавшего ручья.
— Якши! — потирал руки Ринат, а увидев нас, весело пригласил: — Садись кушай! Жрать подано!
После того, как выпили и закусили, Агей, кажется, стал приходить в себя, а когда Лёлька подсела к нему, он даже её погладил.
— Что это с вами случилось? — спросил я его. — Вас было не узнать.
Агей улыбнулся, пожал плечами и ответил:
— А находит! Нервы ни к чёрту!
После второй он ушёл на озеро, долго там сидел, а когда вернулся, на лице его было выражение человека, вдруг решившего в чём-то открыться.
— Вы знаете, — сразу начал он, — только на природе, когда видишь, что ты в ней не больше, чём амёба, начинаешь понимать: не твоё это дело — искать в ней смысл, примерять её на свою колодку. Это только кажется, что мы и открываем её законы, и поднимаемся над ней, и даже делаем ей запреты. Нет, не мы в ней определяем своё место, она его определяет нам. А наше дело: разобраться в самом себе, найти себя в том, что она тебе определила. И хорошо, если ты это нашёл, хуже, когда, уже доживая свой век, вдруг обнаруживаешь: не там искал себя, не то делал. Вот я, …э-э, да что говорить! — махнул он рукой. — Жизнь прожита! А ведь всё, казалось, начиналось хорошо, — поднял он голос. — Не я ли, молодой человек, после университета ехал в этот Тупик — будь он трижды помянут в горькой истории нашего края, — сеять разумное, доброе, вечное? И что же? А ничего! Всё — как в яму. Разумного здесь, как я думаю, вы уже убедились, что у голого под мышкой: днём спят, а по ночам воруют с пилорамы лес. Вечного? Ах, боже мой! Да вы же видели: избы — сарай на сарае, пилорама — завтра сожгут, и концы, что воруют, в воду. Доброго? Да откуда же ему взяться, если все пьют, опускаются до свинства, тупеют, видят друг в друге только то, что скверно бросается в глаза. В посёлке есть Дунька Кривая, Машка Горбатая, но нет в нём Евдокии Ивановны или Марии Петровны. Недавно девочке кошка поцарапала глаз, мать по-пьянке прижгла его купоросом, понятно, девочка лишилась глаза. И что вы думаете? Теперь до последних дней своей жизни она останется Веркой Косой.
«Уж не та ли это девочка, что встретили мы на улице?» — сжалось у меня сердце.
А Агей, видимо, чтобы успокоиться, закурил, но тут же погасил сигарету и выбросил её в костёр.
— Впрочем, не в этом дело, — продолжал он. — Таких тупиков в России — что клопов на тюремных нарах, а таких дураков, как я, — хоть отстреливай. И чего ходил к вам! — зло рассмеялся он. — Ломал из себя интеллигента, поднимал большие темы, говорил высоким слогом, и ни слова — о посёлке. Словно нет в нём живых людей, и не ты там учил детей, и ничему толковому их не выучил. Нет, не выучил их ты, а значит, и ты приложил руку к тому, чтобы они и пили, и воровали, и жгли пилорамы, и ходили в Дуньках Кривых и Машках Горбатых. Не-ет, куда там! Я к вам! Мол, смотрите: Тупик — яма, отхожее место, но я-то не в ней, я чище и лучше, чем другие. Нет, — снова закурил он, — и другие не хуже тебя! Они хоть не ломаются, не строят из себя того, чего не стоят, они такие, какие есть. Э-э, да что говорить! — выбросил он и эту сигарету в костёр. — Ни к чему всё это! Жизнь прожита!
Наступило неловкое молчание. Я был растерян внезапным откровением Агея и не знал, что ему сказать. Ринат смотрел на него, как на незнакомца, только что вышедшего из тайги, а сам Агей, поднявшись от костра, ушёл к озеру. За ним убежала и его Лёлька.
— А я его понимай, — после долгого молчания сказал Ринат.
Провожать нас Агей не пришёл. Когда вертолёт уже был в воздухе, я увидел, как он вышел на крыльцо своего дома и долго смотрел в нашу сторону.
— Ой, как жалко Агейку! Ой, как жалко! — вздыхая, бормотал Ринат. — Сапсем дурак! Зачем Тупик жил? Зачем Дунька Кривой делал?
По зову сердца
I
Иван Иваныч Лукин, отработав на Колыме тридцать лет, вернулся во Владивосток. В нём он провёл свои молодые, полные здоровья и светлых надежд годы. Сейчас ему уже далеко за пятьдесят, здоровье он оставил на Колыме, а светлые надежды съели годы. Как и всем в его положении, чтобы жить и дальше, на помощь ему пришла способность облекать свою жизнь в несбыточные о ней представления, видеть себя не таким, какой ты есть, а каким бы хотел себя видеть. В центре города, на Светланской, осматривая бывшие купеческие особняки, он уносился с ними к началу строительства города, видел ползущие по улице конные повозки с красным кирпичом и деревянным брусом, а себя представлял каменщиком, стоящим на строительных лесах в белом фартуке и с мастерком в руках. На окраине, где сохранились сложенные из серого камня и уже покосившиеся и осевшие в землю низкорослые хибары, он видел себя иностранным туристом в том Шанхае, где узкоглазые хунхузы торгуют рисовой водкой и опиумом, слышал, как в грязных кабаках под аккомпанемент разбитых пианино поют русские шансонетки. На сохранившихся крепостных бастионах он представлял себя бомбардиром, стреляющим из пушки по окружившей город неприятельской эскадре, а у памятника борцам революции и героям гражданской войны на Дальнем Востоке, уже за пулемётом, он отражал белогвардейские атаки. В морском порту на снимающихся с якорей пароходах Иван Иваныч уходил в дальние плавания, в море боролся с ураганами и штормами, не раз тонул, но удачно выбирался на берег, где опять его, голодного и холодного, долго преследовали неудачи в поисках человеческого жилья. Конечно, в том, что приходило в голову Ивану Иванычу в городе Владивостоке, он никогда и никому бы не открылся. Лишь один раз, выпив с соседом, боцманом Козловым, он, как бы шутя, похлопав его по плечу, сказал:
— А я бы, боцман, с тобой и в море сходил!
И пожалел об этом.
— У вас что, на Колыме, все придурки? — не понял его боцман.
— Какие придурки? — не понял и его Иван Иванович.
— Такие! — ответил боцман. — Тебе в гроб пора, а ты в море собрался.
«И то правда», — подумал Иван Иваныч и на боцмана не обиделся. Какой из него моряк! Он и на Колыме никогда не был на видном положении. На это у него не было ни здоровья, ни твёрдости характера. Худой, ростом не выше подростка, он больше годился там, где решались мелочи производства. Большую часть жизни он проработал в снабженцах в небольшой геологоразведочной партии. Там, доставая геологам полевое снаряжение, он мотался по разным снабсбытам и чужим складам с дешёвыми неликвидами. И хотя начальник партии Матвеев часто говорил, что без Лукина он как без рук, Иван Иваныч ему не верил, считал, что это он так, для красного словца или просто от нечего делать.
Больше всего Ивану Иванычу нравилось выезжать с геологами в поле. Там он следил за нехитрым хозяйством партии и варил геологам обеды. Чтобы они были не на одной тушёнке, он ловил рыбу и стрелял куропаток. Геологи его за это хвалили и говорили, что без Ивана Иваныча они как без ног, потому что на одной тушёнке они бы их давно протянули. Он и геологам не верил, и в ответ им улыбался, как улыбаются дети, когда видят, что их обманывают ради забавы. Главным же, что тянуло Ивана Иваныча с геологами в поле, была природа. Рано утром, когда все ещё спали, он шёл в лес и наблюдал, как всё живое просыпается. Вот выпорхнула из травы и запиликала в кустах весёлую песню похожая на крошечного воробья пташка. Потом она взялась чистить клювом перья, а увидев сидящую рядом букашку, тут же её склюнула. Бурундук, продрав спросонья глаза, вспрыгивал на ветку стланика и начинал ловко грызть орешки. Куропатки уже паслись на бруснике, весело выбивали свои дроби дятлы, слышно было, как где-то за горой трубит лось. Вечером Иван Иваныч шёл на речку, наблюдал, как закатывается за гору солнце, слушал последние шорохи леса, видел, как в глубоких омутах укладывается на ночлег рыба.
В одном из полевых сезонов Иван Иваныч нашёл себе и подругу жизни. Звали её Настёной, лицо у неё было круглое, как у кошки, в глазах с прищуром таилось что-то похожее и на бабью доброту, и на лисью хитрость.
— Ваня, — спрашивала она Ивана Иваныча, — ты знаешь, за что я тебя люблю?
— За что? — не очень понимал Иван Иваныч.
— За то, что ты не такой, как все! — отвечала она. — Добрый и ласковый.
Вскоре она родила ему сына Стёпку. Не успел Стёпка ещё и подняться на ноги, она нашла себе другого. Этот тоже был не такой, как все: лупил её, как сидорову козу. Через год она бросила и его. С тех пор прошло много лет. Стёпка, вылитая мама, уже давно вырос, с матерью уехал на материк, но отца долго не забывал. Каждый год поздравлял его с днём рождения, а раз в два года приезжал в гости. Расходы на это Иван Иваныч брал на себя.
— А ты, папаня, — говорил ему Стёпка, — не такой, как все! Не жила!
— Как мать-то? — спрашивал его Иван Иваныч.
— Водки, зараза, много пьёт, — вздыхал Стёпка. — Ну, да кто её сейчас не пьёт? Все пьют! — говорил он в её оправдание. И, наверное, не только в её, но и в своё. Было видно, что выпить он и сам не дурак. Да и приезжал-то он к отцу, похоже, не ради него, а чтобы вволю и не за свои деньги погулять и попить со старыми дружками.
В последние годы брали геологи Ивана Иваныча с собой в поле, видимо, больше из уважения к нему. Хотя он всё так же готовил им обеды, ловил рыбу и стрелял куропаток, получалось это у него не так ловко, как раньше.
— Ты, Иван Иваныч, полегче, — говорили ему геологи, — куропаток-то мы и сами настреляем.
В последний сезон, уже перед пенсией, Ивана Иваныча стал мучить радикулит. Однажды, простыв, он к вечеру слёг, а утром не мог подняться. Лёжа в палатке, он слышал, как за ней, у костра, говорили о нём два геолога.
— Старина-то наш совсем сдал, — говорил один из них.
— Что поделаешь, — отвечал ему другой, — от старости никуда не денешься.
«И то правда», — подумал Иван Иваныч. Как любая неизбежность, старость его не страшила, боялся он одного: остаться больным и беспомощным. Ведь ходить-то за ним некому.
Через два дня геологи подняли Ивана Иваныча на ноги своим таёжным способом. В сухом галечнике они выкопали яму, прогрели её костром, а потом, накидав на дно стланика, уложили его в эту яму и укрыли одеялами. Когда Иван Иваныч пропарился в ней, как в бане, они запихали его в меховой спальник и дали спирту. Утром, когда Иван Иваныч проснулся, никакой боли в пояснице он уже не чувствовал.
Провожали Ивана Иваныча на материк весело и дружно. На собрании ему давали тёплые напутствия, дарили подарки: от администрации дали «Спидолу», от месткома — отрез на костюм. Вечером, за столом, пили за его здоровье, желали ему в новой жизни успеха, искренне жалели, что расстаются с таким милым человеком и добросовестным работником. Он даже слышал, как за этим столом начальник партии говорил своему соседу: «Ой, не знаю, что я теперь буду делать без Ивана Иваныча!» От такого внимания к себе Иван Иваныч не знал, что и делать. Ему хотелось всех обнять, каждому сказать доброе слово, а когда кто-то из женщин в конце своего прощального тоста всплакнул, и у него на глаза навернулись слёзы.
II
Как всё, что повторяется, становится серым и скучным, так и Владивосток, после года проживания в нём, потерял для Ивана Иваныча свою прежнюю привлекательность. Купеческие особняки на Светланской уже не возвращали его в начало строительства города, в узких улицах с осевшими в землю хибарами он видел только кучи мусора и стоки канализационных вод, на крепостных бастионах старинные пушки казались ему бросовым металлоломом, у памятника борцам революции и героям гражданской войны он чувствовал себя маленьким и никому не нужным человеком, в морском порту уже не уходил в плавания на пароходах, снимавшихся с якорей. Новые районы убивали Ивана Иваныча серым однообразием. На проспекте Столетия Владивостоку они были сложены из кирпичных пятиэтажек, больше похожих не на жилые дома, а на производственные здания. Казалось, внутри них стоят трактора, железные краны, токарные станки, идут сварочные работы, стучит паровой молот и гудят под потолком вентиляторы. На Нейбута в неразличимых друг от друга шлакоблочных коробках живут одинаково серые и невыразительные люди, они редко выходят на улицу, не знают своих соседей на площадке, в них течёт холодная кровь, и они никогда не радуются жизни.
Чем больше отталкивал от себя Ивана Иваныча город, тем он больше думал о возвращении на Колыму. Во сне он видел её в ярком осеннем разноцветье, наяву всё чаще вспоминал своих друзей и товарищей. Наконец, пришло время, когда от тоски по Колыме Иван Иваныч стал плохо есть и спать. Супы, которые варил он по утрам, казалось, отдавали несвежей рыбой, а постель стала жёсткой, как тюремные нары. Теперь он был готов на всё, чтобы только вернуться на Колыму. И он бы это сделал хоть завтра, да с пенсии не хватало на самолёт до Магадана денег. «А что, если пароходом? — подумал Иван Иваныч. — Ведь с грузом-то они туда ходят». И он решил поговорить об этом с боцманом Козловым. Узнав, в чём дело, боцман сказал:
— Не-е, вы там, на Колыме, и точно — все придурки! — А потом даже рассердился. — Чего тебе здесь-то не хватает? Баб? Так я найду! У нас в порту их навалом!
Однако он быстро отошёл, а когда выпили, сказал:
— Ладно! Как пойдём на Магадан, возьму тебя!
В дорогу Иван Иваныч насушил сухарей, набрал тушёнки, купил на всякий случай бутылку водки, и когда пришло время отплытия, он был готов к нему, как солдат к заранее намеченному маршу.
Море встретило Ивана Иваныча ласковой и голубой, как небо, волной и ярким, словно омытым родниковой водой, солнцем. За пароходом долго ещё не отставали чайки, они кружили за кормой, и когда Иван Иваныч бросал туда корки хлеба, они падали за ними камнем. Кругом было тихо, а стук двигателей, казалось, идёт не из машинного отделения, а снизу, из-под дна, словно кто-то стучал по этому дну деревянными молотками. Когда вышли на океанский простор, гребни волн, вздымающиеся на горизонте, стали похожи на белых барашков, за ними, казалось Ивану Иванычу, стоят коралловые острова с высокими пальмами на берегу и низкими из камыша и бамбука хижинами. Там, думал он, своя жизнь: мужчины на пирогах ловят рыбу, женщины на кострах её жарят, дети купаются в море и из песка строят игрушечные хижины. «Ах, как хорошо быть моряком!» — думал Иван Иваныч, полагая, что они-то на этих островах уже не раз побывали.
Ночью, когда Иван Иваныч вышел на палубу, ему показалось, что он очутился в мире, полном волшебных грёз и неразгаданных тайн. Там, где должен быть горизонт, мерцали огни, и трудно было понять: звёзды ли это ночного неба или сигнальные огни проходящих мимо пароходов. Луна была похожа на свежесрезанный арбуз, звенели высоко звёзды, а когда они падали с неба, мир Ивану Иванычу казался неразгаданным сновидением.
Всё изменилось при подходе к Магадану. В полдень на горизонте появилось похожее на дымку мутное облако, потом оно быстро разрослось в чёрную со свинцовой побежалостью тучу, а вскоре ударил ветер и разыгрался страшный шторм. Пароход стало бросать как щепку. При мысли, что ещё немного, и он опрокинется, Ивана Иваныча охватил страх. Теперь ему уже не казалось, как во Владивостоке, что если пароход опрокинется, то ему удастся выбраться на берег, где, голодный и холодный, он будет мужественно искать человеческое жильё. Чтобы успокоиться, Иван Иваныч решил выпить водки, но как только он сделал глоток, его тут же вырвало. Когда пароход подходил к Магадану, шторм утих, а Иван Иваныч был бледнее простыни, у него кружилась голова и подкашивались ноги. На прощанье они с боцманом Козловым распили оставшуюся у Ивана Иваныча бутылку водки.
— И зачем ты сюда припёрся? — не понимал боцман Ивана Иваныча.
— Умирать, наверное, — просто ответил Иван Иваныч.
— Ха, умирать! — рассмеялся боцман. — Да умереть-то и я могу!
— Ты, боцман, молодой, — ответил ему Иван Иваныч, — умереть, и правда, ты можешь, а я, старый хрен, умереть уже должен.
На палубе, обняв Ивана Иваныча левой рукой за плечи, а правой показывая на Магадан, боцман сказал:
— Ну, что, старина? Как говорят: родина, принимай блудного сына! Так, что ли?
Когда Иван Иваныч сходил с парохода, на пристань опускалась ночь, в окнах Магадана зажигались огни, их было уже много, и ему казалось, что перед ним не сам город, а его отражение в тёмных водах бухты.
III
Ночевать Иван Иваныч решил у Аплёткина, старого знакомого по снабсбыту. Встретил Аплёткин его в одних трусах, лицо у него было мятым, как спросонья, живот как у беременной бабы, на столе стояла недопитая бутылка водки и большая чашка с пельменями.
— А-а, Лукин! — обрадовался он Ивану Иванычу. — Вот не ожидал! Каким ветром?
А когда узнал, что побудило Ивана Иваныча вернуться на Колыму, он вытаращил на него глаза и спросил:
— Ваня, ты в своём уме?! Колымы-то уже нет — одно название!
И, когда сели за стол, рассказал Ивану Иванычу, что стало с Колымой. Оказывается, и на самом деле, всё на ней плохо: прииски закрываются, разведки ликвидируются, посёлки пустеют и разваливаются, народ голодает.
— А воруют! Ваня, как перед концом света! Тащат, что ни попадя! Начальство — по крупному, остальные — по мелкорыбице, — жаловался Аплёткин.
Выпив, он сплюнул под стол и сказал:
— Хватит об этом! Ты-то как?
— Как видишь, вернулся, — ответил Иван Иваныч.
Выслушав Ивана Иваныча до конца, Аплёткин заметил:
— Видно, правду говорят: родина не там, где горшки марал, а где лыку драл, — и вдруг, рассмеявшись, заявил: — А я, брат, Гегеля читаю!
— Да ну! — удивился Иван Иваныч.
— А вот и ну! — снова рассмеялся Аплёткин и добавил: — Башка у него — что надо! На мысли наводит!
А закурив и забросив ногу на ногу, неожиданно спросил:
— Вот ты скажи мне: что такое Россия?
«Эк куда его бросило!» — подумал Иван Иваныч.
А Аплёткин, себе же отвечая, продолжал:
— Россия — это маятник на часах всемирной истории! Вот ты смотри, Ваня, — выбросил он указательный палец в потолок, — что получается! Шарахнул маятник вправо — вот он, твой товарищ Сталин: боевые пятилетки, сплошная индустриализация, подъём экономики, гражданский порядок, гарантированный паёк, словом, передовая держава. А на другой стороне? А там ГУЛАГ, тюрьмы, шаг влево, шаг вправо — пуля! Ладно, пошли, Ваня, дальше. Шарахнул маятник влево — вот они, твои сегодняшние демократы! Понятно: развал страны, экономика на нуле, жрать нечего, а на другой стороне? А там: что хочу, то и ворочу! Ни тюрьмы тебе, ни лагеря! Гуляй, Вася, тащи последнее! А ведь заметь, Ваня, — снова выбросил Аплёткин указательный палец в потолок, — какой-нибудь там немец или француз всё это на ус мотает. Русские, говорят, дураки, но и научить могут: экономика у них хорошо — тюрем много, экономика плохо — тюрем мало. И берут, сукины дети, середину. И получается, Ваня, у них жизнь, а у нас опыты. И поэтому: им кренделя, а нам хрен да ля-ля! Не-ет, — закончил Аплёткин, — на нас, дураках, весь мир учится!
До своего посёлка Иван Иваныч добирался на попутке. Настроение у него было плохое: что стало с Колымой, зачем он сюда приехал?
— Дед, ты чего нос повесил? — увидев кислого Ивана Иваныча, рассмеялся шофёр. — На тебя посмотришь, и плакать хочется. Хоть ведро подставляй! — и, переключив скорость, процитировал Есенина: — «Жить нужно легче, жить нужно проще, всё принимая, что есть на свете». Вот так-то, дед! Тебя как звать-то?
Узнав, удивился:
— Ёшкин-бабай, так и меня Иван Иванычем зовут. Но ты, — предупредил он, — так меня не зови. Зови — просто Ваня. Ваня — и всё.
Лицо у Вани было по-ребячески открытым, волосы рыжие, нос лодочкой, и вёл он себя за баранкой так, как будто бы управлял не машиной, а скаковой лошадью. Прыгал на сиденье, как в седле, оглядывался назад на поворотах, а когда переключал скорость, казалось, это он плёткой подстёгивает свою лошадь.
— Дед, а ты знаешь, что такое бизнес? — спросил вдруг Ваня.
Иван Иваныч ответил.
— Ха-а, — рассмеялся Ваня, — ни фига ты, дед, не знаешь! Вот смотри! Мне говорят: Ванэ, — так меня в Магадане зовут, — ты нам сто километр, а мы тебе сто рубыл. И им хорошо: километраж для счёта, и мне неплохо: сто рублей на дороге не валяются. Вот это и есть бизнес!
Садясь в машину, Иван Иваныч обратил внимание, что кузов её пустой.
— А в путёвке-то у тебя что? — догадываясь, в чём дело, спросил он Ваню.
— В путёвке?! — расхохотался Ваня. — В путёвке мороженые ананасы, а в кузове, как видел, одно атмосферное давление.
«Похлеще, чем у Гоголя, — вспомнил Иван Иваныч классика. — У него мёртвыми душами торговали, а здесь атмосферным давлением». Было понятно: на этой афере кто-то гребёт большие деньги.
К посёлку Ивана Иваныча подъезжали вечером. Закатывалось солнце, в его косых лучах вершины сопок, поросшие ягелем, горели в яркой позолоте, в потемневшие распадки опускались сумерки, от одиноко стоящих вдоль дороги тополей бежали длинные тени. Конечно, Иван Иваныч ожидал, что молох развала Колымы не обошёл стороной и его посёлка, но то, что он увидел, ему показалось чудовищным и невероятным. На месте белокаменных пятиэтажек стояли полуразвалины, похожие на брошенные солдатами казармы. В пустых провалах окон стоял холодный мрак, из-за облупившейся штукатурки, как из старых дотов, выпирали остатки шлакоблоков и железных перекрытий, вокруг валялся битый шифер, колотый кирпич, осколки стекла и мусор. Красивые, с голубыми верандами, деревянные двухэтажки были разрушены до основания, и на их месте лежали груды не догоревших в пожоге брёвен и кучи кирпича от разрушенных печей. Не зная, отчего всё это, можно было бы подумать, что над посёлком прошла вражеская эскадрилья и сбросила на него все свои бомбы.
Остались в посёлке два трёхэтажных дома и на окраине его частные застройки. В первых жили те, кому бежать было некуда. Кормились они случайным заработком и пенсионной копейкой. В частных домах держались на охоте и рыбной ловле. На базе партии, в которой работал Иван Иваныч, осталась одна контора. Одноэтажная, с облупившейся штукатуркой, она была похожа на брошенный саманный барак. Геологов в партии уже никого не осталось, в конторе, в своём кабинете, сидел начальник партии Матвеев. Похудевший, с лицом землистого цвета, он был похож на мелкого служащего, всю жизнь просидевшего в прокуренном помещении. Встретил он Ивана Иваныча без обычной в таком случае радости.
— А чему радоваться-то! — сказал он. — Сижу, как на вокзале. Партия ликвидируется, остался я да сторож. Найду покупателя на контору, и нам с ним — по заду.
Узнав, что побудило Ивана Иваныча вернуться на Колыму, он сказал:
— Что поделаешь, видно, сердцу не прикажешь.
Вечером они сидели за столом в его квартире, выпив, с тёплой грустью вспоминали всё, что было у них раньше. Теперь им казалось, что это были лучшие годы их жизни и в памяти они останутся навсегда, как всё, что оставляет в ней не ум, а сердце. О том, что будет с ними дальше, они, словно приговорённые к бессрочной каторге, не говорили.
Уже готовясь ко сну, начальник партии, тяжело вздохнув, сказал:
— А ведь я тебе, Иван Иваныч, завидую. Умрёшь, так хоть там, где ты кому-то был нужен.
Ивану Иванычу начальника партии стало жалко. Он знал, что на материке его никто не ждёт, а здесь без работы или без пенсии не проживёшь.
Когда начальник партии, разделавшись со своей конторой, уехал из посёлка, жить Иван Иваныч остался в его квартире. Жизнь его стала похожа на жизнь старого солдата, служба которому была уже не в тягость. Утром он готовил на день еду, после завтрака читал всё, что мог взять у соседей, после обеда спал, а проснувшись, шёл в магазин за продуктами. За ужином он выпивал стопку водки, а после него, послушав радио, ложился спать. С тем, что жизнь его проходит в забытом людьми и богом захолустье, он давно смирился. Она его уже устраивала, и другой жизни представить себе он не мог.
В последнее время, когда не было дождя, Иван Иваныч стал ходить в лес. Там, как и раньше, с геологами в поле, он встречал утренние рассветы и провожал вечерние закаты. Казалось, всё было, как и прежде, но воспринималось это уже по-другому. Песни похожей на крошечного воробья пташки утром казались уже грустными, проснувшийся бурундук грыз орехи с неохотой, дятлы стучали в свои деревья не так бойко, в голосе трубившего за горой лося слышалась тревога. Всё не так было и вечером. Закатное солнце уже не было ласковым и тёплым, в шорохе засыпающего леса он слышал чьи-то глубокие вздохи, в речных омутах ему казалось, что рыбы не укладываются на ночлег, а погружаются в бесконечно длинную спячку. Иван Иваныч понимал, что всё это не так, природа какой была, такой она и осталась, просто он видит всё через своё уже старческое представление о жизни. Но это его не расстраивало. Здесь, в лесу, он чувствовал себя человеком, жизнь которого несуетливо и нетрудно завершается в уже давно желаемом отрешении от уходящего в небытие мира.
Дусина жизнь
К вечеру ударил мороз. Скованный им посёлок, казалось, осел в землю, разбросанный за ним лиственничный редкостой застыл в угрюмой отчуждённости, в распадках, затянутых тяжёлой мглой, ничего не стало видно, а когда в посёлке зажглись огни, он стал похож на заблудившуюся в речном тумане плавучую баржу. Дуся, сидевшая у окна, огня не зажигала. Ей казалось: сделай она это, и воспоминания, вернувшие ей детство, оставят её, и на их место придёт пустота, в которой, кроме безразличия ко всему, ничему не будет места. И хотя ей было уже шестьдесят три года, сейчас, в своих воспоминаниях, детство ей казалось таким близким, что всё, оставшееся от него: и первые ощущения взрослой жизни, и наполненные трудом и заботой зрелые годы, и внезапно наступившая старость, — были не её, а кого-то другого.
Когда началась война с немцами, Дусе было шесть лет, и всё военное лихолетье, оставленное в глухой сибирской деревне, казалось ей одной длинной зимой с воющими по ночам метелями и постоянным ощущением голода, от которого днём кружилась голова, а по ночам снились тяжёлые сны. В памяти об этих снах не сохранилось ничего, что содержало бы зримые очертания, всё, казалось, тонуло в чём-то похожем на топкое болото, окутанное серым туманом и холодной моросью. Иногда ей снилось, что она в этом болоте тонет, и тогда над ней кружили чёрные с кривыми крыльями птицы, и где-то далеко, видимо, на окраине болота, загорались огни и громко гудели колокола. Лишь один сон, не связанный с этим, сохранился в её памяти. Отец в белой не заправленной под ремень рубахе и новых яловых сапогах на высокой, похожей на татарский курган горе ошкуривал брёвна, а она сидела рядом и смотрела, как он это делает. Дом, что строил отец, подводился под последний венец. Стояло раннее утро, пахло сосновой смолой, с реки тянуло прохладой, в голубом небе играли стрижи и ласточки. И вдруг отец, словно его кто-то схватил сзади, выронил из рук топор, тяжело опустился на бревно и сказал; «А ведь мне, дочка, плохо». Дуся бросилась за водой, а когда вернулась, отца на месте не было. От этого сна она проснулась и долго не могла уснуть, а утром к ним принесли на отца похоронку. Мать, вскрыв её, сначала, кажется, ничего не поняла, а потом вдруг бросилась к двери, там у неё подкосились ноги, и, опустившись на колени, она уткнулась головой в косяк. Плечи её мелко, как от холода, задёргались, а когда, теряя сознание, она упала на пол, у неё, запомнила Дуся, неловко подогнулась под себя левая нога, а голова при падении ударилась о пол, как деревянная колотушка. Почтальонша, кривая Верка, начавшая было голосить, увидев это, сбросила с себя почтовую сумку и стала отваживаться с матерью, а младший брат Дуси, двухлетний Митя, проснувшись, стал громко плакать. Вскоре мать пришла в себя. Широко открытыми глазами она медленно осмотрела всех и, кажется, никого не узнала. Верка помогла ей подняться с пола и уложила её в постель, а Дуся, чтобы не орал Митя, сунула ему в рот тряпочку с нажёванным хлебом.
Мать долго болела, а когда выздоровела, стала совсем не той, что была раньше. Вечерами она подолгу сидела у окна и о чём-то всё думала, а когда к ней приставал Митя или о чём-то спрашивала Дуся, она долго не могла понять — чего от неё хотят. Перестала она, — когда они что-то не так делали, — и сердиться на них, но уже не ласкала их, как раньше. «Мама, ты почему такая? — не понимала её Дуся. «Какая?» — не понимала и её мать. Не зная, что ей сказать на это, Дуся спрашивала: «А ты нас любишь?» Мать торопливо отвечала: «Люблю, люблю», — и делала вид, что чем-то занята. Один раз, ответив так, она взяла оказавшееся под рукой Дусино платье и стала выжимать его как после стирки. «Мама, что с тобой?!» — заплакала Дуся. Тяжело посмотрев на Дусю, мать ничего не ответила.
До конца войны всё ещё было далеко, по-прежнему, завывая в трубах и стуча в окно, мели метели, на селе не было ни радио, ни газет, и о том, где идёт война — на своей или чужой территории, — больше узнавали из похоронок, откуда они приходили. В одну из зим пошли слухи, что по селу, по его заснеженным под окна улицам ночами в образе свиньи бегает оборотень, а днём под видом нищих ходят напускающие порчу на коров колдуньи. Говорили даже, что какой-то мужичок ночью эту свинью поймал и посадил в своём дворе на цепь, а когда утром проснулся, то увидел сидящую на цепи не свинью, а свою соседку. В это верили и старались ночью не выходить на улицу. А большой падёж коров начался с наступлением весны, когда кормить их стало нечем, в то же время в селе, как никогда, появилось много нищих. Все они говорили, что идут из города, где сейчас большой голод, но им не верили и гнали из села. Потом, когда уже совсем сошёл снег и открылись дороги, и в копнах сена, и в кустах, недалеко от этих дорог находили их трупы.
Окончилась война так же внезапно, как началась. Прискакал на коне из города тот же похожий на цыгана однорукий уполномоченный, он, как и раньше, был пьяным, но если тогда он кричал; «Война! Война!» — то теперь, слезая с коня, чуть не упал, а когда его поставили на ноги, выматерился и сказал: «Всё, курва, наша взяла!» На площади, у школы состоялся митинг. После него — все как сошли с ума: под звонкие, бог знает, откуда взявшиеся гармони плясали так, что, казалось, навсегда вбивали в землю своё военное лихолетье, обнимались и бросали вверх шапки, пели и плакали, а когда заголосили потерявшие в войну мужей бабы, казалось, всё, вместе с ними взятое, не выдержит и вместе с ними взорвётся.
Ну, казалось, теперь-то: живи — не хочу. Поднимай обездоленную войной землю, а она-то уж тебя прокормит. Так нет же: опять этот голодный сорок седьмой год! До него, в сорок шестом, весна была вялой, ледоход на Томи прошёл без половодья, а летом пошли такие дожди, что и света белого не стало видно. Затопив сенокосные луга, вздулась Томь, а когда на её берег у школы вынесло утопленника, старые люди стали говорить, что это к несчастью. В это поверили, а так как утопленник был ещё и голым, решили: будет неурожай. И правда: рожь, не успев налиться зерном, стала гнить на корню, а картошка, выдурив в ботву, не дала и ведра на сотку. Зимой ещё как-то держались, чтобы сэкономить на очистках, мелкую, как горох, картошку варили только в мундирах, а когда садились за стол, делили её поштучно, из ржаных отрубей делали лепёшки, из овсяных — варили кисели, от которых хоть и сводило рот, как от уксуса, но и они — не за каждым столом были. Настоящий, хуже, чем в войну, голод начался весной. Ели всё, что попадало под руку. Из крапивы, лебеды, картофельной и свёкольной ботвы варили баланду, а из прошлогодней, случайно оставшейся в совхозной земле уже гнилой картошки пекли тошнотики. От голода люди пухли, дети и старики умирали, как мухи по осени, и по ним, кажется, уже и никто не плакал. Голод сушил слёзы и превращал сердца в камни. Этой весной мать Дуси сошла с ума. Случилось это так.
В один из дождливых и уже поздних вечеров к ней пришла кривая Верка. Так как в голодном селе было не до писем, и по его адресу похоронок уже не слали, работала она теперь в сельпо уборщицей. Увидев её, мать испуганно вздрогнула и спросила: «А ты кого это за собой привела?» «Да никого», — ответила Верка. «Как никого?» — не поверила мать и, подойдя к Верке, стала подозрительно осматривать, что у неё за спиной. Делала она это очень осторожно, словно боялась, что тот, кто у Верки за спиной, может её ударить. Не обнаружив там никого, мать успокоилась, но ненадолго. Вскоре, подойдя к окну, она постучала в него кулаком и зло крикнула: «А ну, иди отсюда!» И, успокоившись снова, сказала Верке: «Я ведь за Митю боюсь. Уведут, а потом и ищи». «Тётя Надя, — расплакалась Верка, — да кто ж его уведёт?» «А то некому!» — ответила мать и, подойдя к Митиной кровати, укрыла его собой от Верки. Дуся так перепугалась случившегося, что не спала всю ночь. А когда в полночь началась гроза, в освещающих избу её всполохах она видела, как мать, пряча под одеяло Митю, всё грозила кому-то в окно. Утром она не вышла на работу, а Митю не пустила на улицу. Вскоре она стала прятать его и от Дуси. Прятала она его под кровать, а когда Дуся входила в дом, спрашивала: «А ты не знаешь, где это наш Митя?»
Из города, куда сообщили о матери, приехали за ней два санитара. Оба они были крепко сложены, с толстыми, как у мясников, лицами и по-охотничьи в высоких сапогах. Телега, на которой они приехали, специально была оборудована под перевозку умалишённых. Сзади её помещалась из толстого тёса будка, на дверях была с замком железная решётка. Когда мать в неё вталкивали, она вырывалась из рук санитаров и звала Митю. Им, двум здоровым мужикам, втолкнуть её в будку ничего не стоило, и поэтому делали они это ловко и даже весело, но когда одного из них, вырываясь, мать укусила за руку, он так ударил её по лицу, что у неё из носа потекла кровь. «У-у, падла!» — выругался он и, захлопнув за ней решётку, закрыл её на замок. Лошадь санитары сразу пустили в галоп, и пока не выехали за село, мать билась в будке и кричала, а Дуся бежала за ней и плакала.
Оставшись с Митей, Дуся не знала, что делать. Кормить его было нечем, и у него скоро начали опухать ноги. Он всё больше лежал и жаловался, что у него кружится голова. Есть он просил только в первые дни, а потом и это перестал делать. Лицо его стало восковым, глаза впали, а под ними появились чернильного цвета тени. «Дуся, а ведь он умрёт», — со слезами на глазах говорила Верка. Один раз, вечером, она принесла ему хлеба. Когда Митя, жадно глотая, ел этот хлеб, она гладила его по голове и плакала, а через два дня за ней приехал милиционер и увёз её в город. Оказывается, хлеб, которым Верка кормила Митю, в тот день она украла в сельпо. От булки, которую она там украла, хлеба она дала не только Мите, но немного и Дусе.
Судили её в селе, в одном из классов школы. Всем её было жалко, и поэтому в суде народу было много. Верка всё время плакала, от чего лицо её опухло, а тот глаз, что видел, стал похож на коровий. «Я для Мити», — жалобно говорила она, а когда прокурор спросил, ела ли она сама этот хлеб, Верка, опустив голову, созналась: «Ела». Прокурор своим большим носом и гривой рыжих волос на голове был похож на льва, всех, кто ни пытался сказать слово в защиту Верки, он грубо обрывал, а когда обращался к уличившей Верку в воровстве продавщице сельпо, она вздрагивала, как от удара. По её выходило, что украла Верка не одну булку хлеба, а пять. Прокурор ей поверил, признал Верку большим расхитителем государственного добра и, видимо, не разобравшись в том, что лицо её опухло от слёз, в заключение своей обвинительной речи сказал, что она на краденом хлебе ещё и отъела харю. Дали Верке десять лет.
Дуся совсем отчаялась. Митю кормить стало совсем нечем, он, лёжа в постели с опухшими ногами, всё больше молчал, и если бы не соседка, баба Маня, он бы обязательно умер. Тайком от своего деда она стала приносить ему жмых из конопли. Жмых был крепким, как камень, и поэтому, чтобы накормить им Митю, она толкла его в ступе и делала из него кашицу. Где уж её дед доставал жмых, Дуся не знала. Митю подняли, но тут пришла вторая беда: его стали заедать вши. Сначала они появились в голове, а потом усеяли и рубаху. Много их было и на поясе штанишек, особенно на внутренней у живота стороне. От того, что Митя постоянно чесался, на голове и животе у него появились коросты. Дуся знала, что избавиться от вшей можно только прожаркой Митиной одежды, а голову надо как можно чаще мыть с мылом. Она жарко растопила печь, развесила над ней Митину одежду, а так как мыла у неё не было, решила выбить на его голове вшей с помощью кухонного ножа. Найдя в голове вшу, она подпихивала под неё остриё ножа и убивала её ногтем большого пальца. Когда нечаянно она затрагивала коросты, Митя плакал, а она говорила: «Ты, Митя, не плачь, тебе потом будет легче». Митя всё равно плакал, и, наконец, не вытерпев этого, Дуся его отшлёпала. Митя заревел ещё громче, и Дуся, не зная, что делать с ним, тоже расплакалась. И в это время раскрылась дверь и в избу вошла немолодая женщина с большим узлом в руках. Дуся её сразу узнала: это была тётя Катя, родная сестра матери. К ней, вместе с матерью и отцом, ещё до войны, они ездили в гости. Жила она тогда в деревне Есаулке, на пригорке которой, в центре, как запомнила Дуся, стояла деревянная церковь, за ней ниже лениво протекала речка, которую тоже звали Есаулкой, на другом берегу этой речки зеленели луга, потом шли березняки, а уж за ними стояла окутанная сизой дымкой тайга. По деревне всегда ходили толстые и, как снег, белые гуси, в дорожной пыли купались похожие на серых мышек воробьи, поодаль от дороги, на зелёных лужайках бегали жёлтые цыплятки, за которыми зорко следила мама-курица. Собаки в деревне были не злыми, при встрече они ласково махали хвостами и норовили лизнуть руку.
Тётя Катя тогда Дусе очень понравилась. У неё были круглые с ямочками щёки, смешной, на пуговку похожий нос, а когда она подтрунивала над дядей Костей, своим мужем, казалось, в глазах её прячутся два весёлых фонарика. Дядя Костя понарошку на неё сердился, делая вид, что хлопает её по заднице, а она над ним тогда весело смеялась. Дусю она по утрам поила молоком, а вечером кормила ватрушками со сметаной.
Увидев голого Митю и плачущую с ним Дусю, тётя Катя кинулась их успокаивать. Митю она взяла на руки, а Дусю стала гладить по голове. «Милые вы мои!» — плакала и она, а когда успокоилась, сняла с рук Митю и, развязав узел, достала из него гостинцы. Это были мешочек картошки и полный туесок мёда. Дуся с Митей бросились на мёд. Мёд был густой, и Митя, не дождавшись, когда ему дадут ложку, стал макать в него пальцы и жадно их облизывать. Видимо, кроме туеска с мёдом он вокруг себя ничего не видел. Вскоре и руки, и лицо, и даже живот у Мити оказались в мёде. Когда Дуся посмотрела на него, её разобрал смех. «Ты чего?» — не поняла её тётя Катя. «У Митьки, — смеялась она, — пипка в мёде». От этого вдруг всем стало весело. «Ой, Митенька», — смеялась тётя Катя и утирала слёзы, Дуся закатывалась ещё звонче, а у голого Мити от смеха дёргалась вымазанная в мёде пипка.
Не успели отсмеяться, как запахло палёным. Кинулись к печке, но было уже поздно: Митины штаны горели. Увидев это, Митя перестал смеяться и вдруг, широко раскрыв рот, громко заревел. Горели его последние штаны, других у него не было, а значит, и улицы ему теперь не видать. Успокоился Митя, когда тётя Катя пообещала ему из узла, в котором она принесла гостинцы, сшить новые штаны.
Прервал Дусины воспоминания о детстве стук в окно. Выйдя на улицу, она там никого не увидела. «Показалось», — подумала она, но когда решила вернуться в дом, услышала за спиной: «А ты погоди». Стоял за спиной сосед Фёдор, известный в посёлке любитель выпить за чужой счёт. Было ему, как и Дусе, уже за шестьдесят, в свои годы он успел стать лысым, а за то, что в последнее время лицо его, и до того рыхлое, обрело бабье выражение, его в посёлке звали Федорой. Однако это не мешало ему при разговоре с бабами делать вид, что с каждой из них он на короткой и только им известно какой ноге, и чтобы подчеркнуть это, он, как бы незаметно для других, всякий раз им подмигивал. Бабы его за это не терпели, а мужикам он не нравился тем, что в компании, когда выпивали, никому не давал слова. «А ты слухай!» — перебивал он, зачем-то ломая язык, а если собеседник всё-таки продолжал говорить, он, выждав у него паузу, спрашивал: «Ну, и что?!» Так как ответить на такой вопрос сразу было трудно, собеседник умолкал, а Федора, взяв инициативу разговора в свои руки, всегда городил такое, что трудно было понять: валяет ли он дурака, или по правде у него с головой плохо. Если же его всё-таки кто-то перебивал, он, выждав свою паузу, снова кричал: «А ты слухай!» — и начинал всё сначала. Словом, всё было, как в том анекдоте: собрались десять умных и один дурак, и силы были равными.
«Чего в окно-то стучишь?» — недовольно спросила Дуся. «Ай, напужал?» — рассмеялся Федора. Ничего не оставалось, как впустить его в дом. Выпив рюмку водки, он подмигнул и Дусе, а потом, рассмеявшись, спросил: «Бабка, ты как кумекаешь, Бог есть?» «Не поздно ли ты вспомнил о Боге?» — хотела спросить Дуся, но раздумала: болтает-то так, от нечего делать. А Федора, не ожидая от неё ответа, уже говорил о том, что того Бога, которому верят все, придумали дураки, а у него Бог свой, и он, Федора, до какого-то только ему известного дня трёх больших вавилонов никому его и ни за что не откроет, и день этот, выходило по нему, совсем не за горами, рядом, и когда он придёт, все, кроме Федоры, запоют Лазаря. «Помело — оно и есть помело», — слушая его, думала Дуся.
А сама Дуся до сих пор не знала: верит она в Бога или нет. Бог, о котором она вычитала в Библии, ей не понравился. Если он всё может, думала она, и доброта его безгранична, то почему же так много кругом несчастных? Если это за неверие в него, то отчего бы ему, без участия которого и волос с головы человека не падает, не сделать всех сразу от рождения верующими? Нет же! Взять хотя бы того же Федору. Голова — что твоё куриное яйцо, а всё равно придурок: и о Боге несёт что попало, и чужие рюмки сшибает. А иногда Дусе казалось, что Бог есть, но он совсем не такой, каким его придумали люди. В её представлении, придумать настоящего Бога нельзя, потому что настоящий Бог не с нами, а над нами, вне нашей жизни, и если он управляет людьми, то совсем не так, как это записано в Библии, не человеческим разумом и не его руками, а по-другому, по-своему, а как — этого никто никогда не узнает. А так как верить в Бога, которого ты и представить не можешь, всё равно, что и не верить в него, выходит, и он — одна её, Дусина, выдумка. Возможно, поэтому она ещё не раз обращалась к Библии. «Кто знает, — думала она, — может, не так читаю? Не то в ней вижу?» Перестала она так думать, когда прочитала «Откровение Апостола Иоанна». По нему выходило, что придёт время, и на всех неверующих Бог пошлёт семь чаш своего гнева. Уже с первой из них падёт на землю град, смешанный с огнём и кровью, и треть того, что живёт на ней, сгорит, а со второй — уже и моря превратятся в кровь, и всё там вымрет, а уж со следующей чашей — какая-то огромная звезда так упадёт с неба, что и в речках ничего не останется. На другие чаши Дуси не хватило. «Господи, — думала она, — всех-то за что? Ну, людей — это понятно. Они погрязли в своём неверии. А зверей лесных, а птиц, а рыб-то за что? Они-то в чём провинились перед тобой? А ведь и они — твои твари!»
А Федора, уже допив Дусину бутылку, пьяно мотал над столом головой и всё нёс про своего Бога. «Ему, — тыкал он в потолок пальцем, — всё известно!» «И когда тебя унесёт!» — сердилась на него Дуся, но Федора уходить не собирался. От Бога он перешёл к земному, главным образом, к себе, и по его словам выходило, что жизнь у него сложилась совсем не так, как бы он хотел. С женой ему не повезло, потому что она дура, дочь, которую он пять лет назад выдал замуж, тоже оказалась дурой, потому что своего Ваську, такого же, кстати, как и она, дурака, недавно бросила, и сосед, оказывается, у него тоже был дураком. «Все дураки! — кричал он, а увидев, что Дуся всё ещё сидит перед ним, зло добавил: — И ты дура!» Дуся на него не обиделась: на дурака обижаться — сам дураком станешь. Наоборот, ей Федору было жалко. И не потому, что он в пьяной жалости к себе уже хлюпал носом, нет, просто она в своём возрасте хорошо знала: несчастлив тот, кто и в старости не понял, что любая жизнь — это радость. Взять хотя бы и её военное лихолетье. Разве не было и в нём хорошего? Было. И чтобы вспомнить его, надо, как понимала она, обратиться не к той памяти, что сохранил ум, а к той, что оставило сердце. Мешал ей это сделать пьяный Федора. От своих дураков, видимо, он снова решил вернуться к Богу. «Бабка, — опять спрашивал он, — ты как кумекаешь. Бог есть?» Ушёл Федора от неё уже далеко за полночь.
А сердце Дуси из военного лихолетья сохранило много. Вот она за рекой с Митей. Они рвут черёмуху, над ними голубое и такое глубокое небо, что, глядя на него, кружится голова и захватывает дыхание, а солнце, — оно совсем рядом, и так ласково играет над ними, что хочется достать его рукой и погладить, и кругом тихо, и лишь иногда лёгкий ветерок, сорвавшийся с водной глади реки, вдруг пробежит по верхушкам черёмух и тут же где-то рядом спрячется, и снова тихо, и опять: это голубое небо и ласковое, похожее на цветущий подсолнух, солнце. Митя черёмухи уже наелся и, свернувшись калачиком, спит на пригретом солнцем пригорке, Дуся, выйдя к реке, любуется её зеркальной гладью, а когда над рекой начинают кружить ласточки, ей кажется, что и она, вместе с ними, так же легко и красиво то падает в воду, то, словно подхваченная ветром, взмывает вверх, высоко в небо. Домой они с Митей идут с полным лукошком черёмухи, а мать, встретив их у калитки, ласково говорит: «Кормильцы вы мои милые». В этой же черёмуховой роще Дуся была без Мити уже поздней осенью. Небо было таким же голубым, но уже не казалось, как в тот день, бездонным, земля, отдавая накопившееся за лето тепло, затягивала его серой дымкой, солнце было прохладней и уже не походило на цветущий подсолнух, стояла такая же тишина, но не тронутая, как раньше, шелестом черёмуховых листьев, она, казалось, останется здесь навсегда, даже зимой, когда где-то будут гудеть вьюги и играть метели. И вдруг из глубины рощи, словно из другого мира, донеслась до Дуси звонкая и, как показалось ей, полная печали песня. Пела девушка, пела она о любви и о море, о белокрылых чайках и коралловых островах, и о своём далёком возлюбленном, а когда кто-то ей крикнул: «Э-эй!» — и песня смолкла, Дусе стало грустно. В тот день вечером, уже засыпая, Дуся, наверное, впервые в жизни подумала, что и у неё когда-то будет своя любовь. От этого сладко защемило сердце, но она тут же себя одёрнула: думать так в её возрасте — и смешно, и стыдно.
И ещё запомнила Дуся, как она уже зимой каталась с горки на санках. Санки тогда были не такие, как сейчас — не на металлических полозьях, не с аккуратным сиденьем и удобной спинкой, а делались они из обрезка доски, снизу обмазывались коровьими лепёшками, потом поливались водой и морозились. Назывались они не санками, а салазками. На таких салазках, пока скатишься с горы, не раз кувыркнёшься и так накрутишься вокруг себя, что внизу, когда встанешь на ноги, кажется, и земля, и небо вместе с тобой куда-то падают, а потом долго-долго кружатся. Катались обычно вечером, когда сумерки уже окутывали землю, а на небе появлялись первые звёзды. У Дуси перед тем, как ухнуться с горы на своих салазках, от страха останавливалось сердце и захватывало дух, а когда она летела с горы, казалось, что там, внизу, где было уже совсем темно, её кто-то обязательно схватит за ногу и унесёт с собой в тот чёрный лес, что стоит за замёрзшей речкой. Конечно, никто её за ногу не хватал и, скатившись вниз, она оборачивалась лицом к этому лесу и кого-то в нём дразнила: «Ну, хватай, хватай!» Возвращалась домой Дуся поздно, когда уже на небе было много звёзд и висела над её головой луна. Звёзды ей казались мохнатыми светлячками, а луна ласковой кошкой. Кругом было так тихо, что если бы не свет в окнах, можно было бы подумать, что деревня уже давным-давно уснула. А свет так тепло и мягко падал из окон, что Дусе казалось: живут за ними очень добрые люди, они довольны своей жизнью, сейчас, после трудового дня, они пьют чай с вареньем и мирно беседуют. И у неё, думала Дуся, жизнь будет такая же добрая и хорошая, как и у этих людей.
Конечно, такой жизни у Дуси не получилось. Да и у кого она бывает такой? У каждого она своя, и, главное, не важно — какая она, важно, что ты сам в ней видишь. Один в своей жизни видит только хорошее, другой в ней ничего не видит, а третьему что ни дай, всё плохо. Взять хотя бы того же Федору. Ему ли, казалось бы, ругать свою жизнь и искать в ней только дураков? Жена — не ему чета: добрая и умная баба, дочь ушла от мужа, потому что он за всю их совместную жизнь не вбил ни гвоздя в своём доме, и сосед хороший мужик: живёт тихо, мирно, никому не мешает. А по Федоре, они все дураки. Видно, правду говорят: дурак всегда рядом, если того хочешь. И не спился бы, наверное, этот Федора, не выдумывал бы своих вавилонов, после которых, кроме него, все будут петь Лазаря, если бы видел в своей жизни хотя бы то, что есть в ней на самом деле.
Нет, в своей жизни Дуся ни искать крайних, когда ей не везло, ни заноситься с удачами, если они были, не хотела. А чего только в её жизни не было. Через год после того, как тётя Катя, забрав с собой её и Митю в Есаулку, выкормила и поставила их на ноги, Дуся уехала в город, поступила там на геолога в техникум, а по окончании его была направлена сюда, на Крайний Север. Перед тем, как уехать, она ездила к тёте Кате и до слёз там расстроилась. Дядя Костя, её муж, оказывается, недавно умер, сама тётя Катя постоянно болела, и жили они с Митей бедно. Уезжая от них, она вместе с ними опять плакала и обещала, что с Севера будет слать им деньги. А на Севере её встретили хорошо: устроили в общежитие, дали работу, которая ей нравилась, а узнав про то, как плохо живут тётя Катя с Митей, выделили Мите специальное пособие. «За что?» — не поняла Дуся. «Как за что?» — не понял и её начальник экспедиции. — А в техникуме тебе за что стипендию платили? За красивые глаза?» А парторг на неё даже рассердился. «Ты что, Евдокия, — строго спросил он, — не знаешь, в какой стране живёшь?» А ведь и правда: это у них, у капиталистов, каждый за себя, а у нас все за одного и один за всех. Вырастет Митя, и он свои деньги не в кубышку будет прятать, бедным помогать будет.
Устроили Дусю в геолого-съемочный отряд. Теперь она вместе с геологами ходила по тайге, сплавлялась по речкам, ела из одного с ними котелка и спала с ними в одной палатке. Последнего Дуся не боялась. Она видела; геологи — народ хоть и озорной, но просто так, ради потехи, её не тронут. Да и получилось-то всё наоборот: не они на неё первыми посмотрели, а она из них выбрала самого, как ей казалось, красивого. Случилось это в первый же сезон их работы, и тогда Дуся поняла, что любовь — её только долго ждут, а приходит она внезапно. Звали его Мишей, у него были такие голубые глаза, что, глядя в них, казалось: или ты плывешь в высоком, как в ясный день, небе, или опускаешься на дно глубокого моря, и тебе не страшно, потому что и небо это, и море — они твоя новая жизнь, счастливая и долгая-долгая. «Миша, — смеялась Дуся, — у тебя почему глаза такие?» «Потому, что ты такая», — отвечал ей Миша и так её крепко целовал, что у неё долго болели губы.
По окончании полевого сезона они зарегистрировали в поссовете свой брак. В общежитии им дали отдельную комнату, и зима для них, оставленных в счастливом уединении, прошла как один день, а весной Мишу призвали в армию. Попал он в Белоруссию, сначала в полковую школу, а из неё в артиллерийский полк командиром отделения. Из армии он писал о том, что служба у него идёт хорошо, начальство им довольно и обещает скоро дать ему на десять дней отпуск. Дуся его ждала, но начальство давать отпуск не торопилось, а когда прошло лето и наступила зима, она получила из части сообщение о том, что её Миша, гвардии сержант Олейников, погиб при исполнении служебных обязанностей. В письме с этим сообщением лежал литер на бесплатный проезд на Мишины похороны. Жизнь для Дуси потеряла всякий смысл. Всё стало безразличным, и жить или не жить — ей было уже всё равно.
О том, как погиб Миша, рассказал ей командир части. На артиллерийском складе ночью случился пожар. Часовому, когда начали рваться снаряды, оторвало ногу, и Миша бросился ему на помощь. Добежать до него он не успел. Осколком снаряда от нового взрыва ему пробило грудь. Часового спасли, а Мишу из-под рвущихся снарядов вынесли мёртвым.
Как хоронили Мишу, Дуся помнила плохо: всё было как в тяжёлом сне. У гроба его стояли солдаты с ружьями, прощаясь с ним, колонной по одному, шли другие, с непокрытыми головами солдаты, играл траурные мелодии духовой оркестр, пахло хвоей, и было душно. На кладбище офицеры произносили речи, полковое знамя, что принесли сюда, хлопало от ветра, мело снегом. Дуся ни там, в помещении, где с Мишей прощались солдаты, ни здесь, на кладбище, не плакала. Её как будто сковало, и всё, что происходило вокруг, казалось ей тяжёлым и ненужным. И только когда Мишу стали опускать в могилу, она, не помня себя, вдруг закричала и бросилась за ним. Её удержали и дали каких-то капель.
Ночевала Дуся у командира части. Она запомнила, как жена его, ухаживая за ней, всё просила: «А ты, милая, поплачь». А Дусю опять — как сковало. И тогда командир части налил ей водки. Что было потом, она помнила плохо. Видимо, плакала она, когда её укладывали в постель, плакала с ней и жена командира.
Вернулась Дуся в экспедицию, и на первых порах ничего в ней её не трогало. По-прежнему всё было безразлично. Работа стала неинтересной, друзья, принявшие участие в её горе, казались все одинаковыми и её утомляли. Она стала искать уединения. После работы шла домой, готовила ужин, а поужинав, садилась к окну, смотрела в него, но, кажется, ничего за ним не видела. В первое время, когда к ней кто-то стучал в дверь, она вздрагивала, словно стучал это в дверь её Миша. Потом и это прошло. Постепенно и живой образ Миши стал стираться в её памяти, а тот, что она запомнила, когда он лежал в гробу, казался уже чужим. Дусю это пугало, но когда она брала Мишину фотокарточку и смотрела на неё, она видела его вновь живым, каким провожала в армию. А провожали его весело. Играла гармонь, пели песни, смеялись и плясали, а кто-то, увидев у Дуси на глазах слёзы, звонко крикнул: «Горько!» Все рассмеялись, а потом заставили их с Мишей, как на свадьбе, целоваться. Кто тогда думал, что Миша не вернётся.
Наконец, пришла весна, и геологи стали собираться в поле. Дуся не знала, что делать: ехать ей или нет. Она не представляла, что там будет делать без Миши. Геологи её всё-таки уговорили, и лето она провела с ними в тайге. Там, на природе, и в уединении с ней, и на тяжёлых с геологами маршрутах, она стала приходить в себя, а когда вернулась с поля, обратила внимание, что и наедине с собой, в своей комнате, стала меньше думать о Мише. Об одном жалела она: не осталось у неё от него ребёнка. Но что поделаешь: жизнь — есть жизнь, она не спрашивает, что тебе надо, и не выстилает заранее дороги.
Последующие за этим несколько лет жизни у Дуси были, как один к одному, похожи друг на друга. Сейчас ей казалось, что их как будто бы и не было. Лето — в поле, зима — на камералке, и так до того дня, когда к ней в гости приехал Митя. Ах, как она ему обрадовалась! Он уже окончил высшее мореходное училище, на нём была новая флотская форма с лейтенантскими погонами и большой, похожей на краба, кокардой на фуражке. На практике он уже побывал за границей и Дусе оттуда привёз кашмилоновую кофту, а начальнику экспедиции в благодарность за помощь им с тётей Катей, когда они бедствовали, нейлоновую рубашку и курительную трубку с гаванским табаком. Вечером начальник экспедиции пришёл к ним в гости. Господи, как тогда Дусе было хорошо! Митя, вылитый отец, с таким же живым лицом и, как у него, похожими на зелёную смородину глазами, за столом был весел и сразу нашёл общий язык с начальником экспедиции. Звали его Алексеем Ивановичем, у него были смешные в верёвку толстые усы, густые, сросшиеся на переносице брови и, как у греков, прямой нос. В то время профессии моряка и геолога были самыми, как сейчас говорят, престижными, и, конечно, Митя с гордостью рассказывал о своей службе, а Алексей Иванович — увлечённо о своей работе. Мите, наверное, казалось, что профессию свою Алексей Иванович хочет выставить в лучшем виде, чем его, и согласиться с ним он, конечно, не мог. «Алексей Иванович, — горячился он, — вот вы говорите: экспедиция, а корабль — не экспедиция?» «Экспедиция, — улыбался в ответ Алексей Иванович, — только я в ней ни бум-бум». И Митя объяснял ему, что такое современный корабль. Оказывается, это не просто судно, на котором кроме дизелей да палуб ничего нет. На настоящем корабле, начиная с его трюмов и кончая надпалубными постройками, оказывается, всё напичкано такой сложной аппаратурой, что одному человеку разобраться в ней просто немыслимо. В том, что говорил Митя, Дуся ничего не понимала, и она улыбалась, когда он забрасывал Алексея Ивановича своими смешными дедвейтами, твиндеками и лагами. А Митя уже так разошёлся, что от своих кораблей перешёл к техническому прогрессу, как к тому, в чём человечество найдёт общие интересы и смысл существования. Алексей Иванович к этому прогрессу относился осторожнее. «Так это или не так, — отвечал он Мите, — мы не знаем, но если будем думать, что это не так, лучше не будет». И приводил примеры, когда от этого технического прогресса лучше людям не было. Дусе казалось, что Митя более прав, и поэтому Алексея Ивановича ей было жалко. А, может быть, и не только поэтому: недавно у него умерла жена и оставила ему двух сыновей, старшему из которых не было и десяти лет. Легко ли ему одному с ними!
Расстались Митя с Алексеем Ивановичем друзьями. Оставшись одни, Дуся с Митей стали вспоминать своё детство. Дуся при этом плакала, а Митя много курил. Потом Митя рассказал, как он съездил к тёте Кате в Есаулку. Год назад ей сделали операцию, прошла она удачно, теперь у неё всё хорошо, и Дусю она просила денег ей больше не посылать: огорода и козочки, которую она недавно завела, на жизнь ей с пенсией вполне хватает. Быв Митя и в своей родной деревне. Баба Маня, что спасла Митю от голодной смерти жмыхом, умерла, а кривую Веру в 53-м, как умер Сталин, освободили. Когда Митя за всё, что она претерпела за него в лагере, встал перед ней на колени и поцеловал руку, она так расплакалась, что долго не могла успокоиться. Рассказывая об этом, Митя курил и всё смотрел в окно, как будто там можно было что-то увидеть в уже давно наступившей ночи.
Митя уехал, а Дуся вскоре вышла замуж за Алексея Ивановича. Нельзя сказать, что сделала она это по любви к нему. Нет, хотя со смерти Миши прошло уже много лет, она его не забыла, и ей казалось, что он — и первая, и последняя её любовь. А Алексей Иванович ей просто нравился. У него был добрый и ровный характер, отличался он серьёзным отношением к жизни, любил своих детей, и на работе как только хорошо о нём никто не отзывался. Ну, и что ж, что он намного её старше. И не с такой разницей живут люди. Сейчас-то Дуся понимала, что вышла она замуж за Алексея Ивановича, нельзя сказать, что из одной жалости к нему, хоть, наверное, и не без неё, но, главное, сделала она это, чтобы и самой найти себя в заботе о ком-то близком. А забот-то оказалось как раз столько, что на другое её уже не стало хватать. Младший сын Алексея Ивановича, Ванечка, пошёл в школу, в первый класс, и сразу стал приносить двойки. Дуся бросилась на первое родительское собрание. Учительница Ванечки, как говорили в школе, носила звание заслуженной, но Дусе она не понравилась. Уже далеко немолодая, небольшого роста и нахохленная, как клуша, она на всех смотрела снизу, но так, что казалось, она тебя при этом в чём-то осуждает. Губы у неё были мокрые и толстые, и когда она говорила, хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать, как она шлёпает губами. Детей она, похоже, делила на недоразвитых и умных, и середины у неё здесь не было. «Будь я хоть трижды заслуженная, — шлёпала она губами, — но если ребёнок недоразвит, умного я из него не сделаю», — и так при этом смотрела на Дусю, как будто её Ванечка и есть тот недоразвитый, которых она имеет в виду. Вечером Дуся обо всём рассказала Алексею Ивановичу, и вскоре Ванечку перевели в параллельный класс. Дела у него в этом классе пошли лучше, но тут навалилось новое горе. Старший, Коля, ходивший уже в пятый класс, научился курить. Дуся понимала, что делает он это по своей детской глупости, но ведь с таких глупостей всё и начинается. Не успеешь и глазом моргнуть, как Коля пристрастится к этой гадости, а потом его ничем от неё не отучишь. Она решила поговорить с ним. Выслушав её, Коля сказал: «Не скажешь папке, что курю, брошу». Алексею Ивановичу Дуся ничего не сказала, хотя как пообещал Коля бросить ей курить, ей не понравилось. По нему выходило, что своими слабостями ещё и торговать можно. Не дай бог, это станет его привычкой!
А оно так и получилось. Уже после девятого класса, никуда не поступив дальше, он пристрастился к водке. Когда Алексей Иванович стал его за это ругать и требовать, чтобы он бросил пить, в ответ услышал: «Купишь машину, брошу». А дальше — ещё хуже: случилось такое, что Дусе и в голову не могла прийти.
Уже давно ходила к ним бабушка, которую в посёлке все звали Пуговкой. Видимо, звали её так за то, что лицо у неё, по-мордовски круглое и размером не больше чайного блюдца, с маленьким носом и острыми глазками, и на самом деле было похоже на пуговку. Была она непоседливой, простой и доброй, жила с четырнадцатилетней внучкой Леночкой, родители которой давно умерли. В своём возрасте она ещё многому удивлялась, словно видела это впервые. Когда в грозу на небе сверкала молния, она хватала Дусю за руку и говорила: «Ой, девка, а молонья-то какая!» Если замечала, что кошка набила живот и располагается ко сну, удивлялась: «Ой, натараканилась!» А вернувшись, например, из магазина и обнаружив, что ей недодали там сдачи, не верила: «Ой, неужто омманули?» Конечно, Леночке не нравилось, что говорит её бабушка на корявом, неизвестно откуда взятом языке, и она за это её иногда ругала. «А ты, девка, не серчай, — смеялась в ответ Пуговка, — вить ниверситетов я не кончала, у мени шесть классов и семой калидор». Дуся Пуговке всегда была рада, и когда она приходила, угощала её, чем могла. Любила Пуговка выпить у неё рюмочку водки. Выпив, заявляла: «У табе, Дуськя, водка сладкая», — а выходя из-за стола, говорила: «Ой, накрянькалась!»
Однажды пришла к Дусе не Пуговка, а Леночка. Зайдя в комнату и присев на стул, она вдруг заплакала. «Что с тобой?» — спросила её Дуся. Леночка, рыдая, долго не могла сказать, что с ней случилось, а когда успокоилась, такое рассказала, что у Дуси похолодело сердце. Оказывается, Коля уже давно склонил Леночку к сожительству, а теперь, когда она от этого отказывается, он грозит: не будешь — расскажу бабушке. «Господи, за что мне это?!» — чуть не закричала, узнав об этом, Дуся, а представив, что будет с Пуговкой, если и она это узнает, пришла в ужас. «Нет, — решила Дуся, — её это убьёт». Вечером у Алексея Ивановича с Колей состоялся крупный разговор. Кончился он хуже, чем начался. На вопрос Алексея Ивановича: не думает ли Коля и после их разговора приставать к Леночке и грозить ей тем, что всё расскажет Пуговке, он, нагло усмехнувшись, заявил: «А купишь машину, не скажу». Конечно, Алексей Иванович машины ему не купил, и это правильно, но Дуся понимала, что и из разговора их толку не будет. Мягкий по характеру, Алексей Иванович больше сына уговаривал, а надо было бы, как она считала, дать ему хорошую встрёпку. Да и с машиной: купить-то он её не купил, но разрешил ездить Коле на своём служебном УАЗике. А к чему это?
А Ванечка Дусю радовал. В четвёртом классе он был уже отличником, и в школе его только и делали, что хвалили. «Не захвалили бы», — боялась Дуся, хотя и сама не могла удержаться, чтобы не похвалить своего Ванечку, когда проверяла его дневник. По характеру он был в отца — такой же мягкий и добрый. Дусю — хотя знал, что она ему не родная — звал мамой, старался во всём ей угодить, а вчера, когда Коля нагрубил ей за то, что она не дала ему бутылку, и от обиды она расплакалась, он подошёл к ней и сказал: «Не плачь, мама, вырасту, и он у меня поплачет».
Сейчас Ванечка сидел за столом и выполнял уроки. Дома никого, кроме них, не было; Алексей Иванович был в командировке, а Коля, как всегда, где-то болтался. Потрескивало в печи, тикали стенные ходики, свернувшись калачиком, на диване дремала кошка, за окном, после долгого завьюжья, прятался тихий вечер, было слышно, как скрипело Ванечкино перо по бумаге. Дуся сидела у печи и вязала кофточку. Вдруг в дверь постучали, кошка с испугу нырнула под стол. «Коля, наверное», — подумала Дуся. Нет, это был не Коля, а Федора. Тогда его звали не Федорой, а Фёдором, и он был ещё не лысым и лицо его не было по-бабьи рыхлым. Работал он старшим буровым мастером и, как говорили Дусе, был большим бабником, да и от чужих рюмок уже и тогда не отказывался. «А Алексей Иванович дома?» — громко спросил он с порога. «Чего спрашиваешь, — подумала Дуся, — ведь знаешь, что в командировке». «Вот ёшкин-клёш, — с притворной досадой выругался Фёдор, — а я с ним покалякать хотел. Дело есть». Дуся ему ничего на это не сказала, а он, увидев Ванечку, рассмеялся: «А-а, отличник! Физкульт-привет!» И, не спрашивая разрешения, прошёл к нему за стол. «Посмотрим, посмотрим, что ты тут накалякал, — заглядывал он ему уже в тетрадь, — ничего, сгодится». А потом, рассмеявшись, спросил: «А вот ты скажи, отличник, как правильно: сто грамм или сто граммов?» Понимая, к чему он ведёт, Дуся отправила Ванечку в спальню и уложила его спать. Фёдор этого и ждал. «Правильно — сто пятьдесят. Верно, Евдокия?» — заявил он, подмигивая ей, когда она вернулась из спальни. Чтобы отвязаться от него, Дуся налила ему водки. И тут, без стука, появился Коля. Фёдор, выпив свои сто пятьдесят, ушёл, а Коля, нагло улыбаясь, спросил: «Хахаль?» Дуся готова была его ударить. «А ты не смотри, не смотри так, — стал грозить ей Коля, — ведь и отцу сказать могу». Дуся расплакалась. «Ладно!» — рассмеялся Коля. — На бутылку дашь, не скажу».
Вот такая беда свалилась на Дусю, когда ей не исполнилось и сорока лет. Коля всё больше наглел, а Алексей Иванович уже не мог ничего с ним сделать. С Леночкой, оказывается, Коля и не переставал сожительствовать, и в шестнадцать лет она забеременела. Узнав об этом. Пуговка слегла в постель. Болела она долго, а когда выздоровела, пришла к Дусе. Её было не узнать: лицо вытянулось, глаза глубоко впали, и, казалось, сгорбившись, она осела в росте. Утирая трясущимися руками слёзы, она спрашивала: «Ляксей Иваныч, за што нам ето с Леночкой? Нешто мы не люди?» Дуся с Алексеем Ивановичем её успокаивали, а когда Пуговка пришла в себя, твёрдо пообещали ей забрать Леночку к себе. «Сулить-то легше», — заявила она на это, но, видимо, когда до неё дошло, что жить она будет теперь одна, без Леночки, замахала на Дусю с Алексеем Ивановичем руками. «И не дам! И близко не пущу! Ишшо удумали!» — сердито говорила она. Тогда ей предложили перейти вместе с Леночкой к ним жить. Услышав это, она удивилась: «А чавой-то я у вас не видала?» Уже поздно вечером договорились с Пуговкой так: Леночка будет жить у них, а она, как только ей одной будет плохо, тоже перейдёт к ним. Договориться-то договорились, но Пуговке после этого, видимо, стало жалко уже и себя. «Ета, значит, баушка таперь одна будет», — утирала она новые слёзы, а потом, махнув безнадёжно рукой, попросила: «Дуськя, налей-ка мне рюмочку». Однако, выпив, уже не хвалила водку, как раньше, а наоборот, осталась ею недовольна. «Какая она у табе горькая!» — заявила она, утирая фартуком губы.
С переходом Леночки в их дом Коля, кажется, стал лучше: уже не шантажировал ни Дусю, ни Алексея Ивановича, больше сидел дома, а когда Леночка родила, стал заботиться и о ней, и о дочке, которую назвал Элей. Дуся молилась Богу: оставь всё так, как образумилось, не напусти новой беды! И Бог как будто услышал её молитвы: пока Эле не исполнилось шести лет, всё шло хорошо. Коля с Леночкой жили как муж и жена, Эля, можно сказать, и не болела, в доме стоял покой и уют. Но потом Дуся стала замечать, что с Колей что-то происходит неладное. Он стал часто нервничать, покрикивать на Леночку, домой нередко приходил с работы поздно и подвыпивши. Дусе говорили, что он спутался с какой-то училкой, но она этому не верила. А Коля вскоре совсем обнаглел: уже не каждую ночь приходил домой, а когда приходил, нередко не вязал лыка и бросался с кулаками на Леночку. Но не зря говорят, что беда в одиночку не приходит. Как-то зимним вечером Эля попросилась в гости к бабушке. Жила Пуговка рядом, дорогу к ней Эля знала, и её отпустили одну, а вскоре прибежали люди и сказали, что Элю сбила машина, и её увезли в больницу. Машина, сбившая её, скрылась. В больнице, как ни боролись за Элю, руку, угодившую под колесо, пришлось ампутировать. Дуся думала, что этой беды не переживёт, ещё хуже, было с Пуговкой: она, похоже, стала заговариваться: «Унучку-то за что?» — начинала она плакать, а потом, как от зубной боли, качала головой и вскрикивала: «Имай их, имай!» и грозила кому-то: «У фулюганы! Ишшо удумали!»
Изменился и Коля. Он перестал пить, домой возвращался вовремя, с домашними стал тише и добрее. Нередко с глубокой грустью на лице он ходил по комнате из угла в угол, но иногда и, как казалось Дусе, внезапно эта грусть сменялась пугливо-тревожным подёргиванием лица. Один раз Дуся видела, как он в спальне плакал над Элей, когда она спала.
Прошёл год. Постепенно и Дуся, и Леночка стали приходить в себя, Пуговка всё так же заговаривалась, стала пить больше водки, не менялся только Коля. Он по-прежнему не пил, ходил из угла в угол с той же глубокой грустью на лице, а пугливо-тревожное его подёргивание становилось всё заметнее. Когда заходил разговор о шофёре, сбившем Элю, которого всё ещё не нашли, он уходил из комнаты.
Однажды, когда Дуся была одна, к ней зашёл выпивший Фёдор. Он в последнее время совсем обнаглел: уже не спрашивал, можно ли пройти в комнату, а садился за стол и говорил; «А не ударить ли нам, Евдокия, по сто пятьдесят?» В этот раз Дуся решила ему отказать и стала выпроваживать его из дому. «А ты сильно-то не гоношись! — заметил ей Фёдор. — Пожалеешь!» Дуся не поняла, на что он намекает. «А то не знаешь! — рассмеялся Фёдор. — Вот сообщу, куда следует, и загремит твой Колька». Кровь ударила в голову Дусе, страшная догадка обожгла сознание. «Неужели он?! — стучало у неё в висках. — Не может быть!» Да, Элю сбил машиной Коля. И случилось, как рассказал Фёдор, это так. Эля шла по обочине дороги и вдруг из-за угла дома на большой скорости выскочил на дорогу служебный УАЗик Алексея Ивановича. Шофёр явно был пьян: машину бросало то в одну, то в другую сторону. Фёдор видел, как, сбив Элю, машина проскочила метров тридцать, потом, открыв дверку, из неё выглянул Коля и, увидев, что девочка лежит на дороге, бросился на своей машине в ближайший переулок. Было уже темно, и, как говорил Фёдор, на таком большом расстоянии узнать, что сбил свою Элю, Коля не мог. «Нет, этого не может быть! — всё ещё не верила Дуся. — Коля бы признался. Может, это не он?!» «Ну, вот, — рассердился Фёдор, — тебе про Фому, а ты про Ерёму». Уходя, Фёдор сказал: «Ты прости, Дуся, я ведь думал, ты всё знаешь».
Колю судили и дали семь лет лагерей, а Алексей Иванович после этого взял пенсию и ушёл с работы. Того, что было в нём раньше, ничего не осталось. Он осунулся, сильно похудел, когда-то толстые и, как казалось Дусе, поэтому смешные усы обвисли и поредели и стали похожи на клочок старой пакли. Говорил он мало, и часто с печальным выражением лица сидел у окна и, казалось, вот-вот заплачет. «Деда, а ты почему не плачешь?» — спрашивала Эля. «Слёз нет», — горько усмехался в ответ Алексей Иванович. «А ты мои возьми, — предлагала Эля, — у меня их во сколько». И показывала сложенную в горсточку ладошку.
Вскоре после того, как посадили Колю, умерла Пуговка. Примерно за месяц до смерти она перестала пить и, кажется, уже не заговаривалась. Умерла просто. «Дуся, а я вить умираю», — сказала она из постели. «Как умираешь?!» — напугалась Дуся. «Обнакновенно», — ответила она и, глубоко вздохнув, стихла. Алексей Иванович сбил ей гроб, в гробу она казалась ещё меньше и лежала в нём с таким видом, словно и этот гроб, и ушедшую в небытие свою жизнь она сама себе давно выбрала. А на кладбище ей выкопали сразу две могилы; одну — что заказал Фёдор своим буровикам, другую — баптисты, к которым незадолго до смерти, тайно от Дуси, ходила на их молебны Пуговка. Случилось это из-за нераспорядительности Алексея Ивановича, сильно убитого её смертью. Так как могила баптистов была на весёлом, самом высоком на кладбище месте, похоронили Пуговку в ней, а Фёдор, напившись на поминках, смеялся и говорил, что выкопал он вторую могилу для себя. Потом, уже совсем пьяный, он так вошёл в свою роль, что представлял себя только в могиле. «Ведь живи — не хочу, — уже удивлялся он этому — а вот надо же!» В посёлке же стали говорить: две могилы — не к добру, вторая — к новому покойнику. И правда: вскоре умер приблудившийся год назад к посёлку старатель. Так как родственников у него не было, и где хоронить, всем было всё равно, похоронили его в оставшейся от Пуговки могиле.
Через год после её смерти докатилась и до Колымы горбачёвская перестройка. Все стали говорить, что жить по-старому уже не годится, надо жить по-новому, потому что новое всегда лучше старого. Дуся этого не понимала, а вот Фёдор носился с этой перестройкой, как без узды савраска и был её первым прорабом. «А ты слухай!» — перебивал он всех и говорил, что теперь-то уж всё будет по уму и совсем не так, как это было раньше. Когда покатили на коммунистов, Фёдор первым выбросил свой партбилет из кармана, и по его уже выходило, что он и с детства ненавидел этот долбаный коммунизм. Пионервожатой он, оказывается, прожигал папироской платья, в комсомольском хоре нарочно пел не со всеми в голос, а в партии так отбрил одного коммуняку на собрании, что у того и челюсть отвисла. «Дурак, — слушая его, думала Дуся, — с партбилетом-то только ты и выбился в старшие мастера». А когда в стране заговорили о рынке, Фёдор бросился выращивать на продажу свиней.
«Задарма не работаем! — говорил он. — Это у них на одну зарплату!» И махал рукой в ту сторону, где, как ему казалось, всё ещё таятся недобитые коммунисты. Так как Фёдор никогда ни к чему рук по-настоящему не прикладывал, а свиньи ему были нужны только для показухи, они скоро у него сдохли.
А Дуся в коммунистов верила. Да, были и у них перекосы и перегибы, и репрессии были, да и лишнего, бывало, немного скажешь. Так и сейчас разве лучше? Разве это не репрессии, когда, как мухи по осени, мрут люди в нищете, спиваются от безысходности и лезут в петли? Кто их, этих несчастных, считал? А ведь ни войны не было, ни мора. Кричат: зато свобода, говори и делай, что хочешь! Конечно, держи карман шире! С нищенской-то копейкой с тобой и рядом никто не сядет и слушать тебя не будет, а к больнице, так и близко не подходи — укола за так не поставят, и в институт с ребёнком не лезь — деньжищ уйму надо, а при коммунистах всё это было бесплатно. Так где она, настоящая-то свобода: тогда — на деле, или сейчас — на словах? Не-ет! По нынешнему времени — никому ты не нужен. Хуже, чем в лагере. Там ты хоть начальству нужен. Оно, конечно, работать тебя заставит, но ведь и накормит, и напоит, и место на нарах даст. А здесь: возьми хоть Колю. Отсидел своё, вышел на свободу, и кому он тут нужен? Леночка его не приняла — это понятно: какой жене нужен муж, покалечивший своего ребёнка? А вот сунулся Коля искать работу, ему везде одно: «Своих девать некуда». Решил он взяться за золото. Сколотил артель из таких же, как сам, бывших зэков. Дуся сразу поняла: и из этого толку не будет. Зэки — один к одному, алкоголики, а сам Коля как был непутёвым, так им и остался. Да и из лагеря, кроме блатных замашек, ничего не вынес. «Это мои кери», — представил он своих алкоголиков Алексею Ивановичу, с которым они, как с бывшим геологом, решили держать совет. «Батя, нам пахать — что тебе руками махать», — заявили алкоголики, а Коля, уже нетрезвый, кричал: «Отец, ты нам жилу дай!» Конечно, он представлял, что жила, которую даст им Алексей Иванович, сама выходит на поверхность, и золота в ней: греби — не хочу. После разговора с Алексеем Ивановичем они решили обмыть своё, как им казалось, уж теперь-то верное дело. «Главное — начало!» — никого не слушая, пьяно твердил грубо, словно из горбылей сколоченный, тупорылый алкоголик. «Не-е! — не соглашался с ним другой, сложенный пожиже. — Главное — фарт!» А по-деревенски придурковатый с кроличьей физиономией алкоголик не соглашался с обоими. «Кальер, главное, выкопать», — говорил он. В тайге они решили водки не пить.
«Ни-ни! Ни в коем разе! И духу чтоб её там не было!» — твердили они в один голос. Колю, как главного, они уже звали паханом. «Пахан, ты на нас — как на себя! Сам знаешь!» — уходя, говорили они.
Конечно, никакого золота они не намыли, больше пили водку, а когда полезли на чужой полигон, надеясь, что там-то и урвут, их избили.
С тех пор Коля болтается по посёлку и сшибает чужие рюмки. Недавно у кого-то украл магнитофон и, конечно, тут же его и пропил. Когда на него подали в суд, дело к суду не приняли. «Такое не рассматриваем, — заявили в нём, — у нас дела покрупнее!» Вот они нынешние-то порядки! Делай — что хочешь! А раньше, бывало, и за гвоздь садили. Нет, не будет с этими порядками из Коли толку: сопьётся или забьют где-нибудь насмерть. А ведь была когда-то надежда, что и из него человек выйдет. Появилась она, когда Дуся, сразу, как только его посадили, побывала у него на свиданке. Поездку к нему она запомнила хорошо, и не только потому, что с ней появилась эта надежда, но и, наверное, потому что шофёр, подобравший её попутным рейсом на Колин лесоповал, потом стал мужем Леночки.
Стояла поздняя, уже вся в жёлтом цвету осень, из окна лесовоза, на котором ехала Дуся, было видно, как и тайга, и раскинувшиеся в пойме реки её подлески, и сама река готовятся к зиме. Лиственницы, сбросив с себя летний наряд, застыли в угрюмой задумчивости, словно с вызовом наступающим холодам вытянулись в небо тополя и чозении, голубичные поросли на болоте прятались в кочкарник, а потемневшая и уже с ледяными заберегами река, казалось, остановила своё течение. Всё говорило о том, что зима — вот она, рядом, и нет уже никакой силы, которая могла бы её остановить. Да и громоздившиеся за тайгой горные отроги уже были покрыты шапками блестящего на солнце снега. Ярко очерченные в голубой дымке неба, они казались рядом, а не там, где проходило далёкое горное Верхоянье.
«Как звать-то?» — оторвал Дусю от созерцания уходящей осени шофёр. Был он белобрысым, с ушами, похожими на локаторы, и острым, как сосулька, носом.
Узнав, что её зовут Евдокией, он сказал: «Ну, вот что, Евдокия, не знаю, как по батюшке, ты не молчи, говори, что хочешь, иначе усну. Двое суток не спал».
О чём может говорить мать, когда едет к сыну? Конечно, о нём. Вот и Дуся стала рассказывать о Коле и, как это всегда бывает: незнакомому человеку, когда знаешь, что никогда больше его не увидишь, высказала больше, чем родственнику или близкому. Когда она рассказывала о том, как Коля, торгуя своими слабостями, выбивал из неё и Алексея Ивановича что ему надо, шофёр словно и не верил ей. «Да не может быть!» — восклицал он. Было видно, что он не безучастно слушает её, а всё принимает близко к сердцу, и, видимо, поэтому, когда Дуся рассказала, как Коля сбил свою дочь машиной и оставил её на всю жизнь калекой, она расплакалась. «Свинья твой Коля! — сказал на это шофёр и добавил: — А ты не плачь. Может, всё и наладится». Когда дорога, по которой они ехали, вышла к реке, он сказал: «Ну, всё, мать. Больше не могу. Я — спать, а ты, вон речка, хоть на ней сиди, хоть здесь оставайся».
И через спинку сиденья перелез в спальное отделение.
Дуся пошла к реке. Вблизи уже не казалось, что она, в предвестии зимы, остановила своё течение, наоборот, на ближайшем перекате она гудела белыми бурунами, здесь, у её ног, сердито билась волной о берег, а на середине крутила такие водовороты, что у Дуси, когда она на них смотрела, кружилась голова. Потом над ней пролетела стая гусей. Серебристые со стороны солнца и тёмные с другой стороны, они, казалось, летят не прямо на юг, а заходят на большой круг, чтобы опуститься в реку. Недалеко от реки, в заводи, Дуся увидела уток. Готовясь к отлёту, они уже не шныряли по прибрежным зарослям, не копались на мелководье, а, сбившись в круг, осматривали друг друга с деловитой заботливостью.
Не прошло и часа, проснулся шофёр. «Мать, — крикнул он из кабины, — давай в дорогу, не то ночь скоро!»
До наступления ночи было недалеко. Большое и уже холодное солнце катило к закату, длинные от тополей тени бежали по галечному откосу, окутанная серой дымкой тайга погружалась в дрёму. Выспавшийся шофёр выглядел бодро и уже был в хорошем настроении. Видимо, от него хорошее настроение перешло и к Дусе. А шофёр, включая скорость, весело заверил: «Ничего, мать, проживём! И Коля твой человеком станет!» «Ах, какой милый человек!» — подумала Дуся, и, смешно сказать, теперь он ей показался совсем другим, не таким некрасивым, как раньше. Уши уже не казались ей локаторами, а выглядели как два красивых и только что снятых с огорода свежих лопушка, а нос уже не казался острым и длинным. «Нос — как нос, — думала она, — а конопушки, так они его только красят».
Приехали на лесоповал, когда уже солнце совсем закатилось. Встретили их лаем сторожевых собак, а часовой, стоящий у ворот, зло крикнул: «Стой! Винтовка стреляй буду!» «Ох, уж эта татарва, — рассмеялся шофёр, — ведь видит кто, а орёт!»
Поставив машину в гараж, он ушёл в барак вольнонаёмных, а Дуся пошла к лагерному начальству. В пропахшем потом и куревом кабинете принял её лейтенант, похожий скорее не на военного, а на не битого еще жизнью юношу. «Заместитель начальника лагпункта по воспитательной работе Маслов», — мягко представился он Дусе, а когда узнал, к кому она приехала, сказал: «Очень хорошо, Евдокия Ивановна, что вы приехали. — И о чём-то подумав, повторил: — Очень хорошо».
Дусе показалось странным, что её с таким вниманием приняли, и она подумала: «Уж не случилось ли что с Колей?» Оказывается, и на самом деле случилось. Недавно его здесь вытащили из петли. Дусю бросило в жар: «Господи, да зачем это он?» Когда она пришла в себя, лейтенант, которому, оказывается, тоже было не безразлично, зачем Коля полез в петлю, попросил её рассказать о его долагерной жизни. «Понимаете, Евдокия Ивановна, — объяснил он свою просьбу, — нам важно знать: что это — глубокое осознание вашим Колей своего преступления, а следовательно, и падения, и отсюда стремление уйти из жизни, или он, извините меня, тряпка, которой наши исправительные меры оказались не под силу». Дуся что-то говорила лейтенанту, а что — она помнила плохо, а лейтенант всё это записывал в свою записную книжечку, когда же он попросил её, чтобы она задала Коле несколько его личных вопросов, она не могла сообразить — зачем это. «Хорошо, хорошо», — понял её лейтенант, и тут постучали в дверь. В кабинет вошёл похожий на деревянного истукана сержант. «Лысого в карцер?» — спросил он. «Ни в коем случае, — не согласился с ним лейтенант, — ведите его ко мне на беседу». «На бесе-еду! — недовольно буркнул сержант, и было слышно, как за дверью он зло сплюнул. «Ну, что вот с них взять! — развёл руками лейтенант. — Одно и знают: в карцер. Не-ет, — поднялся он из-за стола, — я здесь всё по-своему сделаю». «Дай-то Бог, — подумала Дуся, — только получится ли?»
А Колю Дуся не сразу узнала. Он осунулся и постарел, землистый цвет лица и глубоко впавшие глаза придавали ему вид безнадёжно больного человека. Проговорили они с ним всю ночь. Коля, хоть и говорил вяло и всё смотрел не на Дусю, а куда-то в сторону, каялся в том, что натворил и обещал, как выйдет из лагеря, начать новую жизнь, а когда утром провожал Дусю, сказал: «Ты уж прости, мать. Зла-то, я вам принёс — и за жизнь не рассчитаешься».
Вот тогда-то Дуся и поверила, что Колю лагерь исправит, и он обязательно станет человеком. Возвращаясь домой с тем же конопатым шофёром, она думала, что и лагерь — неплохое место для воспитания человека, а уж с таким лейтенантом, как в этом лагере, и подавно. «С ним — да не исправиться! Ну, уж нет!» — верила она ему, и уже ей не казалось, что он похож на юношу, не битого жизнью.
«Ну, как твой Коля?» — спросил шофёр, переключая скорость. «Думаю, исправится», — улыбнулась ему Дуся. «Дай-то Бог! — заметил он. — И лагерь, бывает, на пользу. Посидишь на баланде, погорбатишься, а что не так — в карцер, вот и подумаешь, что к чему. Не-е, — протянул он, — и кнута нам надо». «Не знаешь ты лейтенанта, вот и говоришь про карцер», — сердито подумала Дуся. И дался ей тогда этот лейтенант! Как потом узнала она от Коли, его по несоответствию со служебным положением уволили.
А шофёр продолжал: «Не-е, кнута и нам надо. Не всё пряники. Я свою куклу, — рассмеялся он, — пряниками-то кормил, она и сбежала». «Ушла, что ли?» — не поняла Дуся. «Скурвилась, — объяснил шофёр, — бичует, наверное, где-то, а может, уже и хвост отбросила». «А дети-то остались?» — поинтересовалась Дуся. «А как же! — как будто обрадовался шофёр. — Двое».
Дорога была длинной, и до Дусиного посёлка добрались только к вечеру. Когда она пригласила шофёра переночевать у них, он не отказался и даже, рассмеявшись, пообещал: «Ох, мать, отобью я у вас Ленку». Дуся, вспомнив, что до сих пор не узнала его имени, тоже рассмеялась и спросила: «Звать-то как, отбивало?» «Илюшкой», — представился шофёр.
Кто бы мог подумать, но утром Леночка и на самом деле заявила, что будет жить с этим Илюшкой. Чем уж он её взял, кто знает, но делать было нечего: сами решили. «А может, Колю дождёшься?» — несмело спросила Дуся. «Ой, мама, — чуть не заплакала Леночка, — я ж не смогу с ним жить. Ведь он своего ребёнка покалечил». «И правда, — подумала Дуся, — и я бы с таким жить не смогла».
Вскоре Илюшка увёз Леночку с Элей к себе. Алексей Иванович, сильно привязавшийся к Эле, при расставании с ней готов был расплакаться. «А ты, деда, не плачь, — успокаивала она его, — я к тебе в гости ездить буду». Из кабины машины она помахала ему здоровенькой ручкой. Когда после проводов вернулись в дом, Алексей Иванович спросил: «Мать, у тебя водка есть?»
…«Ох, ведь утро уже, — спохватилась Дуся, — а я всё не сплю!» А потом, словно её кто-то толкнул сзади, испугалась: «Всех вспомнила, а о Ванечке забыла».
А Ванечка её уже был в американской Калифорнии. Успешно окончив Новосибирский физико-технический институт, он остался в нём в аспирантуре, а вскоре и защитил кандидатскую диссертацию. В Калифорнию его пригласили как специалиста по компьютерам. Самолёты тогда в Америку уже летали через Магадан на Анкоридж, и по пути в свою Калифорнию из Магадана Ванечка заехал домой. Был он в красивом, в светлую полоску костюме, похожий на бабочку галстук подчёркивал солидно сложенную фигуру, красные ботинки были на высоком каблуке. «Да тебя и не узнать», — рассмеялся Алексей Иванович, а Дуся, обнимая его, расплакалась от радости.
За столом она не знала, чем его напоить и накормить, а Алексей Иванович, наоборот, как будто бы чем-то был недоволен. «Что там, в Америке, своих компьютерщиков не хватает?» — наконец, кажется, не вытерпел он, чтобы не высказать, что думает о Ванечкиной поездке. «Папа, я не компьютерщик, как ты сказал, а программист», — обиделся на него Ванечка. «Извини, — улыбаясь, развёл руками Алексей Иванович, — в этом деле я ни бум-бум».
Ванечка рассмеялся: «Ни бум-бум, так и слушай».
И с таким увлечением взялся рассказывать о компьютерах, что даже и Дусе это стало интересно. Ей казалось, что она когда-то это всё: и стол, за которым они сидели, и такие разговоры за ним — уже и видела, и слышала, да всё забыла, но когда Ванечка стал Алексею Ивановичу горячо доказывать, что компьютер — это не его экспедиция, она вспомнила: да это ж когда Митя приезжал! «Алексей Иванович, — горячился и он тогда, — вот вы говорите: экспедиция, а корабль — не экспедиция?» Алексей Иванович так же, как и сейчас, улыбался, разводил руками и говорил: «Экспедиция, только я в ней ни бум-бум». И дальше как при Мите; когда этот Митя от своих кораблей перешёл к техническому прогрессу и стал доказывать, что только в нём человечество найдёт общие интересы, Алексей Иванович вроде и согласился с ним, но в то же время высказал и своё мнение. А сейчас, когда Ванечка от своих компьютеров перешёл к науке и стал доказывать, что она должна быть интернациональной, Алексей Иванович сказал: «Интернациональной-то, может, и интернациональной, но свою бы иметь не мешало».
Из Калифорнии письма Ванечка писал. Зарплатой он был доволен, уже завёл машину, писал, что американцы — народ деловой, и работают они не так, как у нас, — за один интерес к работе, а за доллары.
Из Калифорнии он тоже приезжал, но это уже на похороны Алексея Ивановича. А умер Алексей Иванович, хоть врачи и сказали: от сердечной недостаточности, на самом деле, как понимала Дуся, оттого, что он сам не захотел жить. Сердечная же недостаточность, которой он никогда в жизни не страдал, пришла уже перед самой смертью.
А всё началось, казалось бы, с малого. Когда проводили Леночку с Элей, Алексей Иванович сказал: «Ну, вот и всё». «Что всё?» — не поняла его Дуся. Алексей Иванович подошёл к окну, долго в него смотрел, а потом, не оборачиваясь, тихо произнёс: «Всё, мать. Своё мы с тобой сделали. Ивана подняли, а из Кольки всё равно толку не будет». «Ну, это ты брось!» — рассердилась тогда Дуся. И стала убеждать его в том, что и в их жизни осталось много такого, за что можно ещё держаться. «А Леночка, а Эля, — перечисляла она, — да и Ванечка скоро вернётся, и Коля, погоди вот, исправится». Алексей Иванович молчал. Конечно, Дуся понимала, у всех, кого она перечислила, уже своя жизнь, и к ней они с Алексеем Ивановичем имеют отношение, в котором и содержится-то одно лишь родительское почитание. А жить они, эти молодые, что им не говори, всё равно будут по-своему. Ведь это только дети считают, что родители правы, а молодые — у них своё на уме и никто им не указ. Правда, состарившись, и они хватаются за голову: ох, а ведь родители-то были правы, по-ихнему-то было бы лучше, да поздно: и их, этих родителей, из могилы уже не поднимешь, не покаешься, да и самим уж пора в неё собираться.
Дуся понимала и другое: имей Алексей Иванович прежнюю, в экспедиции, работу, не был бы он в таком настроении. Да где она, эта экспедиция? Ликвидирована она по указанию сверху. Кому-то там пришло в голову, что золото добывать на Колыме невыгодно, выгодней его завозить из-за границы, да и вообще, оказывается, всё, что делалось на этой Колыме при коммунистах, было большой ошибкой. Дуся этому не удивлялась, время тогда было такое: всё, что шло от коммунистов, рубилось под корень, а само слово коммунист было ругательным. Вот тогда-то Федора и выбросил из кармана свой партбилет. К Алексею Ивановичу, не выбросившему его, он перестал ходить, правда, когда ему не повезло со свиньями, он наладился к нему снова. «А я к тебе, Алексей Иванович, покалякать», — как ни в чём не бывало, говорил он с порога и бесцеремонно шёл в переднюю.
В то время Федора переживал не лучшие дни в своей жизни. Он был обижен на всех за то, что его в перестройке по-настоящему никто и не заметил. Оказалось, что до его борьбы с коммунистами, когда он своей пионервожатой прожигал платья папироской и в комсомольском хоре пел не со всеми в голос, никому нет дела, а тот коммуняка, которого на собрании он так отбрил, что у него отвисла челюсть, уже был фигурой областного масштаба. Никто не заметил и как он выбрасывал свой партбилет, а когда у него стали дохнуть свиньи, над ним все смеялись. Затаив на людей злобу, он стал делать им мелкие пакости. Вот и сейчас, с Алексеем Ивановичем. Словно вынюхивая, есть ли у Дуси выпить, он покрутил носом, недовольно крякнул и спросил: «Алексей Иванович, ты как кумекаешь, чем всё это кончится?» «Что всё? — не понял Алексей Иванович. Подмигнув Дусе, словно своей сообщнице в предстоящем с Алексеем Ивановичем разговоре, Федора ответил: «Ну, взять, к примеру, тебя. Вот раньше — ты всё по кабинетам да по президиумам, к тебе — и не подходи, а сейчас сидишь, и меня, таракана мелкого, слушаешь, ну, а что дальше?» «Что дальше?» — опять не понял его Алексей Иванович. «Ваньку-то не валяй! — рассмеялся Федора. — Валять-то его — и я во как умею! Ты мне ответь: тогда — я под тобой, сейчас — однова, в одних дураках ходим, а дальше? Что, ты подо мной ходить будешь? А? — и, рассмеявшись, добавил: — Не-е, и ты, и я — обое сейчас никому не нужны».
Бил проклятый Федора Алексея Ивановича по его больному месту. Ликвидирована экспедиция как никому и вроде бы уже и никогда раньше не нужная, а значит и он, Алексей Иванович, не то делал, зря и себя мучил, и другим нервы понапрасну портил. «Не-е, — словно подтверждая это, тянул Федора, — не туда шли, не то пахали, а тебе, — тыкал он пальцем в Алексея Ивановича, — только метры да планы давай, — а люди — эти букашки, они уж потом».
Дуся Федору гнала, но толку от этого было мало: он всё равно приходил. «Да когда ты от нас отстанешь, идол?» — ругалась она. «Что, — отвечал ей Федора, — правда-то глаза колет?»
Алексей Иванович, кажется, не обращал на всё это внимания, больше молчал, но однажды заметил: «А может, он и прав. Всегда ли мы за планами-то людей видели?» «Не пущу!» — заявила после этого Дуся Федоре. «Ну, это мы ещё посмотрим!» — пригрозил он и стал разносить по посёлку, что Алексей Иванович или наверняка запил, или, скорее, у него с головой плохо, и поэтому Дуся к нему никого не пускает.
Ну, ладно Федора, с него какой спрос, а вот Алексей Иванович всё больше уходил в себя, вечерами подолгу сидел у окна и о чём-то думал, ночью плохо спал, днём не знал, чем заняться. И к еде он стал безразличен: что ни дай, всё ладно. А потом ещё хуже: не дай, так и вообще не поест. А тут ещё опять Коля. Со своими алкоголиками он обокрал магазин. На них завели дело и взяли подписку о невыезде. Дело это они решили обсудить с Алексеем Ивановичем. «Отец, денег надо», — нагло заявил Коля. «Зачем?» — не понял Алексей Иванович. Скривившись в ухмылке, Коля ответил: «А то не знаешь!» «Главное — на лапу», — поддержал его грубосколоченный алкоголик. «Не-е, — не согласился с ним другой, сложенный пожиже, — главное — не признаваться». А маленький, по-деревенски придурковатый алкоголик не соглашался с обоими. «Аблаката наймать надо», — говорил он жалобно.
Выпив и решив, что дело своё с Алексеем Ивановичем они сделали и в тюрьму их теперь никак не посадят, алкоголики стали зарекаться, что воровать никогда уже не будут. «Ни-ни! — в один голос говорили они. — Ни в коем разе! Да чтоб нам не устоять на этом месте!»
Алкоголикам дали по два года, а Коле, как более опасному рецидивисту, четыре. Хорошо, что Алексей Иванович не пошёл на суд. Коля вёл себя на нём безобразно: судье тыкал, защитника перебивал, а прокурора, когда он предложил свои сроки, обозвал сукой. Было видно, что на суде он играет роль, строит из себя прошедшего огни и воды урку, которому и тюрьма — дом родной.
А Алексей Иванович после того, как его посадили, слёг в постель. Врачи, не понимая, что с ним происходит, одни разводили руками и отделывались туманными фразами, другие, словно сговорившись, бодро хлопали его по плечу и говорили: «Э, брат, да мы и не таких из гроба поднимали!»
Приходил Федора, а зачем, трудно было понять. «Ну-ну, всё болеем, — начинал он свой разговор, а потом предлагал Алексею Ивановичу выпить с ним водки. — Оно и полегчает», — смеялся он. А выйдя из его комнаты, безнадёжно махал рукой и тихо, чтобы Алексей Иванович не услышал, говорил Дусе: «Все там будем».
Умер Алексей Иванович утром, а всю ночь перед этим они с Дусей проговорили о жизни. Вспомнили всё: и как поднимали детей, и как уважали и любили друг друга, и Пуговку вспомнили, и Ванечку, и даже Митю, когда он приезжал к ним, не говорили только о Коле. Зачем? Кроме расстройства, от разговора о нём ничего бы не было. «Ты прости, если что не так было», — говорил Алексей Иванович Дусе уже перед самой смертью.
Дуся, чтобы он не видел, как она плачет, уходила на кухню и там плакала.
Хоронил Алексея Ивановича, можно сказать, весь посёлок. Ведь зла он тут никому не сделал и напрасно никого не обидел. Приехали на похороны Илюшка с Леночкой и Элей, Ванечка из Калифорнии, а из Магадана какое-то высокое начальство. Похоронили Алексея Ивановича как положено: все о нём говорили только хорошее, и музыка похоронная играла, и цветов было много, а дождь, вдруг зарядивший с утра, когда гроб с его телом опускали в могилу, остановился, и на небе появилось солнце. Дуся на похоронах не плакала. Ей казалось, что Алексей Иванович, хоть его и зарыли, всегда будет с ней, и им будет ещё о чём поговорить. Поэтому, когда Илюшка с Леночкой и Ванечкой стали звать её к себе жить, она отказалась. «Не одному же ему здесь оставаться», — рассердилась она на них.
После смерти Алексея Ивановича Дуся оставила в квартире всё так, как было при нём. Похоронила она его в новом костюме, а тот, что был для повседневной носки, она, как и раньше, каждую неделю чистила и гладила, и если ей казалось, что в нём завелась моль, посыпала его табаком. Трубку с медным ободком, что подарил ему Митя, она держала, как и он, рядом с коробкой гаванского табака, а когда на ней появлялась пыль, она стирала её смоченной в воде тряпочкой. Иногда она раскрывала эту коробочку и нюхала табак, и тогда ей казалось, что Алексей Иванович рядом и сейчас он возьмёт свою трубку, набьёт её табаком и закурит. Летом она часто ходила на его могилу, поправляла её, потом садилась на сделанную Илюшкой скамейку и разговаривала с ним. Ей казалось, что он её слышит, а что он ей отвечает из могилы, она и так знала. Ведь столько лет прожили! Как уж тут не знать! Зимой, когда на могилу ходить было холодно, она часто сидела у его кровати и снова с ним разговаривала. Иногда она при этом плакала, но слёз своих не замечала, потому что жизнь ей казалась такой же, как и раньше, при Алексее Ивановиче, а с ним они жили хорошо, и она от него никогда не плакала.
Дзюба
Посёлок лежал в глубоком овраге с отвесными берегами из жёлтой глины и ручьём, превратившимся в сточную канаву. Раньше здесь был женский лагерь, на левом берегу ручья карьерами брали глину на кирпич. Сейчас на этом берегу стоят старые бараки. В ясные дни они выделяются облупившейся штукатуркой и осколками оставшихся в окнах стёкол, в дождливые — темнеют и как будто бы оседают в землю. На другом, правом берегу, сохранился лагерный карцер. Он, как дот, задней стороной врыт в сопку, впереди сложен из серого камня. Подслеповатое окно похоже на амбразуру, а дверной проём с кованой железом дверью — на вход в подземелье. В бараках живут те, кого Колыма выбросила на свои задворки, а в карцере год назад поселился Дзюба.
Каждое утро жизнь в посёлке начинается с дыма из печных труб. Зимой, в морозы, он молочным столбом поднимается над посёлком, летом, в ясные дни, становится прозрачным и сливается с небом. Потом в посёлке хлопают двери и лают собаки. В восемь часов открывается магазин. Первым на улицу выходит Паша, известный в посёлке пьяница. Он идёт в магазин и берёт там бутылку водки. С ней, перейдя ручей, поднимается к Дзюбе.
— Здорово, братка! — приветствует он его и, поставив бутылку на стол, начинает растапливать печь.
Браткой он называет не только Дзюбу, но и всех мужиков в посёлке. Печь разгорается, Дзюба вылазит из-под одеяла, и они садятся за стол. В карцере, как в склепе, пол цементный, в похожем на амбразуру окне мало света, в сером однообразии каменных стен небритые, в одинаково поношенных куртках Дзюба с Пашей были бы похожи друг на друга, если бы первый не был крупно сложен, а второй, среднего сложения, не отличался бы ещё и живостью движений.
С Дзюбой жила собака по кличке Аян. Похожая на отжившего своё волка, она была медлительна в движениях и осторожна с чужими. Пашу она уже хорошо знала, и когда он приходил, садилась против него и ждала от него что-нибудь со стола.
Первую, не ожидая, когда разогреется тушёнка, Дзюба с Пашей выпивают, не закусывая. Закурив, Паша спрашивает:
— Ну что, идём?
Дзюба выходит на улицу, смотрит на небо и, если на нём нет туч, возвратившись, отвечает;
— Оно и можно.
Собрав рыболовные снасти, они спускаются по ручью к реке. Дзюба идёт, не выбирая дороги, по правому берегу, а Паша её выбирает и поэтому часто перепрыгивает с одного берега на другой, а там, где ручей мелкий, идёт прямо по нему. Ему мешает ведро, которое они взяли под рыбу. Когда он прыгает через ручей, оно бьёт его по ногам. Аян с опушенной вниз головой идёт за Дзюбой и, кажется, ничего, что вокруг происходит, не замечает.
На реке они разжигают костёр и разбирают рыболовные снасти. Перед ними, на другой стороне реки, стеной поднимается к небу каменный утёс. Под ним кружат водовороты, а когда они уходят на дно, на их месте вздымаются крутые волны. Ударившись об утёс, они рассыпаются в брызги и пену. На самом утёсе в ярко окрашенном свете восходящего солнца стоит одинокая лиственница, у неё широко расправленные ветви, и, кажется, еще немного, и она взмахнёт ими и улетит в небо. Таким видит тот берег реки Паша. Дзюба его видит по-другому. Всего, что происходит в реке под утёсом, он просто не замечает, а лиственница на вершине утёса ему кажется похожей на птицу с кривыми крыльями, у которой нет сил, чтобы оторваться от земли.
По-разному они и рыбачат. Паша бегает от переката к перекату, пытается поймать на мушку хариуса, а Дзюба, расставив тычки на налимов, забрасывает с берега удочку, сидит у неё и курит. Одиночество его не тяготит, он его не замечает, как воздух, которым дышит. Видимо, это связано с тем, что от тесного общения с людьми он устал в лагере. Пятнадцать лет прошли в армейских колоннах на работу и в столовую, в бараках, до отказа набитых людьми, в постоянных разборках воров в законе и сук, в неусыпном наблюдении охраны. Память об этом Дзюбе сохранила мало. Остались в ней, казалось, только события, связанные с вором в законе Серым да с Аяном.
Серый в бараке был паханом и делал всё, что взбредёт в его блатную голову. От непостоянства его требований страдали все: и воры в законе, и суки. Выворачивая слова с неподражаемым блатарским акцентом и цвиркая слюной через зубы, объяснял он это так:
— Зизнь меняется. Раньсе — так, сейцас — инаце.
В одном он был постоянен: сук заставлял работать на воров в законе.
«Ну, нет, — решил Дзюба, — работать я на них не буду». Вскоре за это пришла расплата.
— И скази нам, — спросил его Серый, — цё это ты так плохо работаес?
И пошёл на него с заточкой. У Дзюбы потемнело в глазах, кровь, как из ружья, ударила в голову, а что было потом, он плохо помнил. Серого унесли на носилках, в больнице он умер, а Дзюбе к трём годам за хищение в колхозе мешка пшеницы добавили из расчёта на полную катушку.
А с Аяном они нашли друг друга незадолго до того, как Дзюбе выйти на волю. Дзюба уже был сильно болен, у него часто хватало сердце, когда открывались боли в правом боку — темнело в глазах и немели ноги. Аян в это время дослуживал свой срок в охране. Он уже не кидался на заключённых, глаза стали слезиться, в них появились тоска, какую обретают все животные незадолго до своей смерти. Из жалости Дзюба его стал подкармливать. Для этого ему приходилось тайно, уже после отбоя, ходить за барак к его клетке. Аян к нему быстро привык и при его появлении радостно повизгивал и крутил хвостом, как молодая собака. В день освобождения, когда Дзюба выходил за ворота лагеря, Аяна два охранника выводили, чтобы расстрелять в кустах.
— Хошь, бери, — предложил один из них Дзюбе и, закурив, добавил: — Кормить будешь, год протянет.
Уже с Аяном Дзюба слышал, как другой охранник произнёс ему в спину:
— Да и этому немного осталось.
К костру вернулся Паша.
— Братка, а я хариуса словил, — весело сообщил он.
Появление Паши Дзюбу не расстроило, он знал: непоседливый Паша долго не засидится. Не терпел Дзюба, когда сюда приходил Яша Сакун. Появлялся он чаще всего после полудня и всегда так неожиданно, как будто до этого сидел в кустах и ждал удобного для появления момента. Дзюба не терпел его за нездоровый к нему интерес, а острый, как шило, нос на угреватом, по-козлиному вытянутом лице и сюсюкающая шепелявость его раздражали. Яша же, по-своему понимая нелюдимость и замкнутый образ жизни Дзюбы в карцере, считал, что в лагере у него в голове что-то сдвинулось. Поэтому относился к нему как к не совсем нормальному, с которым в разговоре можно повалять и дурака.
— И скази мне, — спрашивал он, — за сто это тебя в лагере дерзали?
Дзюба делал вид, что его не слышит.
— А засем ты дерзис собаку? Поди, и самому зрать несево, — не отставал он от Дзюбы.
Гнал его от Дзюбы Паша.
— Ты, придурок, — зло говорил он ему, — закрой поддувало!
Считая, что и Паша недалеко ушёл от Дзюбы, Яша отвечал ему:
— Сья бы корова мысяла, а твоя бы молсяла!
На реку к Дзюбе с Пашей Яша приходил не с удочкой, а с ружьём. Отваляв очередного дурака с Дзюбой, он шёл стрелять куликов. Настреляв их, возвращался в костру и варил из них суп. Когда суп был готов, он доставал из рюкзака бутылку водки и, выпив первую, говорил:
— А водка нисево!
Перед второй он спрашивал Дзюбу:
— Водки хосес?
Дзюба молчал.
— Ис, они и водку узе не пьют! — ёрничал Яша. — Ну, нисево, Яса и один выпьет.
Видимо, как пьяным мужикам доставляет удовольствие дразнить собак, так Яше доставляло удовольствие ёрничать над Дзюбой. Паша однажды за это его побил и забрал у него бутылку.
— И ты пьяниса! — кричал ему убегавший от костра Яша.
А Дзюба и на самом деле на тех, кто его плохо знал, производил впечатление человека, у которого с головой не всё ладно. Лицо его было похоже на застывшую в тяжёлом бессмыслии маску, он ни с кем не вступал в разговоры, общался только с Пашей, а грубое сложение и Аян, который всегда ходил за ним по посёлку, многих пугали. Когда он заходил в магазин, ему уступали очередь, а когда уходил, говорили: «Такой и убьёт, так немного спросишь». А Аяна, хотя он ни разу ни на кого не бросился, боялись, видимо, из-за его крупного сложения и ничего не выражающего взгляда. За всё время он только раз бросился на Яшу Сакуна за то, что тот ткнул ему в морду палкой, и сегодня Яша появился после полудня.
— Насе с кистоцкой! — весело приветствовал он Дзюбу с Пашей и, приставив ружьё к стволу лиственницы, присел к костру.
В это время вернулся из кустов Аян. Увидев Яшу, он оскалил зубы и тихо зарычал.
— О, суцька, и за сто он меня не любит?! — рассердился Яша и кинул в Аяна взятую из костра горящую ветку.
Аяна словно подбросило пружиной. Он сделал в сторону Яши прыжок, но, промахнувшись, оказался за его спиной. Яше этого хватило, чтобы схватить стоявшее у лиственницы ружьё и выстрелить. Сражённый в голову Аян упал на землю, а у Дзюбы, как когда-то в схватке с Серым, потемнело в глазах и, как из ружья, ударила кровь в голову. Что было потом, он не помнил. Привёл его в себя Паша.
— Братка, да ты ж его убил! — сказал он.
Яша, неловко забросив руку за голову, лежал в крови. На следующий день Дзюбу забрали, а вскоре в посёлке прошёл слух, что судом его приговорили к расстрелу.
Бурков и Нина
Вода в реке, словно её кто-то со дна выталкивал крутыми водоворотами, то бешено бросалась на берег, то вдруг, яростно устремившись на её середину, захлёбывалась во встречной волне. При взгляде на её другой берег, казалось, что он не стоит на месте. Когда от него откатывала волна, он обнажался в глинистом обрыве и поднимался в небо, а как только волна, вздыбившись на середине, выбрасывала вверх гребень, он опускался вниз и удалялся от заброшенного на край земли горизонта. Берег был голым, обрамлённый у реки серым, в грязных потёках подножьем, дальше он утопал в болоте с редкостоем чахлой лиственницы.
На этом — поросшем густой тайгой берегу, у разложенного недалеко от палатки костра, сидели двое: завхоз отряда Бурков и студентка-практикантка Нина. При порыве ветра тайга сердито гудела, а когда ветер стихал, она тяжело сбрасывала с себя крупные капли недавно прошедшего дождя. Стояла осень, приближались вечерние сумерки, было холодно.
— Ну что, девка, спать айда, — позвал Бурков Нину в палатку.
У него было печальное, с кержачьей бородой лицо, широкий, как у монгола, лоб и вяло свисающие с плеч длинные руки. Рядом с ним круглолицая Нина с лихо вздёрнутым носиком и большими, как у кошки, серыми глазами была похожа на красивую куклу. «Ну, нет, — решила она, — спать я с ним в палатке не буду». Конечно, она не боялась, что в палатке он полезет к ней в спальник, — ещё этого не хватало, — она просто не могла себя представить рядом с этим пожилым и некрасивым человеком, который, наверное, ещё и храпит во сне.
— Я ещё посижу, — ответила ему Нина и стала подбрасывать хворосту в костёр.
— Ну, как хошь, — сказал Бурков и ушёл в палатку.
Оставшись одна, Нина попила чаю и, устроив у костра лежанку, легла спать. Вскоре оттого, что замёрзла, она проснулась. Кругом было темно, гудела тайга, в ней что-то ухало и тяжело падало на землю, а когда пошёл дождь, потух костёр. Нине стало страшно. Она бросилась в палатку. В ней было так темно, что ни Буркова и ничего другого не было видно. Отыскав на ощупь фонарик, Нина включила его. «А где Бурков?» — не поняла она. Буркова в палатке не было, не оказалось в ней и его спальника. А по палатке уже хлестал ливень, бил ветер, и где-то за рекой глухо, как в деревянной бочке, гремел гром. Когда Нина представила, что в этой палатке она до утра будет сидеть одна, её охватил страх. «Ну, нет!» — решила она и выскочила из палатки. От ударившего в грудь ветра Нина чуть не свалилась с ног, а окативший её ливень сразу промочил с головы до ног.
— Дядя Бурко-ов! — закричала она. В ответ раздался такой гром, что, казалось, по небу кто-то ударил кувалдой, а когда ломаной стрелой по нему пробежала молния, казалось, оно раскололось. Нина бросилась обратно в палатку и забилась там в угол. Как провела эту страшную ночь, Нина плохо помнила. Пришла она в себя утром, когда заявился Бурков.
— Вы где были?! — рассердилась на него Нина.
— А рыбку проверял, — ответил он и стал снимать с себя мокрую одежду.
«Сети, значит», — поняла Нина. А на улице всё шёл дождь, и хотя небо уже не раскалывалось ни от грома, ни от молний, по-прежнему гудела тайга, и что-то в ней ухало.
— Кажись, приехали, — сказал Бурков и стал разжигать примус.
Нина поняла, что говорит он о вертолёте, или, как называли его геологи, вертушке. Понятно, сегодня его не будет, через эту непогоду никакому вертолёту не пробиться.
Когда сели пить чай, Нина спросила:
— А вас как звать?
— Что, ай с испугу забыла? — рассмеялся Бурков.
— Ага, — соврала Нина.
На самом деле, как его звать, она за весь сезон так ни у кого и не узнала, а для всех в отряде он был Бурков да Бурков, и не больше. О себе он никогда ничего не рассказывал, всегда был молчалив, и если к нему приставали с вопросами, отвечал на них односложно и без особой охоты. При этом он всегда, не глядя на собеседника, мягко улыбался, и поэтому казалось, что говорит он не с ним, а с кем-то другим, которого он один и видит. Нине это не нравилось, ей казалось, что за этим кроется что-то нехорошее, а когда на его руке она увидела наколки, подумала: «Наверняка, не раз в тюрьме сидел». Всё это не вязалось с тем, что о нём говорил начальник отряда Мартынов.
— Без Буркова, — повторял он часто, — мы бы и одного планшета не закрыли.
«Подумаешь! — думала тогда Нина. — Работничек!» Ей казалось, увязывать да укладывать что-то в тюки, колоть дрова, разжигать костёр да варить и дурак сможет, пусть попробует, как она, задокументировать канаву и отобрать в ней пробу.
— Василием меня звать. Дядей Васей, значит, — ответил Нине Бурков и опять, словно не ей, а кому-то другому, мягко улыбнулся.
— Расскажите что-нибудь о себе, — попросила Нина.
Бурков, кажется, не ожидал такого вопроса. Он отставил кружку с чаем, внимательно посмотрел на Нину и сказал:
— А что рассказывать? Все знают — в тюрьме сидел.
«Вот я и права!» — подумала Нина и спросила:
— А за что?
— Братку убил, — ответил Бурков.
— Как убил?! — испуганно вскричала Нина.
— На жинке своей прихватил, — объяснил ей Бурков.
Нину бросило в жар. Перед ней сидит убийца, и кто знает, что у него на уме.
— Да не пужайся ты меня, — успокоил её Бурков. — Не трону я тебя.
После этого Бурков залез в свой спальник и скоро уснул. Глядя на него, спящего, Нина стала успокаиваться.
Пепельного цвета лицо его во сне посветлело, казалось, на нём застыла улыбка, и он не храпел, как думала Нина. Похоже, вместе с Ниной стала успокаиваться и погода. Уже не бил по палатке ветер, а дождь, словно его наверху стали пропускать через мелкое сито, не стучал по ней, а как будто нашёптывал кому-то про своё, только ему известное. Вскоре Нину потянуло ко сну, а через полчаса, свернувшись калачиком в своём спальнике, она уже спала. Сон был глубоким, и когда она проснулась, не могла понять: что на улице — день или вечер? Увидев, что Бурков стал куда-то собираться, Нина испугалась: опять всю ночь одной в палатке! «Ну, нет!» — решила она и, стараясь быть ласковее, сказала:
— Дядя Вася, вы не уходите. Я вас, ну, вот нисколечко не боюсь.
— Как хошь, — согласился Бурков и пошёл разжигать костёр.
За ужином Нина спросила:
— А почему вы домой не едете? Он у вас есть?
— Дом-то? Есть, а то как же, — ответил Бурков.
— А почему не едете? — переспросила Нина.
— Братка будет казаться, — тихо произнёс Бурков.
— Как казаться? — не поняла Нина.
— А приходить будет, — ответил Бурков. — Убивал-то, он всё кричал: братка, прости, братка, прости!
— А зачем вы его убивали? — задала глупый вопрос Нина.
— Затмение нашло, — просто ответил Бурков и снова, словно не ей, а кому-то другому, мягко улыбнулся.
«Он, наверное, ненормальный или… как это таких называют… да, юродивый», — заметив эту улыбку, подумала Нина. Так как Нина считала себя способной не только в геологии, но и в психологии, она решила более глубоко узнать Буркова.
— Ну, хорошо, — согласилась она с тем, что у него было затмение, — а что дальше?
— Что дальше? — не понял Бурков.
— Ну, жить как дальше думаете? — пояснила Нина.
Бурков, пожав плечами, ответил:
— А кто ж его знает! Как получится.
— Ну, зачем-то же вы живёте, — решила уточнить свой вопрос Нина.
— А-а, вот ты о чём! — понял Бурков. — А низачем. Живу — и ладно.
— Как трава, что ли? — уколола Нина.
— Ну, уж это кому что дадено, — не обиделся Бурков.
«Не дадено, а дано, — хотела поправить его Нина, но раздумала: «Толку-то! Всё равно ничего не поймёт. Неграмотный — он и есть неграмотный». Не отказавшись от желания более глубоко познать Буркова, она решила это сделать, поставив его в придуманные ей обстоятельства. «Посмотрим, как он отреагирует на них», — подумала она.
— Дядя Вася, а вот представьте, — начала Нина, — человек на ваших глазах тонет. Что вы будете делать: броситесь его спасать и, совсем не исключается, сами с ним утонете, или будете стоять на берегу и ничего не делать? — И решив помочь Буркову дать правильный ответ, добавила: — Конечно же, дядя Вася, вы броситесь за ним?
— А кто ж его знает. Это как получится, — ответил Бурков.
«Вот и поговори с ним!» — рассердилась Нина.
Ночью с Бурковым и Ниной случилась беда. Прорвало протоку, отделяющую их от основного берега. Нина, схватив рюкзак, выскочила из палатки, а Бурков уже бежал от костра с топором в руках. В протоке, похожей раньше на заросший осокой деревенский пруд с журчащим посредине ручейком, всё гудело. Пенные потоки воды, сметая всё на пути, неслись с бешеной скоростью, коряги и смытые с берега деревья переворачивало, как игрушки, гудело так, что закладывало уши. Бурков бросился подрубать лиственницу, стоящую у края протоки. Она была толстой и плохо ему поддавалась. «А ведь так и утонуть можно», — испугалась Нина. Она понимала: не выберись они на другой берег протоки, их обязательно затопит и снесёт в реку. Наконец, лиственница, скрипя и надламываясь снизу, упала вершиной на другой берег протоки. Бурков вскочил на неё и протянул Нине руку. Оказавшись на лиственнице, Нина сделала то, что нельзя делать: она посмотрела вниз. От бешеного потока под ногами у неё закружилась голова, и, не успев подать Буркову руку, она упала в воду. Что было с ней потом, она плохо помнила. Видела только, как Бурков бросился за ней, потом он ей, кажется, кричал: «Держись за меня!» И уже на другом краю протоки — это она хорошо запомнила — Бурков вытолкнул её на берег, а сам с головой ушёл в воду. На берегу, придя в себя, Нина бросилась бежать в ту сторону, куда унесло Буркова. Она что-то кричала, запутавшись ногами в кустарнике, падала, а когда решила, что Бурков утонул, села на землю и, уткнувшись лицом в колени, громко заплакала.
— Да жив я, жив! — услышала она за спиной голос.
Над ней стоял Бурков, с него ручьём бежала вода, он весь был в песке и глине.
— Бурков! Дядя Бурков! Милый! — бросилась к нему Нина и, прижавшись к его груди, заплакала ещё громче.
— Ай, опять забыла, как звать? — смеялся в ответ Бурков.
Вскоре он разжёг костёр и стал вокруг него для просушки одежды вбивать колья. Оказалось, несмотря ни на что, в воде он не бросил ни топор свой, ни рюкзак. Когда колья были вбиты, он приказал:
— Разболокайсь!
«Раздеваться что ли?» — не поняла Нина.
— Быстро! Скидавай всё! — объяснил ей Бурков и стал стягивать с неё прилипшую к телу мокрую штормовку. Через минуту Нина была уже в одном купальнике и не знала, куда себя от Буркова спрятать.
— Дура! — закричал, заметив это, Бурков и силой посадил её рядом с костром на сухую валежину, достал из рюкзака не успевшую промокнуть оленью шкуру и укутал в неё её грудь и плечи. Потом он вынул из рюкзака фляжку со спиртом и заставил Нину выпить. От спирта её чуть не стошнило, но уже скоро она почувствовала, как по всему телу, от головы до самых ног, побежало тепло. А Бурков уже развешивал по кольям её одежду и кипятил в кружке чай. От крепкого чая у Нины закружилась голова и, как показалось, даже потянуло в сон. Потом Бурков уложил её животом на шкуру и стал растирать спину спиртом. От спирта спина горела, а руки Буркова казались холодными и грубыми. «Ах, зачем это?!» — не понимала Нина. У неё никак не укладывалось в голове: как это она, почти голая, позволяет какому-то мужику мять ей спину.
В сухой одежде, в оленьей шкуре, Нина скоро уснула, а когда проснулась, на небе светило солнце, а в лесу пели птицы. «Хорошо-то как!» — подумала она и вылезла из-под шкуры. Бурков сидел у костра и пил чай.
— Дядя Вася, дайте и мне чаю, — попросила Нина.
— А, проснулась, — улыбнулся ей Бурков и налил чаю.
После чая Нину затошнило, и у неё закружилась голова. «Что это со мной?» — не поняла она.
— Ну, что, горишь? — спросил её Бурков. Оказывается, всю ночь она металась в жару и даже бредила. Да и сейчас она вся горела, а в голове гудело, как в железной бочке на ветру. Вскоре она потеряла сознание.
Пришла Нина в себя в вертолёте. Завернутая всё в ту же оленью шкуру, она лежала у пилотской кабины, рядом находился озабоченный чем-то начальник отряда Мартынов. Напротив их сидел Бурков, он смотрел в иллюминатор, по лицу его блуждала мягкая, как у ребёнка, улыбка. «Ах, какой он милый!» — подумала о нём Нина. Теперь, с этой улыбкой, он уже не казался ей, как раньше, юродивым, наоборот, казалось ей, эта улыбка его красила, придавала ему вид доброго и очень отзывчивого человека. «А ведь он мог и не броситься за мной в воду, — думала о нём Нина. — Утонула, да и утонула. Подумаешь, — рассмеялась она, — одной студенткой бы меньше стало».
— Какой студенткой? — не понял её Мартынов.
«Ах, это я в бреду! — поняла Нина, а увидев Буркова, решила: — Прилетим, я ему букет хороших цветов подарю».
На реке Зырянке
После дождя со снегом тайга отяжелела и, хотя дул ветер, была неподвижной и хранила молчание. Лишь с тополей, окружающих палатку, при каждом порыве ветра с шумом падали хлопья мокрого снега, да чозении, уже свободные от него, с треском сбрасывали с себя сухие ветки. В палатке было сыро и холодно, при ударе ветра она вздрагивала, как от испуга, по полу ходили сквозняки, коптил примус. В спальнике, укрывшись с головой, лежал больной Розин, у входа в палатку сидела Анна и пыталась разжечь примус. Розин просил то воды, то аспирина, а примус не разгорался.
— Да пропади всё пропадом! — тихо выругалась Анна и вышла из палатки.
С Розиным они вертолётом были заброшены в верховье Зырянки и теперь, обследуя береговые обнажения, сплавлялись по ней на резиновой лодке. Работали они в геологическом институте, он, с учёной степенью доктора наук и в профессорском звании, заведовал лабораторией, она, без степени, ходила у него в младших научных сотрудниках. По полученным на Зырянке материалам Розин обещал помочь ей в подготовке и защите кандидатской диссертации. Нужна ли ей диссертация, Анна не очень представляла. До института она работала в съёмочной партии. С практическим складом ума и физически крепкая, она была там на своём месте. В последнее время работала начальником отряда и находилась не на плохом счету у начальства. Два года назад вышла замуж за геолога, которого вскоре перевели в Магадан в управление. Анна, за неимением другого места, устроилась лаборанткой в институте, а геолог скоро спился и умер от инфаркта. Она решила вернуться в свою съёмочную партию, но помешал случай. В один из обеденных перерывов в коридоре к ней подошёл Розин. Видимо, оттого, что он был маленького роста, а костюм в талию подчёркивал худое сложение, ботинки на толстой подошве казались ему большими. Сделав ими выразительный реверанс в сторону Анны, он сказал:
— А ну-ка, коллега, зайдите ко мне.
В кабинете, где он усадил Анну в кресло, а сам сел напротив в другое, она обратила внимание на то, что ноги, обтянутые узкими брюками, у него тонкие, как палки, а коленные чашечки похожи на куриные яйца. И ей стало неловко перед ним за своё крепкое сложение. Поджав к креслу ноги, она закрыла колени руками, но, заметив, что руки по сравнению с руками Розина выглядят, как лопаты, она и их не знала куда спрятать. А Розин, мягко улыбаясь, говорил:
— По ряду ваших последних работ, коллега, я заметил, вы способный геолог, у вас исследовательский склад ума и тонкое чутьё на неординарные решения. Меня это радует, и, я надеюсь, наша с вами работа станет более плодотворной, если я предложу вам повышение.
Предложил Розин Анне должность младшего научного сотрудника. Не лишённая, как все женщины, тонкого чутья на внезапные мужские предложения, Анна поняла, что за предложением Розина кроется стремление приблизить её к себе не только как научного работника. Так как на запрос в съёмочную партию о возможности трудоустройства в ней ответа Анна не получила, с предложением Розина она согласилась. Да и после смерти мужа ей было всё равно, где работать и что делать. С мужем в последнее время она жила борьбой за возвращение его к трезвому образу жизни, а потеряв это, она сначала растерялась и долго не могла прийти в себя, а потом ей стало всё безразлично. И, видимо, поэтому в первую же ночь в палатке с Розиным она отдалась ему с тем безразличием, с каким отдаются жёны своим нелюбимым мужьям.
Выйдя из палатки, Анна взяла топор и пошла в лес за дровами. Она решила развести костёр и вскипятить чаю. В лесу было сыро, клочья нерастаявшего снега были похожи на грязные куски негашёной извести, ноги вязли в мокром мшанике, недалеко, под обрывом, взбешенная от дождей река гудела и с шумом разбивала волны о берег. Когда Анна вернулась к палатке с дровами и стала разжигать костёр, её позвал Розин;
— Аннушка, дай мне, пожалуйста, аспирина.
«Господи, да когда ж это кончится!» — разозлилась Анна и, чтобы успокоиться, закурила. Она знала, что сейчас будет. Розин высунет из спальника свою небольшую с залысинами голову, сморщит в редьку лицо и плаксивым голосом попросит: «Аннушка, посиди со мной. Мне без тебя так плохо!» Потом он будет говорить о том, что внезапная болезнь хуже всякой напасти, что у него всё ещё кружится голова и ломит в пояснице, и закончит словами; «Ты уж прости меня, милая, замучил я тебя, — и, глубоко вздохнув, добавит: — Что поделаешь, от болезни никто не застрахован». Иногда он делал вид, что ему легче, и тогда говорил: «Ах, Аннушка, вот поднимусь, а уж тогда держись!» Анне казалось, что за этой фразой кроется намёк на их половую близость, в которой он, поднявшись на ноги, обещает показать себя как надо, и чтобы не сорваться и не высказать своего отношения к этому, она брала сигарету и, присев у выхода, курила. «Не кури, пожалуйста, — стонал Розин, — ты же знаешь — я не курю и не переношу дыма».
Узнала Анна Розина по-настоящему на сплаве. Он трусил перед каждым прижимом, прежде, чем идти на него, приставал к берегу, выходил из лодки и, бросая в воду палочки, изучал течение. Если оно ему не нравилось, лодку со снаряжением перетаскивали по берегу. «Я ведь, Аннушка, за тебя беспокоюсь, — оправдывался он. — Не дай бог, перевернёмся, что с тобой будет!» Вечером, когда приставали на ночлег, после ужина Розин не разрешал тушить костёр на ночь. «В это время, — говорил он, — здесь страсть как много медведей». А однажды, у обнажения, когда на них вышел лось, он с испугу выронил из рук ружьё. На второй день сплава на одном из прижимов, где по палочкам Розин определил, что спускаться можно, их перевернуло. Он, захлёбываясь и пуская пузыри, вплавь выбрался на берег, а Анна, чтобы спасти груз, ухватившись за страховочный трос лодки, прибилась с ней к берегу ниже. Мокрого Розина трясло, как в лихорадке, не мог он долго согреться и у костра, а к вечеру у него поднялась температура. И теперь, вот уже третьи сутки, в ожидании, когда он поднимется, они сидят в палатке. Задерживает их и другое. Прошедшие дожди высоко подняли Зырянку, вода в ней с бешеной скоростью несла всё, что смывала с берега, кружила под обрывами водоворотами. Спускаться по такой воде было опасно.
Наконец, пришли погожие дни. Небо очистилось от туч, одетая в осенний наряд тайга засверкала в ярких лучах солнца, войдя в прежние берега, успокоилась Зырянка. Поднялся на ноги и Розин, но со сплавом, ссылаясь на то, что у него всё ещё головокружение, не торопился. «Трусит», — поняла Анна. Не прошло головокружение и на следующий день, и тогда Анна решила сплавиться одна до ближайшего посёлка и оттуда послать за ним вертолёт. «Что ты, что ты! — замахал на неё руками Розин. — Не дай бог, что с тобой случится!» На самом деле Розин боялся не за неё, а за себя. Он понимал: случись что с ней, он уже отсюда никогда не выберется.
В ожидании, когда Розин решится на сплав, Анна не знала, что делать. Ходила за грибами, но их было так много, что набрать, сколько надо, ничего не стоило, пыталась ловить рыбу, но на удочку рыба не шла, и, наконец, плюнув на всё, она с утра уходила на реку, разжигала костёр и сидела там до позднего вечера. Однажды в полдень ей показалось, что на реке, выше по течению, кто-то разговаривает. Потом она услышала всплеск весла, чей-то смех, а вскоре из-за поворота реки показалась лодка. Сидели в лодке двое: небольшого роста мужичок на корме, широкоплечий и высокий — на вёслах. Увидев Анну, мужичок вскочил на ноги, протёр глаза, и Анна услышала, как он с удивлением произнёс: «Баба!» Однако когда он сошёл на берег, приветствуя её, сказал:
— Здравствуй, барышня! — и, мягко пожав ей руку, представился: — Николаша.
Лицо у него было круглое, — глаза весёлые, нос по-мордовски вздёрнутый, короткие ноги в высоких болотниках.
— А этого дядю, — улыбаясь, показал он на своего товарища, — звать Гаврилой.
Гаврила был якутом. С типичными для якутов чертами лица, отличался он от них на редкость крупным сложением и голубыми глазами.
Когда Николаша с Гаврилой перенесли из лодки свой груз к костру, появился Розин.
— Здравствуйте, товарищи! — бодро приветствовал он их и, пожимая руки, представлялся каждому: — Профессор Розин.
Оба, и Николаша, и Гаврила, работали в расположенном в верховье Зырянки оленеводческом совхозе, а сейчас по своим делам сплавлялись в район. Анна была рада, что сплавляться договорились вместе, согласился с этим и Розин. Так как было уже поздно, решили начать сплав утром. Вечером к ужину Анна достала спирту, и все понемногу выпили. Пошли весёлые разговоры, тон которым задал Николаша.
— Вот я и говорю! — говорил он. — Кому кренделя, а кому хрен да ля-ля!
И рассказал историю, в которой все остались с носом, а он играючи взял свою удачу. Все поняли, что с Николашей этого никогда не было, всё он это придумал ради того, чтобы поднять всем настроение, не понял этого Гаврила.
— Зачем болтай? — рассердился он.
— Я болтай?! — делая вид, что сердится, ответил Николаша. — Ну, если я болтай, тогда кто и не болтай!
— А вот ещё случай! — начал он, явно, чтобы разыграть Гаврилу: — Иду я это по лесу. Всё как надо: ружьё с жаканом, бутылка водки на всякий случай. Шарик — собачка моя, — рядом. Ну, ладно. Выхожу на поляну, а там — вот они! Два медведя! На задних лапах, и на меня, заразы, смотрят.
— Зачем болтай?! — снова не вытерпел Гаврила. — Два медведя один тайга не живут. Каждый — свой тайга.
— Это у вас не живут, а у нас живут, — делая вид, что сердится, ответил Николаша и продолжил: — Ага… Вот я и говорю: два медведя. Ну, думаю, хана! Одному мне не справиться. Зову Шарика, а Шарика — и след простыл. Ага… Что делать?! — Николаша почесал затылок. — Хорошо, вспомнил про бутылку. Хотел было отпить, да где там! Один уже задней лапой землю роет.
Этого Гаврила не вынес.
— Медведь задний лап землю не копай! — вскричал он.
— У вас не копай, а у нас копай, — весело обрезал его Николаша.
— Где у нас?! Где у нас?! — вскочил на ноги Гаврила. — Америка, что ли, бегал?
— Ну, ладно, — не обращая на него внимания, продолжил Николаша. — Беру я это бутылку и вверх — аккурат над головами мишек, а потом шар-рах — жаканом! Бутылка вдребезги, а медведи — только их и видели! — и, рассмеявшись, добавил: — Всё ничего. Бутылку жалко.
Закурив, Николаша похлопал Гаврилу по плечу и сказал:
— А ты, Гаврила, не злись. Я ведь так, чтобы веселее было.
— Зачем зились? Я не зились, — ответил Гаврила. — Тайга зились. Она болтун не любит.
И словно в подтверждение этого, за рекой, где уже сгущались сумерки, ударил ветер, что-то, ломая сучья, тяжело упало на землю, а в распадке протрубил лось. Перебросившись через реку, ветер пронёсся по кронам окружавших палатку тополей, сорвал с них последние листья, а потом бросился на костёр. Вырвав из него пламя, он разбросал в стороны горящие ветки и в крутом вихре вернулся обратно. Там опять что-то тяжело упало на землю, а с реки, из-под обрыва, в испуге сорвалась стая уток.
— Типун тебе на язык! — тихо сказал Николаша Гавриле, а поднявшись от костра, предложил: — А не пора ли нам на боковую?
Гаврила ушёл на ночь в лодку, а Николаша в палатку. Анна была этим довольна: с Николашей Розин не полезет к ней в спальник.
Утро было солнечным, тайга в осеннем наряде играла многоцветьем, лёгкая дымка, зависшая над снежными вершинами Аргатаса, была похожа на вытканное из ситца покрывало, пели птицы, на реке, готовясь к отлёту, собрались в стаи утки, а в голубом небе, перекликаясь друг с другом, тянули на юг гуси. Когда всё было готово к сплаву, Николаша скомандовал:
— Гаврила, ты с профессором, а я с барышней.
Управлял Николаша лодкой, как игрушкой. Она легко обходила прижимы, не билась дном на перекатах, а на стрежне, где играли волны, Анне казалось, что она не в лодке, а на качелях, от которых, как в детстве, и захватывает дыхание, и кружится голова.
— У-ух, держись! — смеялся Николаша, когда их сбрасывало с высоких перекатов.
Хорошее настроение не покидало Анну весь день. Её радовало голубое небо, а убегающие назад прибрежные лиственницы в ярких лучах солнца казались похожими на нарядные ёлки. Это настроение ей портила похожая на паука сгорбившаяся фигура Розина в плывущей за ними лодке Гаврилы. Иногда фигура оборачивалась в её сторону, и тогда Анна видела сморщенное в редьку лицо с крупными на голове залысинами. «Господи, и что меня дёрнуло связаться с ним?!» — думала она, глядя на эту фигуру.
А вечером, когда пристали к берегу на ночлег, Анна услышала разговор задержавшихся у реки Розина с Гаврилой.
— Зачем девка брал один? — сердито спрашивал Гаврила. — Твоя один — мало. Тонуть можно.
— Обижаешь, Гаврила! — отвечал Розин. — Я на сплавах собаку съел! — а потом, поганенько хихикнув, добавил: — Да одному — оно и лучше. Делить ни с кем не надо.
Гаврила, зло сплюнув, пошёл помогать Николаше ставить палатку, а Анна, спрятавшись в кустах, долго плакала.
Закончив сплав на вторые сутки, Розин, не попрощавшись ни с Николашей, ни с Гаврилой, улетел в Магадан спецрейсом. Анна лететь с ним отказалась. Провожая её на рейсовый самолёт, у выхода на посадку Николаша мягко ей улыбнулся и сказал;
— Прощай, барышня! Дай бог тебе здоровья.
А Гаврила, пожав ей руку, сердито спросил:
— Зачем плохой человек любишь?! Ему морда бить нада!
В институте уже на следующий день Анна взяла расчёт. Сейчас она работает в съёмочной партии, у неё семья, муж тоже геолог, сын скоро пойдёт в школу. А Розин уже член-корреспондент Академии наук, у него много научных трудов, в перерыве между ними пишет литературно-публицистические очерки. Недавно вышла его брошюра «На Зырянке. Записки путешественника». В ней он, как и положено путешественнику, настойчив в достижении своей цели, вынослив, как тундровый олень, в преодолении опасностей смел и решителен. У обнажения, где он, увидев вышедшего на него лося, с испугу выронил ружьё, оказывается, всё было не так. Лось у этого обнажения внезапно бросился на него и хотел даже поднять его на рога, он же, ловко увернувшись, убивает лося одним выстрелом в голову. Николаша и Гаврила у него нанятые проводники. Они, как и положено аборигенам, не отличаются большим умом, наивны, как дети, и очень любят выпить, но, несмотря на это, знание ими местных условий и их природная находчивость не раз помогали выходить Розину из трудных ситуаций. По окончании путешествия Николаше он дарит своё видавшее виды ружьё, а Гавриле до черноты прокуренную у костров трубку. Анна у него выведена влюблённой в него практиканткой, она мила и обаятельна, но — что поделаешь, — как и все женщины, страшно боится воды и медведей. Ей он оставил на память своё открытое сердце и не опошленную половой близостью любовь. Когда Анна читала эту брошюру, она не знала, что делать: смеяться или плакать.
Короткие зарисовки
1. Сглаз
Весь день над тайгой кружил вертолёт, а вечером на лагерь вышел ловко сложенный мужичок, на голове которого, несмотря на лето, была шапка. С длинным, клювообразным козырьком, с оттопыренным правым ухом и вытертая до ваты, она была похожа на подстреленную куропатку, а в самом мужичке его пуговкой нос и круглое, похожее на горшок лицо выдавали простой, по-русски открытый характер.
— Васяга, — весело представился он и, присев к костру, снял с головы шапку, бойко ударил ей себя по коленке и рассмеялся; — О, дела?
— Какие ещё дела? — спросил от костра Пономарь, прозванный так за высокий рост и обросшую сердитой гривой голову. Всегда чем-то недовольный, он и сейчас смотрел на Васягу неприветливо.
— Каки дела, говоришь? — переспросил Васяга. — А как сажа, бела. Ушли и нету-ти.
— Кто ушли и нету-ти? — начал сердиться Пономарь.
— А наши, — прикурив сигаретку от костра, ответил Васяга.
— Тьфу ты! — сплюнул Пономарь. — Кто наши-то?
— А ты не злись, — заметил Васяга и снова рассмеялся: — Наши-то, говоришь? А дураки! Говорил им, а они: ха! Вот и ха: налимы в брюхе.
— Ну, даёт! — рассердился Пономарь. — Какие налимы? Ты можешь по-русски?
— С анбицией, — мотнув в его сторону головой, весело заметил Васяга.
Было похоже, что он хочет сообщить нам что-то и важное, и интересное, но не знает, как к этому подступиться.
— А ты не гони, — остановил он Пономаря. — Не всё враз: кому жменя, а кому и мене.
— Какая жменя?! — уже застонал Пономарь и посмотрел на нас так, словно искал от этого дурака защиты.
— Жменя, говоришь? — верный себе, переспросил Васяга. — А это когда в ладошке хрен да маненько.
Этого Пономарь не вытерпел.
— Ты эскимос? — закричал он. — Ты зачем сюда пришёл?!
— Вот я и говорю, — не обращая на него внимания, продолжал Васяга. — Шурин, брательник жинки: я, грит, Васютка, — он меня Васюткой зовёт, — твово сглаза боюсь.
— Ты ещё про налимов расскажи, — зло перебил его Пономарь.
— Про налимов, говоришь? — как будто обрадовался Васяга. — А что, тоже рыбка. В уху не годится, а на жарёху: я тебе! Так вот, — вернулся он к своей теме, — я и говорю. Сглаз у тебя нехороший, грит мне шурин, брательник жинки. Посмотришь, грит, и всё по-твоему.
В конце концов, мы поняли, что в тайге Васяга ищет двух пастухов, затерявшихся в ней пять дней назад. Пошли искать отбившихся от стада оленей и нет их.
— Говорил им, дуракам, — смеялся он, — не ходите. Сёдня сглаз у меня нехороший. Завтра идите. А они: ха! Вот и ха: утопли, наверное.
По тому, как Васяга говорил о своей способности к сглазу, было видно, что это и есть то главное, к чему он долго не мог подступиться. Правда, выдавал он это с видом человека, который и сам-то не очень верит в то, что говорит.
— Шут его знает, — продолжал он, — намедни собака у шурина издохла. А он: я, грит, Васютка, — он меня Васюткой зовёт, — за сглаз мово Шарика тебе морду набью.
— «Намедни!» — зло передразнил его Пономарь и сплюнул в костёр.
— А ты не злись, — уже строго заметил Васяга, — и не таких тайга хайдакает.
И, как показалось, нехорошо посмотрел на Пономаря.
— Да пошёл ты! — выругался Пономарь и, взяв топор, ушёл валить для костра недалеко стоящую сухую лиственницу. Раз ударил по ней, два — не поддаётся. Рассердился да как ахнет третий, она и сбросила ему на голову свою верхостоину. Ойкнул Пономарь и тяжело осел на землю.
— Ишь, ты! — удивился Васяга и, быстро попрощавшись, скрылся в тайге.
2. Только по праздникам
У костра сидели двое: на толстом бревне — грубосколоченный Чугунков с рыжими от курева усами, на жёрдочке — худая, в другом ничем не примечательная Маргарита Ивановна. Стоящая за их спиной палатка была одна на двоих, и Чугунков ждал ночи. «Надо поделикатней, — глядя на Маргариту Ивановну, думал он, — а то скажет: бабник». Была у него припасена и бутылка водки. Маргарита Ивановна тоже ждала этой ночи. Глядя на Чугункова, она думала: «Надо построже, а то скажет: проститутка».
— Что ни говорите, Маргарита Ивановна, — начал разговор Чугунков, — а всё идёт от большой любви.
— Ну, уж, — не согласилась с ним Маргарита Ивановна, — где это вы её видели?
— А вот и видел, — ответил Чугунков игриво.
— А видели, так и расскажите, — потребовала Маргарита Ивановна.
Так как в своей жизни Чугунков большой любви не видел, он её стал выдумывать. Своего друга Ваську, недавно утонувшего в реке по-пьянке, он представил по-большому влюблённым в свою потаскуху Катерину. Когда эта Катерина, — а она в рассказе была не потаскухой — ему отказала, Васька забрался на высокий утес и оттуда сбросился. Врать Чугунков не умел, и поэтому увязать правду с вымыслом, а начало с концом ему не удалось.
— В общем, допился, — закончил он свой рассказ.
— Как допился?! — не поняла его Маргарита Ивановна. — Он что, пил?
— Только по праздникам, — спохватился Чугунков.
— Пьянство и любовь несовместимы, — категорически заявила Маргарита Ивановна. Чугунков стал прикрывать рюкзаком уже вынутую из него бутылку водки.
— Что это вы там прячете? — увидела Маргарита Ивановна.
— Да так, — пробормотал Чугунков и сделал вид, что роется в рюкзаке.
— А чего в рюкзаке ищете? Уж не водку ли?
Чугунков перестал рыться в рюкзаке и уставился рыжими усами в костёр. Ему было неловко. Казалось, что его, как мальчишку, поймали за нехорошим занятием. «Ну, и пошла ты!» — решил он и стал устраивать лежанку у костра.
— Уж не спать ли вы здесь собрались? — спросила Маргарита Ивановна.
— Ну, и что?! — грубо ответил Чугунков.
— Так ведь холодно, — забеспокоилась Маргарита Ивановна.
— Водкой согреюсь, — успокоил её Чугунков и, набросив на себя одеяло, растянулся у костра.
«Переиграла», — поняла свою ошибку Маргарита Ивановна и решила её исправить.
— Чугунко-ов, — пропела она, — а хотите, и я расскажу про любовь?
Чугунков, притворившись, что спит, промолчал. Зная, что он не спит, Маргарита Ивановна стала рассказывать.
Так как и Маргарита Ивановна в своей жизни особой любви не видела, и она её стала выдумывать. Подружку свою, Ириску, недавно высланную из посёлка за проституцию, она представила без памяти влюблённой в мужа алкоголика. Когда этот муж, — а в рассказе он был не алкоголиком, — бросил её, она ушла в монастырь.
— В общем, допрыгалась, — закончила свой рассказ Маргарита Ивановна.
— Как допрыгалась?! — выскочил из-под одеяла Чугунков. — Она что?..
— Только по праздникам, — перебила его Маргарита Ивановна и весело рассмеялась.
— Маргарита Ивановна, — вскричал Чугунков, — а не устроить ли и нам праздник?!
— Отчего же, — согласилась Маргарита Ивановна.
3. Без отрады
Плоскогрудая и худая — хоть в гроб ложи — Катька, работавшая в геологоразведке уборщицей, попала под сокращение. Когда, возмущённая этим, она зашла к начальнику экспедиции, физиономия начальника экспедиции, похожая на раскалившийся чугунок, кроме негодования, ничего не выражала. Он только что поговорил с Москвой, и на его вопрос: чем выплачивать людям задержанную с прошлого года зарплату, — ему ответили, что Москва таких вопросов уже не принимает. Вышла Катька от начальника экспедиции с похожим на вымоченную репу лицом, а длинный нос её, залитый слезами, был красным.
Приложивший первую руку к сокращению Катьки завхоз, мужичонка по-заячьи узколобый и с вечно затравленным взглядом, увидев её, так растерялся, словно прихватила она его за нехорошим занятием.
— Ты, Катя, того… не падай духом, — пряча лицо в сторону, забормотал он. И тут же пообещал: — Как будет вакансия, я тебя вот сразу и устрою.
А вечером Катьку наущала битая на все случаи жизни хохлушка Ганна:
— Катарына, що тебе кажу: к поселковой голове ходы. Мабуть, помогнёт. А ни-то и горилки прихвать. Кажи, на последний грош купляла. Нехай вин ею подавиться.
«Поселковый голова», увидев на своём столе Катькину бутылку, весело расхохотался.
— Девонька, иди ты с ней в баню, — утирая нахлынувшие от смеха слёзы, выдавил он из себя. А успокоившись и подойдя к окну, вдруг кому-то зло пожелал:
— Чтоб вас там всех перевернуло. Душу людям испоганили.
А Катьке бросил:
— Таких, как ты, у меня во!
И срезал себя по горлу ладонью.
Вскоре Катьке и есть было нечего. И тогда ей стало казаться, что она никому не нужна, а вечерами, когда поселок погружался в скованное морозом безмолвье, на неё накатывала такая тоска, что хоть в петлю. И она бы, наверное, залезла в эту петлю, не зайди к ней сосед Груша. Это был худосочный и невзрачный на вид мужичонка. Жил он, как получится, и поэтому ничего в этой жизни его не тяготило. Давно потеряв работу, он перебивался бог знает чем.
Катькино горе он решил залить вместе с ней вином. Отыскав в своей заначке на бутылку, он побежал в магазин.
— Чё тебе? — словно с потолка, а не из-за прилавка выстрелила в него там огромная, похожая на бомбу продавщица Вера. Видимо, потому, что в магазине уже никого не было, отоварив Грушу, она ушла в подсобку. И тут, когда правая рука Груши брала бутылку, левая, непроизвольно, как бы сама собой, смахнула с прилавка палку колбасы в сумку.
— А эт-та что такое? — тут же раздался за его спиной голос. Обернувшись, Груша увидел стоящего над ним с кавказским носом сожителя Веры. Не удостоив Грушу и презрением, он с дебильным равнодушием взял его за шкирку и молча потащил к выходу.
— Аванес, под дыхало ему! Под дыхало! — выскочив из подсобки, кричала вслед Вера.
На улице Аванес дал Груше под зад пинка и, сплюнув с крыльца, возвратился в магазин. Груша готов был убить Аванеса, но обнаружив, что колбаса при нём, погрозил кулаком Аванесову окну и вприпрыжку побежал к Катькиному дому.
Рассказал о случившемся в магазине Груша, когда они допивали бутылку. Груша весело смеялся, а Катька, узнав, что ест ворованную колбасу, плакала.
4. Не высовывайся
Пенсионер со странной фамилией Семеро-Гогель в своём неуёмном стремлении навести в посёлке порядок никому не давал покоя. Увидит сорванца в неположенном месте: иди сюда — и за ухо. Встретит вертихвостку в короткой юбке — осрамит при всех. А пьяную бабу заметит — ой, держись баба! И ногами затопает, и руками замашет, и обругает последним словом.
Надоел он всем, дальше некуда. Стали жаловаться на него председателю поссовета. А председатель поссовета смеётся: как же я его прищучу, если сами хороши. Хороши, не хороши, отвечают ему, но ведь невмоготу уже. На старух стал кидаться. Говорит, в гроб пора, а всё лясы точите.
Выручил известный в посёлке баламут Яшка. Приходит он однажды к этому Семеро-Гогелю и говорит:
— Дядя Ваня, нехорошие слухи ходят.
— Слухи, говоришь? Давай, выкладывай, — клюнул на Яшкину приманку Семеро-Гогель.
Яшка много не стал говорить, а сразу брякнул:
— Говорят, дядя Ваня, пьёшь ты сильно. Тётка Дарья, слышал вчера, так и сказала про тебя: запойный старикашка.
И посоветовал:
— Ты уж лучше втихаря, как говорят, под одеялом.
— Под каким одеялом? — вытаращил глаза на Яшку Семеро-Гогель. — Я же не пью.
— Пьёшь, не пьёшь, а раз говорят, пьёшь, значит, пьёшь, — резонно заметил Яшка.
После этого, расправившись с очередной жертвой, Семеро-Гогель ругал и тех, кто стоял рядом.
— Я покажу вам, как я пью! — кричал он.
И этим Семеро-Гогель всё испортил. Если раньше никому и в голову не приходило, что он пьёт, то теперь, не понимая его, многие стали в этом сомневаться. Обратили внимание на его красный нос, слезящиеся, как у алкоголика, глаза и нетвёрдую походку. А однажды, когда он расправился со своей новой жертвой, она ему выдала:
— Сам-то ты кто? Алкоголик несчастный!
Семеро-Гогеля как будто палкой ударили по голове: он зашатался, нелепо замахал руками, у него онемели ноги. Сгорбившись и что-то бормоча под нос, он скрылся в подъезде своего дома.
С тех пор Семеро-Гогеля никто не видел, а поселок зажил обычной жизнью.
5. Держись, профессор!
Приезд профессора оказался неожиданным. Ждали его вечером, приготовили для поездки в аэропорт машину, а он прикатил на попутке утром. Шофёр, передавая его нам, весело заверил:
— Не соскучитесь!
Из машины выскочил старикашка с маленькой, в три прутика, бородкой и ногами, похожими на две кривые палочки. Он тут же потребовал, чтобы его немедленно везли в поле, на рабочий объект. Митину, начальнику партии, едва удалось уговорить профессора сначала обустроиться с жильём. Когда же Митин предложил ему люксовый номер поселковой гостиницы, он стал страшно ругаться.
— Только в общежитие! К моим мальчикам! — категорически потребовал он.
А мальчики — это его студенты — тут же стайкой стояли в стороне и чему-то ухмылялись. О них мы уже знали всё: геология им была до лампочки, а практика у нас что свободное посещение лекций в институте.
Сначала профессор решил выяснить, как они питаются. Родом из деревни, он знал: работает тот, кто хорошо ест. Не обнаружив у них в комнате ничего, кроме одной банки тушёнки и батареи пустых бутылок, он ужасно расстроился. «Неужели, — не поверил он, — они так низко пали?» Поверил он в это ночью, когда студенты вернулись из ресторана.
Это был первый удар по профессору. Второй удар пришёлся в кабинете главного геолога Коровина. Появился у него профессор утром и сразу бросился в атаку:
— Полагаю, дорогой коллега, вы хорошо понимаете, что без науки, без её фундаментальных и прикладных исследований практика — голый ноль.
— Оно, конечно, — пробормотал Коровин и подумал: «Чёрт меня дёрнул с моими почками вчера выпить. Вот попробуй теперь с ним разговаривай». А профессор между тем продолжал:
— Не скрою, мы на кафедре глубоко изучили материалы по вашему району. И что вы думаете? У вас тут масса полезных ископаемых.
И он вскинул бородку на Коровина в ожидании его мнения.
— Когда как, — ни к селу, ни к городу ляпнул Коровин и вновь чертыхнулся.
А профессор не унимался:
— Вы думаете, я приехал сюда с пустыми руками? Глубоко ошибаетесь! Я привез договор о творческом содружестве с вами. Как вы на это смотрите? — и бородка профессора опять прыгнула на Коровина.
— Безо всяких, — не хватило на большее Коровина. От боли в боку у него потемнело в глазах, закружилась голова.
— Извините, профессор, — сказал он и вышел из кабинета.
Ничего не понявший профессор, оставшись один, долго ходил из угла в угол, что-то бормотал под нос, хватался за голову, но Коровина в этот день он так и не дождался.
Третий удар по профессору нанёс взрывник Груша. Этот подлец подсунул ему в поле человеческий череп, подобранный им на старом зэковском кладбище, где, как известно, покойников никогда глубоко не зарывали.
— Рванул я это на канаве, — врал Груша, — и вижу, ё-моё, череп летит. Думаю, чем чёрт не шутит, вдруг профессору сгодится.
— Сгодится? — вскричал профессор. — Да вы понимаете, что говорите? Это же ценнейшая археологическая находка.
И с торжественной нотой в голосе объявил:
— Товарищ Груша, вы вскрыли могильник первобытного человека.
И немедленно взялся за череп. Укрепил отвалившуюся при взрыве челюсть, сделал необходимые обмеры и зарисовки, а вечером тщательно упаковал его в специально сделанный ящик. На следующий день он ходил с Грушей на канаву. Её он, кажется, только не обнюхал. Задокументировал вскрытые ею породы, взял из них образцы, пытался по косвенным признакам определить место самого захоронения. Не вынес издевательства над ним начальник отрада.
— Простите, профессор, это была шутка, — сказал он ему грустно.
…Увозил профессора в аэропорт Митин. Оба всю дорогу молчали. По ходу машины, убегая назад, мелькали нарядные лиственницы, на голубой глади уплывающих за ними озёр купались утки, иногда дорогу перебегали зайцы, но всё это профессора не трогало. С осунувшимся лицом и ничего не выражающим взглядом, он, кажется, весь ушёл в себя. А когда машину подкидывало на ухабах, он вздрагивал, бросал на Митина злой взгляд и жался в угол кабины.
6. Брусника
Приехала Марья к мужу на Колыму осенью. Муж здесь отбывал, ссылку, которую получил за длинный язык. Узнала его Марья с трудом. Лицо его стало грубым, на голове появилась лысина, а отпущенная им борода была похожа на грязную мочалку. Убила Марью и обстановка, в которой жил муж. Эвенка, у которой он снимал квартиру, сильно пила, в избе пахло помоями, окна наполовину были забиты фанерой, с грязного потолка свисала паутина. Обойдя село, Марья поняла: чище квартиры она не найдёт.
— Э-э, мать, где наша не пропадала! — успокоил её муж.
А вот природа Марье здесь понравилась. Сразу за селом пробегала речка. Она весело звенела на перекатах, на берегу её резвились кулички, в заводи плавали дикие утки. И кругом, куда; ни глянь стояла тайга. На взгорьях она была зелёной, а внизу уже тронутая осенью, утопала в разноцветье. Один раз на другом берегу речки Марья увидела оленя. Сначала она его испугалась, а когда заметила, что он, не обращая на неё внимания, пьёт воду, стала им любоваться. Напившись, олень коровьими глазами уставился на неё. Марье показалось, что он хочет подойти к ней, и она стала звать его. Услышав её голос, олень быстро убежал в лес.
Работал муж в совхозе кузнецом. Что он там ковал, Марья не знала. Когда она однажды пришла в его кузню, то увидела, что в ней сидят мужики и пьют водку. Только после этого она стала замечать, что возвращается муж с работы каждый день подпитым. Когда Марья за это его поругала, стало ещё хуже. Возвращался муж домой после этого уже нередко пьяным. Не зная, что делать, Марья растерялась. Нашла она выход в том, что стала покупать ему каждый вечер водки. За это муж обещал не пить на работе. Конечно, от этого жизнь Марьи не стала лучше. Выпив, муж говорил так громко, что у неё болела голова. Разговор его ей был неинтересен. Муж постоянно хвастался, говорил, что если бы не он, то без его кованых саней совхоз давно бы развалился. Правда, иногда он и шутил, но шутки его были всегда грубыми. Один раз хозяйке своей, пьяной эвенке, он вместо водки налил керосину, эвенка его выпила и, кажется, ничего не поняла. А Марье он рассказал, что-в своей кузне, когда там пил, своих собутыльников для хохмы кормил вареной собачатиной. Говорил он им, что это баранина и ели они её с большим удовольствием.
В один из выходных дней муж повёл Марью за брусникой. Оказывается; росла она прямо за селом, и было её там видимо-невидимо. На небе светило солнце, воздух был напоён густым настоем лесной прели и багульника, и собирать бруснику было одно удовольствие. Она сама просилась в руку и была такой крупной, что больше трёх не умещалась в ладошке. Марья быстро набрала свою корзинку, а потом, присев на полянке с необобранной брусникой, стала её есть. Вскоре она обратила внимание на то, что сельчане, не останавливаясь на их бруснике, идут за ней дальше. Зачем, не поняла Марья, ведь и здесь её так много.
Вечером из брусники Марья варила варенье, делала желе и пекла с ней пирожки. Она была этим так довольна, что разрешила мужу взять бутылку водки и посидеть с друзьями. А сама, когда он ушёл, села за стол и с большим удовольствием стала есть пирожки и запивать их брусничным чаем.
Вернулся муж от друзей вечером. Был он весёлым, а увидев, как Марья ест пирожки, громко расхохотался:
— Брусника-то знаешь, откуда?
— Откуда? — удивилась Марья, что он задаёт ей такой вопрос.
— С кладбища! — схватившись за живот, расхохотался он ещё громче.
— Как с кладбища? — не поняла Марья.
— А вот так! — ответил муж и сказал ей, что собирали они сегодня бруснику на бывшем кладбище заключенных.
Марью стошнило, ночь она проплакала, а утром, когда муж ушёл на работу, решила от него уехать. Хватило её только на то, чтобы собрать вещи. Представив, что будет с мужем, если она уедет, Марья осталась.
7. Прозрение
Начальник экспедиции Сыромятин всю жизнь знал только работу. По кривой её успехов и падений, по отчётным и торжественным датам отсчитывал он земной ход времени. Дома, в семье, время для него стояло на месте. Там он только ел, пил и спал. Жену он замечал, когда она болела, дочь — когда просила деньги. Не было у Сыромятина и друзей. На работе он видел одни штатные единицы, в соседях по дому — сожителей, на улице — рабочую силу. О себе он судил по делам экспедиции. Когда они шли хорошо, у него расправлялись плечи, с мордовского лица не сходила улыбка, и, казалось, он прибавлял в росте. Если же они шли плохо, он сжимался, как порченая девка на выданье, мучился совестью, а вытянутое в кислом выражении лицо становилось кроличьим.
В управлении Сыромятина ценили и всегда ставили в пример другим. Там он не сходил с доски почёта, а по итогам года его выделяли отдельной строкой. Однажды, когда этого не сделали, он заболел и долго не выходил на работу. А не выделили Сыромятина в отдельную строку потому, что в управлении стало не до него. В неуёмном стремлении всё переделать рука московских реформаторов ударила и по Колыме. Вздрогнула её холодная земля, посыпались золотые прииски, а над управлением нависла угроза ликвидации. Управление не ликвидировали, а экспедиция Сыромятина в чёрный список попала.
В предвестии беды Сыромятин растерялся. Всё, чем он жил, рухнуло. Штатные единицы, обретя физиономию, стали неузнаваемы: дальновидный экономист Яшкин, оказывается, косил на оба глаза, всегда стоявший навытяжку нормировщик Пуговкин был горбатым, а бухгалтер Краснова, схватывающая на лету любое его слово, плохо слышала. По-другому он увидел и соседей. Сосед напротив неожиданно оказался его кумом, а тот, что наверху — племянником. И на улице ходила не одна рабочая сила. На ней, оказывается, играли дети, а школьники ходили с портфелями. Не узнал он и своей семьи. Дочь уже давно вышла замуж и ходила беременной, — а муж её по большим праздникам уходил в запои.
Когда экспедицию ликвидировали. Сыромятин совсем упал духом и не стал выходить из дому. Он похудел, мордовское лицо вытянулось и обрело рыбье выражение, днём, когда все были на работе, он слонялся из угла в угол и не знал, к чему приложить руки, а вечером запирался в спальне. Жена его раздражала, дочь казалась, чужой, а пьяного зятя он готов был повесить.
Однажды, когда Сыромятину стало совсем невмоготу, он решил сходить в лес за грибами. В лесу ему понравилось. Там пели птицы, пахло смолой, светило солнце. Вскоре он стал ходить туда каждый погожий день. От птичьего многоголосья у него теперь поднималось настроение, запах смолы приятно кружил голову, а под солнцем он раздевался до пояса, ложился в траву и ни о чём не думал. Вернувшись из леса, он шёл к куму. Вместе они пили пиво и играли в шашки. Кум работал простым слесарем, и на работе у него голова ни о чём не болела. Вечерами он смотрел телевизор, воспитывал детей, а по выходным дням ездил на рыбалку. У него всегда было хорошее настроение, и Сыромятин ему завидовал. «И почему я так не жил?» — спрашивал он.
Вскоре дочь Сыромятину родила внука. Уже с первых дней этот внук стал проявлять характер. У матери он кусал грудь, а бабушкину кашу выплёвывал. В три года он всеми командовал, а в пять лет заявил, что, как вырастет, станет начальником. Услышав это. Сыромятин его выпорол.
8. Дед и Венька
Это был последний полевой сезон в его жизни. Завтра ударит воздушной волной вертолёт по багульнику, взвихрит кроны лиственниц, взмоет стрекозой в небо, и… прощай, поле!
А сейчас он сидел у костра. Холодное солнце опускалось в верховье реки, тополя и чозении бросали вечерние тени на береговую отмель. Высоко в небе, спеша на юг, кричали гуси. Приближалась зима. Она была рядом, в ледяных заберегах потемневшей реки; в мутном белоснежье верхнего пояса близлежащих гор. От сознания, что видит всё это в последний раз, у него щемило сердце. Здесь, а не там, где жена и дети строили свое уютье, был его дом. Здесь он хорошо знал, как выследить оленя, поймать хариуса, найти на горной вершине воду, выпечь на костре хлеб, но терялся в городской суете, в бросающем вызов времени многоголосье, не знал, как пользоваться микроволновой печью, видеомагнитофоном.
— Дед, айда спать! — позвали его из палатки, вспугнув недалеко задремавшего на водопое лося. Раздался треск сучьев, испуганный бурундук свечой вскочил на вершину лиственницы. И, снова стало тихо.
Спать он не хотел. Ненавязчивой вереницей проплывали в его памяти дни прожитой жизни. Вот оно, горькое, как полынь, детство. Голодные школьные годы, студенческая общага, первая любовь…
Геология стала для него не средством существования, а целью жизни, духотворчеством. Всю жизнь проработав в поле, кабинетных геологов он недолюбливал. На словах они были, как говорят, с царём в голове, а на деле; считал он, это было юркое мелкорыбье.
От крепкого чая боль в ногах стала утихать. Ему стало веселее, и он вспомнил, как худой и длинный студент Венька разыграл его по возвращении из последнего маршрута.
— Дед, угадай, что я тебе скажу, — предложил он.
Дед промолчал.
— По рации передавали, что таких, как ты, на материке уже не принимают. А знаешь, почему? — и сам ответил: — Боятся. У тебя, говорят, наган с большими пулями.
— Правильно делают, — согласился дед.
Однако, чувствуя подвох, схватился за кобуру. Предназначенного для отпугивания диких зверей оружия там не было. Оказалось, что когда он ещё неделю назад задремал у обеденного костра в маршруте, Венька его оттуда вытащил.
Вообще Венька был разудалый весельчак и большой артист. Отталкивало от него одно: отвечал он на все вопросы не прямо, а косвенно, отчего понять его было трудно. Когда дед однажды спросил, женат ли он, Венька, встав в позу вдохновенного декламатора, ответил стихами, видимо, собственного сочинения:
Опять иду к своей зазнобе, А в сердце, ой, играет кровь! Я раньше думал: это хобби, А оказалось, что любовь.Утром по рации передали, что из-за отсутствия в порту горючего вертолёта не будет. Решили добираться своим ходом до ближайшего посёлка, а оттуда до города — сплавом и на попутках.
Дед стоял на руле, Венька с биноклем в руках и верхом на рюкзаке играл роль капитана. Через час проплывали у креста, поставленного на месте гибели геологов при сплаве. Стоял он на высоком яру и, освещённый утренним солнцем, был похож на гигантскую птицу, взмывавшую в небо. Дед снял шапку, а Иван, колодообразного вида рабочий, плюнул в воду и пробормотал:
— Нашли своё.
В полдень их перевернуло. Сломалось рулевое весло, неуправляемый плот ударился в скальный утёс на прижиме. Дед и Иван вплавь выбрались на берег, а Венька, ухватившись за нависшую с берега лиственницу, болтался вытянутой по течению кишкой. Выпустить её и добраться, как его товарищи, вплавь до берега он уже не мог: страх убил рассудок. Забраться же на неё из-за большой тяги по течению ему не хватало сил. Дед, понимая, что, обессилев, он выпустит из рук лиственницу и пойдёт на дно, забежал вверх по течению, сбросил с себя сапоги и, крикнув Веньке: «Держись, сынок!» — бросился в воду. Сильным рывком оторвав его от лиственницы, он с большим трудом доплыл с ним до берега.
У костра Веньку трясло, как в лихорадке. Лицо было белым, губы дёргал нервный тик. Дед радом с костром камнем вбивал колья для просушки одежды. Иван угрюмо молчал.
— Дед, возьми, — тихо сказал Венька и протянул часы. Это были замечательные часы, с будильником и подсветкой. Часы Дед взял, а Веньке на память отдал свои, старенькие, с потускневшим циферблатом.
9. Двое
Пятый день шёл дождь. В палатке было сыро и холодно, коптил примус, от развешенной над ним одежды несло едким запахом немытого тела, а от портянок кислым потом, меховые спальники от сырости набухли и стали похожи на мешки из сырой кожи, они не грели, и ночью приходилось вставать и греться у примуса. В ожидании хорошей погоды, когда вода в реке упадёт и можно будет сплавляться, в палатке находились двое: геолог Иваньков Гриша и топограф Кретов Иван. У худого Иванькова была рыжая клинышком бородка, очки в толстой оправе на маленьком, в блюдечко, лице казались не по размеру большими, а у крупно сложенного Кретова большой бугристый нос, тонкие губы и глубоко посаженные серые глаза. Обоих мучило вынужденное безделье, и, как это часто бывает с людьми, надолго замкнутыми в тесные рамки общежития, они уже плохо терпели друг друга.
— Н-ну, и погодка! — вернувшись с реки, сказал Иваньков и, присев к примусу, стал греть руки.
— Погода как погода, — пробурчал Кретов. — На то и осень!
— Ну, не скажи! — возразил Иваньков. — Осень — это бабье лето. А с ним всегда и тепло, и сухо.
И стал объяснять, с чем это связано. По его выходило, что тепло идёт от разлагающегося лесного опада, потому что разложение — это окисление, а оно без выделения тепла не бывает. Не дослушав, почему в бабье лето ещё и сухо, Кретов вышел из палатки. От ударившего в лицо мокрого ветра его передёрнуло, как от холодной воды в бане. Накинув башлык плаща на голову, он пошёл к реке. Словно взбесившись, она несла всё, что смывала с берега, у недалеко расположенного прижима крутила водовороты, а ниже, на перекате, вздымалась высокой волной. Другой берег реки был затянут плотной пеленой дождя, а когда налетал ветер и рассеивал пелену, на нём обнажался скальный утёс с кривой наверху лиственницей. Возвращаться в палатку Кретову не хотелось, его раздражал Иваньков. «И что из себя строит», — не понимал он. Вечером, когда ложились спать, Иваньков раздевался до плавок, делал несколько приседаний, после чего нырял в свой спальник и говорил Кретову:
— А ты зря в одежде ложишься. Она мокрая и при испарении будет выделять холод.
И объяснял, что выделяется этот холод потому, что испарение — это процесс, обратный окислению.
— Ты бы лучше примус подкрутил! Дышать нечем, — обрывал его Кретов.
— И то правда, — выскакивал из спальника Иваньков.
Когда, дрожа всем телом, Иваньков возился с примусом, Кретову он казался похожим на трясущегося от холода мышонка, а когда, возвратившись от примуса, лез в свой спальник, ему казалось, что от него пахнет мышиным помётом.
А утром уже Иваньков злился на Кретова. Ему казалось, что он специально не вылазит из спальника первым, чтобы вскипятить чаю. «Ведь притворяется, что спит», — зло думал он и, покрутившись в своём спальнике, вылазил из него и ставил чайник на примус. После этого он делал физзарядку. Глядя на него, злился уже и Кретов. «И чего выдирается! — думал он. — Только в тайге этим и заниматься!»
После чая они решали, кому варить на день.
— Я вчера варил, — говорил Иваньков.
— Ха, вчера! — зло смеялся Кретов. — А ты не помнишь, мы договаривались меняться через два дня!
— Не было этого, — не соглашался Иваньков.
Кретов вскакивал с нар и кричал:
— У тебя что, скотина, память отшибло?
— От скотины слышу! — бросал ему Иваньков и, зло сплюнув, выходил из палатки.
Как и Кретову, мокрый ветер бил ему в лицо, отчего и он передёргивался, как от холодной воды в бане. И на реке он видел те же бешено несущиеся к прижиму мутные потоки, там они крутили водовороты, а на перекате вздымали крутые волны. «Господи, когда всё это кончится?!» — спрашивал Иваньков и уже не верил, что когда-то и сюда придёт сухое и тёплое бабье лето.
Вечером Иваньков с Кретовым чуть не перестреляли друг друга. Случилось это так. За ужином Иваньков сказал Кретову:
— Ты бы хоть не чавкал!
— Я чавкаю?! — вскричал Кретов и, бросив ложку на стол, вскочил на ноги.
— Да, чавкаешь, как свинья! — решил не отступать Иваньков.
— Я свинья?! Я свинья?! — бледнея, заорал Кретов и бросился к ружью.
Взять его в руки он не успел. Иваньков достал из кобуры служебный пистолет и тихо произнёс:
— Ещё движение, и ты труп!
— Ну, падла! — выскочив из палатки, кричал Кретов. — Я тебе покажу свинью! Я тебя живым из палатки нё выпушу!.
Ночевал Кретов у костра в сделанном на скорую руку шалаше, а утром, когда проснулся, на небе светило солнце, в лесу пели птицы, на ветке рядом стоящей лиственницы свиркал бурундук. Со спадом воды в реке Иваньков с Кретовым стали сплавляться. По всё ещё резвой воде резиновая лодка шла легко, на стрежне у борта её ласково шлёпали волны, у прижимов она ловко обходила опасные участки, а когда, за перекатами её сбрасывало в глубокие водовороты, у Иванькова и Кретова захватывало дыхание и кружилась голова. Настроение у обоих было хорошее. Скоро будут дома, а там… э-э, да что там! И банька — вот она рядом, и забегаловка: сиди в ней, тяни пиво, а что за окном: дождь ли идёт, снег ли валит — не всё ли равно! Портило настроение Иванькову и Кретову оставшаяся от ссор неприязнь друг к другу. Они всё ещё не разговаривали, а когда надо было что-то согласовать по сплаву, делали это как немые, с помощью рук и мимики. Первым молчания не вынес Иваньков.
— А погодка-то какая, а! — глядя в небо, произнёс он.
— Ты мне ещё про бабье лето расскажи, — не зло пробурчал в ответ Кретов.
— И расскажу! — рассмеялся Иваньков.
— И расскажи! — рассмеялся и Кретов.
И тут их словно прорвало. С хохотом, копируя друг друга, они кричали:
— Гриша, как это ты: не чавкай!
— А ты, Иван, у тебя что, скотина, память отшибло?!
— А ты: от скотины слышу!
Когда были исчерпаны все воспоминания, Иваньков спросил:
— Иван, а ты и правда бы меня застрелил?.
— Кто знает, — задумчиво ответил Кретов. — Ведь затмение на меня нашло.
И тут они словно враз вспомнили прошлогодний сплав по этой реке с Майкой Черепицыной. И тогда шли долгие дожди, и они так же сидели в сырой палатке, где от одежды пахло немытым телом, а от портянок потом, и тоже коптил примус, но ссор между ними не было. Кретов, похоже, приухлёстывал за Майкой, а Иваньков надеялся, что Майка его отошьёт и на него, Иванькова, положит свой глаз. Кретова Майка отшила, но и на него не положила глаза, и поэтому все, без обиды друг на друга, отсидев дожди в палатке, сплавились.
— Выходит, нам Майки с тобой не хватало, — рассмеялся Кретов.
— Выходит, — согласился Иваньков.
В следующий полевой сезон Иваньков и Кретов сплавлялись по реке с Майкой Черепицыной.
Примечания
1
Плохой человек.
(обратно)2
Олень.
(обратно)3
Хороший человек.
(обратно)4
Идите ко мне, чай есть, водка есть.
(обратно)5
Дурак ты.
(обратно)6
Он плохой человек.
(обратно)7
Не понимаю
(обратно)8
Иди сюда.
(обратно)








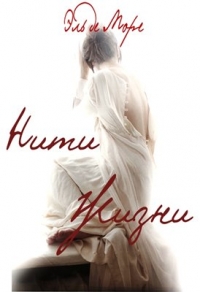
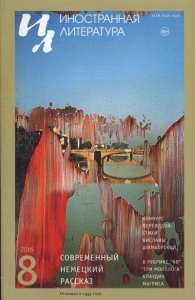

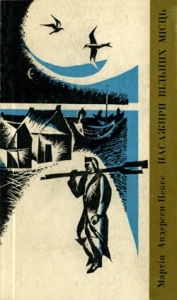

Комментарии к книге «К Колыме приговоренные», Юрий Петрович Пензин
Всего 0 комментариев