Владимир Клевцов ГОЛОС С ДАЛЬНЕГО БЕРЕГА Рассказы и литературные портреты
Про счастье и Клевцова
«Господа, новый Гоголь родился!»
Вот времена были! Достоевскому еще и тридцати не было, а все забегали вокруг, так нужны были обществу новые писатели, так их ждали, высматривали!
Владимир Клевцов уже больше тридцати лет пишет чудесные рассказы и повести. Когда повезет — их издают тонкими книжечками на плохой бумаге, читатели десятилетиями хранят эти книжечки, перечитывают… Но ни один Белинский не закричал до сих пор: господа, новый Чехов, новый Чехов!
Новому Чехову стукнуло 60, а никто не бегает почему-то.
Когда мне дали почитать первую книжку Клевцова, я тоже сначала долго уворачивался — думал, зачем тратить время на провинциального автора? А начал читать — не оторваться, так хорошо! Притом что в каждом рассказе все плохо заканчивается, деревни вымирают, люди выдыхаются, беспросветность, конец России… (Чехов тоже писал про тоску и приближение конца — но какое счастье, что он писал об этом, правда?)
Например, рассказ про маленькую деревушку, в которой живут четыре старухи: к весне, когда у них кончаются дрова, они съезжаются вместе в одну избу, чтобы выжить (если топить одну печь, а не четыре, то на дольше хватает дров). Но дрова все равно кончаются, тогда старухи запрягают старого мерина и едут за дровами в лес: чудо, восторг, у саней примерзают полозья (днем была оттепель, снег подтаял под санями, а к вечеру подморозило), и они не могут стронуться с места, но потом все-таки через две страницы трогаются. Вот и весь сюжет. Как у Чехова — только у того люди разговаривают-разговаривают (потому что образованные), а у Клевцова просто молча пытаются отодрать примерзшие сани. Но главное же не в этом: не разговоры и не примерзшие сани — а что жизнь проходит, настоящая, живая…
Вроде грустно должно быть, но книжка так здорово написана, что почему-то радостно (ведь не грустим мы сегодня, читая про гибель Трои? Ни капельки, а, наоборот, наслаждаемся).
Настоящее искусство всегда радостное, даже если все заканчивается смертью главного героя. Прочитал — а жить хочется (Анна Каренина). И в этом главная тайна и смысл: красота всегда утешает.
Почитал Чехова — ведь тоска, беспросветность! Так жить нельзя! (Типа, понял: народ страдает!) И дурак. Потому что на самом деле ничего не понял. Понять жизнь — это значит принять ее, примириться с ней. И тогда просто любуешься, умиляешься каждый раз, как совершенна форма, как прекрасно и точно каждое слово («всю ночь за окном болтались тяжелые ветки яблони» — точно! Какие у яблони тяжелые ветки, даже без яблок!), любуешься совершенной формой, как драгоценным камнем, и это созерцание красоты почему-то само собой утешает, радует. И даже вселяет уверенность, что все хорошо. Есть в жизни счастье.
Во всех книжках Клевцова нет ни одного интеллигента (в отличие от Чехова) — и это тоже очень приятно: нет нытья-рефлексии. Герои у Клевцова не главнее зоотехника (в крайнем случае фельдшер), и поэтому все у них выпукло и чисто. (Представляю себе сборник рассказов про финансовых аналитиков и тележурналистов, брр!) Отсутствие в книгах Клевцова образованного сословия придает им очень большую мощь, граничащую с мифом. (Где-то у Толстого читал, как он сильно удивляется-завидует тому, как умирают мужики: просто лег и умер. Миф.)
Терпение и смирение, которые даже не понимают, что они смирение и терпение, — в отличие от «смирения-терпения» образованного человека («Боже, как я страдаю, видел бы кто!»).
Критики пройдут мимо такой книжки — не о чем тут долго говорить, не Чехов (не про интеллигенцию).
А вот читатель — прочитает и порадуется. Причем Клевцова с удовольствием читают и взрослые, и дети, а это очень серьезный критерий: детей не обманешь, нужно быть Чеховым, чтобы писать и «Дом с мезонином», и «Каштанку».
О Владимире Клевцове практически не пишут. Ну разве что знаменитый столичный критик Лев Пирогов, известный своей оригинальностью:
«Вот книга — с неуклюжим названием, „без дизайна“, с неизвестным именем на обложке.
Пройдете ли вы мимо такой?
Не пройдете.
Потому что нет на просторах нашей необъятной родины такого магазина, в котором бы она продавалась.
Рассказы Владимира Клевцова — очень красивые, почти стихи. Очень грустные — даже те, в которых все заканчивается хорошо. Они тоже о людях, которых нет. Которые перестали быть „предметом искусства“.
Почему мне эта книга понравилась? Потому что я каким-то чудом еще помню, как печка топится, чем земля пахнет, как пальцы от нее трескаются. Людей помню. Читаю о них — и приятно вспомнить, узнать.
А кто не помнит, тому что?
Значит, надо ждать, пока образованное сословие не наслушается досыта Чезарии Еворы… Пока какие-нибудь крутые западные интеллектуалы, сродни немецким романтикам XVIII века, не убедят его, что народ — это круто. Пока, обремененное этой свежей, поразившей его мыслью, образованное сословие не станет называться интеллигенцией».
Ну да, вот и я о том: Чехова любят, потому что книжки обычно читает интеллигенция (приятно же читать про себя!), — а Клевцов пишет про зоотехников, про конюхов с ипподрома — что, конюхи будут его книжки читать?
Лев Пирогов продолжает:
«Соответственно, и не нужно нынешнему образованному человеку никакой такой мужицкой особой „русской литературы“. Это с кислой капустой, что ль?
Спасибо, увольте. Просто литературы — вполне достаточно.
Вот поэтому замечательная книга Владимира Клевцова обречена быть Золушкой, которой не подарили платья и не пустили на бал. Не станет она принцессой, и сказку никто не сочинит о ней. О чем тут сочинять, если не станет. Мы в нашем супериздательстве сейчас вообще больше бакуганами занимаемся. Это такие специальные японские черти для детей, приносящие стабильный доход».
Кстати, у нас в семье книжки Клевцова читают все: и мы с женой, и младшие дети, и подростки, и даже мама моя. (Жена говорит, что это прекрасный коммерческий ход: когда она задумчиво разглядывает в магазине какую-нибудь мясорубку, а продавщица вдруг говорит «я маме такую купила!», то это действует на мою жену безотказно: у нас дома появляется еще одна мясорубка).
Константин Сутягин, художник
РАССКАЗЫ
Наездник
К бывшему мастеру-наезднику, пенсионеру Ивану Антоновичу Рябову, живущему в деревянном домике поблизости от ипподрома, заехал по пути на юг с женой и сыном племянник Георгий, которого он, понимая свою старческую ненужность, не надеялся увидеть. Подростком племянник часто гостил у дяди, но вот уже лет десять как не был.
За столом, ошеломленный важностью события, Иван Антонович говорил не останавливаясь. Он был счастлив, ему хотелось, чтобы все были счастливы, и не замечал, как смущен его болтовней племянник, как сердится, накрывая стол, супруга. Своих детей у Рябовых не было, и ее возмущало, что муж называет мальчика внуком, а жену племянника Светлану дочкой. Когда она поставила на стол к селедке тарелку вареной картошки в мундирах, сидевший на коленях у матери мальчик сказал:
— Это лошадиные какашки.
— Так нельзя говорить, Вадик, — ласково укорила ребенка Светлана, а племянник смутился еще больше, теперь за сына, сказавшего за столом нехорошее слово.
— Внучок, — тут же радостно откликнулся Иван Антонович. — Это не какашки, а картошечка, первейшая еда после хлеба и мяса.
Было воскресенье, беговой день, и Ивана Антоновича это тоже радовало, потому что там, на ипподроме, он развернется. Он покажет гостям, на что способен старик. Жалко, конечно, что он уже не ездит, но дай такую возможность, не будет ему на дорожке равных, не подросла еще молодая смена.
— Как только покушаем — сразу на бега, — продолжал он. — Сегодня разыгрывается Большой четырехлетний приз, дерби по-ихнему. Будет сеча, будут гром и молния на весь белый свет.
— Это по какому «ихнему»? — подала голос жена племянника Светлана, молодая крупная женщина с ярко-белыми, точно неживыми волосами. Она почти не поднимала головы, занятая ребенком, но, оказывается, прислушивалась к разговору.
— По-ихнему — это по-английски. А по-нашему — Большой четырехлетний, до революции он еще назывался Большим Императорским. Рука крепка, лошадки наши быстры, — неожиданно пропел он на мотив танкистского марша.
На него удивленно посмотрели, а Иван Антонович так сморщил лицо, что было не ясно, смеется он или хочет заплакать. Решили, что все-таки смеется.
— Георгий, у тебя деньги есть? Знаю, что есть, на юг едешь. А теперь поедешь богатым, — и продолжал, обращаясь к одной Светлане, человеку, в ипподромных делах несведущему: — Бежит Гепард, он фаворит, все будут ставить на него в паре с Красной Гвоздикой. Но дело в том, что Гепард разладился, в смысле, что не на ходу. Никто не знает, а я знаю, видел на тренировке. Зарядим десять билетов, но не на Гепарда, а на Паприкаша с Красной Гвоздикой. Выдача будет один к двадцати. Поставишь, к примеру, сто рублей — получишь две тысячи.
— А если ваш Паприкаш не победит? — Светлана теперь заинтересованно смотрела на старика. — Если проиграет?
— Риск, конечно, есть. Но я-то на что?
Окна были распахнуты в сад, и там на ветвях тесно белели еще не созревшие яблоки. Ясно слышалось, как перед каждым заездом звонит на ипподроме колокол, и Рябову казалось, что это нетерпеливо стучат ему в дверь, требуя на выход, и он ерзал на стуле.
Наконец выбрались на улицу. Деревья почти не спасали от солнца, подобрали тени, лежавшие на земле чернильными пятнами. Георгий с семьей шли неторопливо, Иван Антонович то и дело забегал вперед и, останавливаясь, ждал, не отрывая взгляда от белых волос Светланы, под солнцем похожих на блестящую жесть. Вскоре ему предстояло перекрывать крышу, и его давно мучил вопрос, чем крыть — шифером или жестью. Теперь ясно, что надо жестью, крыша будет выглядеть очень красиво, освещая, как прожектором, всю округу.
На ипподроме он снова не мог успокоиться. Посадив родственников на трибуну, сбегал в кассу за программкой бегов. По дорожке, запряженные в качалки, проезжали лошади из разных заездов. Зрители и игроки в тотализатор издали уважительно, даже заискивающе здоровались с Иваном Антоновичем, словно надеясь, что только одно его присутствие принесет им удачу.
— Наш заезд седьмой, — почему-то шепотом сказал Рябов, разворачивая программку. — Вот они, голуби ласковые: Гурзуф, Гепард, Копанка, Паприкаш, Опал, Красная Гвоздика.
— А какие наши? — Светлана подсела к Ивану Антоновичу вплотную.
— Паприкаш и Гвоздика, четвертый и шестой номера. Стартуют полем, это не очень хорошо, но терпимо.
Жена племянника склонила над программкой голову, и Рябов снова подумал, что, если покрыть крышу жестью, она не только будет сверкать прожектором, но, возможно, еще и пахнуть духами.
Неожиданно он толкнул Светлану в бок:
— Смотрите, вот Паприкаш. И Гвоздика. Спущусь-ка я вниз.
— Дедушка, я с тобой, — попросил мальчик Вадик, который уже понял, что Иван Антонович человек здесь важный и ему лучше держаться рядом.
— Внучок. — Рябов быстро-быстро заморгал, лицо его опять сморщилось в непонятную гримасу, и по завлажневшим глазам Георгий со Светланой поняли, что на этот раз старик готов заплакать. — Внучок, голубь ласковый. Да я ради тебя. Да я ведь… Пошли с дедушкой, пошли.
У изгороди, отделявшей беговую дорожку от зрителей, они остановились.
— Ерофеич! — закричал Рябов ехавшему на Паприкаше наезднику. — Держи хвост трубой, не подведи, Ерофеич! — Он знал, что перед призом с наездником разговаривать нельзя, но удержаться не мог.
А бега все продолжались и продолжались. Прошли пятый и шестой заезды. Светлана вскакивала, прижимала ладони к щекам, лицо ее раскраснелось, волосы растрепались; она то и дело хватала старика Рябова за руку, а он, не менее взволнованный, толкал ее, как лошадь, локтем в бок. Начинался седьмой заезд…
— Как бы фальстарта не было, — озабоченно сказал Иван Антонович. — А то лошадки перегорят. У нас, к примеру, был случай. Один наездник, назовем его Петров, выпоил свой лошади перед самым призом чекушку водки, ну, вроде допинга. А Ерофеич откуда-то узнал и давай на старте фальшивить — то вперед вырвется, то отстанет. Крутились раз пять, пока не стартовали, а лошадь Петрова к тому времени — хмель-то выветрился — и выдохлась, перегорела, пришла последней за флагом.
— Разве такое возможно? — Светлана смотрела на Рябова, как на знатока, с восхищением.
— У нас все возможно…
Тем временем из застекленной, маленькой, похожей на голубятню судейской вышки высунулась рука и позвонила в колокол, сначала часто-часто, требуя внимания, а потом весомо ударила три раза, призывая наездников на старт. Оттуда, с высоты, четырем судьям было видно, как крутанулись, разбираясь по номерам, лошади, как неровной шеренгой побежали все быстрее и быстрее к кафедре стартера, невысокого мужчины с поднятым флажком. Опустился флажок, та же рука ударила в колокол, заезд начался, и вскоре все шесть лошадей вошли в поворот.
— Первая четверть пройдена за тридцать три секунды! — торопливо крикнул один из судей, щелкая секундомером. — Идут в две двенадцать.
Лошади приближались к трибунам, топот копыт стал слышнее, хорошо были видны лошадиные головы и сидящие сзади в качалках наездники с поднятыми хлыстами. Еще никто не вырвался вперед, никто не отстал, но тут одна из лошадей резко закинулась в сторону.
— Гепард сбоит, — крикнул уже другой судья, вслух считая число сбоев. — Два, три, четыре… Проскачки нет, по-о-ошел!
А сбившийся с рыси на галоп Гепард, одернутый наездником вожжами, на мгновение отстал и, злобный в беге, с завернутой набок головой, с оскаленной мордой и словно напоказ выставленными зубами в окровавленной пене, снова бросился догонять основную группу.
Судьи нервничали, картина заезда теперь менялась каждую секунду, за всем надо уследить, и они кидались от окошка к окошку, так громко стуча по полу ногами, словно были подкованы. Сейчас впереди Опал, но его достают Паприкаш и Красная Гвоздика. Но вот и Гвоздика сбоит и отстает… И все резвее и резвее бежит Гепард.
— Вторая четверть — в тридцать одну секунду, — торжествовал судья с секундомером. — Идут в две ноль четыре. Это почти рекорд!
— Подожди с рекордом, — осторожничал главный судья, веселый полный человек с приставленным к глазам биноклем.
Из нового поворота Гепард вышел уже первым. Его наездник сидел в качалке почти без движения, как замерзший. Он не кричал ободряюще, не поднимал вожжи, не бил хлыстом по крупу, его поведение, наверное, было непонятно и самой лошади. В шлеме, в больших мотоциклетных очках на отрешенном лице, наездник очень походил на какое-то инопланетное существо и, казалось, гнал жеребца вперед одним своим пугающим видом. Лошади промчались мимо конюшен, откуда минуту назад стартовали, и все, кто смотрел на них с трибун, видели, что бегут они не плотной группой, а вытянулись в цепочку.
А судья с секундомером снова ликовал. Не в силах справиться с волнением, он схватил микрофон и объявил на весь ипподром:
— Третья четверть снова пройдена в тридцать одну секунду. Впереди вороной жеребец Гепард, вторая — темно-серая кобыла Копанка, следом Гурзуф и Опал.
Паприкаша и Красной Гвоздики впереди не было. Но еще до того как объявили результаты третьей четверти, Иван Антонович понял, что это все, это проигрыш. Когда в начале заезда Гепард засбоил и казалось, уже не сможет нагнать упущенное время, он порадовался своей проницательности. Но это было минутное торжество. Сейчас он видел, как мощно, без устали рвался вперед Гепард, как распластался над землей, почти не касаясь ее ногами, и в этом всепоглощающем беге для него уже не было преград.
Ударил колокол, заезд окончился, и суетившийся весь день Рябов устало закрыл глаза. Но самое страшное было впереди. Что теперь скажет племянник, как посмотрит Светлана, так верившая ему?
Но ему ничего не сказали. Домой возвращались еще медленнее. Вадик все время убегал, и внимание родителей было обращено только на него.
— Вадик, вернись, Вадик, подожди, — окликали они мальчика.
Иван Антонович брел сзади, как привязанный, не человек брел, а сплошной красный сгусток стыда. Когда они шли мимо ипподрома, за решеткой ограды пасся рабочий мерин Мишка, потом он поднял хвост, и на землю посыпались дымящиеся култышки. Стоявший рядом Вадик радостно закричал:
— Дедушка, смотри, картошечка падает!
Племянник, почти весь день молчавший и стеснявшийся дядю, придя домой и вспомнив, что скоро уезжать, приободрился, досада его прошла. Вместе в женой и сыном он отправился в спальню, чтобы отдохнуть перед дорогой и начать собираться. Посмотрев на племянника, понемногу успокоился и старик Рябов.
На вокзал поехали на такси. Вечерело. Из-за косых лучей солнца, бьющих сквозь деревья, в воздухе висел золотистый туман. Иван Антонович обрел уверенность окончательно, забрался на переднее сиденье рядом с шофером, чтобы указывать дорогу.
— Без вас знаю, куда ехать, — огрызнулся таксист.
— Голубь ласковый, тут кратче будет.
На улицах уже лежали тени от столбов и деревьев, и казалось, что по крыше машины мягко бьют палками. Таксист ехал неторопливо, останавливался у светофоров.
— Если так вожжи натягивать перед каждым столбом, приза тебе не видать, — насмешливо заявил Иван Антонович, привыкший, как наездник, выражаться по-своему. — Всю жизнь будешь приходить на финиш за флагом.
Таксист ничего не понял из сказанного, но догадался, что его осуждают за медленную езду.
— Не боись, папаша, — недружелюбно покосился он на старика, — приедем вовремя и со всеми твоими флагами.
На вокзале долго прощались. Георгий со Светланой обещали заехать на обратном пути, но мыслями своими были уже по другую от старика сторону, где-то в дороге к теплому Черному морю. И Рябов, слушая, улыбался, понимая, что никогда они не приедут. Мальчик Вадик держал его за руку и был еще как бы на его стороне. Но когда его забрали, чтобы идти в вагон и он снизу так ласково и доверчиво взглянул на Рябова, что у него в третий раз за день сморщилось лицо и по щекам побежали слезы.
— Внучок, голубь ласковый, — шептал он и махал на прощание рукой.
Хотелось Ивану Антоновичу тихонько поплакать и дома, мешала лишь супруга, возившаяся по хозяйству. Он дождался ночи, лег в кровать, но вместо слез и жалости к себе в голову полезли другие мысли. Представилось, как мчится в ночи поезд, где едут племянник с семьей, как радостно гудит этот поезд, вырвавшись из города на простор, тревожа леса грохотом колес, скользя по деревьям светом из окон, — огромное, огнедышащее чудовище, и когда промчится дальше и стихнет шум, еще долго певуче будут звенеть ему вслед рельсы. Но машинист, конечно, не даст поезду хода, натягивает вожжи, тормозит у каждого столба, и ему, как и шоферу такси, никогда не выиграть приз.
А потом вспомнилось, как он ездил сам, сколько традиционных призов выиграл за сорок лет. Сколько кубков получил, сколько грамот, сколько раз после выигрыша к уздечке его лошадям прикрепляли бант с красной лентой, и, пока он проезжал круг почета, ленточки вились на ветру, радуя глаз, наполняя сердце торжеством.
В спальню, грузно ступая, пришла супруга, легла на кровать у противоположной стены и сразу устало затихла, заснула. Рябов не обратил на нее внимания. «А ведь если посмотреть, я прожил хорошую жизнь, — взволнованно подумал он. — Мастера-наездника достиг, дай Бог каждому». И тихонько счастливо смеялся, тревожа супругу. Только одно было нехорошо: никому сейчас его особенная, важная жизнь не интересна — ни супруге, ни молодым наездникам, ни племяннику Георгию, а это особенно обидно, потому что племянник родная кровь, у них одна фамилия. И вскоре его часть фамилии бесследно развеется в воздухе, рассеется над беговой дорожкой, не оставив следа.
В ту ночь Иван Антонович так и не заснул. Поднялась непогода, за окном шумел ветер, мотая тяжелые ветви яблонь. В свете уличного фонаря вся комната наполнилась мелькающими тенями, и Рябову казалось, что он на своей кровати-челне куда-то плывет и плывет среди бушующих волн.
Гусь лапчатый
На севере все время глухо грохотало. В станице, привыкнув к шуму, перестали его замечать и только на третий день, когда задрожала земля и зазвенели в окнах стекла, поняли, что грохот приближается.
Сначала по улице прошла колонна отступающих красноармейцев. Пропыленные, торопясь занять позиции в пяти километрах за станицей, они тяжело дышали открытыми ртами. Стволы винтовок, качающиеся на их плечах, казались тонкими, и было непонятно, как можно таким оружием остановить танки и самолеты. Потом проехала санитарная полуторка с красным крестом на брезентовом фургоне. К вечеру, когда грохот стих, по улице пробежали два последних бойца. Один нес цинк с патронами, а другой, пригибаясь, пулемет «Максим» на колесиках — словно тянул за хвост маленького, упирающегося мамонтенка.
Всякий раз, с появлением красноармейцев, станичные женщины выходили к плетням, плакали и думали про себя: «Горе-то какое, горе. Где-то и мои вот так маются». Больше других горевала тетя Таня. Она изучающе всматривалась в измученные лица бойцов, которые, казалось, все вместе несли в себе облик трех ее сыновей, сражавшихся под Ржевом, и провожала их, отступающих, как свою самую близкую родню.
Мальчик Миша тоже поглядывал на красноармейцев, но недовольно, потому что движение бойцов отвлекало его от главного дела — ощипывания гусей. Он торопился ощипать и съесть всех гусей до прихода немцев, чтобы врагу не досталось, но птицы было так много, так много! Он брал обезглавленного гуся на колени, склонял голову и, быстро мелькая локтями, выщипывал своими маленькими цепкими пальцами пух и перья. Пух белым облаком висел над мальчиком и разлетался по станице.
Летал пух и на следующее утро, когда в станицу входили немцы, и, кружась, накрепко прилипал к горячей броне танков. Поняв, что опоздал с гусями, сидевший на чурбаке Миша безвольно опустил руки.
В станице остановился танковый полк. Ломая заборы и плетни, во дворы стали заезжать танки и, уминая под собой землю гусеницами, как садящиеся на гнездо птицы, глушили моторы.
— Как бы гусей не подавили, обормоты, — пугался мальчик.
Но к счастью, танк к Мише не заехал. Командир полка, штандартенфюрер СС Людвиг фон Белов, из прусских баронов, поселился в Мишином доме и первым делом потребовал обед. Денщик командира Ганс, увидев сидевшего без дела Мишу, ткнул его кулаком в затылок, бросил на колени гуся и сказал:
— Щип-щип, мальчик, шнель. Герр барон желает обедать.
С тех пор так и повелось. Герр барон ел гусятину утром, в обед и вечером. Готовил ему в летней кухне Ганс и трижды в день пробегал мимо сидевшего на чурбаке Миши, неся в вытянутых руках блюдо с зарумянившейся птицей.
— Щип-щип, мальчик, шнель! — кричал он, пробегая.
Мальчик Миша щипал гусей для герра командира целыми днями, щипал чисто, до самой последней пушинки, и уже находил удовольствие в привычной работе, которая у него получалась лучше других. И поэтому сердился, когда его отвлекали.
Часто мешала работать тетя Таня. Подходила к единственному не-порушенному в станице плетню, с жалостью смотрела на мальчика, спрашивала:
— Как думаешь, когда наши подойдут, когда немца погонят?
— Не знаю, — неласково отзывался Миша. — Но думаю, они раньше всех гусей сожрут, а их еще много осталось.
Но больше соседки Мише досаждал денщик Ганс. Накормив с утра фон Белова, уходившего по делам в штаб, он садился на порог летней кухни и по-совиному, почти не мигая, смотрел на мальчика, словно бы прикидывая, чем будет кормить командира, когда съедят всех гусей, и не зажарить ли ему на обед мальчика Мишу? Миша, хотя и сидел к денщику спиной, чувствовал этот взгляд и зябко поеживался.
На самом деле Ганс думал о жене Эльзе. Он думал о ней постоянно, потому что с ее отсутствием лишился всего, к чему привык за долгую жизнь: к теплой постели и вкусной еде, к работе в поле и на коровнике, к пивным праздникам в сельском городке на берегу мутного Рейна. Все давно изменилось, и Эльза теперь одна. А в стране, где много отпускников с русского фронта и еще больше раненых инвалидов, его Эльзе не остаться без мужского внимания. И он бессилен что-либо сделать.
Когда к плетню подходила тетя Таня, он вскакивал и, как на курицу или гусыню, кричал на женщину:
— Кыш, кыш отсюда! Нельзя, капут. — И махал длинными руками, изображая улетающую птицу.
Потом снова садился на порог. Миша работал споро, локти так и мелькали, пух разлетался, и Гансу казалось, что мальчик сосредоточенно роется в огромной перине. Смотреть на это не было сил. Уезжая на фронт, Ганс спрятал от жены в перине дядюшкино наследство — семь тысяч рейхсмарок и сейчас представлял, как жена Эльза за тысячи верст отсюда занимается таким же делом: мелькая руками и распуская пух, потрошит его перину в поисках денег… Он тихонько подбирался к мальчику и с ненавистью толкал его кулаком в затылок: «Нихт шнель щип-щип».
Дважды в день, к обеду и ужину, возвращался из штаба барон и подолгу стоял возле Миши. К местному населению штандартенфюрер был равнодушен. Чужие, одинаковые лица, что в России и во Франции, что в Чехословакии и Греции. Но из потока ненужных людей этот мальчик странным образом выделялся, и, наблюдая, как он ловко и быстро, не хуже работящего немца обрабатывает птиц, барон думал: «Жалко, что этот ребенок не немец».
— Зер гут, киндер, хорошо арбайтен. Передовик, — смеялся Людвиг фон Белов. — Будешь гут работать, сделаю тебя станичным бургомистром.
«Трактористом, это хорошо, — радовался Миша, еще не разобравшийся во всех тонкостях иностранного языка, путая бургомистра с трактористом. — Трактористов в колхозе всегда уважали».
Мише нравился добрый барон. Он даже снился ему. Снились, правда, чаще ощипанные гуси, которые гонялись за ним по двору и клевали за ноги. Но снился и командир полка, и тогда во сне он приглашал Мишу к себе на угощение. На столе лежали зажаренный гусь и много-много пакетиков и кульков с немецкой едой.
— Кюшай, кюшай, киндер, — говорил барон и подкладывал мальчику еду настоящих немецких солдат, ту, что они получали на фронте: эрзац-шоколад да эрзац-мед, эрзац-масло, намазанное на эрзац-хлеб, — наливая большую кружку эрзац-кофе.
— А вы не стесняйтесь, рубайте гуся, — великодушничал Миша. — Я вам еще нащиплю.
— Гут, — соглашался барон. — За это я сделаю тебя настоящим немцем и трактористом.
Мальчику Мише было приятно это слышать, и большое родимое пятно на его лбу и голове под волосиками, и без того заметное, от удовольствия краснело еще больше. Он наваливался на еду настоящих немецких солдат, собираясь подчистить все кулечки и пакетики, но тут денщик Ганс, прислуживающий барону за столом, неожиданно больно толкал его кулаком в затылок и кричал:
— Вставать! Щип-щип, мальчик, шнель.
«Не даст дообедать, обормот, — сердился Миша, выходя из сарая, где ночевал, и усаживался на свой чурбачок. — Вот бы в таком сне пожить, чтоб даже барон к тебе с уважением…».
* * *
В нашей стране, граждане, счастливые сны сбываются… Прошло много лет. Мальчик Миша вырос, и сон его сбылся: со временем он стал и трактористом в родном колхозе, и немцем. И не просто немцем, а главным немцем, потому что так решили в самой Германии, и от постоянного удовольствия пятно на лбу Миши теперь краснеет постоянно, как зажженный фонарь. И, узнав об этом, как порадовался бы своей проницательности командир полка из состава танковой дивизии СС «Викинг» штандартенфюрер барон Людвиг фон Белов. Но он не узнал. Потому что через месяц эсэсовская панцердивизия будет разгромлена в прах и пух (далеко не гусиный), и разгромят ее, надо полагать, не теми винтовками с тоненькими стволами, что несли на плечах отступающие бойцы.
Репортаж о репортере
С утра газетное колесо еще не начало раскручиваться, и все репортеры, лениво переговариваясь, сидят в каком-нибудь кабинете, пьют чай, набираясь сил перед тем, как старая телега, называемая газетой, помчится по ухабам, не разбирая дороги.
Самое интересное, что по штатному расписанию должности репортера в газете не существует. Сотрудники числятся корреспондентами, специальными корреспондентами, обозревателями, завотделами, есть еще ответственный секретарь и редактор. Но все вместе тем не менее они пишут репортажи, потому что на репортажах и держится газета.
Репортеру нет покоя ни днем, ни ночью. Днем он пишет репортажи с мест событий — в городе и области всегда что-нибудь происходит, а ночью ему эти репортажи снятся, и он, как спящая собака, дергается, точно куда-то бежит.
В кабинет заходит ответственный секретарь, и по его оживленному виду все понимают, что телега тронулась с места.
— Звонили из Гдовского района, — сообщает он. — Местный рыбак поймал сома на пятьдесят кило. Сом пока жив, надо срочно выезжать.
— Иначе, что, не успеем взять у сома интервью? — спрашивает кто-то.
— Вот ты, Петров, как самый умный и поедешь. Причем действительно срочно. Возьмешь с собой фотографа.
— Я не фотограф, а фотокорреспондент, — подает голос сидящий в углу мужчина.
Ответственный секретарь хочет сказать что-нибудь язвительное, лицо его двигается, но, вспомнив, что полно других дел, он выскакивает за дверь.
— А что, неправда? — замечает мужчина. — Сколько можно говорить, что я фотокорреспондент. — И, встав, упираясь руками в бока, сладко потягивается, выгибаясь назад, как натягиваемый лук: — Поехали, что ли?
Фотокорреспондент самый невозмутимый и неторопливый в редакции человек и знает себе цену. Пишущих много, обычно рассуждает он, а я один и всем нужен.
Когда выезжают, редакционный шофер говорит привычную фразу: «Не мешало бы поесть, а то завтрак давно был», достает из пакета бутерброд и начинает жевать. Фотокорреспондент на заднем сиденье привалился к стеклу и дремлет. Лишь репортер уже бодрствует. Странно, что еще недавно он был раздражен, угрюм, чувствовал себя невыспавшимся, словно какая-то сила подняла его с постели, наспех одела и притащила на работу. Сейчас он пожирает дорогу глазами, считая километры, и внутри его все быстрее и быстрее что-то кипит, пузырится, переливается через край… Едут около часа, потом машина сворачивает к Чудскому, широко синеющему, озеру и останавливается у рыбоприемного пункта.
— Сом заснул, — сообщает приемщик.
— Как заснул? — досадует репортер, словно и на самом деле собрался брать у сома интервью. — А когда проснется?
Собравшиеся на рыбоприемном пункте рыбаки и любопытные женщины вежливо смеются и переглядываются. Они уже вдоволь насмотрелись на сома и теперь с интересом наблюдают за приезжими.
— Дело в том, дорогой товарищ, — с чуть заметной улыбкой поясняет главный здесь приемщик, — что «заснул» означает «умер».
Заснувший сом лежит на деревянном настиле рядом с амбарными весами. Поблизости, точно неся охрану, прохаживается смущенный виновник всего происходящего — рыбак, поймавший чудо-рыбину. Репортер Петров, мельком взглянув на сома, на его огромную голову с длинными усами, направляется прямо к рыбаку узнать подробности.
— Да как поймал! Ясное дело, повезло, — оживленно рассказывает рыбак. — Я тут возле берега для себя секрета ставлю, ну, верши. Сегодня утром поехал проверять. Развязал сверху вершу-то, сунул руку — чувствую, под рукой что-то гладкое и скользкое. Стал тянуть вверх за жабры, тяну-тяну, а конца не видно. Его голова уже с моей сравнялась, а хвост еще в воде. Перевалил я его кое-как в лодку и веслом по кумполу.
— Убили? — Петров торопливо записывает рассказ.
— Зачем убили? Я же его не ребром, а плашмя по кумполу. Оглушил, значит. Мы когда сома на весах взвешивали, он крутился и пасть разевал.
Польщенный вниманием, рыбак проникается к приезжему доверием и задает свой вопрос:
— А ты кто будешь, милый человек?
— Я — журналист. — Петрову не хочется говорить легковесное, как бы вспыхивающее и сразу с треском гаснущее слово «репортер». «Журналист» звучит солиднее. Понимает это и рыбак.
— Это сколько же слов надо знать, чтобы написать целый журнал? — изумляется он.
Посмотреть на чудо-рыбу выходит шофер, последним появляется сонный фотокорреспондент. Они долго рассматривают сома, и чувствуется, что шоферу хочется по шоферской привычке пнуть его, как колесо, ногой. Фотокорреспондент при виде сома начинает волноваться. И как портной перед пошивом оценивает фигуру заказчика, так и он ходит вокруг рыбины, рассматривая ее с разных сторон. Истинный мастер, он не торопится, хотя внутри его тоже все кипит, пузырится, льется через край, и сначала он делает несколько пробных снимков.
— Это вам не костюмчик сшить, — бормочет он, — тут надо читателю товар лицом показать.
Неожиданно, как подкошенный, он валится на грязную от рыбьей чешуи землю, оказываясь ниже помоста и сома, щелкает фотоаппаратом: на снимке теперь сом будет выглядеть как бы нависшей сверху угрожающей громадиной и поразит воображение читателя. Рыбаки с женщинами и сам репортер, который давно должен привыкнуть к таким фокусам, наблюдают за ним с восхищением, затаив дыхание.
Но и этого фотокорреспонденту мало. Чтобы показать истинные размеры рыбины, необходимо положить рядом, для сравнения, какой-нибудь небольшой предмет, и он зовет стоящего рядом с рыбаком-героем его сына.
— Мальчик, дай мне свою шапочку.
Мальчик, гордый, что выбрали именно его, снимает с головы панаму, которая тут же фотографируется возле сомовьей головы.
— Теперь откройте ему пасть, — просит он уже рыбака.
Огромная пасть открывается, и все пораженно затихают, пытаясь вообразить, что это им напоминает. Открытый подпол? Нефтяную трубу в разрезе?
— Такой пирог зевнет и не подавится, — завистливо говорит кто-то в толпе.
— Пирог не пирог, а утку проглотит, — подает голос женщина. — У меня весной две утки в озере пропали. Наверное, этот живоглот и утянул.
Фотокорреспондент, который уже нацелил аппарат на сомовью пасть, услышав о пропавших утках, уставился в одну точку на озере, пораженный счастливой мыслью — как сделать единственно уникальный, сногсшибательный, сенсационный кадр, и снова зовет ребенка:
— Мальчик, как тебя? Вовик? Вовик, иди сюда.
Вовик, чувствуя, что теперь все взоры с фотокорреспондента обращены на него, важно подходит.
— Послушай, что мы сейчас сделаем. Ты встанешь на колени и сунешь рыбке в пасть свою голову. Ну, как дрессировщики в цирке, понимаешь? А я тебя сфотографирую. Будешь героем дрессировщиком.
Вовик сомневается, но отступать поздно. Он опускается, вытягивает шею, стараясь не замечать маленьких потускневших сомовьих глаз и идущего от него запаха тины.
«А ведь ловко придумано, это сенсация», — загорается репортер и записывает в блокноте: «Сом, похожий на бревно, так огромен, что в разинутую пасть, как в печь, можно засунуть пирог или голову ребенка». Потом задумывается и вычеркивает последние слова, иначе получается какая-то дикость — зачем, спрашивается, ребенку после пирога пихать в горячую печь голову?
— Не надо голову! — кричит он и оборачивается к рыбакам: — Есть у кого-нибудь с собой пирог? Или буханка хлеба?
Рыбаки, которые уже ничему не удивляются, хлопают себя по карманам и виновато разводят руками — ни пирога, ни буханки в карманах нет.
В машину Петров заскакивает, как верхом на коня.
— Гони, времени в обрез, — торопит он шофера. — Аллюр три креста.
— Сам знаю, что времени в обрез, — отвечает шофер. — Скоро уже обед.
Работа газетчиков перед выходом номера напоминает действия пожарных, и, как на пожаре, здесь то и дело слышится слово «горим». Горит чей-то материал, третий раз слетающий с номера, горит целая газетная полоса из-за неудачной статьи о строителях, и теперь на полосу нечего ставить. Ответственный секретарь ругает сотрудника, а тот отвечает: «Да гори все синим пламенем, если я еще хоть раз напишу об этой стройке».
В общем, все горит. Слетают материалы с седьмой и девятой полосы, а редакционный портфель почти пуст. Одна надежда, что привезут что-нибудь новенькое разъехавшиеся по городу и области корреспонденты. Только когда они приедут…
Оставшись один, ответственный секретарь тупо глядит перед собой в стену и думает о том, о чем думает каждый раз: сегодняшний номер не выпустить. Словно старая телега, называемая газетой, ухнула в яму и застряла в грязи. Но тут в кабинете появляется репортер Петров.
— Привез? — с надеждой спрашивает секретарь.
— Привез.
— Готовь репортаж, три полосы горят.
— Я и сам горю. У меня через полтора часа открытие моста в деревне Чуброво.
— Отпишешься о соме и езжай. Успеешь. Да, возьми с собой фотографа.
— Я не фотограф, а фотокорреспондент, — сообщает снова впавший в сонное состояние фотокорреспондент. Он как всегда вышел из машины последним и только что добрался до редакции…
На открытие моста выезжают с опозданием. Мостом оказывается деревянное сооружение через маленькую речку Пескарку. Здесь уже стоят и, видно, давно томятся в ожидании газетчиков глава волости, два председателя колхозов, земли которых Пескарка раньше разъединяла, и местный депутат с женой — высокой манящей брюнеткой на каблуках. Посреди моста накрыт для угощения стол, а дальше, на противоположном берегу, расположился духовой оркестр вперемежку с окрестными жителями.
Когда появляется редакционная машина, оркестр начинает играть, то ли обозначая начало праздника, то ли приветствуя приезжих, а скорее, и то и другое вместе, потому что всем надоело ждать газетчиков.
Журналисты здороваются с начальством за руку, потом все спускаются на берег, чтобы разбить о стояк бутылку шампанского, которая уже качается под мостом, привязанная веревочкой к перилам. После вчерашнего дождя откос раскис, и у идущих на ботинки налипают ошметки глины, делая их похожими на широкие гусиные лапы, и начальство напоминает спустившуюся к воде поплавать гусиную стаю. За ними насмешливо наблюдает жена депутата, предусмотрительно оставшаяся наверху.
Первый раз глава волости промахивается, и бутылка, метнувшаяся в пустоту, угрожающе возвращается обратно, и все невольно пригибаются и сторонятся.
— Не будь я снайпер, если промахнусь, — бодрится глава и, прищурив глаз, снова толкает снаряд.
На этот раз он попадает. Правда, бутылка не разбивается о мягкое дерево, зато выскакивает пробка, и шампанское пенистым бугром долго стекает в реку. Все хлопают, а глава волости кричит «ура». Он кричит так вдохновенно, словно не кричит, а поет, и в этот момент попадает в кадр фотокорреспондента. И когда на следующий день читатели газеты видят зажмурившегося как бы от удовольствия главу, с широко открытым ртом и откинутой головой, никто не сомневается, что, перебрав на празднике лишнего, он действительно распевает песни, безобразник, и горюшка ему мало.
Тем временем праздник идет своим чередом. Разрезается красная ленточка, говорятся речи, председатели колхозов, в знак единения земель, обнимаются, оркестр то и дело играет гимн. Кто-то из присутствующих, кажется дирижер, принимается петь, но забывает слова. Депутат и глава волости переглядываются, и по их смущенному виду понятно, что новых слов гимна они тоже не знают, хотя по должности и положено. Зато у них в голове безостановочно звучит и просится наружу старый текст: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь», а когда при ударе медных тарелок музыка в припеве взлетает на торжественную высоту, губы сами собой шепчут: «Партия Ленина — сила народная — нас к торжеству коммунизма ведет!» — и на лицах у них уже не смущенное, а испуганное, ошарашенное выражение. Другим гостям праздника в ударах тарелок слышится лишь звон бокалов, и они нетерпеливо поглядывают на накрытый стол.
На этом торжественная часть заканчивается, начальство с газетчиками собираются вокруг стола.
— Товарищи… господа, — говорит глава, вытирая со лба пот. Он переволновался и сейчас выглядит усталым. — Это важный день. Наша волость, разделенная непреодолимым препятствием, наконец воссоединилась посредством моста. Час справедливости пробил! И заслуга в этом, товарищи… господа, прежде всего нашего уважаемого депутата Ивана Ивановича, который, как говорится, не жалея сил, сумел изыскать средства и помочь родному краю.
Репортер Петров скорее по привычке записывает его слова в блокнот, зная, что вся эта галиматья в репортаж не войдет. Он стоит рядом с депутатом Иваном Ивановичем, который, тяжело наклонясь, счищает щепочкой с ботинок грязь.
— Наш депутат никогда не забывал о нуждах народа, простых людей, — продолжает глава волости и указывает рукой на берег, где вперемежку с оркестром по-прежнему стоят местные жители, которые расценивают его жест как приглашение к застолью и начинают потихоньку подтягиваться к мосту. — Так давайте же снова наполним бокалы и поприветствуем Ивана Ивановича!
Бокалы наполняются. Услышав свое имя во второй раз, Иван Иванович, все еще склоненный, поднимает багровое, измученное лицо, глядя на главу снизу вверх. В этот момент и он попадает в кадр фотокорреспондента, а оттуда на страницы завтрашней газеты. Его фотография, как и фотография поющего главы волости, тоже видится читателям более чем странной — словно и депутат перебрал лишнего. И пока другие гости бодро держат в высоко поднятых руках бокалы, на газетном снимке он один стоит, сгибаясь в поясе, будто освобождается от этого лишнего прямо у стола.
Гости начинают разъезжаться. Первым отбывает депутат Иван Иванович с женой, следом, на одной машине в одну сторону, председатели колхозов, которые, воссоединившись землями, теперь сами никак не могут расстаться. Оркестр грузится в микроавтобус. Все инструменты внутри не помещаются, трубы с двух сторон высовываются в открытые окошки, и на них играют вразнобой, словно соревнуясь, одна сторона — «Калинку-малинку», вторая — «Когда б имел златые горы». И когда и микроавтобус скрывается за поворотом, слышно, что победили сторонники «златых гор», и над притихшими полями окрепше разносится лихая музыка, подкрепленная бесшабашными словами:
Когда б имел златые горы И реки, полные вина-а-а, Все отдал бы за ласки, взоры, И мной владела ты одна-а-а!Репортер Петров снова вскакивает в машину, как верхом на коня, и почти кричит:
— Аллюр три креста, поехали!
— Вы мне хотя бы перекусить принесли, — обижается шофер. — А то до ужина еще далеко.
Последним, пешком, уходит глава волости, в руках у него две сумки с недоеденными закусками и недопитым вином. Но идет он не домой, а к ждущим его на берегу окрестным жителям, своим землякам, сам окрестный житель. И уже через пять минут, расстелив под елкой скатерть-самобранку и выставив угощение, все садятся на землю в кружок, угощаются и тихо, никому не слышно, о чем-то беседуют, печально покачивая головами.
И пока одни угощаются и тихо беседуют, другой обнимает дома жену — манящую брюнетку, а третьи неразлучно расположились за столом в районной чайной, репортер Петров, написав и второй репортаж, выходит из редакции, хлопнув дверью. Он смотрит на улицу, на прохожих, на вечернее солнце с видом узника, оказавшегося на воле, и чувство радости, покоя охватывает его…
Спокоен, счастлив он и вечером, и только ночью его мучают беспокойные сны. Все виденное за день перемешивается в кучу: снится ему и огромный сом, и новый мост. Сом, размером с кита, плывет по мелководной речке Пескарке и неожиданно таранит головой стояк моста, и из головы его бьет фонтаном шампанское. «Не промахнулось сомовье племя, не будь я снайпером! — восторженно кричит глава волости. — Ура!» Потом он, как на коня, вскакивает верхом на склонившегося депутата Ивана Ивановича, и они скачут по берегу, а сверху, наблюдая за ними, заливается смехом манящая брюнетка.
«Это сенсация, это сенсация!»-загорается во сне репортер Петров, и ноги у него, как у спящей собаки, дергаются, словно ему надо куда-то бежать…
Матушка-береза
Она росла на самом верху, обхватив холмик корнями, как земной шар. Может, для нее он и был всем земным шаром и уж точно — ее домом, ее родиной.
Птица или ветер однажды осенью занесли на это место березовое семечко. Нужно было великое везение, чтобы оно не попало на камни, не зацепилось за траву, а угнездилось в земляной ямке. Зиму семечко пролежало под снегом и, когда снег сошел, продолжало безвольно лежать в ямке, отдыхая от долгого сна и чувствуя лишь влагу земли и тепло солнышка.
Снова счастливо перепадали теплые дожди, грело солнце, земля дышала паром, и семечко зашевелилось. Удобнее переворачиваясь с боку на бок, оно наконец пустило робкий, почти невидимый росток корня — так купальщик, вытянув ногу, пробует воду в реке. Корешок темнел, крепчал, проникая в бесконечную глубину земли, а с другого края к не менее бесконечному свету тянулся еще не отличимый от обычной травы стебель. С тех пор мир для нее разделился на темную, земную сторону и светлую, солнечную, и чем сильнее, давая отводы, разрастались корни, не позволяя холмику размыться в весенних потоках, тем выше взлетал березовый ствол и шире распрямлялись ветви.
Пришел срок, и береза стала взрослым, гибким деревом. Весенний снег сходил с ее холмика первым. В низине и лесной чащобе он еще ноздревато лежал потемневшими пятнами, сочась талой водой, а на холмике уже вовсю припекало, и она чувствовала корнями, как оживают в земле личинки жуков и роют тоннели червяки. Вокруг нее выстреливали стеблями подснежники и раскрывали навстречу солнцу свои синие бархатистые глаза.
У нее первой в округе появлялась листва. Другие деревья еще стояли окутанные фиолетовой дымкой, а на березе лопались почки. Понуро висевшие было ветви за один теплый день озеленялись мелкой листвой, к которой, привлеченные запахом, липли мошки, и береза с этого дня начинала шуметь на ветру, отправляясь под парусами в долгое летнее плавание.
Деревья в лесу хорошо знают друг друга. Вынужденные жить в неподвижности, они чувствуют соседа, особенно если сосед одного семейства и тем более от одного семени. Под холмиком уже раскинулась роща берез: маленьких, побольше и совсем взрослых, и все они были от ее семени. Плотно прижатые телами, они росли вверх, стараясь одна перед другой побыстрее дотянуться до солнечного света; нижние ветки за ненадобностью отсыхали, оставляя узловатые отметины на коре, а стволы, высокие и тонкие, зеленели только верхушками.
Ей не надо было торопиться, она росла как ввысь, так и в ширину — ветвями, которые отсыхали неохотно, и тень от ее листвы, как шатром, покрывала всю небольшую вершину холмика. Она была одинока, не зная соседей, даже движущиеся существа — люди и животные — не навещали ее. Ранней весной по снежному насту еще прибегали зайцы и, встав на задние лапы, кормились кончиками нижних ветвей. Летом появлялись волки, чтобы осмотреть окрестности. Однажды поднялся медведь, долго стоял, внюхиваясь в дым далекого пожарища, недовольно ворча, затем принялся нервно точить о ее кору когти.
Люди появились, когда шла война. Она ничего не знала о войне, и представления о ней были связаны только с грохотом и взрывами, от которых сильно дрожала земля, и дрожь передавалась корням. Земля, такая прочная и незыблемая, казалось, была готова встать на дыбы и скинуть ее вниз.
Люди были солдатами. Они пришли однажды после особенно сильного грохота и отрыли внизу по обеим от нее сторонам окопы. Вскоре из полевой кухни поднялся дымок, и по березовой роще вместе с дымом поплыл запах сытного кулеша.
Вечером к ней поднялся пожилой солдат, сержант-снайпер. Сначала он, как волки и медведь, осматривал с высоты окрестности, потом обратил внимание и на нее. И тут случилось то, чего с ней никогда не случалось. Он вдруг обнял ее за ствол и погладил по коре шершавой ладонью, шепча ласковые слова:
— Матушка-береза, страшно небось? Подожди немного, скоро станет тихо. Я тебя сразу приметил, как пришли. У нас дома во дворе такая же береза стоит, я ее с детства помню. А ты не бойся, я с тобой рядом.
Она не понимала слов, но общий доброжелательный тон ей был ясен. И этот тон, и это движение по стволу шершавой ладони были приятны, и она вся, от начала ствола до верхних веток и последнего листа, отзываясь на ласку, невидимо затрепетала.
В следующий раз он пришел под утро, когда в небе бледнели гаснущие звезды, осторожно забрался на березу и сел на сук посреди ствола. Но и теперь, перед тем как подняться, снова погладил ее по коре и ласково сказал: «Матушка-береза, не бойся, я рядом». Он сидел, обхватив ствол одной рукой, а другой придерживал на коленях винтовку. Когда рассвело и солнце ярко залило землю лучами и пели, перепархивая в ее ветвях, птицы, он сделал три негромких выстрела. Потом быстро, едва касаясь ветвей, спустился и, топоча, бросился вниз с холма.
На следующую ночь она снова ждала его. Он был не из ее семейства и не от ее семени, он двигался и топтал землю, но березе представлялось, что он свой, как березы внизу под холмом, как земля у корней и солнце в вышине, и что ее и его вырастила и напоила соками стволы одна и та же земля и согрело одно солнце.
Приходил он и во вторую ночь, и в третью, неслышно сидел до рассвета, стрелял и уходил. Но всякий раз не забывал прикоснуться ладонью и прошептать: «Матушка-береза, не бойся, я с тобой».
После его выстрелов, доставлявших противнику большие неприятности, на той стороне начинался суматошный, беспорядочный шум, прилетало и разрывалось перед окопами несколько мин. Стрелял он и на четвертый день, но не спустился, как обычно, а, вскрикнув — она стволом ощутила, как по его телу прошла судорога, — и задевая ее ветки, упал. Следом, запаздывая, со звоном скатилась винтовка.
Она чувствовала верхними корнями тяжесть его тела и надеялась, что он встанет и скажет ей ласковые слова. Но он не поднялся, зато пришли другие люди и унесли его. В сумерках они вернулись и взялись копать на холмике яму. Она встревожилась, что ее зачем-то хотят вырыть и сбросить вниз. Но люди только положили что-то в яму, завалили землей и долго говорили, и в звуках их речи она улавливала горечь, печаль, обиду и нетерпеливую злость. Но эта злость не была направлена против нее.
С того дня солдат больше не приходил. А потом, с торжествующей и нетерпеливой злостью прокричав «ура», исчезли и другие солдаты. На той стороне, где заходит солнце, раздался далекий грохот и взрывы, но они почти не достигали корней и мало тревожили ее. Затем и этот грохот пропал, и наступила, как предсказывал солдат, тишина.
Ближе к зиме береза засыпала, а когда просыпалась весной, когда по жилкам ствола, раздувая его, как бока бочки, бежал и струился сок, она начинала как бы жить заново, и мир для нее был внове. Внове была теплая земля, дожди, свет солнца и просторы, безбрежность которых она чувствовала разросшимися ветвями. Но когда это приходило, она вспоминала, что все уже было много раз, просто повторяется. И в древесной памяти возникали смутные воспоминания о солдате — двигавшемся и топтавшем землю, — и застарелая тоска по ласке волновала ее.
Поднимались на холмик зайцы, волки и медведь, по-прежнему точивший когти, не причиняя, впрочем, затвердевшей коре большого вреда. Но солдата не было. Каждое лето она вспоминала о нем, пока вдруг неосознанно ощутила, что солдат не ушел тогда вместе с другими в сторону, где заходит солнце, а остался рядом с ней. Он и сейчас лежит среди ее корней и оттуда, из глубины и мрака, продолжает шептать, просто она не слышит: «Матушка-береза, не бойся, я с тобой». И благодарность охватила ее, и вся она, от корней до верхушки, хотя ветра не было, вновь затрепетала листьями, что-то бессвязно и радостно бормоча на своем древесном языке…
Прошло тридцать лет после войны, а береза была жива. С одной стороны она начала понемногу сохнуть, зато другая, обращенная к солдату, густо зазеленела и в ветреный день шумит, полощется ветвями над размытым, почти стершимся бугорком земли.
Она давно стала приметным местом, и теперь местные жители так объясняют прохожим дорогу:
— Как добраться до Шемякино? Да очень просто. Доходишь до Березы и сворачиваешь по тропинке налево.
Покупая билет в автобусной кассе, ягодники говорят: «Нам два билета до Березы, пожалуйста». И кассирша знает, где эта Береза и сколько надо взять с пассажиров денег.
От березы ведут две дороги — одна налево в Шемякино, а другая все вниз и вниз к болоту. И когда ягодники выходят к вечеру из болота, усталые, измученные, нагруженные корзинами с клюквой, первой их встречает на холмике береза. Осенние листья полыхают, как костер, и она ласково и бессвязно бормочет им что-то на своем древесном языке.
Первый мороз
Мне было семнадцать лет, и я возвращался с танцев к себе на Подгорную улицу, где снимал комнату с отдельным входом у семьи Петровых. Идти надо было вдоль холма берегом озера. Редкие фонари только вблизи освещали воду, а дальше все тонуло во мраке, и озеро казалось бесконечным, а противоположный берег недостигаемым и зыбким. Взгляд невольно, в поисках опоры, упирался в холм, по которому тут и там еще горели в домах огни. Самые верхние были так далеко, что холм тоже начинал казаться в ночи зыбким и недостигаемым.
Как я ликовал в эти минуты! Я был переполнен и этим ликованием, и воспоминанием о поцелуе, и печалью, и ревностью, но все вместе сливалось в одно чувство бесконечного счастья. И когда оно вырывалось наружу, я то убыстрял шаги, сдерживаясь, чтобы не побежать, то совсем останавливался, как бы пораженный внезапной мыслью. Пальцы сжимались в кулаки и разжимались.
Я на все лады повторял ее имя: «Света, Све-та, Светлана», и оно представлялось наполненным особого смысла. Это имя, это удивительное соединение букв было способно звенеть тетивой, петь колокольчиком, наконец, загораться на небе и освещать собой ночную тьму.
До сегодняшнего вечера мы только встречались глазами. Ни к чему не обязывающие взгляды, после которых делалось радостно. Это была радость узнавания. Потом взгляды становились дольше и пристальнее, в них уже виделось предчувствие чего-то большего, чем обычное знакомство, что-то необыкновенное и волнующее.
Сегодня я пригласил ее на танец, потом она меня. В первый раз я был так напуган своей решимостью, что танцевал, топчась на месте, с трудом переставляя ватные ноги, точно по колено в воде. А когда объявили «белый танец» — это дамы приглашают кавалеров — и она смело подошла ко мне, хотя было видно, что смелость ей далась нелегко: лицо разгорелось и было взволнованным, я понял, что она как бы вручала себя и отныне она моя дама, а я ее кавалер.
После танцев я пошел ее провожать. Была поздняя осень, снег еще не выпал, но в воздухе заметно похолодало, и все вокруг замерло в ожидании перемен. Мы шли почти как незнакомые, стесняясь и сторонясь друг друга, не зная, о чем говорить. То доверие, что возникло между нами на танцах, в светлом и теплом от множества ламп зале, куда-то исчезло. Это могло показаться странным, на самом деле мы просто привыкали друг к другу в новой обстановке. Постояли возле ее калитки.
— Поздно уже, надо идти, — сказала она далеким голосом, отвернув лицо, и было неясно, кому сказала — мне, забору, дороге или дому с темными окнами. Я потянулся и поцеловал ее в мягкие, нераскрывшиеся губы.
— До завтра.
— До завтра.
Она исчезла за дверью, а я принялся ходить возле ее забора, как часовой. Казалось страшно несправедливым, что этот огромный промежуток времени между сегодняшним и завтрашним днем пройдет без нее, и хотелось быть рядом.
Наверное, я так и проходил бы до утра, если бы на улицу не выскочила обеспокоенная моим хождением маленькая собачка и не залилась захлебывающимся лаем. Не обращая на нее внимания, я продолжал путь, а она, то и дело приседая на передние лапы и лая, следовала за мной, как привязанный к ноге звонок. Из соседних дворов ей ответили редкими глухими голосами другие собаки, в домах заскрипели отворяемые двери, послышались команды «Фу, Тарзан», «Тихо ты, Шмель», и мне пришлось уйти…
На крыльце дома я долго возился с замком.
— Это ты, что ли? — невидимо окликнула меня через окно из своей половины мать Петровых, старуха Никитична. — Смотри, дверь хорошенько запри. Ходят и ходят. Полночь, за полночь — все равно ходят.
В комнате мне сразу стало тесно и скучно. Когда я уходил на танцы, эта была обычная комната, и она осталась такой же, а между тем мир за эти часы изменился. Произошло, может быть, главное событие в моей жизни. И, наверное, самое радостное, самое счастливое.
Я попил чаю, собираясь спать, но не вытерпел и вышел на крыльцо. Оказывается, мир изменился не только внутри меня, но и снаружи.
Весь вечер подмораживало, а теперь небо очистилось от туч и, когда я открыл дверь, вспыхнуло передо мной тысячами звезд. Родилось ощущение, что над землей зазвучала музыка. Словно кто-то ударил в огромный, перевитый лентами бубен, и вот уже бубен давно стих, но колокольцы, раскачиваясь, звенят и звенят.
В прежние ночи с крыльца открывался вид на огромное, непроницаемое, глухое пятно внизу — на озеро. Сегодня, отражая звезды, озеро сверкало, как ледяное. Я присел, и, когда одно звездное небо было над головой, а другое, покачивающееся и дышащее, — под ногами, на меня снизошел покой. Не оставалось сомнений, что мир изменился и никогда не станет прежним и отныне я буду жить в вечной радости и счастье.
Несколько раз я выходил посидеть на крыльцо. Мороз крепчал, и я мерз даже под накинутым на плечи полушубком. Старуха Никитична на каждое появление отвечала ворчанием:
— Ходят и ходят, никакого от них покоя. Полночь, за полночь, все равно ходят!
Бедная-бедная старуха, думалось мне с притворной печалью. Наверное, она никогда не была молодой, а если и была, то в такие незапамятные годы, когда люди еще не знали любви. И она всю жизнь прожила впустую, и оттого ей сейчас не спится, оттого она ворчит и завидует другим…
Заснул я с ощущением бесконечного счастья и ночью пребывал на зыбкой грани сна и яви, не понимая, сплю я или бодрствую. Та звездная музыка, услышанная на крыльце, продолжала звучать, и то ли во сне, то ли наяву мы танцевали под нее со Светой. Вместе с нами кружилось и танцевало все вокруг.
Сон и явь перемешались в сознании, и мне уже казалось, что, танцуя, сами собой заскрипели и открылись ворота, что тополь во дворе встряхнул ветвями с таким решительным видом, словно собрался пойти вприсядку, а прясло, поднимая тонкие, как у цапли, ноги, закружилось вокруг дома. Даже печь, как в танце «с выходом», повела могучим белым плечом и от неосторожности уронила на пол сохнущие валенки.
Под утро мороз усилился, потому что с улицы доносилось какое-то загадочное постукивание, а оконное стекло быстро покрывалось изморозью. Только озеро не уступало морозу, и, открывая на мгновение глаза, я всякий раз слышал, как плещутся о мостки волны.
Но когда утром проснулся окончательно, в комнате стояла полная тишина: не было слышно ни загадочного постукивания, ни плеска воды. Сквозь замерзшее окошко лился молочный свет.
Я вышел из дома и зажмурился. Озеро за одну ночь покрылось льдом, и, когда я кинул камень, он полетел, оставляя на поверхности лучистые отметины, и сразу все озеро зазвенело от берега до берега. Мне было хорошо и спокойно. И вдруг я понял, почему так хорошо: сегодня я снова увижу ее. Света, Све-та, Светлана.
Семафор
По ночам Алексей Иванович Бобров бывает раздражен. Он обычно просыпается среди ночи и не спит до рассвета, просиживая томительные часы у окна.
Мороз сжал землю в тиски, и она, казалось, уменьшилась до размеров улицы, двора и дома, где живет Бобров. Когда он глядит в окно, ему думается, что ночь никогда не кончится, что от холода земля перестала крутиться и навсегда отвернулась от солнца. И, словно подтверждая это, деревья опушились таким густым инеем, что ничего не видно вокруг. И как что-то страшно далекое представляется застывшая, заваленная снегом железнодорожная станция, откуда доносятся сиплые гудки тепловозов и маневренных «кукушек».
Сегодня его раздражают и гудки, и сама станция, и почта возле станции, куда надо опять идти. Месяц назад он отправил в Москву письмо с сигналом о недостатках на железнодорожной станции и теперь ждет ответа. «Полы не метут, — сигнализировал старик, — а печи на морозе еле теплятся, нет, как говорится, давления в котлах. Дрова и торфяной брикет, выделяемые на топку, сотрудники станции расхищают по домам. Примите меры».
Тем временем на улице появляются первые прохожие. Они идут с фонариками, и кружок света бежит перед ними по снегу, перемещаясь на деревья, которые искрятся и переливаются, словно оживают, а то вдруг взлетает в небо и растворяется в пустоте.
С восходом солнца все вокруг дымит. Дымят с холодным блеском деревья, дымят печные трубы, поднимается пар изо рта прохожих, и оттого, что солнце встало, гудки тепловозов со станции слышатся звонче и веселее.
С восходом меняется и настроение Боброва. Сейчас он убежден, что такая ясная погода обязательно к добру, ответ придет сегодня, и старается не думать, что и вчера и позавчера тоже было ясно и солнечно.
Через час он уже стоит на почте. Почта, как внутри сугроба, вся залита белым ласковым светом, идущим через замерзшие окошки. В углу топится печь-голландка, и с одного бока ему жарко, с другого, обращенного к входной двери, — холодно, словно он находится посредине между экватором и Северным полюсом.
— Нет вам письма из Москвы, дядя Леша, — говорит, перебирая почту, девушка Лиля. — Ни из Москвы, ни откуда еще.
— Посмотри получше, дочка, должно быть, месяц прошел, — просит Бобров, уже не веря в удачу, а скорее соблюдая привычный ритуал общения.
Как ни странно, отсутствие письма его не сильно огорчает. Куда приятнее смотреть на Лилю, на ее полупрозрачное на свету лицо, точно и оно из снега. И вся она — как речная чайка, чистенькая, крепкая, небольшая, перышко к перышку, и в своей юности, в своем порыве кажется готовой сорваться с места и пугливо улететь.
— Ладно, посмотрю, — соглашается Лиля, соблюдая тот же ритуал. — Только лучше все-таки завтра прийти.
Перебирая почту, она откладывает в сторону какую-то открытку, старик смотрит, как уменьшается пачка и сейчас Лиля вспорхнет и улетит по другим делам и забудет про него.
— Вы на Кузнецкой живете, дядя Леша? Тут на вашу улицу всего одно отправление. Не занесете по дороге? — Взглянув еще раз на адрес, она протягивает отложенную открытку. — Марфа Долгова. Знаете такую?
— А то, соседка моя.
Алексей Иванович выходит на улицу, и мороз сразу сжимает его в тиски, не давая вздохнуть. Глаза слезятся, отчего предметы вокруг кажутся размытыми и лучатся во все стороны. И солнце, и сверкающие деревья, и сугробы, и мороз по-прежнему вселяют уверенность, что сегодня его ждет удача: сорвалось в одном месте, но обязательно подвернется в другом. И он уже знает в каком.
Старик стоит в раздумье, куда идти: на станцию, домой или опять на почту, взглянуть еще раз на Лилю. Лилю он сравнил с чайкой потому, что однажды прочитал в журнале статью о птицах. Там говорилось, что все люди, если присмотреться, похожи на птиц. И, прочитав, понял, что всегда подспудно это знал, надо было только подтолкнуть его к знанию. С тех пор у него вошло в привычку внимательно присматриваться к разным людям. Это даже стало его тайной страстью. Кто был похож на ворону, кто на галку, женщины в основном на суетливых и занятых собой голубей, Лиля вот на чайку, готовую улететь. И когда он находил это сходство, всякий раз про себя ликовал, и казалось, что ему открылись все тайны мира.
Сейчас он увидел идущую к станции девушку в маленькой дубленке и короткой юбке, мелькающую длинными ногами, которые от холода, верно, совсем окоченели, вот-вот отвалятся, и неодобрительно подумал: «Ишь, вырядилась, цапля!»
На перрон вышел дежурный, одетый поверх шинели в шубу, в фуражке с красным околышем, с красными ушами и лицом, похожий на нахохлившегося на морозе снегиря. Дежурный подозрительно посмотрел на Алексея Ивановича и отвернулся. «Верно, уже слышал про сигнал-то, — насмешливо думает старик. Он знал, что на станции его за эти сигналы прозвали Семафором. — Ничего, приедет из Москвы комиссия, тогда попляшете».
С тех пор как старик Бобров стал писать свои сигналы, а сигналил он в разные московские министерства и комитеты, торговые и экологические, он почувствовал себя важным человеком. Знакомые, встречая его на улице, говорили:
— Ты, Алексей Иванович, теперь человек важный. Мы слышали, с министрами переписку ведешь. Написал бы про наши недостатки.
— Можно написать, — соглашался старик, невольно принимая значительный и занятой вид.
Постояв немного, он решает возвращаться домой. Дорога огибала Люлинское, с низкими берегами, озеро, и до самого леса тянулась снежная равнина, ничем, даже маленьким бугорком, не обозначая противоположного озерного края. Через дорогу от столбов и деревьев лежали перекладинами тени, и когда дорога шла в гору, запыхавшемуся старику казалось, что он поднимается по лестнице. «Отходили мои ноженьки, требуют покоя», — вздыхал он.
Но и печальные вздохи не мешали бодрому настроению. Не кому другому, а ему доверили отнести по адресу почтовое отправление. Значит, доверяют. Другой, доведись ему, забрел бы по дороге в кабак и не донес открытку, а он, Алексей Иванович, все выполнит в точности.
У деревянного, похожего на обычную избу магазина он сделал остановку, собираясь зайти погреться. У него замерзли руки и ноги, но холоду и этого показалось мало, он проник внутрь, и было такое ощущение, что в желудке лежит и не тает комок снега. Зайти в магазин можно, но лучше все-таки сразу добраться до Марфы. Тут его, скорее всего, и поджидает удача. Старуха живет от него по-соседски через четыре дома, и она наверняка в благодарность за доставленную депешу напоит чаем, к чаю добавит чего покрепче, а потом, за разговором, добавит еще, и он решил перетерпеть холод.
Теперь он думал о Марфе, кого она ему напоминает. У нее всегда было испуганное и растерянное лицо, словно, в ожидании беды, она собиралась заплакать или уже отплакалась, и этим женщина, скорее всего, похожа на чибисиху, которые летают низко над полями, вскрикивая так жалобно и пронзительно, словно действительно плачут.
Марфа встретила его встревоженно. Видно, не ждала редких у нее гостей, забыла даже, как они выглядят.
— Давненько не заходил, сосед. У меня с утра ножики два раза на пол падали — к мужику. А я не верила. Присаживайся, сейчас чай пить будем.
— Я не один. — Он полез в карман пальто и достал непослушными пальцами открытку. — Вот, депеша тебе, Марфа. Наверное, от сестры из Сибири. Почтарка Лиля говорит, отнеси, мол, Алексей Иванович, а то, говорит, на почтальона надежды мало… Откуда, спрашиваю, открытка-то?
— От сестры, от сестры из Сибири. Только почерк чего-то незнакомый.
Старик в ожидании угощения присаживается к столу, а Марфа уходит в спальню за очками. Эти очки всегда теряются в нужную минуту. Нет их на буфете, нет и в ящиках буфета, нет под кроватью и на подоконнике. «Куплю себе новые с золочеными дужками, — говорит она запропастившимся очкам, а вы себе валяйтесь где придется». Хитрость действует, и очки сразу отыскиваются на тумбочке под газетой.
Старик с рассеянной улыбкой слушает, как Марфа ходит, выдвигает ящики, бормочет что-то себе под нос, а затем, после тишины, вдруг раздается какой-то израненный крик, переходящий в вой и плачь. Бобров удивленно приподнимается с места, не зная, что подумать, смотрит на дверь спальни. Старуха выходит оттуда в слезах, размазывая их, как ребенок, ладошкой по щекам. В другой руке она держит перед собой на отлете только что принесенную открытку.
— Татьяна… сестра старшая из Сибири… Умерла, — говорит она, выталкивая слова рывками, и, не видя ничего от слез, протягивает Боброву злосчастную открытку, словно предлагая разделить ее горе.
Теперь, когда выяснилось, что произошло, старик приходит в себя.
— Вот несчастье так несчастье. Что же делать? Надо на похороны ехать, Марфа. Слышишь, сейчас это самое главное.
И говоря так, он сомневается, сможет ли она на самом деле доехать до Сибири. Он представляет ее одинокую, растерянную в толпе пассажиров, эту вокзальную суету, когда все срываются с места и куда-то бегут. Оглушенная горем, она тоже будет бегать на пересадках, не понимая, в какой кассе купить билет, в какой поезд и вагон садиться.
— Марфа, ты что сама-то думаешь?
Но старуха, кажется, не слышит. Плачь становится тише. Она стоит у заснеженного окна и мыслями своими далеко, наверное, в Сибири. Стоит долго.
— Какие похороны, Алексей… Ее две недели как похоронили, — неожиданно откликается она.
— Как же так? — Алексей Иванович только сейчас соображает, что известие пришло не с телеграммой, а на простой открытке, которая идет из Сибири долго. — Почему же тебя раньше не вызвали? — спрашивает он у Марфы. — Все равно надо ехать, хоть могилку оплачешь.
Но старуха опять не слышит вопроса. Так они и разговаривают: Марфа сначала долго молчит, глубоко затаиваясь в себе, и лишь когда до нее доходит смысл слов, спохватываясь, с опозданием, отвечает:
— На какие шиши ехать, Алексей, подумай! Денег все равно нет. — Она с всхлипом вздыхает. — Соседи потому телеграмму не отбили, чтобы я не шебуршилась понапрасну. Знали, видно, что мне надо три месяца ни исть, ни пить, чтобы собрать на дорогу. Соседи и похоронили. Татьяна, как и я, жила одна. Ох, Таня-Танюша. На чужой сторонке, у чужих людей.
Ей бы сейчас найти опору, зацепиться за какое-нибудь неотложное дело, чтобы забыться. Но какие у нее неотложные дела? Даже живности в хозяйстве нет, один кот испуганно выглядывает из-под стола. Она с надеждой смотрит на топчущегося Боброва, будто он найдет какой-нибудь выход. Марфе хочется, чтобы ее пожалели, как в детстве. Старшая, Танюша, всегда ее жалела, маленькую, вытирала слезы и нос, нашептывала ласковые слова, а теперь ее нет. И защитить Марфу от беды некому.
— Я бы помог с деньгами, но сам того — без гроша. Может, власти какое пособие на дорогу выделят? — подает надежду старик.
— Власти… — снова после долгого молчания откликается Марфа. — Где они, твои власти? Как же, получишь от них… Это надо же, три месяца ни исть, ни пить. — Видно, мысль про три месяца, весомый срок, крепко засела у нее в голове. — Страна большая, а все равно что чужая, сидим по норам, ни выйти, ни поехать куда. Власти…
Старик рад, что Марфа переключилась на другую тему, хотя сама тема ему не нравится.
— Ты власти-то не ругай, — с мягким укором говорит он. Он не любит, когда ругают власти, и даже сигналит, требуя наведения порядка, не затем, чтобы ругать, а помочь ей. — Власть свыше дана, ее надо уважать. Какая-никакая, а власть.
— «Какая-никакая, какая-никакая», — передразнивая, на этот раз быстро откликается Марфа. Лицо у нее краснеет, озлобляется, словно вся боль, все обиды перетекают в эту злость. — Вот именно — какая-никакая. Раньше, при советском строе, хоть какая-то была, а сейчас вообще никакой, старый ты пень.
После этих слов, успокоившаяся было, она повторно срывается в слезы, заходится в плаче, таком громком и безутешном, что окончательно становится похожей на чибисиху, потерявшую своих птенцов.
Бобров не знает, что тут делать, нужные слова не находятся, да и не помочь словами. Он топчется у стола, потом посреди кухни и прихожей, не решаясь сразу уйти, понемногу преодолевая расстояние к двери. Уход его похож на отступление. У дверей он долго стоит, надевая рукавицы, шапку, застегивает на все пуговицы пальто, еще надеясь найти утешение для плачущей Марфы, и только затем тихонько прикрывает за собой дверь.
Дома он рассказывает жене о случившемся. Жена, по-утиному домашняя, уютная, хозяйственная, почти не знала Татьяну — была маленькая, но отозвалась на беду, поохала и тоже сказала про власть.
— И ты туда же, — рассердился старик. — Вам бы, бабам, только критиковать.
Сам он помнил сестру Марфы смутно, она была старше года на три, и однажды в Доме культуры он решился пригласить ее на танец. Ошеломленный собственной смелостью, он, подросток, танцевал как во сне, ничего не видя перед собой, кроме округлившейся под кофточкой груди, а Татьяна поглядывала сверху со снисходительной улыбкой и, освободив руку, даже погладила его по голове. Вскоре она вышла замуж и уехала в Сибирь.
Ночью Алексей Иванович просыпается, не зажигая света, садится у окна. К окну сразу же слетаются лучистые звезды, и видно, что мороз им нипочем.
Он знает, что теперь не заснуть и до самого утра в голову будут лезть разные мысли. Он думает о птицах, о том, что говорилось в той журнальной статье. А говорилось, что раньше в России люди сплошь и рядом напоминали певчих и хищных птиц, певцов и героев — соловьев, щеглов, жаворонков, соколов и орлов, а в сегодняшних русских лицах все чаще проступают черты воронов, сорок и куриц.
«Наверное, сегодня поэты и герои не нужны», — решает Бобров, поражаясь своей мысли, потому что она вроде как против нынешней власти.
Потом вспоминает о своем оставшемся без ответа сигнале, о Москве, о несчастной Марфе, которой уже никогда не оплакать могилку сестры. Он пытается разглядеть сквозь деревья и заборы, не горят ли огни в доме соседки, но мороз еще крепче сжал землю, и ничего не видно. Трудно представить застывшую, заваленную снегом железнодорожную станцию и уж совсем невозможно — Москву.
А над Москвой тем временем нескончаемо полыхает зарево. Горят огни фонарей, окна и вывески ночных магазинов, клубов, ресторанов, кабаков, проносятся по улицам огоньки автомобилей, и все вместе они сливаются в яркий столб, упорно бьющий в небо. Порой автомобили останавливаются, и из них выходят, попадая в полосу света ресторанов и клубов, готовые праздновать нескончаемый праздник мужчины, похожие на воронов и воронят поменьше, в повороте головы которых, в манере держаться есть что-то резкое, безжалостно-торжествующее; следом появляются прячущие в меха свои сорочьи и куриные лица женщины.
И никому нет дела, что над Москвой давно зависла черная, огромная, пугающая ночь, уже поглотившая все села и деревни, все города, давая им покой и отдых, и если бы не блеск неисчислимых огней, погасивших на небе звезды, накрыла бы сонным покоем и Москву. Но никому в этом бесконечном празднике нет дела ни до ночи, ни до звезд, ни до сигналов Алексея Ивановича, ни до Марфы, ни до самой Сибири, куда чтобы доехать, Марфе надо «три месяца ни исть, ни пить».
Тройка
Е. К.
Еще в конце ноября, сразу после первого снегопада, устанавливаются и первые морозы. Деревья, раскинув ветви, закуржавели и при ясном небе сверкают как начищенные. Все вокруг замерло, в неподвижном воздухе летает мельчайший иней. Кажется, что землю окунули нашим краешком в воду и выставили под холодное солнце леденеть.
— Вот и зима, — говорят люди, радуясь морозу, чувствуя прилив бодрых сил.
Радуются и дети, у них уже приготовлены санки и фанерки — все, на чем можно кататься с гор. И в первый воскресный день они выбираются на берега Великой. Охваченные веселым ужасом, они бросаются вниз, навстречу широкому речному полотну, лица на ветру румянятся, и ребята катятся с горы один за другим, как просыпанные яблоки.
В прежние годы в это время на ипподроме готовили к новогодним праздникам тройку лошадей. Взволнованные предстоящей поездкой, наездник и помощники выводили во двор конюшни коренника, орловского рысака Опала, как и положено, серого в яблоках, катили тяжелый шарабан на резиновом ходу, похожий двумя своими оглоблями на рогатого жука. Весело переругиваясь, запрягали жеребца, обматывали «для шику» красной лентой дугу, навешивали невесть откуда взявшийся позеленевший колокольчик.
Рядом, наблюдая за суетой, стояло начальство в теплых пальто и шапках, стояло прочно и непоколебимо, как тумбы, и сторонилось, когда из соседней конюшни приводили пристяжных — двух ярко-рыжих ахалтекинцев, под кожей которых, переливаясь, играли мышцы. Дурачась, ахалтекинцы хватали из-под ног свежий снег, задирали головы, норовя встать на дыбы.
— Побалуй у меня, — грозились помощники, молодые парни, приседая и натягивая повод.
Наконец все готово. Опал стоял в упряжке спокойно, зато пристяжные и тут не могли успокоиться, мелко-мелко перебирали на месте ногами, точно земля обжигалась. Наездник забирался первым, брал вожжи, ожидая, когда загрузится в шарабан начальство, и выводил тройку на беговую дорожку.
Неуклюжая вначале, позванивая при каждом шаге сборкой, на дорожке тройка преображалась. Коренник переходил на трот, игривые ахалтекинцы, скакавшие еще вполсилы, загибали набок головы на длинных шеях, и спереди это походило на распустившийся цветок. Сделав круг, тройка сворачивала к распахнутым воротам, покинув ипподромный простор, выезжала в тесноту улицы и, набирая скорость, неслась вниз мимо старого Немецкого кладбища к Пскове, к деревянному мосту. Мелькали перила, мелькало, пропадая из глаз, извилистое русло реки, и в следующий миг тройка начинала подниматься в гору.
Комья снега из-под копыт коренника били в жестяной передок шарабана, снег от ахалтекинцев, кувыркаясь, взлетая вверх, и шарабан мчался в белой кутерьме, словно на всем ходу врезался и пронзал сугроб. Наездник держал вожжи в вытянутых руках, зажав в кулаке хлыст, кончик которого покоился у него на плече. Но вот он ставил хлыст торчком, слегка отпускал вожжи, Опал переходил на резвую рысь, из ноздрей двумя пушистыми усами вылетал пар, пристяжные, уже не играя, впрягались всерьез, колокольчик заливался смехом, радуясь скорости. И тройка с такой легкостью выносила шарабан наверх, словно он был игрушечный, словно не тяжелее спичечного коробка.
И уже как видение, как что-то сказочное, проносилась тройка по центру города, накрыв собой половину проспекта. Смущенное вниманием, лихостью, сделавшимся шумом, начальство сидело не поднимая глаз, держалось за борта шарабана, ругало себя, что решилось поехать, и дружно, как по команде, подскакивало на ухабах. Грохот копыт стоял на весь Псков, но наезднику и этого казалось мало. Направив кончик хлыста, как указку, вперед, он снова ослаблял вожжи, мелькание ног коренника сливалось в сплошную полосу, скакавшие галопом пристяжные вытягивались в струнку.
— Давай! — громко, от полноты чувств кричал наездник, неизвестно кому и неизвестно зачем, потому что лошади и так «давали».
Редкие встречные машины жались к обочине, передние прибавляли скорость, чтобы уйти от преследования, прохожие останавливались и долго смотрели вслед промелькнувшей тройке, которая, дыша печным жаром, краснея высокой дугой, пропадала за поворотом, где открывался вид на кремль, на крепостные башни, стены и купола Троицкого собора, озаренные солнцем… Так и исчезала тройка. И все, кто ехал тогда в шарабане, и те, кто смотрел ей вслед, не знали, что исчезает она навсегда.
Это было давно, почти сорок лет назад, а сегодня в городе опять зима, опять метель. В городе метель не так заметна, прячется за домами и вырывается из-за угла лишь затем, чтобы наброситься на пешехода, запорошить его снегом.
Зато в деревне сейчас раздолье. Метель начинается здесь днем, начинается не страшно. Бежит поземка, закручивая на дороге снежные воронки. Мгновенно появляясь и быстро исчезая, воронки еще похожи на играющих с собственным хвостом котят. Но к вечеру вся деревня тонет в снежных вихрях, которые несутся вдоль улицы, как по трубе, с ревом и свистом. Порой ветер стихает, чтобы задуть с новой силой, и тогда из затопленной печи клубами врывается в избу дым.
Но в доме все равно хорошо. Можно сидеть у окна, всматриваясь, как в сгущающихся сумерках погибельно раскачиваются деревья, слушать рев метели, удивляться мельканию снега, невольно вспоминая под быстрое мелькание давний бег тройки. Было ли это на самом деле, этот бег под нависшими над дорогой заснеженными деревьями? Был, конечно, но уже не повторится, навеки сгинули тройки, пропали в снежном дыму, затих перестук копыт, и никогда-никогда не услышат улицы, никогда не огласятся просторы русской равнины смехом и плачем поддужных колокольцев…
А тем временем метель все сильнее и сильнее, на улице все тревожнее. И, усиливая тревогу, натужно, на одной ноте, как лютый зверь, воет застрявший в снегах у самой деревни грузовик. И там, где он застрял, двигается, колеблется над полями сплошная стена снега, и веет оттуда, как из пропасти, неживой пустотой. Дымятся верхушки сугробов, сильнее раскачиваются деревья, кажется, скоро ветер выдует из деревни все живое.
На крыльцо, придерживая шапку, выходит сосед. Куда и зачем вышел он в непогоду, что ему делать, как не пропадать, среди мечущихся вихрей? Метель сразу запеленала его в белый кокон, и не успевает он сойти с крыльца, как вдруг исчезает, словно, подхваченный ветром, уносится в поля, в непроглядную белесую муть. Лишь дома стоят твердо, похожие то на гребни скал, то на пережидающие шторм корабли. Так они и будут стоять, пока не стихнет непогода, не выглянет между низко бегущих облаков солнце и не вернется из полей замерзший до стеклянного звона сосед, два дня назад занесенный туда метелью.
Саня Кайлов
Это был тихий дачный поселок на берегу реки Псковы, с маленькими, раскрашенными в разные цвета домиками. Если смотреть на него с соседнего холма, поселок кажется совсем игрушечным, и хочется, как в детской игре, взять двумя пальцами и переставить домики с места на место, перемешать их, и вышло бы все равно красиво. Потом, к неудовольствию дачников, в поселке вырос похожий на сундук трехэтажный особняк местного олигарха Куракина. И если бы кому-нибудь пришла мысль перенести особняк, его пришлось бы сначала, как вросший камень, сбить каблуком, оставив посреди поселка неопрятную яму.
А вскоре случилась и другая напасть. Было раннее утро, мокрое от росы, когда в поселке появился незнакомый парень. Он шел по дороге, а сбоку струисто бежала его тень: длинные, уходящие к горизонту ноги, увенчанные крохотным туловищем. И почти все дачники могли наблюдать, как сначала он прошел с опущенной головой мимо домиков двух бывших учительниц, мельком взглянул на бревенчатый пятистенок прораба Михайлова и остановился, внимательно осмотрев особняк Куракина, после чего свернул в низину к заброшенному дому, и вскоре оттуда раздался стук отколачиваемых от дверей и окон досок.
Через три дня выяснилась, что незнакомца зовут Саня Кайлов, что он вор и только что вышел из колонии на свободу.
На самом деле Саня Кайлов не считал себя вором. Крал понемногу, по наводке приятеля Шило, но крал только на пропитание, если заканчивались любимые им пельмени. Пельмени Саня лепил сам, и, когда вываливал их, отваренных, в большое блюдо, пельмени белозубо улыбались ему во весь рот, а он, улыбаясь в ответ сквозь пар, поливал их уксусом и маслом, перчил, добавляя сметану и горчицу.
В исправительно-трудовой колонии, где он сидел, пельменей уже не было, зато по телевизору часто показывали передачи на тему «украл — иди в тюрьму», чтобы осужденные помнили о неотвратимости наказания. Но телевизор в колонии был, наверное, сломанный, потому что показывал исключительно оправдательные приговоры. Украл, к примеру, чиновник миллиард рублей — его оправдывают за недоказанностью улик, тяпнул другой два — освобождают по истечении срока давности, увел, уже олигарх, три миллиарда — дают три года условно. На экране телевизора олигарх выглядел очень покаянно, только глаза сверкали веселой насмешливостью.
— Ну, кошки драные, и дела. По условному году за каждый миллиард, — кипел Саня. — Получается, чем больше воруешь, тем меньше сидишь. Еще хорошо, что мне за мою кражонку не дали пожизненного срока. — И все пытался вспомнить, где он раньше видел этого олигарха с откормленным лицом.
— Точно я его видел, кого-то эта рожа мне напоминает, — мучился он и наконец догадался, кого напоминает, — поросенка, когда олигарх в очередной раз покаянно склонил голову и на темечке у него проступила белая плешина, похожая на свиной пятачок.
Сам Саня попался на краже электросчетчиков. Работенку со счетчиками для какого-то грузина ему устроил как раз этот гаденыш Шило.
— Дело легкое, без риска, — уговаривал он Саню, который в этот момент, ухнув пельмени в блюдо, улыбался сквозь пар. — А заработаешь хорошо, на пельмени хватит.
Саня согласился, но все пошло наперекосяк. Сначала ему не понравился заказчик-грузин, коротко стриженный, вертлявый и настойчивый. «Мутный он какой-то, — беспокоился Саня. — Того и гляди не заплатит».
Но не о деньгах надо было думать, не о том, сколько пельменей — как звезд на небе — он сможет слепить, а насторожиться. Саня Кайлов только спросил:
— Много электросчетчиков надо?
— Заказ долгосрочный, батоно. Чем больше, тем лучше, — бойко ответил грузин.
С этого времени для Сани началась ночная, беспокойная жизнь, и жизнь поначалу ему нравилась своей свободой и вольным одиночеством. Заходя в подъезд дома, он выключал свет, но не тьма окружала его, а призрачный, неверный, невесомый свет. Белые ночи стояли на улице, белые ночи вливались в окна. Движения Сани тоже становились легкими и невесомыми, как у водолаза, плывущего в светлых речных струях, и, поднимаясь и спускаясь по этажам, он, казалось, как водолаз, то всплывал наверх, то вновь погружался в неведомые глубины.
Не учел Саня только одного — что помимо него не спали и кошки. В подъездах их было много, что страшно наступить, и все они проникались к делившему с ними ночную жизнь Кайлову доверием и любовью. Куда бы он ни пошел, они шмыгали за ним и в самый напряженный момент, когда он, подсвечивая себе фонариком, орудовал отверткой, волнисто терлись о ноги и ободряюще мурлыкали на понятном любому человеку языке: «Пр-р-равильно делаешь, пр-р-ра-вильно».
Саня дергался невпопад, ронял инструмент, наклоняясь, бился головой о щиток, но в конце концов смирился. Кошки его и подвели. Спускаясь со сложенной в рюкзак добычей, он наступил-таки на чью-то лапу, и обиженная кошка завопила уже не на понятном любому человеку языке, а на английском: «Ва-а-ау», и Саня не то с испуга, не то от изумления, что животные, оказывается, знают языки и иностранные, споткнулся и полетел вниз. И пока летел, пока вывалившиеся из рюкзака счетчики булыжниками скакали за ним по ступенькам, жильцы подъезда, словно только и ждали у дверей кошачьего сигнала, вырвались из квартир, набросились на Саню, заломили руки. Кайлов, боясь, что побьют, не сопротивлялся.
Уже позднее в колонии он жалел, что не поинтересовался у заказчика, зачем ему понадобились электросчетчики. «Наверное, в Грузии со счетчиками полный кирдык, или они там у себя их подкручивают, чтобы колесики крутились в обратную сторону», — решил он.
* * *
После освобождения Саня Кайлов, не чиновник и не олигарх, договорился с собой больше не воровать. Он вспомнил, что в дачном поселке у него остался построенный дедом домишко, и, чтобы не испытывать городских соблазнов, перебрался туда. И когда отколачивал доски с окон и двери, ему казалось, что дом, как и он, был в заключении и сегодня он выпускает его на волю.
Внутри дом оказался еще запущеннее, чем снаружи. Одно окно осталось заколоченным, в пробивавшихся сквозь щели лучах солнца клубилась потревоженная пыль. Саня стоял растерянный, и дом, привыкая к человеку, скрипнул половицей, а в бревенчатых стенах раздался едва уловимый вздох. К вечеру он навел кое-какой порядок: вымыл полы, обмел с углов паутину, вычистил и побелил печку-лежанку и спать лег на старый диван, который, тоже привыкая к человеку, всю ночь звонко стрелял пружинами.
Появление Сани сначала не обрадовало дачников. Особенно испугались бывшие учительницы, но прораб Михайлов, человек еще не старый, крепкий и решительный, успокоил их, сказав: «Зачем мы ему нужны, голодеры и нищета? У воров свои правила: если красть, то миллиард».
Разговор состоялся у мостков на берегу Псковы. Река сверкала на солнце, но у мостков была тень от деревьев, по стволам которых, отражаясь от воды, нескончаемо струились снизу вверх, как пузырьки воздуха, полупрозрачные тени, и трое людей, окруженные этим солнечно-сумеречным движением, напоминали заговорщиков. Говорили вполголоса.
— Мало Куракина, бандита этакого, так еще вор на нашу голову свалился, — жаловались старушки. — Теперь хоть на улицу не выходи.
— Пускай Куракин не выходит, — заявил прораб насмешливо. Было видно, что он не боится ни олигархов, ни воров. — Вы заметили, как этот Саня Кайлов посмотрел на его коттедж, когда проходил мимо? О-це-ни-ва-ю-ще! Присматривался, как бы половчее забраться и обнести.
От веселого и уверенного вида Михайлова осмелели и старушки.
— Давно пора Куракина обнести, — выдали они злодейскую надежду всех дачников. — Человека только нужного нет.
— Почему же нет? А Саня? Не огурцы же он приехал сюда на грядках сажать…
Утешенные старушки не сразу ушли, а завели с прорабом привычный разговор о коттедже олигарха, уверяя, что неуклюжее каменное строение разрушает гармонию тихой русской природы. Михайлов, хотя и был несогласен, отмалчивался перед учительницами, привыкнув молчать на уроках еще в школе. Но когда они заявили, что простые избы, такие как у них, не выставляют себя напоказ, а органически сливаются с пейзажем, все-таки не выдержал. Вспомнив, что сам помогал Куракину строить особняк и что он, как прораб, тоже имеет отношение к архитектуре, сердито заявил:
— Это вы потому так рассуждаете, что у вас денег нет. А будь деньги, вы себе такой бы дворец отгрохали — размером со школу-десятилетку.
И, рассердившись окончательно, высморкался перед возмущенными учительницами, как на стройке, приложив большой палец сначала к одной ноздре, затем к другой.
Утверждение прораба, что Саня приехал обокрасть олигарха, пришлось дачником по душе. В поселке уже не могли говорить ни о чем другом, обсуждая две темы: много ли добра в особняке и скоро ли новый сосед заберется в куракинские покои.
Через неделю, когда надоело сидеть по вечерам дома, Саня отправился к мосткам. Он шел по накатанной дороге, где от невидимой еще реки пахло теплой вечерней сыростью, потом по траве уже вниз к мосткам. И как только присел на скамейку, стали собираться дачники. Они здоровались за руку и изучающе заглядывали в глаза. Пришли даже бывшие учительницы, встали поодаль, как бы любуясь рощей на холме, за которую закатывалось солнце, а на самом деле бросали на Саню любопытные взоры. В тот же момент солнце опустилось и из рощи во все стороны брызнули лучи, словно между стволов просунули золотой веник.
Саня догадывался, что его прошлое известно, и был удивлен радушием дачников. И был удивлен еще больше, когда к нему по-свойски, как к давнему знакомому, подсел Михайлов.
— Я вот давно хочу спросить, Александр, не боязно воровать-то? — заговорил он. — Риск-то здесь большой… Да ты не обижайся, не обижайся, это я так… восхищаюсь тобой. Мы тут все восхищаемся.
— Я и не обижаюсь.
— Ну и правильно, молодец. Я это к тому, что больно ты для предстоящего дела худощав. Понятно, не с тещиных блинов прибыл, а с казенных харчей, но мы поможем набрать форму, обращайся. Подкормим, если что, не обеднеем. Огурцы на грядках идут, помидорки зреют.
— Свежей картошки можно взять, — поддержали прораба другие дачники. — А у меня кабачков прорва.
Михайлов на каждое слово одобрительно кивал:
— Вот я и говорю, для хорошего дела тебя надо подкормить. Хотя, с другой стороны, для дела, может, и худоба не помеха, к примеру, если придется в щелку пролезать.
Прораб говорил так путано, что Саня ничего не понял. Сначала он решил, что его хотят не то чтобы обидеть, а так — залезть в душу, разложить, как шкафу, все по полочкам: на этой полочке все правильно лежит, и живешь ты, значит, правильно, а вот здесь — перевернуто, и надо бы тебе, Санек, по-новому прибраться.
— Да какое дело-то? — не выдержал он. — Зачем подкормить, в какую щель лезть?
— Ладно-ладно, Саня, мы понимаем… Мы молчок, только между нами. Молчим, в общем.
Расходились уже ночью. Звездное небо раскинулось над головой. Звезд было так много, что из-за тесноты они сталкивали друг друга, и падшее светило, мгновенно вспыхнув, пропадало в глухом пространстве. Саня шел по дороге и думал. Он действительно ничего не понял, но было приятно, что дачники приняли его за своего. В низине, куда он спустился, подходя к дому, воздух звенел от стрекота кузнечиков, словно из травы, топорщась, поднялись и раскачивались в темноте тонкие дрожащие струны…
* * *
Единственный, кто не знал о грозящей опасности, был сам Куракин — приземистый мужчина с широким лицом и прищуренными глазами. Он был занят своим любимым дачным делом — сбором грибов, и, когда уходил в лес, остальное для него не существовало. В лесу его сначала мучила тревога, что ничего, кроме сыроежек, он не найдет, но от мысли, что где-то рядом, под березой или елкой, стоят боровики, дожидаясь, пока он их высмотрит, и воображение уже рисовало эти боровики — ядреные, с черной шляпкой, с толстой и крепкой, как бочка, ножкой, — его охватывал охотничий азарт, и ноги сами собой бежали быстрее и быстрее.
О его грибной страсти по округе ходили истории. Прошлым летом, например, узнав откуда-то, что грибы растут по ночам, он возжелал увидеть это лично. И нанял двух мужиков из соседней деревни: те ходили с ним по лесу, светили мощными фонарями под деревьями, вдоль тропинок, пугали зверей и гадов, волнисто расползавшихся в разные стороны.
Нынешним летом долго стояла засуха, грибы запаздывали, в лесу, как бы заснувшем, от деревьев дышало жаром, под ногами пергаментно хрустел прошлогодний лист. Но нетерпеливый Куракин додумался поливать грибницы, и те же нанятые мужики, сгорбившись, таскали на холм в оттянутых руках ведра с водой. И грибы пошли — подберезовики, даже белые, и по утрам поселок с высоты холма оглашался криками олигарха, радовавшегося находке, а однажды сверху полилась отборная брань: это мужики, используя прошлогодний опыт хождения с фонарями, еще ночью обобрали заветные куракинские места.
Занятый грибными делами, не заметил Куракин ни появления в дачном поселке Сани, ни связанного с этим появлением своего неожиданного падения.
Началось с того, что Саня стал представляться дачникам этаким благородным разбойником, народным мстителем вроде Дубровского. И они стали уже смелее посматривать на Куракина. А куракинский особняк, казавшийся огромным, уже не принижал в их глазах собственные жилища. А потом дошло до того, что над местным олигархом принялись насмешничать, придумав ему прозвище.
Прозвище придумали, как ни странно, старушки учительницы, увидевшие ранним утром выходившего из дома олигарха — важного, с заспанным лицом и особенно со сна крепко прищуренными глазами, делавшими его похожим на японца. Это сходство так поразило бывших учительниц, что, прыская от смеха, они мгновенно придумали историю о том, как в былые годы олигарх был не Куракиным, а японцем Кура-кино, с ударением на предпоследнем слоге. И звали его на далекой родине Куракино-сан. И это «Куракино-сан» быстро прижилось в поселке.
Между тем время близилось к осени, все заметнее румянилась от желтых и красных листьев роща на холме, куда-то пропали белые летние облака, начинались дожди. Зато валом пошли грибы, и Куракин пропадал в лесу целыми днями, возвращаясь усталым и довольным, с двумя скрипящими под грибной тяжестью корзинами. И когда он шел в лес или из леса, дачники кланялись ему издали, по японскому обычаю сложив перед собой ладони, и кричали, сдерживая улыбку: «Доброе утро, добрый вечер, Куракино-сан, японский ты городовой».
Куракин смотрел непонимающе, и лицо его, оттого что он чувствовал в приветствии какой-то подвох и неуважение, становилось багровым и растерянным…
Если долго о чем-то говорить, это и свершится. И кража свершилась. Обокрали, правда, не олигарха, а живущую по соседству старушку Полину Ивановну, готовившую еду по старинке в чугунах в русской печи. Эти чугунки она потом развешивала сушиться на кольях забора, и в сумерках впечатлительные дачники шарахались в сторону, принимая забор за наступающую цепь пехоты в железных касках. И вот однажды утром чугунки исчезли…
Первым об этом узнал прораб Михайлов, когда колол дрова. Колол он давно, все пространство вокруг белело раскиданными поленьями, словно он стоял посреди раскрошившейся льдины и вот-вот должен был уйти вниз — сначала ногами, затем туловищем, и последнее, что блеснет наверху, — лезвие занесенного над головой топора. Тут он и услышал, как причитает в своем дворе Полина Ивановна, и сразу подумал: «Это Саня Кайлов сделал, его работа». И, повеселев, отправился с новостью по соседям.
— Сдвинулось дело с места, началось, — радостно сообщал он дачникам. — Это наш Саня тренируется, набивает руку после отсидки. И как только еще у кого-нибудь что-нибудь стянет, так сразу и примется за олигарха.
— У нас тянуть нечего, — открещивались дачники. — У тебя самого во дворе большая поленница березовых дров. Пусть на твоих дровах тренируется.
Михайлов пошел к Сане.
А Саня тем временем, догадываясь, что в краже наверняка обвинят его и уже никогда не будет ему в поселке доверия, сидел дома. Он то ругался, то хватал гитару, тоже оставшуюся от деда, резко, рывками перебирал струны, и казалось, не струны он перебирает, а дни своей жизни, и было в этих днях столько горечи и обиды, что снова, отбросив гитару, принимался ругать непонятно кого:
— Вечно теперь буду виноватым. Кошки драные, чтобы колесики у вас в голове закрутились в обратную сторону.
В доме было сумрачно, свет из окошка лился тоже тусклый, и единственное, что блестело, — грязь на дороге после дождя. В этот момент и появился Михайлов, с веселым видом человека, принесшего добрые вести. Саня, подняв голову, даже подумал, не нашлись ли чугунки, не засунула ли их старушка в другое место, а потом забыла?
Но он напрасно надеялся: чугунки не нашлись. Зато прораб, подсев, как и в первый раз, к Сане, снова понес что-то непонятное: о тяжелой воровской доле, о необходимости тренироваться, чтобы не потерять мастерства, о помидорах и картошке, а потом неожиданно предложил:
— У меня во дворе большая поленница дров наколота. Ночью, когда спать буду, можешь стянуть половину — разрешаю. Потом только верни.
— Да вы что здесь, с ума посходили! — вскипел Кайлов. — Уже без меня решили, что я ваши чугунки увел. Хорошее дело. На что они мне сдались, ты подумал, да еще двадцать штук? Я пельмени в кастрюле варю.
— Так-то оно так, — сомневался Михайлов. — Но только и ты пойми: кто-то их украл. Не Куракин же украл.
— А вот тут в точку попал. Куракин как раз и украл, не сомневайся. У них, у олигархов, колесики в голове в обратную сторону крутятся, им все равно, что красть: миллиард или чугунки у старух. Чтоб его током стукнуло, вашего Куракина.
И как в воду глядел Саня. Той же ночью случилась гроза, как и все осенние грозы, страшная. Потоками лил дождь, блистали молнии, выхватывая из кромешной тьмы шумевшие деревья и залитые водой мостки. Потом небо разверзлось, и из мрачных глубин выскользнула особенно яркая и длинная молния, но не погасла моментально, а задержалась, точно указующий перст, направленный на крышу куракинского особняка.
В тот же миг крыша и стены вспыхнули голубым сиянием, из подвала будто бы повалил дым, и, пока было видно, весь особняк, как щупальцами, опутался светящимися, пульсирующими прожилками, напоминая чем-то готовый к отлету внеземной космический корабль.
Подбежавшие к окнам дачники так и подумали, что взревут сейчас моторы, затрясется земля и на столбе бушующего огня куракинский особняк, как ступа, умчится в пустое небо, оставив после себя в центре поселка неопрятную яму. Но отлет не состоялся, молния погасла, а начавшийся пожар затушил ливень.
После этого случая, словно колесики и правда закрутились в обратную сторону, у Куракина начались неприятности. Сначала сбежала жена — молодая, усталая женщина. Дачникам она нравилась, и каждый вечер они с жалостью наблюдали, как жена приезжала из города обвешанная продуктовыми сумками, которые тащила, точно мужики воду, сгорбясь, в отвисших руках. И однажды она рассержено сказала: «Я тебе не кухарка, Куракино-сан, поищи другую дуру» — и сбежала.
— Это ерунда, — бодрился Куракин, — поищем другую дуру.
Дальше уже была не ерунда. Как-то вечером подъехала к особняку машина с надписью на борту «Следственный комитет», и хотя Куракин сопротивлялся и кричал: «Что вы делаете, японские вы городовые», посадили в нее вернувшегося из леса олигарха прямо с полными корзинами грибов. Весной состоялся суд, на котором Куракина «за хищения в особо крупных размерах» осудили на много лет. Ходившие на суд дачники были довольны и потом еще долго обсуждали, сколько миллиардов, один или десять, украл Куракино-сан. Саня сердился на непонятливость дачников и каждый раз, встречая в поселке прораба Михайлова или стареньких учительниц, останавливал их.
— Какие такие крупные хищения? Сегодня за миллиарды не сажают. А попался ваш Куракин на краже чугунков, — убеждал он. — И это Куракин, а не я виноват перед Полиной Ивановной.
Саня говорил так убедительно, что, пока говорил, ему верили. Потом Саня шел дальше, и в нем все копился и копился к чиновникам и олигархам праведный гнев.
Мать и сын
Город ночью пуст, ни одной живой души. Если и появится кто-нибудь, то быстренько, скособочась, перебежит дорогу и скроется между домов в подворотне, пропадет насовсем, словно брошенный в омут камень. По городу только медленно проезжают легковые автомобили с зажженными фарами, будто ищут кого-то, и кажется, что едут они без участия людей, как ожившие механизмы, начавшие охоту за ночными человеческими душами. Так примерно думал стоявший у окна общежития Олег Ляпишев. Он проснулся среди ночи с больной головой. У окна лежал на спине и храпел его сосед, с которым они выпивали и позавчера, и вчера, выпьют и сегодня. Уличный фонарь окрашивал лицо соседа в синюшный цвет, словно он уже побывал в лапах оживших механизмов и те, перемолов его, вынув душу и наполнив синей вурдалачьей кровью, бросили на кровать. И ему хотелось выскочить на улицу навстречу этим охотившимся на людей машинам. А там будь что будет.
За полторы тысячи километров в своем доме не спала и мать. Второй месяц от сына Олега не было писем, хотя до этого он писал из своей Пензы регулярно, и надеяться на письмо больше не имело смысла. Она уже понимала, что с сыном случилась беда.
Сын уехал в Пензу к давнему армейскому другу, который обещал работу и общежитие после развода с женой, — не хотел больше видеть ни жены, ни того, что напоминало о ней. Пенза же была настолько далеким и незнакомым городом, что там он мог начать все сначала.
— Да плюнь ты на свою Нинку, — удерживала мать сына. — Чего на нее смотреть. У нас город хотя и районный, но не маленький, ты ее годами не увидишь.
— Нет, мама, решено, я тебе писать буду.
Мать покивала головой, то ли осуждая, то ли соглашаясь с отъездом. Скорее, соглашаясь, потому что понимала, что давно прошло время, когда она могла решать за сына, — теперь не он был при ней, как в детстве, а она, состарившись, была при нем и удержать его уже не в силах.
— А как же я, Олежек, как я без тебя-то?
— Говорю, не беспокойся. Поживу на стороне, оклемаюсь и вернусь. Еще и невесту привезу. — Олег, бодрясь, улыбнулся.
И вот теперь с ним что-то случилось. Тысячи мыслей, тысячи бед, одна за другой, приходили в голову. Может, он подрался и попал в полицию, в этих заводских общежитиях бардак, все знают. Или запил. Мужчины слабые, случится что в жизни, сразу раскисают, тянутся к рюмке. А вдруг убили и спрятали. Сколько сегодня людей пропадает бесследно! Но об этом невозможно даже подумать. Внутри ее словно открылся родничок, и теперь слезы так и текли по любому поводу.
И время для нее, казалось, остановилось. Для движения времени надо и движение мысли, но она не могла думать ни о чем другом, как только о сыне. От этих мыслей и волнений, от растерянности она чувствовала себя совсем бестолковой. Не могла даже запомнить название города, где жил Олег. Пока читала адрес на конверте, помнила, а затем забывала. Однажды догадалась подыскать какое-нибудь хорошо знакомое слово, созвучное городу, и нашла — пенсия. Пенсия — пензия (так еще многие в шутку говорят) — Пенза, и когда ее теперь спрашивали соседи, куда уехал Олег, замешкавшись, отвечала:
— В Пензию, в Пензу.
Между тем давно наступила весна. Внешне она еще была не так заметна, природа как бы замерла в ожидании толчка, чтобы в одночасье прийти в движение, в рост, зазеленеть, зацвести. Снег почти сошел, река освободилась ото льда, но по ночам подмораживало, дни были солнечные, но холодные, пронизывающе-ветреные. Ветром с реки заносило чаек, и они летали над домами с тревожными, резкими криками, словно смеясь или рыдая.
С весной ли или от непрестанных тревог стало скакать давление. Раньше не скакало, а теперь начало, и в ее представлении давление походило на взбесившийся уличный градусник, столбик которого то взлетал на тридцатиградусную жару, то падал на лютый мороз. По утрам опухали ноги, и вставать приходилось, опираясь на спинку кровати. В магазин ходила с трудом. Когда возвращалась, как ни тяжело было, спешила, задыхаясь, домой, надеясь и боясь, что в ее отсутствие из Пензы пришло письмо или телеграмма. К ногам и давлению добавились сердечные боли, и мать испугалась, что, если так пойдет и дальше, сына ей не дождаться. И когда об этом подумала, пришло самое простое решение — самой поехать в Пензу.
На следующий день она собралась к сыну. По-прежнему начавшаяся было весна оставалась на месте. Лужи не оттаивали до обеда, мотало из стороны в сторону голые сучья, и вместе с ними безвольно мотались сидевшие на деревьях и возмущенно кричавшие вороны и галки.
Настроена мать была решительно, дальняя дорога ее не пугала. Мыслями она уже добралась до Пензы, разговаривала с сыном и утешала его, а предстоящий путь был лишь неизбежным препятствием, который надо терпеливо преодолеть.
Но сначала ей предстояло добраться на автобусе до областного центра. И, сев в автобус, она наконец-то смогла немного успокоиться: впервые за последние дни она не бездействовала, а делала то, что от нее именно сейчас и требовалось. И впервые за несколько дней даже почувствовала себя почти здоровой: ничего не болело, не скакало и не опухало. Главное она совершила — отправилась в путь. Теперь остался пустяк — лишь доехать, и мать верила, что, как только доедет до сына, сразу все решится и успокоится, встанет на свои места. И кто знает, может, через неделю они вернутся домой вместе.
— Сколько до области осталось? — не выдержав, спросила сидящего впереди старика с седой бородой, которого она, если автобус резко тормозил, бодала головой в спину. Старик терпел, не возражал.
— Ай?
— До области сколько, говорю.
— Еще верст десять будет, — бодро ответил сосед.
Перед городом чуть было не случилась трагедия. Какой-то выпивший парень, как потом выяснилось, собираясь добавить к уже выпитому, решил отправиться в город к знакомым. Увидев автобус, он радостно выскочил навстречу и не рассчитал, поскользнулся на замерзшей после вчерашнего дождя дороге, упал на спину и ногами вперед покатился прямо под колеса. Беспомощный, не в силах что-нибудь сделать, он оцепенело смотрел на приближающуюся машину, и в ушах у него уже слышался хруст собственных костей. Шофер дал по тормозам, вывернул руль, автобус занесло, и он пошел боком. Парень к тому времени, погасив скольжение и встав на четвереньки, полз к обочине, и автобус, догнав, толкнул его колесом в мягкое место. Парень растянулся вторично.
Из кабины выскочил красный от злости шофер, схватил страдальца за шиворот, потряс, как провинившегося пса, приподнял.
— Что же ты делаешь, паршивец! Посадить меня хочешь, да?
— Никто не посадит. — Глаза у парня были круглые от испуга, глупые и добрые. — Никто не посадит, я сам виноват.
— Он виноват! В полиции не станут разбираться, кто виноват.
Чувствовалось, что шоферу хочется стукнуть парня так, чтобы он снова лег на асфальт — в третий раз. Но пассажиры, пережив первый страх, стали парня защищать.
— Отпустите вы его — пусть с нами едет. Торопится человек. Может у него в городе важное дело.
— Бутылка у него важное дело, других нет.
Злость у шофера не проходила, но, забравшись на свое сиденье, дверь он все-таки открыл, пустил парня внутрь.
Увиденное расстроило мать. Так нехорошо, унизительно выглядел этот чуть не погибший под колесами парень, что сразу подумалось о сыне. Представила пьяного, всеми осмеянного и оскорбляемого, ночующего где-нибудь на полу или, еще хуже, в канаве, и ей стало страшно. Дома он пил мало, но кто знает, как поведет себя на чужой стороне, оставшись один, да еще после семейного раздрыга?
Через полчаса она покупала билет на железнодорожном вокзале. И, покупая, снова запуталась с названием города.
— Мне через Москву до Пензии.
— Куда? — удивилась кассирша.
— До Пензы, до Пензы. Это я, бестолковая, так шучу.
— Ой, держите меня, она шутит, — рассердилась кассирша. — Все сегодня шутят, как в телевизоре. Старухи и те шутят.
Мать смущенно, переживая свою оплошность, вышла на перрон, где разговаривали и смеялись молодые девушки, и хотя смеялись не над ней, все равно было неприятно. Тогда она отошла подальше, в самый конец перрона, чтобы не видеться с теми, кто стояли за ней в очереди за билетами и сдержанно хохотнули, услышав о «пензии».
Здесь ее и заметил дежурный полицейский. До отправления поезда оставалось два часа, и полицейский, неторопливо прохаживаясь, временами осуждающе поглядывал на мать, как бы говоря этим, что не понимает тех пассажиров, которые приходят на вокзал задолго до посадки. Мать стояла одиноко, рядом с огромным чемоданом, с которыми уже давно никто не отправляется в путь. Именно с таким допотопным чемоданом к самому полицейскому еще в армию приезжала его мать, Как он радовался тогда его огромности, его вместительному нутру, забитому колбасой, салом, конфетами, пряниками и печеньем!
Он вспомнил и свою мать, которой обещал вернуться после армии домой, устроиться на птицефабрику, где работали почти все односельчане, жениться на школьной любви Танюше. Искренне обещал и ничего не выполнил.
Иногда, правда, он наведывался в родное село. Соседи говорили: хороший сын, не забывает мать. Но не к матери он приезжал, как теперь ясно, а чтобы покрасоваться, похвастаться своим новым положением, и, переночевав дома один раз, остальное время проводил с бывшими дружками. И когда шел улицей родного села — в новенькой, нарядной форме, с сержантскими лычками на погонах, с лопатником в кармане, полным денег, — то не человек шел, а почти всесильный молодой бог.
«Наверное, мать обижается на меня, вида не подает, а обижается», — снова подумал он. И ему захотелось помочь этой пожилой женщине с огромным чемоданом, устроить ее сейчас в комнату отдыха, пусть посидит часок до поезда в тепле, в мягком кресле, а когда начнется посадка — провести до вагона, предупредить проводницу, чтобы следила, чтобы со всем уважением. Он обернулся, но матери на перроне уже не было.
А мать в это время находилась уже далеко от вокзала. Теперь она никак не могла остановиться в своих заботах и пошла в магазин, чтобы купить сыну рубашку и шерстяные носки… Затем покупала еще и еще, испытывая счастье от появившейся возможности снова заботиться о сыне, словно он был маленький и от нее опять требовались внимание и защита.
Ну вот и ладно, думала она, к утру доберусь до Москвы и, если удачно сяду на поезд в Москве, поздно вечером или ночью буду в Пензе. Жди, сынок, потерпи немного, мать поможет, она уже рядом, смотри, она едет.
А ведь в действительности так и будет — она поможет.
Дороги
П. П.
На его памяти здесь всегда было много тропинок, дорожек и дорог, и все они куда-то вели — к стогу сена, к речному плесу, к далекому хутору, к ферме, к грибному лесу или клюквенному болоту, не говоря уже о селах и деревнях. Сюда, к деревням и селам, образуя узор, дороги и тропинки, судя по тому, уходишь ты или приходишь, сбегались или разбегались. И когда кто-то уходил из села, дорожный узор понемногу распутывался, пока не оставалась одна главная дорога. Но вскоре к главной дороге начинали прилепляться, бежать рядом, пересекать ее другие пути, и не оставалось сомнений, что впереди — за лесом, бугром, за поворотом — вот-вот покажется новое селение.
Когда-то в детстве Смирнов жил в этих местах, в студенческую молодость ходил с экспедицией собирать фольклор и сегодня, уже пожилым человеком, снова отправился в путь. Словно кто-то окликнул его с дальнего берега знакомым голосом, и зов этот беспокойно звучал в нем несколько лет, пока он не решился на поход, не зная еще, поздороваться или попрощаться с родными местами и давними знакомыми он идет.
Наверное, все-таки поздороваться, потому что был в хорошем, бодром настроении и будущий путь представлялся сплошным праздником. Уже в самом начале, как предсказание этого веселого праздника, ему встретился веснушчатый мальчишка, вышедший из леса с маленьким лукошком брусники.
— Ты откуда будешь, такой шустрый? — спросил Смирнов, помня, что поблизости нет деревень.
— Из лагеря. Бывшего пионерского, а теперь лагеря отдыха.
— А почему в лесу один?
— Сбежал с тихого часа, — с независимым видом ответил мальчишка. Было видно, что он недоволен расспросами. — И от тебя, дядя, сбегу.
И действительно убежал. Смирнов с улыбкой посмотрел ему вслед, задаваясь вопросом, чего было больше — ягод в лукошке или веснушек на лице мальчика.
Он шел и просторными полевыми дорогами, и дорогами лесными — перевитые узловатыми корнями, с растущими в колеях грибами, они не были широкими. Он глядел и, казалось, узнавал дороги, поля, лес, мосты, веря, что и родные места помнят его, и это узнавание волновало его.
Теперь, правда, дорог было меньше. Порой он приходил в замешательство, когда исхоженная тропинка в середине пути внезапно исчезала, словно проваливалась под землю. А когда видел заросшую травой колесную дорогу, уже не сомневался, что деревня, куда вела дорога, перестала существовать и в конце пути его ждут заколоченные дома, на скрипучее крыльцо которых никогда не поднимется человек.
Отдыхал он прямо на обочине или прислонясь в поле к стогу сена. Земля звенела от стрекота кузнечиков, светило солнце, струилось над стерней прозрачно-зыбкое марево, от запаха сена легко кружилась голова, и все вместе сливалось в яркий, ослепительный, неповторимый мир.
Он пытался и себя представить ребенком, и это получалось. Как из утреннего тумана, как отражение в медленно текущей речной глади, проступал в его памяти белоголовый мальчик, сидящий на руках отца. Видел он себя на берегу летней реки — достающим из воды разноцветные камешки и в форменной фуражке со школьной кокардой, с портфелем — идущим в первый класс. В глазах щипало, и думалось ему, что если он помнит все это и это его тревожит, не дает покоя, то, значит, нить, связывающая его с родиной, оказывается, никогда не прерывалась…
Предыдущую ночь он провел на озере Зеленец, куда они бегали с мальчишками купаться. Он помнил, что вода в Зеленце в детстве удивляла их — там невозможно было утонуть, озеро сразу выталкивало пловца наружу. И сколько они ни ныряли, с какой силой ни колотили по воде, взбивая брызги, пытаясь проникнуть в прохладную глубину, ноги все равно оставались на поверхности. Вечером после купания они обычно жгли костер, ожидая, когда голубое по цвету озеро начнет превращаться в зеленое.
Он и вчера все повторил: искупался, разжег костер и стал смотреть, как заходит солнце. Огонь на свету был невидим, и только по дыму и истлевающему на глазах хворосту можно было судить, что костер все-таки горит.
Смирнов сидел на пригорке, откуда хорошо было видно и озеро, и солнце, долго-долго медлившее, а теперь быстро опускавшееся за лес. Он смотрел во все глаза, стараясь не пропустить мгновения, когда цвет озера начнет меняться.
Что-то торжественное было в этом ожидании, в наступившей тишине. Смирнову казалось, что не он — другой человек сидит на пригорке, а он только смотрит его глазами. Полыхающее солнце уже село за деревья, лес вспыхнул как бы изнутри, но озеро оставалось прежним. «Неужели нам в детстве все привиделось и никакого превращения не будет?» — засомневался он, зная, что детские выдумки живут в человеке долго, до старости.
И в этот момент, когда лес наконец потемнел, сделалось сумеречно и лишь высоко в небе еще розовело одинокое облако, в этот момент пронеслась, как от крыла птицы, легкая тень и озеро начало наливаться зеленым цветом. Смирнов смотрел на это фантастическое сияние, которое, казалось, вспыхивая и мерцая, поднималось с озерных глубин. Пропали из виду и лес, и пригорок, и только озеро внизу и облако наверху еще светлели… Продолжалось все не больше пяти минут. Потом сияние так же внезапно, как и началось, пропало, а когда он поднял глаза, пропало и облако и на его месте уже слезились нарождающиеся звезды.
Теперь путь лежал на восток, где в деревне под Идрицей жил его школьный друг Дима. Деревню он нашел сразу, она стояла на приметном месте, у озера, двумя своими краями спускаясь к воде, а в центре поднимаясь на взгорок, и была похожа на коромысло. Чего он никак не ожидал, так это того, что дом Димы окажется закрытым на замок, и по виду замка — тяжелого, амбарного, заржавелого — можно было судить, что здесь давно никто не живет.
Он растерянно потоптался у калитки и хотел было идти с расспросами, когда из соседнего дома выбежали две большие лохматые собаки и встали как вкопанные, преграждая дорогу. Они казались очень добродушными, улыбчиво смотрели на Смирнова и виляли хвостами. И он чуть было не попался на их добродушие, сделав шаг навстречу. Собаки тут же оскалились, при этом не переставая улыбаться и вилять хвостом, всем своим видом как бы говоря: «Ты хороший человек, мы рады тебя видеть, но ты для нас чужой, поэтому будь мил, стой на месте, пока не появится хозяин и не распорядится, что с тобой делать — пригласить в гости или прогнать».
— Да, вы свое дело хорошо знаете, — напряженно усмехнулся Смирнов. — Молодцы.
После этих слов собаки пуще прежнего завиляли хвостами, еще шире заулыбались, довольные тем, что пришелец оказался понятливым, необидчивым человеком, но с места не сдвинулись.
Наконец появился не хозяин, а хозяйка, женщина в возрасте, с удивительно приветливым лицом, делавшим ее моложе. Одета она, правда, была по-старушечьи — в допотопный плюшевый жакет, в стоптанные войлочные бахилы, голова повязана темным платком.
— Домом интересуетесь? — спросила и изучающе поглядела на Смирнова, словно пытаясь его вспомнить.
— Скорее, жильцами.
— Давно умерли, жильцы-то, — привычно взгрустнула женщина. — Сначала женушка, а потом и сам хозяин Дмитрий Валентинович. А вы, что, знали их?
— Хозяина, Диму… Дмитрия Валентиновича знал, вместе в школе учились до восьмого класса. Мы дружили. Я тут у вас часто бывал.
— То-то я смотрю, что вы будто мне знакомы. Хотя, что я говорю, я тогда совсем маленькой была, только родилась. — Женщина засмеялась. — Сначала подумала, что вы дачник, ищете дом подходящий под дачу на лето. Даже обрадовалась — сосед под боком появится. — Женщина говорила уже доверительно, как со старым знакомым. — У нас тут, знаете, скучно. Нас, десять старух, да еще три старика. — Она опять засмеялась, вспомнив, наверное, что сама еще далеко не старуха.
Постояли, не зная, о чем дальше говорить. Собаки, пытливо наблюдавшие за выражением лица хозяйки, признавшей в пришельце не чужака, а гостя, в знак доверия перешли на его сторону и сели рядом.
Дима умер, думал Смирнов, но они так давно, сорок лет, не виделись, и он уже так привык к смертям своих одногодок, что не испытал сильного чувства потери. Пора было уходить, но что-то удерживало его.
— Вы мне дом не покажете? — спросил он.
— Покажу конечно, — спохватилась женщина. — Сейчас только ключ принесу. Я-то, глупая, подумала, что вы дачник, а вы друзьями были.
Она сходила за ключом, потом долго мучилась, открывая замок.
— Дмитрий Валентинович давно умер? — спросил Смирнов, глядя в спину женщине.
— Лет десять уже… Да что это с замком, скажи на милость, никак не щелкает. Лет десять, говорю. Сначала женушка, а потом и сам. Мучился, переживал, пить начал. Работы у нас, сами знаете, никакой, а он бригадиром был, потом даже председателем колхоза. А тут работы не стало, женушка умерла, взялся пить — и умер.
Наконец замок подался. Женщина распахнула дверь настежь и осталась стоять на крыльце, пропуская Смирнова.
— Заходите, побудьте, все правильно. Ключ, когда двери закроете, занесете мне.
Смирнов зашел в дом. Пахло здесь затхлью, скопившейся пылью, и было намного холоднее, чем на улице, — наверное, от долго нетопленой огромной русской печки, сквозь потертую, осыпавшуюся побелку которой кое-где, как раны, краснели кирпичи. Видеть это было неприятно, будто с печи, когда-то живой и теплой, а теперь умершей, содрали кожу.
Мебели в доме почти не осталось, зато на стенах сохранились многочисленные фотографии. Он стал рассматривать снимки с каким-то чувством вины, словно подсматривал за чужой жизнью в отсутствие хозяев. Самые старые — родителей Димы, бабушек и дедушек — были помещены в одной рамке. Женщины сидели в повязанных платках, длинных юбках, положив руки на колени, мужчины были сфотографированы стоя, в военной форме времен Первой мировой войны и Великой Отечественной, и глядели на Смирнова из своей прошлой, безвозвратно отошедшей жизни как бы удивленно, как бы не веря, что их время навеки ушло и скоро сотрутся с фотоснимков и сами образы их.
Дальше по одной висели фотографии самого Димы, и одного взгляда хватило, чтобы проследить его жизнь. Вот Дима младенец, вот школьные фотографии. Дима в армии, Дима женится. На свадебном снимке они с женой улыбаются друг другу, а сверху фотограф-ретушер пририсовал двух белых целующихся голубков. Смеющийся Дима в распахнутой рубашке стоит посреди распаханного поля — это он бригадир. А вот он в галстуке, в пиджаке, с напряженным лицом — председатель колхоза. Дальше на стене фотоснимков не было, наверное, наступили те самые трудные времена, о которых рассказывала соседка.
Смирнов вернулся к школьным годам. На одном снимке, где они были сфотографированы всем классом, увидел себя в третьем ряду, словно кто-то уже на фотографии вдавил его туда, в самый конец, пальцем. Свое лицо ему показалось почему-то несчастным, растерянным. Он стал вглядываться в другие лица, кого узнавая, а кого не помня по имени. Лицо мальчика из первого ряда взволновало его забытой, острой болью. Боль выплыла из прошлого, пока он не вспомнил, что именно этот мальчик в третьем классе утонул, купаясь в пруду. И это горе, эта впервые открывшаяся ему правда смерти, так поразившая его тогда, сейчас напомнила о себе. Погиб, разбился на мотоцикле и другой мальчик — Колька Зубарев, вот он стоит рядом с ним. Сколько смертей в самом начале…
Фотография, скорее всего, сделана первого сентября, в день начала занятий, все держат в руках букеты. Цветы, горкой, лежат у их ног, и у Смирнова вдруг возникло чувство, что все они стоят, радостно улыбаясь, не на школьной сцене, а забрались на катафалк. И в тот момент, когда они фотографировались, катафалк уже начал движение и отныне, проезжая во времени, из года в год будет ссаживать по пути его одноклассников одного за другим, пока не опустеет. Он и сейчас, наверное, наполовину пуст. И с ними случится то же, что и с предками Димы: наступит час, когда и они будут удивленно взирать на потомков из своей прожитой, безвозвратно отошедшей жизни.
От этих мыслей у Смирнова перехватило дыхание, грудь сдавленно отяжелела. Он огляделся, собираясь присесть. Ему надо было успокоиться, чтобы не появляться перед соседкой с отрешенным, пустым лицом. Но стула он не нашел и, постояв, вышел на улицу.
Ожидавшие Смирнова у крыльца собаки весело запрыгали и скорее побежали вперед, указывая гостю дорогу. Было видно, что им, как и людям, скучно в деревне, и каждый новый человек, да еще гость, был в радость. И как они потом растерялись, когда, не задерживаясь, он отправился дальше. Все еще надеясь, что свершилась ошибка, они последовали за ним, но бежали уже не впереди, а сзади и, когда Смирнов, выйдя за деревню, оглянулся, они потерянно стояли возле крайних домов и смотрели ему вслед…
Через пять дней он был уже на Бежаницкой возвышенности, в бывшем Кудеверском крае. Здесь учительствовали Петр с Татьяной, муж и жена, его институтские друзья, с которыми он не терял дружбы и после учебы. Они изредка переписывались, звали друг друга в гости. Петр с Татьяной дважды гостили у него в Пскове, а он у них не был и вот сподобился.
Он пришел в полдень. Погода менялась, похолодало, ветер гонял по небу не облака, а тучи. Они ненадолго застили солнышко, но потом оно вспыхивало еще ярче, освещая на склонах холмов начавшие вызревать гроздья рябин. Кое-где уже желтели березы.
Петр с Татьяной, скорее всего, были на занятиях в школе, и он решил не торопить их, а вначале подняться на гору Лобно. Это был самый высокий холм на сотни километров вокруг, достойный быть помещенным в предгорьях Карпат или Крымских гор, и просторы оттуда открывались неоглядные.
Он вспомнил, что на самой вершине стояла забытая, полуразрушенная церковь и был погост. Студентами, в фольклорной экспедиции, они однажды забрались на Лобно, принялись играть в волейбол, и мяч от чьего-то сильного удара покатился вниз. Они следил и сверху, как он, весело подскакивая, летел по склону, уменьшаясь до размеров точки, пока не исчез в древесных зарослях. Мяч они так и не нашли и вернулись в деревню на ночлег, раздраженные потерей. И это раздражение, даже злость от потери, связанные с горой Лобно, еще долго помнились Смирнову.
До горы надо было еще топать и топать. И он пошел по дорожке, ловко огибавшей встречные холмы. Почти у каждого холма разлилось по озеру, и он шел, с одного плеча подпираемый высотой горы, а другим плечом ощущая вольное озерное пространство. Вода у берегов оставалась спокойной, но на середине, где хозяйничал ветер, рябила, изображая шторм.
Дорогой он устал и начал задумываться, хватит ли у него сил добраться до места. Но отступать было поздно. Время давно перевалило за полдень, а августовские, предосенние сумерки ранние.
Когда он начал подъем, деревья шумели над головой, потом заросли отступили и шумели уже под ногами. На самой вершине было безлесье — он вышел на лоб, на лобно, на лобное место.
С вершины горы хорошо было видно, как далеко, горбясь холмами, уходит к горизонту синеющая даль. Виден был паривший в вышине коршун, высматривающий добычу, и две взволнованные сороки, перелетавшие в дерева на дерево. Странно было наблюдать сорок сверху, словно и сам парил в небе.
А на горе Лобно все было недвижимо. Смирнов догадывался, что его ждет, но и предположить не мог, какой болью отзовется увиденное. Полуразрушенная на его памяти церковь, за годы превратилась в руины, точно ее раскидало артиллерийским, прямого попадания, снарядом. А ведь она выстояла в войну, и уже после войны, говорили им, студентам, местные жители, вплоть до хрущевских времен, здесь шли службы и по праздникам из всех окрестных деревень — с Андро-Холмов, с Тур-Холмов, с Калин-Горки и Дем-Горки, сходились к церкви прихожане. И так же, как он сегодня, поднимались они на Лобно, и, как над ним, шумели у них над головами деревья, выискивая добычу, высоко парил коршун, перелетали с дерева на дерево сороки. Только встречал их на вершине звон колоколов…
Он обошел церковь, заглянул внутрь, поднял несколько литых, не сокрушенных временем кирпичей, сходил на погост. Везде было запустение и разруха. Казалось, о существовании Лобно разом, одновременно забыли. Но люди все-таки сюда заходили, он нашел следы их пребывания. На одной из створок входных церковных ворот он увидел надпись, сделанную, скорее всего, захожим туристом: «Я здесь был, водку пил, а вам не налил». На погосте он нашел сравнительно недавнюю могилу неведомого Федора Степановича Федорова. Видно было, что могилу не оставляют без внимания и время от времени кто-то прибирает ее, и он постоял над ней, как над родной, успокоенный, что Федора Степановича не забывают даже в таком недоступном месте.
У подножья креста белела в траве небольшая белая плиточка. Семенов раздвинул траву и прочитал: «Здесь похоронен сын России, участник трех войн Русского народа против поработителей, труженик земли Мелковской…». Кто-то нашел для такого случая правильные, важные слова. Сам Федор Степанович? Нет, конечно. Наверное, нашли слова и написали дети и внуки с тайной гордостью за отца и деда.
Смирнов перечитывал надпись и стоял как оглушенный. У него, как и в доме школьного друга Димы, перехватило горло, в груди сделалось тесно. Он вдруг осознал, что развалины церкви, кладбище и могила Федорова, как последнего героя, как защитника и труженика, — это и есть самое высокое место его родины. Это вообще что осталось от его родины.
Но душа не хотела такое принять. Как ребенок верит в свое бессмертие, так и душа, живая, верила в живое, искала и искала поддержку и укрепу своей надежде…
Через полчаса он шагал обратно. Солнце отяжелело и сделалось красным, собираясь заходить, воздух золотился. Дорога вела его мимо гор Караульница и Липница, оставляя в стороне гору Секирница, рядом с которой синело озеро Ратное. Вела в деревню Аксеново на берегу озера Алё, и он шел, поглядывая на Карульницу и Секирницу и озеро Ратное, как по местам былых сражений. Показалось впереди озеро Алё. С извилистыми своими берегами, заливами и островами, оно далеко раскинулось среди холмов и в свете заходящего солнца туманно сверкало. Из туманного блеска, как видения, поднимались, краснея рябиной, остров Рябиновик и зеленеющий листвой дубов Дубовик.
Смирнов после увиденного на Лобно понемногу успокоился и думал сейчас о другом. Думал, что после недельного бродяжничества он сильно соскучился по людям и дальние дороги тем и хороши, что приводят к человеческому жилью. И вот-вот он увидит дома деревни Аксеново и среди них крепкий большой дом Петра и Татьяны. Дом этот, как ясно из писем, стоит у самой воды, где в тростнике, привязанная веревкой к мосткам, дремлет лодка.
И скоро его встретят как родного.
Репортаж о ночном конюхе
Ночной конюх появляется на конюшне, называемой на ипподроме и тренотделением, после вечерней уборки. Наездник, два помощника наездника и дневной конюх уже накормили, напоили лошадей, убрали-отбили денники и переодеваются в сбруйнике, собираясь домой. Сбруйником считается помещение, где хранятся вывешенные вдоль стен на крючья сбруи, и когда ночной конюх только устраивался на работу, по наивности полагал, что переодевание в сбруйнике для наездника и помощников означает сбрасывание с себя всех этих уздечек, чересседельников, подхвостников, подпруг, ногавок, чтобы можно было появиться на улице в привычной человеческой одежде.
Наездник, сутулый и носатый, похожий на нахохлившегося грача, сумрачен, и у него вид сильно задумавшегося человека, которому предстоит дома решать какие-то сложные семейные вопросы. Молодые помощники, наоборот, смеются, толкаются и напоминают повзрослевших жеребят, еще необъезженных и пока веселящихся на воле. Дневной конюх не переодевается, а пьет чай, и лицо его вообще ничего не выражает. Он живет размеренной жизнью, во власти давно заведенных привычек, где одно следует на другим: после уборки он должен пить чай, потом дома будет ужинать, смотреть на ночь телевизор и ляжет спать — поэтому волноваться, переживать и страдать ему ни к чему.
Перед уходом наездник бросает ночному конюху короткую фразу: «До завтра», дневной конюх молчит, не имея привычки прощаться, помощники каждый вечер говорят одну и ту же шутку:
— Смотри, Николай Иванович, не води сюда по ночам молодых девок, а то мы тебя знаем. — И хохочут, и в смехе их конюху слышится беззаботное лошадиное ржание.
Эта однообразная шутка так надоела ему, что он перестал улыбаться даже из вежливости. Он ждет не дождется, пока конюшня опустеет, и прохаживается по коридору. Больше всего на свете он ценит покой и одиночество, от смеха и шума у него болит голова, и, когда наконец все уходят, он, не доверяя, провожает их взглядом. Ему видны шагающие через беговое поле четыре одинаково темные фигуры, отбрасывающие позади себя четыре тени. И чем дальше они двигаются, тем заметнее в уличном свете их фигуры и короче тени. На выходе четверка распадается: наездник идет налево, дневной конюх направо, а два помощника, смеясь и толкаясь, прямо в город — на танцы или в кино. Только после этого Николай Иванович закрывает на конюшне ворота, надеясь, что запоры крепки и до утра его никто не побеспокоит.
Но вместо покоя и одиночества конюха сразу начинают одолевать страхи. Все вокруг кажется загадочным, все наполнено звуками. Страхи скоро пройдут, но первое время он ничего не может с собой поделать, стоит посреди конюшни, обратясь в слух, поворачивается то в одну сторону, то в другую. Лает поблизости собака и вдруг взвизгивает, будто ей в темноте наступили на лапу. На соседней конюшне ржет лошадь, словно тот, кто отдавил собаке лапу, теперь накинул на лошадь недоуздок и тянет ее, упирающуюся, к выходу.
Главный страх — перед цыганами. В его сознании цыгане и лошади всегда рядом, причем первые обычно крадут вторых. И хотя у цыган сегодня другие занятия, он не сомневается, что именно, отдавив лапу и уведя из соседней конюшни лошадь, сейчас начнут они ломиться к нему…
Минута проходит за минутой, никто не ломится, зато на чердаке слышны какие-то шорохи и движение. Скорее всего, чердачные окна открыты и гуляет сквозняк, но воображение рисует существо, на цыпочках бегающее из конца в конец. Пробежит, остановится, переводя дух, и несется обратно. Прислушиваясь к чердачным шорохам, конюх все-таки осознает, что цыгане не бегают на цыпочках. А случись им бегать, топали бы сапогами и с потолка сыпалась бы побелка, а так это, скорее всего, привидение или ветер…
На первый взгляд, работа ночного конюха, как и всякого охранника, легка, неприметна и требует лишь одного усилия — терпения, чтобы дождаться утра. На самом деле она полна неожиданностей и событий, никак не связанных с охраной лошадей.
Через час в ворота действительно начинают ломиться. По характерному стуку — три удара кулаком, потом еще два — и по голосу с улицы можно догадаться, что явился наездник. Николай Иванович открывает в воротах маленькую калитку и впускает его. У наездника такой же сумрачный вид сильно задумавшегося человека, что и час назад, и не остается сомнений, что за этот час он успел поссориться с женой и пришел на ночлег. Шоферы, когда ругаются с женами, уходят спать в гараж, художники, он слышал, в мастерские, а наездники в конюшни.
— Поспать есть на чем? — спрашивает наездник, подтверждая догадку конюха насчет ночлега. — Сам-то где спишь?
— Как можно спать, Геннадий Васильевич? А если цыгане?
Конюх лукавит. Он приготовил себе в сбруйнике за печкой место для отдыха — несколько расстеленных на полу старых потертых попон, на которых засыпается почему-то всегда легко, быстро и сладко, словно куда-то летишь. Перед приходом наездника он как раз собрался прилечь, но теперь место занято, и оставшийся не у дел конюх, у которого, как нарочно, сразу начинает ныть все тело, смотрит на часы. До ночного поения лошадей еще много времени, и он идет к дальнему деннику.
На конюшне содержатся двадцать две беговые лошади и одна рабочая — гнедой латвийский тяжеловоз мерин Мишка. Он стоит в дальнем деннике и уже издали ласково смотрит на конюха. Николай Иванович худощав, мерин широк, как перина, и на его спине любая попона кажется короткой. Между ними давно сложились особые, доверительные отношения: конюх разговаривает с мерином, а тот слушает и одобрительно кивает головой, будто со всем согласен. Он и на самом деле со всем согласен — и когда, кивая, вывозит на телеге из конюшни навоз, и когда доставляет обратно мешки с фуражом и тюки с сеном.
Найдя благодарного слушателя, Николай Иванович обычно пересказывает свою биографию. А раз биография тот же документ, пересказывает он ее с важным, торжественным видом, словно с трибуны перед собравшимися в зале.
— Родился я, как ты знаешь, в войну, в начале лета 1942 года, когда немцы уже начали наступление на Сталинград, — начинает он. — И потом много лет был связан с армией…
Они стоят разделенные прутьями решетки, почти лицом к лицу. Из дальнейшего рассказа выясняется, что служил Николай Иванович в должности начальника воинского склада.
— Но армейская служба была не по мне, я люблю тишину, покой. А какой в армии покой? Там надо иметь железные нервы: каждый месяц сплошные проверки и ревизии. Только и слышишь, как в других частях то одного начсклада посадили, то другого. У меня, слава богу, воровать было нечего — одни автоматы и пулеметы с патронами, стрелковое оружие. Этого в те годы не трогали. Зато, если что пропадет, сразу схлопочешь лет двадцать, а то и вышку.
Мерин перестает кивать головой, сомневаясь в сказанном, и конюх поправляет себя:
— Не вышку, конечно, и не двадцать лет, но червонец вполне могли впаять, за пулемет-то.
С улицы доносятся чьи-то отдаленные шаги. Конюх, наклонив голову, замолкает в ожидании. Нет, никого. Ночью всегда так: дай волю воображению — еще не то послышится.
— И решил я, брат Мишка, перебраться на гражданку. — Конюх продолжает прислушиваться. — Кем только не работал — и шофером, и слесарем на заводе. Потом устроился заведующим городской баней. Но и тут покоя не было. На гражданке, оказывается, в баню ходят не только мужики, как в армии, но и женщины. И много женщин, и разные женщины. И случилась со мной в бане оказия, чуть было с женой не развелся…
Мерин внимательно слушает. Он уже стар, живот у него разросся, ноги, наоборот, стали тоньше, хвост и грива поредели. Но оценивает он свой возраст не по годам, которые ему непонятны и которых уже стукнуло пятнадцать, а по тому, как с каждым месяцем все тяжелее телега с навозом, мешки с фуражом, тюки с сеном. Конюх тоже стар. Свой возраст он знает — семьдесят два года, но и без этого знания понятно, что только в старости скрипит в коленях, ломит спину, колет в боку… Задумавшись о старости, оба тяжело вздыхают, и до конюха доносится из лошадиного нутра влажный запах пережеванного сена, а мерин чувствует порыв застарелого табачного духа.
Николаю Ивановичу жалко Мишку, и, чтобы приободрить лошадь, он достает из кармана кусочек сахара, кладет на ладонь и просовывает сквозь решетку. Мерин, не касаясь ладони, осторожно подхватывает его, хрустит, и у обоих увлажняются глаза, словно вот-вот набухнет и покатится по мягкой лошадиной шерстке одна слезинка, а по морщинистой щеке конюха — вторая…
Заканчивает свой рассказ конюх обычно словами: «Хватит на сегодня, потом доскажу». Так и не узнает мерин Мишка, какая оказия случилась с Николаем Ивановичем в бане, потому что на следующий день он подойдет к деннику и начнет свое жизнеописание с самого начала: «Родился я, как ты знаешь, в войну, в начале лета 1942 года, когда немцы начали наступление на Сталинград».
Между тем выясняется, что шаги конюху не почудились, и сейчас они явственно слышны возле конюшни. Конюх на цыпочках, как чердачный сквозняк или привидение, спешит к воротам, прикладывает к доскам ухо. Шаги стихают, зато в ворота, оглушив его, бухают.
«Наверное, жена Геннадия Васильевича, ищет мужа», — решает он и снова оказывается прав. Появляется жена Татьяна, сердитая, сразу набрасывается на конюха:
— Где мой муж?
— Какой муж? — Спасая начальника, конюх делает удивленное, непонимающее лицо.
— Ты мне дурочку не валяй, все знают, что ты сюда по ночам молодых девок водишь. — Она говорит, не глядя на конюха, поверх его головы, обыскивая глазами конюшню. — То-то я смотрю, к тебе мой муж зачастил.
— Нет никого, я один. Я вообще-то люблю покой и одиночество.
Лошади, заслышав громкие голоса, проснулись и все как одна следят за происходящим. Потом они медленно поворачивают головы, провожая идущую к сбруйнику женщину.
Несколько минут из сбруйника слышен возмущенный голос Татьяны, затем голос становится упрашивающим. Наездник отвечает ей глухо, без всякого выражения. Конюх уверен, что домой наездника поведут как под конвоем: он впереди, жена сзади. Но они мирно появляются под ручку, и, проходя мимо, Татьяна говорит мужу уже третьим голосом — ласковым и укоряющим:
— Все, Гена, знают, что здесь по ночам творится. И ты, дурачок, туда же.
После обязательного ночного поения, когда конюх, пустив из водопроводных кранов воду, бегает по конюшне с ведрами, открывая и закрывая двери денников, лошади снова засыпают. Вопреки мнению, что они спят стоя, некоторые неуклюже ложатся на пол, вытянув ноги. Остальные спят, уткнув голову в угол, повернув к дверям круп, чтобы в случае нападения отбить атаку ударом задних копыт, который, кажется, не выдержит и танковая броня.
Конюх недаром служил в армии и все происходящее воспринимает как какое-то военное действие, и в голове у него то и дело мелькают эти образы — нападение, атака, танковая броня, а когда, открывая и затворяя, он щелкал на дверях задвижками, ему казалось, что на конюшне собрался взвод солдат и, передергивая затворы винтовок и автоматов, готовится к стрельбе.
Лошади спят. Завернув краны и притушив свет в коридоре, укладывается на покой и Николай Иванович и, как только ложится на попоны, сразу улетает в ночные свои странствия. До рассвета еще далеко, но звезды поблекли, начали таять. Не дожидаясь утра, дует легкий ветер, листья на липах и тополях вокруг конюшни едва уловимо колышутся, словно переговариваются во сне.
В предутренний час глубокого и сладкого сна на конюшне раздается скрип. Это мерин Мишка просунул голову в незакрытую по забывчивости дверь и выглядывает в коридор. Скрипит еще громче, протяжнее. Мишка, толкая дверь боками, распахивает ее настежь и, напуганный собственной дерзостью, останавливается: передние ноги его уже в коридоре, а задние еще в деннике. Не зная, что делать с неожиданно обретенной свободой, он сначала идет к воротам, надеясь, что каким-то чудом они отворятся и выпустят его на улицу пощипать зеленой травы. Потом начинает ходить по коридору, цокая копытами и беспокоя остальных лошадей.
Дверь сбруйника тоже открыта настежь, откуда в проход потоком льется свет. Проходя мимо, мерин всякий раз заглядывает внутрь, желая увидеть конюха. У порога сбруйник ярко освещен, но дальше, за печкой, все теряется в сумерках и раздаются странные звуки — хры-хру, словно кто-то пилит доску.
Уже нарушив порядок однажды и выйдя в коридор, мерин решает нарушать его дальше и забирается в сбруйник. Стараясь не греметь по полу копытами, он пробирается за печку и видит лежащего на попонах лицом вверх конюха, из открытого рта которого слышатся уже знакомые звуки «хры-хру».
«Спит и храпит», — осознает увиденное мерин, для которого всегда было загадкой, чем занимаются в сбруйнике люди.
Боясь лишний раз повернуться в тесном помещении, он принимается обнюхивать Николая Ивановича — сначала его стоящие в сторонке кирзовые сапоги, откуда несет портяночной прелью, потом и его самого. Особое внимание он уделяет рукам и лицу. Мягкие волосики на морде мерина щекотят нос и щеки конюха, которому в этот момент кажется, что к нему, ласкаясь и заигрывая, лезет целоваться жена Нюра.
Конюх уже наполовину проснулся, и та половина, что бодрствует, недовольно говорит: «Отстань, Нюра, не лезь. Куда ты лезешь в нашито годы», а другая продолжает упорно спать. Он переворачивается на бок, но теперь становится щекотно уху и шее. «Поимей совесть, Нюра, не мешай уставшему человеку», — недовольствует он и в этот момент, когда больше нет сил терпеть щекотку, открывает глаза.
С минуту он лежит, ничего не понимая, потом резко переворачивается и с ужасом видит склонившееся над ним тяжелое лицо, очень похожее на африканское, — с толстыми губами и вывернутыми вверх огромными ноздрями. Он хочет крикнуть, позвать на помощь, но сердце бьется так громко, что заглушит любой звук, и конюх только вяло машет рукой, как бы собираясь ударить или просто ограждая себя от страшного видения. В этот момент испуганное взмахом африканское лицо взлетает к освещенному потолку, и уже при свете Николай Иванович замечает острые уши на затылке, белое пятно на лбу и понемногу догадывается, что все это время заигрывало и лезло целоваться не африканское лицо и даже не жена Нюра, а мерин Мишка, неизвестно зачем проникший в сбруйник.
Заметив, что конюх проснулся, мерин опять склоняется над ним, захватывает зубами рукав пиджака, выпрашивая сахар, и конюх, который от испуга чуть было не огрел Мишку по морде, смеется и достает из кармана угощение…
Пока конюх спал, на улице рассвело, окна на конюшне побелели, электрический свет от лампочки кажется желтым, неопрятным. Такой свет обычно бывает от мокрых осенних листьев после дождя.
Вскоре появляются дневной конюх и наездник, по довольному виду которого можно судить, что за ночь он решил семейные вопросы. Последними приходят невыспавшиеся помощники и при виде Николая Ивановича опять шутят:
— Что, дед, успел выпроводить девок?
И, переглядываясь, смеются чему-то одному им известному. Конюх и на эту надоевшую утреннюю шутку не улыбается даже из вежливости.
А когда идет домой, прошедшая ночь представляется ему во всей несуразности и суете. Нет покоя на работе, не будет и дома. Он вспоминает мерина Мишку, которого перепутал с африканским лицом и с женой Нюрой, и если бы он сейчас дома решился поиграть и пощекотать Нюру, она тоже ответила бы ему: «Ты что делаешь, Николай Иванович, в наши-то годы». И весь день потом, уходя в магазин, выбивая во дворе ковры и вынося мусор, он будет думать о работе, надеясь, что хоть сегодня никто не нарушит его покоя и одиночества.
Возле дома ночного конюха нервно прохаживается молодой человек, видно, кого-то ожидая. Выясняется, что нужен ему как раз Николай Иванович.
— Журналист Петров из газеты, — представляется он. — Собираюсь писать об ипподроме. Я слышал, вы там работаете. Может, расскажете подробности для репортажа о беговых лошадях, о наездниках, о выигранных вами призах?
— Что же, рассказать можно. Чего же не рассказать. Хотя какая это работа. Одна суета, никакого покоя, хоть увольняйся.
Они присаживаются на скамейку. Молодой человек достает блокнот и ручку, собираясь записывать, а ночной конюх важно, словно зачитывая перед собравшимися в зале документ, начинает:
— Родился я, как тебе известно, в войну, летом 1942 года, когда немцы начали уже наступление на Сталинград…
Охота
Юре было пятнадцать лет, когда дядя взял его с собой на охоту. Разговоры об охоте начались еще весной, и Юра, слушая приехавшего в гости дядю, волновался, представляя себя охотником из джунглей, и не мог дождаться августа, чтобы отправиться к дяде, работавшему охотоведом.
Он был домашним мальчиком, стеснительным и неуклюжим из-за своего не по возрасту высокого роста и полноты. Драться он не умел, но в школе с ним не связывались, опасаясь его силы, которая, несомненно, была заключена в большом теле. Лишь недавно переведшийся к ним из другого класса Витька Испан, смуглый мальчик, назвал его, имея в виду полноту, «Кабанчиком». Называл он Юру так и позже, рисуясь перед девочками, ожидая увидеть их ответные одобрительные улыбки, какими обычно награждают любимчиков и смельчаков.
Юра долго терпел, стыдно было перед девочками, и однажды на уроке физкультуры скрутил Витьке руку и дал такого пинка, что тот, пролетев по спортзалу несколько метров, впаялся в стену…
В конце августа погода совсем поворачивает на осень. Солнце, вставая, уже не искрится, не играет, свет его туманно-тусклый, желтый, предосенний. Кроны деревьев еще густы, но падают первые листья, и недалеко время, когда обнажатся черные ветви, которые будет поливать дождями. Ночью и по утрам холодно.
Дядя встретил Юру с поезда в такое холодное утро и повез к себе в село Полдневое на огромной легковой машине. Ехали сначала полем, потом редким березняком, и Юра, думая об охоте и все еще представляя себя охотником из джунглей, был немного разочарован, что вокруг нет никакой тропической растительности. Только когда въехали в сырой, болотистый лес и по бокам, как лианы, поднялись худосочные, кривоватые сосенки, осины и ольха, окутанные туманом, стало похоже на тропики.
— Охотиться еще, конечно, рано, сезон не начался, — говорил дядя. — Но мне в научных целях можно. По парочке уточек мы с тобой забьем.
Юра молчал, но ему было приятно, что дяде можно то, чего нельзя другим. И когда, проехав через село, между рядов низеньких домов, они оказались у стоящего на берегу озера двухэтажного дома, сложенного из покрытых желтым лаком бревен, с верандой и балконом, а рядом на причале он увидел моторную лодку и белый катер, дядя и совсем показался ему человеком особенным, почти всемогущим, а сам он попал в сказочный мир.
Сказочным было и все остальное. Завтракали, несмотря на прохладу, на открытой веранде. Дядина жена, в меховой душегрейке поверх халата, ласковая и внимательная, расспрашивала Юру о школе, об отметках, родителях. Солнце светило сквозь деревья, и на скатерти лежали дрожащие пятна. Потом Юру повели в его комнату на втором этаже, и, выйдя на балкон, он увидел внизу свинцовое от волн и в то же время сверкающее озеро. Волны бились о причал, покачивали лодку и катер, причем лодка подпрыгивала на одном месте, а катер важно клонило из стороны в сторону. И на каждой волне, как всадник верхом на лошади, сидело по солнечному зайчику, и когда волна достигала суши, зайчики, доехав, по-кавалеристски ловко соскакивали на берег.
На охоту собрались на следующее утро. Перед этим дядя дал Юре тульское ружье шестнадцатого калибра, а себе взял «бельгийку» двенадцатого.
— Ты рулить умеешь, отец учил? — сразу спросил он, усаживаясь не в белый катер, как надеялся мальчик, а в моторную лодку.
Юра кивнул. У них в городе была своя моторка, и дядя об этом знал.
— Тогда садись за мотор и правь, куда я укажу.
Утро снова было прохладным, над озером туман стоял стеной, скрывая берега. Они вплыли в этот туман, и, если бы не плеск воды и не волны, разбегавшиеся от носа лодки и сразу терявшиеся в белесой мгле, могло показаться, что они зависли в облаке.
На середине озера туман сгустился. Дядя почти пропал, только можно было уловить, как он мажет рукой в неизвестно какую сторону, и Юра рулил почти наугад. Они плыли так минут десять, когда неожиданно вокруг посветлело, потом порозовело и стало ясно, что взошло солнце. Туман торопливо заклубился и, подгоняемый ветром, рассеиваясь, стал подниматься вверх. Клочья его еще бежали над водой, когда впереди предстал противоположный пустынный берег, и появился он так неожиданно, словно только что всплыл из холодных озерных глубин.
За первым озером последовало второе — они были соединены узкой протокой. И если первое озеро было просторное, чистое и глубокое, то второе мелководное, густо заросшее по берегам тростником. Здесь и остановились. Дядя, зарядив ружье, начал вслушиваться и всматриваться. Из зарослей тростника доносилось осторожное утиное кряканье, временами тростник вздрагивал. Затем он затрясся сразу в нескольких местах, и на чистую воду стали выплывать селезни и утки с выводками. Утки вели себя спокойно, купаясь и охорашиваясь, а утята, уже подросшие и вставшие на крыло, но все еще отличавшиеся от взрослых меньшими размерами, резвясь, шумно рассекали воду и гонялись друг за другом.
Увидев птиц, дядя опустился на колени и принялся осторожно толкать лодку шестом, подкрадываясь к стае. Оттолкнется, замрет, ожидая полной остановки, и снова, стараясь не задеть, не стукнуть о борт, опустит шест на дно. Юра тоже присел на елани, так что над бортами виднелась только его голова, и боялся дышать, чтобы не нарушить тишины и не вспугнуть птиц. А тишина над озером действительно стояла необыкновенная, ничто не предвещало беды, и двигавшаяся лодка, наверное, казалась уткам огромной корягой, и они не замечали, как она понемногу приближается к ним.
Когда до стаи оставалось метров сто, дядя рукой сделал несколько круговых движений, означающих, что пора заводить мотор. Затаивший дыхание мальчик в ту же секунду дернул шнур пускача, мотор взревел, взбивая за кормой водяную гору, и лодка помчалась вперед.
Утки опоздали и взлетели уже перед самым носом лодки. Они взлетели так плотно, заполнив собой, почти без просвета, все пространство, словно впереди выросла живая стена, и промахнуться по ним было невозможно. Дядя вскочил с колен и принялся стрелять, мгновенно перезаряжая ружье, выбрасывая использованные патроны, вставляя новые, и пустые гильзы звонко раскатывались по еланям.
Утки, трепеща крылышками, летели из последних сил, пытаясь оторваться от страшной, грохочущей выстрелами, убивающей их коряги. Но напрасны были их попытки спастись. Разве могли они соперничать с тридцатисильным мотором, с бешеной скоростью крутившим винт? Лодка, вся в веере сверкающих брызг, поднявшихся над бортами, не отступала, возвышавшийся на носу дядя стрелял, и было такое впечатление, что он, как пастух стадо, нещадно хлестал их кнутом, и после каждого удара одна или две птицы, замерев на мгновение в воздухе, точно ударившись о невидимое стекло, теряя перья, кубарем падали вниз.
Это была уже не охота, а настоящее избиение. Уткам надо было бы рассредоточиться по сторонам, но они упорно держались вместе, точно специально подставляя себя. Юра, в порыве азарта, бросив румпель, тоже выстрелил из одного ствола, но из второго стрелять не стал, руки сами собой опустились.
Стаю преследовали до противоположного берега. Оставшиеся в живых утки забились в тростник, а дядя сделал рукой полукруг, показывая поворот. И когда Юра развернулся, волны от лодки, достигнув берегов, отхлынули обратно, побежали навстречу друг другу, и все небольшое озерцо беспокойно закачалось, а вместе с ним раскачивались на волнах и мертвые тушки птиц.
Обратно поплыли зигзагами, подбирая убитых уток. Юра толкался шестом, дядя подбирал. Он был возбужден удачной охотой, шутил, и с лица его не сходило, как показалось мальчику, выражение какой-то животной радости.
— На редкость хорошо поохотились, — восторгался он. — Тебе, Юра, повезло увидеть настоящую охоту, на всю жизнь запомнишь.
— Зачем было столько много стрелять-то? — спросил Юра, изо всех сил скрывая раздражение и жалость. — Сами говорили: по паре уток на каждого.
— Ты, брат Юра, еще не охотник, не понимаешь. Разве тут удержисся, если само в руки идет.
Две утки оказались подранками, лежали на боку и били по воде лапами, пытаясь отплыть от лодки. Дядя подхватил их на ходу, свернул головы и бросил в общую кучу.
От произошедшего внутри Юры все окаменело, огромный такой камень лежал на душе, и он боялся каким-нибудь неловким жестом или словом сдвинуть его с места, выдать себя и расплакаться. Жалко было уток, очень жалко. И главное, зачем столько убивать? Разве нет другой еды? У дяди дорогая машина, катер, двухэтажный дом, лучший в селе. Зачем столько убивать?
Еще десять минут назад утки радовались солнечному утру, купались и охорашивались, резвились, и вот их тихая, неприметная, потаенная от людей жизнь прервалась. Он старался не смотреть на лежащих на дне лодки мертвых птиц; этот, почти мгновенный, переход от жизни к смерти еще не вмещался в его голове. Ему хотелось остаться одному и наплакаться. Но надо было терпеть дядю, не подавая вида, как ему тяжело.
Дома он поднялся в свою комнату. Здесь уже топилась маленькая изразцовая печь, дядина жена позаботилась, и было тепло. Юра лег на кровать, но заплакать не мог. Осталась только тяжесть. Было слышно, как внизу дядя разговаривает с женой веселым голосом, видно, хвастаясь добычей. Жена отвечала резко, недовольно, мальчик даже сумел понять одну фразу: «Не думай, я твоих уток щипать не буду». В комнате пахло дымом, дрова трещали и стреляли, словно печь что-то торопливо и горячо рассказывала. Под этот торопливый говор Юра и уснул.
А когда уже вечером проснулся, решил, что уедет домой. Об этом он и сказал за ужином. Ужинали снова на веранде, только теперь она была в тени. Тенью накрыло и деревья, и ближайший край озера, светилось лишь небо с плывущими облаками, похожими на зажженные люстры, и противоположный берег. Дядя еще не понял, что происходит с Юрой, и огорчился отъездом племянника.
— Я думал, ты еще недельку погостишь до школы. Еще бы раз на охоту съездили, на рыбалку. У меня одних сетей метров двести.
Утром дядя отвез мальчика на железнодорожную станцию. Дорогой он молчал, быть может, понял, наконец, Юрино настроение, а может, и не понял и просто не выспался или поругался с женой, которая не хотела щипать его добычу.
Снова, только в обратном направлении, проехали мокрый, болотистый, похожий на джунгли лес, березовую рощу, поле. Впереди показалась станция, и Юра посмотрел на нее с надеждой, словно освобождаясь от всего тяжелого, что произошло у дяди на охоте.
Остановка в пути по дороге к невесте
Константин Рулев — в театре его за молодость называли Костиком — ехал в Саратов делать предложение невесте. Любовь накрыла его с головой и понесла, задыхающегося, в бурном потоке. Поток этот, словно зажатый между скал, несся с большой скоростью, искрился, кипел, закручивался в буруны, и жизнь казалась прекрасной. Случалось, правда, и выныривать, чтобы хватануть воздуха, и тогда среди брызг и водоворотов мелькали сомнения: а не рано ли в двадцать три года жениться, сколько еще девушек и встреч будет впереди. Но тут его снова накрывало, и думать он мог только о ней, мечтать только о ней, прожить до старости хотелось только с ней.
Познакомились они почти год назад, когда театр был на гастролях в Саратове. Костю, только что окончившего театральное училище и еще не игравшего на сцене, взяли на гастроли за компанию, чтобы приобщался к беспокойной актерской жизни.
Костя, ласковый, восторженным паренек, похожий, к своему огорчению, на какого-то сказочного кудрявого деревенского пастушка, выглядел намного моложе своих лет. Когда старые актеры, смотревшие на Костю и вспоминавшие свою наивную, чистую и тоже восторженную молодость, а теперь усталые, прожженные, изверившиеся и насмешливые, когда эти старики посылали его в магазин за водкой, Костя брал паспорт показывать продавщицам, которые никак не хотели верить, что ему давно исполнилось восемнадцать лет.
Год они с невестой провели в переписке, год прошел в любовной лихорадке, пока Костя не понял, что выход только один — жениться. Помимо любовных переживаний, время проходило и в ожидании своей актерской судьбы. Давно пора было вводить его в спектакли, но режиссер не спешил, и это его тоже волновало. Костя часто ловил на себе изучающие взгляды режиссера, который, видимо, примерял его то к одной роли, то к другой. Иногда взгляды казались недовольными, иногда обнадеживающими, и поэтому он то ревниво нервничал, то счастливо замирал.
В Твери он сделал остановку, чтобы передать посылку двоюродной сестре матери. Тетка, после смерти мужа и женитьбы сына живущая одиноко, истосковалась по заботе о родных. А тут такой случай, родственник заявился, ни за что не хотела его отпускать.
— Погости пару деньков и езжай в свой Саратов. Кстати, зачем тебе туда? На гастроли?
— На гастроли, — ухватился Костя на подсказанную мысль. — Я и так запаздываю, послезавтра спектакль.
Попрощался с теткой и вечером отправился на вокзал, чтобы уехать ночным поездом. Воздух был тяжелым, душным, липким, как перед грозой, рубашка повлажнела. От духоты, опять же как перед грозой, тянуло в сон. Прохожие выглядели измученными, и казалось, они ждут не дождутся, когда можно будет лечь спать. Одни молодые девушки, по-летнему нарядные, чувствовали себя бодро и куда-то спешили. Они знали, что нарядны и красивы, знали, что спешить надо, иначе опоздаешь на бал, и были так счастливы своей молодостью, что даже у сонных прохожих, как от порыва ветра, заворачивались им вслед головы.
Девушки с интересом смотрели на Костю, будто и его приглашали на бал. Сам он, вспомнив, что он актер, в скором будущем обязательно знаменитый, поглядывал на них снисходительно, словно они прямо сейчас должны были подбежать к нему за автографами. Не подбегут, конечно. Но ничего, будут и автографы, надо немного подождать.
До поезда оставалось еще три часа. Костя присел на вокзале у открытого окна, где было посвежее, стал рассматривать пассажиров: кто как ходит, разговаривает, жестикулирует- развивал, как учили, наблюдательность.
Здесь он и увидел своего бывшего однокурсника Ванюшу Дикина. Они почти что дружили. Правда, Ванюша проучился в театральном один год, затем, перед рождением ребенка, женился на никому не известной бухгалтерше из шарашкиной конторы, устроился работать на стройку, где больше платили, даже куда-то переехал, и, казалось, их пути-дороги навеки разошлись. И вдруг снова сошлись. И где — в совсем далеком от их театрального училища месте!
Ванюша бродил по залу ожидания, иногда присаживался на скамью и снова, поднимаясь, как через силу, брел дальше, почти не глядя по сторонам.
Сначала Костя только обрадовался встрече и лишь потом отметил другие детали: одет бывший однокурсник был по-сиротски, в затрапезные брючки, в измятую рубашку, расстегнутую на загорелой груди, и имел вид человека, всеми забытого, одинокого, несчастного. Но навеяла ему эту мысль даже не одежда, а какое-то потухшее выражение лица Дикина. С такими неприкаянными лицами обычно ходят и ищут, без надежды найти, что-то давно потерянное. Костя помнил Ванюшу совсем другим — веселым, добрым. Талантами, правда, не блистал. Но с ним было надежно.
«Это как же надо было жить, чтобы за четыре года так измениться? — подумал Костя. — Что за жизнь была? Словно она, нехорошая, жевала, жевала человека, собираясь проглотить, да что-то помешало, так и оставила его недожеванного!»
Ванюша тоже сразу узнал его, и, когда они по-мужски крепко обнялись, похлопали друг друга по спине, приятель в этот момент как-то странно, с длинным всхлипом, вздохнул- так успокоенно и утешительно вздыхает отплакавшееся после обиды дитя. Костю это растрогало, и ему даже показалось, что именно его Ванюша ходил по вокзалу и искал.
Начались расспросы: где ты, как дела, как живешь? Спрашивал в основном Ванюша.
— Наши-то, верно, разъехались по стране, рассовались по провинциальным углам? А где Таня Куракина, небось замуж выскочила? — сыпал Дикин вопросами. — Сам-то поди уже играешь?
Было видно, что он несказанно рад встрече и спрашивает искренне, без показушного интереса и скрытой зависти, как обычно бывает, если один приятель удачливее другого.
Эта искренность остановила Костю, который собирался было приврать, что занят в двух спектаклях, на подходе третий. Но представив, как это взбередит Ванюшину душу, может, обидит его, сказал правду:
— Еще не играю по-настоящему. Целый год в массовке. «Что изволите» и «Кушать подано».
После сказанного стало легче: вроде и сам не блещешь успехами. Самого Костю накануне женитьбы волновал другой вопрос: каково быть женатым человеком? Наверное, приятно иметь рядом с собой добрую, ласковую, внимательную жену. Его еще не оставляли сомнения, временами точил и точил червячок, правильно ли он поступил, поехав делать предложение? И когда спросил Ванюшу, как у него с женой, хорошо ли он живет, и хотя ясно было, как живет, он еще надеялся на чудо, что приятель рассеет сомнения. Но Ванюша не рассеял.
— Не сложилось, ушел от жены, точнее, выгнала. — Дикин сказал это с печальной улыбкой: мол, что поделаешь, сегодня у многих не складывается. Чувствовалось, что он пережил развод, свыкся с потерей. — Но я не пропал, все в порядке. Живу в общежитии, работаю. Ты сам-то куда направляешься?
У Кости уже с языка готово было сорваться, что едет в Саратов к невесте, но после такого признания вовремя удержался. Помолчали. И молчание вышло тягостное: тут надо было или сразу расходиться по сторонам, или найти повод задержаться.
— Слушай, пошли ко мне в общагу. Поговорим, сколько лет не виделись, есть что вспомнить. Чего на вокзале сидеть, — загорелся Ванюша.
— Поезд через три часа.
— Успеем, я совсем рядом живу, в двух шагах. Комнатка маленькая, но отдельная, с кухней и душевой. Чего на вокзале-то сидеть, — повторил он. — Пошли, а?
В глазах у него промелькнуло умоляющее и испуганное выражение, как бы говорящее — не оставляй меня. Костя так и понял этот взгляд. Понял, что Ванюша смирился с одиночеством, но когда они так счастливо встретились, у него не было сил снова расстаться. Ему даже показалось, что приятель опять не то вздохнул, не то всхлипнул.
— Если твое общежитие рядом…
— Рядом, рядом, в двух шагах.
Вышли из вокзала в город. Но вместо того чтобы пройти два шага, сели в трамвай и куда-то поехали. Хуже нет куда-то ехать в незнакомом городе. Трамвай звенит, грохочет, дома все ниже, фонарей все меньше, улицы пустыннее. Костя встревожился, успеет ли он на поезд, и поглядывал на приятеля. Ванюша молчал, о чем-то сосредоточенно думал, что-то его волновало. Потом, заметив на себе вопросительные взгляды, пояснил:
— Сейчас возьмем тут у одних деятелей самогонки, встречу отметить. Момент.
— Может, не надо, времени в обрез.
— Как это не надо? Всем надо, а нам не надо? Так положено, а ты слушай, что я говорю.
Удивительное дело, но теперь, когда Костя согласился с ним пойти, Дикин повел себя почти по-хозяйски. Даже тон его изменился — из просительного стал твердым и уверенным, точно Костя принадлежал ему и он был волен им распоряжаться.
Вскоре трамвай остановился возле дома с погашенными огнями — лишь в одном окне светился огонек, поджидая кого-то, блуждающего в ночи. «Уж не нас ли?» — подумал Костя. Вошли в подъезд и стали подниматься в полной темноте, жившей своей загадочной жизнью, потому что Косте все время казалось, что из темноты кто-то прикасается к нему или он, поднимаясь, кого-то задевает.
— Подожди, я скоро, — сказал Ванюша шепотом, тоже почувствовав мрачную тайну подъезда. Он на ощупь позвонил, ему открыли, вырвавшийся из квартиры луч света ярко осветил его фигуру, и все, что пряталось в темноте, мгновенно сжалось по углам. Ванюша вошел. И как только вошел и дверь захлопнулась, темнота вновь ожила и приблизилась к Косте. На улице было душно, а здесь, в закрытом подъезде, она не давала дышать, и по спине Кости протекла струйка пота, словно кто-то из темноты провел по позвоночнику холодным пальцем.
Сначала из квартиры ничего не было слышно, потом раздался громкий женский голос:
— Нет, Ванька, в долг не проси. Дважды давала, а в третий — шиш. Сначала долг верни.
— Говорю же, друг приехал, — повысил голос и Ванюша. — Край как надо.
— Иди-иди, поищи дураков в другом месте.
Спускались молча. На улице выяснилась, что на город надвигается гроза. На горизонте, поверх крыш, то и дело беззвучно вспыхивало, освещая багрово-пепельную груду туч. Вспыхивало в одном месте, словно там моталась, открываясь и закрываясь, незапертая дверца в преисподнюю.
— Ну и вольет же сейчас, насквозь вымокнем! — воскликнул Костя. Воскликнул с веселым восторгом, но еще и с намеком, не пора ли определиться, поехать в общежитие.
Он поглядел на приятеля, ожидая, что тот после неудачи будет растерян, подавлен, но Ванюша оказался спокоен, точно отказы ему не впервой, и по-прежнему сосредоточенно о чем-то размышлял, наверное, куда бы отправиться еще.
— Может, тебе денег дать?
— Не надо, я же сказал, у меня все хорошо. — Он продолжал думать. — В общем, так. Есть еще одно место, где торгуют. Совсем рядом.
Стало ясно, что Ванюша «завелся», первая неудача только раззадорила его, и достать самогон надо было во что бы то ни стало — из принципа.
— В двух шагах место-то?
— Ага, — не понял иронии Дикин. — Совсем рядом.
Но добираться до заветного место снова пришлось долго. Костя дважды украдкой поглядывал на часы и понял, что придется, скорее всего, ехать утренним поездом, что до обещанного общежития, где можно отдохнуть, они не доберутся да еще ко всему прочему вымокнут до нитки.
Когда проходили сквером, вокруг все зашумело. Костя решил, что приближается ливень, и невольно втянул голову, ожидая удара первых крупных капель, пока не сообразил, что это под порывом ветра дружно зашелестела и стихла листва.
Двигались они, судя по всему, от центра города к окраинам, потому что дома становились все ниже, фонари светили вполнакала, а вместо прохожих по улицам, прижимаясь животами, скользили кошки, и отовсюду басовито лаяли собаки. Остановились перед частным деревянным домиком. Ванюша принялся стучать в калитку, нажимать на звонок, пока в окне не забелело чье-то лицо.
— Нет, ничего нет, — отозвалось лицо.
— Баба Нюра, это я. — Ванюша отделился от калитки и, видимо, встал перед окном.
— И для тебя ничего нет.
— Ну баба Нюра… Позарез надо.
Лицо исчезло, заколыхалась занавеска и колыхалась долго, вселяя надежду, что неизвестная баба Нюра что-то там наливает. Потом все замерло. Прошло пять минут, никакого движения в доме не происходило.
Косте хотелось поглядеть на происходящее весело, с юмором. Но весело не получилось. На поезд он опоздал окончательно. Даже если свершится чудо и он поймает в этой глухомани такси, все равно опоздал. Вместо того чтобы сидеть сейчас в вагоне, он зачем-то шляется с Ванюшей Дикиным по домам в поисках самогонки. Костя почувствовал, что раздражен, и впервые посмотрел на Ванюшу со злобой.
Они не заметили, как тучи зависли над городом, начиналась гроза. По небу, прячась в тучах, катился сердитый клубок молний. Порой он распускался, и тогда то одна молния, то другая по-змеиному жалили землю. Вслед за этим гремел гром, словно там, наверху, били посуду, и она, ударяясь о земную твердь, разлеталась осколками по сторонам, и вся земля, уже укушенная молниями, теперь как дрожью осыпалась сухим треском.
В мелькающем свете Костя увидел, что и вторая неудача не обескуражила Ванюшу, на лице его снова было решительное выражение.
— Есть еще одно место… — начал было он.
— Ну уж хватит! — неожиданно для себя крикнул Костя. — Находились. Лично я отправляюсь на вокзал. А ты как хочешь.
Зло сказал, беспощадно, как рубанул наотмашь, и почувствовал, что для Ванюши эти резкие слова явились неожиданностью, приятель растерялся. А Костя словно окаменел от своей злости, ему уже было не жалко Ванюши, хотелось добавить еще что-нибудь обидное. Мол, дурак ты, Ванька, сломал свою судьбу из-за бабы, выпихнули тебя на обочину. И никогда тебе с обочины на настоящую дорогу не выбраться…
Но ни сказать, ни отправиться на вокзал не успел — вокруг опять зашумело, и после молний и грома на землю обрушился ливень. Они успели заскочить на крыльцо магазина, под грохочущий навес. Стояли рядом молча, притворяясь, что наблюдают за ливнем, который все усиливался и усиливался.
Тротуары от летящих брызг ощетинились, а проезжающие редкие машины своими капотами и крышами напоминали ежей. Потом появилась дежурная полицейская машина, и они, опасаясь, как бы их не заподозрили в подломе магазинной двери и краже, не сговариваясь убежали за угол и вернулись на крыльцо насквозь мокрые.
Дождь, потихоньку стихая, шел до утра. И все время они простояли, прижимаясь к двери. Под утро похолодало, приятели замерзли и обратно шли быстрым шагом. Дорогой не разговаривали, только, когда показалась трамвайная остановка, Ванюша сказал:
— Трамваи еще не ходят, рано.
Костя уже жалел, что так грубо одернул приятеля. Злость прошла, но холод внутри остался, и ему не хотелось, из-за какого-то непонятного упрямства, ни разговаривать, ни мириться с Дикиным.
Дошли до общежития, здесь и расстались.
— Может, зайдешь, обсохнешь? — с надеждой спросил Ванюша.
— Нет, не зайду, — твердо ответил Костя.
Он понимал, что жесток с Ванюшей, но эта жестокость и непреклонность в себе ему странным образом понравилась. В таком непреклонном настроении он и пошел на вокзал по омытым улицам и ни разу не обернулся, чтобы посмотреть на Ванюшу, помахать на прощание рукой. Чувствовал он себя решительным, смелым, способным на многое.
«Костик, — подумал он, вспомнив, как его зовут в театре. — Костик для вас — деревенский кудрявый дурачок с дудочкой. „Костик, ты самый молодой, сбегай за водкой, только паспорт возьми, ха-ха-ха“. Жлобы старые, бездари. Я вам покажу Костика».
Потом немного успокоился и стал думать о Дикине, его невеселой судьбе, прикладывая, примеряя Ванюшину судьбу к своей. Словно опять вынырнул из любовного потока, чтобы хватить воздуха, но на этот раз задержался на поверхности дольше обычного. А задержавшись, вдруг вспомнил, что его невеста по странному стечению обстоятельств тоже работает бухгалтером, правда, не в шарашкиной конторе, а в крупном научно-исследовательском институте. И жениться он собрался, как и Ванюша Дикин, рано. Но у приятеля выхода почти не было, а кто его за руку тянет? И вообще… Представил себя через несколько лет таким вот несчастным, одиноким, выгнанным из дома, изжеванным жизнью, что на секунду усомнился, стоит ли ехать дальше.
Но тут увидел внутренним взором перед собой невесту, и такой радостный жар вспыхнул в груди, такая нежность охватила, что отбросил все сомнения. Любит он ее? Любит! Надо ехать дальше? Надо. Вот и хорошо, правильно, а остальное все приложится.
Слепой
Больше всего Георгий Иванович, как и дворники, не любил снегопадов, заносов и гололеда. Но он не был дворником, и, когда шел по улице, упорно, словно против течения, стучал перед собой палочкой, прохожие, завидев его необыкновенно высокую и крупную фигуру, с седой головой и закрытыми глазами, делавшими лицо похожим на белую мертвящую маску, спешили уступить дорогу, словно он по своей слепоте, огромности и упорству мог столкнуть их с пути.
Но вместе с тем ему хотелось помочь. Было страшно несправедливо, что такой большой и сильный мужчина оказался беспомощным. Если он нерешительно останавливался у перехода, пережидая поток машин, быстро находился человек, переводивший его на другую сторону дороги. Стой же заботливостью его подсаживали в автобус и уступали место.
Уходя в магазин, он, в помощь палочке, обычно считал шаги от одного приметного места до другого. Но однажды намело такие сугробы и разыгралась такая метель, что он, не досчитав до конца, уперся в занос, свернул в сторону, снова наткнулся на снежную гору. Поняв, что заблудился, он так и остался стоять. А было раннее воскресное утро, никто не проходил мимо, при безлюдье метель хозяйничала уже безнаказанно, и ему показалось, что из темноты за ним внимательно наблюдают чьи-то недобрые глаза, ожидая, когда он свалится под напором ветра.
Выручил его сосед Холунов, случайно оказавшийся на улице. Он появился из глубины метели и, увидев перед собой неподвижного Георгия Ивановича, стоявшего, видимо, так давно и точно примерзшего к земле, бросился на помощь, схватил за холодную руку. И пока вел обратно к дому, все удивлялся, что пахнет от слепого не человеческим теплом, а как от застывшего насмерть — морозным снегом. А Георгий Иванович, пережив за эти минуты чувство беспомощности, так напугавшей его, уже никогда не выходил на улицу в метель.
Он не то чтобы совсем ничего не видел — у него были чувствительные веки. Так бывает, когда стоишь у вагонного окна идущего поезда и, хотя глаза закрыты, все равно ощущаешь, как по лицу и векам скользят мелькающие огни фонарей. И он тоже мог видеть свет солнца и луны, знал время восходов и закатов, улавливал белизну снега и желтый цвет осенний листьев. Со временем он стал сравнивать людей с явлениями природы, и люди хорошие представлялись ему летними днями, как что-то теплое, доброе и ласковое, а плохие — днями зимними, со снегопадом и вьюгой. И рядом с ними он снова чувствовал ту же беспомощность и тот же испуг, будто опять заблудился в сугробах.
Однажды в автобусе его толкнула, проходя мимо, кондукторша.
— Что стоишь! Раз слепой — сиди дома! — грубо прикрикнула она. — А то, понимаешь, разъезжают, путаются у людей под ногами.
— Вы злой, холодный человек, — ответил он, имея в виду как раз зимний день с метелями и снегопадом, и кондукторша вдруг смущенно заметила, что закрытые веки слепого чутко затрепетали, словно он собрался заплакать или как если бы в них секло снежной крупой.
Дважды в месяц из деревни приезжала дочь убраться в квартире, постирать, наскоро приготовить какую-нибудь еду. Это была молчаливая от усталости, изработавшаяся, терпеливая женщина. Муж ее, человек беззаботный, то работал, то не работал, и она почти в одиночку растила двоих детей. И когда она приезжала, открывая дверь своим ключом, он уже с порога чувствовал, что в дом вступил осенний день, и его воображение рисовало все, что обычно связано с такими днями: красные и желтые, неслышно падающие с деревьев листья, воздух золотисто-туманный, как бывает, если солнце неярко светит сквозь тонкие облака. Такое солнышко почти не греет, но свет от него все равно тихий, ласковый…
А вот один из его собственных обычных дней, как он его проводит. Зима перевалила за половину, а снега, к его счастью, как не было, так и нет. Всю последнюю неделю льет дождь, и уже долгое время его окружает тусклый, едва мерцающий свет. Просыпается он ранним утром, когда в городе еще горят фонари, и ему слышится, что прохожие по тротуару идут осторожно. Это оттого, думает он, что земля от движущихся теней словно оживает, и идущим людям кажется, будто она выскальзывает из-под ног.
Сумрачно, сыро, зябко и днем. Но он уже почувствовал перемену в погоде, словно в этом сером цвете что-то неярко сверкнуло. После обеда отправляется в магазин за продуктами. Постукивая по стенам палочкой, проходит двадцать шагов до угла своего дома, затем еще двадцать до угла дома соседнего, отсюда сорок шагов налево до тротуара, а дальше до магазина прямая дорога.
В магазине Георгия Ивановича хорошо знают, и при его появлении из торгового зала навстречу, словно на арену цирка, легко выбегает продавщица на острых каблучках. Стук каблучков слышится то слева, то справа, удаляется и приближается; она быстро наполняет корзину нужными продуктами и ведет слепого к кассе, где уже кассирша, взяв его кошелек, сама расплачивается за товар. Кассирша тяжело дышит, как пожилая, полная женщина, и Георгий Иванович рад, что ей не приходится бегать, как по арене, на острых каблучках.
На обратном пути лицо его холодеет, из-под век выкатывается надутая ветром слеза, и это окончательно его убеждает, что погода резко изменилась. Он уже надеялся, что сильных морозов и снегопадов нынешней зимой не будет, и сейчас встревожен. Под ногой хрустит, а это означает, что по лужам протянулись ледяные стрелы, то же самое, наверное, происходит наверху. Там, наверху, где над сплошными тучами неистребимо полыхает зимнее солнце, воздух делается все морознее и морознее и, словно вражеская армия, вбивается в небесное пространство ледяными клиньями.
И когда приходит домой, по жестяному карнизу что-то стучит. Это может быть снова дождь, но Георгия Ивановича трудно обмануть. Он ослеп два года назад и отлично знает, что сыпет от набежавшей тучи снежной крупой, как знает и то, что скоро туча уйдет и в наступившей тишине на улице станет еще бесприютнее, еще неприкаяннее. Он видел все много раз, и за два года в природе ничего не изменилось. Крупа наверняка набьется в спутанную, пожелтевшую траву, выбелит корни старой березы под его окном, и теперь проходящим мимо людям будет хорошо видно, как ее корни бугристо расходятся по сторонам, словно береза стоит на куриной лапе.
До вечера он занят привычными делами: отдыхает на диване, слушает новости по телевизору, готовит ужин, разогревая покупные котлеты, и все это время в квартире то темнеет и стучит по карнизу крупа, то сверкает от выглянувшего солнца, словно по черной ткани пропустили золотую нить. Ветер только усиливается и порой дунет таким порывом, что поднявшаяся в воздух галка от неожиданности летит кувырком, точно со сломанными крыльями.
«К вечеру окончательно развиднеется. Теперь точно к морозу», — думает он и, чтобы проверить догадку, отправляется на улицу. Сделав сначала двадцать шагов, потом еще двадцать и, наконец, сорок налево, оказывается на тротуаре и стоит, повернув лицо на запад.
Воздух прохладнее, морознее. На западе заходит солнце, и на бледном, словно смертная маска, лице слепого играют закатные краски. Встречные с удивлением смотрят на неподвижного Георгия Ивановича, потом сами оборачиваются и наблюдают, как на горизонте озарилась гряда облаков. Солнце скрыто, лишь вырвется яркий луч поверху, другой сбоку, и вот уже все облачное полотно объято пожаром…
В последнее время к нему ходит сосед Холунов, пьющий, вежливый человек, который представляется Георгию Ивановичу пасмурным летним днем с затяжным теплым дождиком. Появляется сосед, чтобы выпить втайне от жены, которая не терпит его пьяного. Холунов сидит за столом, Георгий Иванович на диване, и они беседуют.
— Помнишь, как я тебя прошлой зимой из сугробов достал? Вот смеху-то было, — подает голос сосед.
Он уже выпил, по всему телу разливается жидкий радостный огонь, ему хорошо и оттого особенно жалко Георгия Ивановича, вынужденного одиноко жить в вечном мраке, и он старается говорить весело, бодро.
— Натерпелся я тогда, правда, думал, что все, приехал. Главное, народу никого.
— А я на что? Я тогда словно почувствовал, надо идти, надо выручать Георгия Ивановича, а то окочурится.
Они вместе смеются. У слепого при этом веки трепетно вздрагивают, словно тоже смеются, и Холунов не может понять, подыгрывает ему слепой или ему правда приятно вспоминать произошедшее. Наконец он задает вопрос, который задает всякий раз, и хотя знает ответ, но ответ такой странный, что приводит его замешательство.
— Не страшно жить в темноте, Георгий Иванович, мало ли что случится?
— Я уже привык, соседушка, не страшно. Я вообще теперь почти счастлив и всем доволен.
— Это как?
— Ну, смотри. Существует, допустим, человек, злой, несправедливый, всех обижает, только накануне оскорбил жену, украл у кого-нибудь деньги. Сам себя в глубине считает подлецом, свыкся с этим, нет ему спасения. И вдруг встречает меня, к примеру, переводит из сострадания через дорогу, и весь день у него потом на душе тихая радость — сделал доброе дело. Появляется уважение к себе. Значит, не такой он пропащий, раз умеет пожалеть, посочувствовать, значит, душа у него есть. Он так думает, а у меня тоже тихая радость, вроде как помог человеку.
— Может, ничего подобного он и не думает.
— Думает. Кто не думает, тот и помогать не станет. А этот обязательно захочет зауважать себя. И уже кому другому поможет улицу перейти, с женой помирится, извинится, украденные деньги соседу вернет.
Они долго молчат, обдумывая сказанное. Слепой улыбается каким-то своим мыслям, а у Холунова вид озадаченный.
— Н-да, — наконец говорит он. — Все, конечно, правильно — и через улицу переведет, перед женой извинится, но деньги, гадом буду, не отдаст. Тут, Георгий Иванович, ты загнул лишку.
Выпивая, он быстро хмелеет, голова клонится вниз. Последним усилием он ее вздергивает. Потом голова снова клонится и поднимается, клонится и поднимается, и со стороны кажется, что выпивший Холунов что-то склевывает со стола.
— Я у тебя посплю, Георгий Иванович, извини, — уже невнятно говорит он. — Иначе жена всю плешь проест, домой сейчас не с руки идти.
— На руках не ходят, — шутливо поправляет слепой.
— Конечно-конечно. Хотя, бывает, и ходят.
Георгий Иванович встает, уступая место, вытянув руку, по памяти идет к столу, а Холунов перемещается на диван.
— Хочешь, я тебе супчик сварю? — спрашивает он, укладываясь.
— Свари, — соглашается слепой.
— Вот и ладненько. Сейчас посплю чуток и сварю.
Поэт
Из раннего детства, что он провел у бабушки в райцентре, Сева ясно запомнил две картины. Вот он, маленький мальчик, вышел с бабушкой из дома и смотрит, как закатывается в конце прямой улицы солнце. Свет слепит глаза, и ему видна лишь висящая вдали красная туча пыли, внутри которой что-то неясно мелькает, происходит какое-то движение, рождая тревожное чувство, как при наступлении вражеской орды. И только потом он понимает, что это возвращается с пастбища, с заливных заболоченных лугов коровье стадо, и тревога сменяется радостным ожиданием. Завидев родную улицу, коровы приветственно и требовательно голосят.
— Варька, Варька, — держа для приманки кусок хлеба, зовет бабушка свою молоденькую, только что отгулявшуюся нетель, с крошечным, размером с ладонь, выменем.
Другие хозяйки тоже зовут коров, и они разбредаются по дворам, оставляя на опустевшей улице запах зеленой травяной жвачки и парного молока.
Другое воспоминание уже совсем сказочное. Он стоит на заливных лугах, куда пришел с бабушкой на дневную дойку, у самого берега сияющей на солнце реки. У него праздничное, радостное настроение, может быть оттого, что на невидимой отсюда лодочной станции играет музыка. И вдруг из этого солнечного сияния, в ореоле лучей, появляется лодка и плывет среди вспыхивающих огнями волн, как по затухающему пожарищу. В лодке сидит женщина в белой шляпке и белом ажурном платье и, наклоняясь, со смехом плещет из-за борта водой на неумело гребущего мужчину. Из какой нарядной, нездешней жизни появились они, чтобы проплыть мимо очарованного мальчика к лодочной станции и навсегда исчезнуть за речным поворотом?
Сегодня Сева почти взрослый, перешел в одиннадцатый класс и приехал к бабушке на свои последние школьные каникулы. Весной в газете опубликовали его стихотворение, и он уже решил стать поэтом, живет, радостно-возбужденный, в постоянном поиске рифм и метафор для новых стихов. По бабушкиному дому он ходит с загадочным видом, надувается от важности, от распираемого желания показать напечатанное стихотворение.
Но не показывает, потому что знает, что никакого восторга не будет, бабушка не поймет, какое значительное, знаменательное событие случилось в его жизни. Поглядит на стихотворение, даже не прочтет, скажет: «Молодец, а чем ты после школы заниматься будешь?»
Но бабушке, хотя она и рада приезду внука, сейчас не до Севы: вот-вот должна отелиться Варька. Сегодня на их улице Новой почти не осталось коров: прежних сдали, новых не завели, потому что не под силу держать. И бабушка понимает, что и ее запаса хватит только на Варьку — она последняя, — и жалеет, заботится о Варьке как ни о какой другой корове до нее.
Она уже неделю не пускает ее на пастбище, дважды в день меняет подстилку, стелет под ноги, точно простыню, свежее сено.
По срокам сегодня ночью должно свершиться. Она заправила керосином лампу, отнесла в хлев, потому что света там нет, и строго говорит Севе:
— Ты не ходи, не беспокой Варьку. Не нервируй ее.
Видно, что бабушка и сама нервничает, все время, как часовой, прислушивается к любому шороху, чтобы не пропустить тревожного Варькиного муканья и сразу броситься на помощь.
— Само собой, я же понимаю, — отвечает Сева, но все-таки заглядывает в хлев.
Варька стоит у маленького оконца, но даже такого тусклого света хватает, чтобы разглядеть раздувшуюся, как бочка, корову, и, когда он появляется, у нее на животе мгновенно выпячивается и пропадает живой бугорок. «Это, наверное, теленок копытцами сучит, просится наружу», — думает Сева, стыдливо ошеломленный открывшейся ему тайной, и тихонько, на цыпочках, выбирается за дверь.
Потом, томясь, опять идет в дом, решив написать грустное стихотворение, еще не зная о чем. Вспоминается ему памятное место у реки, где он впервые увидел загадочную женщину и где позднее дал себе клятву добиться такой же нарядной, нездешней жизни, и теперь знает, как это сделать, потому что только у поэта бывает красивая жизнь. Он садится за стол и ждет, когда в голову стремительно стукнет и горячо вспыхнет под сердцем, — так всегда случается вначале. И хотя ничего не стукает и не вспыхивает, он пишет на листе бумаги, зачеркивает, снова пишет и зачеркивает, затем комкает и бросает лист на пол и начинает ходить по комнате перед изумленной бабушкой, опустив голову в пол.
— Ты чего потерял, внучок? — спрашивает она.
— Рифму, рифму, — раздраженно отвечает он. — Я стихи пишу.
— Ну пиши, пиши.
Окно открыто на улицу, где как бы на ожившей березе перепархивают с ветки на ветку, гомонят, чивикают и ссорятся по-ярмарочному задиристые воробьи. Они тоже мешают Севе, который никак не может подобрать рифму к слову «сон».
— Сон — омон, сон — охламон, — шепчет он в отчаянье. — Сон — батон. Тьфу ты!
Поздно вечером бабушка уходит в хлев, прихватив бельевую веревку на тот случай, если придется вытаскивать теленка за ноги.
— Что-то будет, что-то будет. Господи, спаси, Господи, убереги, Господи, помилуй, — говорит она. И в голосе у нее такое отчаянье и тревога, как у птицы, летающей над выпавшим птенцом.
Сева остается один и, кажется, впервые сознает, что происходит что-то важное, скорее всего трагическое, и волнуется. Он представляет, как Варька в мучениях умирает, теленок тоже гибнет, не родившись. Не зная, куда приткнуться, он мечется по дому, выглядывает в окна, садится на диван, вскакивает. Несколько раз пробирается к хлеву, прислушивается, склоняясь к двери в неудобной, напряженной позе бегуна на старте, готового сорваться с места. Но за дверью тихо…
Чтобы успокоиться, Сева отправляется на улицу. И пока бабушка сидит, закрыв себя в хлеву перед керосиновой лампой, в желтом свете похожая, возможно, на какого-то древнего идола, Сева быстро ходит по райцентру из конца в конец. «Надо подождать, — трусливо думает он. — Вот погуляю, вернусь, и все к этому времени образуется».
Ночь была тихая, село спало, только в поле горел костер. На небе сначала светили звезды, такие крупные, словно раздувались на глазах, как пузыри на воде. Потом взошла луна, притушила звезда, залила землю призрачным светом, точно дохнула на нее, и все вокруг, даже дома, показались полупрозрачными, как бы сложенными из синего стекла.
Неожиданно Сева останавливается посреди улицы, как от внезапной мысли, с удивлением, замерев, смотрит по сторонам, и все, что видит, кажется ему новым, все находит в нем отклик. Он как-то сразу забывает о бабушке и корове Варьке, переживая одновременно и восторг, и тревогу, и веру, что однажды сумеет выразить в стихах эту ночь, эту росу на траве, горящий в поле костер, слоистый дым от которого изогнулся над селом коромыслом, одним концом своим, нагретым, поднимаясь вверх, а другим, остывающим, припадая к земле.
Скоро в воздухе сгущается туман. Звезды сразу гаснут, не в силах пробиться сквозь его ватную толщу, какое-то время видится мутный кружок луны, но и он пропадает.
Засыпает Сева сразу, как только приходит домой. А когда просыпается в полдень, солнце льется в окна, пахнет от пола нагретым деревом. Он сразу все вспоминает, бежит в хлев. Варька стоит на месте, теленок, с кудряшками на лбу, сосет из вымени молоко, задние ноги у него от усердия дрожат. При виде теленка в голове у Севы стучит, под сердцем горячо вспыхивает огонь. Корова, теленок, бабушка, лунная ночь, костер в поле, дым костра, туман — все загадочным образом соединяется в одно целое, и это настолько неожиданно и чудно, что само просится в стихи.
Когда бабушка к обеду возвращается из магазина, Сева сидит за столом, пишет, перечеркивает написанное и бросает скомканные листы на пол.
Галки
Птенец измучил галку. Другие дети разлетелись, а этот, недорослый, остался в гнезде, без устали крикливо требуя пищи, и ей приходилось кормить его, когда другие птицы уже освободились от родительских обязанностей. Наконец и он решился выпорхнуть из гнезда, хотя полет — кривой, с растопыренными невпопад крыльями — походил на вертящееся падение; только перед землей он поймал взъерошивший его ветер, тяжело шлепнулся в траву и испуганно загалкал, призывая мать.
С тех пор он не отходил от нее, держась почему-то правого крыла, повторяя все движения, и жизнь ей стала не в радость. Кормились галки возле тучных голубей, которым, в отличие от них, подавали. Голуби все время озабоченно бродили с места на место по тротуарам и под деревьями, склевывая что-то ненужное, деловитостью своей напоминая пришедших на рынок хозяек, выбирающих у прилавков товар. Галки сидели на деревьях, зорко наблюдая за людьми, и если кто-нибудь на ходу залезал в карман или сумку, с вниманием вытягивали шеи.
Но что начиналось, когда на землю сыпался накрошенный хлеб! Голуби, светлея подкрыльями, слетались со всей округи, спешили к корму без очереди, по спинам и головам друг друга. Галки никогда не лезли в толкотню. Слетев на землю и воровато подхватив откатившийся кусочек, они уносились на дерево, с тем чтобы через минуту снова спикировать вниз, и это их быстрое мелькание туда и обратно походило на движение черного от сажи печного «ежика».
Галчонок в дележке пищи участия не принимал, зато, нервничая, кричал с дерева громче всех, боясь, что матери не достанется корма. Зато как радовался, бегал, цепляясь, по ветке, когда она приносила добычу. Прижав хлебную корку лапой, галка ела не спеша, озираясь по сторонам, галчонок, пристроясь напротив, склевывал хлеб с необыкновенной быстротой, роняя разлетевшиеся по сторонам крошки.
С наступлением осени на окраине города появились стаи грачей. Гомоня сильнее обычного, они бегали за тракторами, пахавшими под озимые, как за веревочку вытаскивали из земли червей и, когда все вместе взлетали, застилали небо черной тучей. Шумные сборы грачей, готовящихся к отлету, волновали всех городских птиц, кроме голубей.
Волновалась и галка. Забыв про корм, она глядела в сторону далекого птичьего гомона, как обычно люди, проводив близкого человека, смотрят вслед уходящему поезду. Тревожные крики манили в дорогу, звали в полет, в беспредельную небесную даль, но она понимала, что ее сил не хватит улететь так далеко. Непонятно, что было делать с птенцом, который почти вдвое ее перерос, но продолжал требовать у ошалевшей от забот и трудов матери пищу с утра и до вечера. Раздосадованная, она уже несколько раз больно тюкала его в голову, чтобы отстал…
Однажды, не в силах сдержать прощальной тоски, она вместе с другими галками улетела за город к грачам и до позднего вечера бродила с ними по спутанной траве. Летала она и на второй, и на третий день, и с каждым днем тревожнее кричали грачи, все время теперь проводя в воздухе, облетая по кругу поля, сбиваясь в мгновенно рассыпающиеся стаи.
Вместе с ней прилетал и галчонок и одиноко бродил в стороне, пугаясь невиданных прежде огромных птиц. Он не понимал, зачем они покинули кормовые места, хотел есть, но не окликал потерявшуюся из виду мать, боясь, что раздосадованные грачи тюкнут его в голову своими длинными сильными клювами.
В один из пасмурных дней, на рассвете, крики стихли, грачи улетели, в полях сделалось пусто, и почти сразу, усиливая осеннюю неприглядность, заморосил дождь, зависая вдали мокрой кисеей, в которой пропадали, словно все глубже и глубже опускались на дно, леса и деревенские крыши.
Галки, проводив грачей, переживая разлуку, вернулись в город. Но листва, в гуще которой они провели лето, почти осыпалась, качавшиеся на ветру вместе с ветками галки гляделись особенно одинокими, никому не нужными.
С затученного неба снова сеялся дождь, копился на верхних ветках в одну большую каплю и, сердясь непонятно на что, тюкал галчонка. Подавать почему-то стали реже, никто не запускал руку в карман и сумку, люди пробегали мимо, как посторонние, жадничали, стыдливо закрываясь зонтиками.
Следом пришла зима, завьюжило, потянулись нескончаемые голодные дни и ночи. В морозы галки по нескольку дней не ели, нахохленные, поджав под себя ноги, отсиживались на чердаке старого многоквартирного дома. В такие дни солнце вставало огнедышащим шаром, рассылая во все стороны лучи, холодно скользившие по окнам, по белым от инея деревьям. Казалось, сейчас солнце поднимется выше, растопит снег, но оно так и оставалось висеть над горизонтом, тускнело. Город замирал в морозном тумане, у редких птиц на лету останавливалось сердце, и они замертво падали на землю.
Хотя галки теперь были хорошо видны на снегу, им по-прежнему не подавали. Когда теплело, летали кормиться на помойки, долбили застывший до кирпичной крепости хлеб, подбирали случайно оброненные зерна и крошки.
Настал день — уже сходил снег, от мокрых крыш поднимался пар, — когда с галчонком случилось что-то похожее на любовь. В углу чердака он приметил молодую галочку, свою одногодку, очень маленькую и аккуратную, в серой косынке, спущенной с затылка на плечи. Как раз в этот момент через чердачное окно упал солнечный луч, и перья на галочке вспыхнули тугим блеском. Это все и решило. Целый день он наблюдал за ней, потом подскочил и стал на виду охорашиваться, поглаживая и пощипывая на себе перья и пушок. Галочка, принимая ухаживание, тоже начала прихорашиваться, и мать и все другие галки смотрели на молодую пару, понимая, что происходит между ними.
Вскоре наступили хорошие времена. Прошла сонная одурь зимних месяцев, повзрослевший галчонок наравне с остальными дежурил на дереве в ожидании подачки. Порой он усаживался на одну ветку с матерью, но плохо помнил ее, лишь мелькали перед ним миражами какие-то картины прошлого: то вспоминался первый вылет из гнезда, то огромные грачи, скрывшиеся однажды утром в небе. Иногда хотелось галкнуть с требованием пищи, но он сдерживался. Сейчас все его заботы были о галочке. И когда под дерево высыпали накрошенный хлеб, он стремительно пикировал за откатившимся куском побольше и торопливо нес его на чердак, где в гнезде сидела маленькая аккуратная галочка в сером платочке, спущенном с затылка на плечи.
Сердечный приступ
Ярко светило солнце, и день обещал быть жарким, душным. За окном кухни нестерпимо сверкала листва, как сверкало и все вокруг: жестяной карниз, стол, чашки, а от струи кипятка, наливаемого из чайника, Смехов даже зажмурился, словно его резануло по глазам лезвием косы.
«Что-то у меня со зрением, — озадаченно подумал он, — наверное, переутомился или жара действует».
И стал собираться на работу. Причесываясь перед зеркалом, он осмотрел себя и остался доволен: молодой мужчина, тридцать четыре года, крепкий, здоровый, к тому же еще не женатый, имеющий квартиру и хорошую должность — завуч торгового техникума.
Всем этим, по глубокому убеждению, его наградила судьба за годы, проведенные в детском доме. Потом, правда, его забрала к себе родная тетка, сыновья которой, двоюродные братья Смехова, выросли и разъехались. Тетка и его воспитала как сына, и теперь его иногда мучила совесть, что он не пишет ей, даже не знает, жива ли она.
Пока он стоял, солнце переместилось и, отражаясь от зеркала, снова резануло по глазам, как косой. «Что за дела, — уже раздражаясь, возмутился он. — Так и ослепнуть недолго».
На работу он шел, опустив голову, чтобы не видеть солнца. Но, когда переходил по мосту реку, снизу блеснула вода, и он от неожиданности пошатнулся, ухватился за перила и минуту простоял с закрытыми глазами. А когда перешел мост и углубился в тенистый, прохладный сквер, где ничего уже не сверкало и не блестело, у него вдруг с перебоем стукнуло и впервые в жизни сильно заболело сердце, словно кто-то взял его и сжал в кулаке, будто отжимая тряпку.
Смехов испуганно присел на скамейку. Боль отпустила, но осталось неприятное чувство, что теперь у него в груди вместо сердца вяло трепыхается тряпочка.
В этот момент к нему и подошел сослуживец Крымов.
— Тебе плохо, Олег Васильевич? — спросил он. — Помочь?
— Ничего не надо, иди, я догоню, — проговорил Смехов, и ему показалось, что Крымов поспешил дальше с облегчением, с видом человека, выполнившего долг, пожелавшего помочь, и не его вина, что помощь не приняли.
«Всегда так, — с горечью подумал Смехов. — Хоть умри, никому нет дела. И Крымов только притворяется». Он перебрал знакомых, и в его памяти прошла череда веселых, счастливых, беспечных, иронических лиц, и получалось так, что ни у кого его смерть не вызовет не только чувства невосполнимой утраты, но даже обычной, искренней человеческой жалости. Тот же Крымов быстро утешится, потому что давно рассчитывает получить его место. Разве только тетка и заплачет.
На ум ему пришло старое слово «преставился». Так говорили, когда человек умирал. Слово было внушительное, основательное, как и все, что было в прежнее время. А вспомнив слово, припомнил и сон, мучавший его ночью, который он, проснувшись, забыл. Снилась тетка, и он понял, почему то и дело вспоминает ее сегодня. В том сне он сначала ходил по теткиной деревне Вершиниха, заглядывал в окна домов. В одном доме было пусто, в другом тоже пусто, он уже отчаялся кого-нибудь найти, как вдруг перед третьим домом отшатнулся — из окна на него смотрела седенькая старушка, не похожая на тетку, но он был убежден, что это именно она. И, вместо того чтобы зайти внутрь и обнять ее, от испуга бросился бежать, пока не полетел с какой-то горы вниз…
На работе Смехов в этот день так и не появился, хотя у него были лекции. И в дальнейшем не мог объяснить свое поведение, словно вступил на какую-то иную, незнакомую дорогу и кто-то другой направлял и руководил его поступками.
Подойдя к техникуму, рядом с которым была автобусная остановка, он не направился к зданию, а неожиданно сел в автобус и уехал. Картину эту увидел из окна коридора Крымов и, остановив проходившего мимо физрука, сказал:
— Куда это наш Олег Васильевич направился? У него же через полчаса лекция.
— Куда-куда, к любовнице, — ответил физрук, недолюбливавший Смехова, и они оба засмеялись. Позднее Крымов пожалел, что посмеялся над этой глупой шуткой.
На самом деле произошло вот что. На автобусной остановке внимание Смехова привлекла молодая пара: красивая русоволосая девушка с очень русским плавным лицом и такой же русоволосый парень. Он остановился и стал за ними наблюдать. Они стояли поодаль, как бы даже независимо друг от друга, но Смехов сразу уловил взаимное притяжение. Это было так, словно от них исходили волны и сливались в объятиях где-то посередине. Может, волны только почудились и у него действительно что-то случилось со зрением, но, взглянув раз и другой, он уже твердо знал, что между ними существует глубокая и трепетная любовь.
Это его огорчило, будто девушка когда-то давно была его любимой, но он забыл ее, а теперь уже ничего нельзя изменить. И, когда подошел автобус и девушка с парнем зашли внутрь, он, боясь потерять их из виду, забрался следом.
В автобусе народу было немного, и Смехов, вытянув шею, стал выглядывать молодых людей. Они стояли к нему вполоборота, уже держась за руки, и лица у них были одинаково счастливые, блаженные в своем счастье, словно одно лицо на двоих. Временами их заслоняли другие пассажиры и ходившая из конца в конец полная кондукторша, и это было досадно, потому что влюбленная пара могла незаметно сойти и он не успеет последовать за ними.
— Мужчина, что вы тут торчите, как столб? — одернула его кондукторша, вплотную протискиваясь мимо него. — Торчите и торчите. Садитесь, места хватает.
И правда, что это он привязался к молодым, стоит посреди прохода и словно подглядывает. Ведь если он поглядывает за чужим счастьем, значит, сам несчастен. Эта мысль поразила Смехова, потому что только сегодня утром перед зеркалом он был доволен собой и сам счастлив, и надо было произойти целой череде событий — от рези в глазах и сердечной боли до встречи с влюбленными, — чтобы это понять.
Он отвернулся и стал смотреть в окно, удивляясь, как быстро мчится автобус. Он развил просто космическую скорость, и по обеим сторонам от него струились блестящие реки, состоящие из витрин, окон, тротуаров, вывесок и встречных машин. Все сверкало, взблескивало, машины натужно гудели, и Смехов, как недавно в сквере, почувствовал сильную сердечную боль, и ему снова показалось, что кто-то схватил его сердце в кулак и крепко сжал.
Нащупав вытянутой рукой спинку сиденья, он присел напротив женщины с ярко накрашенными губами и привалился головой к стеклу. Временами боль стихала, и тогда он открывал глаза. Было удивительно, что никто из пассажиров не обращает внимания на скорость, будто это было в порядке вещей или они знали, для чего все делается, находясь в тайном сговоре друг с другом. Лишь один он ничего не ведал. Он вообще здесь лишний, потому что болен и несчастлив, а остальные счастливы, даже кондукторша, которая опять к кому-то прицепилась, громко требуя оплатить проезд, даже она счастлива и получает удовольствие от ругани, словно не ругается, а так, шутит.
А когда боль волнами возвращалась, причем каждая волна была выше другой, он ни на что не обращал внимания, сидел, сцепив зубы, и боялся, что от тряски сердце выпадет из кулака того, кто его держит. Влюбленные куда-то пропали, наверное, вышли.
А вскоре автобус и совсем перестал останавливаться. Блестящие реки из витрин и окон сменились темными застройками складов, сараев, заводских корпусов, длинных заборов, что бывает на окраине, словно они свернули в сторону от основного русла и вплыли в мутный затон.
Потом он или заснул, или потерял сознание, и, когда очнулся, автобус уже не двигался. Первой мыслью было, что они в конце концов так разогнались, что взлетел и и зависли в воздухе, потому что лес — острые вертушки елей с шишками на ветвях — оказался далеко внизу. И лишь минуту спустя догадался, что автобус каким-то чудом заехал на крутую гору. Лес вблизи горы зеленел, но дальше к горизонту все синел и синел, превращаясь в сплошное полотно, точно там разлилось море.
И, сколько ни вглядывался в лес и разлившееся на горизонте синее море, не увидел не только города, но даже телевизионной вышки, заметной обычно километров за двадцать. Куда он попал, что это за местность, может быть, не обозначенная ни на одной карте? Странно было и то, что автобус оказался пустым, без пассажиров, даже водителя не было на привычном месте, словно все дорогой сбежали. Все сбежали, оставив его одного, и отныне он выброшен из прежней, привычной жизни в какой-то новый, непонятный и, судя по всему, чуждый мир. И это перемещение из одного мира в другой каким-то непостижимым образом связано с сердечным приступом.
Помимо пустого автобуса, вторая странность заключалась в том, что рядом, на горе, находилась деревня. Но что за деревня была, какие великие несчастья обрушились на нее, какой враг повалил заборы, оборвал провода, переломал на деревьях ветви!
Он не доверял этому чужому миру и теперь ясно осознавал, что только автобус еще связывает его с прежней жизнью и, пока он внутри, ничего не случится. Сначала он надеялся на какого-нибудь местного жителя, который, заметив его, подойдет и расскажет, куда он попал. Но надежды не оправдались, никто не подошел. Ждать дальше не имело смысла, следовало самому отправиться в деревню. Тем более что двери были распахнуты настежь, как бы предлагая ему поскорее выйти, и в этой услужливости он уловил коварство, подвох. Земля, на вид твердая, на самом деле могла быть соткана из тумана и облаков. Или представляла собой болотную жижу, затянутую зеленой ряской травы, и, вступив на нее, он провалится к подножью горы, так что деревья снова будут выше.
Уже в деревне произошла третья странность: он вдруг понял, что не ощущает ветра. А ветер тем не менее грозно шумел в деревьях, раскачивал на столбах оборванные провода, ветром шевелило и солому на дороге, и она клочьями перелетала с места на место прямо перед его ногами. Он шел все дальше и дальше, но ни одно, даже слабое дуновение не коснулось его, словно он находился в закрытой комнате со стеклянными стенами.
Деревня походила на ту, что он видел сегодня во сне, на Вершиниху, и, как во сне, в домах тоже было пусто. Он заглянул в один дом, заглянул в другой, а перед третьим, где видел седенькую старушку, остановился и собрался с мыслями. Ведь если он встретит старушку снова, значит, по-прежнему спит у себя в постели, по второму разу видя одно и то же, и все, что произошло с ним утром, тоже приснилось. Поверить в это было невозможно, он и не поверил, слишком уж яркими были утренние впечатления. И когда за окнами третьего дома никого не оказалось, Смехов даже обрадовался, убедившись, что не спит.
«Где же тогда тетка?» — недоумевал он. Неужели и она пропала, как пропали жители деревни, влюбленные, водитель и пассажиры автобуса? Он оглянулся, боясь, что и автобус — единственное, что его связывало с прежней жизнью, — пропал. Но он остался на месте, и это успокоило Смехова.
Между тем ветер нагнал туч, солнце, так светившее и резавшее ему утром глаза, скрылось. Пошел дождь, пятная пыль на дороге, только вокруг Смехова земля оставалась нетронутой.
«Надо поскорее найти тетку», — снова подумал он.
Если это деревня Вершиниха, рассуждал Смехов, она обязательно должна быть здесь. Все остальные разъехались, бросили свои дома, но она осталась и ждет меня. Эта мысль поддержала его: в детстве тетка никому не давала его в обиду, она и сейчас поможет, объяснит, что случилось.
Но оказалось, что искать не надо: тетка, в черной, хлопающей на ветру юбке, стояла неподалеку, точно заранее знала о его приезде и вышла навстречу. Она давно заметила Смехова, и лицо ее, сначала суровое и постороннее, теперь было мягким и грустным.
— Олежек, — сказала она одними губами, но так, что он хорошо услышал. — Олежек, что же ты не идешь, я тебя жду-жду…
Она заплакала, и Смехов понял, что она его по-прежнему любит и жалеет.
— Я иду, тетя, — ответил растроганный Смехов, чувствуя, что с ним происходит какое-то удивительное превращение.
От радости внутри его сделалось легко и пусто, словно он освободился от чего-то, теперь оказавшегося ненужным. Пустота была огромной, от горизонта до горизонта, и теперь она, вместо ненужного, вмещала в себя то, что было важным: и тетку, и разоренную деревню Вершиниху, и автобус, и влюбленную пару, парня и девушку, которые, утопая в зыбком летнем мареве, как в цветах, приветливо махали ему издали руками. Марево поднималось выше, накрывая влюбленных с головой, пока не остались видны одни дружно машущие руки. «Будьте счастливы», — хотелось крикнуть им Смехову.
— Иду-иду, тетя, — повторил Смехов, и вдруг все вокруг ожило: дождь застучал ему по голове, плечам, рукам, ветер дунул в левую щеку, потом в спину, и, влекомый его течением, Смехов не пошел, а заскользил навстречу тетке, как обычно скользит по земле тень от летнего облака.
…Эти слова и услышала сидевшая в автобусе напротив Смехова женщина с ярко накрашенными губами.
— …Иду-иду, — каким-то радостным голосом воскликнул ее сосед, взмахнул нелепо руками и прямо головой и плечами уткнулся ей в колени. Она испуганно закричала, некрасиво искривив рот, и кричала так долго, пока врач и медсестра из машины «Скорая помощь» не подбежали к остановившемуся у обочины автобусу.
Долги наши
В первый раз они проговорили всю ночь. Их было двое — зоотехник Рябов из сельхозуправления и потребсоюзовский ревизор Аникушин. Оба пожилого, предпенсионного возраста, оба земляки, родились в соседних районах. Поселились в одном номере районной гостиницы, затопили печь-голландку. В ноябре темнеет рано, на улице из небесных дырочек сеялся неторопливый дождь. Свет включать не стали, а когда огонь в печи разгорелся и по потолку и стенам побежали огненные пятна и дуги, в номере сделалось совсем уютно.
Говорили в основном о долгах. Жизнь прожита, а неотданных долгов скопилось великое множество, и теперь их, видно, уже не отдать. Не о карточных долгах шла речь, а о жизненных. Еще вспоминали детство. Воспоминания почему-то получались невеселые, как будто ничего хорошего у них в детстве не было. Хорошее было, просто хотелось говорить о грустном. Близилась старость, ничего впереди не проглядывалось, а если думать, что и детство было невеселым, то как-то легче встречать пенсионный рубеж.
Вспоминалось всякое. Зоотехник Рябов, например, оканчивавший восьмилетку в райцентре, мечтал хоть один раз пожить в гостинице. Тогда это казалось несбыточным желанием.
— Бежишь утром по морозу в школу, кругом в домах темно, а гостиница уже вся в огнях, — рассказывал он. — Ух и завидовал я тем постояльцам! Лет тринадцать было, а уже твердо решил: как пойду работать, на первую зарплату куплю себе портфель, шляпу, галстук и поселюсь в гостинице.
— Ну и как, поселился?
— Да нет. Зато сейчас из этих гостиниц не вылезаю.
— А я на первую зарплату собирался накупить шоколада.
— Шоколад не то, ерунда. Съел — и весь сказ, закончилась мечта.
— Это, может, для тебя ерунда, — колола ревизора Аникушина обида, — а я хилым рос. Был у нас в школе один такой боров, прохода мне не давал. Тебя в школе не били?
— Не били. Я ничего не боялся. Нет, вру, темноты боялся. До судорог. — Зоотехник Рябов хохотнул. — Как только в окнах начинает темнеть, я уже не человек. На улице еще нестрашно было, там ночь безразмерная, распахнутая во все стороны. А тут, в окне, приобретала размер и форму — точно какая-то квадратная рожа смотрит с расплющенным о стекло носом.
Рябов замолкал, чтобы дать себе время перейти на другой, более грустный лад, и дальше продолжал тихим, ласковым голосом:
— Русская печь у нас была особенная. Не печь, а крепость. Мать ее к каждому празднику белила, чтобы сияла. Заботилась, как о живой. На этой печи от страхов и спасался. Как дело к ночи, встану на припечек, завалюсь на лежак, точно в материнское нутро, свернуть калачиком и сплю.
Еще знакомясь, выяснили, кто откуда родом.
— Ты случайно не дновский будешь? — спросил зоотехник Рябов.
— Нет, я под Порховом вырос.
— Ну, брат, тогда мы с тобой соседи, земляки считай, почти родня, — обрадовался Рябов.
— Тридцать километров разница.
— Вот-вот, я и говорю. Земляки — это великая сила, особенно на необъятных просторах нашей родины.
За встречу, не за знакомство, а именно за встречу, как и положено у земляков, решили выпить. С тех пор так и повелось. Утром они расходились по делам, зато вечерами вновь собирались в гостиничном номере, и все повторялось: затапливали печку, выпивали, говорили. Иногда вставали подбросить в печь дров, а когда они окончательно прогорали и по номеру, затухая, бродили огненные отсветы, вспыхивая на граненых стаканах, на новых друзей снисходил мир и покой, тянуло на откровенность. Снова моросил дождь. Просыпавшаяся среди ночи дежурная никак не могла понять, что это так монотонно шелестит- или дождь по крыше, или голоса из гостиничного номера.
— Земляки — великая сила, — продолжал свою мысль зоотехник. — Я раз в Петропавловске-Камчатском застрял без денег. Не совсем без денег, но на билет на самолет не хватало. Знакомых в чужом городе — хоть шаром покати. И кто, ты думаешь, выручил? Бич неведомый, знать его не знал. Бичами тогда назывались списанные с кораблей моряки. Пропавшие, загулявшие, почти без надежды снова устроиться на работу. Сидим мы там на морвокзале, разговорились. Оказался псковским.
Двадцать лет дома не был и за все это время никого из псковских не видел. Прослезился от радости, денег дал. Ты, говорит, брат Рябов, лети скорее домой, а то останешься здесь, забичуешь и пропадешь. Родине от меня привет, видно, оторвало меня от нее навсегда, а денег возвращать не надо, у меня постоянного адреса нет. Так и остался этому бичу должен. Я вообще всем должен.
— И я должен, — соглашался за компанию ревизор Аникушин.
— Мы всем должны. Родителям, учителям, детям, внукам, друзьям, женам, знакомым. И ведь уже не отдать, понимаешь? Никому. Опоздали. Так с долгами и уйдем. — И Рябов, взмахнув над головой рукой, как бы для отчаянного сабельного удара, тихонько опустил кулак на стол. Ему хотелось заплакать.
Ревизору тоже было что рассказать. Когда-то с ним случилась история, которую он твердо хранил как тайну. Была у него лошадь, кобыла Тамянка. И на этой кобыле пятнадцатилетний Аникушин — тогда все звали его Колей — развозил по деревням почтовые посылки. Каждую неделю он отправлялся в путь, и эти поездки по району, несколько дней вольной жизни, составляли главную прелесть его почтальонской работы.
С Тамянкой они сразу подружились. Эта была добрая, послушная, терпеливая лошадка, маленькая и лохматая, и, когда она смотрела на него, Коле казалось, что из ее глаз исходят ласковые волны, словно она разговаривала с ним на своем молчаливом языке.
Стараясь никого не обременять, летом он ночевал где-нибудь у реки. Распрягал Тамянку и, оставив ее пастись на высоком берегу, бежал к воде, разводил костер и варил в котелке картошку. В тишине и покое играло над ним вечернее небо. Сначала оно неистово краснело, потом цвет менялся на размыто-розовый, и, угасая, еще долго светилась по горизонту желтая полоса, на которую сверху наваливалась угольная чернь ночи с блестящими шляпками звезд. Здесь же, на берегу, он и оставался ночевать. И всю ночь тлел на берегу костер, отражаясь в бегущей воде волнистым пятном, нависал над головой край берега, где, смутно видная в свете звезд, осторожно бродила кобыла.
Тогда еще была близкой память о войне с немцами, и Коля, усаживаясь утром в телегу, представлял себя то летчиком, то танкистом и кричал: «Огонь по фашистским гадам! Смерть оккупантам! За нашу советскую родину!» Тамянка, бывшая в этих поездках танком и самолетом, броней и крыльями, нисколько не пугалась разносившихся в тишине полей криков, а только согласно кивала в такт шагов головой: так-так — смерть им, фашистским гадам, так-так — за нашу советскую родину.
Кроме прелестей вольной жизни, почтальонство имело еще одно неоспоримое преимущество — дополнительный приварок. Посылки в деревню приходили обычно от перебравшихся в большой город детей, и неожиданное появление Коли на Тамянке считалось событием все-деревенского масштаба. Собирались домочадцы, прибегали, вытирая о фартук руки, соседки, и, пока хозяин дома распечатывал посылочный ящик, все присутствующие, вытягивая шеи, толпились вокруг стола.
Кое-что из присланных даров перепадало и почтальону. Перепадали крохи — несколько конфет, полпачки печенья, горстка колотого сахара, но посылок было много, одаривали охотно, да еще хозяйки, в благодарность за хорошую весть, поверх посылочного угощения, уже от себя, добавляли крупы или пирогов.
Мама к этому времени стала болеть, зарабатывала мало. В семье росли еще две маленькие сестренки, которые беззаботно бегали по улице с закинутыми на плечи, подпрыгивающими на ходу хвостатыми косичками, и Коля с Тамянкой были в семье главными кормильцами.
Коля гордился своей новой ролью добытчика и дома теперь скучал. Ждал не дождался, когда надо будет снова ехать с почтой, и, чтобы быть при деле даже в дни простоев, перебрался ночевать к Тамянке.
Для кобылы на складе почтамта был отдан закуток, обшитый по бокам досками, но этим заботы о Тамянке и ограничивались. До появления Коли кормили ее невнимательно: кто вспомнит, забредя на склад, тот и засыплет овса, навалит через поперечную жердину сена или принесет из колодца свежей воды. И нередко в выходной день оставалась она некормленой, терпеливо, в покорном спокойствии дожидаясь людей.
Коля устроил себе постель прямо в закутке: натаскал в угол сена, застелил попоной и укрывался на ночь выделенным для зимних поездок тулупом. Так они и ночевали теперь по соседству. Коля под тулупом, а Тамянка спала стоя и, часто просыпаясь среди ночи, ласково смотрела на мальчика, продолжая говорить с ним на своем молчаливом языке, или выбирала из его постели былинки, обдавая лицо теплым сенным духом.
Аникушин рассказывал эту историю впервые. Рассказывал случайному гостиничному приятелю, но в том-то и дело, что с посторонним человеком, с которым, возможно, никогда больше не увидишься, откровенничать было легче. И, вспоминая Тамянку, Аникушин думал, что история с лошадью и была главным событием в жизни. Если всмотреться, то и правда, ничего важнее не было, какая-то пустота образовалась между тем случаем и сегодняшним днем, и пустоту эту он не прожил, а вроде мгновенно, как моргнув, перелетел.
То же самое примерно думал и слушавший его зоотехник Рябов.
— Мгновенно жизнь прошла, будто и не жил, — заявил он. — Точнее, жил, а самого главного не совершил, прошло мимо самое главное. И старость рядом, и долги не отданы.
— Какая старость? Нам с тобой до пенсии еще по четыре года трубить, — пытался подбодрить его ревизор.
— Не скажи. Это старость. На слезу тянет. Кто-то на ярмарку в гору едет, а мы уже того, обратно под гору.
Дежурная снова просыпалась, и, хотя погода сегодня была ясная, она, вслушиваясь в монотонный шелест голосов — точно дождь по крыше, — спросонья думала: «Эва как разнепогодилось, льет и льет».
…С почтой Коля отъездил целый год, пока не появился новый начальник почтамта Кукушкин, унылый сонный мужчина, которого, казалось, ничто на свете не интересовало. По почтамту он ходил так, словно его только что растолкали и он никак не может понять, куда он попал. И тем удивительнее, что безразличный Кукушкин в одном проявил интерес и твердость — невзлюбил Тамянку.
— Что же это получается, товарищи, — говаривал он. — Люди в космос летают, а мы, понимаешь, все на лошадях почту развозим. Допотопный век.
Этот-то Кукушкин, пока Коля был в отпуске, помогая дома на сенокосе, и отдал распоряжение свести Тамянку на скотобойню, а взамен купить мотоцикл с коляской. Коля узнал об этом через неделю и, узнав, сразу убежал в лес. Он шел, не разбирая дороги, не желая никого видеть и сохранить в себе горе, не расплескать его, пока оно не затвердеет внутри, чтобы у него хватило сил отомстить Кукушкину. Ужасная кара настигнет тогда начальника, тщетно будет просить он пощады, Коля Аникушин его не простит.
Уже в темноте, стараясь остаться незамеченным, он пробрался в дом, залез на чердак и затих, решив изморить себя голодом. Одна мысль не давала ему покоя, одна картина стояла перед глазами: что должна была пережить Тамянка, поняв, что ее убивают? Почему тогда его не было рядом с ней? Чем теперь он сможет оправдаться и будет ли оно, это оправдание?
Засев на чердаке, снова и снова представлял он, как взяли Тамянку в повод и повели по улице на окраину. И как, должно быть, она сначала удивилась таким необъяснимым действиям людей. Предчувствия беды, наверное, у нее еще не было, только одно удивление. Но и оно скоро сменилось привычной мыслью, что предстоит работа. Работать она действительно привыкла, всю жизнь таскала в скрипучих санях и телегах нелегкую поклажу. Вот и сейчас ее запрягут, только непонятно, зачем для этого ее надо куда-то вести и почему перед работой не напоили и не задали корм? И как, наверное, беспомощно ослабела, когда переступила засыпанный мокрыми опилками порог скотобойни, уловив ударивший в ноздри, пропитавший все вокруг запах теплой крови. Вспомнила ли она о нем, когда поняла, что на самом деле должно произойти, или навалившийся ужас сковал ее? А если вспомнила, не предателем ли, бросившим ее, на своем ласковом языке назвала его… Дальше Коля домыслить уже не мог и, содрогаясь от чердачного холода, снова начинал тихонько, чтобы не услышали спавшие внизу мама с сестрами, плакать, подвывая и давясь застрявшим в горле комом.
С чердака он спустился только через двое суток, проспав перед этим, обессиленный, целый день. Спустился с твердым намерением сжечь сарай Кукушкина, где стоял новый, с коляской, мотоцикл. Пускай его поймают, пускай посадят в колонию для малолетних преступников, он сделает это — такая была решимость. Назначил даже день, но накануне у мамы случился сильный сердечный приступ, ее срочно увезли в больницу. После матери в доме сразу стало пусто. Только две сестренки, испуганные и растерянные, жались к нему, ища защиты, и он отложил поджог на осень. Осенью уехал учиться в техникум, потом была армия, а дальше все завертелось, начиналась взрослая жизнь…
— Напрасно ты ему тогда дом не сжег, — сказал зоотехник Рябов, когда Аникушин закончил рассказ и привычно, взмахнув над головой кулаком, как бы для отчаянного сабельного удара, тихонько опустил его на стол.
— Не дом, а сарай.
— Все равно. Не отдал долги гаду.
Дрова в печке прогорели, не светились даже угли, в номере сделалось темно, только осеннее звездное небо смотрело в окна, и в его свете стаканы, казалось, покрылись изморозью.
— Мужчины, — постучала в дверь окончательно проснувшаяся дежурная, — поимейте совесть, скоро утро. Все бубните и бубните, я грешным делом подумала, что дождь идет. Ложитесь спать.
Приятели притихли. Потом Рябов шепотом сказал:
— Поедем сейчас в Порхов к твоему Кукушкину, подожжем дом, отдадим долг.
— Куда ехать? Он, наверное, давно умер.
— Ну так поедем на могилку, скажем, что о нем думаем. Нет, надо было тогда дом поджечь.
Утром, закончив свои дела, зоотехник Рябов уехал в Псков, а Аникушин остался на день завершать ревизию в райпо. А когда и он вернулся, на работе его ждала хорошая весть: из простого ревизора его назначили старшим. Начальство наконец-то оценило его неподкупность и честность. Аникушин тихонько возликовал, но внешне это никак не проявил — по-прежнему смотрел на всех доверчиво и ласково, как когда-то смотрела на него Тамянка.
В ревизионном отделе Аникушина любили — за легкий, добродушный характер и даже за внешний облик: был он невысокого роста, крепенький, с розовой лысиной, прикрытой прозрачным пушком, и не ходил, а, казалось, катился по земле. Звали его в глаза и за глаза «наливным яблочком». Он и сам собой был доволен, все у него в жизни хорошо, все есть: дом, жена, дети, внуки, и никому из них сегодня он ничего не должен. И до старости далеко. При таком отношении начальства он и после пенсии будет работать еще долго.
Но никто — ни сослуживцы, ни жена, ни уже взрослые дети — не знали, что у этого благополучного, действительно похожего на наливное яблочко человека на всю жизнь сохранилась неистребимая любовь к почтовой лошади Тамянке и неприязнь к начальнику Кукушкину, по глупости и равнодушию погубившему кобылу. Эта любовь и та неприязнь с годами спрятались так глубоко, что до поверхности не доходили. Разве что булькали пузырями, когда, немного выпив за праздничным столом, расчувствовавшись, он начинал говорить себе под нос, жалея какую-то Тамянку и угрожая неведомому Кукушкину.
Через месяц Аникушин позвонил зоотехнику Рябову, втайне желая похвастаться повышением по службе. Но гостиничного приятеля дома не оказалось. Жена раздраженно ответила, что Рябов неожиданно взял отпуск и укатил на Камчатку отдавать долг матросу Бичову.
Новогодний рассказ
Вечером папа, Василий Петрович, приносит домой картонную коробочку с игрушками, обложенными ватой.
— Это тебе дедушка Мороз прислал, — говорит он Пете, и по озябшему виду папы, по раскрасневшемуся лицу и белым бровям можно судить, что дедушка, передавая коробочку из рук в руки, заморозил и его.
Было время новостей, диктор из репродуктора на стене говорил, как обычно, о космонавтах Гагарине и Титове, затем про кукурузу, кукурузу и кукурузу. И когда папа достает из коробочки сначала шары и гирлянды, потом игрушечных космонавтов в скафандрах, с надписью красными буквами на них «СССР», а в конце появляются стеклянные початки кукурузы, Петя догадывается, что игрушки прислал не дедушка Мороз, а диктор из репродуктора.
Пете хочется поблагодарить диктора за подарок, но тот, сказав в прогнозе погоды о сильном морозе со снегопадами и метелью, неожиданно смолкает, после чего сразу слышится быстрая музыка со звоном колокольчиков и взмахами крыльев, словно в репродукторе метель уже началась. За быстрой музыкой приходит музыка заунывная, медленная, точно теперь метель сменяется морозом, и Петя понимает, что дальше ждать диктора не имеет смысла, потому что он уже давно от ненастья куда-нибудь спрятался.
На следующий день на новогодние праздники Петю отправляют гостить в деревню к бабушке, живущую в десяти километрах от их райцентра Локня. И весь день его не покидает ощущение праздника, и он горячо верит, что впереди его ждет не просто поездка к бабушке в обычный деревенский дом, а сказочная дорога в удивительный и тоже сказочный мир, который представляется ему почему-то в виде наряженной новогодней елки. Елка поворачивается вокруг себя, и с каждым поворотом на ветвях появляются новые игрушки, шары, мандарины, зажженные свечи, яблоки, выкрашенные золотой и серебряной краской грецкие орехи, а вокруг с непрерывным шипением взлетают и осыпаются разноцветные салюты, и елка стоит вся в плавающем дыму, огнях и взрывах.
И все, что происходит дальше, оправдывает его надежды. Вечером Василий Петрович решает, на чем ехать. Можно на мотоцикле, на котором он, ветеринарный врач, летом отправляется по соседним деревням к заболевшим коровам, свиньям и овцам, можно и на двухколесной бричке. Но и мотоцикл, и бричка малы и застрянут в сугробах, и он выбирает сани с лихо загнутым жестяным передком.
После этого начинаются сборы, и проходят они на удивление быстро и слаженно. Василий Петрович уже запряг в сани вороного мерина Буфета, который, попав на улицу, первым делом принимается осторожно обнюхивать снег. Петя стоит у окна, укутанный поверх шубейки в огромный тулуп, и ему видно, как папа, управившись с лошадью, приносит из сарая три охапки сена, набивает ими сани, ставит в ноги корзину с игрушками и едой. Потом мама, Зинаида Ивановна, выкапывает в сене ямку и опускает в нее, как в колыбель, Петю. Настоящую свою колыбель Петя не помнит, но тело, оказывается, хорошо помнит колыбельный покой и уют, потому что само ловко и удобно устраивается в глубине сена.
В дорогу им помогает собираться соседский мальчик Колька Гусев. Гусев почти на пять лет старше Пети, и это делает его в Петиных глазах взрослым. В расстегнутой шубе, Колька повсюду следует за Василием Петровичем и повторяет его действия: подтыкает с боков сено в санях, щупает застежку на подпруге, трогает оглобли, и с лица его, в подражание взрослым, не сходит озабоченное, неприступное и одновременно снисходительное выражение.
Когда сборы закончены и папа забирается в сани, Колька идет открывать ворота. Буфет, нанюхавшись снега, стоит в упряжке подобранным, нарядным, переступает с ноги на ногу и несколько раз дергает взвизгнувшие на морозе сани, словно проверяет их на вес. В проеме ворот видна пустая улица, узкая лента угасающего над полями заката и убеленная инеем березовая роща, вся усыпанная черными точками ночующих галок. И не успевает Петя как следует рассмотреть и ленту заката, и рощу, и галок, как Буфет подхватывается с места и выносит сани на улицу.
По райцентру и под нависшей над дорогой рощей, где гомонятся обеспокоенные галки, они едут быстро, а дальше Василий Петрович переводит мерина на тихий ход. Все виденное много раз, все привычное сегодня представляется Пете по-иному. Заря гаснет, в полях темнеет, хорошо видны лишь вешки, стоящие вдоль дороги. Они наплывают издалека и пропадают за спиной, похожие на часовых или строй солдат. И когда Василий Петрович, которому вскоре надоедает скрюченно сидеть на одном месте, встает, то кажется, что, проезжая в санях мимо вешек, он принимает парад.
Буфет бежит, завернув голову на левую сторону, и через каждые четыре шага у него из ноздрей вылетают, отдуваемые ветром, клубы пара, и весь левый бок у него серебрится от инея. У Василия Петровича тоже вся левая сторона — от шапки и одной брови до рукава и полы шубы — в инее, и он, догадываясь, что выглядит как-то половинчато и нелепо, то и дело про себя усмехается.
По-иному, как сказочное приключение, видится Пете и происшествие на дороге, когда они только чудом не вываливаются из саней.
Начинается с того, что в середине пути усиливается попутный ветер, дует теперь в спину. Очередным порывом с саней сдувает клок сена, и он, разлохмаченно взлетая и падая, катится, быстрее лошади, в темное поле, потом что-то сильно бьет в передок, полозья скребут по чему-то железному, и, когда Петя с мамой оборачиваются, на дороге остается лежать подкова, соскочившая с копыта Буфета.
— Вася, — кричит мама, — подкову потеряли!
— Все одно к одному, — отвечает Василий Петрович с каким-то радостным испугом, словно стоит у проруби и собирается прыгать в ледяную воду.
Он говорит так потому, что дорога резко идет вниз, под гору. Он натягивает вожжи, протяжно, нежно посвистывает, чтобы успокоить мерина: «Фюю-ить, фюю-ить. Тпру, тпру, милый». Но ничего не помогает: сани, накатываясь сзади, толкают Буфета, и, сколько он ни упирается в дорогу передними ногами, они скользят и разъезжаются. Дело заканчивается тем, что, не выдержав напора, Буфет срывается и его вместе с санями быстро несет вниз. Мелькает застрявший в кустах недавний клок сена, и все приближается и приближается раскатанный до блеска поворот, за которым чернеют перила моста. Белый серпик луны в этот момент разгорается сильнее, чтобы картина скорой аварии была хорошо видна.
— Прыгай с ребенком! — кричит Василий Петрович, повиснув на вожжах, и Пете даже кажется, что это не вожжи, а так удлинились, ухватив голову мерина, отцовские руки. Крикнув, папа оглядывается, и в глазах у него уже не испуг, а ужас, но ужас опять-таки какой-то радостный. Непонятно почему, Петю тоже захватывает веселое отчаяние, лишь одна мама, кажется, напугана серьезно. Привстав, она берет Петю на руки, и с саней сразу начинает сдувать сено. Оно взлетает вверх, катится по дороге, уносится в поля, и можно подумать, что сани на ходу сами собой разваливаются на части. Мама в беличьей шубке кажется маленькой, а Петя, обхватив ее, в свою очередь, за шею, в овчинном тулупе такой огромный, что непонятно, кто кого держит на руках.
— Прыгайте, пропадете! — кричит напоследок Василий Петрович. До поворота, где их скорее всего занесет и опрокинет, остается метров тридцать-сорок. Сам он прыгать не хочет и, натянув вожжи, перегибаясь назад, почти лежит на спине.
Мама подбирается к краю саней, но, взглянув на струящуюся внизу полосу дороги, возвращается на место. Сани начинают вилять. Это потому, что Василий Петрович, пытаясь в последний момент поставить мерина прямо, переводит вожжи, дергает то за одну вожжину, то за другую, и Буфет тоже шарахается то в одну сторону, то в другую. На повороте их заносит чуть ли не в кювет, сани накреняются, зависнув на одном полозе, готовые вот-вот опрокинуться и накрыть людей. Все хватаются друг за друга, за сани, даже за сено, и когда хвататься больше не за что, их выручает Буфет. По-прежнему с загнутой головой, а теперь еще с выпученным, ошалелым глазом, он на какой-то миг перестает скользить и, упираясь боком в оглоблю, выравнивает сани. Эта невольная задержка гасит скорость, но все равно по мосту они мчатся с грохотом и треском, и мост гудит под копытами Буфета, как барабан.
И папа, и мама, и Петя тяжело дышат, будто пробежали всю дорогу вместе с лошадью. Буфет тоже тяжело дышит мокрыми боками. Лошадь и сани окутались на морозе густым паром, и дальше они двигаются, словно только что выехали из облака и оно еще продолжает цепляться за них своими клочьями.
Вскоре они сворачивают с большака на едва приметную, заснеженную дорогу, ведущую к бабушкиной деревне. Сани мягко переваливаются с сугроба на сугроб, словно плывут по волнам. Когда выезжали из дома, мама сказала: «Смотри не засни дорогой, а то проспишь праздник». Петя тогда даже задохнулся от обиды: как можно проспать самое интересное! Сейчас он снова лежит на спине и смотрит на бледные в лунном свете звезды, потом ему чудится, что это не звезды, а снежинки, что там, в вышине, начался обещанный диктором снегопад, но снег почему-то завис в воздухе, не долетев до земли.
Дорога местами совсем скрывается под снегом. Вешек, указывающих направление, нет, и просто удивительно, как папа с Буфетом находят правильный путь. В одном месте сани съезжают в яму, а потом начинается долгий подъем в гору.
Но Петя ощущает подъем сквозь сон. И уже во сне видит, как Буфет забирается все выше и выше и наконец бежит прямо по небу. Луна светит неистово, и бежит он как по раскатанной ледяной дороге. Звезды теперь не кажутся застывшим снегом. Они сверкают, точно искры, высекаемые копытами лошади, и целыми гроздьями рассыпаются по небу. Часть их остается висеть, а остальные, как при салюте, летят, светясь, к земле.
В этот момент земля озаряется искристым сиянием. Сверху хорошо видны деревни и дороги, все поля и речки. Виден и поселок Локня, где по-прежнему у открытых ворот стоит Колька Гусев. «Ворота закрой, раззява!» — кричит ему Петя. Колька озадаченно задирает голову, пытаясь понять, откуда доносится голос, и по его лицу гуляют голубые и зеленые сполохи.
Пете становится весело. Ясно, что бабушкин дом уже рядом и весь этот блеск и шум не что иное, как начало праздника. И вот-вот, совсем скоро, появится перед ним бабушкина елка — вся в дыму, огнях и взрывах.
Не просыпается он и когда подъезжают к бабушкиному дому и лошадь останавливается у заледенелого крыльца. По скрипучим ступенькам торопливо и решительно спускается бабушка, в наспех накинутом на плечи платке, и у нее такой вид, будто она готова схватить в охапку и унести с собой не только Петю вместе с мамой и папой, но и Буфета с санями. Дверь она от волнения оставила открытой, и внутрь с улицы валит морозный пар.
Но обнимает и подхватывает на руки она одного Петю и в доме усаживает его на диван под тикающими ходиками. И когда холодный туман рассеивается, вдруг выясняется, что бабушкина елка не такая нарядная, как все время представлялось Пете: висят на ней лишь вырезанные из газет снежинки и картонные фигурки зверей.
— Ну и ну, вот те раз, я и не ожидал, — как бы разочарованно говорит папа и сразу принимается украшать елку привезенными игрушкам, доставая из коробки сначала шары и гирлянды, потом космонавтов с красной надписью на скафандрах «СССР» и наконец стеклянные початки кукурузы.
И пока Василий Петрович развешивает на ветвях игрушки, мама и бабушка тормошат Петю, расстегивают тулуп и шубейку под ним, снимают валенки, разматывают один за другим шерстяные платки, но Петя только вяло отбивается руками. Наконец он глубоко вздыхает, открывает глаза, несколько минут разглядывает склонившиеся над ним лица мамы и бабушки, и у него такое растерянное ошеломленное выражение, словно он не понимает, что с ним произошло и куда он попал.
— С Новым годом, Петенька, с праздником, — смеясь, говорят ему. — С Новым годом!
Прощание с летом
Весь день и ночь шел дождь. Не шумный дождь середины лета, бегущий на тонких ножках, с веселым ужасом приседая от каждого удара грома, чтобы припустить еще быстрее. Это был неторопливый, обложной дождь, прочно усаживающийся на кроны деревьев, на крыши, чтобы уже оттуда, нащупав вытянутым носком землю, спуститься вниз.
Утро ветреное, сырое, шумят березы на безлюдной, как бы насквозь выдутой деревенской улице, изредка в прореху между облаков выглядывает солнечный луч и так холодно скользит по мокрой траве, по верхушкам деревьев, по лужам, таким прощальным кажется его свет. И, выйдя на улицу, с грустью подумаешь, что лето уходит, осторожно прикрывая за собой дверь.
С этого времени начинаешь отсчет последних летних дней. И именно с этого времени по перелескам, рощам и борам, по склонам холмов, во рвах, по закрайкам болот, у лесных дорог и начинают расти грибы — первейший признак близкой осени.
Грибы растут быстро. Иной раз кажется, что рост их по своей стремительности сродни взлету космической ракеты. Как ракета в огне и дыме с гулом уходит в небо, так и они однажды ночью пронзают травянистые корни и, оставшись один на один с огромно-мерцающим звездным небом, замирают в тишине, как бы уже парят в бесконечном пространстве, и на шляпках их, как на обшивке ракеты, серебрится звездный свет.
— Грибы пошли! — слышится в деревне с разных сторон, как боевой клич. — Грибы пошли!
Сколько ожиданий теперь впереди, сколько волнений! Собираются за грибами даже самые старые, что все лето просидели на скамейки у дома с таким видом, словно прощались с белым светом, даже они отыскивают в сарае забытый походный посох, достают из кладовки сапоги и корзину. Скорей бы завтрашний день!
Ночи тогда кажутся особенно долгими. Просыпаешься по нескольку раз, с надеждой пытаешься уловить признаки рассвета; спросонья видится, что верхние переплеты окон побелели, а звезды бледнеют, гаснут, и снова тревожно засыпаешь.
С рассветом во многих домах непривычно ярко для такого часа зажигаются все огни, идут торопливые, сдержанно-радостные сборы. Скоро то в одном доме, то в другом хлопают двери и калитки, люди семьями и поодиночке спешат через поле к лесу, который стоит вдали нарядно — желтеющие березы вперемежку с темными насупившимися елями. Солнце встало, но его еще не видно, только над лесом короной неистово краснеет небо, и в эти первые минуты восхода особенно зябко, сыро и неуютно.
Соседи Смирновы ходят в лес всей семьей, и корзины у них разные: большая — для папы, поменьше — для мамы, а самая огромная — для пятиклассника сына Никиты. Возвращаются они к обеду, и уже издали видно, что папа набрал грибов много, мама поменьше, но больше всех, с горой, — Никита.
До позднего вечера Смирновы разбирают грибы. Одни откладывают для засола, другие для сушки и варки, третьи для жарки, по очереди вспоминая, где и когда тот был найден, и, кажется, узнают каждый гриб в лицо. На кухне беспорядок, выставлены многочисленные кастрюли и тазы, грибы лежат на столе и на подоконнике, горой свалены на мешковину в углу, с треском, разгораясь, топится печь… Теперь в домах надолго поселяются ни с чем не сравнимый душистый запах сохнущих в протопленной печи грибов, резкие запахи чеснока, укропа, смородинова листа и хрена, идущих для засола.
* * *
Уходит лето, оставляя за собой подпалый, какой-то пегий цвет земли — цвет первого снега, смешанного с опавшей листвой, ранние сумерки и особую грусть, тоску, без которой не обойтись в пору увядания.
Осень затягивает. Каждый день откладываешь отъезд в город, и все осенние картины проходят перед тобой одна за другой. Вот летят колыхающейся нитью стаи лебедей, гусей, журавлей — все дальше и дальше под огромным, раскинувшимся над ними небом. Что влечет нас в их полете? Печаль прощания, жажда перемены мест, близкая русскому человеку, родившемуся на необъятных просторах? Глядишь, не отрывая глаз. Уже и трубные голоса стихли, и сами они пропали, но вдруг напоследок мелькнет еще раз в солнечной дали их строй и окончательно сольется с небом.
Наступает унылое предзимье, но и в предзимье есть своя прелесть. Просторно, голо стало в лесах, просторно и в деревне. Огороды убраны, чернеют землей, картофельная ботва сожжена, только из осевших куч ветер разносит пепел. Уезжают дачники, заколачивают досками крест-накрест окна, деревня принимает какой-то понурый, прифронтовой вид.
— Теперь жди бомбежки в виде снега, — шутят в деревне. — Смотри, скоро повалит.
И правда, давно хочется зимы, снега, морозного воздуха. Ждут холодов и местные жители и, ожидая, пилят и колют дрова. Сверкнет на солнце в утреннем тумане лезвие топора, стукнет по чурбану, и сразу же послышится певучий звон разлетающихся поленьев. Идешь по улице, и отрадно станет при мысли, что в деревне, где давно ничего не строили, растут, белея срезами, как срубы, новые поленницы.
Дожди льют чаще, срывая последнюю листву, которая завалила тропинки, и леса теперь не узнать. Грибной дух выветрился, но даже в эту пору можно найти в ворохе листвы боровик или подосиновик — как на подбор крепкие и чистые, без червоточин. Зато все сильнее пахнет мокрой землей, горечью коры, тлением… Далеко сквозь деревья желтеет пожухлой травой железнодорожная насыпь. Стоит, настороженно прислушиваясь к шорохам, лось. Рога его сливаются с древесными сучьями и вдруг оживают, вскидываются вверх, когда он длинными скачками уносится в чащу, и долго еще, нарушая тишину, слышится под копытами треск валежника.
Темнеет в лесу мгновенно, как только заходит за тучи солнце. Сразу падает холод, от земли пробирает дрожь. Пора возвращаться. И пока путаешься в тропинках, сбиваясь с пути, лезешь в шуршащие кусты, вдали все нарастает и нарастает гул поезда. Все ярче и ближе свет, словно летит над насыпью, с шумом и стуком, огненный шар, и вот уже проносится перед тобой длинная лента освещенных вагонов и, поманив теплом и уютом, скрывается во мраке.
Еще пустыннее, безрадостнее в эту пору болота. Клюква давно вызрела, налилась соком, лежит на кочках рассыпанными углями, и корзину с ягодами почти не поднять. От одного вида этого заброшенного, пустынного места сжимается сердце, кажется, что и миллион лет назад здесь было то же самое. Меняли русла реки, высыхали моря, старились горы, а болота такими и дошли до нас — с кочками, с чахлыми березами, пнями, буреломом, со сладковато-удушающим запахом багульника, с шорохом сухой осоки, между которой тускло блеснет вода.
Но пригреет с обеда низкое солнце, весь день, как в тумане, висящее в небе, бледно озарится бескрайняя низина, и такой покой, такая усталая дрема охватит тебя при мысли, что на многие километры вокруг тишина и безлюдье. Ляжешь на сухом припеке, заложишь за голову руки, смотришь в небо, которое тоже как в дыму. Порой пробежит по деревьям ветер, с тугим блеском надует развешанную на ветвях паутину и снова стихнет.
* * *
Проходит один тускло-солнечный день, второй, неделю держится обманчивое тепло. Над горизонтом высятся пепельные снежные облака, и, когда однажды ночью снег выпадет, никто не заметит, как это произошло. За ночь деревня преобразилась, побелела, умылась снежком, сосновый бор стоит как присыпанный мукой. Только река под горой чернеет сквозь кусты, и падающие в нее снежинки гаснут, пропадают. Задует к вечеру ветер, завьюжит, выйдешь на улицу — мелькает снег перед глазами, выглянешь в окно — снова мелькает.
Но это еще не настоящая метель. Настоящая — которая застанет тебя в пути. Соберешься в середине декабря проведать в деревне дом, все ли там в порядке, и только окажется автобус за городом, как полетит навстречу снег, с каждой минутой гуще. Быстро стемнеет, шофер включит фары, и дальше автобус помчится как по вырытому под огромным сугробом тоннелю.
От автобуса надо идти еще три километра; хорошо, что дует в спину. А ветер все сильнее, свежее снег. Обгоняя, он летит с бешеной скоростью и, мелькнув, уносится вдаль, в сумерки, словно засасываемый огромной воронкой, и сейчас только одно тревожит тебя — не сбиться с дороги, не пропасть в полях. И какое это счастье, когда мелькнет, будто на краю земли, незадуваемый огонек, прибавится к нему другой. Вскоре проступят из снежного месива дома, ясно запахнет горечью печного дыма, рассеянного в воздухе.
Дальше станет совсем хорошо. Затопишь в доме печь, огонь от лучины лизнет полено, рыжим петухом перескочит на соседнее, и вот уже из печного жерла, как от солнца, бегут по стенам лучи, волнами расходится тепло.
Сидишь перед печкой, невольно прислушиваясь к метели, радуясь, что еще надежны стены, крепки на дверях запоры и вьюге сюда не добраться. Дом согрелся. И как только ложишься спать, выключив свет, — проступает в оттаявших окнах серое мельтешение снега, слышится рядом за стеной шорох и завывание ветра, который все гонит и гонит вдоль улицы метельные космы, и они то упираются в затрещавшие заборы, то, подобно комете с длинным звездным хвостом, взмывают в непроглядное небо.
Репортаж о кольцевании птиц
Человек, кольцующий птиц, должен хорошо лазить по деревьям. В этом убедился репортер Петров, который по заданию редакции два месяца проработал на орнитологической станции заповедника, а затем еще два месяца публиковал в газете репортажи под рубрикой «Журналист меняет профессию».
С тех пор, приехав из заповедника, он уже не мог спокойно ходить по лесу. Вместо того чтобы собирать, к примеру, грибы, бродил, задрав голову. Со стороны могло показаться, что он считает деревья по верхушкам или сочиняет стихи. На самом деле он рассматривал расположение ветвей, опытным взором сортируя их на крепкие, удобные — и сухие, ненадежные, мысленно прикидывая, куда половчее поставить ногу и за что ухватиться рукой.
Он с трудом сдерживал прямо-таки неистребимое желание забраться на лесину. Иногда сдержаться не удавалось, и Петров, бросив по сторонам пугливый взгляд, взвивался наверх. Чувствовал он себя в этот момент так, словно был частью самого дерева, сродняясь с ним до состояния сучка, ветки и листика. Подъем совершался быстро: только что подошвы его башмаков стояли на нижней ветке и, казалось, еще стоят там, а голова уже выглядывала из листвы на самой верхушке. Было такое впечатление, что он сумел непонятным образом за одно мгновение подрасти метров на двадцать.
…На кольцевание птиц Петрова собирали всей семьей. Пришли даже соседи, и соседка тетя Шура, гадая, раскинула карты.
— Так, что мы видим, — сказала она. — Казенного дома и пиковой дамы-разлучницы не будет, это точно. — Жена, молчаливо ревновавшая Петрова весь день, впервые чуть заметно улыбнулась. — А дальше что-то непонятное. То светлая масть выпадет, то темная. Я так понимаю, что будет ваш хозяин сначала во тьме пребывать, яко червь, а потом поднимется к свету.
Сам Петров находился в приподнятом настроении: впервые ему предстояло писать не о других, а о самом себе. И в заповедник он поехал радостно, как на поиски приключений.
Через два дня, поздним вечером, он оказывается уже на кордоне. Кордон большой. Есть здесь магазин, клуб и даже музей, заставленный чучелами птиц и рыб. Все это не вяжется с его представлениями о кордонах как о покосившихся одиноких сторожках с живущими в них отшельниками бородатыми лесниками. Встречает его лесничий участка, смешливый усатый мужчина в форменном кителе с захватанными лоснящимися бортами и тремя маленькими звездочками в петлицах.
— Значит, репортер? А-а-атлично! Журналист меняет профессию? А-а-атлично! — Лесничий, хватаясь за бока, заливается смехом, и репортер отмечает, что усатые люди почему-то всегда веселые, что между смехом и усами есть какая-то непостижимая связь, словно усы растут так хорошо именно от жизнерадостного нрава хозяина.
Ночует он у орнитолога Найденова, молодого молчаливого ученого, жилистого и гибкого, как ивовый прут.
«Это потому, что он привык лазить по деревьям», — думает Петров и незаметно втягивает свой уже разросшийся животик.
Утром, после завтрака, Найденов достает из шкафа выстиранные брезентовые штаны, куртку, болотные сапоги, кладет их на стул перед репортером:
— Переоденьтесь, сейчас поедем на кольцевание бакланов.
* * *
Колония бакланов находится на залитом половодьем берегу реки. Большинство деревьев засохло, приняв мраморную крепость и ломкость, ветви остры, как пики, и со стороны колония похожа на скелет чудовищного динозавра. Скелет стоит по колено в воде, а вокруг во все стороны торчат выбеленные пометом и солнцем ребра и кости, над которыми, словно терзая жертву, летают, гомонятся, садятся и взлетают тысячи птиц, и шум стоит такой, как если бы динозавр непонятным образом издавал предсмертные вопли.
На кольцевание бакланов выезжают на трех лодках: орнитолог Найденов с Петровым и шесть решивших подзаработать лесников. Еще когда плывут, ориентируются на далекую, едва приметную стаю черных птиц, кружащих на одном месте. Теперь, приехав, сидят в лодках, не в силах прийти в себя, точно, покинув кордон, переместились на миллионы лет назад и присутствуют на какой-то доисторической драме.
Работа предстоит тяжелая, даже опасная, только репортер Петров, не ведая об этом, думает: «Вот они, приключения». Орнитолог раздает всем по нанизанной на проволоку связке колец, и, подтянув болотные сапоги, лесники поодиночке плюхаются в теплую пузырящуюся воду. Последним с лодки сползает репортер. Как только он касается дна, на поверхность всплывают зеленоватые, ослизлые комья грязи, пронизанные капельками воздуха, похожие на выпученные лягушачьи глаза. Остальные давно ушли вперед, и за ними тянется мутный, с лопающимися пузырями след.
Петров боится, что над ним начнут насмехаться, и торопится догнать орнитолога. Он то и дело спотыкается о невидимый под водой топляк, потом ухает в яму. В таких случаях неожиданное падание вызывает мгновенный испуг перед раскрывшейся под ногами бездной и запаниковавший человек вопит и колотит по воде руками. Петров не успевает напугаться, проваливаясь только по грудь. Намокла одежда, залило сапоги, этим все и ограничилось, но при мысли, что вместе с водой в сапоги проникла ослизлая, глазастая дрянь, его передергивает.
С появлением людей бакланы впадают в беспокойство. Они мечутся над деревьями и прямо в полете от волнения отрыгивают принесенную птенцам рыбу, и она, частью живая, частью полупереваренная, шлепается в воду вокруг репортера. Внутри колонии сумеречно, и как-то странно видеть, что рядом, за деревьями, щедро освещенная солнцем, бешено несется по своему руслу паводковая река, таща на себе древесный мусор и огромные сучья с зеленой листвой, среди которой, как капитаны на мостике, восседают вороны и желтые цапли.
У дерева репортера поджидает Найденов.
— Значит, так, — объясняет он последующие действия. — Сапоги придется снять, они помешают. Связку колец для удобства наденьте на шею, как бусы. Все. Вам это дерево, мне соседнее.
Орнитолог мгновенно вскарабкивается на соседнее дерево и с легкостью, словно играя в «классики», перепрыгивает с ветки на ветку. Петров, вздохнув, покорно берется за сук над головой, подтягивается. С одежды потоком льется вода, и непонятно, стекает она или, наоборот, хватая его своими длинными лапами, пытается стянуть вниз. Припав к стволу, цепляясь по дороге за сучья, Петров ползет вверх, как гусеница. Это означает, что сначала он передвигает вперед верхнюю часть тела, а затем подтягивает нижнюю. На соседних деревьях лесники ползут таким же образом. Порой у кого-нибудь срывается нога и в поисках опоры начинает судорожно дергаться, и такое впечатление, что кто-то эту ногу щекочет.
Когда репортер достигает первого гнезда, выясняется, что для кольцевания двух рук мало. Одной рукой, обхватив ствол, он держится. Но надо еще отжать от связки кольцо, предварительно прикрепив к нему кусочек пластилина, чтобы оно не соскользнуло, взять птенца, а затем вернуть пищащее, царапающееся существо обратно. Все это приходится на вторую руку. Репортер помогает себе зубами и губами, и, когда подносит птенца ко рту, тот обморочно закатывает глаза, ожидая, что его сейчас сожрут.
Бакланам такое вольное обращение с птенцами не нравится, и они возмущенно кричат, норовя клюнуть пришельца в лицо и руки. По охотничьей привычке они атакуют движущиеся цели. На лице это мигающие глаза, но больше достается рукам. «Кыш, кыш, гады», — озверев, кричит Петров, видя как на пальцах проступили капли крови. Отмахнуться нечем.
Случаются и другие неприятности. Спускаясь с дерева, он вдруг обнаруживает, что сапоги, засунутые в развилку суков, упали. Один сапог полузатопленной баржей покоится здесь же у дерева, а другой, зачерпнув воды, торчком кружит у границы, где спокойная береговая вода встречается с речным течением. Репортер спешит на помощь и ловит сапог в тот момент, когда течение уже подхватило его.
За первым деревом следует второе, третье… Петров давно ничего не чувствует, ему кажется, что время остановилось. Неподвижно зависло в зените и солнце и, когда он забирается на очередное дерево, нещадно печет темечко. «Вот и сбылось соседкино гадание, — неожиданно вспоминает он. — Как там она говорила: „Будешь во тьме пребывать, яко червь, а потом вознесешься к свету“. В точку сказано».
Кольцевание наконец заканчивается. Петров отмечает, что прошло три часа, а не полдня, как ему показалось. Теперь, когда не надо больше карабкаться по деревьям и бродить по пояс в тухлой воде, наваливается усталость и выскакивают все болячки: руки распухли и саднят, ноги трясутся, в голове сильно стучит, словно в нее продолжают тюкать своими клювами бакланы.
Обратную дорогу на кордон он помнит плохо: сонно смотрит на мелькающие берега, деревья, птиц и даже не удивляется, что за полчаса они опять проделали путь в миллионы лет.
Утром его будят:
— Просыпаетесь, скоро выезжаем.
— Куда?
— Как куда? Надо бакланью колонию докольцовывать.
Репортер с трудом встает с постели, которую ему уступил Найденов, сам ночевавший на раскладушке на кухне. И хотя тело по-прежнему болит, словно тысячи иголок впились в него, словно все, что вчера клевало, било и кололо его несчастное тело, снова принялось за прежнее, он понимает, что надо терпеть.
После первой колонии на следующий день перебираются в другую. Потом уплывают на морские острова кольцевать чаек. На обратном пути налетает неожиданный шквал. Море вскипает, с гребней волн ветром сдувает пену. Застигнутые в море непогодой, маленькие птички, ища спасения, облепляют снасти и борта катера. И когда входят в реку, под защиту деревьев, их катер, старая посудина «Орлан», напоминает какой-то сказочный птичий корабль.
Заканчиваются приключения Петрова кольцеванием орлана-белохвоста — огромной хищной птицы, гнездящейся обычно на скалах или верхушках больших деревьев. За последние два месяца репортер приобрел такую ловкость и умение лазить по деревьям, что уже снисходительно вспоминает свое первое кольцевание бакланов.
Найденов давно присмотрел орлиное гнездо, ждал только, когда птенцы подрастут, и однажды, возвращаясь с низовья, они причаливают к высоченной лесине. Человек городской, репортер наловчился определять высоту деревьев, как и высоту домов, по числу этажей, и сейчас лесина видится ему семиэтажной.
На дерево лезут вдвоем. Репортер Петров взбирается легко, уверенный в своих силах, и, когда на уровне третьего этажа видит сидящего на суку орлана с ярко-белым хвостом, его не смущают размеры птицы, которая могла бы сбить его с дерева одним ударом клюва.
«Кра-кра-кра», — недовольным лающим голосом кричит орлан, и тотчас с высоты ему более нежно и взволнованно отвечает, надо полагать, супруга: «Кий-кий-кий». Она парит где-то в вышине. За ветвями ее не видно, о присутствии можно судить только по мельканию тени от ее распростертых крыльев.
Гнездо и правда находится на седьмом этаже. Оно сложено из толстых сучьев и напоминает грубо сплетенную корзину. Двое птенцов при виде незнакомцев испуганно сжимаются, и как-то трудно представить их в скором времени хозяевами небес. Птенцов кольцуют. А когда Найденов с Петровым спускаются, довольные собой, и стоят друг перед другом, отряхиваясь и вынимая из волос древесный мусор, немногословный орнитолог говорит:
— Окольцевать орла — высший пилотаж. Мало кому удается.
Петрову кажется, что он еще что-то хочет добавить, может быть, похвалить его или поздравить. Но Найденов только неопределенно крутит в воздухе рукой…
Домой Петров возвращается в середине лета. За два месяца он похудел, сделался гибким, как ивовый прут, похожим на человека, хорошо умеющего лазить по деревьям. До осени он публикует в газете свои репортажи, а потом начинает скучать по заповеднику. Дорогие сердцу места, оставленные нами, уже без нас кажутся заброшенными, покинутыми, и на душе так тоскливо, будто свистит над осенним полем ветер. Он никак не может войти в привычный ритм газетной работы и, когда выезжает по редакционным делам в Остров, Себеж или Порхов, обычно спрашивает местных жителей, какие птицы у них водятся.
— Какие еще птицы? Обычные, как и везде, — воробьи, вороны, галки, голуби.
— А орлов не видно?
— Нет, орлов не видно.
— Не высший пилотаж, — сокрушается репортер.
Теперь он ждет новогодних праздников. На городской площади установят елку, и будет она никак не меньше девятиэтажного дома. Он уже заранее сроднился с ней, с каждой веточкой и иголкой, и ждет не дождется, чтобы забраться на нее.
Елку не сразу начнут украшать. И в самое глухое время, в три часа ночи, он проберется к ней, подтянется на руках, закинет на нижнюю ветку ногу и быстро и ловко полезет наверх. Как говорила соседка тетя Шура — от тьмы к свету.
От зимы до зимы
У него белая, до пояса, борода, похожая на сугроб, круглые, как снежки, щеки и пронзительно голубые спокойные глаза. На плечах у него шуба. Эта шуба — всем шубам шуба. Когда он сбрасывает ее с плеч, поля тонут в снегах, реки замерзают, а по раскатанным до зеркального блеска проселкам, свистя полозьями, летят деревенские сани и мчатся, поднимая снежную пыль, машины.
Но видеть его можно не только зимой. Ночами он бродит по сырому весеннему лесу, порой осторожно пригибаясь, чтобы не задеть ветвей. Луна светит вниз ярко, неистово, так что на снегу видна каждая упавшая соринки и ветка. Проходя, он наклоняется над замерзшим ручьем, открывает замок, и, выпущенный на волю, ручей стекает по косогору. Ручей сейчас очень похож на синеглазую девочку-первоклассницу в развевающемся платье, бегущую с поднятым над головой школьным колокольчиком. Или на струну, которую тронули пальцем и она начала звучать.
Лес оживает, наполненный плещущимся пением воды. Луна отражается в бегущих среди деревьев и по дну оврагов ручьях, и они то и дело вспыхивают синими огнями.
А он идет дальше, открывая замки, откидывая на реках засовы, распахивая двери на озерах, и очень похож на путника, вернувшегося в свой дом после долгого отсутствия и теперь проветривающего его от застоялого, нежилого духа.
Ранней весной в голове человека еще сонный туман, точно такой, каким окутаны озябшие поля и какой висит над тающими в полях снегами. Но вот подсыхают дороги и земля, зацветают одуванчики, зеленеют и начинают нежно шуметь деревья. И мы, в ожидании чего-то нового и волнующего, спешно сбрасываем с себя все зимнее и тяжелое, одеваясь в легкие одежды, продуваемые ветром, который пахнет молодой клейкой листвой берез.
Каждую весну мы встречаем с уверенностью, что еще не начинали жить и только с сегодняшнего дня и станут сбываться наши надежды. Даются годами откладываемые обещания достроить дом, съездить на море, признаться наконец в любви или слетать на луну.
Начало лета, как и настроение девушки, все время в торопливых переменах, все время в движении. Соберутся тучи, прогрохочет гроза, и тучи тут же разлетятся, как лопнувший на воде пузырь. Прошумит скорый ливень, и не успеет упасть в замутненную реку последняя капля, как выглянет солнце и от мокрых крыш повалит пар. Ночи короткие, а дни летят один за другим торопливо, сливаясь в один грохочущий, шумящий и солнечный день.
В августе деревья устают от жары и тяжести зелени. Они понуро стоят, склонив ветви, думая уже об осени, и печальные мысли эти выдают первые желтые листья, которые, как человеческая седина, пробиваются в древесных кущах. Промелькнуло девичье легкомыслие начала лета, наступает пора созревания, и природу сейчас можно сравнить с матерью, держащей у груди ребенка.
Все прохладнее ночи, все чаще утренние туманы. Проснешься, разбуженный тишиной, выйдешь на крыльцо и долго вглядываешься в небо. Глаза заслезятся, и от этого протянутся от звезд во все стороны лучи. Но не ничтожность свою ощущаешь под огромным ночным небом, а восторг от его вечного сияния. Плещет, омывая корягу, вода в реке Пскове, пробежит, стуча, за лесом поезд, и кажется, так и будет нескончаемо течь в реке вода и бежать поезд, пока не достигнут звезд.
Звезды начнут гаснуть задолго до рассвета, закрываемые туманом. Над заливными лугами он висит слоисто, над Псковой — извилистой лентой, повторяя все ее изгибы, в лесу призрачно клубится между деревьями, как дым далекого пожара.
В полях и у края дорог уже высятся стога, поспевает на огородах картошка, наливаются медовым цветом яблоки и, наливаясь, падают на землю с крепким каблучным стуком, словно яблони пробуют неуклюже ходить.
Поздняя осень напоминает старуху в дырявой, местами залатанной одежде, сидящую на крыльце своей избушки. Ветер треплет подол длинной юбки, раздувает седые волосы. Она плачет, и слезы, смешиваясь с дождем, текут по ее лицу. Как непохожа эта старуха на девочку-первоклассницу со звенящим школьным звонком, на торопливую девушку начала лета, на спокойную, сосредоточенную в себе мать.
Она хочет зайти в избушку погреться, но там то же самое — холод от нетопленой печки, а с прохудившейся крыши потоком течет в подставленные ведра и тазы вода. Старуха смотрит на голый, пустой лес, на темнеющие поля, на огромную лужу у ног, и в мутных, под цвет неба, глазах ее печаль, тоска.
Так неприкаянно она и останется сидеть, пока не объявится мороз с белой, до пояса, бородой. Проходя, он будет закрывать на замок ручьи, накидывать на реки запоры, наглухо затворять на озерах тяжелые ворота. Потом скинет с плеч шубу, и сразу завьюжит. И по всем дорогам, полям, лесам, по всем деревням и городам пойдет гулять русская зима.
Ипподромный детектив
Этим печальным событиям предшествовали две незначительные, на первый взгляд, странности, на которые никто не обратил внимания. А жаль. Потому что тогда, возможно, ничего плохого не случилось бы.
Итак, по порядку. Душной июньской ночью на конюшне проснулся ипподромный конюх Семен Григорьевич Рудаков. Маленькое окошечко сбруйника, где ночевал конюх, бледно освещалось сполохами идущей где-то вдалеке грозы. Проснулся Семен Григорьевич в скверном настроении. Во-первых, пора было поить лошадей, и от одной мысли, что надо, обламываясь под тяжестью, таскать ведра с водой, ему стало нехорошо. Во-вторых, вечером перед дежурством он наелся окрошки с луком и поругался с женой, обидел ее, и сейчас его мучила не только изжога, но и сознание собственного ничтожества.
Вставать все-таки пришлось. Чутко спавшие лошади, услышав в сбруйнике движение, заволновались и, когда Семен Григорьевич с двумя ведрами наконец-то выбрался в коридор, встретили его нервнотребовательным ржанием.
— Цыц, проклятые! — прикрикнул конюх, который в ночные часы был на конюшне безраздельным хозяином и разговаривал с лошадьми только в грубой, начальственной манере. Лошади тоже это знали и поэтому притихли, продолжая наблюдать за Семеном Григорьевичем. Налив в бочку из крана воды, конюх зачерпнул два ведра и принялся разносить воду по денникам. Открыв дверцу, он ставил ведро на пол и направлялся к следующей лошади.
Напоив лошадей, он вернулся в сбруйник, решая про себя задачу, которую он решал каждый раз. Что лучше — снова лечь спать или затопить плиту, поставить чайник и подождать прихода наездника Сурмина? Присев на скамью, Семен Григорьевич так глубоко задумался, что не сразу услышал какой-то непонятный шум, доносившийся с улицы. Гроза прошла, да и не могла гроза пыхтеть и скрипеть, словно кто-то лез по приставленной к стене лестнице. Рудаков привстал и прислушался. Шум повторился, и теперь как будто зашуршало наверху, над самой головой. Вскоре все стихло, конюх сидя задремал, и во сне чудилось ему, что кто-то осторожно бродит по чердаку и с потолка ему на голову сыпется побелка.
Когда утром Рудаков проснулся, он отряхнул с пиджака побелку и оторопело поднял голову. Получалось, что, пока он спал и видел сон, по чердаку действительно кто-то шлялся. Происходило что-то непонятное. В конце концов, не найдя никакого объяснения, Семен Григорьевич решил промолчать, чтобы не вызвать насмешку наездника, и к тому времени, когда вернулся с дежурства домой, напрочь забыл о ночном происшествии.
Это и была первая странность. Вторая, которой уже наездник Сур-мин не сразу придал значение, произошла через восемь часов, перед самым началом воскресных бегов.
В этот день на ипподроме разыгрывался традиционный приз, один из самых престижных, и наездник Сурмин уже неделю готовил к нему свою лучшую лошадь — кобылу Ласточку. Перед бегами он запряг Ласточку в призовую качалку и выехал на проминку. Полтора круга они проехали тротом, потом Сурмин послал лошадь вперед. И тут, всегда спокойная и послушная, Ласточка повела себя необъяснимо. Когда они проезжали мимо собственной конюшни, она вдруг резко шарахнулась в сторону, вынося Сурмина из бегового круга на неровное, кочковатое поле, ударила задней ногой по оглобле и пошла скакать по-козлиному. Спохватившийся наездник быстро натянул вожжи, остановил лошадь и, выезжая обратно на круг, сердито глянул в сторону конюшни, пытаясь понять, что могло так напугать Ласточку.
«Может быть, кто-нибудь рукой взмахнул или птица из-под ног взлетела», — подумал наездник, хотя никакой птицы он не видел.
Приехав на конюшню, обеспокоенный Сурмин хотел осмотреть лошадь, но тут его отвлекли: пришел кузнец с новыми подковами, затем ветврач, и он вспомнил о странном происшествии только перед заездом, когда выезжал из конюшни на приз.
На выезде Сурмина окликнул его старый соперник, наездник Шорохов:
— Ну что, выиграешь сегодня, Сурма? Приз-то важный.
Ласточка считалась в заезде фаворитом, но Сурмин, как всякий суеверный человек, отрекся от победы, на которую сам горячо надеялся.
— Скажешь тоже! Кобыла расстроена, который день на тренировках сбоит, — приврал он и вспомнил, что Ласточка действительно только что сбоила, едва не выбив его из качалки. — Скорее уже ты выиграешь! — крикнул Сурмин на прощание, посылая Ласточку вперед и не зная еще, что следующий разговор с Широковым состоится теперь не скоро.
Со старта Сурмин придержал лошадь, чтобы сохранить ей силы, держался третьим. Так они проехали мимо трибун, где зрители, поставившие свои деньги в основном на Ласточку, засвистели, выражая недовольство. В этот момент Сурмин усмехнулся, но, когда, сделав полный круг, они приблизились к конюшням, наездником овладело недоброе чувство. Он быстро осмотрел всех, кто стоял сейчас возле его конюшни. Дневной конюх, две девчонки, приходившие помогать убирать лошадей, Колька, один из его помощников… Все знакомые, все свои. Нет, опасности не было. И Сурмин обратил все внимание на Ласточку, выжидая момента, чтобы выпустить кобылу вперед.
Как раз в этот момент все и произошло. Ласточка снова закинулась в сторону, словно ее неожиданно и сильно ударили хлыстом. Сурмин натянул вожжи, но кобыла не слушалась и с хода, двумя задними ногами, ударила по качалке. Одна из оглобель сломалась, качалка накренилась. Удар был так силен, что Сурмина выбросило на землю. Обезумевшая Ласточка, волоча за собой сломанную качалку, кинулась поперек дорожки и налетела на ехавшего наездника Шорохова. Она буквально смяла его. Лошадь Шорохова от неожиданности дернулась, Шорохов упал, попав под ноги Ласточки, которая, в свою очередь, споткнулась и рухнула на землю.
* * *
Вечером того же дня, у себя дома, на кухне, сидел растерянный наездник Сурмин. Только что ему сообщили, что Шорохов без сознания лежит в реанимации. Ласточку с переломанными передними ногами отвезли на мясокомбинат в кузове машины. Сурмин сам помогал ее грузить, а потом довез до мясокомбината, придерживая на коленях голову, чтобы не било на выбоинах. Ласточка понимала, что обречена, и взгляд ее преследовал сейчас наездника, не давая успокоиться.
Что-то во всем этом, происшедшем на дорожке, было не так. Ласточка дважды «подхватывала» на одном и том же месте, причем без видимого повода. Да и вела она себя, словно была смертельно напугана.
Еще в кузове машины он обратил внимание на два кровавых желвака на боку лошади, машинально пощупал их пальцем. И сейчас вдруг понял: это следы от пуль — или от резиновых пуль, или от пневматического ружья. Кто-то стрелял в Ласточку, судя по всему, с чердака его конюшни.
Стрелять могли в одном случае — чтобы не дать им с Ласточкой выиграть. Вряд ли это была месть ему. Все проще. Кто-то «зарядил» большие деньги против Ласточки и наверняка получил очень большой куш, который всегда бывает, если не приходит фаворит. «Хотя нет, о чем это я? — подумал наездник. — Какой куш? Заезд был остановлен, афера не прошла».
Мысли эти не давали Сурмину уснуть до самого утра. На конюшне он появился с восходом солнца, обошел вокруг, потрогал дверь, разбудив своими действиями спавшего в сбруйнике конюха Рудакова, который снова долго прислушивался к шагам и шорохам и наконец прошептал пересохшим от волнения ртом:
— Вторую ночь, прости Господи, все что-то чудится. Вчера треск стоял над головой, что побелка просыпалась, сегодня вроде бы шаги у самых ворот. Нет, не дело так лаяться с женой. Не дело. Того и гляди, летающие тарелки привидятся. На Кривую версту еще угодишь.
Сурмин искал на дорожке и в траве пульки, которыми могли стрелять по Ласточке. Но ничего не нашел. Посмотрел на крышу конюшни, где имелось слуховое окошко, обращенное к дорожке. На его памяти оно всегда было застеклено, сейчас стекло из нижнего переплета рамы кто-то выставил.
Сурмин принес от соседней конюшни лестницу, приставил ее к чердаку и забрался наверх. Чердак представлял собой склад старых вещей: сломанных качалок, колес, конской сбруи, мешков и ларей для овса; все это хозяйство покрывал нетронутый месяцами слой пыли.
Сурмин сразу же увидел то, что искал и о чем он подумал, как ни дика сама по себе была эта мысль, во время ночной бессонницы. Прямо от входа, в глубь чердака, вела цепочка свежих следов. Совсем недавно кто-то был на чердаке, и наездник все яснее догадывался, с какой целью. Поминутно спотыкаясь, он двинулся вперед, стараясь не наступать на следы неизвестного. Следы оборвались у слухового окошка. Рядом валялись окурки, смятая пачка сигарет и пустая бутылка из-под вина. Сурмин присел и покачал головой. Вот, значит, откуда пришла смерть к Ласточке…
Неожиданно он насторожился. Кто-то, скрипя лестницей, забирался на чердак конюшни. Сурмин среагировал моментально: отпрянул в сторону, спрятавшись за качалкой и лежа на боку, достал из кармана брюк перочинный нож. Он напряженно вглядывался и ждал. Наконец в чердачном проеме показалась рука, державшая топор, потом зимняя шапка и испуганная физиономия ночного конюха Рудакова.
Это действительно был конюх. Когда на чердаке снова послышался шум и с потолка посыпалась известка, стало ясно, что там творится неладное. И ничего на самом деле ему не чудится. Кто-то на самом деле там ходит.
«Это так он, шарабан, и до меня скоро доберется», — подумал Рудаков и зашарил вокруг в поисках топора.
Топор был найден возле печки, и конюх вышел в коридор. Он открыл ворота, увидел перед собой лестницу, ведущую на чердак, и, как ни был напуган, решил подняться, тем более что шумело где-то в глубине чердака и при случае всегда можно было успеть позвать на помощь. Держа топор над головой, конюх поднялся и тут услышал знакомый голос наездника:
— Семен Григорьевич, ты что, охотиться на меня собрался?
— Господи, что тут творится? — обрадовался Рудаков.
— Плохие дела творятся, пошли звонить в милицию, — ответил Сурмин, спускаясь по лестнице вниз.
* * *
В школе Федора Никифоровича Гусева звали Гусем или Гусем Лапчатым и часто били — за мелкую вредность. С тех пор прошло больше тридцати лет, и теперь все почтительно звали его по имени-отчеству, заглядывая при этом в глаза. Да, вести себя по отношению к Федору Никифоровичу непочтительно, не говоря уже о том, чтобы в шутку, как в детстве, назвать Гусем Лапчатым, никто более не смел. Иначе Гусев просто намекнул бы о неугодном своему телохранителю Зубру, а тот призвал бы своих опричников, знать которых Федор Никифорович не желал, и шутнику пришлось бы плохо.
Гусев считал себя человеком мягким и насилие не любил. Он понимал, конечно, что насилие неизбежно, как же иначе в современном мире, но всегда расстраивался, когда узнавал о чем-нибудь подобном. И еще он любил животных — кошек и собак, которые во множестве жили в его загородном доме, и в минуты расслабленного покоя с умилением наблюдал за их играми. По этой любви он мечтал купить еще двух лошадей — пускай тоже гуляют и играют во дворе.
Федор Никифорович вел крупные дела, поэтому и держал охрану. Каким умным, каким деловым, каким решительным он человеком был и так глупо влип с этой ипподромной историей! Из мелкого самолюбия влип, из-за игривой мальчишеской выходки!
Все имел в своей жизни Федор Никифорович. Казалось бы, что еще надо? Но еще имел он при своем высоком положении один непростительный грех — любил азартные игры. Не карты и рулетку. Куски картона и бегающий шарик его не интересовали. Мертвые предметы, покорные воле случая, они, мертвые, сушат мозг и развращают душу. По этой причине он и ходил на ипподром, делая ставки на живых лошадей. Копеечные выигрыши его не интересовали, но тут были нужны знания, опыт, интуиция, и каждая маленькая победа, каждый копеечный выигрыш добавляли ему уважения к себе и уверенности. Но в последнее время Гусеву не везло, что особенно его сердило, и причиной этому был наездник Сурмин. Он всегда выигрывал некстати, когда никто из ипподромных «жучков» победы от него не ждал, и расстраивал ставки Федора Никифоровича.
Тут-то и вспомнил Гусев о Микеше, ипподромном «жучке», бывшем в юности мелким спекулянтом и фарцовщиком, с которым познакомился несколько лет назад, когда сам еще летал невысоко.
— Микеша, — сказал он ему, — надо сделать так, чтобы в традиционном призе Сурмин не приехал на Ласточке первым.
— Трудно, Федор Никифорович. Ласточка там будет фаворитом, — ответил Микеша.
— А ты предложи ему, сколько попросит, чтобы лошадь придержал, — посоветовал Федор Никифорович.
— Не пойдет он на это, Сурмин-то, — покачал головой Микеша. — Большие призы у них принципиальные, между собой на принцип едут, кто лучше.
— Предложи побольше, я оплачу. У меня тоже принцип.
— А этот вообще, я слышал, не покупается, — авторитетно заявил Микеша. Он снова покачал головой, но, глянув на Федора Никифоровича, сразу же сник, пришмыгнул носом.
— Я тебя как друга пока прошу, сделай, что сказано, — так заявил Федор Никифорович этому соплюну и подумал: «Сделает, никуда не денется». — И еще прошу, без всякого насилия, чтобы все было тихо. Типи-топ.
И вот сделал, учудил, сукин сын! Не нашел ничего лучшего, как забраться ночью на чердак, прихватив с собой пневматическое ружье, и открыть во время заезда по Ласточке стрельбу. И дострелялся — человек попал в реанимацию, неизвестно, выживет ли. Хорошо, если все сойдет, а как раскрутят дело?! Быть беде.
На следующий день и пришла беда. К обеду Гусеву доложили, что на ипподроме побывали шерлоки, лазили на чердак, нашли якобы бутылку из-под вина с отпечатками пальцев.
Федор Никифорович сразу же после этого уехал на дачу с Зубром. Послал телохранителя готовить на кухне ужин, а сам остался в спальне и стал размышлять.
Ясно, как белый день, что подозрение падет на своих работников, знакомых с обстановкой, но, скорее всего, на «жучков», околачивающихся целыми выходными днями на ипподроме. Проверить их ничего не стоит, к тому же на бутылке есть отпечатки. Значит, на Микешу в скором времени выйдут, а он сдаст его: мол, Федор Никифорович приказали. А это означает только одно — соучастие в преступлении. И будет не отмазаться. В любом другом случает можно отмазаться, а за такое — нанесение тяжелых телесных повреждений — шалишь! Придется бросать все и собираться валить лес.
Тут Федор Никифорович представил себя в фуфайке, треухе и валенках, пробирающимся через сугробы на лесоповале и даже застонал от ужаса и негодования.
— Зубр! — крикнул он.
Появился телохранитель, что-то прожевывая.
— Слышишь, Зубр, ты Микешу знаешь, ипподромного тотошника?
Зубр кивнул и кончил жевать, поняв, что сейчас получит задание.
— Бери машину, Зубр, и найди его, он живет где-то на Рижском. Поспрашивай по дворам или загляни в пивные и распивочные, он любит там ошиваться. Найди и доставь ко мне. Как можно скорее.
Микеша был доставлен в загородный дом Федора Никифоровича с поразительной быстротой, только что не внесен Зубром на руках. Удовлетворенный Зубр тут же удалился, оставив Микешу один на один с хозяином.
— Знаешь ли ты, козел, какую кашу заварил и как будешь расхлебывать? — спросил Гусев ласковым голосом, который никак не вязался с тем, что было сказано.
— Так, Федор Никифорович, всего-то делов, наездники упали с лошадей, такое бывает.
— Наездники упали, верно, но один из них в больнице, может, и при смерти.
— Как в больнице, кто?
— Не Сурмин, а другой.
Микеша, оторванный от барной стойки и хотевший было почтительно намекнуть на свое неудовольствие по этому поводу, испуганно притих.
— Что же теперь будет?
— Не знаю, что будет, а знаю только, что милиция на ипподроме уже работает, по чердакам ползает, вещественные доказательства собирает и на нашего Микешеньку удавку мылит.
Не глядя больше на Микешу, Федор Никифорович устроился в кресле, показывая глубокое презрение к ипподромному «жучку», которому не только что предложить сесть — руки подать зазорно.
— Скажи спасибо, что я все продумал, — снова заговорил Гусев. — Уедешь завтра московским поездом, по дороге сойдешь и метнешься в сторону. Дальше — устроишься на работу в какую-нибудь неразборчивую фирму и будешь ждать лучших времен. Понял?
Микеша закивал головой, в глазах у него появилась тоска, лицо от волнения побледнело, а нос, наоборот, заалел и даже как бы засветился, словно лампочка радиоприемника в темноте.
— Адресок свой сообщишь Зубру на до востребования. Со мной никаких контактов, — продолжал Федор Никифорович. — В общем — утони, исчезни, захлопнись, смени вывеску, чтобы тебя ни одна фуражка не опознала.
Гусев подошел к сейфу, встроенному в шкаф, покрутил щелкающие колесики, открыл дверцу, и из-за спины хозяина Микеша увидел тугие пачки денег и коробочки, верно, с драгоценностями.
— На, друг Микеша, на первое время. — Он кинул на стол тонкую пачку. — И вали отсюда.
— Это, а как же мне обратно в город, кто довезет?
— На трамвайчике доедешь.
Вспыхнувшая было благодарность к хозяину за заботу и деньги сменилась обидой: Микеша насупился, поняв, что над ним насмехаются.
— Какие здесь трамваи — лес кругом.
— Значит, тогда пешочком, своими торопливыми ножками. Топ-топ, топ-топ — и дотопаешь.
Едва Микеша сгинул и лес накрыл его, Федор Никифорович снова вызвал Зубра.
— Вот что. Завтра Микеша едет на московском, пристрой к нему кого-нибудь из своих опричников, кого он в лицо не знает. Пусть следит. Так, знаешь, спокойнее.
* * *
Микешу трясло от страха. Пока добирался вечером до вокзала, десятки раз представлялось, как его арестовывают, крутят руки и выводят из автобуса. На такси он не поехал из бережливости: когда он теперь устроится на работу и устроится ли вообще, и надо беречь каждую копейку. Казалось, что все смотрят на него подозрительно, словно знают, кто он такой, что натворил и куда бежит, и это просто удивительно, что никто не указал на него пальцем и не крикнул звенящим от волнения голосом: «Вот жулик, хватайте его, братцы!»
Трясло его и в вагоне. По перрону ходили двое дежурных милиционеров и поглядывали на окна. Заметив их приближение, Микеша всякий раз отодвигался по скамье в глубь вагона. И только когда поезд тронулся с места, вздохнул с облегчением — никто его не задержал. И теперь, с каждым километром, он будет отдаляться от опасности. «Надо в Сибирь мотануться, — повеселевше думал он. — За тысячи километров никто не найдет. Отсижусь сначала где-нибудь поблизости, пускай все успокоится, и тогда мотанусь в эту самую Сибирь».
Ехал он, опять же из экономии, в плацкартном вагоне, рядом сидела старушка и разбитной парень с простоватым, добродушным лицом. Никогда бы не подумал Микеша, что этот парень следит за ним от самого дома. Когда Микеша покупал билет, парень стоял в стороне и бросился к кассе, едва он отошел.
— Девушка, выручай, — взмолился парень, — тут мой друг должен был покупать билет. Едем вместе, на вокзале потерялись, а в какой вагон у него билет — не знаю. У него еще такие глаза нахальные.
— Друзья называются, — проворчала кассирша, выбивая билет и подавая его парню. — Был такой только что, пятый вагон, десятое место.
Поезд вышел из города. Микеша начал уже дремать, сказывалось волнение последних суток, но тут его сосед парень взялся за дело: достал из сумки закуску, бутылку, потеснил бабушку и, вопросительно глянув на заколебавшегося было Микешу, налил и ему.
— Кстати, меня зовут Генкой, — признался он, когда выпили.
— Иннокентий, Микеша, точнее…
— А куда путь держишь? — спросил парень.
— В Калязин.
Микеша решил это уже в поезде, в Калязине он бывал когда-то.
— Ну ты даешь, — удивился парень, — не верю! А я знаешь куда? Тоже в Калязин! За это дело надо выпить еще.
Он налил по второй, и через час они стали приятелями, а через два — лучшими друзьями. Стоя в тамбуре вагона с другом Генкой, Микеша таинственно намекал, что работает на большого хозяина, и показывал деньги, которые тот дал ему на командировочные расходы. Потом Микеша заплакал и сообщил, что его ловит вся милиция — от Чукотки до Москвы.
— Со мной не пропадешь, — успокаивал Генка, — поедем в Саратов, там у меня кореша, они спрячут.
— Спасибо, друг, — благодарно обнимал его Микеша.
Ранним утром, очумевшие от бессонной ночи, они вышли в Твери и к обеду прибыли в Калязин. Пили три дня. Успокоительное забытье к утру рассеивалось, и проснувшегося Микешу снова начинало трясти от страха. По утрам он первым делом отправлял друга Генку в магазин. Денег у друга не было, и Микеша тратил свои, понимая, что скоро они закончатся и тогда совсем пропасть. Надо будет искать съемную квартиру, устраиваться на работу, показывать паспорт, и где-нибудь он засветится, привлечет к себе внимание.
— Когда в Саратов поедем, к корешам твоим? — спрашивал он Генку.
— Подожди чуток, я должен перевод на днях получить.
Денег от Зубра он действительно ждал, но главное было узнать, что делать дальше. Лишь на третий день Генка сумел попасть на почту и отбить телохранителю телеграмму.
* * *
Телеграмму эту Федор Никифорович ждал с нетерпением. Положение осложнялось катастрофически. Через своих людей он узнал, что подозрение окончательно пало на Микешу. К внезапно исчезнувшему Микеше приходили домой, напугав мать, и искали отпечатки его пальцев, сверяя их с найденными на бутылке. Было решено подавать в розыск.
Поэтому, когда Зубр принес с почты телеграмму, Федор Никифорович возрадовался: «Наконец-то, нашлась пропажа».
В телеграмме значилось:
«Дружба не разлей вода. Поселились вместе Калязин Тверской».
Федор Никифорович задумался, решая трудную задачу. Хотя о чем тут было думать? Лишь обманывать себя! Решение подспудно пришло в тот момент, когда он узнал, что следствие вышло на ипподромного «жучка». Микешу надо было убирать.
Принесший телеграмму Зубр невозмутимо стоял у дверей, ожидая распоряжений. Лицо у него было тяжелым и равнодушным. Гусев впервые взглянул на телохранителя с любопытством, подумал: «А чувствует этот амбал хоть что-нибудь?» Неожиданно его охватило раздражение к телохранителю и жалость к себе, мягкому человеку, любящему животных и не терпящему насилия и в силу обстоятельств вынужденному принимать тяжелое решение. Но с другой стороны, иного пути не было. «С волками жить — по-волчьи выть», — пришла в голову успокоительная мысль. Федор Никифорович умел себя успокоить.
— Ладно, — наконец сказал он, — пошли опричнику деньги и обратную телеграмму. Запоминай: «Дружбу бросай навсегда. Сделай другу строгий выговор. Возвращайся». И вот что еще, Зубр… Нет, иди.
Телохранитель взял со стола выложенные Гусевым деньги и направился к двери.
— Зубр, — остановил его Федор Никифорович. — Я подробностей знать не хочу. Но сделай все так, чтобы этот Микеша не мучился. Чтобы без крови и тому подобного.
Телохранитель замер на мгновение у дверей и, не оборачиваясь, кивнул.
* * *
— Микеша, слышь, вставай, — позвал Генка.
Микеша что-то пробубнил, нащупывая ногами кроссовки, и поднял опухшее лицо.
— Вот, получил перевод, — радостно известил тот. — Сейчас быстренько собираемся и едем в Саратов. Там кореша, одних не оставят.
Купили вина, и, как доехали до Москвы, Микеша помнил плохо. Пришел в себя только в астраханском поезде, идущем через Саратов. Москва была уже позади, за окном чернела ночь, поезд стремительно мчался сквозь лес, вагон раскачивало.
У Генки откуда-то взялся ключ. В тамбуре он открыл вагонную дверь, чтобы пустить свежего воздуха. Прикурил у Микеши и, когда тот повернулся к нему спиной, быстро и сильно, точно это была его обыденная работа, толкнул нового приятеля наружу. Отчаянный крик Микеши, заглушаемый ветром и стуком колес, звучал лишь мгновение. Выглянув из дверей, Генка увидел, что Микеша ударился о слабо освещенную вагонным светом насыпь головой и покатился под откос, в темноту. После этого Генка собрал свои и Микешины вещи и вышел на ближайшей станции.
До утра он просидел на маленьком вокзале, делая вид, что читает газету, потом отправился в город, добрался до ближайшего леска и закопал Микешины вещи. Перед этим нашел в вещах паспорт убитого им человека и довольно хмыкнул: тело, конечно, найдут, но опознать теперь вряд ли смогут. Зная, с каким нетерпением ждут от него известий, он, перед тем как вернуться, отбил телеграмму: «Выговор сделал. Выезжаю».
* * *
Тело Микеши опознали по отпечаткам пальцев. Федора Никифоровича задержали прямо на ипподромной трибуне, во время бегов. Проезжавший в это время в заезде наездник Сурмин мельком увидел, как, придерживая с двух сторон, Гусева ведут к воротам на выход.
Собачья жизнь
Джерри — охотничий пес, шотландский сеттер-гордон — даже в щенячем возрасте был похож на постаревшего, вышедшего из моды рок-музыканта, у которого давно облысел верх головы и от былого волосяного великолепия остались лишь букли, спадавшие по бокам до самых плеч. Свисающие по бокам волнистые уши Джерри напоминали эти букли, а голова, от глаз до затылка, была покрыта короткой шерсткой, похожей на обширную гладкую лысину, и всем, кто видел его, казалось, что в облике собаки не хватает гитары и что он вот-вот задерет голову, разинет пасть и выдаст плачуще-заунывную тираду: «Ава-ва-ва-вау».
Правда, в отличие от разуверившегося в проходящей славе, опустошенного рокера со следами пороков на измятом лице, выглядел Джерри свежо и радостно, с морды его не сходила улыбка, а глаза были полны веселого озорства, лукавства и восторга перед открывшейся удивительной жизнью.
Но это было давно. Ему шел уже одиннадцатый год, время собачей старости, но и теперь он был улыбчив. Только глаза становились все грустнее и печальнее. По человеческим меркам ему исполнилось лет семьдесят, и время он старался проводить в покое. Даже когда по утрам просыпались хозяева, он не вскакивал и не вертелся поблизости, продолжая лежать на коврике у кровати, приветствуя хозяев поднятием то одной брови, то другой и слабым стуком хвоста по полу.
Охотничий инстинкт был развит в нем слабо, все внимание его было направлено на жизнь хозяев, пожилой семейной пары, и не было большего счастья, чем осознание своего участия в общей с ними жизни. Поэтому и охоту — а он охотился с хозяином не раз на вальдшнепов и уток — он воспринимал как приятную, но не такую уж необходимую часть этой общей жизни. Так же воспринимал он прогулки по лесу за грибами и ягодами, поездки на машине на собачьи выставки в другие города и в деревню, где хозяева проводили по полгода.
В его жизни было несколько событий, поразивших его. Первое произошло, когда ему исполнилось шесть месяцев. Джерри вдруг осознал, что совсем не похож на хозяев, что он чужой. Его любили, но осознание, что ему никогда-никогда не стать таким, как люди, — высоким, ходящим на двух лапах и с голым безволосым лицом, так поразило его, что он в отчаянье замкнулся. Трагедия была велика и ужасна, и он переживал ее целый месяц, лежал расслабленно, гулять шел неохотно и почти ничего не ел.
— Не заболел ли Джерри? — озабоченно спрашивали друг у друга хозяева и подсовывали ему кусочки свежего мяса. Не вставая, Джерри из уважения подбирал угощение и снова со вздохом клал голову на лапы.
Вскоре его стали водить гулять на пустырь, облюбованный собачниками со всей округи. Выгуливали здесь почему-то одних овчарок. Приводили и маленьких собачек. Но к маленьким собачкам овчарки относились снисходительно-игриво, как к природному недоразумению или как к щенкам, и почти их не замечали.
Среди овчарок Джерри и вырос. К двум годам он превратился в крупного пса с широкой грудью, крепкими ногами и страшными в своей величине клыками. По силе и росту он не уступал овчаркам и в играх с ними, на грани озорства и ссоры, научился всем приемам собачьих драк. И тут случилось другое событие. Его выделила и взяла под свое покровительство взрослая овчарка Альма. Когда на Джерри, оскалившись, наступали другие собаки, она молнией летела на помощь и, сбив с ног одного, догоняла второго и катала его, визжащего от страха и боли, по всему пустырю. Считалось ли это дружбой или даже любовью, сказать трудно. Они были разных пород, служебная и охотничья собаки, и хозяева, конечно, не допустили бы, чтобы они имели потомство. Взрослая Альма, уже не раз щенившаяся, возможно, это понимала, и ее отношение к молодому Джерри, помимо дружбы и любви, было еще и материнской заботой. Стоило Джерри появиться на пустыре, как дальше они играли вместе, носясь бок о бок, и тоже катали друг друга в траве, только шутливо.
Альму приводили первой, и уходила с пустыря она раньше. Уходила неохотно, натягивая поводок, оборачиваясь к Джерри, который, казалось, напрочь забыв о подружке, уже весело прыгал вокруг хозяина, призывая поиграть и его.
Так было и в последний раз. На следующее утро ее почему-то не привели. В тот день только и было разговоров, что об Альме.
— Альму сбила машина, — передавали собачники друг другу новость. — Ночью попросилась на улицу, Дмитрии, хозяин, спустил с поводка, машин-то нет, а тут выскочил какой-то лихой таксист — и все, амба. Нет Альмы.
Джерри не понимал, о чем говорят, улавливал лишь общий унылый тон и знакомую кличку «Альма». Не было ее и на второй, и на третий день, и через неделю. И только много позже, связав эти унылые разговоры об Альме с ее отсутствием, Джерри вдруг осознал, что никогда ее не увидит. И неясное чувство потери впервые посетило его. Скучая, он бегал по пустырю от овчарки к овчарке, пытаясь найти среди них подружку, а то останавливался, вглядываясь в дом, откуда ее обычно приводили. Задувавший над пустырем ветер заворачивал Джерри длинное ухо, красневшее изнанкой, как рана на голове, и его неподвижная фигура выражала такое отчаяние и растерянность, что даже собачники, заметив, говорили:
— Скучает, видишь, совсем как человек.
Однажды хозяина долго не было дома (уехал в гости). По лицу хозяйки обеспокоившийся Джерри догадался, что ничего необычного не случилось, хозяин вернется, такое случалось и прежде. На прогулку его водила хозяйка. Гуляли они теперь не по заведенному порядку, в одни и те же часы утром и вечером, а как придется. И в этот раз пошли в обед, миновав пустырь, углубились далеко в поле, пока городские многоэтажки не стали казаться совсем маленькими.
Хозяйка ходила одна, нагибаясь, вырывала из земли какие-то цветы. Джерри бегал вдали, вынюхивая кротовые норы или замирал на месте, привычно подняв переднюю лапу, делал стойку перед затаившимися в траве птицами. На охоте в таких случаях он ждал, когда подойдет с ружьем хозяин, но сейчас хозяина не было, и он, не выдержав, сам бросался в траву на заполошно и шумно взлетавшую птицу, провожая ее разочарованным взглядом.
На прогулке все и случилось. Мирную картину нарушил неведомо откуда взявшийся бык — наверное, пришел, бросив свое стадо. Тоскуя, он ревел в поисках врага и рыл копытами землю. Увидев одинокую хозяйку, бык потрусил к ней, еще не зная, что будет делать.
Хозяйка повела себя суетливо: подбежала к одиноко стоящему дереву и даже попыталась на него забраться. Суетливость насторожила и обозлила быка, и с трусцы он перешел на бег. В этот момент большая черная с подпалинами собака напала на него сзади и вцепилась в ногу. Неуклюжий на первый взгляд, бык резко развернулся, сбрасывая нападавшего, и оторвавшийся от бычьей ноги Джерри кубарем покатился про траве.
Теперь бык обратил внимание и на собаку. Такого в его жизни еще не было. Никогда еще живущие в деревне и часто прибегавшие на ферму собаки не смели ему угрожать, а лишь трусливо отступали при его появлении или озлобленно лаяли издали. Сначала он не почувствовал боли от укуса, но вскоре возникло жжение поверх колена, и быка охватило бешенство.
Взрыв передними копытами землю и выставив рога, он пошел на обидчика. Джерри не тронулся с места. Задыхаясь от злобы и решительности, он зарычал, оскалив клыки, стараясь напугать противника. Он был готов сам атаковать его. Главное, что он уяснил для себя в собачьих играх и драках с овчарками, — стремительно налетев, сбить грудью, как тараном, соперника с ног, а затем насесть на опрокинутого сверху. Если бы Джерри так поступил, это были бы последние минуты его жизни. Силы были настолько неравны, что, даже ослепленный злобой и ненавистью, он вскоре это понял и вовремя бросился наутек.
Он со всех ног бежал к кустам, уводя быка от хозяйки, уже чувствуя, как трясется под ним земля от настигающего топота животного. Бык почти нагнал, но он метнулся в сторону, и полуторатонная туша по инерции пронеслась мимо, не в силах сразу остановиться. И еще не остановился, как в заднюю ляжку ему снова впились собачьи клыки. Укусив, Джерри отскочил, потом снова укусил. Животное завертелось на месте, стараясь поддеть надоедливого противника рогами и затоптать копытами. Джерри ловко ускользал, продолжая держаться сзади. Бык погнал было Джерри снова, но вдруг остановился, поняв, что отныне всякая попытка догнать будет грозить ему новыми укусами.
— Джерри, Джерри, ко мне! — кричала вышедшая из-за дерева хозяйка, боясь уже не столько за себя, сколько за собаку.
Из кустов появился пастух, что-то страшно крича и ругаясь, хлопая для устрашения кнутом. Это послужило для быка сигналом: он вдруг смирился и, огибая пастуха, направился к своему видневшемуся вдали стаду.
Это можно было расценить как отступление, и не пастух с кнутом, выскочивший в самый последний момент, а он, Джерри, прогнал врага, пытавшегося напасть на хозяйку. Это была его победа.
Собакам, как и людям, свойственно гордиться собой. Находясь еще в пылу недавнего сражения, он хотел последовать за быком, чтобы напасть и этим окончательно унизить его, утвердить свою победу. И только настойчивые крики хозяйки, звучащие приказом, заставили его вернуться…
В деревню, стоящую между рекой и лесом, хозяева переезжали с Джерри обычно в середине апреля. Бывало еще прохладно, под кустами в огороде и у сараев в тени лежали остатки грязного ноздреватого снега. Но лес был уже полон запахов, звенел от птичьих голосов, манил к себе, и Джерри первым делом убегал обследовать лесное пространство, которое считал своим.
В лесу, где каждый год все открывалось заново, взбудораженный Джерри бегал от дерева к дереву, от куста к кусту. Хозяин давно не охотился, и теперь он сам играл в охоту, улавливая волнующий его птичий и звериных дух, подолгу делал стойку, невольно поджидая хозяина с ружьем. И вдруг, вспомнив о хозяевах, беззащитно оставшихся дома одних, взбирался на пригорок, откуда была хорошо видна деревня и их дом. После случая с быком самой сильной заботой и желанием его было охранять хозяев.
В этот год они перебрались в деревню еще раньше, в конце марта, — хозяин задыхался в городе и ходил с трудом. На прогулке Джерри теперь приходилось останавливаться и ждать, пока его нагонят. Он наблюдал, как осторожно подходит к нему хозяин, словно несет в себе что-то ценное, что боязно расплескать или разбить. Когда-то он относился к такой неспешности со снисходительным терпением, а сейчас порой и сам не чувствовал в себе желания торопиться и чаще обычного ложился посреди прогулки отдыхать.
Сейчас в марте снега было больше, днем он таял в сугробах, пуская вокруг себя ручьи. На реке держался лед, над которым летали и встревоженно кричали галки и вороны. На этот раз Джерри не побежал осматривать окрестности, а остался во дворе. Он лежал на солнцепеке, притворно щурился, а на самом деле следил за передвижениями соседей, деревенскими собаками, прислушивался к беспокойному вороньему карканью, И соседи, и собаки, и даже вороны вызывали подозрение. Все, все вокруг могло угрожать хозяевам.
Ночевать он остался на крытой веранде. Дул пронизывающий ветер, звенели в оконных переплетах стекла, словно кто-то тонко стучался в них и скулил, просясь в тепло, на реке что-то ломалось, гремело и как будто глубоко вздыхало. И во всем этом Джерри опять чувствовал опасность. Он подходил и царапал дверь, чтобы встретить невидимого врага грудью.
На рассвете появился хозяин и выпустил его одного на улицу. Джерри отправился к реке, где по-прежнему ухало, гремело и вздыхало, и пораженно замер на берегу. Он никогда прежде не видел ледохода и не понимал, что происходит и с чем все можно сравнить. Вспомнился напавший на хозяйку бык, и было похоже, что бык, снова сметая все на своем пути, с треском и хрупом, как бы пробираясь сквозь ломающийся кустарник, бежит посреди реки прямо на него. Отдельные льдины, подталкиваемые сзади, уже лезли на берег, и недалек был момент, когда они доберутся до деревни и хозяйского дома.
Джерри бросился было наутек, собираясь повторить прежний прием. И когда ледоход поспешит за ним, напасть на врага сзади, а потом постараться увести его подальше от деревни. Взбежав на крутояр, он оглянулся. Но ледоход не преследовал его, продолжая двигаться в русле реки. Иногда льдины сталкивались и уходили одним краем под воду, а другой край в это время поднимался, показывая синевато-белый излом. На одной льдине Джерри увидел сломанные ледяным потоком остатки изгороди, а на другой сани с задранными вверх и словно трубящими в трубу оглоблями.
Враг не хотел его замечать. Чтобы обратить на себя внимание, он принялся бешено облаивать вылезшие льдины и не заметил, как подошел хозяин.
— Тихо, тихо, Джерри, — сказал он. — Это всего лишь ледоход, и бояться нечего.
Он взял собаку на поводок. Голос хозяина не выдавал волнения, и Джерри понял, что льды не опасны и не следует тратить на них силы.
Всходило мутное, сквозь сырой туман, солнце, и, как только поднялось над лесом, засверкала река, заблестели голые сучья деревьев, грязь на дороге, оплывшие сугробы, нежно и горько запахло весной, словно над землей пронесся радостный бесшумный крик. Хозяин и пес, ссутулясь и опустив головы, не замечая ничего вокруг, осторожно пошли к дому. Хозяин дорогой споткнулся, и Джерри, запутавшись в лапах, споткнулся, и через минуту они скрылись за дверью.
Облака и тучи
В мае начинают выпасать скот. После душного, глубоко унавоженного хлева даже степенные коровы выходят на волю торопливо; овцы бестолково толкутся, блеют и бегут улицей, то обгоняя коров, то оставаясь позади. Потом все стадо рассыпается по полю. Овцы издали кажутся белыми комочками, а у степенных коров черно-пестрой породы один бок черный, словно ночь, а другой белый, как день, и можно надеяться, что в это солнечное утро коровы совсем побелеют.
Стадо пасет пастух Матвей, а в подпаски к нему, следуя очередности, определен Колька Гусев. Колька ходит по полю с кнутом. Кнут у него такой длины, что конец его теряется вдалеке и по траве за мальчиком нескончаемо тянется извилистый, точно от ползущей змеи, след.
Колька — двоечник. В школу сегодня идти не надо, и пастьба для него истинный праздник. Ему хочется похлопать кнутом, но одолевают заботы. Учительница отпустила его с условием, что он решит задачки, и отметила в учебнике, что надо сделать к завтрему.
Вспомнив о задании, мальчик честно пытается заняться этим неприятным делом. Сев под березу, он напряженно глядит в учебник, шевелит губами. Вскоре перед глазами плывут солнечные круги, все путается, и одна задачка, как облако, вдруг наплывает на другую, строчки перемешиваются. И как Колька ни старается, ему не понять, за сколько времени наполнится водой бассейн, если в одиннадцать часов из пункта А выехал автомобиль, а в двенадцать ему навстречу из пункта Б — поезд.
— Дядька Матвей, помоги, — просит он пастуха, который поблизости разжигает костер, чтобы напечь к обеду картошки, и зачитывает условия задачи.
Пастух поворачивает раскрасневшееся от огня лицо:
— Что тут думать! Отыми от большего меньшее, от двенадцати одиннадцать, получится один. За один час, комолый, твой бассейн и наполнится.
«И то правда», — думает Колька, пораженный таким простым решением. Первая задача выполнена, со временем так же легко решатся и остальные, надо лишь не забывать отнимать и прибавлять.
Теперь можно и отдохнуть. Колька ложится в траву и смотрит в небо на облака. Еще вчера было пасмурно, и, когда он сидел на уроке, такая скука, такая тоска охватила его от увиденного за окном. По небу скользили низкие дождевые тучи. Плоские, как половики, они цветом напоминали закопченные донышки чайников. Куда они спешили, где собирались закончить свой путь и, если существует такая земля, какой неприветливой она должна быть?
Сегодня облака величественные. Они могуче клубятся в пронизанной солнцем вышине, словно ворочаются с боку на бок, пытаясь поудобнее улечься, и похожи то на вознесшийся столб, то на пирамиду, то на снежную лавину, застывшую в падении, как на фотографии. За такими облаками можно наблюдать долго, и они не изменят положения. Но не успел мальчик отвлечься на минуту, чтобы взглянуть на разгоревшийся костер и сидящего у огня Матвея, как облако-пирамида и облако-лавина куда-то исчезли, а на смену им пришло что-то удивительно напоминающее скачущую лошадь.
— Колька, протри глаза, коровы к шоссе уходят, — всполошился пастух. Сам он от старости уже не может быстро ходить, для таких дел и нужен подпасок.
Колька бежит к стаду и на ходу, стараясь придать себе суровый, угрожающий вид, кричит:
— Куда, куда, бестолковые?!
При этом он пытается хлопнуть кнутом, но намокший в росе ременной жгут не может ни взлететь, ни хлопнуть, только по всей его длине проходит беспомощная волна. Но и этого достаточно, чтобы передние коровы повернули обратно.
Колька остается на шоссе в надежде увидеть вблизи иностранную машину, какие обычно показывают в кино. Он стоит долго, пока над дальним холмом не вырастает облако и холм сразу становится похож на дымящийся Везувий. Иностранные машины так и не появляются. Проезжает колесный трактор и два грузовика с разболтанными, грохочущими бортами.
— Колька… ди… дать, — зовет его обедать пастух Матвей.
Картошка уже выкачена из прогоревшего костра и, остывая, лежит на расстеленной газете. Мать приготовила мальчику с собой обед, но он ни в какое сравнение не идет с печеной картошкой, которую надо сначала покатать в ладонях, потом разломить, посыпать солью, подуть и, дуя, обкусывать по краям, пачкая губы и запивая из горлышка молоком.
В полдень уже совсем жарко, утренняя свежесть прошла, роса обсохла, солнце припекает затылок. Наевшийся Колька ложится в траву, чтобы снова смотреть в небо, и незаметно засыпает. А когда просыпается и открывает глаза, первым делом видит, что на небе произошли изменения. На смену высоким облакам появляется разлохмаченная грозовая туча. Она идет стороной, в развевающихся одеждах, и, когда оттуда выскальзывают молнии, кажется, что это она помогает себе при ходьбе костыльком.
— Ох и вольет же сейчас, дядька Матвей, — радуется мальчик. И тут же с грустью представляет, что дождем намочит учебник с задачами, о которых он совсем забыл, и учебник разбухнет. И когда завтра придет в школу, учительница строго скажет ему голосом Матвея: «Ты что это, комолый, вместе с учебником в бассейне купался?» — и все в классе будут привычно над ним смеяться.
Матвей тоже внимательно смотрит на грозовую тучу.
— Не будет дождя, туча нас обогнет. Пойдет прямо на Подсевы или Порхов, — говорит он уверенно, словно ему лично знакомы все тучи и все грозы в округе, а может, и действительно знакомы.
Вечером стадо ведут домой. Коровы все как одна повернулись к пастуху и подпаску черными боками, словно говоря, что скоро наступит ночь. Но Матвей с Колькой и без них это знают. Высоко над головой, озаренные закатным солнцем, снова громоздятся облака, и только по горизонту, откуда и дует теперь ветер, быстро надвигаются черные тучи.
— Ветер сменился, — говорит Матвей, — быть к ночи грозе.
И гроза случается. Темнеет раньше обычного, и, когда Колька выглядывает в окно, из приблизившейся тучи сверкают молнии, словно она теперь не опирается на посошок, а подсвечивает себе в темноте дорогу фонариком. После этого долго грохочет, как бы откашливаясь, гром.
Колька вспоминает дневную грозу, обошедшую их стороной, вспоминает коров, один бок которых белый, а другой черный, картошку, облако над холмом, похожим на Везувий, и вдруг до него доходит отчаянная мысль, что задачки он так и не решил и завтра наверняка получит двойку. Дождь обрушивается на село, когда мальчик лежит в постели. И последнее, о чем он думает, засыпая, — что это и не ливень вовсе, а хлещет, переливаясь через край, из переполненного бассейна вода.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ
Юрий Куранов
Внешне Куранов совсем не напоминал лирического писателя: коренастый, с небольшой головой, с быстрым цепким взглядом и такой же подвижной, ловкой фигурой, словно бы готовой к действию, он скорее походил на борца, вышедшего на помост. Был решителен и быстр в поступках. Врожденными или приобретенными в детстве были эти качества? Чтобы придать себе «лиричности», для первой книги сфотографировался с задумчиво склоненной набок головой.
Он неохотно говорил о своем детстве. Родился в Ленинграде в семье художников, искусствоведов, вырос в Сибири с бабушкой и дедушкой. Когда началась война, ему исполнилось десять лет. В этом возрасте пережил одиночество, драки с местными ребятами, а потом еще долгие годы вел борьбу «за место под солнцем».
Отец, заместитель директора Эрмитажа, был репрессирован. С отцом, после Соловков жившим на свободном поселении в Норильске, он увидится еще школьником. С мамой, вышедшей замуж за ученого, встретится много позже, когда уже поступит в Московский университет.
— Не хотел появляться перед ней босяком, — объяснял он.
Все-таки странно, что Куранов не пришел к матери раньше. Странной, скупой на чувства была их встреча (пишу со слов Юрия Николаевича; возможно, все происходило иначе). Они обнялись на кухне, потом мать подтолкнула сына к двери: «Иди в комнату, я сейчас обед принесу. Только ничему там не удивляйся».
— Захожу в комнату, — посмеивался Куранов, — сидит на шкафу, свесив ноги, старичок, глаза озорные, хитрые, ловит на себе «зеленых человечков» и сбрасывает вниз.
— Ты Юра?
— Юра.
— Тогда давай помогай, мне одному не управиться.
А когда мама принесла обед, и это особенно веселило Куранова, мамин муж ловко соскочил со шкафа и как ни в чем ни бывало уселся за стол, потянулся к графинчику.
— Он не пил всю жизнь, — восхищался Юрий Николаевич, — а к старости расслабился, стал зашибать. Его мучило, что он не выпил своей нормы. Все выпили — а он нет. Так и говорил: вот выполню норму быстрыми темпами за два года и завяжу. И через два года, день в день, завязал. Удивительный характер.
Студентом он писал стихи, носил по редакциям газет и журналов, томился в редакционных коридорах с такими же начинающими и иногда был в числе счастливцев, стоявших здесь же за получением гонорара. Московский университет он не окончил. Поступил во ВГИК, но и сценаристом не стал, пребывая в столичной богемной среде, ночуя по общежитиям и у случайных знакомых, встречая дни в чужих домах. В Москве он прожил в общей сложности лет шесть-семь, понял, что это не его, и уехал в поисках своего в деревню, в село Пыщуг Костромской области.
Почти все писавшие о Куранове начинали его биографию с Пыщуга. Это и понятно. Здесь он обрел себя как писатель, однажды написав мелким, летящим своим почерком начало первого рассказа: «Полет от железнодорожной станции Шарья до районного села Пыщуг похож на прыжок кузнечика. Самолет разбежался, оттолкнулся, пролетел двадцать километров над лесами, густо обступившими золотые от солнца поляны, пролетел вдоль Ветлуги и мягко ткнулся в широкий луг сельского аэродрома».
Дальше последовали «Ласточкин взгляд», маленькие рассказы и миниатюры, собранные в цикл «Лето на севере», который с восторгом прочитал Паустовский и одобрил Твардовский, напечатав в своем «Новом мире». Превращение его в писателя было почти мгновенным, и успеха он добился сразу. Произошло то редкое совпадение, когда первая крупная публикация, первая книга, сразу же завоевывает читателя и критиков, и с этой первой книгой потом будут сравнивать все последующие.
На фотографии Куранов даже тридцатилетним выглядел очень молодо. Но теперь уже ничто не напоминало в нем сомневающегося юношу, беспокойно бегающего по московским редакциям. Он уже окончательно поверил в свои возможности. Об этом можно судить по тому, что, когда Твардовский предложил убрать несколько слабых, по его мнению, рассказов, Куранов отказался. Сказал: или все печатайте, или ничего. Сколько бы молодых писателей рискнуло из-за такой «малости» отказаться от публикации? И где — в популярнейшем «Новом мире», само появление в котором делало автора заметным! Он и позже не позволял себя сокращать и править, тем более что при такой изобразительности сделать это было почти невозможно. Писатель Владимир Крупин, в молодости редактировавший одну из книг Куранова, говорил через пятнадцать лет:
— Ваш Куранов пишет так, что можно голову сломать. Никак не мог выбраться из его длинных предложений. Но хорошо пишет, сегодня в России такого образного языка ни у кого нет.
«Длинные предложения» — это уже зрелый Куранов. В молодости он писал проще, яснее, прозрачнее. В Пыщуге женился на пыщуганке Зое, Зое Алексеевне, племяннице художника Алексея Козлова, по-северному белолицей и русоволосой, в маленьких веснушках, которые, казалось, прыгали по лицу от каждой ее улыбки. Их там было трое друзей — Алексей Козлов, Куранов и артист художественной самодеятельности, сельский культработник Саша Худяков. Потом они разъедутся. Козлов вернется в Москву, где жил в выходившей окнами на Кремль комнате, заставленной картинами в четыре ряда, и, болея, будет все реже и реже навещать родной Пыщуг, Куранов переедет в Псков, Худяков последует за ним.
В Пскове Куранов появился в конце шестидесятых годов. Молодой критик Валентин Курбатов, встречая его на вокзале, слегка дурачась, но искренне воскликнул: «Я читаю только двух современных писателей — Юрия Казакова и Юрия Куранова. Позвольте, Юрий Николаевич, донести вас до дома на руках».
Куранов приехал с намерением писать новое. Он не раз говорил, что устал от лирических рассказов и миниатюр, боялся начать повторяться. Но, приехав, привычно написал о Пскове несколько циклов миниатюр, маленькую повесть о Пушкиногорье «Звучность леса», которую жена Куранова Зоя Алексеевна называла «Юриной лебединой песней».
К тому времени в селе Глубокое у него появилась «творческая дача» — дом, точнее, хозяйственная постройка из усадьбы графа Гейдена. Самой графской усадьбы, конечно, не было, но постройка сохранилась и имела вид внушительный — двухэтажное здание на берегу озера Глубокое, сложенное из огромного гранитного булыжника.
В Глубокое, особенно летом, к нему наезжали гости из Пскова, Москвы. Я тоже часто бывал, жил порой по неделе. Тогда Куранов выделял мне комнату, говорил: «Пиши, не сиди без дела». Но вокруг было слишком много интересного, чтобы заниматься писаниями. Помню, в первый приезд он повел меня в лес, а оттуда мы направились к Валентину Курбатову, жившему со своей супругой в старой, вросшей в землю баньке, замшелостью похожей на медвежью берлогу, и я был так поражен необычайностью всего происходящего, что, когда в дверях показался согнувшийся Валентин Яковлевич, раздетый по пояс, белотелый и худощавый, меня постигло разочарование, что он не похож на медведя.
В псковской квартире Куранов писал за большим столом, стоявшим у окна, в Глубоком — в кабинете на втором этаже, тоже у окна, только распахнутом на озеро. Написав страничку, спускался с крыльца отдохнуть, выгибая занемевшую спину, поводя плечами, шел к озеру, до которого было рукой подать. В Глубоком он особенно много работал: рисовал акварелью на картоне окрестные пейзажи, леса и холмы, восходы и закаты, ночное озеро, звездное небо — все тонкое, прозрачное, словно бы зависшее в воздухе.
Здесь он начал писать новое, вызвавшее у многих недоумение, — социальные, проблемные романы из колхозной жизни. Эта «социальность» особенно и смущала. Но он своей работой гордился, все время был оживлен, весел, добродушен, озорничая, часто вспоминал Льва Малякова, тоже писавшего о сельских жителях:
— У меня будет другое, я пишу не только ради денег. А Льва выведу у себя отрицательным героем, этаким душителем новых идей.
Именно в то время у него вошло в привычку писать, поставив на проигрыватель пластинку с музыкой Вивальди. Это настраивает на внутренний ритм, говорил он, и все в доме знали, когда Юрий Николаевич работает, а когда нет. Но вот что мне тогда нравилось, а сейчас вызывает сомнение, даже неприятие, так это еще одно «озорничание» Куранова: имена и фамилии для персонажей своего первого романа он находил на местном кладбище — ходил между могилок и выбирал понравившиеся. Фамилию для прототипа Льва Ивановича Малякова выбрал там же.
Все, что окружало Куранова в Глубоком, казалось изысканным, может быть, даже чрезмерно, словно он неосознанно подчинял свою жизнь своим же рассказам. Особенный дом, похожий на средневековый замок или крепостную башню, особенное своей глубиной в семьдесят метров озеро, вечерние звуки музыки Вивальди, далеко разносившиеся над водной гладью, хорошо слышимые в селе, где уже устало ложатся спать. А над всем этим — высоченная трансляционная вышка, отражавшаяся ночами в озере малиновыми огоньками, как что-то чужеродное, наподобие космического корабля пришельцев-инопланетян. Сколько раз он упоминал эту вышку в прозе, как часто изображал на акварелях и однажды сказал: «Представляешь, что случилось бы с Александром Македонским, увидь он перед собой такую громадину в огнях? Наверное, умер бы от ужаса».
Но сам жил в простоте. В доме, помнится, почти не было мебели, кроме лежаков, топчанов и столов, сколоченных из досок местными плотниками. И если отсутствовала рядом Зоя Алексеевна, питался чем придется, не очень заботясь о вкусе. Однажды осенью мы оказались в Глубоком одни, жена уехала в Псков, все, что оставила нам, мы подъели в первые дни. В магазин Куранов не пошел, привычно уверяя, что продукты там страшно вредны для здоровья, и дальше мы питались грибами подосиновиками, из которых варили похлебку, черпая это варево ложками прямо с черным бульоном, причем Куранов повторял, что это настоящая, полезная еда.
* * *
Я не застал Юрия Николаевича выпивающим, познакомился с ним вскоре после школы, примерно через год, когда он в один день, разом, кончил выпивать, совершив то, что когда-то совершил мамин муж-ученый, так восхитивший его своим поступком. Он вообще часто восхищался людьми, чем-то его поразившими, не похожими на других. Помню его рассказ о молодом прозаике Олеге Калкине, работавшем тогда учителем в сельской школе:
— Осень, летят листья по ветру, деревянная школа на холме, дети идут на уроки. Представляю, как Калкин идет вслед за ними сквозь листву с портфелем. Вечером — ранние сумерки, он сидит у себя в комнате, проверяет тетради, поглядывает за окно, а там уже загораются в домах огни, мальчишки подпалили в полях картофельную ботву, дымом пахнет. Хорошо.
Восхищался и Курбатовым:
— Все думают, что он несерьезный, разгильдяй. А он-то как раз и не разгильдяй. Работает над собой каждый день, читает беспрерывно, знания огромны. Быстрее всех добьется успеха. Я, например, многое уже забываю, а он все прочитанное заносит на карточки, у него целая картотека, очень помогает в работе.
Однажды я рассказал, единственно с целью произвести впечатление, выделиться, как меня водил, путал по лесу «нечистый». Шел за ним с полчаса по чащобе, по холмам и низинам, пока не уловил краем сознания неладное. И как только уловил, тот, кто водил меня, виделся впереди неясной фигурой, вдруг засмеялся и исчез, а я бросился обратно, почему-то через минуту уже опять очутился на дороге, с которой начал путь, и с облегчением увидел сквозь кусты огни деревни.
Юрий Николаевич был счастлив.
— Зоя, Зоя! — закричал он жене. — Зайди послушай, что рассказывает Володя. Володя, расскажи. А что, так, наверное, и было. Даже уверен, что так и было.
В пылу воспоминаний он порой и сам удивлял слушателя, как правило, историями из недавнего прошлого.
— Выпивали однажды с поэтом Цыбиным. В магазине водки не было, одно сухое вино. Помялись, взяли вина, потом, рисуясь друг перед другом, вылили все в ведро, сидим на кроватях, черпаем кружками — ни в одном глазу. Снова взяли, снова вылили и вычерпали — опять ничего. Два ведра — и ничего. С тех пор я сухое не люблю. А водки мог выпить за день семь бутылок. — И смотрел на слушателя с веселым вызовом, проверяя, верят ему или нет. Обычно не верили. — Серьезно, в течение дня и с закуской семь бутылок.
Он не был ханжой, какими обычно становятся закончившие пить и осуждающие прежних своих собутыльников. Если вдруг посреди разговоров затевалось застолье, вставал с понимающей улыбкой и, бросив на стол какой-то прощальный, сожалеющий взгляд, замечал: «Вы пообщайтесь без меня, дело хорошее, а я пошел».
Не раз убеждал меня почаще бывать в Москве, говорил, что хорошо бы поступить куда-нибудь учиться, хоть ненадолго.
— Так я бываю.
— Бывать мало, нужно общение.
И как-то летом, наверное с целью «общения», взял меня с собой в Боровичи на съемки документального фильма по своему сценарию о местном поэте-пастухе. Фамилию поэта я сегодня забыл, но две строки из его стихотворения помню: «…как гусенком краснолапым, по деревне бродит листопад». «Строки, достойные Есенина», — заявлял Куранов, и эти строки, возможно, подвигли его к написанию сценария.
Ехал я взволнованным, ожидая встречи с новым, незнакомым. Вышли мы из вагона на рассвете, город еще спал, голосили петухи по сараям, завидев хозяек с подойниками, мычали коровы, казалось, что плывущий по улицам туман скопился от парного коровьего молока.
Московская съемочная группа находилась уже на месте, ждала Куранова в гостинице. Юрий Николаевич благодушествовал все утро, пока не увиделся с москвичами. Помню, как был удивлен несоответствием своего представления о людях кино и тем, что сказал после встречи о режиссере Куранов:
— Типичный хлюст. Водка и бабы, ничего его больше не интересует. Боюсь, завалит фильм.
Режиссер разозлил Куранова, губы его, от природы тонкие, были сжаты в нитку. А когда на следующий день начались съемки, он, удивляя еще больше, все взял в свои руки, распоряжаясь за режиссера, покорно ходившего по пятам, сам выбирал натуру, указывал место, где встать оператору, куда пойти и откуда выйти герою фильма, поэту-пастуху, оказавшемуся, к великому сожалению Куранова, к тому времени уже не пастухом, а пенсионером. И так подавил съемочную группу — своей решимостью, властным поведением, что молодые вообще-то ребята смотрели на него, включая шофера, с почтительным испугом.
Жили мы в одном номере. В первый же день, вспомнив о своей любви к натуральной, здоровой пище, он потребовал:
— В столовку ходить не будем, там вся еда отравленная, особенно котлеты.
После этого каждое утро отправлялся на местный рынок, покупал сетку помидоров, огурцов, зелени, которые саморучно крошил в огромное блюдо, заправляя растительным маслом… Терпел я недолго. Тем же вечером, под видом прогулки по городу, прямиком направился в столовую и до отвала наелся отравленных котлет, повторяя прогулки целую неделю.
* * *
Думал ли он о себе как о большом писателе, ставил ли в один ряд с такими современниками, как Юрий Казаков, Василий Белов, Евгений Носов, которых высоко ценил? Скорее всего, не думал и не ставил. И потом, у него было свое, отличное от них, свое, в чем он достиг редкого мастерства.
Как-то сказал, без грусти, как о само собой разумеющемся:
— Пройдет лет пятьдесят, и меня забудут, перестанут читать.
Потом, подумав, добавил:
— Даже пятидесяти не пройдет, как забудут.
Было это сказано в Глубоком, на берегу озера, в 1973 году. Прошло почти сорок лет — Куранова помнят, читают, хотя и немногие, но мало читали и в годы известности.
* * *
Куранов в то время писал воспоминания, скорее наброски, о встречах с Твардовским, Паустовским, давал почитать. Одна фраза почему-то запомнилась почти дословно: «Твардовский сидел на диване, закинув ногу на ногу, и из брюк были видны белые носки». Не тогда ли сидел Твардовский, уговаривая молодого писателя убрать из «Лета на севере» несколько рассказов, а Куранов, наклонясь вперед, как всегда поступал в решительные минуты, отказывался: «Или все печатайте, или ничего»?
* * *
Однажды в Глубоком, был уже поздний вечер, в дверь дома постучали. Хлестал мелкий дождь с ветром, заливал окна. Юрий Николаевич пошел открывать и вернулся на кухню с закутанной в плащ женщиной, лет около сорока, красивой, несмотря на мокрый вид, той породной красотой, которая созревает в женщине только с возрастом. Оказалось, что она — знакомая молодости Куранова. Скрывая смущение, обрадованный и растерянный одновременно, он помог снять плащ, подсунул теплые тапки и, пока гостья пила чай, сидел рядом и удивлялся, как смогла она пройти по темному лесу десять километров, спрашивал, что пережила, когда на полпути заморосил дождь и обозначавшаяся над дорогой полоса неба закрылась окончательно, не стало видно даже тусклого блеска луж впереди.
— Я не пугливая, — смеялась гостья.
На следующий день, когда она ушла гулять под дождем вдоль озера, объяснил:
— Мы с Козловым когда-то ухаживали за ней, особенной Алексей. Ходили следом, как два оруженосца, она только смеялась. А потом — хлоп, вышла замуж и уехала из города. Зачем мы были ей нужны, нищие, не определившиеся в жизни? Сейчас едет к Козлову в Москву, все утро расспрашивала о нем, сказал: живет одиноко с детьми.
Потом попросил, раз все равно собираюсь домой, помочь добраться гостье до Пскова. Помог, посадил на поезд, а когда через год был у Козлова, все искал в его квартире присутствие женщины, не нашел, хотел спросить, состоялась ли их встреча, но постеснялся.
* * *
Среди любимых писателей Юрия Николаевича были японцы — Кавабата, Акутагава, средневековая поэтесса Сэй Сенагон, оказавшая на него в самом начале заметное влияние. Один раз, как большую ценность, достал из ящика стола папку и показал листки с ее стихотворениями в прозе, перепечатанные, видимо, из какого-то журнала. Листки выглядели уже пожелтевшими.
Это признание и любовь к японцам позволили поэту Игорю Григорьеву заявить:
— Он не русский писатель, а японец. Проза холодная и красивая, как морозные узоры на окне.
Игорь Николаевич приветствовал приезд Куранова в Псков, хвалил и зачитывался его рассказами, а сказал так уже после их ссоры. И еще говорил с вызовом:
— Только и слышишь от всех: Куранова перевели на французский, на английский, на албанский, на какой-то еще, ногу сломишь, язык. Тогда меня еще больше где перевели. Мои стихи печатались в советской бабе!
Игорь Николаевич говорил о журнале «Советская женщина», переводившемся и распространявшемся во многих странах.
Куранова перевели на иностранные языки после публикации в «Новом мире». Переводили и потом. А вот отдельная зарубежная книга в то время вышла лишь в Польше, куда он часто ездил, любил эту страну и писал о ней. Книга была довольно объемистой, в бумажном переплете. Куранов листал ее, пытаясь вчитываться, польщенно посмеивался: «Ничего не понимаю, может, они там все перепутали».
* * *
А вот мнение Куранова о Игоре Григорьеве:
— Все-таки он настоящий поэт. Не плати ему ни копейки, все равно писать станет. Лев Маляков другой, этот бесплатно ручки не возьмет, строчки не напишет. Предложи ему денег, чтобы не писал, — и не будет.
Куранов ошибался. Судя по тому, сколько сегодня людей пишет без всяких денег, Лев Иванович тоже писал бы.
* * *
В прозе Куранова не найти неточного слова, образа, метафоры, к слову он был внимателен, как, наверное, уже никто не будет. Говорил: нельзя писать «золотой луч солнца» или «свет алмазных звезд». Как луч — так золотой, как звезда — алмаз. Тысяча раз написано, миллион. Всегда можно найти замену «золотому лучу», хотя бы так: «Взошло солнце, и поле поспевающей ржи озарилось ласковым, колышущимся на ветру светом». И еще утверждал: литератор не должен работать в газете профессионально, в крайнем случае не больше двух лет, — иначе испортит язык, станет мыслить и писать штампами, вроде «золотого луча».
Возможно, ему не нравилось собственное имя. Он не раз настойчиво возвращался к этой теме, говоря, что Юрий — производное от имени Георгий и на самом деле его зовут Георгий.
* * *
В моей памяти он остался доброжелательным человеком, каким, скорее всего, в жизни был не всегда. Перед его отъездом из Пскова мы совершенно случайно встретились на окраине города, среди новостроек. Только что прошел сильный дождь, все вокруг залило водой, из всех щелей вылезла грязь, а он стоял в новеньком костюме, в высоких шнурованных ботинках, выглядел во всем чистом посреди грязи немного комично, похожим на иностранца из кино, ни одного пятнышка не было на его обуви и одежде.
Выглядел он очень озабоченным, приезжал сюда по каким-то делам. Заметив мой удивленный взгляд, сказал, имея в виду костюм: «Это я из Польши привез». И добавил: «На днях переезжаю в Светлогорск. Давай прощаться».
Поговорили немного — и разошлись, почти как посторонние, точно и не было между нами нескольких лет назад душевного понимания, и это торопливое расставание до сих пор меня мучает.
* * *
Живя в последние годы в городе Светлогорске Калининградской области, писал и духовные стихи под псевдонимом Георгий Гурей. Тогда же им было сказано: «Я убежден, что творчество художественное, литературное — это тупиковая дорога, дорога в никуда. Прелесть, соблазн — так это называется на богословском языке. Осознав, я не хочу дальше этим заниматься, множить правдоподобную ложь…»
Для начинающих, молодых литераторов, жаждущих признания, славы, собственных книг, эти слова покажутся ужасными. Но с возрастом многие писатели понимают, сколько здесь правды. «Прелесть, соблазн, дорога в никуда».
Евгений Борисов
Из псковских поэтов, родившихся в тридцатые годы, Евгений Борисов был самым старшим — и по возрасту, и по жизненному опыту.
Если других по малолетству война как-то обошла и из тех лютых лет они мало что запомнили, пребывая еще под материнской опекой и защитой, Борисов испытал все сполна. Судьба и позже испытывала его. В какие только глубины он не опрокидывался и с каким трудом потом выбирался! Но ведь выбирался. Поэтическая его судьба тоже была одинаково трудной и неровной. О нем то говорили как о будущем крупном поэте, то забывали на долгие годы.
Впервые я услышал о нем в юности от писателя Юрия Куранова:
— Хороший поэт, талантливый. Только, боюсь, пропадет.
Слышал о нем и дальше, но встретились мы лишь через четыре года, когда он пришел ко мне на работу, на ипподром. Это был крепкий мужчина, с густыми от легкой кудрявости волосами, выпивший, но чисто выбритый. Борисов временами брился, временами отращивал для солидности бороду, и седеющая эта борода действительно делала его солиднее, элегантнее. Увидел меня и заявил:
— Ты Клевцов, я знаю. А я — Борисов. Тебя ругают, что мало пишешь, меня тоже ругают. Давай знакомиться.
Общих тем для разговора у нас тогда не было, и он скоро ушел. Сдружились мы много лет спустя, и я тогда же узнал о его жизни. Несчастья преследовали Борисова с самого детства. Отца и деда репрессировали перед войной, домой они не вернулись. Мать арестовало гестапо уже во время оккупации в Пскове, судьба ее тоже осталось неизвестной.
Борисов редко говорил о матери. Он так и не узнал, почему она была арестована — за помощь партизанам или по причине другой, и это «другое» сильно его мучило. Зато охотно рассказывал об оккупации. Видимо, детский ум тогда не воспринимал весь трагизм происходящего.
Вот несколько его рассказов, которые запомнились.
В сегодняшнем Детском парке до войны стоял памятник Ленину. Немцы его не снесли, а перевернули так, чтобы он вытянутой рукой указывал на общественный туалет в глубине парка, и проходившие мимо солдаты постоянно посмеивались.
Хорошо помнил он приезд в Псков генерала Власова, предателя. Женя со своим другом Юркой (впоследствии Юрием Ивановичем, долгие годы проработавшим фотокорреспондентом в газете) стояли в толпе, глядели на державшего речь генерала, одетого в немецкий, без знаков различия, мундир. Потом началась запись добровольцев в Русскую освободительную армию (РОА), к столу выстроилась очередь из молодых парней, которым в награду тут же выдавались хлеб, консервы, кусковой сахар и водка. Вдруг мальчики увидели в очереди старшего брата Юрки и скорее побежали доложить матери. Когда брат вернулся домой с кульками продуктов, мать заплакала, заругалась:
— Что же ты, дурак, натворил? Воевать собрался? И за кого — за немцев?!
Но у брата, видимо, был другой план, который он и осуществил. Выпив водки и прихватив буханку хлеба, он той же ночью подался к партизанам.
Борисов много раз говорил, что в оккупации выживал тот, кто не брезговал в еде, ел все, что попадет под руку. Однажды он был свидетелем, как немецкий повар застрелил мальчика, укравшего у него со стола колбасу. Повар подошел к убитому и отбросил украденный кусок в сторону, а наблюдавшему из кустов Жене очень хотелось этот колбасный огрызок доесть, прямо живот сводило, и доел бы, не побрезговал, остановил только страх перед немцем.
— Я головастиков ел, — утверждал он. — Варил в консервной банке на костре.
Но даже он не умер от голода только чудом. После ареста матери, единственной кормилицы, он с младшей сестрой остался на попечении бабушки. Хотя чем она могла накормить внучат? Голод был такой, что, по меткому выражению самого Борисова, «люди зеленели, как стреляные гильзы».
Как-то бабушка сшила ему рубашку из немецкого мешка, и в этой рубашке, с черным орлом и свастикой на спине, он целыми днями добывал пропитание, мелькая среди развалин или вблизи солдатских кухонь, выискивая картофельные очистки, бил из рогатки голубей, ловил в мелководной Пскове рыбу. Рыба и еще грибы, набранные в пригородных лесах, были единственной человеческой пищей.
Но одним голодом и оккупацией несчастья его не закончилась.
Через два года он оказался в немецком концлагере под Дрезденом, где работавшие рядом на военном заводе итальянцы, насильно вырванные из семей, жалели русского мальчика-недоростка, подкармливали его кусочками хлеба из своих пайков.
* * *
Серьезно он начал писать стихи после службы на флоте, под фамилией Борисов.
— На самом деле я не Борисов, а Власов, — сказал он однажды. — Представляешь, каково бы мне пришлось с такой «предательской» фамилией учиться в школе? Вот я и назвался фамилией матери, да так потом и оставил.
На флоте ему нравилось — прежде всего, там сытно кормили, что было немаловажно в послевоенное время. Возвращаться в мирную жизнь не хотелось. Но уже звала, манила его, так сказать, поэтическая лира.
Пусть флотская служба закончена мною, И юность исчезла за далью морской, Но помню я море, закрою глаза — И вижу, как блещет волны бирюза.Это он написал вскоре после службы. Все, кто помнил его тогда, двадцатипятилетнего, уже начавшего печататься, рассказывали о нем как о красивом, уверенном в себе парне, вдруг неожиданно осознавшем свой талант, который казался бесконечным и который можно было тратить без устали. Он ценил себя как поэта и позже, в пору нашего знакомства, но уверенности в себе у него уже не было.
Стихи его по большей части автобиографичны. Он много ездил, много сменил мест работы. Увольняли довольно часто, по разным причинам.
— У меня трудовых книжек больше, чем книг стихов, — хвалился он.
В этой хвальбе был резон. И по сегодняшний день считается, что, чем больше литератор перебрал профессий, тем лучше для его писаний. А Борисов учился в Литературном институте, работал корреспондентом на радио, сотрудником музея, был рабочим, грузчиком, кочегаром, строил в какой-то степи элеватор, жил на Камчатке, куда ездил к сестре.
Дело было так. Сестра, узнав о его скитальческой, бесприютной жизни, решила забрать брата к себе, выслала на дорогу денег. Бывший в то время безработным, Борисов загулял и остановился, когда денег осталось в обрез. На последние он купил билет в общий вагон и все девять дней пути от Пскова до Владивостока провел на голой полке, питаясь взятыми в дорогу тремя буханками хлеба.
Неустроенность сказывалась и на его характере. Временами он был груб, злонасмешлив. Насмешливость, правда, касалась людей, бывших для него чужими, непонятными.
«Какой Н. поэт? Сухарь, и стихи у него засушенные», — при любом случае — и совершенно несправедливо — говорил он.
Но я никогда не слышал, чтобы он сказал плохое слово о тех, кого считал своими друзьями, — о Куранове, Бологове или Тиммермане. К ним он был привязан и вел себя как большой ласковый ребенок.
Но чаще, чем с литераторами, проводил он время в кругу кочегаров и грузчиков, просто выпивох и бродяг. Хотя и среди самого бесшабашного загула чувствовал свою обособленность, и она не давала ему скатиться на самое дно. А поэтом, без сомнения, он был очень талантливым, обладал чудесным образным строем, каждое слово у него было весомо и подгонялось к другому такому же, точно кирпичная кладка.
Первая книга его стихов, изданная сразу в Москве, называлась «Срочный груз». На обложке была изображена лошадь, везущая по булыжной мостовой груженную доверху телегу. Лошадь, телега и булыжная мостовая как-то не совмещались «со срочностью», и здесь художник, наверняка не без иронии, показал, так сказать, связь поэта с провинцией, с родным краем, землей. С землей, с работой на ней Евгений никогда, кроме последних лет жизни, связан не был.
А между тем в сборнике было достаточно стихов о работе, точнее, о работягах — кочегарах и грузчиках-любителей «поддать» и ругнуться. И хотя его герои ничем не напоминали передовиков производства, Борисова сразу зачислили в «рабочие» поэты, и, несмотря на приниженность самого названия «рабочих», его носители получали большие преимущества. «Рабочих» печатали охотно, в первую очередь, даже впереди «гражданских» или пишущих о селе.
Конечно, Борисов хотел печататься и выпускать книги, получая, по нынешним меркам, большие гонорары. И конечно, у него был соблазн использовать тему, писать пробивные стихи о стройках, свершениях, печататься сразу и повсюду. Но сам образ жизни его, да и талант не позволили этого сделать.
Еще в конце семидесятых он впервые пробует писать прозу. «В стихах места мало, нужно обширное полотно», — решил он и стал писать рассказы о своем военном детстве. Но проза, в отличие от поэзии, требует усидчивости, терпения, душевного равновесия и покоя. А о какой усидчивости и покое могла идти речь, если даже жилья настоящего у него не было. Жил он в комнатушке в деревянном аварийном доме на углу улицы Гоголя и Комсомольского переулка. Об этом доме Борисов писал:
Пропойца-дом застыл у кабака, Мужчины-пьяницы в нем, женщины гулящие. И разрывает душу мне тоска, Когда идут в нем драки настоящие.Первые рассказы Борисова были слабы, наивны и часто надуманны: в них они со своим Юркой то и дело обманывали немецких солдат, ловко прятались, чуть ли не стреляли в них из автомата, — в общем, вели себя как подпольщики и партизаны. Но затем его проза стала сжатой, емкой, с обилием точных деталей, которые трудно выдумать — их надо знать.
С возрастом жизнь Евгения Андреевича более-менее упорядочилась. Он стал получать пенсию. Как узнику Германия выплатила ему денежную компенсацию. Еще ему дали комнату в коммуналке на Запсковье. В этой комнате у него было все необходимое: книжная полка, вешалка, кровать и письменный стол со старой пишущей машинкой, которая едва пробивала буквы. Здесь он сумел наконец закончить книгу прозы «Ольгинский мост» — своего рода биографию, написанную в рассказах, маленьких повестях и очерках, и стал с нетерпением ждать ее выхода, который затянулся лет на пять-шесть.
Но тем не менее это были благополучные годы. Казалось бы, что еще человеку надо на склоне лет? Но его вновь подхватил ветер перемен: он вдруг решил перебраться на село, поменял комнату на старенький дом и поселился в деревне под Карамышевом.
Первое время, наезжая в город, с удовольствием рассказывал, сколько земли вскопал, сколько картошки посадил, какой собрал урожай, угощал всех яблоками. Звал в гости.
К нему редко, но наезжали. Помню, какое тягостное впечатление производило его жилище: низкий потолок, невыбеленная печка-плита, заставленная кастрюлями и чашками, темные обои, с которых уже сошел рисунок. Казалось, как тут можно жить, да еще писать.
Но с другой стороны, в хороших домах Борисов почти не живал, после войны, например, возвратясь в разрушенный Псков, жил в колокольне Троицкого собора, и холода зимой стояли жуткие, не согревала даже печка-буржуйка.
Пробыв с полчаса, гости благополучно уезжали, и никому не приходило в голову, чем он занят целыми днями. Сразу за его домом начиналось заболоченное поле с редкими кустами, которые заносило снегом почти по верхушки. И кроме кошки и соседа, танкиста-фронтовика, очень уважавшего Борисова за его писания, другой живой души рядом не было.
Выхода своей книги прозы он, к счастью, дождался, очень гордился ею, и сегодня отрадно думать, что последний год его жизни был озарен этой личной радостью. Как было приятно ему дарить книгу знакомым в Пскове, но особенно волостному карамышевскому начальству, уже с сомнением поглядывавшему на поселившегося у них поэта, который почему-то нигде не печатается.
А погиб Евгений Андреевич трагически — сгорел во время пожара. Здоровья в свои семьдесят два года он был отменного и, скорее всего, жил бы и по сей день.
Хоронили его на Дмитриевском кладбище в холодный весенний день 2004 года. Кое-где на кладбище еще лежал снег, где-то пробивалась зеленая трава. Помощь в похоронах нищего, в общем-то, поэта оказала администрация Карамышевской волости, большое им спасибо. Положили Евгения Андреевича на высоком месте, у стены, рядом с проломом, через который можно выйти на берег любимой им Псковы. Ежась от холода, писатели поспешно его помянули, поговорили, погоревали и разошлись. Как в стихотворении Ярослава Смелякова на смерть поэтессы Ксении Некрасовой:
И разошлись, поразъехались сразу, до срока. Кто — на собрание, кто — к детям, кто — попросту пить. Лишь бы скорее избавиться нам от упрека, Лишь бы скорее свою виноватость забыть.Николай Тулимонас
«Жизнь его была загадочной и полна великих тайн». Так сказал бы о Николае Тулимонасе автор приключенческих романов.
Он и был загадочным, словно случайно занесенный к нам из прошлого или будущего и по недоразумению живший в Комсомольском переулке, в двухэтажном каменном доме, окна которого выходили одной стороной на музей, а другой — на вкопанный в землю стол под сенью трех деревьев, создававших иллюзию крохотного скверика. Сегодня и дом стоит, и скверик зеленеет, только вот Николая нет.
Давным-давно при газете «Молодой ленинец» существовал клуб «Юный журналист», где собирались школьники, пожелавшие заняться писанием статей, репортажей, корреспонденций, рассказов и стихов. Руководил клубом журналист Сергей Мельников. К нему и пришли мы однажды с Сергеем Панкратовым, принесли на суд свои творения. Мельников почитал.
— Это что, — сказал он. — Вот Коля Тулимонас, он уже десятиклассник, пишет так пишет. Фантастику.
В фантастических рассказах Тулимонаса было все, весь набор: космонавты на межгалактических ракетах, инопланетяне с лазерами, заговор внеземного разума. Но написанное бледнело перед тем, что он нам рассказывал, торопясь и проглатывая слова, на заседаниях клуба. Полет его фантазии не знал границ, и везде была тайна, загадка: оказывается, мы, люди, произошли от атлантов, которые прилетели на Землю с планеты А-23, и что в начале века в реке Великой видели плавающего кита, не кита даже, а так, китенка, и как он попал в реку — неизвестно, но он, Коля Тулимонас, разгадает секрет, до всего докопается.
Через несколько лет мы с Панкратовым уехали работать в Астраханский заповедник, а когда вернулись, первым нас встретил Мельников:
— Написали что-нибудь?
— Да так…
— А вот Коля Тулимонас уже три романа закончил, и один, говорят, скоро будут печатать в Ленинграде.
Мы были ошеломлены. Вскоре выяснилось, что закончил Тулимонас не три романа, а три сказочных повести и никто публиковать их пока не собирается. К тому времени он почти оставил фантастику и писал уже сказки.
Работал он во вневедомственной охране электриком, проверял в магазинах и сберкассах сигнализацию. Жил вместе с мамой. Но вот приходил с работы, ужинал, ставил на кухонный стол пишущую машинку, раскладывал бумагу, и весь вечер и половину ночи горел в окне свет, стучала и стучала машинка.
В молодости мы однажды решили писать вместе. Более странного соавторства трудно себе представить: романист-сказочник и автор маленьких миниатюр о природе. Но мы, взволнованные, не обратили на это внимания и сразу же придумали, как будет проходить наше соавторство: разрабатываем сюжет и пишем по отдельности каждый свой вариант по принципу «одна голова хорошо, а две лучше», а потом соединяем наиболее удачные места из каждого варианта в одно целое. Придумано было неплохо, но все равно ничего не вышло. Разногласия начались, когда мы стали соединять «удачные» места. Каждый считал удачным свое.
На моей памяти Николай почти никуда не ездил, кроме как в гости, безвылазно сидел в Пскове. Но ему и не надо было ездить — весь мир перед ним. Но теперь воображение уносило его не в космические дали, а в места, населенные рыцарями и пиратами, магами, принцессами и королями, а среди всего этого иноземного «чародейства» неизменно действовали отважные мальчики и девочки с русскими именами.
Сказочные картинки и строки рождались в его голове поминутно, но руки скованно не успевали записывать их, и чудесные строки оставались только в воображении, а на бумаге — длинные диалоги героев, которые, вместо того чтобы действовать, искать, спасать, сражаться, как и положено в сказке, все говорили и говорили, причем как-то деревянно, словно озвучивали мысли автора.
До сих пор убежден, что эти диалоги, тормозившие сюжет, портили Колины сказки. Но это не значит, что он писал плохо. Чаще всего хорошо писал, его сказки ценили Григорьев и Гусев, и даже далекая от «чудес» поэтесса Светлана Молева восхищалась: «Сегодня Коля приходил, такое рассказывал и читал, голова идет кругом. Мне бы ни за что не придумать».
За тремя сказочными повестями последовали три романа, потом еще пять. Рассылал ли он свои рукописи по редакциям журналов? Наверняка рассылал. Но кто печатал сказки, кроме немногих детских журналов? А у них были свои авторы, и чужих, со стороны, им не надо. Какая эта мука — писать из года в год в стол, без видимой надежды на публикацию! Но однажды дело сдвинулось с места, когда Тулимонаса направили на совещание молодых писателей Северо-Запада и он попал в семинар своих любимых фантастов, «властителей его дум» братьев Стругацких. Уезжал он счастливым, взволнованным, а вернулся подавленным: «властители» его раскритиковали.
— Чего ты переживаешь, Коля? У них там мафия, сам знаешь, — не очень уверенно успокаивали мы его. — Увидели Стругацкие, что ты хорошо пишешь, что ты им соперник, вот и задвинули тебя, чтобы не мешал.
А вскоре Тулимонас снова ошеломил нас, сообщив, вполне серьезно, что женится на японке. Его первую жену, тихую, покладистую девушку из Великих Лук, мы с Панкратовым давно знали — она входила в клуб «Юный журналист», где Коля с ней и познакомился. И вот теперь японка. Откуда в Пскове появилось столь экзотическое существо? Но Тулимонас твердо стоял на своем: точно японка точно, женюсь.
— Была японка, а выйдет за тебя замуж — станет япона мать, — мрачно пошутил Панкратов.
Свадьбы не случилось. Со временем он женился на своей, псковской, и я не раз видел их вместе в городе, прогуливающихся под ручку, а потом его одного на Ольгинском мосту уже с детской коляской.
Я всегда стеснялся спросить у Тулимонаса, кто и где его отец. Судя по фамилии, из прибалтов. И не от отца ли, не с западной стороны, была Колина тяга к сказкам и приключениям, к рыцарям и принцессам? Поэт Олег Тиммерман, предки которого — голландцы и прибалтийские немцы, чувствовал себя русским и псковским больше, чем сами русские и псковские. У Николая такой русскости не было.
Долгие годы он дружил с Гусевым, они стали почти неразлучны. Придешь к Тулимонасу домой, дверь откроет мама.
— Коля дома?
— У Гусева.
Придешь в другой раз, наконец-то Коля дома, но в гостях у него поэт Гусев, пьет чай. Вдвоем они часто гуляли по излюбленному маршруту — вдоль крепостной стены Ботанического сада: Гусев, слушая, с опущенной головой, а Тулимонас говорил без умолку.
Один хороший псковский журналист написал на смерть Тулимонаса таким вот высоким слогом: тихо, почти никем не замеченный, пролетел он по небосклону псковской литературы. Но одну сказочную повесть, «Первый подснежник», Николай Тулимонас успел опубликовать в советское время. Она вышла в Лениздате книгой в кассетном варианте.
А сколько всего он успел их написать, повестей и романов? Десять, двадцать? Вполне возможно. И где они сейчас? Распиханы по разным местам или пущены на оклейку зимних рам и обертку?
Но скорее всего — лежат в толстых, пыльных папках, и откроет ли их кто-нибудь когда-нибудь, прочтет ли?
Сергей Панкратов
Сергей Панкратов родился на советской военной базе в Финляндии 16 февраля 1953 года. Но из тех лет, по его словам, почти ничего не запомнил, и первые впечатления связаны с Псковом, куда семья Панкратовых переехала в 1960 году.
Выросли мы в маленьком шестнадцатиквартирном доме на улице Металлистов. Дом и двор наши, огражденные забором с запирающимися на ночь воротами, с большим яблоневым и вишневым садом, с тропинками и скамейками в этом саду, напоминали оазис среди шума, грохота и мусора возводимых поблизости хрущевских новостроек. В этом доме и дворе прошло наше детство и большая часть юности.
В первом классе он переболел менингитом, чудом выжил, пропустил год и снова в школу пошел с опозданием уже вместе со мной. Болезнь, точнее страх ее повторения, как я теперь понимаю, сказывались на его поведении. В раннем детстве он редко выходил из дома, а если выходил, стоял в стороне, наблюдая за нашими играми в саду с молчаливой серьезностью. Потом это быстро прошло.
Сомневаюсь, что, подрастая, он собирался стать писателем. Учился хорошо, круг его интересов был огромен — от коллекционирования марок, причем вполне обдуманного, почти профессионального, до математики, физики, занятий велоспортом и учебы в детской художественной школе. После десятого класса выбрал будущую профессию — океанолога, мечтал плавать по морям, поступал в соответствующий институт, но не прошел по конкурсу.
К его увлечениям в школьную пору можно отнести и литературу. В восьмом классе мы вдруг задумали издавать рукописный журнал и взялись за дело со всем пылом. Писали рассказы и повести, корреспонденции о событиях в городе, стихи. Помню начало одного стихотворения Сергея:
Клуб построили в селе Всем на удивление. Открывать пришел сам Председателя зам.И так далее. В общем, ничего серьезного, одно баловство в силу малолетства.
На следующий год, узнав, что при газете «Молодой ленинец» действует клуб «Юный журналист», ведет который некий Мельников, собрали свои журналы в стопку и отправились в редакцию.
Редакция тогда находилась на территории Дома Советов, в отдельном здании. Долго ходили, искали, к кому обратиться, — испуганные, потерянные, никому не нужные, пока не встретили в коридоре молодого приветливого журналиста, как выяснилось через много лет, Валентина Курбатова (куда же без него). Узнав, что мы ищем Мельникова, отвел к нужной двери, пожелал удачи и исчез. Вскоре мы стали печататься в газете, публиковали и свои литературные опусы.
Панкратов несколько раз приходил в литературу, и это был первый приход. Позднее он то бросал писать, то принимался вновь.
Главным, без преувеличения, событием в жизни Сергея стала поездка в Астрахань, на кордон заповедника, где он прожил больше года. Поехал он туда уже женатым, проработавшим несколько лет художником-оформителем в кинотеатре и фрезеровщиком на заводе, но по существу оставаясь домашним человеком.
И вдруг на него обрушилось — новые люди, причем в селах сохранившие и облик, и характер тех самых северных русских людей, которыми заселялись эти края в 16–17 веках, другая обстановка, другая природа, так не похожая на нашу. Невероятное обилие рыбы, вода от которой бурлила, как в кипящем котле, по всем ерикам и протокам, что, казалось, воткни в воду весло — и оно будет стоять, поддерживаемое рыбьими боками. Это внизу. А наверху — еще большее обилие птиц, редких, сказочных: розовые фламинго, каравайки, пеликаны, похожие на оперившихся летающих ящеров, стерхи, фазаны, цапли всевозможных размеров и расцветок. Все это мелькало в небе, садилось на воду, кричало, ссорилось, кормилось, снова взлетало, осыпая наблюдателя дождем брызг.
Вскоре выяснилось, что жизнь на кордоне трудна и опасна (через участок заповедника шел осетр, и браконьеры, конечно, не дремали). Но все-таки это было самое молодое, веселое, бесшабашное и самое счастливое в его жизни время. Работая на кордоне Трехизбинка в дельте Волги, проводя половину времени в лодке или неся охрану на брандвахте и бывая в Астрахани наездами, когда лесничий расщедривался на выходной, Сергей много пишет, и его охотно печатают астраханские газеты.
Его всегда любили, порой даже восхищались, считая «своим в доску». Причем к «своим» его причисляли в равной степени и рабочий человек, и начальство, и какая-нибудь спившаяся, подозрительная личность. Это называется «уметь договариваться». Все так. Но было и другое — неизменная доброжелательность и терпение к людям, а с возрастом в лице его проступила чуть ироничная мудрость много пережившего и много понимающего человека.
Это качество — терпение, иногда в ущерб собственному самолюбию, — всегда меня в нем поражало, потому что Сергей не раз признавался, что бывает временами подвержен приступам бешеного гнева, но каким-то непостижимым образом умеет себя укротить.
«Своим в доску» он быстро стал и на кордоне. Лесничий участка, человек въедливый, ругая и кляня других лесников, Сергея старался не задевать.
У меня хранится его единственная фотография той поры. Происхождение ее таково. Однажды в Астрахани, гуляя, мы вошли в парк, уже по-осеннему пустой, с голыми деревьями, с покинутыми киосками, когда на дорожке перед нами возник фотограф. У него не было, как мы привыкли видеть в старом кино, ни треноги с аппаратом, ни холста, аляповато раскрашенного под речной пейзаж или пруд с плавающими лебедями, и мы сначала приняли его за обычного прохожего.
— А вот сейчас сфоткаю на память. Кого сфоткать? — приметив нас, запел фотограф усталым голосом, никак не вязавшимся с его молодостью, свежим на холоде лицом и бойкими глазами…
На фотографии Сергей с длинными до плеч волосами, с бородой. Лица почти не видно. Именно так — заросший волосами — он обычно и ходил на кордоне. Летом — в расстегнутой рубашке и болотных сапогах, зимой — в фуфайке и опять болотных сапогах, натянутых до самого верха.
Вскоре о Панкратове заговорили по всему заповеднику. Человек странного облика, приехавший из лесных краев (степные люди боятся леса, считая, что стоит только зайти за дерево, как сразу заблудишься), да еще пишущий и печатающийся в газетах, он вызывал особый интерес.
Я тогда работал и жил в пятидесяти километрах на соседнем Дамчикском участке, но постоянно получал о нем сведения от разных людей. Однажды, например, узнал, что Сергей при крутом развороте лодки упал в воду, простудился и неделю пролежал в больнице в Камызяке.
В другой раз поехал вечером на лодке в охрану и не вернулся даже к утру. А это был день Всесоюзных выборов. Лесничий, ответственный за явку, бегал по кордону с урной и нервничал. Плохо, что человек пропал, плохо, что теперь и не проголосует, и непонятно было, из-за чего больше нервничал лесничий.
Организовали поиски. Дважды лесники разъезжались по участку, кричали, стреляли из ружей и пистолетов, но не услышали даже слабого ответного голоса.
Решено было вызывать милицию, начать поиск с вертолета, когда появился Сергей. Оказалось, у него полетела шпонка, потерялся винт на моторе и он почти сутки добирался, то хватаясь руками за береговой тростник, то подгребая себе, вместо весла, короткой доской-сланью.
Примерно тогда же он спас меня на пожаре. Весной в дельте Волги часто горел сухой прошлогодний тростник, и однажды мы несколько дней на четырех лодках мотались по заповеднику, тушили пожары, вспыхивающие в разных местах. Нередко, чтобы сбить пламя, пускали встречный пал. И когда, пуская пал, в очередной раз подпалили вдоль берега тростник, три лодки торопливо отплыли, а у нашей с лесником Бузниковым заглох мотор, и мы оказались один на один с огнями — и с тем, что шел нам навстречу, и с тем, который мы разожгли сами, чтобы он потушил первый.
Сначала Бузников еще дергал пускач, надеясь завести мотор. Огонь на берегу тем временем, набрав силу, вспыхнул, загудел, пошел вверх, над нами залетали раскаленные искры. Бузников был без шапки, волосы на его голове затрещали и закучерявились, и, не выдержав жара, с безумным криком «Провались оно все пропадом!», он прыгнул в одежде в ледяную воду. Я остался лежать в лодке, боясь даже пошевелиться, потому что нагревшаяся фуфайка нестерпимо жгла спину. Не знаю, каким чудом еще ни одна искра не упала на открытый бензобак и не случился взрыв, а он непременно должен был случиться. Но тут, когда все остальные растерянно следили за нами со стороны, закутанный в мокрый дымящийся плащ, подъехал Панкратов, метров с пяти бросил чальную веревку, я ухватился за нее, и он потянул меня вместе с лодкой от бушевавшей стены огня.
* * *
Хорошо помню наше возвращение из Астрахани в Псков. Мы сошли с московского поезда, и город был чист, просторен и пуст, улицы с рядами деревьев просматривались далеко-далеко. Мы весело шли к дому, и казалось, что жизнь только начинается.
Сергей вернулся с твердым намерением стать писателем. Словно впереди открылось окошко. Чувствовал в себе силу. Не сразу, но он пишет повесть об Астраханском заповеднике «Горсточка летних цветов». Повесть удивительную, тонкую, прозрачную, написанную как бы взрослым и ребенком одновременно, точнее, взрослым со взглядом на мир — ребенка.
Для таких повестей нужен особый, неторопливый, вдумчивый читатель, а таких мало, поэтому подобные вещи и тогда, и сегодня журналы практически не печатают. Так вышло и с Сергеем.
Повесть понравилась Юрию Куранову, который на то время лучше всех писал о русской природе. Юрий Николаевич тут же принялся пристраивать ее в журнал «Аврора», где у него готовилась к выходу собственная повесть. Случай редкий, но Куранов просит главного редактора заменить свою повесть на Сережину, благо место на журнальных страницах уже выделено.
Не знаю, как сложилась бы литературная судьба Панкратова, будь повесть опубликована, но думается, более удачно. Провинциальному писателю без знакомств, без связей, в одиночку пробиться в литературу трудно. Для этого нужен первый шаг, первая серьезная публикация. Шаг этот Панкратову сделать не дали. Эта неудача, а вскоре еще и выездной семинар с участием московских писателей, раскритиковавших его, выбили Сергея из колеи. Не раз он признавался:
— Не понимаю, о чем писать. Начинаю рассказ — и бросаю, все кажется, не то и не так, что меня снова разругают.
Он и позднее сомневался в себе. Дошло до того, что, когда много лет спустя он устраивался корреспондентом в газету и ему дали в виде испытания написать две-три статьи, он разнервничался и попросил сходить с ним помочь взять интервью. Правда, продолжалось это недолго. Вскоре он уже стал заметным журналистом, перевелся к нам в «Молодой ленинец», а когда газета закрылась- в «Псковскую правду». Работал и в других изданиях, и везде его отмечали как отличного очеркиста, а очерк — жанр литературный, по существу это рассказ, только документальный.
Но все это будет потом. А пока, возвратясь из Астрахани, он, чтобы побыстрее получить квартиру, пошел на домостроительный комбинат и, уже получив, продолжал работать бетонщиком и крановщиком еще лет десять.
Судьба его человеческая, личная, как и литературная, в те после-астраханские годы складывается неудачно. Посыпались несчастья, трагедии. Совершенно случайно, упав со стула, умирает отец. Рождается вторая дочь, Настя, любимица семьи, и в возрасте пяти лет пропадает. Пошла во двор погулять со старшей сестрой, была, кажется, рядом и вдруг пропала… Искали ее долго, привлекали солдат, цепью прочесывавших пригороды. Через год милиция, кажется, вышла на след: в одном из горных кавказских аулов обнаружилась русская по виду девочка. Сергей летал с оперативниками на Кавказ. Пока летел, надеялся на встречу с дочерью. Надеялся и потом, когда подъехали на машине к аулу, долго и скрытно ждали появления на улице девочки. Девочка появилась. Белая, русоволосая, она беспечно бегала среди чернявеньких ребят, но это была не Настя. О ее судьбе ничего не известно до сих пор.
В эти дни он часто приходил ко мне на работу. В редакции его жалели. Трагедия не сблизила Сергея с женой, вскоре он ушел из дома. Жить было негде, но неожиданно помог парторг домостроительного комбината, сумевший в короткий срок «пробить» ему на Завеличье однокомнатную квартиру.
С этого времени, приблизительно с конца восьмидесятых годов, начинается сравнительно благополучный период его жизни: он оканчивает педагогический институт, переходит на работу в редакцию, вторично женится, в Лениздате наконец-то выходит повесть об Астрахани, и уже незадолго до смерти его принимают в члены Союза писателей России.
* * *
Сергей всю жизнь вспоминал Астрахань, даже, скорее всего, тосковал, мечтал поехать туда снова. «Хоть на недельку», — говорил он. Моторные лодки, кордон, брандвахта и, конечно, вода, ерика и протоки (на подробной карте дельта Волги похожа на паутину) — среди всего этого проходила его жизнь. Вспоминая заповедник, мы часто ходили на Великую — посмотреть на лодки, на воду. Спускались с улицы Горького к реке, и когда, миновав последние дома проулка, выходили на берег, открывался простор — сначала широкая синева реки, песчаная полоса противоположного берега, потом, сразу над берегом — круто, отвесно поднявшиеся крепостные стены, увенчанные боевыми башнями, выше которых были только купола Троицкого собора и небо.
Сидели, смотрели на проплывающие лодки, слушали рев моторов. Сергей безошибочно, по звуку, определял марку лодочного мотора.
— Это на «Ветерке» пошли, — утверждал он, и действительно, когда лодка ровнялась с нами, над кормой висел маленький «Ветерок». -Этот шмелем гудит — значит, «Нептун». А вот и «Вихрь» идет — сила.
У него на кордоне был «Вихрь», и мотор этот он уважал.
Мелькание лодок на Великой, шум и плеск волн о берег воспринимались им, наверное, как далекий, навсегда прошедший праздник, на котором ему уже не было места, и он говорил в такие минуты:
— На следующий год весной обязательно съезжу в Астрахань. Все брошу, возьму отпуск и съезжу. Тесно тут.
Но всякий раз находились неотложные дела, поездка откладывалась. За тридцать лет он так и не съездил.
* * *
Женился Сергей рано, в двадцать один год, по любви. Жена его, Лариса, жила в доме напротив. В детстве это была красивая девочка. Она появлялась на улице с большими белыми бантами, но держалась обособленно, боялась, возможно, что во время игры ее, словно стеклянную, толкнут и испачкают банты. С возрастом она стала еще красивее, красотой, правда, несколько яркой. Я был у них на свадьбе свидетелем, и в памяти осталось лишь то, что в свой медовый месяц они несколько дней провели у меня на даче.
Вижу я Ларису и сегодня — прогуливающуюся по улице с детской коляской, где спит внук. Мы приветливо разговариваем о насущных, сегодняшних делах. Ни об общей молодости, ни о Сергее Панкратове не вспоминаем.
* * *
Бывает так, что возьмешь не глядя лежащую под рукой книгу, откроешь любую страницу и читаешь. На этот раз мне попался первый выпуск альманаха «Скобари», изданный в 1995 году. Начинаю читать какой-то рассказ с середины и поражаюсь изобразительности, образности языка автора. Даже дух захватило: кто же так хорошо пишет? Словно зашел в неизвестную комнату, а она оказалось многократно виденной, знакомой до мельчайших подробностей, и вместо настороженности появляется радость узнавания. Взволнованный, перелистал несколько страниц и прочитал: «Сергей Панкратов. Себежские легенды. Жан Виль. Рассказ».
Этот рассказ я читал вскоре после его написания лет двадцать назад, но тогда он не произвел на меня большого впечатления. И дело здесь не в том, что сегодня, когда автора нет, все сделанное им оценивается по-иному. Просто сам Сергей, захваченный газетной работой, писал рассказы наскоро, между делом, писал от случая к случаю, порой лишь затем, чтобы не потерять статус человека пишущего. И на первый взгляд, нередко относился к своим вещам как к пустякам. Но это на первый взгляд. Несомненно, ему хотелось признания, похвалы. Ждал он — до слез, до отчаяния — слов одобрения. А тут было что одобрять.
Читаю его рассказы и художественные очерки в тех же самых «Скобарях» и за последующие годы — и везде настоящий, меткий, образный язык и та задушевность, доверительность, исповедальность, что отличает литературу подлинную.
Написал Панкратов немного, но если собрать все вместе, одну настоящую книгу написал. Остается сожалеть, что она так и осталось не собранной автором. Даже когда была возможность ее издать, и деньги были выделены, и сроки определены, он откладывал работу, говорил: «Все, завтра сажусь за стол». Но ничего не делалось. Когда откладывать было уже некуда, заявил: «На днях ухожу в отпуск, за месяц и подготовлю рукопись». Но и тут опять нашлись «неотложные дела» — приехали знакомые жены из Германии, была взята напрокат яхта, пошла рыбалка, шашлыки на берегу…
И где теперь читателю искать эту неизданную книгу? Просматривать выпуски альманаха, листать подшивки разных газет за тридцать лет?
* * *
Человек достаточно замкнутый, временами Сергей становился откровенен, даже излишне откровенен, рассказывая о себе то, что и рассказывать нельзя. Однажды, удивив, сказал, что если будет жениться второй раз, обязательно выберет жену, похожую на мою. Говорилось это в тот момент, когда он развелся и в женщинах разочаровался. И вот что удивительно: через несколько лет выбрал, женщину, похожую не только внешне, но и имя у нее было таким же — Елена.
Был я свидетелем и на второй свадьбе, проходившей широко, с размахом, в украшенном гирляндами ресторане, тонущем в тумане от праздничного блеска люстр, высоких стопок белоснежной посуды. Молодожены поселились в однокомнатной квартире Сергея, и жизнь их, после того как были сняты свадебные наряды, быстро вошла в размеренный ритм: Сергей работал в газете, Елена — психологом в школе. Жили они, судя по всему, дружно.
Но случилась новая трагедия. Через двенадцать лет Елена погибла. Переходила с маленькой дочерью Октябрьский проспект напротив дежурной аптеки, когда из-за стоявшего автобуса на всем ходу выскочила легковушка и сбила Лену. В последний момент она успела заслонить ребенка, и весь удар пришелся по ней. Девочка пострадала мало, а она, не приходя в сознание, на третий день умерла.
Они были почти неразлучны — Лена и ее дочь. И если вы встречали в городе Лену, можно было быть уверенным, что рядом, смущенно потупясь при виде стороннего человека и прижимаясь щекой к маминому пальто, находится и дочь.
* * *
С Сергеем все произошло через полтора года после гибели жены. Произошло быстро, почти в одночасье.
Свои дни рождения мы обычно отмечали вдвоем. И в тот последний день рождения Сергея — 16 февраля 2005 года — я появился у него на работе: мы должны были пойти в кафе. Сергей был весел, писал на компьютере статью, постоянно чему-то улыбаясь, — наверное, статья удавалась. И хотя я не торопил, это подразумевалось, и он все повторял: «Сейчас, Володя, минуту, сейчас, остался последний абзац».
Потом мы вышли на улицу. День стоял яркий, морозный, улицы тонули в сугробах, но уже чувствовалось движение весны — солнце припекало. Настроение у нас было бодрое.
В следующий раз мы увиделись через две недели на совещании — Сергей запаздывал, и, когда пришел, привычно, чуть по-актерски останавливаясь в дверях, чтобы обозначить свое появление, это был уже тяжело больной человек: ходил и дышал с трудом. После совещания он попросил помочь подняться ему со стула. Через два месяца его не стало.
* * *
За несколько дней до смерти попросил Валентина Курбатова принести ему книгу Яна Парандовского «Алхимия слова» — одну из своих любимых еще с юности. Это книга о писателях и писательском труде. Зачем он попросил ее, что ему хотелось совершить в свои последние дни? Прощался ли он с литературой или, наоборот, еще сам пытался что-то написать, жестоко мучаясь от сознания, которое всегда будет мучить всех пишущих, что так мало сделано и надо успеть выполнить, догнать упущенное? Книгу принесли, он раскрыл ее, но ничего прочитать не смог.
* * *
После смерти Панкратова я почувствовал, что вокруг образовалась пустота. Остались мама, дочь, остались родственники, и все вместе они много для меня значат. Но та часть души, которую занимал Сергей, опустела, и этой частью души я осиротел.
Когда-то, в конце семидесятых годов, молодым еще человеком, Панкратов написал рассказ «Старый друг». Через тридцать пять лет, в меру своих сил, я возвращаю долг.
Светлана Молева
Счастливым было начало поэтической судьбы Светланы Молевой, в двадцать лет издавшей первый сборник стихов, что тогда могло считаться чудом или несомненным, неоспоримым талантом автора.
А дальше, как следствие этого счастливого начала, долгое умолчание, без выхода новых книг, хотя она работала уже редактором Лениздата и была посвящена в авторские и издательские тайны. Александр Гусев, духовно близкий ей в то время человек, постоянно переписывающийся с Молевой, объяснял это независимостью, «поэтическим сопротивлением». Стихи-то были о России, об уходящей деревне, о русской душе, которой без Бога никак нельзя. А вокруг — в газетах, на радио, телевидении — гром стоял: пятилетка следовала за пятилеткой, все исторические; историческое и решение правительства о возрождении Нечерноземья, обо всем надо писать в бодрых тонах, прославлять, а какое тут прославление:
Эта церковь бедна и далече, И дорога ведет по кустам. Я ворота открою под вечер, И послышится: «Ради Христа…»Недоброжелатели говорили, что первую книгу Молевой «пробил» Игорь Григорьев. Но не такой большой вес имел Григорьев, чтобы «пробивать», лет десять назад он сам числился в начинающих поэтах. Он, конечно, помог, но в другом, помог отобрать стихи, заменить слабую строку или рифму на новую. Так и было, тем более что они уже поженились и стали жить вместе с мамой Игоря Николаевича, сразу три поколения под одной крышей — дореволюционное, послереволюционное и послевоенное. Григорьев, руководивший тогда Псковским отделением Союза писателей, был человек хлебосольный, квартира — проходной двор, самые частые гости — писатели, ночные беседы, воспоминания, застолья, ослабевших гостей отводили ночевать в спальню… Кончилось тем, что Светлана Молева переехала в Ленинград, а вернулась почти через двадцать лет.
Вернулась она с мужем, Михаилом Устиновым, прозаиком и критиком, коренным ленинградцем. Появление их было сродни появлению из эмиграции в 1922 году писателя Алексея Толстого — тот же интерес, желание познакомиться, засвидетельствовать почтение.
Поселились приезжие в очень хорошей квартире на улице Гоголя, которая стала почти литературным салоном: сюда входили то робко, памятуя, что Молева — требовательный редактор, а Михаил — критик, то шумно и весело, на правах старых друзей.
Тут же было решено (времена стояли горбачевские, перестроечные) не кланяться государственным издательствам, не ждать годами милости быть напечатанными, а издавать книги самим, за счет спонсоров. «Надо помогать друг другу, — говорили мы себе, — держаться вместе». Месяца через три был подготовлен совместный сборник, только вот спонсоров не нашлось…
Дальше, при Ельцине, наше единодушие закончилось, все уже открыто разделились на левых и правых, на патриотов и либералов — начавшееся в Москве деление докатилось и до провинции. Псковские писатели перемешались, рассорились до такой степени, что, приходя на собрания, рассаживались по разные стороны кабинета и глядели друг на друга с плохо скрываемой неприязнью. И вот уже Светлана Молева, опытнейший редактор, новую книгу стихов «либерала» Гусева читала с пристрастием, выискивая огрехи, и однажды сказала: «А ведь у Гусева мания величия, посмотрите на это стихотворение — видно между строк».
К счастью, как это часто бывает после затянувшейся, всех утомившей ссоры, все помирились. Молева и Устинов жили в те годы бедно. Михаил совместно с типографией организовал издательство «Отчина», Светлана, если выпадала удача, редактировала, но заработки были мизерные, случайные. Они стали переезжать с квартиры на квартиру, можно предположить, чтобы заработать на обмене своего дорогого жилья на более дешевое.
В Пскове, помимо стихов, она написала книгу «Единородное слово» — филологический труд о русском языке, о слове как собирателе и хранителе единства народа, протянула нить нашей истории от ветхозаветных времен, основываясь на тексте Перуджианского камня — памятника русской письменности трехтысячелетней давности. И, трудно поверить, сама перевела и прокомментировала этот текст.
…Родилась Светлана Васильевна в поселке Чихачево Бежаницкого района, в совсем глухом месте, если бы не железная дорога, оживлявшая поселковую жизнь грохотом пролетавших мимо поездов. В раннем детстве она считала Чихачево центром мира, потому что, в какую бы сторону поезда ни ехали, им было не миновать ее поселка. Мечтала ли она уехать сама? В старших классах, конечно, мечтала, когда уже писала стихи и в голове бродили нетерпеливые мысли о славе, о жизни в столицах.
Уехала она в Псков, переехала в Москву, потом в Ленинград, жила там долгие годы, но вернулась в Псков, по ее словам — от суеты, беспокойства в тишину и покой, вначале часто говорила, что приехала на родину насовсем. Но когда стала болеть и понадобился больничный уход, снова оказалась в Петербурге.
Отъезд вышел торопливый, совсем не похожий на появление Светланы с мужем в Пскове пятнадцать лет назад. Когда я однажды зашел к ним, дверь открыли незнакомые люди. В прихожей, на кухне, в коридоре стояли нераспечатанные коробки, узлы, тюки.
— Отбыли, отбыли, — заявили незнакомцы. — Теперь мы здесь живем. Вот переезжаем, — и радостно пригласили в квартиру, чтобы я мог убедиться.
Светлана Молева завещала похоронить себя в Пскове, на Мироносицком кладбище. Пройдет немного времени, и Михаил исполнит ее завещание.
Игорь Григорьев
1973 год был для Игоря Григорьева юбилейным — исполнялось пятьдесят лет. Человеческая и поэтическая судьба его к этому времени складывалась вполне удачно. Он много писал, книги выходили регулярно, накануне юбилея был издан сборник избранных стихотворений и поэм с хорошим для поэзии тиражом — двадцать пять тысяч экземпляров.
Лето он проводил в деревне в Бежаницком районе. Бежаницкая возвышенность, Кудеверский край — наверное, красивейшее место на Псковщине: высоченные, закрывавшие половину неба холмы, между которыми, как налитые в чашку, поблескивают озера — и среди них озеро Алё, огромное в сравнении с другими, с изрезанными берегами, с заливами, с заросшими деревьями островами. Осенью острова в ярких цветах краснеющей и желтеющей листвы напоминали клюквенные кочки.
На берегу этого озера Григорьев и жил, снимал комнату в доме в деревне Аксеново. В этой комнате он только ночевал и писал, все дни проводя в лесу и на рыбалке. Рыбак он был отменный: заплывал в лодке на свои прикормленные рыбные места и вылавливал за утро до десяти подлещиков. Большую часть улова, чтобы задобрить, отдавал хозяевам, которые неодобрительно относились к его писаниям по ночам с включенной лампой и, будучи людьми крестьянскими, работящими, считали его бездельником.
— Я человек простой, мне много не надо: хлеб, соль и рыба, вот и весь на день паек, — говорил обычно после рыбалки Григорьев, и он не хитрил.
Несмотря на некоторый богемный образ жизни, заключавшийся, в первую очередь, в полнейшем пренебрежении к бытовым удобствам — как одеваться, что есть, где и на чем спать, ему было безразлично, — он, тем не менее, не выпивал, как принято в такой среде, или выпивал мало. Хотя ему нравилось, когда в его городской квартире собирались приятели, знакомые, фронтовики, поэты, студенты-филологи, и был не против, если кто-нибудь приносил с собой бутылку, заботливо предлагая к выпивке закуску, — обычно это были, за неимением другого, сушки и дешевые конфеты «подушечки».
Теперь приходится слышать о Игоре Николаевиче как о человеке тяжелом, неуживчивом, угрюмом, непредсказуемом. Так ли это?
Ну, непредсказуемость сродни независимости, состояние для творца, поэта просто необходимое, а в отношении другого возникают большие сомнения.
Мне, например, он запомнился чаще в бодром расположении духа. Даже когда болел и ходил с трудом, неестественно выгнув спину, прямой, как доска (ранение в позвоночник), или, задыхаясь, дыша с астматическим свистом, то и дело подносил ко рту ингалятор (последствие ранения в легкое, часть которого была удалена).
Но и тогда он не жаловался, просто констатировал факты: «Сегодня ночью чуть не умер» или «Уже неделю не могу выйти из дома». Говорилось это еще лет за пятнадцать до смерти, а с каждым годом ему становилось все хуже и хуже.
Характер у него действительно был непростой, но не до степени же неуживчивости, мрачной угрюмости. Сегодня кажется, что он просто играл, создавая некий шутливый «поэтический образ», который иных приводил в недоумение. Чаще это был образ недалекого, необразованного деревенского мужичка, говорившего в нарочито-простонародной манере: «Чаво, авось, мы это самое… того…» Но стоило кому-нибудь из мало знавших людей поверить в его необразованность и «мужиковатость», как он мгновенно горделиво вспыхивал.
Другие говорили о нем как о чудаковатом, даже грубом человеке, хотя бы потому, что он не всегда считался с условностями: мог прийти в редакцию или в библиотеку на выступление в валенках с галошами, в шапке-ушанке и с рюкзаком за плечами. И все, кто неодобрительно смотрели на него, как-то забывали, что такая одежда зимой еще несколько лет назад считалась нормой, а дважды раненному и дважды контуженному Григорьеву тепло было важнее внешнего вида.
А о рюкзаке Григорьева в редакциях существовало мнение, что в нем он, как поэт Велимир Хлебников в мешке, таскает рукописи, и сотрудники всегда с веселым оживлением ждали, когда он, порывшись, явит на свет какие-нибудь замусоленные листки, исписанные каракулями. Это, конечно, неправда: более аккуратного по отношению к своим рукописям человека трудно представить. Все они у него хранились в коробках и папках, все были подписаны и пронумерованы, и я не удивлюсь, если Игорь Николаевич вел подробную картотеку своих даже незначительных публикаций. А в рюкзаке он носил продукты из магазина, куда по дороге заходил.
* * *
Мало по кому из крупных русских писателей война прошлась тяжелым катком в полной мере, как по Игорю Григорьеву и еще прозаику Константину Воробьеву, попавшему под Москвой в плен, пережившему все ужасы фашистских концлагерей, не раз умиравшему от голода и побоев, затем, после удачного побега, командовавшему в Литве партизанским отрядом. Военная судьба Игоря Николаевича была не менее трагична.
Читаю биографию Григорьева: «Великую Отечественную войну И. Н. Григорьев провел на захваченной врагом Псковщине. Воевал в спецгруппе и в бригадной разведке Шестой партизанской бригады». А вот его собственные воспоминания, опубликованные, видимо, в «Псковской правде»: «…Помню, когда я по заданию подпольщиков стал работать переводчиком в немецкой комендатуре в Плюссе (мне было тогда 19 лет)…».
Здесь — всё правда. Игорь Николаевич умолчал лишь об одном. Девятнадцать лет ему исполнилось в 1942 году, а в переводчиках он числился с лета — осени 1941-го, когда никакого серьезного подполья, как и организованного партизанского сопротивления, еще не существовало. Это обстоятельство и позволило писателю Юрию Куранову обвинить его чуть ли не в предательстве. Настороженно относился к Григорьеву и писатель-партизан Иван Виноградов. Но Игорь Николаевич особенно ничего и не скрывал и однажды рассказал мне, дружившему с Курановым, как обстояло дело:
— Вызвал меня к себе в самом начале войны немецкий комендант и говорит: «Ты знаешь язык, пойдешь в комендатуру переводчиком. Не бойся, у нас твоих земляков не пытают. За несогласие — расстрел на месте». Жить хотелось, и я согласился.
Потом, конечно, была работа и на подпольщиков, а когда возникла угроза провала — уход в партизаны.
«Воевал в спецгруппе», говорится в биографии. Что это за спецгруппа, которую Лев Маляков как-то в разговоре назвал «команда номер два», могу судить опять же по многочисленным рассказам самого Григорьева: партизаны из спецгруппы, скорее всего, приводили в исполнение приказы по ликвидации полицаев-карателей, замеченных в расстрелах мирных жителей и партизан, говоря современным языком — полнейших отморозков.
Вот один из таких рассказов:
— Ходил я в одиночку, появлялся в деревнях, где были полицейские посты, с немецким автоматом на груди. Автоматы, кстати, не очень хорошие, их все время заклинивало, немцы их сами не любили, одно достоинство — легкие, удобные… Однажды подхожу к дому такого полицая, а он в это время перекапывает огород. Облокачиваюсь на прясло, смотрю на него. Уловив мой взгляд, он поднял голову и сразу все понял. В доме что-то загремело, заплакали дети, выскочила на крыльцо жена, увидела меня, тоже поняла, бухнулась на колени и в голос завыла.
— Пойдем в лес, — говорит полицай, воткнув лопату в землю. — Не при детях же, не при жене.
Пошли в лес, идем и идем, я все никак не могу решиться. Он сам остановился, ждет, не оборачиваясь, ссутулился. Я зачитываю приговор, вынесенный командованием бригады: «За измену Родины… за пособничество врагу… за кровь невинных мирных жителей… к высшей мере — расстрелу». При слове «расстрел» он еще больше ссутулился, напрягся, спина стала как бетонная. И я почти не глядя выпустил очередь. Он сразу рухнул, здоровый был, откормленный, как боров.
Когда уходил, мимо, мелькая за деревьями, пробежала растрепанная жена полицая, глянула на меня ошарашенно, непонимающе и дальше побежала искать мужа.
Сегодня нам не представить, что выпало на долю Григорьева в юности: война, служба в комендатуре, подполье, участие в партизанском движении, бои, тяжелые ранения, гибель от немецкой пули младшего брата Левы, наконец, пришлось выполнять приказы по ликвидации изменников родины — все это свалилось на него почти одновременно, и при этом он не сломался, не растерзал душу, не спился, наконец, а остался психически здоровым, окончил университет и написал больше двадцати книг стихов.
* * *
Одна из лучших фотографий Игоря Григорьева — где он снят в офицерской гимнастерке военного образца, с юбилейным орденом Отечественной войны первой степени и несколькими нашивками за ранения. Юбилейные ордена давали ветеранам в 1985 году, снимок сделан в 1987-м, значит, Григорьеву здесь шестьдесят четыре года. Плотная фигура (он был худоват, но на снимке выглядит кряжисто, сказалась, наверное, упорядоченная жизнь, созданная третьей женой — Еленой Николаевной Морозкиной), лицо волевое, с ямкой на подбородке, прямой нос, зачесанные волной волосы. Он был красив даже в таком возрасте, похож на актера Кадочникова — исполнителя героических ролей разведчиков и летчиков. Конечно, он нравился женщинам. Но как-то трудно представить Игоря Николаевича, даже в молодости, большим любителем женщин, ловеласом, тем более что это паркетно-скользящее слово ему, противнику неоправданного внедрения в русский язык иностранных слов, вряд ли нравилось. (Что бы он сказал сейчас, когда на телевидении выходные дни, воскресенье — маленькую Пасху — называют уже уик-эндом — словом, по звучанию похожим, извиняюсь, на икоту.)
От первой жены он, по его рассказам, ушел в Ленинграде сам, «в чем был, ночью, в тапочках». Вторично женился на молодой псковской поэтессе Светлане Молевой. Возможно, это было самое счастливое время в жизни Григорьева. Мужчина за сорок лет, женившейся на двадцатилетней, он должен был стать не только мужем, но и отцом, оберегающим юное создание. И не в эти ли годы им были созданы лучшие, самые проникновенные лирические стихи?
Их скорый разрыв и развод он переживал тяжело, иначе и быть не могло. Он никогда не говорил о том времени, лишь однажды упомянул при мне о Светлане, упомянул своеобразно, начав издалека, но с такой нежностью, печалью.
— Сегодня почти лягушек не осталось, всех потравили удобрениями, — сказал он, по привычке глядя в упор, в глаза. — А сколько их было раньше! Помню, шли мы со Светланой вечером по берегу реки, лягушки так и прыгали из-под ног на каждом шагу. Молева смеялась, боялась наступить, а я взял ее на руки и понес. Долго не хотел отпускать…
Так может говорить человек любивший.
Что стало причиной развода, можно только догадываться. Разница в возрасте? Или другая разница — в жизненных планах? Молева уже издала первую книгу стихов, принятую благосклонно, и, «вкусившей сладости славы», ей, возможно, уже хотелось иной жизни, хотелось, может быть, блистать не в Пскове, а на поэтическом небосклоне обеих столиц. Тогда ей стало тесно в городской квартире на улице Гражданской рядом с «опровинциалившимся» Григорьевым, в свое время «поблиставшим», получившим свою долю признания в Ленинграде, а теперь желающим работать в домашнем покое на родине, засиживающимся вечерами с еще более провинциальными друзьями-поэтами, с их нескончаемыми разговорами о поэзии, гонорарах, публикациях, обидах, происках цензуры и чрезмерным восхвалением друг друга.
Она и уехала в Ленинград, работала одним из редакторов Лениздата, потом, почти через двадцать лет, вернулась в Псков. С Игорем Николаевичем она охотно виделась, оставаясь в настороженно-дружеских отношениях. О Григорьеве она ни при жизни его, ни тем более после смерти слова плохого не сказала.
* * *
В молодости, будучи студентом филологического факультета Ленинградского университета, Григорьев подрабатывал тем, что позировал в Академии художеств. Сколько часов провел он неподвижно, устремив взгляд куда-то в даль, словно его окликнули и спрятались; сидел, закинув нога на ногу, положив на колено руки, под гулкими сводами классных мастерских, пока будущие художники прорисовывали черты его лица, казавшегося им, наверное, античным. Режиссеры назвали бы его лицо дворянско-белогвардейским и, стань Григорьев актером, приглашали бы на соответствующие роли. А вот кость у Игоря Николаевича была широкая, крупная, крестьянская, и, когда он в конце жизни выходил из кухни или спальни навстречу гостю — в обвисшей на плечах рубашке, — крупные руки на худом теле бросались в глаза в первую очередь.
* * *
Однажды мы с братом шли по Гражданской улице на берег Великой (несли в сумке соответствующий набор для «выпить-закусить») и встретили выходящего из продуктового магазина Игоря Николаевича. Выглядел он усталым, больным, заметив нас, обрадовался. Видно, его давно никто не навещал и ему хотелось поговорить. Узнав, куда мы идем, принялся отговаривать:
— Зачем на берег? Там милиция. Пойдемте ко мне. Я как раз «хунтик» (фунт) мяса купил, есть что на зуб положить. — И показал большой кусок говядины, «хунтиков» на пять, завернутый в бумагу.
И пока шли, он, оборачиваясь, все повторял:
— Сейчас сварим, поедим. Вы ешьте, а я не буду, болею, мне бульона хватит…
И мы, два молодых балбеса, действительно съели говядину, оставив растерянному Григорьеву один бульон. Уже действовала талонная система, и в этот день он как раз выкупил свою месячную норму. Хотя о голоде, как сейчас убеждают, говорить не приходилось: псковский рынок, даже в позднее горбачевское время, был завален мясом, копченостями, домашними колбасами, ветчиной.
* * *
В одном из интервью Григорьев сообщает: «Отец мой четыре Георгиевских креста получил в царское время, дослужился до штабс-капитана, был любимцем Брусилова, а в 18-м стал начальником Порховской ЧК…»
Полный Георгиевский кавалер — таких людей тогда по пальцам пересчитывали, — штабс-капитан, любимец Брусилова, начальник уездного ЧК… Сказано как бы между прочим, но в этом «между прочим» чувствуется сдержанная гордость за отца. Это правильно, когда сын гордится отцом, словно примеряя его заслуги на себя.
Совсем по-другому, с горделивостью почти что лихой, насмешливой, рассказывал он о себе, о своем военном прошлом:
— Мы в тот момент в партизанах сильно голодали, была зима. Пришел как-то вечером к одному старосте, наставил автомат: давай, мол, пожрать. «Нет ничего, пусто, — отвечают староста с женой. — Сами давно все подъели». Заглядываю под кровать, а там по-о-о-лное решето куриных яиц. Ну, меня и взыграло. «Жарь десять яиц», — говорю. Староста пожарил. «А теперь ешь». Староста съел. «Жарь еще десять и опять ешь». Староста сопит, давится, ест, потом отбросил ложку: «Хоть стреляй, но больше не могу». «Что, жила, будешь теперь жадничать?» — говорю, потом сам наелся, забрал остатки яиц и ушел.
Конечно, староста, конечно, пособник, ходит под немцем, почти враг, но сегодня эта история уже видится по-другому — как издевательство молодого вооруженного парня над безоружным человеком. Можно сделать скидку на войну, на голодную озлобленность, но все-таки, все-таки…
Вместе с тем сколько в Григорьеве с возрастом было доброты, внимания, чуткости, жалости, готовности «последнюю рубаху отдать». Как доброжелателен он был к молодым поэтам, в разные годы бывшим его учениками, — от Жемлиханова, Болдина до Родченковой. У меня каким-то чудом сохранилась копия давней телеграммы Игоря Николаевича к Жемлиханову, мало тогда печатаемому, ругаемому, находившемуся в душевном разладе с собой. Зная об этом, Игорь Николаевич писал: «Энвер, прочитал твой „Венок сонетов“. Ты настоящий поэт. Игорь Григорьев».
А сколько было случаев, когда он спасал, выхаживал замерзающих птиц, как дважды высылал всю пенсию незнакомой безрукой женщине, строившей себе новый дом, зная, что питаться ему снова придется сушками, «подушечками» и бульоном.
* * *
Помню маму Григорьева, высокую, приветливо-властную женщину (ей тогда было далеко за семьдесят), приезжавшую из Порхова с единственной целью — подкормить, наладить быт холостяковавшего сына. Григорьев рассказывал:
— Гостил у меня Энвер Жемлиханов из Великих Лук, сидим мы с ним как-то за столом, беседуем, мама готовит на кухне, подносит нам закусить. Захмелевший Энвер, как только она появляется, всякий раз говорит: «Мама, мама, спасибо, мама». Чувствую, мама наливается возмущением, но пока молчит, а потом как грохнет тарелку на стол: «Да какая я тебе мама, татарская ты м…». После этого мы все трое засмеялись, Энвер не обиделся.
Поэт Энвер Жемлиханов родился в Магнитогорске, почти всю жизнь прожил в Великих Луках, русский язык и культуру впитал с детства, считал родными. Сомневаюсь, знал ли он вообще язык татарский.
Когда эту историю он уже повторял сам, в его словах действительно не было обиды, а скорее было восхищение мамой Григорьева.
* * *
Однажды вечером в Аксеново он вдруг начал рассуждать о поэзии популярного тогда и сейчас поэта-песенника Роберта Рождественского, называя его, не без иронии, на итальянский манер Роберто, делая ударение на втором слоге.
— Это что за строки: «Был он рыжим, как из рыжиков рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу»! Это Роберто говорит о деревенском мальчике, родившемся в начале двадцатых годов. Красиво, конечно, но красота неживая, эстрадная, салонная, как и сам Роберто, рассчитанная на интеллигентного москвича, который будет восхищенно ахать: «Ах, как точно, образно, ах, как хорошо». А что тут хорошего, точного? — Разговаривая, споря даже самим с собой, Григорьев часто отодвигался от стола, увеличивая расстояние до собеседника, словно то, что он ему сообщал, было важно и требовало дополнительного места.
— Нет, правда, что тут хорошего? Ничего нет хорошего и точного. Рыжики в деревнях, к примеру, собирались маленькими, с пуговку, и если кому-нибудь приходило в голову искрошить их в рагу, получалась вермишель, мешанина. И где, спрашивается, в тогдашней деревне видели апельсины, да еще на снегу, если деревенские люди вообще не знали об их существовании? Так и представляешь: только что закончилась Гражданская война, в стране голод, разруха, нищая русская деревня, заваленная снегом, и по всей округе — в полях, на дороге, у крыльца — валяются апельсины.
Вчерашнего школьника, меня поразило откровенно насмешливое свержение авторитета. И только позже я понял, что Игорь Николаевич, отбирающий, пробующий на звучание каждое слово, прежде чем поставить в свою строку, имел право так говорить.
Близко утро. Синь в траве и мята, Петухи поют: «Заре поверь!» Вспыхнула лучина в темной хате, В тихой хате захрипела дверь. И летит к реке живой и строгий Запоздалый зов: — Ау-ау! И младенец месяц тонкорогий Забодать не может синеву.Здесь и правда, каждое слово звенит, переливается красками, играет, а сложенные вместе — рисуют картину бодрой свежести раннего утра. И таких отрывков в стихотворениях и поэмах Григорьева множество.
* * *
В конце восьмидесятых годов Игорь Николаевич начал приводить в порядок свой литературный архив (который у него всегда был в порядке). Он уже давно переехал с Еленой Николаевной Морозкиной в ухоженную квартиру на Рижском проспекте, ничем не напоминавшую его прежнее, почти вокзальное жилье на Гражданской — со старой случайной мебелью, с множеством гостей, которые порой оставались ночевать.
Мне не приходилось видеть писателей за работой, кроме, пожалуй, Куранова. Отвлекаясь, он мог поговорить, посмеяться, рассказать даже, о чем в данную минуту пишет, и снова, как ни в чем не бывало, не смущаясь стороннего наблюдателя, склониться над столом, продолжая выводить строку за строкой своим мелким, летящим почерком. Работа писателя — дело личное, почти тайное. И однажды, зайдя к Григорьеву, я был удивлен, увидев его печатающим на машинке. Вокруг на столе лежали большая стопка бумаги, какие-то коробки и папки, раскрытые книги.
— Вот сдаю дела, — пояснил он грустно. — Готовлю для Ленинграда свой архив.
Удивило меня, и с какой скрупулезностью все это делалось: каждое стихотворение (а их у него несколько сотен) Григорьев сначала переписывал от руки на листе ватмана, оставляя, так сказать, автограф, потом на другом листе перепечатывал стихотворение на машинке, а на третьем давал пояснения: когда и где оно было написано и впервые опубликовано, сколько раз, когда и где переиздавалось.
— Облегчаю литературоведам их работу, — сказал он. — Не надо будет рыться в подшивках, в книгах…
Эти слова вспомнились, когда через два с половиной года после смерти Игоря Николаевича мы с поэтессой Родченковой побывали на его квартире, навестили Морозкину. Елена Николаевна, угостив нас, принялась показывать недавно изданные книги по архитектуре, в работе над которыми она принимала участие. Шли девяностые годы, и мне все думалось, что уже никому в целом мире не нужны ни мы сами, ни наши писания, ни, тем более, какие-то архивы.
Без Григорьева квартира казалось огромно-пустой, как музей, еще не заставленный экспонатами. И не было чувства, что сейчас откроется дверь и пришедший Григорьев громогласно скажет с порога: «А кто у нас сегодня в гостях?»
* * *
Одним из любимых современных писателей у Григорьева был прозаик Федор Абрамов. Они, несомненно, были хорошо знакомы — сначала как студент и преподаватель, потом как члены Союза писателей, стоящие на учете в одной ленинградской организации.
Он не раз утверждал, что это лучший русский писатель двадцатого века, и в подтверждение своих слов говорил, что немцы, издав собрание сочинения Абрамова, так и написали в предисловии — лучший. В среде псковских литераторов в те годы чаще других современников читали Астафьева, Распутина, Белова, Шукшина, Казакова, Евгения Носова.
* * *
Умер Григорьев неожиданно. За несколько дней до этого был на писательском собрании, чувствовал себя больным, но так было все последние годы, и ничто не предвещало трагедии.
Сидел в уголке, что было для него непривычно, но все зависело от настроения или самочувствия, смотрел поочередно на выступавших, вставляя какие-то незначительные реплики. Потом мы не раз вспоминали это собрание. Так всегда бывает: последняя встреча с человеком кажется наполненной особого смысла, каждое его слово и жест — прощальным.
Но тогда, на собрании в начале 1996 года, мы были далеки от подобных мыслей, да и Григорьев, наверное, ничего не предчувствовал. Помню, когда уже расходились, Игорь Николаевич, прощаясь, пожимая кому-то руку, сказал: «Съезжу к сыну в Петербург на несколько дней, вернусь, тогда и поговорим». Он уехал, там и умер.
Вскоре после его смерти Светлана Молева опубликовала такие строки: «Сколько бы теперь ни писали о нем, нам всем миром не собрать малой доли стремительного, яркого, разрываемого противоречиями образа. Скорее всего, не удастся даже последовательно выстроить биографию, разбросанную по всей стране».
«Не собрать… не удастся». Это написал человек, который знал Григорьева, пожалуй, лучше остальных, но Игорь Николаевич и для нее остался неразгаданным.
Григорий Дегелев
Мы не были хорошо знакомы, на протяжении более тридцати лет встречались в основном случайно. Поэтому и воспоминания о Григории Дегелеве случайные.
Знаю, что в детстве он мечтал стать моряком. Удивляет эта черта мальчишек, живущих в селах и маленьких городах в глубине русской равнины, — мечтать о далеком море. Но, с другой стороны, ничего удивительного тут нет, если вспомнить, в какие годы родился Григорий. Ранее детство его пришлось на оккупацию, на послевоенную разруху в невельской деревне, на самое тяжелое время. И море тогда представлялось чем-то волшебным, несравненно прекрасным, с его бесконечными водными просторами, с морским братством, с возможностью увидеть другие земли, другие дали.
Тридцатилетним, он приехал в Псков после долгих скитаний в геологоразведке. Помню, как после окончания областного семинара молодых литераторов мы — Энвер Жемлиханов, Алексей Болдин, Олег Калкин и я — собрались отметить это событие в квартире поэта Игоря Григорьева (самого Григорьева почему-то не было). Пришел с какой-то дамой и Дегелев.
Жемлиханов и Болдин были поэты уже «на слуху». Оба в свое время учились в Литературном институте, изредка печатались в московских журналах, у Жемлиханова к тому же вышел сборник стихов, готовился к изданию второй. А что было у Дегелева?
Несколько опубликованных в местных газетах стихотворений.
И Григорий «завелся», заговорил, перебивая, громче всех: читал свои стихи, расхваливая их, говоря: «Это вам не крендель».
Жемлиханов и Болдин смотрели на него снисходительно, как на расшалившегося котенка, понимая, что он хочет произвести впечатление на даму. Но угадывалось за всей бравадой еще и другое — обостренное, чуть ли болезненное самолюбие, а отсюда такая же болезненная обидчивость. Позднее не раз приходилось наблюдать, как он расхваливал себя, а через минуту, путаясь в словах, вдруг начинал принижать: мол, куда нам вперед лезть.
Очень редко мы виделись в газете «Молодой ленинец», куда он приходил со стихами, или в писательской организации. Жизнь в провинции для пишущего человека трудна, а Григорий усугублял положение тем, что держался особняком, почти ни с кем не встречаясь. О нем мало что знали: ну пишет человек, иногда печатается.
Да и относились к нему не всегда серьезно, вспоминали редко, лишь когда он приносил подборку стихов для очередного альманаха.
— Что за поэт, если пишет по десятку стихов в год! — возмущенно говорили о нем. — Да и из этого десятка в печать пойдут два-три.
С годами он все больше производил впечатление неприкаянного, раздраженного, обижаемого всеми человека и сам, было видно, обижен на всех, на весь белый свет.
Но как было не обижаться? Все мы мало задумывались, что этот год для него, возможно, прошел в небольших, но трудах, в бессонных ночах, в попытках добиться совершенства стиха, когда чувства переливаются через край — от бурного ликования над удачной строкой до тупого отчаяния от невозможности написать лучше.
А как было пережить постоянное невнимание, эти полунасмешливые улыбки знакомых, которым он читал свои стихи, их невысказанные мысли: «Раз ты хороший поэт, почему не печатают?»
В молодости, как и многие, Дегелев писал «под Есенина», но со временем выбрал свой путь. Некоторые стихи после этого стали тяжеловесными. Он их называл «философскими». Однажды принес в редакцию даже большую «философскую» статью о скором конце света, о гибели планеты. И повел себя соответственно своему характеру: сначала настойчиво попросил статью напечатать, потом, получив отказ, унизил себя: «Сам понимаю, что чушь» — и ушел обиженный, что никто не проникся важностью его труда.
Было это в конце девяностых годов. Выглядел Дегелев уже больным. В те нищенские девяностые он особенно сильно мечтал о своей книге. Минуло ему сорок лет, перевалило за пятьдесят, а книги как не было, так и нет. По его рассказам, он тогда заключил договор с каким-то своим богатым знакомым: он, Дегелев, полгода будет работать у знакомого по хозяйству, а тот издаст его книгу.
— Обманул, гад, — позже говорил Григорий. — Не дал денег. Но я свое выбью.
Не знаю, «выбил» или нет, только первая, очень тонкая книжечка, «Цветок папоротника», вышла в 2002 году, когда ему было шестьдесят.
Через несколько лет болезнь обострилась. Григорий это понимал и готовил большой сборник на 250 стихотворений. Помогал ему Александр Бологов. Они вместе отбирали лучшие стихи, делали правку. Григорий приходил к Бологову домой, но уже не мог долго сидеть за столом, ложился на диван и говорил: «Только бы дождаться книги».
Умер он, когда сборник был в печати. Узнав об этом, работники издательства «Логос» сумели сброшюровать и сделать переплет для первого сигнального экземпляра. Этот первый экземпляр и положили с ним в могилу.
Иван Виноградов
Если начало жизни Ивана Васильевича терялось для нас, молодых тогда журналистов, в далеких двадцатых-тридцатых годах, лучше знали мы о его военной судьбе, послевоенных книгах, то окончание ее, даже угасание, происходило на наших глазах. Отработав собственным корреспондентом газеты «Правда», редактором «Псковской правды», на пенсии он сначала занимал должность секретаря Псковского отделения Союза журналистов, затем в том же Доме печати числился вахтером.
Художник Владимир Кузнецов, работавший в газете при Виноградове, рассказывал, что в пору редакторства Иван Васильевич был, мягко говоря, любителем поухаживать за женщинами. Но мы знали его уже другим — тихим, спокойнейшим человеком, который, проходя по коридору, с какой-то чуть ли не пугливой готовностью уступал дорогу встречным.
Вахтером он неприметно сидел за стеклянной перегородкой. Стучали тяжелые входные двери, входили и выходили, поднимались и опускались по лестнице люди, стеклянная перегородка вздрагивала, и вместе с ней, казалось, вздрагивал и этот мужчина в дешевом сером костюмчике, с интеллигентным лицом, сохранившим еще черты крестьянской округлости и простоты. Пробегавшим мимо журналистам он был известен, посетители, озабоченные, как бы их не остановили на вахте, вообще не знали, что пожилой худощавый мужчина за стеклом — писатель Виноградов, автор знаменитой книги «Дорога через фронт», десятка других книг, которого называли историком партизанского движения.
Но пожилой мужчина никого не останавливал, занятый какими-то своими грустными мыслями. Получая пенсию, он давно мог не работать, но работал на унижающей его должности, и этому были свои причины. Волновало его и другое: близился 1991 год, и все, что было привычно, близко, казалось незыблемым, — рушилось. Среди всеобщего распада и осмеяния кем он себе казался? Наверное, не нужным, всеми забытым человеком прошедшей эпохи, которую, как и его, скоро забудут.
Помню, как года за два до этого у нас состоялся разговор. Только что вышла его книга «Герои и судьбы». Однажды после работы я помог перенести несколько пачек с книгами из подвала в кабинет, и Виноградов, только что бывший в приподнятом настроении, деятельно-озабоченным, вдруг сказал с грустью:
— Эта книга мне дорога.
— А как же «Дорога через фронт», Иван Васильевич?
— «Дорога через фронт» — первая любовь, а эта — последняя. У меня такое чувство, что я больше ничего при жизни не издам.
Так и вышло…
За окном кабинета уже темнело, воздух синел, сгущался, в домах зажигались огни, и было в наступающем вечере умиротворение, покой… Скорее всего, вечер повлиял на Ивана Васильевича, он разоткровенничался, рассказал много интересного, в том числе и как встретил войну.
Совсем молодым Виноградов стал редактором районной газеты «Славковский льновод». Июль 1941 года, немцы наступают, идет заседание бюро райкома партии, на котором, среди прочего начальства, редактор газеты.
— По моим сведениям, — говорит первый секретарь, — немцы подходят к Пскову. Будут бои, но город не удержать. Так что скоро, возможно через неделю, враг появится у нас.
Районное руководство — исполком, милиция, НКВД, образование и медицина, председатель лучшего колхоза, директор местного заводика — сидят, не поднимая глаз.
— Жара тогда стояла страшная, — рассказывал Виноградов, — окна, что выходили на площадь, распахнуты настежь. А там, за окнами, что-то жужжит и жужжит на одной ноте, как пойманная муха, стрекочет и стрекочет. «Ванюша, — говорит секретарь, — ты у нас самый молодой, будь любезен, закрой окна». Перед тем как закрыть, я привычно высунулся наружу, вгляделся — и отпрянул: по площади кругами разъезжают немецкие мотоциклисты, крутят «восьмерки». За ту секунду-две поразили меня их каски, короткие автоматы на груди, пулеметы на мотоциклетных колясках — все не наше, чужое. И вот еще что поразило — ездили беспечно, как у себя дома, не боялись.
Дальше происходило следующее. Виноградов развернулся и, осторожно ступая, направился к столу, увидев, как напряглись лица членов бюро, — они все поняли. Растерянность, усталость последних дней мгновенно сменилась испугом. Все бросились к окнам на противоположной стороне, выпрыгнули и побежали переулками к лесу, все дальше и дальше…
Бежали почему-то попарно, Виноградов вместе с начальником местного НКВД. И когда потом, тяжело дыша, уже сидели на пнях, перематывая портянки, и юный редактор пытливо спросил старшего товарища, что теперь делать, тот ответил:
— На Урал, Ванюша, будем подаваться. Немец так прет, что до Урала его не остановить. Там и партизанить начнем.
Но партизанить начали здесь же, на месте, и немцы скоро это почувствовали.
Вначале Виноградов был разведчиком, но когда лесная жизнь наладилась, стал редактировать газету «Народный мститель». Участвовал в беспримерном рейде партизан в осажденный Ленинград, прошел с ними в жгучие морозы, по утонувшим в сугробах лесам через линию фронта, где, по уверению германского командования, «и воробей не пролетит». Партизаны доставили в город большой обоз с хлебом, были встречены, как герои, приглашены на званый обед в Смольный. Пошли прямо в валенках и полушубках, веселой и бодрой группой, потом притихли, потому что весь путь их сопровождали потухшие глаза изнеможенных ленинградцев, и здесь, в Смольном, со стойкостью выдержавшие тяжелейший переход, растерялись, долго не могли прийти в себя, увидев заставленный деликатесами стол. Понимали, конечно, что не сухой корочкой питается начальство, но чтобы такое изобилие с фруктами и марочным вином, словно не было осады, словно в мирное время!
Через несколько дней, возвращаясь на базу, в свои леса, партизаны матерились. И Виноградов говорил: «Сколько лет прошло, многое забылось, а эту несправедливость помню», хотя потом и добавлял: «Но ведь им, наверное, хотелось угостить нас получше, не только хлебом. Могли бы скрыть свои припасы, но не скрыли».
На моей памяти Виноградов редко общался с нами, молодыми, мало виделся с писателями, словно отпал от прежней жизни уже окончательно. Только и говорили о нем: «Вчера встретил Ваню в городе, идет, никого не видит» или: «Ваня, говорят, приболел, надо бы навестить». Всего раз или два видел его на писательских собраниях: держался он особняком, всем видом показывая, что оказался здесь случайно, и казалось, что он всегда на кого-то или на что-то сердит, обижен, как это бывает со стариками, живущими непонятыми в семьях с детьми.
А потом, после окончания своего вахтерства, совсем исчез и из писательской организации, и из нашего Дома печати, и не думаю, чтобы мы сильно озаботились… Но вот ощущение его присутствия рядом все-таки сохранилось: вроде и не видишь, а знаешь, держишь в памяти, что живет где-то рядом. И это он три года воевал, возил в Ленинград обоз с хлебом, торопливо писал на блокнотных листках неумелые стихи-песни, которые потом распевали партизаны от Сланцев до Плюссы, от Бежаниц до Валдая, и на его стихах лежит реальный свет партизанских костров. И появлялось чувство уверенности, как будто слышалась прошедшая сквозь годы военная песня: «Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны…»
Не стало Ивана Васильевича — ничего не изменилось, но саднит на сердце, чего-то не хватает, словно и броня не крепка, пробили в ней брешь, и танки не быстры. Виноградову было много дано, многого он достиг, много повидал и пережил. И хочется верить, что ушел он, как и жил последние годы, тихо, с миром, никого не стеснив заботами о себе.
Евгений Нечаев
Писал Нечаев, по его словам, довольно быстро, страниц по пять-шесть за один присест. Потом правил, сокращал. Писал поздним вечером или ночью.
— Эта привычка у меня с войны, с сорок пятого года, — говорил он обычно неторопливо, обстоятельно, каким и сам был в жизни. — Война заканчивалась, и тут я впервые представил, сколько людей со мной служило, сколько погибло. И они, погибшие, словно во мне ожили, просят слова. И засел я за роман. Думаю, всех помяну, всех перечислю.
Можно представить, как это происходило. Сидит ночами в блиндаже офицер, пишет что-то при свете коптилки, вокруг разбросаны листы бумаги, а посреди них, ощетинясь окурками, стоит консервная банка, похожая на ежа. Иногда от разрыва снаряда мигнет огонь коптилки, с шорохом посыплется с бревенчатого наката земля…
Роман получился огромным — восемьсот страниц убористого, мелкого текста.
— Отдал я в штаб машинисткам перепечатать — вышло еще больше. У меня закрались сомнения. — Нечаев делал удивленное лицо, словно не веря в свою тогдашнюю литературную неосведомленность. — Какие у нас на фронте были книги? Все маленькие, вроде брошюр. Я к другим не привык. А у самого получился огромный «кирпич». Разложил этот «кирпич» по трем папкам и повез в Москву к Борису Полевому, он тогда как раз в славу вошел. Тот посмотрел, почитал, а скорее всего передал почитать какому-нибудь литработнику, и сказал:
— Великоват роман-то, требуется сокращение. Да и сюжет слабоват, характеры не прописаны. Учиться писать надо.
Учился Евгений Павлович потом всю жизнь. После демобилизации приехал в Псков. Сегодня в Пскове немного осталось людей, кто помнил бы Нечаева молодым. Даже старшее поколение писателей-фронтовиков в те далекие годы привыкло видеть его уже много пожившим, много испытавшим. Это и понятно: он не только был старше всех псковских писателей, но и в литературу — романом «Под горой Метелихой» — вошел значительно позже них, когда ему было под пятьдесят.
На улице его трудно было с кем-нибудь спутать, особенно когда он вышагивал грудью вперед, выставив бороду. Среднего роста, коренастый, носатый, со своей окладистой бородой, он напоминал сказочного деда и поэтому называть его хотелось не Евгением Павловичем, а дедушкой Нечаем.
В помещении Союза писателей на улице Ленина он занимал комнатку, возглавляя псковское отделение Литфонда. В семидесятые годы, тогда еще совсем начинающие литераторы, мы с Сергеем Панкратовым нередко приходили к нему просить материальную помощь «на перепечатку рукописей» (была такая расходная статья). Деньги, конечно, были нужны на другое, понимал это и Евгений Павлович, но просимую сумму, открыв сейф, все-таки выдавал.
— Много вы, ребятки, что-то пишете, — не без иронии говорил он. — Принесли бы почитать.
Считая себя человеком советским, офицером он называл себя все-таки русским. Перед войной он окончил Второе Ленинградское краснознаменное артиллерийское училище. Попав сюда впервые сельским мальчиком, как и остальные сельские мальчики-курсанты, испытал гордость за свое училище — одно из старейших в стране, бывшее когда-то под патронатом императорской фамилии, восхитился «старорежимными порядками», царившими здесь, где помимо воинских дисциплин будущих красных командиров учили этикету, бальным танцам и умению пользоваться столовыми приборами.
Уважением, доходящим до обожания, пользовались преподаватели, которым хотелось подражать во всем и многие из которых — царские офицеры, фронтовики Первой мировой — сохранили традиции русского воинства даже в военной выправке, в вежливом обращении к курсантам — на вы: «Вы, курсант Нечаев, батенька мой, смотрите, как бы экзамены не завалить».
Это обожание сохранилось до окончания учебы и дальше — на всю жизнь, и уже в действующей армии, на фронте, во время боя, среди рвущихся вокруг снарядов, хотелось сказать Нечаеву своему нерасторопному взводному лейтенанту, вместо ругани и мата, совсем другое: «А вы, батенька мой, недобросовестно относитесь к обязанностям».
Литфондовских дел у Евгения Павловича было немного: составить отчет в Москву, подписать счета, оплатить какую-нибудь работу, что он и делал с терпеливым спокойствием. В писательскую организацию приходил почти ежедневно, накрепко укоренялся на стуле, и видеть его можно было в очках, с зажатой в зубах неизменной «беломориной», читающего чью-нибудь рукопись, книгу или невнимательно, занято отвечающего на вопросы бухгалтера Анны Васильевны.
Человеком он был немногословным, с посторонними вообще молчал. Но иногда глаза у него весело щурились, он откидывался на спинку стула, чтобы почувствовать себя свободнее, и тут уже все убеждались, что он любит и шутить, чуть грубовато, но не «по-солдатски», без пошлости, умеет и рассказывать интересно.
Помню один из таких вечеров. На улице рано стемнело, Анна Васильевна зажгла лампу, и она сразу же отразилась, повисла в окне ярким шаром. Нечаев сидит у окна за столом, рассказывает о крымском отступлении:
— Отступали через Керченский пролив кто на чем мог: на рыбацких лодках, на наспех сколоченных плотах. Немцы не давали покоя, бомбили, а за теми, кого уносило течением в открытое море, охотились летчики. Я переправиться не успел. Скопилось нас на берегу пролива, между водой и скалами, тысячи две бойцов. Были мы там как чайки на песке — укрыться негде. Немцы установили на скалах пулеметы, сначала обстреливали, потом перестали, решили, что сами без воды передохнем, зачем тратить патроны.
Рассказывая, Нечаев оглаживал бороду своей неожиданно маленькой, почти изящной для его фигуры и тем более для артиллериста ладонью.
— С нами оказался заместитель командующего фронтом генерал-лейтенант Баронов. Большого личного мужества человек. Так и так, говорит, помирать нам, товарищи, врежем по немцу напоследок. И повел нас в атаку. Бежали кто с винтовками, кто с наганом, как у меня, кто безоружный. И слышим — завыло, завизжало кругом. Это немцы открыли минометный огонь. Потери были огромные, Баронова тяжело ранило осколком. Не добежав до скал, отступили, остались лежать мертвые и раненые, раненые страшно кричали, пытались ползти обратно… Генерал-лейтенанта отправили на командирском катере на Большую землю. Оказывается, был у заместителя командующего фронтом личный катер, мог он сразу уплыть от греха, но не уплыл, остался с нами, бедолагами. По дороге, на катере, он и умер. Потом я запрашивал архив Министерства обороны, чтобы узнать место его захоронения, ответили: «Сведений не имеем». Думаю, похоронили в братской могиле, и есть ли сейчас над этим местом памятник, есть ли на нем его фамилия — не знаю.
Послушать Евгения Павловича собирались все, кто был в писательской организации, все, кто заходил по делам, да так и оставался. Наконец, не выдержав долгого гудения нечаевского голоса за стеной своего кабинета, появлялся ответственный секретарь Александр Бологов, замирал в дверях, прислонясь к косяку, смотрел на всех с рассеянной, далекой улыбкой, точно думая о чем-то своем.
— На второй день нашего «сидения» проплыл мимо буксир. Кто был в силе, бросились к нему вплавь. На буксире, как увидели плывущую в ним ораву бойцов, дали деру, чтобы не потопили. Ночью прибило к нам — или случайно, или кто послал во спасание — буксир с баржой. На нее мы и погрузились. Буксир — слабосильный кораблишко — пыхтел-пыхтел и не мог сдвинуть баржу с места. Но потом все-таки сдернул посудину, и уплыли мы от верной гибели.
Засиживались в такие вечера подолгу, первой спохватывалась Анна Васильевна, собирались и остальные. Евгений Павлович, все еще переживая рассказанное, последним закрывал дверь, склонив голову в барашковой, мехом наружу, шапке, сопя и тыча ключом в замочную скважину.
Войну Нечаев закончил в Берлине. На документальных кадрах военной кинохроники иногда можно увидеть такую картину: стоит посреди захламленной берлинской площади или улицы гаубичная пушка, вокруг которой суетятся артиллеристы, даже не суетятся, а ловко, быстро и умело, как бы с шутками-прибаутками, выполняют привычную солдатскую работу, и вдруг резко, едва не подпрыгнув, пушка стреляет по неведомой цели. Всегда при этом думалось: а не из дивизиона ли майора Нечаева стреляющая гаубица? Вполне возможно. И однажды спросил Евгения Павловича:
— Куда вы там могли стрелять в центре города? Кругом дома!
— По немцам вдоль улиц, куда же еще… И по домам били, если там объявлялся снайпер или «фаусник». Эти «фаусники» жгли наши танки почем зря. Целились с чердаков и окон по башенным люкам, где броня слабее… Немки, говорят, чтобы спасти себя и квартиры, бегали по чердакам, вязали снайперов и сбрасывали вниз.
* * *
Какие имена блистали тогда в Пскове, какие люди собирались в маленьких комнатах писательской организации: Гейченко, Васильев, Куранов, и у каждого входящего сюда мерк свет в глазах от вида лауреатов и Героев Труда, стоявших, каждый поодиночке, в стороне, но все равно как бы в центре. А между ними ходили, разговаривали, улыбались и здоровались далеко-далеко не пожилые Александр Бологов и стриженный в скобку, язвительный шутник Валентин Курбатов. Молодые ловили каждое их слово, и какое им сейчас было дело до сидящего у окна бородатого деда, которого они совсем недавно слушали с таким интересом!
Евгений Павлович, думается, не обижался ни на молодежь, ни на более именитых писателей и вряд ли бывал подавлен кажущейся своей незначительностью. Он знал себе цену.
А знали ли мы ему цену, не только литературную, но и человеческую? Много ли из нас, молодых, догадывалось, что в его душе, возможно, бушуют страсти? Много ли знало, что он остроумен и ироничен, причем очень тонко ироничен? Не знали, не догадывались и догадываться не хотели, потому что все это не вязалось с нашим представлением о суровом и нелюдимом дедушке Нечае.
Однажды он раскрылся. Рассказывая о войне, вспомнил о приезде к ним на фронт из Москвы с инспекторской проверкой Мехлиса, человека вздорного и крикливого. Как высокомерно, трусливо и бездарно повел тот себя, раздавая налево и направо «стратегические указания», от которых зависели судьбы людей, и как потом, раненный при обстреле в руку, сбежал в госпиталь, бросив неизвестно где портфель с документами. И когда Нечаев рассказывал об этом, давая «герою» едкие, уничижительные характеристики, уже открыто проявлялась в нем страстность и ирония была другая — язвительная, беспощадная.
Как-то он сказал писателю Куранову:
— Вот ты, Юра, пишешь образами, метафорами, сравнениями. Оцени, какой я образ нашел: весна, оттепель, с крыши избы пластом сползает снег, завис над землей. Это изба от жары во сне сбросила с себя одеяло. Хорошо?
— Хорошо.
— Смотри не стибри. Я его потом где-нибудь использую.
Куранов посмеялся.
Не знаю, использовал ли свой образ Нечаев, но вот факт: с возрастом, к старости, он стал писать лучше. Человеку уже за семьдесят лет, а он молодец молодцом.
В те годы он работал над романом-воспоминанием «Люди нашего города». Понимая, что, возможно, пишет лучшую книгу, стал замкнутее. Приносил отрывки книги к нам в редакцию в самый разгар газетной суеты, и другой бы опешил от вида бегающих туда и сюда людей, а он твердо шел по коридору, как ледокол мимо льдин.
— Посмотрите, может, чего напечатаете. Постарайтесь.
Мы удивлялись, было неловко: никогда ничего не приносил, никогда мы его не печатали, а тут чуть ли не просит.
Отрывки печатали, на редакционных летучках они отмечались в числе лучших, о чем я всякий раз ему сообщал. Он молчал, будто не слыша, но по слабой, едва мелькнувшей улыбке чувствовалось, что он доволен.
Нечаев прожил долгую жизнь — восемьдесят четыре года. В последнее время стали отказывать ноги. Евгений Павлович крепился, появлялся даже в Союзе писателей. Его привозили на улицу Ленина, а потом мы спускались и помогали ему подняться на третий этаж.
Так же, придерживая с двух сторон, помогали ему на похоронах писателя Виноградова. Он смущенно кряхтел, видимо, стесняясь своей немощи. А затем, оглядев собравшихся впереди людей, холм желтой земли на краю вырытой могилы, отчего-то растерялся, дальше не пошел, встал в стороне. На Нечаева оборачивались, с острой жалостью замечая беспомощное выражение лица, всю его одинокую фигуру в толстом ватном пальто, делавшем его почти квадратным, и, когда он, выпив поминальную стопку, не дожидаясь окончания, направился к выходу, все поняли, о чем в эти минуты думал Евгений Павлович.
В последний год совсем не выходил из дома. Сидел на кровати, опустив ноги, в рубашке, похудевший, слабый, только знаменитая нечаевская борода казалась еще больше. Но и в таком виде напоминал состарившегося, но командира, который по-прежнему воюет, только вместо гаубиц теперь были книги. Они лежали вокруг на стульях, на столе, на подоконнике, даже на кровати, и, разговаривая, он брал в руки то одну книгу, то другую. И снова вспоминал о войне, об училище, — об училище даже чаще, рассказывая, как после войны заезжал в Ленинград к любимому преподавателю, в послужном списке которого, помимо генеральского звания в дореволюционной России, была еще генеральская должность командующего артиллерией армии Колчака.
— Очень он обрадовался, что я жив, обнял, прослезился, совсем маленький, сухой старичок, как я сейчас. Потом засмеялся и показал на свои погоны: «Мне недавно звание присвоили. Теперь я снова генерал — в третий раз…». Умные головы не тронули после революции таких отцов-командиров, понимали, что одними комиссарами в войне не победить, нужны профессионалы, а где их было взять, кроме как царских.
Писатели приходили к нему часто. Критик Валентин Курбатов пишет, что на книжном шкафу Евгения Павловича висел его парадный китель и что они беседовали с ним, с кителем, когда были одни.
При мне он уже висел на двери спальни, тяжелый от медалей, увенчанный пятью боевыми орденами, в числе которых был и один «командирский» — орден Александра Невского, которым награждали в исключительных случаях генералов и старших офицеров «за умелое командование войсками». Помню, меня удивило место для кителя — напротив кровати, пока не догадался, что так, наверное, Нечаеву удобнее с ним разговаривать, словно бы с самим собой, молодым, только что вернувшимся с войны и стоящим в дверях.
О чем они беседовали долгими ночами, когда затихала за окном беспокойная Коммунальная улица и время, казалось, тоже останавливалось? О горьком, трагическом, пережитом, ушедшем безвозвратно? Но были, наверное, и радостные воспоминания.
Теперь остается только жалеть, что почти ничего из его рассказов не записано. Записи вел Валентин Курбатов, и они наиболее точны, потому что заносились на бумагу Курбатовым сразу после прихода домой. Немного записывал и автор этих строк, но после обработки они не передают непосредственности нечаевской речи. Надо было использовать магнитофон, и думалось об этом, но откладывалось на потом.
— Один я остался. Последний солдат, — сказал как-то Нечаев.
Он и был последним солдатом из псковских писателей-фронтовиков. Другие — Васильев, Виноградов, Маймин, Гейченко, Григорьев — ушли раньше. Нечаев уйдет в 1999 году.
Александр Гусев
В шестидесятые-семидесятые годы Александр Иванович Гусев проживал в деревянном домике на углу улиц Некрасова и Ленина, как раз напротив центрального входа в Дом Советов. Не знаю, какие чувства испытывали при виде невзрачного дома секретари обкома и председатель облисполкома, ежедневно приезжавшие на работу. Не знаю, каким образом Александру Ивановичу это жилище досталось, собой оно представляло лишь кухню и крохотную спальню без окон, до самого потолка заставленную полками с редкими книгами и собранием художественных альбомов.
Из этого дома у него было две дороги. Утром вверх по улице Некрасова до областного музея-заповедника, где он работал экскурсоводом, а в обед и вечером уже вдоль улицы Ленина до диетической столовой. Вечерами, впрочем, он иногда ходил в гости к поэту Игорю Григорьеву или по книжным магазинам, директора которых были ему знакомы, и там, в подсобках, перелистывал вздрагивающими от волнения пальцами книги. Все хотелось купить, поставить на свои полки, глаза разбегались от книжного богатства, но денег, как всегда, не хватало.
Григорьев, когда Александр Иванович приходил, обычно восклицал: «Вот настоящий поэт, не то что мы, бездари». А Гусев, привыкший к его постоянным похвалам, только усмехался. Он стремительно заходил на кухню — тогда еще молодой, тонкий, с огромной шапкой русых кудрявых волос, разлетавшихся, как пух, от любого движения, похожий этой кудрявостью на некоего хрестоматийного русского деревенского мальчика-поэта, какими их обычно представляют — сидящими под березкой на лужке и играющими на дудочке. Но это было обманчивое впечатление. Лицо его, несмотря на шапку волос, на интеллигентность и деликатность, было вполне мужественное, мужское.
Примерно в 1976-77 году дом сгорел. Дело произошло ночью, пожарные заливали постройку водой, а Гусев, забыв про свой скромный скарб, вытаскивал из горящего дома книги. А потом он сидел на ящике во дворе, среди стопок книг, с которых стекала вода, и, не обращая внимания на суетящихся пожарных, плакал. Почти вся библиотека, с любовью и великими трудами собранная за последние пятнадцать лет, погибла. Позже, потрясенный, он напишет:
Но длилось испытание огнем: Горело все, что трудно так давалось, Что нажито терпеньем и трудом И домом испокон именовалось.Жизнь его не была богата на внешние события. Главными из их, наверное, можно считать этот пожар, службу в армии и еще немецкую оккупацию.
Гусев родился в феврале 1939 года в деревне Шемякино Порховского района (откуда родом был и другой псковский писатель — Иван Виноградов), и в начале войны ему не исполнилось еще и двух с половиной лет. Но день прихода немцев в деревню ему запомнился, он стал первым страшным детским воспоминанием. Накануне, решив принять смерть сообща, всей деревней вырыли за околицей огромную яму, со стен которой от грохочущей канонады уже осыпалась земля. Душной летней ночью все шемякинцы, озаряемые сполохами огня, молча, по скрипучей лестнице, неслышными тенями, спустились вниз. Так и увидели их немцы утром — сидевшими на дне, без вещей, плачущими, с детьми на руках.
Потом на целых три года частью его жизни станут оккупанты, ходившие по улице с жандармскими бляхами на груди, чужая лающая речь и нестерпимый запах гуталина от солдатских сапог.
В доме Гусевых квартировал денщик. Это был пожилой печальный человек, тоскующий по родному дому, детям и внукам. В доме Гусевых он занимал мала места, был неприметен, сидел вечерами у окна, смотрел на улицу, на запад. Не имея возможности заботиться о родных, половину пайка отдавал Сашиной матери, а когда продуктов совсем не оставалось, приносил, пряча под шинелью, с немецкой кухни хлеб.
Этот денщик потом и спас семью Гусевых, которой, за связь с партизанами, грозил по меньшей мере концлагерь. Прибежал как-то вечером взволнованный и закричал, переходя на шепот, путая русские и немецкие слова:
— Фрау, бистро, бежать. Шнель, шнель, каратели!
Времени на сборы не оставалось, и они почти раздетыми побежали через заснеженное поле к лесу. И когда, запыхавшись, остановились на полпути, их дом уже горел, пламя с ревом уходило вверх, бросая отблески на соседние крыши.
Постоянно публиковаться Гусев начал в газете «Молодой ленинец» в 1962 году. Окончил Литературный институт. В ту пору там учился будущий великий русский поэт Николай Рубцов, и все псковичи, тоже учившиеся в литинституте, окончившие и не окончившие его, часто вспоминали о Рубцове. Евгений Борисов, к примеру, говорил, что выпивал с поэтом и тот хвалил его стихи. Примерно то же самое говорили Энвер Жемлиханов и Михаил Зайцев. Гусев рассказывал о встрече с Рубцовым так:
— Захожу в комнату общежития, сидит на стуле Николай, маленький, уже лысеющий, играет на гармони и поет свои песни. Рядом его приятели, на столе бутылки. Постоял, послушал, почувствовал себя лишним и ушел.
Не лишним, конечно, но обособленно чувствовал он себя в литературе. Уже не помню, кто из профессиональных псковских литераторов, кроме Григорьева, хвалил Александра Ивановича. «Сухарь, книжник, пишет не сердцем, а умом», — обычно говорилось в его адрес. Были и почитатели, но в среде музейных, библиотечных работников, немногих журналистов. Актер Владимир Свекольников, считавший себя в поэзии учеником Александра Ивановича, сказал как-то знаменательную фразу: «Александр Гусев на Псковщине второй поэт… после Пушкина».
Печатали Гусева неохотно. Он не принадлежал к тем активным литераторам, которые все написанное сразу рассылают по газетам и журналам, альманахам и коллективным сборникам, в надежде, что авось где и напечатают. Но и литературным затворникам тоже не был, любил и охотно выступал на литературных вечерах. Помню, как однажды он торопливо одевался, расхаживая по квартире, подбирал галстук, которые в общем-то не любил носить, рылся в рукописях, откладывая в сторону странички со стихами и, радостно-возбужденный, говорил мне: «Пригласили на творческую встречу в Черехинский пансионат. Поедем со мной выступать, а? Сейчас и машина оттуда придет».
Первая небольшая книга стихов «Пожелай мне удачи» была издана лишь в 1971 году, с предисловием М. Львова, у которого Гусев учился в семинаре. Когда вышла вторая книга (1974), тоже невеликая, я как-то спросил Александра Ивановича, сколько он всего написал стихов?
— Точно не знаю, не считал. Может, триста. — И засмеялся.
— А сколько опубликовано?
— Около сотни.
Человеком он был верующим, что невозможно скрыть, и это, конечно, проявлялось в стихах лишними, с точки зрения редакторов, строчками. Редакторы требовали строчки заменить, Гусев отказывался, снимал все стихотворение, оставляя его на лучшее, благоприятное время. Он тогда переписывался со Светланой Молевой, одним из редакторов Лениздата, хорошей поэтессой, человеком независимым, которая сама не могла опубликовать ничего лишнего, и его письма к ней и ее письма к нему были полны жалоб на «проклятую цензуру».
Третью поэтическую книгу, дающую возможность подать заявление на вступление в Союз писателей СССР, пришлось ждать еще десять лет. Гусев заявление написал, страстно, как все писатели, желая этого вступления, дающего автору не только официальное признание, но в те годы еще и высокий общественный статус, сравнимый, по меньшей мере, со статусом доктора наук, профессора. Но тут снова сыграло роль мнение о Гусеве как о сухаре, книжнике, пишущем не сердцем, а умом. Дело не дошло даже до московской приемной комиссии: «второго на Псковщине после Пушкина» поэта зарубили в самом начале, в Пскове, — большинство псковских писателей отказало ему в рекомендации, проголосовало «против».
Не знаю, как он вытерпел этот удар, эту несправедливость. Внешне оставался спокоен, даже шутил, но то, что это было для него трагедией, — несомненно. В Союз писателей Гусева позже приняли, когда ему исполнилось пятьдесят три года, и после тридцати лет литературной деятельности, писания стихов, изданных книг все выглядело как насмешка.
Долгое время после пожара, не имея крыши над головой, он проживал в квартире поэта Игоря Григорьева, где ему была выделена отдельная комната. Игорь Николаевич не считал Гусева своим учеником, слишком они были разными в смысле творчества, но хвалил чрезмерно. В этой чрезмерности можно было бы усмотреть некоторое лукавство, но все не так. Хотя Григорьев, несмотря на суровость, был человеком по-детски восторженным к литераторам, но не настолько, чтобы не отличить хорошее от плохого, и хвалил, конечно, искренне.
Через несколько лет Гусев перешел на работу в областную библиотеку, в отдел книгохранения, и оказался словно в своем мире. В служебном халате, он ходил среди нескончаемых стеллажей с книгами, мог взять любую и читал, читал… Незадолго до смерти он вновь обрел жилье, получив, скорее всего от Союза писателей, однокомнатную квартиру на улице Яна Фабрициуса, и тут же заставил комнату с четырех сторон полками с книгами.
* * *
В одном из интервью «Псковской правде», вспоминая детство, Гусев говорил о повестях Гоголя: «…мне казалось жутко несправедливым, что они написаны прозой». Александр Иванович был всегда нацелен на поэзию, подумал я и вспомнил наш давний спор о Бунине. Гусев утверждал, что Бунин как поэт неизмеримо выше Бунина-прозаика. Я возражал, что его поэзия — тематически продолжение творчества Фета, Майкова, он их последователь, не более того, а вот проза Бунина — одна из вершин мировой литературы, недаром он и Нобелевскую премию получил за прозу.
Спор проходил во время прогулки, Гусев по обыкновению слушал, опустив лобастую голову, словно в большой задумчивости, и наконец заявил непреклонно:
— Лучше бы ему дали премию за поэзию.
С того разговора прошло почти сорок лет, а я до сих пор недоумеваю: неужели Александр Иванович не понимал очевидного? Не понимал. Он действительно во всем и всегда был нацелен на поэзию.
* * *
Он был одинок, даже в молодости, в расцвете сил, когда жизнь кажется бесконечной, жил с осознанием, что рано или поздно все закончится смертью. Скорее рано. Старший брат погиб на фронте, Гусев его не помнил, разница между ними была в 16–17 лет. Но это ощущение, что человек, тем более человек родной, внезапно смертен по независящим от него обстоятельствам, таким как война, сопровождало его постоянно, не давало покоя. Потом тяжело заболела мама, Александр Иванович прочитал все возможные медицинские справочники, все доступные научные статьи, пытаясь обнаружить какое-нибудь тайное, никому не известное средство для лечения мамы, — не помогло.
Никогда он не был и женат. В писательской среде ходили разные домыслы и слухи. Со временем, когда наше знакомство стало перерастать в товарищество, я его спросил об этом.
— Подожди, узнаешь через восемь лет. Скажу только одно: я дал подписку о неразглашении.
Но все выяснилось раньше — рассказали посвященные люди. Во время срочной службы в армии, на одном из испытательных полигонов, Гусев получил почти смертельную дозу радиации и не только не мог иметь семью, но даже загадывать свою жизнь на год вперед, почти каждый день ожидая, что давняя болезнь «догонит и накроет» его.
* * *
Александр Гусев из тех, кому удалось в одном стихотворении сказать о малой родине, о Пскове, свое, незабываемое. Такие стихи со временем становятся народными — как высшее их признание.
Я оттуда, где речка Пскова Ткет туманов шелка над водою, И луна — золотою скобою, И в скобарских глазах — синева; Где березы под звон тишины, Подобрав осторожно подолы, Словно в синие вольные воды, Входят робко в глубокие льны.Не официальный псковский гимн на слова Станислава Золотцева, при исполнении которого принято вставать, а эта речка Пскова и еще стихотворение Олега Тиммермана («Есть кино „Мы из Кронштадта“» и т. д.) стали визитной карточкой города, если хотите, земляческим знаком. Почему именно эти стихи, а не другие, не известно, тайна сия велика, выбирает их простой читатель по своим законам.
У нас в России даже самый маленький городок имеет знаменитого местного поэта. Как правило, это самодеятельные авторы, время от времени печатающиеся в районных газетах. Но однажды их выбирает судьба, на них снисходит крылатое вдохновение, и они в восторге и упоении сочиняют за кухонным столом нечто такое, чаще всего единственное, что потом остается в памяти.
Есть в Тверской области город Вышний Волочёк, известный тем, что там еще в 18 веке были прорыты судоходные каналы. Однажды должно было свершиться, должен был местный автор написать о городе особенное, неповторимое, вызывающее гордость, ложащееся на сердце. И свершилось:
Не в Италии, не в Греции Этот дивный старичок, А в России есть Венеция — Город Вышний Волочёк.Имя автора давно забыли, а стихи живут уже 60 лет, и в самых далеких краях любой вышневолочанин узнает другого вышневолочанина по этому стихотворению.
* * *
Одно время Александр Иванович увлекался перепечаткой мало-издаваемых тогда писателей Серебряного века — Сологуба, Белого и других. Материал находил в дореволюционных пожелтевших журналах. Перепечатанные на пишущей машинке рукописи оформлял в книжки. Это были малоформатные, «карманные» книжечки, не совсем умело переплетенные. После пожара я их больше не видел, видимо, они сгорели в огне.
* * *
Проживая в квартире Григорьева, Гусев редко появлялся из своей комнаты. У Григорьева бывали шумные гости — студенты-филологи, почитатели, начинающие поэты. Но стоило прийти кому-нибудь из знакомых ему людей, как он тут же выходил, останавливался в дверях кухни, прислонясь к косяку, и так, разговаривая, стоял по часу, по два, пока не наступало время прощаться.
С возрастом он стал казаться хрупким. В молодости, несмотря на худобу, был крепок, жилист, но когда силы начали уходить, внешне стал похож на свою ранимую душу.
* * *
Критик Валентин Курбатов, прочитав составленный при жизни самим Гусевым двухтомник своих стихотворений и поэм, написал пронзительную, отчасти даже покаянную статью о его творчестве, сожалея, что в суете «пропустил дорогого собеседника, умного поэта, высокое русское сердце», закончив статью словами: «Но, слава Богу, поэзия не уходит с поэтом, а встает на полку святой русской библиотеки, чтобы дождаться другого открытого сердца. И жить дальше».
Умер Александр Иванович Гусев в 2001 году. В последние годы, говорят, писал жесткую прозу, из которой при жизни не опубликовал ни строчки.
* * *
В оформлении обложки использована репродукция картины Константина Сутягина «У железной дороги».







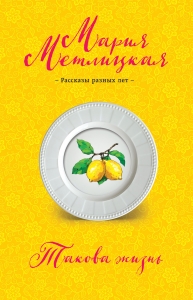

Комментарии к книге «Голос с дальнего берега», Владимир Васильевич Клевцов
Всего 0 комментариев