Сергей Прокофьев Рассказы
Если есть мысль, то стиль повинуется мысли. У меня есть мысль, значит, я пишу. Сергей Прокофьев
Предисловие
Однажды Сергей Прокофьев, перебирая свои детские бумаги и рукописи, обнаружил среди них неоконченный детский роман. Перечитав его, он пришел к выводу, что это «сплошное многословие», но что он мог бы писать «совсем недурные рассказы, была бы мысль». Опасение вызывал у него стиль: «Характерный ли он или просто неприятный? Если первое, то писать можно, если второе, то он будет смешным. Но важно следующее: если есть мысль, то стиль повинуется мысли. У меня есть мысль, значит, я пишу» — такая запись появилась в дневнике Прокофьева в июле 1917 года.
Первый рассказ Прокофьева называется «Мерзкая собака». Всего им было написано с десяток рассказов, некоторая часть из которых, к сожалению, сохранилась лишь частично. Все рассказы были написаны в 1917—1919 годах, часть — в Петербурге и во время длительных поездок по железной дороге на Кавказ, часть — в Транссибирском экспрессе, который вез Прокофьева целых 18 дней во Владивосток. Некоторые рассказы были написаны в Японии в период двухмесячного ожидания парохода в Америку, и, наконец, на самом корабле, плывущем в Америку, а также в Нью-Йорке. Прокофьев с большим увлечением и любовью пишет свои рассказы, он не считает, что это занятие отвлекает его от композиции, а расценивает его как передышку, после которой работа пойдет только лучше.
Склонность к литературе была явно выражена у Прокофьева с раннего детства. С возрастом литературные способности лишь укрепились, и свидетельством тому может быть обширная и интереснейшая переписка композитора со множеством корреспондентов, а также написанная им Автобиография, которую известный американский дирижер и музыкальный критик Роберт Крафт сравнивает с воспоминаниями Набокова. Делал Прокофьев и переводы сонетов французского поэта XIX века Жозе Мария Эреди, которые получили высокую оценку таких поэтов, как Константин Бальмонт и Игорь Северянин.
Сергей Прокофьев всегда стремился сам писать либретто своих опер, проявляя умение работать с литературными произведениями других авторов (опера «Игрок» по роману Федора Достоевского, «Любовь к трем апельсинам» по комедии Карло Гоцци, «Огненный ангел» по роману Валерия Брюсова и т.д.). Он считал, что «когда пишешь фразу, уже является и идея музыки».
Хронологически рассказы были написаны в период необычайного творческого подъема С.Прокофьева. В тот период им были созданы такие шедевры, как оперы «Игрок» и «Любовь к трем апельсинам», новаторские Скифская сюита и «Семеро их», а также Классическая симфония и Третий концерт для фортепиано и оркестра.
Несмотря на тематическое разнообразие рассказов, от символически-сюрреалистической «Блуждающей башни» до сказочного «Гриба-поганки» или почти банального любовного рассказа «Мерзкая собака» с остроумной фабулой и неожиданной концовкой, — всех их объединяет свойственная Прокофьеву тонкая наблюдательность, ясность мысли, лаконичность и простота стиля, а также легкая ирония, доходящая иной раз до сарказма.
Особенно хочется отметить рассказ «Блуждающая башня», где Прокофьев изображает себя в виде мчащейся по свету фантастической башни, которую таинственная сила влечет к древней Вавилонской башне. В этом рассказе слышны отзвуки ритмов прокофьевской музыки Скифской сюиты, «Семеро их», повествующих о событиях близких эпох. Полной противоположностью является один из первых рассказов Прокофьева — «Гриб-поганка», навеянный так любимыми им прогулками по долинам и лесам, где он порой останавливался и любовался красивейшими мухоморами.
Увлекшись работой, Прокофьев обнаружил, что за год он написал восемь рассказов, и, со свойственным ему юмором, отмечает, что при таких темпах за сорок лет он напишет триста двадцать рассказов — «что совсем недурно для солидного писателя!» К сожалению, или к счастью для композитора, сочинение музыки одолело литературное творчество. Больше рассказов Прокофьев не писал. Его последним литературным опусом можно считать сказку «Петя и волк», текст которой иногда издается отдельно от музыки и часто называется «народным». Как это ни парадоксально, не это ли высшее признание литературного таланта Сергея Прокофьева?
Мерзкая собака
Петроград - Ессентуки 20 июля - 30 июля 1917 года
Был теплый, душный летний вечер. Я торопился, потому что боялся, что будет слишком поздно, когда я приду к Марии. Луна просвечивала сквозь деревья, сбрасывая на мостовую яркую плетенку из белых бликов и черных теней. Я торопился, потому что Мария жила далеко, почти на краю Флоренции. Там, говорила она, меньше людей, больше цветов. Я боялся одного: что встречу опять этого гадкого лейтенанта, который, по-видимому, чувствует себя в ее маленьком домике, как хозяин, восседает, как король, разговаривает, как китайский император. Еще бы! Он знает, что всецело владеет ее сердцем, да и одним ли сердцем? Я теряюсь, чем этот грубый неуч мог покорить ее, такую тонкую душу, но когда он приходил к ней, она только его, кажется, и видела. Я чувствовал, что в те минуты превращался в какую-то мебель, о которой вспоминали лишь тогда, когда на нее натыкались! А между тем, третьего дня, когда лейтенанта не было, Мария была со мной совсем другая.
За городом было менее душно: больше цветов, меньше людей. Ее домик стоял одиноко, имея лишь одного соседа. Я толкнул калитку и взошел в густой, цветущий сад. Домик ее просвечивал, до того он был перевит вьющимися растениями. Сколько раз в моих эскизах я набрасывал на полотне этот радостный утолок. Так и есть, лейтенант был здесь! Без всякого сомнения здесь, потому что из окна донесся, прямо- таки ударил по уху варварский звук гитары. Я знаю, что у Марии тонкий вкус, почему же она терпит эту гадость? Я остановился и хотел было уйти, — и правда, кому приятно играть роль мебели? Но в ту же минуту мне стало так скучно без Марии, что я согласился на что угодно, лишь бы побыть около нее.
Когда я вошел в комнату, Мария удивленно глянула на меня, однако довольно мило сказала:
— Здравствуйте, Фернандо, — и сейчас же наклонилась к столу, внимательно разрезывая пирог. Я знал, для кого этот пирог. О, это был знаменитый абрикосовый пирог, который можно было видеть только у
Марии. Тонкий, поджаренный, с сочными кусочками абрикоса, не разваренными, но лишь слегка тронутыми огнем. Это был удивительный пирог, и канальский лейтенант отлично знал ему цену. Право же, он приходил не столько для Марии, сколько для пирога, да для полбутылки «Асти», которая всегда ждала его!
— А! — закричал лейтенант, растопырив пальцы и хлопнув ладонью по крышке гитары, — он будет слушать мою новую песню!
Очень мне было нужно слушать его новую песню! Однако это составляло какой-то выход из положения, и поэтому я уселся против него, изобразив на лице возможное внимание. Лейтенант ударил по гитаре, на этот раз не по крышке, а по струнам. Раздался громкий аккорд. Я с отчаянием взглянул на Марию. Она, не поднимая глаз, встала от стола, держа обеими руками длинную тарелку с пирогом и собираясь отнести ее лейтенанту. Сердце мое больно забилось при виде этого нежного внимания. Вдруг странный звук заставил меня вскочить: из сада будто что-то прыгнуло в открытое окно. Я быстро обернулся и увидел на подоконнике большого пуделя. Он, по-видимому, не совсем рассчитал свой прыжок и находился в состоянии неустойчивого равновесия, не зная, удержаться ли на подоконнике или прыгнуть назад. Мария вскрикнула, отскочила назад и выронила тарелку. Пуделю как будто этого и надо было. Он понатужился и спрыгнул в комнату. Через момент он влез мордой и лапами в пирог. Явление было до того неожиданно, что я от удивления уже не сдвинулся с места. Между тем пудель вилял хвостом, радостно приварчивал и глотал пирог кусок за куском.
Вдруг гитара со звоном полетела на пол, лейтенант, как зверь, прыгнул с дивана, схватил пуделя за задние лапы и богатырским движением бросил его через голову в окно. Собака описала в воздухе невероятную дугу и крякнула в какой-то клумбе. Раздался неистовый собачий визг на все лады и переливы. В соседнем домике зазвенел отпирающийся замок, хлопнула дверь, и хозяин стал звать собаку. Через несколько мгновений визг стал слабеть, затем послышался звук запирающегося замка, и все стихло.
Лейтенант стоял над разбитой тарелкой; брезгливо держал двумя пальцами остаток пирога.
— Благодарю вас, — сердито сказал он Марии, — превосходный пирог... вы умелая мастерица, а еще лучше ваша ловкость, с которой вы бросили его на пол...
— Джиованни, — проговорила она с укоризной, — вместо пирога вы могли бы пожалеть меня, я так испугалась!
— А вы, — закричал Джиованни, — вместо себя могли бы пожалеть меня: вы знаете, я с утра ничего не ел. Я голоден и ухожу в кафе, — прибавил он, одевая шляпу с перьями.
— Джиованни! — умоляюще крикнула Мария и, подбежав, схватила его обеими руками.
Это становилось невтерпеж. Я вскочил с места и шагнул вперед. Впрочем я знал, что когда здесь бывает лейтенант, я превращаюсь в мебель и меня не замечают. Но этим движением я напомнил о себе. Мария взглянула на меня, покраснела и, отстав на шаг, отвернулась от лейтенанта.
— До свидания, — сказала она ему, — вы несправедливы, как всегда. И с этими словами, опустив голову, вышла в другую комнату.
Лейтенант нацепил саблю и, не удостоив меня поклоном, через окно выскочил в сад. Ходить через дверь он, по-видимому, считал недостаточно по-молодецки.
Я медленно пошел в ту комнату, где скрылась Мария. Я не сомневался, что она теперь уткнулась в кровать и безутешно плачет. Однако я нашел ее у окна. Она смотрела на дом соседа и нехорошие огоньки были в ее глазах. (Все свое негодование она перенесла на пуделя и на его владельца.)
— В своем доме нельзя быть спокойной от бешеных собак! — с непередаваемым возмущением воскликнула она.
— Мария, побойтесь Бога, какая же это бешеная собака! — взмолился я. — Поверьте, ее, как и лейтенанта, пирог интересовал гораздо больше, чем вы! Просто это несчастный голодный пудель, которого не кормит ваш сосед!
— Скряга и сыч, — решила Мария, — собаку не кормит, приему не держит. Проболел он тут неделю, так теперь только и делает, что пишет завещание.
Я взглянул в окно. Сквозь деревья был виден его дом, и через освещенное окно действительно вырисовывалась фигура, склонившаяся над письменным столом.
— Пишет и пишет, пишет и пишет, твердила она. — Верно и есть что завещать, от такой-то жизни!..
— Ну и пусть себе пишет, — миролюбиво сказал я. Но мир расплескался.
— Житья от него нет! — воскликнула она. — Вчера у подъезда на ногу наступил, сегодня на меня собака бросилась...
— Мария, почему же вы мне раньше об этом не сказали? — сказал я, начиная чувствовать к старику антипатию.
— Потому что кроме вас есть Джиованни. Сегодня он выбросил собаку, завтра поговорит со стариком.
Я вскипел.
— Ну, положим, со стариком будет разговаривать не он, а я, и не завтра, а сейчас!
С этими словами я надел шляпу и выскочил в сад.
— Куда вы? — крикнула вслед Мария, и в голосе ее я уловил беспокойство. Из сада я увидел, как она перегнулась через подоконник и громким шёпотом сказала:
— Фернандо! Не смейте делать глупостей! Куда вы теперь?
Но я уже перелез через забор и спрыгнул в сад соседа. Прыгая, я едва не расшибся, так как соседский сад был в углублении и забор с его стороны был гораздо выше. Я быстро поднялся и, слегка прихрамывая, решительно подошел к освещенному окну. Окно было раскрыто, старик сидел рядом, у письменного стола, и сосредоточенно писал свое завещание. Висячая лампа отражала свои лучи в его лысине, как солнце в океане. При звуке шагов он слегка насторожился.
— Если вы сейчас же не уберете к чорту вашу подлую собаку, — закричал я, — то я завтра же переломаю ей ноги, а вам перебью окна!!!
При первых же моих словах старик порывисто поднялся и взглянул в окно, но видно было, что в темноте он меня не различает. При последних словах он протянул руку к окну, захлопнул его и опустил штору.
Я несколько неожиданно очутился в темноте. Впрочем, это лучшее, что он мог придумать в ответ на мою нотацию. Я повернулся и пошел к калитке, но она оказалась запертой и слишком высокой, чтобы через нее перелезть. Луна была за тучею, и я с трудом различал предметы. Тем не менее я добрался до того места, где я вспрыгнул в этот сад, но стена была тоже слишком высока, чтобы на нее взобраться. Я споткнулся через ведро с отвратительным запахом свежей краски и упал на валявшуюся рядом лестницу. Очевидно, старый скряга раскошелился и решил выкрасить стены дома или забор. Лестница была мне на руку, и через минуту я, приставив ее к забору, очутился в саду у Марии. С волнением я спешил к ней, но дверь оказалась запертой. Я сбежал в сад и подошел к окну. Окно было закрыто. Я подошел к другому — тоже. Я вернулся к двери и осторожно постучал в нее. Никто мне не ответил. Маленький домик крепко спал, и Мария тоже...
Тихим шагом я поплелся к себе домой.
Спать этой ночью я не мог. Уж конечно, не из-за приключения с этим глупым стариком. Еще того меньше из-за лейтенанта. Но шёпот Марии, когда она, перекинувшись через подоконник, задыхаясь, говорила: «Фернандо... не смейте... не смейте ходить!» — не давал закрыться моим глазам. Я уловил в нем какую-то нежность, может, я принял за нежность испуг, все равно, какое-то новое чувство ко мне, неожиданно новое и для меня негаданно светлое.
С ранним утром я поднялся. Попытался работать, но работа не пошла; я бросил кисти и пошел за город. Когда через полчаса ходьбы я вновь очутился против садика Марии, все еще было раннее утро. Солнце косыми лучами заливало ее заплетённый зеленью домик, сад благоухал. Окна у домика были широко открыты, но внутри царствовали покой и тишина. Казалось, домик дремал и нежился в лучах утреннего солнца. Калитка была заперта, да я и не решился бы в нее взойти. Я лишь засмотрелся на эту картинку сладкой дремы, даже не думая, как бывало, хорошо ли вышло бы на полотне.
Так стоял я довольно долго и, вероятно, не скоро бы ушел, если бы не пришлось поднять голову от звука человеческих голосов, которые грубо согнали мечту и бесцеремонно вернули меня в жизнь. Звуки исходили, наверно, от дома соседа. Бросив на домик последний взгляд, я направился домой. Проходя мимо его калитки, я увидел старика, стоящего ко мне спиной, а перед ним премилого юношу со светлыми кудрями и со взволнованным лицом. Старик резким и методичным голосом читал ему наставления, а юноша бегал глазами направо и налево и, видимо, не знал, как избавиться от старика и от нотаций.
— Ну, этот не получит наследства! — подумал я, и мне стало жалко кудрявого юношу.
Вернувшись домой, я проходил весь день из утла в угол и, лишь только стало темнеть, опять пошел к Марии. Едва я взялся за ручку калитки, как должен был остановиться, так как из окна послышались совсем неприличные звуки. Впечатление было такое, будто кто-то безутешно плакал навзрыд. У меня так и сжалось сердце при мысли, что так плакать могла бы Мария. Я, как хотел открыть калитку, так в этой позе и застыл. Вдруг дверь взвизгнула, раскрылась и из нее вырос лейтенант. Должно быть, события были важные, если он забыл, что всякий бравый вояка должен прыгать через окно.
— Вместо того, чтобы стоять и слушать, можно постучать и взойти, — оборвал он меня сразу.
— Послушайте, лейтенант, — сказал я, — я попросил бы вас...
— Я попросил бы вас тоже кой о чем, — перебил лейтенант, — я попросил бы вас сидеть дома, красить ваши полотна и художествами вне дома не заниматься.
— Сударь! — закричал я, дернув калитку и направляясь прямо на него. Но он изогнулся дутою и, посторонившись, настежь распахнул предо мною дверь.
— Прошу герцога! — прошипел он, — и полюбуйтесь, как вы умны и что из этого выходит.
С этими словами он, гремя саблей и стуча каблуками, вышел из сада. Я кинулся в дом и увидел Марию, лежавшую на кушетке навзничь и рыдавшую с таким отчаянием, что я остановился как вкопанный.
— Мария, Бог с вами, что случилось? — пролепетал я.
— Уйдите... — услышал я сквозь рыдания. Я отыскал графин с водой, принес ей стакан и помог приподняться.
— Вы... вы... из меня, — застучала она зубами по стеклу, — сдела... ли... непорядочную женщину, — и вместо конца фразы удвоенный приступ рыданий.
— Я?., из вас?.. Помилуйте, Мария, — проговорил я, запинаясь, так я был поражен.
Но Мария не думала, а рыдала.
— Нет, серьезно, послушайте, — сказал я уже другим, твердым голосом, садясь на кушетку и беря ее за руки. — Перестаньте плакать и говорите, как следует. Тут дело серьезное. Что вы такое сказали про непорядочную женщину?
— Не я сказала, а старик ... — рыдала Мария.
— Опять старик?! — закричал я, начиная кипеть. Я потянул ее за руки и посадил на кушетке.
— Говорите мне сейчас же, что сказал старик?! — крикнул я, сжимая кулаки.
Боже меня сохрани, я кричал не на Марию. Мог ли я хоть капельку поднять на нее голос? Я кричал, потому что все внутри меня кричало. Если хотите, я кричал на невидимого соседа, которого воображал перед собой. Но так ли, иначе ли, этот крик произвел на Марию действие: она перестала плакать и заговорила более связно, хотя все еще прерывающимся голосом.
— Сегодня я стояла в моем саду...
— Ну?
— А старик стоял в своем, около лестницы, которую вы вчера оставили у стены...
— Ну?.. — прошептал я, начиная сильно волноваться.
— Он положил руки на лестницу и громко сказал мне: «Разница между порядочной женщиной и непорядочной заключается в том...» — тут целая волна рыданий сняла ее голос.
— Ну? Ну? — проговорил я, хватая ее за руку...
— «...заключается в том, что у порядочной женщины бывают порядочные гости, а у непорядочной — негодяи».
Я вскочил. Все перевернулось в моих глазах. Мария плакала как ребенок.
— Он сказал это?! — крикнул я, еще не веря своим ушам.
— Сказал, — сквозь всхлипывания пробормотала Мария, и в подтверждение постучал рукой по лестнице...
— Ага! Ага! — выкрикивал я. — Так мы поговорим с ним уже не словом, а действием!
Все прыгало вокруг меня. Я не мог сообразить, как это я забыл про лестницу. Я знал наверное, что что- нибудь сейчас сделаю, но что именно — это еще не оформилось в моей вертевшейся голове. Я жалел только, что теперь не средние века, когда можно было убивать на перекрестках. Взглянул в окно — и снова пожалел: сосед — этот зверь, который осмелился поднимать голос на Марию, — медленно шел по улице и исчезал за поворотом. Луна резко очерчивала его высокую фигуру. У поворота он остановился, повернулся назад, как бы в раздумьи, затем двинулся дальше и исчез.
Неожиданная мысль осенила мою голову. Старик был без собаки. Ясно, что собака осталась дома. План таков: немедленно задушить негодную собаку и оставить на ней записку: «Разница между собакой и старым ослом заключается в том, что сначала душат собаку, а затем старого осла».
— Мария, клянусь вам, что за ваше оскорбление будет злая месть! — крикнул я, выбегая из дому. В один момент передо мной мелькнули сад Марии, забор и сад соседа. Спрыгнув в его сад, я схватил вчерашнюю лестницу и побежал с нею к дому, приставил к балкону второго этажа и взобрался на балкон. Я очутился в доме старика. Он жил один — это было известно, и я никого не боялся встретить. Нужна была мне лишь собака, и я ждал, что она с лаем бросится на меня. У меня не было даже ножа, но я готов был расправиться с ней голыми руками. Однако собака почему-то молчала, может быть, спала; я быстро вошел с балкона в первую комнату, единственную в верхнем этаже. Это была спальня старика. В спальне было тихо и пусто. Я сбежал в нижний этаж, но и там царствовала тишина. Лунные лучи, падая через окно, длинными полосами освещали комнату. Я толкнул дверь в последнюю комнату и вошел в кабинет, но и в кабинете не было собаки. Собака убежала за хозяином, я, видимо, не рассмотрел ее, когда увидел на улице старого скрягу. Безумная ярость овладела мной: я здесь, внутри жилища, можно сказать, в сердце врага Марии — и не могу привести мой план в исполнение! Изо всех сил я ударил кулаком по столу, и в этом ударе вылилось все мое бессильное бешенство. Вдруг взгляд мой упал на бумаги, лежавшие на столе. Это было пресловутое завещание. Я кинулся к нему и схватил кучу исписанных листов. Может, это было и не завещание, по крайней мере тут было слишком много листов и слишком мелко они были исписаны. Даже наверное это было не завещание — я называл его завещанием, потому что так мне говорила Мария. Не все ли равно? Резким движением я выдрал оттуда целую пачку и, скомкав, сунул ее в карман и другим движением перевернул чернильницу на остальное.
В тишине раздался стук отворяемой калитки. Старик, неизвестно почему, уже вернулся. Опрометью я кинулся наверх и очутился в спальне. Здесь я остановился. Нельзя было выходить на балкон, пока хозяин не вступит в дом, иначе он мог меня увидеть. Я напряженно прислушивался. В тишине явственно прозвучал сначала шорох вставлявшегося в скважину ключа, потом два звучных оборота. В туже минуту пудель с громким лаем бросился наверх. В один прыжок я был на балконе. Спустившись в сад, я схватил лестницу и, держа ее в руках, побежал к забору, но на этот раз не к тому, что граничит с Марией, а к выходящему на улицу. Пудель уже стоял на балконе, его бешеный лай заливал весь сад и всю окрестность. Я спрыгнул с забора на улицу и оглянулся вокруг. Ни души не было на ней. Никто не видел моего появления из чужого сада. Я прошел несколько шагов и скользнул в калитку к Марии.
Она встретила меня у самой двери и схватила за руку. Лицо ее было бледно, глаза расширены. И Боже, как они были черны в ту ночь! Целая бездна раскрывалась передо мной.
— Вот вам завещание этого сыча, — сказал я, вручая ей комок мятой бумаги. Изумление, недоверие и восхищение — все это разом мелькнуло в ее поднятых на меня глазах, по-прежнему широко раскрытых.
— Вы были внутри его дома?! — прошептала она.
— Ну, конечно! — воскликнул я, целуя ее руку и с радостным изумлением видя, что она ее не отнимает.
— Вы сумасшедший человек, — прошептала Мария, оглядываясь на окно, через которое виднелся дом соседа.
— Воображаю, как он злится теперь! — улыбался я, — как его там зовут...
Рука Марии нежно обвила мою шею.
— Артур Шопенгауэр, — сказала она, — какой-то иностранец.
Я, право, не знаю, как у меня осталось в памяти это тарабарское имя. В ту минуту я чувствовал только ее руку, с мягкой нежностью обвивавшую мою шею, видел только ее черные глаза, пламенно глядевшие на меня...
Я вернулся домой лишь поздно утром. Это была моя счастливейшая ночь.
Сказка про гриб-поганку
Саблино — Ессентуки 17 сентября — к 1 октября 1917 года
I
Таня была совсем большой девочкой, почти взрослой: ей было пять лет. У Тани были огромные черные глазищи и прекрасный красный бант в черных кудряшках. С прошлого лета она заметно выросла. Раньше она свободно гуляла под обеденным столом, а теперь уже может видеть то, что на нем стоит. Третьего дня от этого очень пострадала хрустальная вазочка: Таня встала на цыпочки и хотела пальчиком узнать, какое в ней варенье. Но так как стол оказался довольно высоким, а вазочка стояла далеко от края, Таня так вытянулась, что не удержалась на ногах и вместе со скатертью и вазочкой сползла на пол. Скатерти, собственно, ничего не сделалось, а вазочка раскололась на четыре половинки, и Таня так расплакалась, что прибежали и мама, и Дианка, и папа, и няня. После этого Таню поставили в угол, где она, сквозь слезы, долго облизывала пальцы, перепачканные в варенье. Ну, а потом папа целый день дулся, мама ходила покупать новую вазочку, и Дианка, к которой несмело подошла Таня, раньше всех простила ей разбитую посуду, вильнула хвостом, фыркнула и побежала с ней играть.
Но сегодня все было забыто, на дворе смеялось воскресенье, светило ясное солнце, приехали гости и все отправились в лес за грибами. Таню взяли тоже, притом в первый раз, и тут Таня лишний раз почувствовала, что она взрослая. Сначала было очень весело, а потом очень скучно. Собственно говоря, нельзя было понять, где растут эти грибы и как их находят. Сколько Таня ни искала — ни одного! А между тем компания весело перекликалась, и уже у некоторых корзинки были до краев. Танина корзиночка была совсем маленькая, но такая хорошенькая — плетеная, с зелеными ободочками. И вдруг — ни одного гриба! В конце концов ее отняли у Тани, сказав, что корзинка все равно болтается пустая, а им некуда класть. Таня заморгала своими глазищами, из которых брызнули быстро капельки, отвернулась и обиженно зашагала в сторону от компании.
И тут-то произошла замечательная вещь: под высоким деревом Таня увидела огромный красный гриб. Таня даже вскрикнула от неожиданности и в упоении замерла перед ним. Гриб был самый настоящий, можно сказать, живой — толстый, с красной как огонь шляпкой и с хорошенькими беленькими прыщиками на ней. Таня присела перед ним и осторожно потрогала его пальцем. Гриб был очень приятный на ощупь и даже как будто немного теплый. Боясь, как бы не повредить свою драгоценность, Таня принялась копать ногтями землю вокруг него и, после долгой и осторожной работы, вырыла весь гриб целиком. Осторожно, как куклу, завернула в свой фартучек и пошла назад.
А там няня уже волновалась:
— Таня, Господи, да куда ж ты делась? —кричала она — все пошли домой. Никогда не смей одна уходить в лес. Право, шалая какая!
Тане очень хотелось показать гриб, но у няни был такой сердитый и разволнованный вид, что она не решилась. Да и просто было некогда: няня схватила ее за руку и большими шагами, так что Тане пришлось почти бежать, повела ее вдогонку за остальными. И все-таки они пришли домой после всех.
— Ну что, Таня, много грибов нашла? — спросил ее старший брат, студент, тот самый, который отнял у нее корзинку. Конечно, с этим человеком не стоило разговаривать. Но разве можно было устоять, чтобы на такой вопрос не показать своей находки! И Таня развернула фартук и с сияющим лицом положила гриб на стол.
— Таня, на чистую скатерть!! — не своим голосом закричала мама. Старший брат взял его двумя пальцами, стряхнул скатерть и, подняв гриб выше головы, громко сказал:
— Господа! Смотрите, наша Татьяна нашла поганку!
Все засмеялись. Таня не верила ушам.
— Ка-ак?? — прошептала она, выпучив до невозможности свои черные глазищи.
— Это поганка, понимаешь ли ты, поганка, — пояснял брат, — не ты поганка, а гриб поганка. Хотя и ты хороша! — добавил он и с этими словами выкинул гриб за окошко.
У Тани даже потемнело в глазах: казалось, что красное солнце исчезло вместе с красным грибом. Она как-то растерянно сделала несколько шагов к окну.
Тут ее взяла за руку няня и повела в детскую, приговаривая:
— Не надо, Танечка, такие грибы рвать. Говорю тебе, это поганка.
Пожалуй, няня в своих объяснениях не была особенно толкова. Поэтому Таня так и не поняла, за что обидели ее красноглавого любимца. Весь день она ходила расстроенная и не хотела играть ни в какие игрушки. Приехал к балкону шарманщик с обезьяной, но и это не заинтересовало Таню. Только перед вечером Таня вдруг оживилась и, когда после обеда большие пошли пить кофе, а няня приготовлять Тане постель, прокралась на лестницу и незаметно скользнула в сад. Там она раза три прошлась мимо [куртины] , в которую полетел из окошка ее гриб и нашла ножку от этого гриба. Куда закатилась шляпка — неизвестно. Таня бережно спрятала ножку за пазуху и вернулась домой, так что ее исчезновения никто не видел. Когда няня укладывала ее спать, Таня нарочно уронила свой сапожок за кровать и, пока няня лазила за ним, быстро вынула грибную ножку из-за пазухи и сунула под подушку. Няня ничего не заметила и перекрестила Таню, потушила огонь и ушла. Когда все стихло, Таня вынырнула из-под одеяла, радостно запрыгала в своей кроватке и вынула из-под подушки кусочек своего гриба, поцеловала его и заснула, не выпуская его из рук.
II
На другой день Таня проснулась в таком капризном настроении, что няня не знала, как ее угомонить. Не хотела вставать — и разревелась, когда няня вытащила ее из-под одеяла, уронила полотенце в умывальник, а у гребенки нарочно выломала все зубцы.
— Точно какая муха тебя укусила! — с досадой проговорила няня, стаскивая с Тани левый сапожок, одетый Таней на правую ногу.
За чаем Таня водила по скатерти пальцем, обмоченным в кофе, а за уроком не знала, сколько трижды пять. Мама очень расстроилась и, запершись с папой в кабинете, разговаривала с ним о том, что надо к Тане пригласить француженку или англичанку, и сколько это будет стоить.
После завтрака Таню наказали, а перед вечером она несколько раз приоткрывала дверь в комнату к своему брату, но, по-видимому, не решалась в нее взойти. Наконец, она несколько смущенно появилась на пороге, совсем не так, как утром вела себя в детской, и, сделав несколько шагов, чинно села на стул против своего брата. Студент утопал в глубоком кресле и, вытянув ноги на другой стул, читал умную книгу. При появлении сестренки он поднял на нее глаза. Таня сидела против него, прямо и прилично, сложивши руки на коленках.
— Что ты, с визитом ко мне пришла? — спросил брат. Таня сконфузилась.
— Боба, — сказала она не совсем уверенно, — я тебе задам один вопрос.
— О том сколько будет трижды пять? — осведомился брат. Танин афронт был известен всему дому.
— Нет, — серьезно проговорила Таня, — трижды пять будет пятнадцать.
— А, да ты, как я вижу, поумнела за один день, — сказал студент, смягчаясь, — в чем же дело? — прибавил он уже довольно ласково.
— Боба, скажи пожалуйста... Ну вот, если, как тебе сказать... если большая, большая дверь... лиловая...
Студент положил книгу на стол и опустил ноги на пол.
— Дверь? Лиловая?.. — удивился он.
— Да... очень лиловая... понимаешь ли, — оживилась она и заговорила, объясняя руками, какая была дверь, — дверь большая-пребольшая, с аркой, ну, вроде ворот, понимаешь, вроде ворот и с аркой, и лиловая- лиловая... понимаешь?
— Нет, ничего не понимаю.
Таня вскочила со стула.
— И перед дверью большая красная занавеска. Большая, красная, бархатная, с кистями, как портьера. Как очень большая портьера! — воскликнула Таня, описывая руками в воздухе крути, — вот такая!
— Гм, — сказал брат.
— Боба, скажи пожалуйста, только ты правду скажи: вот если такая занавеска...
— Красная?
— Да. А за нею такая дверь...
— Лиловая?
— Да. А тогда что будет за дверью?
Молчание.
— Боба, что же будет за дверью? — настойчиво и серьезно спросила Таня.
— Друг мой, почему же я знаю? — пожал Боба плечами. Таня влезла ему на колени и обняла его за шею:
— Скажи-и, — протянула она, прижимая щеку к его бритой щеке.
— Послушай, Татьяна, ну откуда же я могу знать, что находится за твоей лиловой дверью! — возмутился тот, отстраняя сестру.
— Ну Бобочка, ну миленький, ну пожалуйста, что может быть за такою дверью? Скажи-и, — протянула она моляще.
— Отстань, — отрезал брат, спустив ее с колен и поставив на пол.
— Боби...
Но Боба рассердился.
— Вот что, — сказал он, показывая на дверь, — вот эта дверь, не красная и не лиловая, но ты доставишь большое удовольствие, если посмотришь, что за нею находится.
Таня не поняла.
— За нею... коридор! — наивно догадалась она.
— Ну вот и убирайся в коридор, а мне ты мешаешь что-то, — сказал он решительно и взял книгу. — Иди, иди! — прибавил он, раскрывая книгу, и уткнулся в своем кресле. Аудиенция была окончена. Таня потопталась на месте, поскребла ногтем обивку у кресла и задумчиво вышла из комнаты.
III
На следующий день Таня заметно исправилась в своем поведении. Начать с того, что когда няня пришла ее будить, Таня сразу уселась в своей кроватке и сама надела оба чулочка. Полотенце на этот раз не только не полетело в умывальник, но Таня самостоятельно вытерла им уши, что до сих пор всегда делала няня, так как самой Тане было трудно. За чаем на скатерти не было ни одного пятна. А за уроком три, помноженное на шесть, дало восемнадцать. К брату Таня больше не приставала, а на вопрос мамы, в порядке ли ее желудок, ответила: «Yes». Папа с мамой посоветовались и решили, что, в сущности, англичанку можно и не приглашать: Таня девочка способная и выучит язык без англичанки.
Примерное поведение продолжалось и завтра, и послезавтра. Папа погладил Таню по голове и подарил ей сачок для ловли бабочек. Таня притащила свой подарок в детскую и первым долгом накрыла им голову дремавшей няни.
— Что ты, Танечка, в уме ли? — проснулась няня. — Знал бы папочка, что ты будешь забижать няню, не подарил бы тебе этой игрушки.
— Нянечка, а зачем ловят бабочек? — спросила Таня.
— А затем, чтобы их сажать на булавки, — ответила няня, — проткнешь ее, а потом в коробочку; она там и сидит.
— Нянечка, да ведь бабочке-то от булавочки больно?
— А ты попроси у Бобы спирту, да дай понюхать. Они любят это, бабочки-то...
— Вроде как папочка нюхает табак?! — обрадовалась Таня и вместе со своим сачком выскочила в сад.
Весь день бегала Таня по саду за бабочками, измучилась до смерти, но не поймала ни одной.
— Наша Татьяна даже побледнела, — заметил брат во время обеда.
Таня, действительно, совсем раскисла и, хотя каждый вечер, перед отходом ко сну, поднимался крик и визг, что еще рано, сегодня сама попросилась спать. В семь часов вечера Таня уже была в постели. Папа, очень довольный, сказал маме:
— Видишь, что значит подарить ребенку хорошую игрушку!
Утром Таня проснулась с рассветом, разбудила няню и побежала в сад ловить бабочек. Улов не оказался более удачным, чем вчера. Таня перешла через куртины, перелезала через скамейки, семенила ногами что есть мочи и неизменно покрывала пустое пространство. Бабочка, как нарочно, увертывалась и садилась Танечке на плечо. Крохотного сада скоро оказалось мало, и Таня уже бегала по соседней поляне, с тем же успехом накрывая пустое пространство, как и в саду. Солнце жгло и припекало. Таня вынула маленький носовой платочек и стала вытирать им лоб. Занятая этой работой, она подошла к концу поляны и с наслаждением вступила в таинственный лес. Таня только что собралась сесть на муравьиную кочку, чтобы отдохнуть, как взгляд ее упал на высокое дерево, и что-то ласковое вдруг мелькнуло в ее глазах: под вековым деревом она увидела огромный красный гриб, точь-в-точь такой, как пять дней тому назад.
Таня уронила сачок, тихонько вскрикнула от радости и побежала к нему. Наклонилась, нежно погладила его рукой, затем отступила на несколько шагов и полюбовалась, как выглядел издали.
— Такой-то ты хороший, — покачала Таня головой, — и вдруг называют тебя поганкой!
К чрезвычайному ее удивлению гриб вежливо снял шляпку и, поклонившись, сказал:
— Поганкой называют нас те люди, у которых у самих душа нехорошая, а настоящее мое имя: Мухомор.
— Да ты и разговаривать можешь?! — изумилась Таня. — Вон какой же ты разумник!
— Мы горды, — сказал Мухомор, — и потому никогда ни с кем не говорим. Мы молчим даже тогда, когда жадные люди хотят нас съесть. Но зато в молчании нашем мы готовим яд, и горе тому, кто проглотит хоть кусочек!
Таня широко раскрытыми ушами слушала удивительные слова.
— Люди боятся нас, — важно продолжал Мухомор,
— и со страха бранят нас поганками. Им нравятся бесцветные, невзрачные грибки, которые можно есть пропадом. А между тем, мы цари среди грибов. И от того мы носим такую великолепную красную шапку.
— Прелесть! — наивно воскликнула Таня.
— И если я заговорил сейчас с тобой, то потому, что мне не хотелось, чтобы такая хорошая девочка, как ты, думала, будто в самом деле мы поганки.
С этими словами Мухомор снова поклонился, поправил свою шапку и замолчал. Таня обошла его со всех сторон.
— А где же твое царство? — спросила она. Но Мухомор не ответил ничего.
— Грибочка, почему же ты молчишь? — пристала Таня, — или ты мне яд готовишь?
Мухомор улыбнулся.
— Царство наше глубоко под землею, — сказал он, — и я стою здесь часовым, оберегаю входы.
— В царство?! — закричала Таня, — миленький, пусти! Дай мне посмотреть на красных мухоморчиков! Неужели не пустишь?
Но Мухомор надвинул шапку и молчал.
— Грибочка!..
Но грибочек застыл, как неживой. Таня нежно погладила его по красной шапочке и молча уселась против него. Мухомор сжалился.
— Ну хорошо, другую ни за что не повел бы, а тебя возьму, — сказал он, — иди за мной, — и с этими словами провалился сквозь землю. Это случилось так быстро, что Таня даже не успела сообразить, куда он делся. Перед нею чернела небольшая дырка, вроде змеиной норки или норки крота. А из-под земли раздавался голос Мухомора, который звал ее.
— Да как же я туда пролезу? — закричала Таня и вдруг почувствовала, что сделалась маленькой-маленькой, меньше гриба. Дырка теперь уж не казалась змеиной норкой, а была вроде целого колодца. Мухомор стоял на дне и смеялся. С тех пор как он из часового превратился в хозяина, звавшего к себе в гости, он сделался милым и простым.
— Прыгай, — кричал он, — я подхвачу тебя в мою шапку. — Прыгай, не бойся! Она у меня мягкая.
Он снял свою красную шапку и, помахав ею, перевернул ее вверх ногами. Изнутри шапка выглядела мягкой и уютной, будто обитой светлым атласом. Таня зажмурилась и прыгнула.
— Гоп! — закричал гриб, ловя ее в свои объятия. Таня даже не ожидала, такой он был мягкий и приятный.
— Какой же ты тепленький, — воскликнула Таня, когда Мухомор осторожно поставил ее на землю. Недаром же, когда Таня в первый раз потрогала поганку, она ей показалась нежной и теплой.
— Ну, теперь пойдем, — весело сказал Мухомор, беря ее за руку.
— Грибочка, да я ж ничего не вижу впотьмах! — прижалась Таня, протягивая другую руку вперед, чтобы на что-нибудь не наткнуться.
— В самом деле, — проговорил Мухомор, — смешной народ вы, люди! Ничего вы в темноте не видите. А нам, грибам, что ночь, что день — один яркий свет.
Он выпустил Танину руку и громко хлопнул в ладоши.
— Эй! Две дюжины светляков сюда!
— Это Ивановы червячки? — в удивлении шепнула Таня.
— Да, да, — ответил Мухомор, — они у нас на службе и светят для гостей, — и в ту же минуту все подземелие озарилось зеленоватым светом.
— Светляки и изумруды, это довольно красиво, — проговорил Мухомор, оглядывая подземелье, игравшее сотнями нежных зеленых огоньков. — Видишь, светлячки отражают свой свет в изумрудах, которые вдавлены в стены? Ужасная возня была с этими изумрудами! Это муравьи их нам натаскали, они тоже у нас на службе.
— Такие большие изумруды? — изумилась Таня. — Как арбуз!
— Они тебе кажутся такими, с тех пор как ты сама стала крошкой. На самом деле они не больше горошинки, — тут Мухомор что-то вспомнил, засмеялся, — если бы не муравьи из соседней кочки, никогда бы у нас не было такой прелести. Они были в городе, залезли в шкапы, вынимали изумруды из колец и по ночам тащили их сюда. Люди сердились, искали... Сколько бедных муравьев они передавили!..
— Так вот какое ваше царство! — задумчиво прошептала Таня, оглядывая светящиеся стены, которые разгорались все ярче и зеленее. Мухомор засмеялся:
— Ах вы, люди, люди, ничего красивого вы не видели! Покажешь вам переднюю — вы думаете, что это уже дворец. Дворец наш далеко, он пышен и наряден, и так красив, что даже в воображении люди не могут придумать ничего похожего. А здесь, где ты стоишь, это даже не царство...
— Ну так идем же скорей! — дернула его Таня за руку.
— Далеко, устанешь, Танюша, — сказал Мухомор и вдруг закричал:
— Носильщики! Живо!
Откуда-то выскочила целая толпа темных грибков. Они остановились перед Таней, сняли свои коричневые шляпки и стали ей кланяться частыми поклонами. Таня внимательно посмотрела на них, вспомнила, что объяснял ей Боба после того, как она нашла поганку и воскликнула:
— Да это белые грибы! Они ведь съедобные?
— Съедобные? — поморщился Мухомор, — ну, да, конечно, съедобные. Мы сами их едим. А пока они нам служат. Садись, Танюша, в шляпку. Они тебя понесут.
Таня влезла в шляпку, которую ловко повернул перед ней самый крупный из грибов, и осторожно села. Другой гриб подставил свою шляпку сзади, в виде спинки, а два крошки подложили ей свои нежные шляпчонки под руки, ну совсем как подушки. Ни в одном кресле не сидела Таня так удобно! Остальные подхватили все это на руки и быстро помчались вперед.
— Ах, как хорошо! — вырвалось у Тани, которая, покачивалась на своем сидении, будто на шелковых подушках. Она оглянулась назад и увидела своего друга Мухомора. Он восседал на другой шестерке грибов и быстро несся за нею.
— Гоп! Гоп! — подгонял он носильщиков, похлопывая рукой более ленивых. Они и без того бежали все скорее и скорей: дорога шла вниз, и Таня чувствовала, что они все глубже и глубже уходят под землю. Вдруг страшный лязг железа раздался где-то над Таниной головой. Таня испуганно оглянулась на Мухомора.
— Ничего, не бойся, — улыбнулся тот, — тут люди вырыли колодезь, мы сейчас идем под ним. Это они берут воду, и ведро колотится о камни.
Дорога продолжала опускаться. Вскоре грибы начали соскакивать с целых откосов. Но Тане это не показалось страшным. Наоборот, грибы прыгали так мягко, что Тане казалось, будто она раскачивается на огромных качелях.
— Осторожней! Не запачкайте Таню! — закричал Мухомор и объяснил ей:
— Мы идем сквозь угольный пласт. Тут самое неприятное место — вечная пыль, и можно испачкаться о стены. Зато еще глубже уголь слежался в чистый алмаз. Люди не знают про эти чудеса. Ты прямо ослепнешь, такое тут сияние!
— У папочки были запонки с алмазками, — вспомнила Таня, - маленькие-маленькие...
— Твои люди вообще умеют только есть грибы! А найти такую красоту, как мы нашли, это не по их плечу. У нас целые дома высечены из алмазов.
— Вот, смотри! — закричал он. — Становится светлей. Мы подъезжаем.
У Тани забилось сердечко. Она даже зажмурилась.
— Да ты открой глаза, Таня! — сказал Мухомор. Дорога здесь стала шире и он стоял рядом с ней, — открой, а то ничего не увидишь.
Таня смотрела во все глаза, но еще ничего не понимала: белый свет шел откуда-то издали, и, хотя он был определенно белый, Таня ясно ощущала, что в то же время он переливает и желтым, и синим, и красным, и всеми цветами радуги. Навстречу с радостным смехом выскочила целая гирлянда маленьких красных грибков. Они запрыгали и закружились вокруг Тани.
— Ай-ай, какая прелесть! — захлопала она в ладоши.
— Это мои братишки, — объяснил Мухомор. — Ну, вы, шалуны, — закричал он, — осторожней, споткнемся через вас!
Бег все усиливался. Они летели уже почти вертикально вниз. Становилось теплей. Дорога заворачивала влево, и вокруг свет делался все ярче и белее. Затем они круто повернули вправо и вдруг остановились со всего размаху как вкопанные.
— Стой!! — закричал им высокий красный гриб, становясь поперек дороги и размахивая маленькой ящерицей, которая извивалась у него в руках и готова была броситься на встречных. — Кто едет?
— Мухомор Семнадцатый, — ответил Танин спутник.
— А еще кто?
— Танечка, — объяснила Таня.
— Какая такая Танечка?
— Это я везу гостью, — сказал Мухомор Семнадцатый. — Прошу любить и жаловать, да пропустить в наш дворец.
— Зарок дала? — спросил высокий гриб и отдернул огромную красную занавесу. Перед Таней загорелись лиловым светом гигантские резные ворота.
— Мой сон! Мой сон! — закричала Таня, — я видела их во сне!
— Зарок дала? — раздалось снова. Мухомор Семнадцатый подошел к Тане.
— Таня, — сказал он, — в наше царство взойдет лишь тот, кто поклянется, что никогда больше не вернется на землю.
— Скорей, скорей! — закричала Таня, — пусти меня в ворота!
Она даже соскочила со своих подушек и подбежала к высокому Мухомору.
— Таня, — сказал тот важно, — возьми твоими руками обе лапки этой ящерицы, посмотри ей в глаза, три раза скажи, не спуская с нее глаз: «Клянусь, что никогда не вернусь на землю».
Таня остановилась и недоумевающе оглянулась на Мухомора Семнадцатого.
— Не бойся, — сказал тот, кладя ей руку на плечо, — ящерица тебе ничего не сделает, и лапки у нее бархатные.
Я не боюсь, — запнулась Таня, — но я...
— Тогда клянись.
— Клянись скорей, — строго сказал высокий Мухомор, — а то ящерица нервничает.
Таня стояла и растерянно смотрела то на ящерицу, то на Мухомора Семнадцатого. Она было протянула одну руку, но сейчас же опустила ее. Беспокойство ее видимо усиливалось. Мухомор Семнадцатый подошел к воротам, которые так и озарили его лиловым светом, и протянул руки, готовый открыть их. Таня быстро повернулась к ним, но ящерица забилась в руках высокого Мухомора, и огоньки показались в ее глазах. Таня отступила на шаг и взглянула на высокого Мухомора.
— Клянись, — сказал он.
Таня быстро перевела свой взгляд на ящерицу и увидела, что та смотрит на нее внимательно и серьезно, не мигая. Правая лапка, протянутая вперед, действительно была, как бархатная.
Таня пролепетала нерешительно:
— Но как же, ты говоришь, поклянись, когда мне надо идти домой завтракать?
Высокий гриб сердито махнул ящерицей.
— Она с ума сошла? — крикнул он.
Мухомор Семнадцатый подошел к Тане.
— Танечка, милая, — сказал он, — у нас такие завтраки, каких ты не видела на земле. У нас такие пирожные, каких ты никогда не ела. Васильки в душистом снегу, это лучше мороженого!
— Но как же я могу не вернуться домой? Ведь няня меня накажет!.. — со слезами в глазах воскликнула Таня, протягивая ему руки.
— Никакой няни больше не будет. Не мне, а ящерице ты должна протянуть свои руки, — сказал тот, отстраняясь.
— Ей? ей... нельзя, — проговорила Таня совсем тихо.
Высокий Мухомор вспыхнул. Шляпка его действительно загорелась красным огнем.
— Некогда! — громко крикнул он. — Прощай!! — и со всего размаха бросил ящерицу о землю.
Таня закрыла глаза обеими руками и в тот же момент почувствовала, что поднимается кверху. Пальцы ее, которые крепко зажимали глаза, как будто становились больше и больше, ноги тоже точно вырастали, а голова вроде того как пухла. Таня еще крепче прижала руки к глазам и готова была заплакать. Но она так испугалась, что даже слезы не капали из глаз.
Потом ей показалось, что она перестала подниматься, но наверное она еще не знала, что с ней делается. Голова продолжала пухнуть, и ноги будто росли.
Кто-то далеко кричал, надрываясь...
— Таня! Таня!
Но Таня не решалась отнять от глаз руки. Потянуло свежим воздухом, и легкий ветер скользнул, касаясь черных волосенок.
— Таня! Таня! — раздавалось издали, но Таня продолжала сидеть, скрючившись и закрыв лицо руками. Кто-то больно кольнул ее в шею. Таня не удержалась и схватилась рукой за больное место. Под ее пальцами запрыгал, завертелся огромный муравей. Таня оглянулась вокруг. Она сидела на траве в лесу, в обыкновенном, настоящем лесу. А рядом зеленела своею травой, желтела цветами и сияла на солнце большая ровная поляна. За поляной виднелся Танин сад, а в саду кто-то, совсем охрипнув, кричал:
— Таня! Таня! Господи же, Таня!
Таня вскочила на ноги и еще раз потерла укушенную шею. Из маленькой она сделалась такою, какою была всегда. По рукам бегали муравьи, ногу тоже кто- то больно кусал. Она стояла среди большой муравьиной кочки. Таня сорвалась с места и бегом побежала через поляну к дому.
— Я здесь, нянечка! — кричала она, спотыкаясь.
Шагах в десяти от сада Таня остановилась. У калитки стояли папа, мама, Боба, няня и Дианка. Все сердито жестикулировали и громко кричали; Дианка лаяла.
— Куда ты смела деться? Дрянная девчонка! Пять часов тебя ищем! За уши ее!
— В угол! Гав, гав, гав! — кричали и лаяли все вместе.
Таня отступила было на шаг, но к ней подошел папа, взял ее за руку и сердито повел в дом. Таня плакала, Дианка визжала, няня причитала, мама стучала пальцем по столу — чистый ад. Затем наступили черные деньки. Приехала англичанка, строгая, старая, злая, зубы, как у волка, щеки желтые, по-русски — ни слова. Утром заставляет Таню мыться до пояса, а днем мучает длинными диктовками, а от себя ни на шаг, а главное — ни одного слова по-русски. Боба уехал, няню прогнали, папа с мамой молчат, не желают разговаривать! Таня начала было плакать, но англичанка так раскричалась на нее трескучими непонятными словами, и все время в нос, и показала такие зубы, что Таня с ревом спряталась в шкап. Англичанка ее оттуда вытащила, раздела и посадила в холодную ванну. С тех пор Таня больше не плакала и только пугливо озиралась по сторонам. Так прошло две недели. Две тяжелых недели, четырнадцать дней, во время которых ни на минуту не переставали мелькать ужасные длинные зубы. Мухомор был сладким сном, единственной отрадой для Тани, но запуганная англичанкой, боялась даже думать о нем. А по ночам снились не грибы, а страшные зубы.
Однажды утром Таня проснулась раньше своей тиранки, которая спала в той же комнате, протерла глаза и рассмотрела, что зубы покойно лежали на ночном столике в стакане с водой. Таня долго не верила своим глазам и, наконец, вылезла из кроватки и тихонько подошла к ночному столику. Зубы, длинные и страшные, спокойно лежали на дне стакана и не двигались. Англичанка крепко спала. Таня привстала на цыпочки и подула на воду в стакане. Зубы не пошевелились. Тогда Таня взяла с ночного столика сапожный крючок и осторожно потрогала зубы. Зубы, длинные и страшные, спокойно лежали на дне стакана и не двигались. Таня оглянулась на окно, которое с тех пор как водворилась англичанка, всегда на ночь было открыто, зацепила их крючком, вытащила их из стакана, подбежала к окну и швырнула в кадку с водой, которая стояла за окном. Зубы булькнули и исчезли. Таня еще немного посмотрела на то место, где сгинули проклятые зубы, вытерла крючок об рубашечку, положила его на ночной столик и легла в постель.
Боже, что за переполох поднялся утром! Англичанка рвала и метала, искала во всех углах, ныряла под кровать. Этим воспользовалась Таня, смеясь, оделась и убежала в сад. Вот-то радость была после двухнедельной тюрьмы, первый раз без англичанки! Не задумываясь, Таня отворила калитку и через поляну бросилась в лес, побежала к тому дереву, где когда-то встретила его у входа в царство, и уже издалека увидела свой забытый сачок. У дерева Таня остановилась: дерево было на месте, сачок лежал рядом, но Мухомор исчез.
— Грибочки! Грибочки!— закричала Таня. Она не знала, что короток век грибов, что их жизнь короче двух недель.
— Грибочек! Я иду в твое царство, — крикнула Таня и начала рыть землю в том месте, где стоял когда-то Мухомор. Но и вход в царство не показывался, и Мухомор тоже, а Таня лишь натыкалась на корни деревьев и корешки травы.
Таня устала и села. Кто-то лизнул ее в щеку. Рядом стояла Дианка и печально смотрела на вырытую Таней ямку.
Блуждающая башня
Сибирский экспресс — Токио 12 мая — 8 августа 1918 года
I
Марсель Вотур был, во всяком случае, замечательным человеком, и его имя знали в ученых кругах Парижа. Пожалуй, кабинетные ученые, сокрывшие свои знания под темными очками, и утонченные мыслители, покоящие свои мысли под сводом высоких белых лбов, находили его немного чудаком, однако не отрицали у него ума, отточенного и гибкого, пускай и не всегда верно направленного. Поэтому они снисходительно улыбались и говорили, что если ум тянет его под землю в глубину Вавилонских раскопок, то фантазия, гораздо более сильная, уносит за облака, и поэтому часто он, со своими суждениями, висит в воздухе, впрочем, иной раз, возвещая оттуда прелюбопытные вещи. Но важно было то, что Марсель Вотур никому на шею не садился, никому своих мнений не навязывал, а исчезал на год или два в свою дорогую Ассирию, где при помощи широких связей и свободных денег мог вволю рыться в песках и развалинах, находил там тысячелетние таблички со странными клинообразными начертаниями, разбирал их, делал гениальные догадки и затем, возвратившись в Париж, разражался блистательной статьей самого фантастического содержания. Статья шумела, модный журнал, в котором она появилась, раскупался, в салонах восклицали, и друзья чествовали его обедом. Но на кафедры он не лез, с учеными на диспуты не вступал, никому своего мнения не навязывал — и всем было приятно, а ученые улыбались и говорили, что он, конечно, остроумен, но немного висит в воздухе.
II
На этот раз он застрял в Ассирии не на год и не на два, а на целых пять. Издатели, проголодавшиеся без звонкой статьи, писали телеграммы то в Дамаск, то в Багдад, но он, со своим маленьким караваном, зарылся в песках старинного Двуречья и, бродя между Тигром и Евфратом, весь ушел в седое обаяние аккадов и шумеров, со стершимися поверьями когда-то такой нарядной культуры. Казалось, судьбы Навуходоносора были ему дороже судеб Парижа, а песчаные норы — уютней изысканных гостиных. Но из глубины этих нор он, через хитрые иероглифы, беседовал с былыми народами, которые цвели уже в такие давние времена, когда предки самого Марселя, не успевшие произойти от обезьян, сидели на деревьях, стоявших на месте Парижа.
Один из его помощников, схвативший желтую лихорадку и потому вернувшийся на родину, рассказывал, что Марсель Вотур за последний год обосновался недалеко от места, где некогда раскидывался древний Вавилон, и, осененный настойчивой идеей, работал над отыскиванием памятников Вавилонской башни. Целый ряд газетных заметок подхватил это сообщение, в салонах заговорили, а ученые ассириологи покачивали головой и, улыбаясь, говорили: конечно, это занятно, Вавилонская башня, но милый Марсель, по обыкновению, вместе со своей многоязычной постройкой висит немного в воздухе.
Наконец, прошло пять лет, и Марсель Вотур самолично приехал в Париж. Приехал он в отдельном вагоне, доверху нагруженном большими и малыми ящиками и какими-то предметами, бережно упакованными в толстую материю. Из блестящего ученого, пленявшего Париж, он превратился в медную, солнцем сожженную кастрюлю, обросшую вдобавок бородой. Но борода не могла скрыть правильности черт его лица, а бронзовый загар лишь подчеркивал их остроту. Обо всем этом сейчас же расписали репортеры, но на том и запнулись, — в дебрях Азии наш любезный ассириолог отучился от столичной любезности, ни одного из них не принял и интервью не дал. Лишь друзьям своим он сообщил, что результаты его исследований значительны, настолько значительны, что в таком виде они даже не снились современному человечеству. Сейчас он утомлен с дороги и подвержен приступам лихорадки, которая не пощадила и его, но, тем не менее, с завтрашнего же дня приступит к окончательному приведению в порядок всего огромного и весьма уже разработанного материала, привезенного с собой. По окончании он сделает доклад о Вавилонской башне и в этом докладе сообщит такие факты, которые, возможно, перевернут всю историю, поразят науку и, может быть, опрокинут саму Библию. Говорил он серьезно, деловито, без тени хвастовства, но вид у него был такой усталый, что друзья не стали навязывать своего присутствия и, простившись, разбрелись по салонам. Там они подражали молодому ученому, делали серьезный вид и восклицали: «О, наш Марсель открыл замечательные вещи!»
III
По-видимому, слухи о необычайных материалах, выкопанных в пустынях Месопотамии, материалах, грозивших трещинами истории и даже библейским легендам, обещали сделаться самой модной темой в кругах любопытствующего Парижа, даже до их фактического оглашения приехавшим ученым. Но, как раз в туже ночь, Парижу случилось перепугаться от одного происшествия, и это происшествие задело его гораздо ближе, чем далекий Вавилон.
Ровно в три часа ночи поднялся трезвон по телефонам, были вызваны санитарные кареты, помчались санитарные части. Говорили, что где-то разрушены дома — как и почему, неизвестно, — что есть человеческие жертвы и что даже приказано разбудить президента. Все что-то слышали, все испугались, но что случилось, никто в точности не знал. В таком настроении Париж встретил раннее утро.
Марсель Вотур, со всклокоченными волосами и без галстука, выскочил из своей квартиры и стал спускаться вниз по лестнице. В подъезде он столкнулся со своей матерью. Эта пожилая женщина, обрадованная возвращением своего блудного сына, только что приехала из Бордо и предвкушала удовольствие приятной встречи с ним. Но Марсель, в ответ на раскрытые объятия, закричал: «Уйдите! Уйдите! Разве Вы не видите, что я пуст, как футляр, из которого вытащили скрипку?!»
Размахивая руками, он выбежал на улицу. Смущенная дама опустилась на стул в недоумении, протягивая руки к своему другому сыну, доктору, спустившемуся вслед за Марселем.
— Огюст, ради Бога... он сошел с ума? — спросила мать.
— Я сам спешу за ним и ничего не понимаю, — ответил тот, подходя к ней и целуя ее руки. — Он жаловался мне, что подвержен приступам желтой лихорадки, но я за всю мою практику не слышал, чтобы эти приступы выражались в такой форме.
— Может быть, что-нибудь случилось с его коллекцией?
— Коллекция цела и вся у нас в доме. Мы до трех часов ночи приводили ее в порядок.
Мать и сын сидели друг против друга и недоуменно шевелили руками.
IV
Марсель Вотур направился вдоль по улице и минут через десять очутился у Сены. Там столпилось огромное множество народа, удивленного и возбужденного. Эйфелева башня, до сих пор возвышавшаяся на этом месте, исчезла. Публика растерянно искала ее глазами, но башня исчезла, точно растворилась в воздухе.
Два джентльмена в цилиндрах, окруженные плотными кольцами любопытных, в десятый раз рассказывали о том, что они видели. Джентльмены были из тех молодых людей, которые ложатся утром и встают вечером, покрыты золотистыми прыщами и потому называются золотой молодежью.
В три часа ночи они поехали от Марьетты к Александрине и были свидетелями феерической картины. Эйфелева башня вдруг задрожала, потом запрыгала на месте, затем сорвалась со своих устоев и зашагала, да, именно зашагала на всех четырех ногах, взяв направление в сторону, обратную от Сены. Что было дальше, джентльмены не видели, так как они до такой степени испугались, что выскочили из фиакра и без оглядки бросились бежать.
Марсель Вотур, едва выслушав их рассказ, протиснулся вон из плотного кольца и направился в ту сторону, куда ушла блуждающая башня. Вскоре он попал в другую толпу, собравшуюся перед большим зданием, у которого зиял разрушенный фасад. Часть фасада была совсем продавлена, раскрывая внутренность комнат, кабинетов, спален. В одной комнате виднелся накрытый для ужина стол. Апельсины рассыпались по скатерти и по полу. Говорили, что нескольких раненых увезли в санитарных экипажах. Очевидно, башня шагнула довольно грубо и своей ногою снесла кусок фасада.
Перед этим зданием Марсель оставался только лишь на какую-то минуту, как раз настолько, чтобы отдышаться. Затем сейчас же заторопился дальше.
V
В одиннадцать часов дня газеты выпустили специальные листки, которые публика расхватала буквально в пять минут. Башня, по их словам, вышла из города по кратчайшему направлению, стараясь ступать осторожно, не разрушая домов. Ее железные ноги попадали на середины улиц, на пустынные бульвары, во дворы и только в немногих местах наступали на постройки, обыкновенно там, где не было другого свободного места.
Правда, она весьма неосторожно заехала ногой в то здание, перед которым остановился Марсель Во- тур. Здание это выходило на площадь, и, казалось, вокруг него было достаточно места для башенных подошв. Но не следовало забывать, что такое недоразумение случилось как раз в начале бега, и башня, надо думать, погорячилась, сорвавшись со своих устоев, или просто, никогда не ходив, еще не выучилась управляться со всеми четырьмя ногами, а потому разрушила его по нечаянности, без всякой нужды.
Что касается до тех улиц, на которые опускалась ее тяжелая пята, то там фонари были свернуты, мостовые опустились; на одной улице она прорвалась в станцию подземной дороги. Тут же виднелась обгорелая лепешка — остаток сплющенного автомобиля, которому не посчастливилось подвернуться под железную ступню.
Выйдя из города, башня повернула прямо на юг, ускорила свой ход и исчезла за горизонтом с быстротой, делавшей ее похожей на видение. Так рассказывали обитатели окрестностей Парижа.
Марсель Вотур, подходя к билетной кассе, с испугом подумал, достаточно ли у него денег в кармане. Он не помнил, сунул ли он в карман бумажник, когда утром так поспешно покидал квартиру, — он вообще ничего не помнил, — но несколько золотых монет нашлись, и денег хватило. Вотур сел в скорый поезд и покинул Париж.
Скрючившись в углу, он время от времени вытягивал шею к окну — тогда его взгляд принимал осмысленный вид, и Марсель тоскливыми глазами искал башню. Не видел ее, снова забывался в углу, и в глазах его становилось пусто. Они были широко раскрыты и не выражали ничего.
На месте Марселя Вотура сидел футляр, из которого вытащили скрипку.
В пять часов вечера поезд пришел в Лион. Мальчишки махали только что вышедшими телеграммами и, надрываясь, кричали о необычайном происшествии. Вотур вышел из вагона и купил газету.
Башня, прочел он, с необычайной быстротой прорезала всю Францию, и ее видели уже в Марселе. Шла она по прямой линии, пересекая реки и проламывая леса, однако минуя города и деревни. Целый ряд телеграмм и телефонов сообщал о дикой панике, охватившей население тех мест, мимо которых пронеслась эта вещь, дотоль стоявшая спокойно в Париже.
Самой интересной телеграммой была последняя, из Марселя. Башня достигла берега моря недалеко от этого города. Не останавливаясь, она спустилась к морю и вступила в воду среди гигантского фонтана взбрызгивания и всплесков, поднимавшихся от сильных ударов ее ног. Когда она удалилась настолько, что ноги исчезли под водой, то скорость ее не упала, наоборот, казалось, возросла, и только, вместо фонтанов и всплесков, вода, взрытая в своих глубинах, кипела вокруг башни как в котле. Так продолжалось до тех пор, пока над водой не осталась одна голова башни, одна лишь верхняя площадка. Поглупевшие от изумления жители побережья и моряки с проходивших пароходов думали, что вот еще момент, и железное чудовище утонет. Но башня вдруг прекратила свое движение и круто остановилась на месте. Казалось, она решала трудную задачу: идти ли ей вперед, куда ее влекла какая-то невидимая власть, или смириться перед непроходимой морской глубиной, которая превзошла даже ее гигантский рост.
И башня смирилась. Медленно она повернула обратно и, широко ступая своими ногами, вся мокрая, вышла на берег. Собравшаяся было толпа в страхе рассыпалась, едва башня стала поворачивать назад. Жители прелестных вилл, разбросанных по берегу, поспешно разъезжались в автомобилях и колясках, увозя бриллианты и драгоценные вещи. Но башня еще долго стояла неподвижно у берега, как бы не бу- дучи в состоянии расстаться с намерением пересечь море. Весь растревоженный муравейник давно успел разбежаться, когда башня вновь зашевелилась. Она сделала несколько медленных шагов и затем, осторожно ступая между вилл, исчезла в северо-восточном направлении.
Когда Марсель Вотур прочел все эти новости, он скомкал газету и покинул поезд. «Женева» — прочел он на длинном вагоне, прицепленном к другому поезду. Деяниями Марселя Вотура управляли не мысли, а магические токи. Он вошел в длинный вагон и отправился в Швейцарию.
VII
Никто не ведал, куда стремилась бегущая башня. Никто не знал, ни что она есть, ни что владеет ее страстным бегом. Быть может, только один человек, Марсель Вотур, мог угадать ее путь, лежащий в старинный Вавилон, но ведь он был только футляром, из которого вытащили скрипку, и поступками его руководили не мысли, а мистические звуки.
Между тем башня, окунувшись в синие воды Средиземного моря и измерив их глубину, увидала, что эти воды так глубоки, что никакого роста не хватит, чтобы перейти их вброд. Средиземное море разостлалось непроходимой преградой на дороге в Вавилон. Надо было избрать иной путь, и башня пошла по материку. Но и материк не одарил ее прямой дорогой на Восток. Новое препятствие встало перед ней, и на этот раз не вглубь, а ввысь. Швейцарские горы! Пройти сквозь них не так просто, как пробежать по гладкой зелени французских долин. Но это и не было так непроходимо, как Средиземное море. И жители Швейцарии увидели железную башню, взбирающуюся на горы, скользившую по обледенелым снегам, прыгающую дикими прыжками через ущелья и потоки, иногда осторожно перебирающуюся через ледники или переходящую вброд озера. Временами она останавливалась, как бы распутывая сложные лабиринты хребтов и зажатых между ними долин, иногда же уверенно шла вперед, держа линию на северо-восток, к ровным, удобным пространствам Германии.
VIII
Один из швейцарских друзей Вотура, выходя бегущей походкой из своей дачи, наткнулся прямо на Марселя. Он мог бы очень удивиться, встретив ученого в этих краях, особенно если бы заглянул в его блестящие скользкие зрачки, но сам приятель был в слишком расстроенном духе, чтобы замечать окружающих.
— Уезжайте! — крикнул он, садясь в автомобиль и нагружая его женой, детьми и сундуками. — Уезжайте как можно скорей! в той стороне появилась она! сама! башня!
И он скрылся за поворотом, не предложив места Марселю и увозя, вместо него, лишний чемодан.
— Спасибо, — ответил ему вслед Вотур, повернувшись туда, где появилась башня, и откуда, по словам приятеля, следовало бежать. Действительно, кто боится башни, тот пусть бежит скорее, потому что едва Марсель перевалил через гору, как она оказалась тут как тут.
Вотур увидел перед собой длинную зеленую лужайку, тесно замкнутую горными массивами, а посередине лужайки башню, двигавшуюся по направлению к нему. Но какой обман зрения! Пейзаж был так количественен , а горы так огромны, что башня, от взгляда на которую в Париже валилась шапка, казалась здесь скромной, небольшой, нестрашной. При отсутствии людей и построек для сравнения ее можно было принять за обыкновенного туриста преувеличенного роста.
Едва Вотур увидел башню, как, с порывистостью ветра, он кинулся к ней, сбегая с вершины, местами скатываясь, что-то свирепо крича и взмахивая руками. Он остановился на краю глубокой расщелины, отделявшей его от башни. Она, башня, стояла на той стороне, он — на этой. Взглядом он пожирал башню, башня, казалось, смотрела на него. Что-то невозможное должно было совершиться. И, вероятно, оно совершилось бы. Но вдруг Вотур неожиданно схватился за карман.
— Где моя записная книжка? — испуганно подумал он.
Та книжка, переплетенная в змеиную кожу, в которую были записаны все данные, все выводы, все результаты его пятилетних изысканий, блистательных догадок и, главное, тех дивных открытий о Вавилонской башне, которые одним ударом опровергали и научные теории, и весь Ветхий Завет.
Марсель сунул руку в карман и вздохнул свободнее: в кармане, под его пальцами, почувствовались знакомые формы мудрой книжки, а осязание его получило привычное ощущение от гладкой кожи переплета. Марсель вынул книжку, взглянул на нее и облегченно положил обратно.
В тот же момент он поднял глаза к башне. Мысль о ней была перебита другою мыслью лишь на несколько секунд. Но скорость башни велика, и Марсель мог только видеть, как она повернула в боковую долину. А затем башня скрылась с глаз.
Башня двигалась промеж северных гор Швейцарии, пробегая долины и перебираясь через хребты.
Затем, будто что-то решив, башня взяла направо, на север, развила свою привычную чудовищную скорость и вихрем перемахнула через границу Германии.
IX
Едва оповестил телеграф, что башня появилась на севере Швейцарии, как паника охватила население Германской империи. Немедленно, в Берлине, был создан военный совет, на котором решили встретить башню артиллерией. Командование вручили генералу фон-Магеншмэрцену, блестящая слава которого покоилась на внушительном фундаменте из человеческих костей.
Несмотря на быстроту действий военных властей, они никогда не поспели бы сосредоточить свои силы на возможных путях следования проворного врага.
Появление башни было так молниеносно, что передовые отряды не успели произвести ни одного выстрела. Им удалось лишь оглянуться и увидеть, что враг уже позади, — и тревожные телеграммы полетели на север, к генералу, застывшему дальше, в ста километрах от границы.
Как быстро ни бежала башня, но электричество скользило быстрей, и Магеншмэрцен успел узнать о приближении башни за целых полчаса до ее появления.
Генерал взглянул на карту, затем опытным взором окинул окружающую местность и нашел, что, судя по складкам земной поверхности, башня не минует засады. По его команде артиллерия немедленно приготовилась к бою и поспешила замаскироваться, насколько возможно. Башня уже показалась на горизонте и неслась прямо на них. С высоты ближайшего холма, стоя под прикрытием небольшого стога сена, генерал фон-Магеншмэрцен самолично наблюдал за приближением чудовища. Оно неслось так быстро, что даже его испытанный глазомер с трудом высчитывал все уменьшающееся расстояние.
— Огонь! — скомандовал генерал фон-Магеншмэрцен в телефонную трубку, соединенную со всеми батареями.
Башня мчалась прямо на позиции, и всякий опытный артиллерист, казалось, мог достать ее снарядом, как рукой. Оглушительный залп потряс окрестности, и серое облако дыма заволокло все.
Ах, этот дым! Этот бесконечный момент, отделивший залп от его последствий. Сомнений быть не могло: башня согнута, искалечена, разнесена в куски. Другого быть не может. Не может быть, чтобы она перешагнула через головы артиллеристов, как через первую засаду.
Но случилось третье. Еще не улегся дым, еще не стихло эхо от удара, как страшный свист заставил генерала взглянуть наверх. Башня спиралью взлетела в воздух, как бы стремясь ввинтиться в небо, вытянулась в воздухе горизонтально и, скользя под облаками, скрылась вослед зашедшему солнцу.
Артиллерийский отряд стоял молча, тихо, с поднятыми головами.
— Вы видите? — спросил генерал фон-Магеншмэрцен своего адъютанта, который, конечно, все видел.
— Вижу, Ваше превосходительство, — согласился отлично дисциплинированный адъютант.
— Так вот, пойдемте писать донесение,— сказал генерал, выходя из-под стога сена и направляясь в штаб.
X
Вне сомнения, неожиданный взлет башни в голубые пространства воздуха был преудивительным событием. Но удивительнее было то, что он не находился ни в какой связи с залпом генерала фон-Магеншмэрцена. Залп был сам по себе, а взлет сам по себе, и только случай свел их в общую секунду. Чтобы быть точнее, необходимо подчеркнуть, что башня отделилась от земли уже за какой-то момент до залпа, как раз тогда, когда генерал давал приказ в телефонную трубку, и сталь, исторгнутая из жерл, нашла лишь пустое место под ногами поднимающейся башни.
Но было еще третье событие, произошедшее одновременно с этими двумя, и с тем третьим был связан столь неожиданный полет: Марсель Вотур вынул из кармана змеиной кожей переплетенную книжку и со словами: «Да будь ты проклята!» — разодрал ее на мелкие кусочки.
И в тот же миг его душа покинула башню, в которую она перед тем переселилась и которую оживляла своим присутствием. А затем и башня, и Марсель устремились по прямой линии в Париж, туда, откуда начался столь фантастический побег.
Вот почему башня так быстро взвилась кверху и улетела на запад вослед заходящему солнцу. Вот почему генерал фон-Магеншмэрцен принужден был оскандалиться, не попав в нее из своих отлично оборудованных пушек. Поздно ночью, когда Париж кутался в густые туманы, забредшие сюда из серого Лондона, над ним пролетела Эйфелева башня. Шея ее была вытянута вперед, четыре ноги сжимались сзади и железные ребра со свистом рассекали воздух. Очутившись на месте своей обычной резиденции, она поднялась головой кверху, приняла вертикальное положение и мягко опустилась на старый пьедестал.
По лестнице, скрытой в одной из ее ног, спустился человек и вышел на площадь. Это был Марсель Во- тур. Он направлялся по набережной Сены и свернул в боковую улицу. В жилете Марсель нашел ключ от своей квартиры и от наружной двери. Никто не слышал, как он взошел к себе и как полчаса спустя вышел обратно. На его утомленном, помятом лице были написаны и душевное потрясение, и сильная физическая усталость, а от рук его пахло керосином. Взяв фиакр, Марсель отправился в гостиницу, достал себе комнату и заснул как убитый.
Он спал так крепко, что проспал и шум, поднявшийся в Париже навстречу возвратившейся башне, и дневные телеграммы, гласившие об этом.
В сущности, телеграммы, пришедшие из Швейцарии, явно опаздывали против событий, а донесения генерала фон-Магеншмэрцена были странными и абсолютно непонятными. Что касается известий из самого Парижа, то они только констатировали факт возвращения блуждающей башни, но подробности были так же туманны, как и тот туман, который окутывал Париж в момент ее появления. Все сообщения сводились к следующему: когда с первыми утренними лучами разорвалась туманная завеса, из-за нее выплыли знакомые очертания железного скелета, неодушевленно стоящего на своем старом месте. И хотя описаний была пропасть, целых восемь страниц, но парижане так и не узнали, откуда взялась наскандалившая башня.
В конце восьми страниц было также маленькое сообщение, не имевшее отношения к делу. Сообщалось, что в квартире известного ассириолога Вотура, ночью, по их мнению, в его отсутствие, вспыхнул пожар, уничтоживший все материалы, привезенные из Месопотамии. Пожар был так неожиданен и распространился с такой силой, что даже брат ассириолога едва успел спуститься из пылающей квартиры.
Ультрафиолетовая вольность
Сибирский экспресс — Нью-Йорк май 1918 года — 12 февраля 1919 года
I
На мягком пушистом облаке лежали два больших булыжника, а на них расположились две фигуры, укутанные в туманные одежды. Одна фигура была ультрафиолетовая, другая инфракрасная. Читатель, знакомый с физикой, сразу поймет, что обе они были невидимы для человеческого глаза. Да если и видимы, то слишком уж высоко надо было поднимать голову. Но это несущественно. Неважно также, что обе они были сестрами, что, несмотря на свою заоблачность, обе были дочками одного и того же земного отца, жившего когда-то в Кёнигсберге. Гораздо существенней то, что случилось. И, хотя этого никто не видел, так как, я уже сказал, слишком высоко пришлось бы задирать голову, но несомненность случившегося будет бесспорна, после того как ниже мы узнаем о последствиях, вытекших из случившегося.
Итак, одна фигура заломила руки и воскликнула:
— Ах, сестра! Могла бы ты только представить, как бесконечно надоело мне носиться на этом колесе с двумя крыльями!
Это была ультрафиолетовая фигура и звали ее Время. Другая фигура, инфракрасная, ответила устало:
— Представляю, сестра, ах, как представляю! Сама я мучаюсь тем же: без начала и конца все одно и то же!
Инфракрасную сестру звали Пространством.
Прошло сто лет. Обе они сидели и молчали. Одна из них бессознательно вертела колесо, которое махало своими двумя крыльями.
— Уйдем... — несмело сказала фигура, которая вертела колесо и имя которой было Время.
— Уйдем, — ответила другая, инфракрасная, — мир давно течет по заведенному порядку. Авось, и без нас не собьется, по инерции...
После этого обе фигуры обнялись и исчезли.
II
Чарльз Эйч Мак-Интош распахнул дверь и устало вышел на крошечный балкон, который был в его конторе на тридцать первом этаже. Заседание с двумя седыми, краснолицыми, чисто выбритыми джентльменами затянулось слишком долго, но зато было сделано дело. Огромные нефтяные поля отныне переходили в руки Мак-Интоша. Оба джентльмена только что ушли, и он, утомленный долгим сидением и сложными разговорами, вышел на свежий воздух. Здесь, на уровне тридцать первого этажа, воздух был относительно чист, пыль и автомобильные запахи ползали внизу. Приятно было расправить усталую спину и проветрить чересчур сосредоточившийся мозг. Зато огромные, густые нефтяные источники переходили в собственность Мак-Интоша, и в душе его плавало удовлетворение.
Он уронил свой взгляд на [мешанину] из толпившихся вокруг высоких и низких домов и вдруг увидел перемену. Мы употребили термин «перемену», желая сохранить спокойный эпический тон, но сейчас же должны сорваться с него, потому что перемена произошла такая дикая, нелепая и прямо-таки сумасшедшая, что и мы, и вы, и сам Мак-Интош должны были подскочить на месте. Город, дома, люди — все куда-то исчезло. Перед балконом расстилался желтый песок, а на нем высилась тяжелая, мрачная египетская пирамида. Имя ее было Хеопса или Хуфу.
Мак-Интош взволнованно одел очки и всеми четырьмя глазами впился в доисторическую гостью. Но не успел он оглянуться и что-нибудь сообразить, как из пирамиды, пониже чем посередине, вывалился камень, и в открывшемся входе появился человек в царственных египетских одеждах.
Фараон был гневен, потому что он прошел весь коридор, не встретивши ни стражи, ни рабов.
— Petra — u?! — крикнул он, увидев Мак-Интоша и махнув рукой в том странном и, в то же время, пластичном боковом движении, в каком мы видим египтян на старых египетских барельефах.
Мак-Интош все еще не мог опомниться от происшедшего, но однако осознал, что на него повысили голос. Поэтому он выпрямился и стоял гордо и неподвижно, сохраняя всю невозмутимость англосаксонской крови и помня, что он гражданин свободной демократической республики.
Однако у фараона были свои взгляды и свое воспитание.
— Petra — u?! — закричал он снова, громко и гневно. Непонятные слова означали по-египетски: «Что все это значит?»
Мак-Интош подумал: «Если он будет продолжать кричать на меня, то я буду вынужден пригласить полисмена. Он не в Египте, а в культурной стране, и времена деспотизма давно миновали».
Фараон неторопливо оглянулся в коридор, но, убедившись, что там по-прежнему пусто, вернул свои царские взоры к Мак-Интошу. На этот раз он, по-видимому, обратил внимание на странные, не египетские одежды американца и сообразил, что тот иностранец. Поэтому он сменил египетский язык на ассирийский и спросил более мягко:
— Кто ты есть, иностранный человек?
Ассирийский язык оказался для американца таким же непонятным, как и египетский, но смягчение тона произвело благоприятное впечатление на его достоинство. Мысль о полисмене отлетела и ее сменил интерес к непонятному собеседнику. Будь к месту тут сказано, что дед Мак-Интоша был довольно известным ботаником и даже в свое время, собирая растения, погиб в Новой Зеландии, съеденный туземцами. И пускай сам Мак-Интош был до мозга костей дельцом и делателем долларов, все же, несколько коллекционерских наклонностей, как например, любовь к бронзовым пепельницам, сохранялись в его крови. Даже воспитание Мак-Интош должен был получить в направлении научной деятельности. Но, едва сделавшись самостоятельным, он немедленно покинул Оксфорд, променяв бездоходную науку на более выгодное и доходное занятие спекуляцией. Как видно, он оказался прав, разбогатев необыкновенно, — но мы не будем отклоняться от рассказа.
Мак-Интош напряг свою память и постарался вспомнить греческий, когда-то изученный в Оксфорде. И Греция, и Египет были чем-то очень древним и, от долгого сидения в конторе, похожим... Может, если сказать что-нибудь по-гречески, этот фараон и разберет. Но, увы, греческий язык был забыт так основательно, что ни одно слово не желало возвращаться в память. Мак-Интош никогда и не любил этого бесполезного наречия, и только разве хитроумный Одиссей, с его спекулятивными наклонностями, вызывал его симпатии.
И вдруг завеса раздернулась, и Мак-Интош громко произнес одну из заключительных строф Одиссеи, когда-то тупо зазубренных в университете:
— Добрые боги, какой вы мне день даровали! О радость!
Произнес и посмотрел на фараона. Слова произвели совершенно порядочный эффект. Фараон зашевелился, закинул голову и крикнул по-гречески:
— Повтори!
«Повтори» — это было слово, хорошо знакомое Мак-Интошу, когда он плохо отвечал профессору заученные строфы.
Мак-Интош понял, откашлялся и громко произнес:
— Добрые боги, какой вы мне день даровали! О радость!
Но эта фраза протекла отчетливее и яснее. Фараон тоже понял, улыбнулся и милостиво кивнул головой. Он принял приветствие на счет встречи с ним. Затем важно и отчетливо произнес по-гречески:
— Приветствую тебя, неизвестный человек. Я Псамметих Первый, владыка и правитель Египта. Кто ты: царь, жрец или раб?
Мозг Мак-Интоша работал с большим напряжением, и кое-что из старого воскресало в его памяти. Фразу египтянина он уловил в общих контурах, но не совсем точно, поэтому в свою очередь ответил:
— Повтори, о фараон.
Фараон произнес медленно и с расстановкой:
— Тебя приветствует Псамметих Первый, владыка и повелитель Египта, и спрашивает тебя, кто ты: царь, жрец или раб?
Мак-Интош понял более или менее всю фразу, но не знал, что на нее можно ответить, так как по своему социальному положению он не подходил ни под одну из поименованных категорий. Но воспоминание о приобретенных им сегодня огромных нефтяных полях, в сущности, ни на минуту не покидало его, даже несмотря на совершенно из ряда вон выходящее появление фараона. Поэтому ответ само собою вытек из этого воспоминания.
Мак-Интош гордо выпрямился и сказал:
— Я керосиновый король.
Как керосин по-гречески, он вспомнить не мог и поэтому произнес интернациональное petrol. Псамметих важно и церемонно наклонил голову. Ему было приятно, что он беседует не с рабом, а с особой царской крови.
— Будь славен, брат мой, — произнес он торжественно. — Но что такое petrol? Я никогда не слыхал об этом государстве.
Мак-Интош, который начал более сносно разбираться в словах фараона и которого эта беседа стала увлекать, особенно после торжественного приветствия Псамметиха, внутренне выбранил свою память, не желавшую ему подсказать греческий перевод керосина. Но, вероятно, и сам Гомер не смог бы перевести это слово.
— Керосин — это горючее вещество, осветительный материал, — хотел сказать Мак-Интош, но никак не мог построить греческой фразы.
— Свет! — вдруг закричал он по-гречески, махнув рукой к небу. — Свет! Гелия!
Псамметих склонил голову.
— Мы тоже поклоняемся великому Солнцу, — сказал он, — и мы тоже стремимся распространять свет среди темных народов.
Беседа налаживалась как нельзя лучше. Оба оказались не только особами равного положения, но и одинакового религиозного воззрения.
Не желая отставать от фараона, распространявшего свет среди темных народов, Мак-Интош хотел, в свою очередь, сообщить, что он учредил двенадцать стипендий при университете и субсидировал школу для вымирающих краснокожих индейцев, но трудность греческого языка связывала его уста. Кроме того, Псамметих перебил его.
— Во время моего Ассирийского похода, — гордо сказал фараон, — я сжег двенадцать городов, со всеми их обитателями, за то, что они не хотели поклоняться великому Солнцу.
Очевидно, каждый из двух распространял культуру по мере своих сил и разумения, и, может быть, даже хорошо, для развития их взаимной симпатии, что фраза о двенадцати сожженных городах не была понята Мак-Интошем, а фраза о двенадцати стипендиях не была произнесена. Керосиновый король был, пожалуй, слишком мизерен для Египетского, а Египетский больно уж размашист для Американского. Однако мы не можем не обратить внимания на то, что оба опять-таки сошлись на цифре двенадцать.
— Но среди богатств, плененных мною в Ассирии, — продолжал Псамметих, — я нашел также несколько ярких лучей далекого восточного Света.
— Восточного Света? — переспросил Мак-Интош, который поймал только конец предложения.
— Я вывез из Ассирии несколько Санскритских легенд, которые повелел моим жрецам перевести на египетский язык и начертать для моей библиотеки.
— Санскритских легенд? — уловил Мак-Интош, не вполне ориентируясь, что это такое, но помня, что все языки произошли от санскритского и что, стало быть, дело идет о временах Адама и Евы.
Удивление в голосе Мак-Интоша польстило фараону и он милостиво наклонил голову.
— Если тебе интересно, брат мой,— сказал он, — я покажу тебе эти легенды.
Блестящая мысль вдруг мелькнула в голове МакИнтоша.
— Я сейчас спущусь к вам в лифте! — крикнул он, путая греческие слова и английские и не помня, как у греков назывался лифт. Он захлопнул балкон, накинул пальто и шляпу и, выйдя на площадку, надавил электрическую пуговицу.
— Если я напишу ему чек на пятьдесят тысяч долларов, — думал Мак-Интош в ожидании лифта, — то он, наверное, уступит мне одну легенду. Это будет рекордная сенсация, когда я пожертвую ее в Национальный музей. «Дар Чарльза Мак-Интоша». Весь ученый мир всполошится, услышав об этом. Ведь, как-никак, санскритские легенды не каждый день находят. В Оксфорде, гордом своим учеником, наверняка повесят его портрет. В Национальном музее отведут специальную комнату, вход в которую будет стоить десять долларов. В сущности, после пяти тысяч посетителей, расход по санскритской легенде будет покрыт, остальной доход можно пожертвовать в пользу музея.
Так думал Мак-Интош, нетерпеливо нажимая электрическую пуговицу в третий раз. Лифт появился против дверцы, и Мак-Интош стрелою отправился вниз.
III
Между тем, сестры, побродив средь трансцендентальных планов и не найдя себе интересного флирта, оглянулись на мир, который они так легкомысленно покинули.
— Милая, да там что-то неладно! — воскликнула сестра, которую звали Пространством. — Уж никак земной шар соскочил со своей оси?!
— Что ты говоришь! — забеспокоилась другая сестра.
— Уверяю тебя! Смотри: куда девалась пирамида?
С этими словами сестры устремились к тому облаку, на котором они любили сидеть.
— Горе нам! — закричала одна из них, — времени нет, и все столетия перепутались!
— О, несчастье! — крикнула другая, — пространство исчезло, и пирамида попала в Америку!
Обе сестры схватили фараона за руки. Он ждал Мак-Интоша у входа в пирамиду и теперь никак не мог понять, кто держит его руки. Как известно, одна сестра была ультрафиолетовая, а другая инфракрасная, и, потому, обе невидимы для глаза.
— Ваше величество, что за вольность? Пожалуйте в ваш гроб! — закричала сестра, — и как это он ходит без кишок и без сердца! — удивилась она, уводя его набальзамированное туловище внутрь пирамиды.
Псамметих Первый действительно все время чувствовал некоторую тошноту.
— А где американец? — спросила другая сестра.
— Американец едет в лифте, — ответила та изнутри пирамиды.
— Ну, ничего, этот на верном пути.
И сестры принялись приводить в порядок сбившийся с толку мир. Этот маленький переполох был им хорошей наукою о том, как опасно, никого не предупредив, покидать свое ответственное дело. Впрочем, сестры скоро справились со всеми беспорядками, мир вошел в колею, и все потекло по-старому: просто, ясно и обыкновенно.
IV
Чарльз Эйч Мак-Интош нетерпеливо вышел из остановившегося лифта и деловитою походкой прошел через вестибюль. Очутившись на улице, он оглянулся в поисках пирамиды, но ее больше не было. В глаза лезли скучные очертания примелькавшихся домов: старая улица, небоскребы, автомобили и синие облака бензиновых паров.
— Где же Псамметих? — подумал Мак-Интош, соображая, в какую сторону выходит его балкон и где надо смотреть пирамиду. Он завернул за угол, но и там был тот же город.
— Я здесь, сэр, — сказал его шофер, подавая автомобиль и открывая дверцу. Мак-Интош сел, ничего не понимая, и машина понеслась по улицам.
— Санскритская легенда! Санскритская легенда! — думал он, то вынимая чековую книжку, то пряча ее в карман. Страшная досада охватывала его пополам с полным недоумением. Он машинально доехал до
дому и машинально очутился в своей гостиной. Жена, в темно-красном вечернем туалете, направилась ему навстречу.
— Что вы так запоздали, Чарли?! — воскликнула она. — Разве вы забыли, что у нас обедает перуанский посланник с женой? У вас ровно десять минут, чтобы переодеться во фрак!
Мак-Интош сел на диван и провел рукой по лицу. Псамметих Первый тяжело прополз сквозь его мысли.
— Я все-таки не понимаю,— подумал он, — откуда взялась и куда девалась эта пирамида...
— Что с вами, Чарли? — спросила жена. — Вы нездоровы?
— Да... я... я не буду сегодня обедать... — сказал МакИнтош, рассеянно поднимаясь с дивана.
— Чарли! Но перуанский посланник!
— Извинитесь у перуанского посланника, — сказал он, уходя в кабинет и задевая по дороге стулья.
Жена с изумлением смотрела ему в спину. И вдруг ей сделалось страшно:
— Боже мой, — подумала она, — неужели у него начинается прогрессивный паралич?!
Конец
Какие бывают недоразумения
Владивосток — Киото 26 мая — 18 июня 1918 года
I
Надо строить железную дорогу, а мысли все о жене. Конечно, оно не мудрено, сидя третий месяц в горах, между неоконченным мостом и полуоконченным туннелем, но все же не мешало бы заставить себя сосредоточиться для того, чтобы начисто проверить проект добавочных расходов на железную будку, как раз ту будку, которую необходимо поставить на этом месте. Уж если делать, так делать не иначе, как очень хорошо, — такое правило было у инженера, который строил эту линию и который, как мы только что намекнули, три месяца не видал своей жены.
По совести говоря, это неправда, что он ее не видел три месяца. Еще недавно он ни с сего придумал себе неотложные дела, по которым и отправился в город. Но эта поездка в счет не идет, потому что, во- первых, она была кратковременная, двухдневная, и, во-вторых, во все время пребывания у инженера болели зубы, и поездка вышла не в поездку, а в чорт знает что. И вообще, строить железную дорогу по-хорошему, это одно, а быть человеком еще не особенно старым, да к тому же не так давно женившимся, это другое.
Инженеру минуло сорок лет. Он был мужчина нервный, живой, неглупый и упрямый. Первое из поименнованных четырех качеств не помешало ему, благодаря трем остальным, сделать отличную карьеру и стоять, несмотря на свой нестарый возраст, во главе ответственного дела. Конечно, слово упрямый надо понимать не столько в дурном смысле, сколько в хорошем. То есть, если, например, на пути встречается гора, так он не обойдет ее вокруг, а просверлит туннелем, и если этот туннель выйдет на миллион дороже, чем кружной обход, — то упрется и настоит на том, чтобы для туннеля ассигновали миллион. Но такое упрямство имело и обратные стороны. Так например, если болят зубы, так нечего ездить к жене, а он все-таки поехал, ну и вышла поездка не в поездку, а, как мы уже имели честь сказать, выразиться, чорт знает во что.
Спроектировать будку для этого места надо обязательно. И при ней устроить небольшую метеорологическую станцию. Сначала будут недовольны новыми расходами, а затем поблагодарят. И заставить себя сосредоточиться на проекте тоже не так уж трудно. Жена, жена — он, слава Богу, не малый мальчик и может взять себя в руки. Но тут есть еще одно привходящее обстоятельство, именно, светло-синий конверт, который, распечатанный, лежит на столе. От той же жены. И внутри написано, что она решилась на преодоление трудного пути по горным дорогам (точнее, по горному бездорожью) и завтра рассчитывает приехать к нему в гости на три дня, пользуясь любезным обществом monsieur Какаду и тем, что он предложил ей свою помощь и услуги во время этого ужасного пути. Вот такое известие рождает в уме и сердце целую сеть перепутаннейших ощущений. Причем тут monsieur Какаду, чего ради он впутался в это дело? До сих пор Какаду, в качестве одного из второстепенных инженеров на той же постройке, заведывал приведением туннеля в окончательный порядок, так сказать, вылащиванием конструкций и вылизыванием изнутри. Неделю тому назад он уехал в отпуск, а теперь возвращается обратно вместе с женой своего начальства. Ведь надо знать, что такое Какаду. Во-первых, он бельгиец, а все бельгийцы и французы отличные инженеры, если бы не были еще лучшими ухажерами за чужими женами. Во-вторых, надо посмотреть на него: смазливый, смуглявый, глазки поволочные, на носу пикантно посажено пенснэ, в галстук пикантно воткнута булавка — прямо противно смотреть, и если упрямый инженер терпел такого подчиненного, то только потому, что тот был дельный и знающий малый. А теперь дельный малый начинает проявлять свою деловитость и в другой области: полюбуйтесь — занят доставкой жены для своего начальства! И главное, куда ее тащит — за облака, на самый горный перевал, и дорог-то никаких нет. Глушь адская. Рабочие и инженеры живут в наскоро сколоченных бараках, никаких селений вокруг, и даже почта доставляется только трижды в неделю, при помощи осла и старого почтальона, на нем приезжающего. Когда будет открыт туннель, то путь сквозь него в значительной мере сократится и упорядочится. Но пока приходится с неудобствами переваливать через гору. И сколько раз инженер ни намекал своей жене, что, собственно говоря, она могла бы иногда приехать к мужу, эта женщина всегда восклицала: «Милый, да я же умру от разрыва сердца, поднимаясь на такую кручу!»
А тут вдруг, при очаровательном содействии monsieur Какаду, не оказалось ни разрыва сердца, ни страшной кручи и, без дальнейших разговоров, — «завтра буду на три дня». Или здесь сыграло роль пикантное пенснэ (и, может быть, что-нибудь другое пикантное), или... в самом деле, очень уж она соскучилась по своем супруге. Инженер поймал себя на том, что, по чистой совести, он несправедлив к жене, и, если Какаду выглядит подлецом, то жена за все три года их семейной жизни вела себя примерно. Она из патриархальной, очень нравственной семьи, ну, соскучилась по мужу и просто пересилила свой страх, тем более, что Какаду, за удовольствие проехаться с хорошенькой женщиной, конечно, расписал дорогу, как ровную скатерть. Ведь в самом деле, и сам он, муж, мужчина ничего себе, а у жены достаточно хорошего вкуса, чтобы не обращать внимания на каждую пикантную булавку более, чем на удобного попутчика.
Инженер взошел в свою комнату в одном из бараков, и тут ему стало уже совсем приятно. Хотя барак был дрянь, но комнату свою инженер устлал и увешал коврами, а посередине поставил большое кожаное кресло — просторно и удобно — прямо хоть на двоих (например, для него с женой). Да и вообще, если она появится сюда на два, на три дня, то это будет очень и очень привлекательно. Инженер потер себе руки и, сделав несколько выкладок касательно стоимости будки и метеорологической станции, лег спать.
II
На другой день, в полдень, приехала Лили, укутанная в большой голубой шарф, а с нею Какаду, в высоких желтых сапогах и с особенно пикантно воткнутой булавкой. Лили была ужасно мила, и инженер не без нежности расцеловался с нею, а, кстати, довольно чистосердечно пожал руку monsieur Какаду, в благодарность за столь любезный подарок. Но достаточно было взглянуть на его торчащие усы, чтобы без промаха понять, что это канальское отродье старалось ради выслуги перед начальством, да для того, чтобы потереться вокруг хорошенькой юбки.
Какаду сейчас же расшаркался, поцеловал у madame ручку и отправился в свой туннель проверить, все ли там у него в порядке. Инженер же взял жену под руку, повел ее в свою устланную коврами комнату, завтракал с нею, tete-a-tete, затем гулял в ее обществе по новому мосту, показывал место, где поставят будку с метеорологической станцией, — вообще, позволил себе не утомляться в этот день работами и провел весь день так приятно, что не заметил, как наступила ночь.
Мы же, конечно, не будем нескромными — ибо что нескромнее, чем впутываться в чужую семейную жизнь, — но позволим себе предположить, что и после того, как мы, с наступлением ночи, покинули инженера и его Лили, они свое время провели не менее приятно, чем днем, а может, еще приятней. Факт тот, что Какаду отошел на десятый план, и инженер окончательно убедился, что все его подозрения на милую Лили не что другое, как пустая и гадкая напраслина. Тем более неприятно было, когда в четыре часа ночи к инженеру постучали и попросили его поскорее выйти наружу. Инженер посулил дьявола, накинул пальто и высунул нос за дверь. На улице было ни светло, ни темно, чуть загоралась заря, а внутри так тепло и славно! Однако оказалось, что одна из горных речек, которой на днях перегородили путь плотиной для того, чтобы направить ее в каменную трубу под насыпь, прорвала эту плотину и грозила наделать неприятностей. Инженер мог сколько угодно любить свою Лили, но он был человеком дела, поэтому немедленно оделся, поцеловал ее в лобик и вышел на улицу. Все инженеры, и Какаду, были уже на ногах и, вместе с рабочими, отправились на место происшествия.
Таким образом, и конец ночи, и утро — все было испорчено. Речонка оказалась бурливой и своенравной, и потребовалось целых восемь часов, чтобы привести ее в порядок. Лишь к завтраку инженер и часть рабочих вернулись обратно, а Какаду, тот даже остался там, наблюдая, чтобы подобный случай не повторился снова.
Лили недавно проснулась и была голодна. Инженер сейчас же распорядился подать завтрак, кушал с ней опять в tête-à-tête, а после завтрака, расположившись на ковре, они покурили папиросы с амброй и мечтали о том, как хорошо будет, по окончании постройки, купить небольшую виллу вблизи Монте-Карло и какие прелестные глицинии там можно развести. Затем инженеру принесли отчеты по уплате жалования рабочим, почему пришлось оторваться от приятных разговоров и заняться делом. Лили, которая еще не гуляла, отправилась наружу, взять немного воздуха, а инженер уселся в кресло и развернул бумаги. Спать ему хотелось смертельно. После того как его подняли среди ночи и он восемь часов провозился на плотине, это было нисколько не удивительно. А если принять во внимание, что и первую половину ночи он, в обществе Лили, провел не слишком безмятежно, то станет вполне понятно, что рассматривание своих дел он начал, клюнув в них носом. Однако взял себя в руки, встрепенулся, сморщил лоб и, окончательно сбросив с себя сонливость, погрузился в привычную область сложных цифр.
III
Одна мысль вдруг прорезала его голову. Жена пошла гулять, а где-то там, на плотине, сидит Какаду. Может быть, они теперь встретились и целуются. Инженер до того образно представил себе эту картину, что в ту же минуту, не помня как, очутился на улице и по- промеж бараков направился к мосту. Он даже не отдал себе отчета в том, что мост находится совсем в другой стороне, чем плотина, на которой остался Какаду. Но чутье не обмануло, оно не обманывает никогда, и, подойдя к реке, он увидел внизу берега, под протекторатом нововозведенного гранитного быка, на камне сидящую Лили, а у нее на коленях — нет, можно ли себе представить что-либо более позорное? — у нее на коленях сидящего Какаду, обхватившего обеими руками ее шею и взасос целующего ее в губы! С инженером сделались настоящие корчи. Он едва не ринулся по прямой линии на развратную пару, но вдруг ему стало так стыдно за жену, так неловко за ее бессовестную позу, что он как-то помимо воли шатнулся назад, попятился за барак и оттуда, сквозь дверь, протиснулся в свою комнату. Там он неловко, боком влез в большое кресло, запустил руки в волосы и в этой позе остался неподвижен.
Вы, обманутые мужья, читающие мой рассказ, вам понятно и известно то, что переживал в эту минуту инженер! Вы, мужья не обманутые или еще не знающие, что вас обманули, вы можете себе представить, что он переживал! Прочие же, поверьте, что инженеру было далеко не по себе. Ах, как тошно было инженеру!
Всего двенадцать часов назад она обнимала его, ластилась к нему, шептала такие слова, какие не решилась бы повторить при дневном свете, а теперь... на коленях, на ее коленях, сидит... О, проклятье! И мысли, тяжелые и бесформенные, как булыжники, заворочались в голове инженера, как булыжники, давя ему на череп. Отчеты рассыпались вокруг кресла — да какие тут отчеты, когда в происходящем вокруг он сам не мог дать себе отчета!
Инженер довольно долго, а, может быть, и не очень долго — это он сказать не мог, — сидел, уставившись в одну точку. Но так как этой точкой случайно было окно, а в окне мелькнул голубой шарф, то он вскочил на ноги, подобрал бумаги и вышел на улицу. Прислонясь спиною к двери, он ждал приближения своей жены. Лили шла, розовая, стройная, с элегантно брошенным шарфом, который в пути предохранял ее от ветра и загара. И, глядя на эту иллюзорную невинность, кроющую столько зла, инженер проскрежетал:
— Какая подлость, какая низость!
И почувствовал себя до мозга костей джентльменом по сравнению с этой мелкой, гадкой женщиной. Это чувство было так остро, что оно избавило и их, и нас от экспансивной и грубой сцены.
Когда Лили подошла к нему и протянула руку, он нашел в себе самообладание, чтобы взять эту руку и вежливо поцеловать. Но когда Лили, оглянувшись вокруг и видя, что никого нет, хотела поцеловать его самого, он попятился в дверь и сделал вид, что хочет пропустить ее вовнутрь. Лили засмеялась и, входя за ним в комнату, воскликнула:
— Что это, вы, кажется, не хотите моих поцелуев? — и положила ему руки на плечи.
Инженер молча отвел их и отошел в сторону. Лили удивленно посмотрела на него и спросила обиженным тоном:
— В чем же дело? Вы не в духе?
Инженер ответил с тонкой иронией:
— Да, не чрезмерно в духе, — и отвернулся к окну.
Лили сбросила шарф, положила зонтик и, пройдясь раза два по комнате, подошла к нему сзади.
— Может у вас неприятности с постройкой? — спросила она ласково, обнимая его вокруг шеи. Через плечо, инженер, не поворачиваясь, сказал:
— Нет. Но, к сожалению, у меня очень много дел.
Это уже совсем выглядело невежливо. Лили отошла в противоположный угол и капризно проговорила: Я не ожидала, что мое присутствие будет вам так мешать! Совсем не ожидала!
Она рассчитывала на возражение, но инженер молчал. Это уже было слишком. Не надо забывать, что ее предки, двести лет тому назад, играли при дворе не последнюю роль и строптивая гордость составляла неотъемлемую часть ее крови. Лили вспыхнула и сказала:
— Мне, право, очень жаль, что моим приездом я оторвала вас от ваших прямых обязанностей. Но я сейчас уеду и больше не буду вам мешать.
С этими словами она раскрыла свой ручной чемоданчик и начала укладывать в него щетки и флаконы. Инженер проговорил:
— В таком случае надо будет послать за monsieur Какаду. Он возьмет на себя труд проводить вас до города.
Жена ответила не без живости:
— Какаду навязчивый и надоедливый субъект. Но здесь я видела почтальона. Он сейчас возвращается в город и доставит меня лучше, чем кто-либо.
Говоря это, она захлопнула уложенный чемоданчик и стала одевать шляпу. Инженер стоял спиной и глядел в окно.
Лили была совсем готова и хотела уже уходить, но привязанность взяла верх над гордостью, и, подойдя к мужу, она спросила серьезно:
— Павел! В чем же дело? Я ничего не понимаю.
Но инженер поцеловал ей руку и, сказав: «до свиданья», открыл перед нею дверь.
Лили взяла чемоданчик и вышла.
Инженер, минут через десять, видел из своего окна, как она, вместе с почтальоном и его ослом, поднималась на гору и как между зелени мелькал ее голубой шарф.
Затем явился Какаду с докладом, что на плотине все в порядке и что он идет работать в туннель. Инженер сухо и корректно поблагодарил его и, развернув свои бумаги, попытался вникнуть в их количественную сущность.
IV
На следующий день в сердце инженера было пусто, как в пустыне Гоби. Все, что так наполняло его в последние дни, было вырвано разом, и притом с корнем, и на месте цветущей нежности разостлался сухой и бесцветный песок. Даже сама работа была противна и утратила свой вкус. Надо было поскорей закончить постройку, в крайнем случае передать руководство кому-нибудь другому, благо главное было уже сделано, и уехать куда-нибудь. А этого Какаду с корректными докладами, а этот мост с гранитными быками, право, глядеть на них значит держать лезвие в той ране, которую она рассекла.
В таких мыслях прошел день и наступил следующий. Инженер глубоко презирал свою жену, беспринципную женщину, посадившую на колени этого поганого носителя булавки, и думал, что только его собственное бесконечное джентльменство сохранило обоих от заслуженных воздействий. Параллельно мыслям о джентльменстве или, вернее, перпендикулярно к ним, являлись и такие идеи: «Подождите, Лили. Как кончу работу, уеду на Принцевы острова. Куплю гарем, и тогда посмотрим. Вы мне с одним, а я вам с пятью. Пять за одного, таков мой стиль. Только восточная женщина умеет по-настоящему любить, там настоящая, томительная знойность, не у вас, европейских калек с заклепкой вместо сердца. Небольшой гарем из пяти человек. Ни одна не старше пятнадцати лет. И вилла с мраморными ступенями прямо в Мраморное море».
Инженер вышел на улицу и увидел старого почтальона и его осла; оба привезли почту. Мысли инженера из Мраморного моря быстро возвратились на материк: почтальон два дня тому назад отвез Лили в город, и ему можно было задать несколько вопросов. Узнать о том, доехала ли жена до дому, этого даже требовало приличие.
— Есть письма, старина? — спросил инженер.
— Для вас ни одного, господин инженер, — ответил старина, сделав вид, что он очень опечален этим.
— Вот как жаль! — шутливо огорчился инженер, — но, по крайней мере, мою жену вы доставили благополучно?
— В полнейшей исправности, господин инженер.
— Ну спасибо, — и, стараясь сохранить шутливый тон, он бросил вопрос, как будто без значения, — так что ваша сумка сегодня легкая? Никого не порадовали письмами?
— Почти что никого, два письма на всех, — ответил почтальон, привыкший, что его появление доставляет всем огромное удовольствие и что с ним шутят.
— Одно из них для господина Какаду? — не удержался инженер. (Это было просто глупо.)
— Нет, для господина Какаду тоже ничего.
В голове инженера мелькнуло: ой, врет он, старая лиса! Жена обязательно написала Какаду, чтобы сообщить о происшедшей сцене с мужем. И, конечно, отправила не почтой, а вручила почтальону для передачи по секрету. Теперь же этот старый песок, за какую-нибудь золотую монету, разыгрывает невинность, а он, инженер, вынужден изображать рогатого мужа и дурака. Полный возмущения, инженер круто повернулся на своем каблуке и шагнул по направлению к бараку. Но тут у него появилась охота придраться к почтальону:
— А почему, сударь мой, вы мне газет не подали в прошлый раз? — спросил он строго, вспомнив, что, действительно, газет почему-то не было видно.
— Газеты были, и я их подал вам, — ответил почтальон.
Инженер не предусматривал противоречия и поэтому у него сразу подкатило к печени.
— Может быть, вы мне доложите, что вы их подали в самые мои руки? — спросил он резко.
Старик, удивленный таким тоном, провел рукой по бороде, но затем, что-то вспомнив, улыбнулся:
— Разве вы, господин инженер, не видали их? Я положил на ваш письменный стол. Вы не сердитесь, господин инженер, но вы спали, и я не хотел вас будить.
«То есть дерзость на дерзости и ложь на лжи» — так подумал инженер.
— Что ж, сударь, вы ночью что ли ко мне приходили? Я человек занятой и днем спать не умею.
Почтальону было очень неприятно, что вдруг разыгрался какой-то конфликт. Он слишком привык к радостным улыбкам и серебряным монетам, которыми его дарили за приятные письма, а в данном случае было особенно ясно, что инженер сердился по недоразумению. Старик сказал примирительно:
— Господин инженер, вы напрасно огорчаетесь. Я знаю, что у вас много работы, и поэтому очень хорошо, если вы отдохнете среди дня. Но вот, ей-Богу, когда я вошел в вашу комнату, вы крепко спали в кресле. Чтобы не будить вас, я положил их на письменный стол. Там они, наверно, и лежат.
— Вот как! — сказал инженер заносчиво, — не угодно ли последовать в мой барак?
И он пошел вперед. Почтальон за ним.
Действительно, на письменном столе, сбоку, оказались две новые газеты. Из-за семейных неладов инженер был так рассеян, что ни разу не притронулся к письменному столу.
— И вы утверждаете, что в то время, как вы клали их на стол, я крепко спал в кресле?
— В этом, — сказал почтальон, указывая на кресло, и, вспомнив что-то еще более занятное, он расплылся в добродушной улыбке. — Вам снилось что-то очень нехорошее, — сказал он, — потому что во сне вы сердились и один раз даже сказали: негодяй. И бумаги ваши рассыпались вокруг кресла.
Инженер остолбенел. Выходило, что измену жены он видел во сне. Устав после работы на плотине, он заснул за проверкой отчетов, и ревность толкнула его на предательское сновидение.
— И вы слышали как я во сне сказал: негодяй? — спросил инженер, причем голос его сорвался.
— Слышал. А потом вы потянули ногой и сказали: ах ты, подлая!
— И все во сне ?!
— Во сне.
— А вы стояли и любовались на представление?
Почтальон сконфузился.
— Я сейчас же ушел, — сказал он.
Инженер затрясся от негодования. Казалось, он превратился в облако, фаршированное молниями и громом.
— Знаете вы кто? Вы — симулянт и мистификатор! — крикнул он, — симулянт и отвратительный мистификатор!
Старик попятился, не веря своим ушам.
— Я? прошептал он, не понимая слов, которые ему бросили, но чувствуя, что в них скрыто что-то очень обидное, — я симу... и мисти... мисти...
—...фикатор! фикатор! фикатор! — закричал инженер. Он был вне себя. Он слишком настроил себя на свое благородство и на измену этой низкой женщины, чтобы поверить, что во всей этой истории виновен только он один.
Почтальон скорбно всплеснул руками и вышел из барака, оставив инженера в обществе его гнева и его предательского сновидения.
Преступная страсть
Начат 7 июня 1918 года в Токио
I
Хотя городок был маленький, но в нем существовали и уважаемые граждане. Вернее, наоборот, именно: так как городок был маленький, то и все уважаемые граждане были налицо. Даже точнее я сказал бы так: благодаря его малости, заметно выступали те граждане, которые были уважаемы. В большом городе уважаемые граждане тонут в общей массе, растворяя свои высокие качества в количестве, населяющем город, но чем город меньше, тем больше вырастает значение уважаемого гражданина и тем тяжелее становится его удельный вес. Именно так обстояло дело и в древнем городке, о котором будет речь.
— Вы знаете, как я вас люблю, — сказал уважаемый гражданин, беря аббата под руку и отводя его вбок от уличной толпы. — Конечно, вы знаете, что я вас очень люблю. Вы в этом, безусловно, не сомневаетесь. Да и не я один, все вас очень любят, дорогой аббат. Чрезвычайно любят.
Аббат проронил благодарность, не вполне ориентируясь, зачем держат его под руку и почему ему говорят много любезностей.
— Любви одной, конечно, мало, — продолжал уважаемый гражданин, — но ведь все и уважают. Все ценят вашу просвещенную деятельность. Поразительно ценят. И я, и все. И все, и я.
— Благодарю вас, — проговорил аббат, польщенный, и попытался высвободить руку.
— Вы знаете, — не желал смолкать гражданин, — ваша репутация настолько чиста и незапятнанна, что даже, появись какой-нибудь слух про вас, ему никто не стал бы верить.
— Слух? — поднял бровь аббат.
— Но, ради Бога, не подумайте, что я хочу сказать, будто он появился. Если бы даже он появился, я ни за что не позволил бы себе упоминать о нем перед вами. Я бы сказал: вздор. Вздор, но лучше, чтобы он не появлялся. Для этого мы слишком любим нашего дорогого аббата.
— Значит кое-что...
— О нет, о нет! Именно ничего. Разве я могу чему- нибудь поверить? Я только хотел сказать, насколько и я, и другие, и мы, и вообще все, насколько тепло мы настроены к вам и какое всеобщее доверие, можно сказать, разливается по нашему городу, направляя свое течение к вашей личности. И если я сейчас чуть- чуть поговорил с вами, то я от души благодарю вас за интересную беседу. Она доставила мне искреннее удовольствие. Изысканное наслаждение. До свидания, дорогой аббат. Благодарю вас. Я сюда, в магазин, куплю сотню сигар. Должен сказать, что здесь отличные сигары. Рекомендую. До свидания же, дорогой аббат.
Аббат посмотрел ему вслед и подумал: отчего у этого человека так много слов и так мало прямоты? И, пожав плечами, направился домой, в настоящий, церковный, принадлежащий аббату по праву занимаемого им места дом.
Ему удалось пройти немного шагов, прежде чем к нему опять не привязались. На этот раз был гражданин отнюдь не уважаемый. Достаточно потрогать его воротничок, грязный и мятый, как тряпка, которой вытирали сапоги, чтобы убедиться в этом. А лицо? тоже помятое. А глаза? бегают. А походка? подленькая. Но тем не менее любопытный субъект. Профессия — дантист, хотя никто у него не лечится.
— А! А! — дерзнул субъект, ужасно обрадовавшись. — Удивительная удача, что я вас встретил.
— Здравствуйте, доктор,— сказал аббат и протянул ему руку. Этот жест не лишен был храбрости, потому что, во-первых, рука у субъекта была грязная, а во-вторых, ему вообще не было принято протягивать руки. Дантист расшаркался, вытер пальцы и приятно пожал руку аббата.
— Удивительная удача, — повторил он. — Я и наш знатный друг столько раз вспоминали вас сегодня. Вы до невозможности недоставали нам. Я даже хотел зайти за вами. Но потом поразмыслил и решил, что, пожалуй, лучше не делать этого.
— Лучше не делать, — повторил аббат с мягким утверждением и, для пущего смягчения, прибавил, — меня ведь не было дома.
— Да нет, и не только потому, что вас не было дома, — не обиделся дантист, — я ведь идеально понимаю ситуацию вещей. Но вы обязательно должны придти. Приходите как можно скорей, мы без вас сегодня плакали!
— Неужели вам удалось достать? — спросил аббат помимо своей воли.
— Ах, дорогой, да если бы вы посмотрели, что мы достали, вы бы так навек и не ушли. Ну и экземпляр! Такая изумительная нежность, такая приятная округлость, и ко всему тому — в прибавку — легкая сипота, так, чуть заметная бархатистая сиплость.
— О! — сказал аббат.
Субъект выкатил один глаз и, став на цыпочки, прошептал в ухо:
— И клапан есть..
— Не может быть?!
— Ну, знаете, такой клапан, что я даже сам не думал, что может быть подобный клапан!
С этими словами он изобразил в воздухе раскрывающийся и закрывающийся клапан. Аббат обернулся по сторонам. Дантист поймал этот взгляд и стал откланиваться.
— Ну приходите же вечером, попоздней... — проговорил он просительно.
— Если можно будет, — сказал аббат, прощаясь, — я постараюсь. Возможно, я приду.
Дантист несколько раз поклонился и куда-то шмыгнул. Куда он делся, трудно было сказать, но через один момент его уже не было. Тем не менее, уважаемый гражданин, вышедший из магазина с сотней сигар, успел разглядеть его и неодобрительно качнул головой.
— Дорогой аббат! — сказал он, — а вы все беседуете с этой нечистоплотностью?
Аббат снисходительно улыбнулся.
— В качестве аббата, — сказал он, — я должен соприкасаться не только с чистыми, но и со всякими.
— Не соприкасайтесь, ах, не соприкасайтесь. Именно с этим получеловеком не соприкасайтесь. Поверьте мне, он гораздо больше испачкает вас, чем вы обелите его. Говорю это из величайшей теплоты к вам. Хотя вы вправе, глубоко вправе ответить мне: сударь, не ваше дело. И я скромно приму ваш ответ.
Заметив, однако, что аббату неприятна его назойливость он сейчас же переменил разговор и, взяв его за локоть, сладко пропел:
— Какие сигары! Фимиам! Если вы доставите удовольствие, пообедав у меня, то я вас угощу ими.
Но, усмотрев, что и тут аббат не улыбнулся, уважаемый гражданин с чрезвычайной любезностью простился и, слава Богу, ушел.
Аббат направился к себе под скучным впечатлением благожелательных тирад. Возможно, что гражданин был даже искренен; возможно, что он просто желал добра. Но тогда тем хуже: значит, что в городе появились какие-то разговоры, о которых он счел нужным предупреждать. Среди моря любезностей проскальзывали прикрытые намеки, а после появления дантиста и прямые указания.
— Этакая досада, что этот врач тут подвернулся! — подумал аббат. Но сейчас же вспомнил про вещи, рассказанные врачом, и невольно улыбнулся. — Неужели они и в самом деле достали? В таком случае они действительно талантливые люди!
С этим лицо аббата просветлело, потому что мысли от уважаемого гражданина перекинулись в общество дантиста и его «знатного друга». Обидно было, что предрассудки и разговоры связывали по рукам и по ногам и лишали возможности отправиться сегодня же туда, куда лежало сердце. А после навязчивых разговоров гражданина с сигарами приходилось просто-напросто сидеть дома, уважать свой сан и про всякие приятные вещи забыть. Ибо если занимаешь известный пост, то — благоразумие прежде всего.
Придя домой, аббат пообедал, раскрыл книгу о развитии католичества на острове Сардинии и, постановив, что он никуда не пойдет, углубился в приятное чтение. Ибо, занимая некоторое положение, нужно помнить, что благоразумие, еще раз благоразумие и еще раз благоразумие — безусловно, прежде всего.
II
В девять часов, когда аббат уже поглядел поверх книги на часы — не пора ли уложить свое тело в мягкую постель, прибежал встрепанный мальчик и, теребя аббата за рукав, стал сбивчиво звать его к умирающему дедушке. Аббат, привыкший к такого рода посещениям, выслушал его, хладнокровно соображая, действительно ли надо пойти или можно пренебречь. Но мальчишка хныкнул раз, другой и разревелся так жалобно, что аббат взял шляпу и отправился спасать дедушкину душу. По словам внучка, это было рядом, но они шли и шли по темноте не меньше получаса, пока на краю города не нашли ту постройку, где разразилось семейное несчастье.
Ко времени их прихода дедушка сидел уже в кресле с компрессом на голове, чувствовал себя лучше и даже хотел подняться навстречу аббату. Но аббат и прилично одетая женщина, дедушкина племянница, поспешили удержать его от чрезмерной живости. В то же время несколько человек родственников хором извинялись у аббата за напрасное беспокойство.
— Слава Богу, слава Богу, — проговорил аббат, привыкший к тому, что если позовут ночью на окраину города, то непременно понапрасну.
— Вот, спасибо доктору, спас нашего дедушку. Мыто уже совсем не надеялись, — сказала племянница, кланяясь в соседнюю комнату.
Аббат взглянул вослед ее поклону и увидел дантиста, мывшего кухонный нож. Аббат не мог удержаться от улыбки.
— Как, это вы, доктор, тут чудеса творите? — спросил он.
— Я рад быть полезным, где могу, хотя случай и не по моей специальности, — ответил тот, крайне довольный приходом аббата. Вид у него был еще более нечистоплотный, чем когда-либо, потому что поверх собственной хронической грязи он был забрызган кровью.
— Хотя не по своей специальности, а спас дедушку, — вставила племянница. — А вот настоящий доктор попробовал, да и отказался. Все равно, сказал нам, спасти нельзя.
Случай вышел действительно любопытный: когда со стариком случилось плохо, растерявшиеся родичи кинулись прежде всего к жившему рядом дантисту, чтобы достать хоть кого-нибудь, кто знал бы медицину. Но пока этот субъект надумал пойти, прошло достаточно времени для прихода настоящего доктора из центра города. Положение больного выглядело безнадежным, и доктор, испробовав несколько средств, нашел, что старик почти не дышит. Пожалуй, можно было поддержать на несколько часов, но спасти его нельзя. Явившийся в это время дантист без разговоров закатил больному порцию ртути, которую он достал тут же, из оконного градусника, а затем вскрыл кухонным ножом вену. Эффект получился во всех отношениях трескучий, главным образом, от ртути, и через час, к приходу аббата, дед оказался способным остаться на этом свете и даже пытался извиниться за это у аббата. Возмущенный доктор уехал, едва нечистоплотный дантист начал свои манипуляции, и таким образом последний, после бегства конкурента, один оказался героем и чудодеем.
Напутствуемый поклонами и благодарностями всей семьи, а также некоторыми деньгами, сунутыми в руку, зубной врач, вместе с аббатом, вышли на улицу. Аббат спросил:
— Доктор, вы меня может быть проводите немного? Я не знаком с этими кривыми переулками.
— Ну конечно, с большим удовольствием, —отозвался дантист. — Только я хотел бы проводить вас не домой, а к нашему благородному другу. Он рядом.
— Рядом? Как, Форчио живет рядом? — остановился аббат.
— В двух шагах. Умоляю вас, зайдемте к нему. Теперь еще не так поздно.
Аббат вынул часы и в темноте с трудом рассмотрел, что было десять. Он подумал: если я зайду на час к Форчио, то в этом нет ничего дурного. А среди такой тьмы ведь едва ли кто увидит. Поэтому он сказал:
— Ну хорошо, пойдемте. Сегодня днем вы меня очень заинтересовали.
— О! Право, есть чем заинтересоваться! — воскликнул зубной врач, немедленно сворачивая в какой-то отвратительный переулок. — Подумайте. Даже тесемочка, даже крючок, и в тех видна любовь и тщательность, — продолжал он, шагая во тьме, рядом с аббатом, — мы утром так жалели, что вас не было. Потому что вдвоем, вы сами понимаете, это не то, что втроем!
Они вышли на улицу пошире и остановились у небольшого старого домишки.
— Узнаю, — сказал аббат и подошел к двери.
Среди темноты чуть заметно заблестела металлическая дощечка, прибитая к двери. На ней можно было разобрать: Форчио делля Фурчиа, а над этим дворянскую корону.
— Кто? — спросил гневный бас, после того как зубной врач позвонил несколько раз.
Я и господин аббат, — ответил последний. Дверь быстро отворилась, и длинная фигура хозяина отвесила поклон.
— Милости прошу, — с нескрываемым удовольствием произнес Форчио делля Фурчиа, — никак не ожидал такого приятного визита. В любой час дня и ночи вы желанные гости.
И широким жестом он пригласил их войти в его единственную комнату.
Форчио был высокого роста, худ и держался сутуло. Длинные, печальные усы свешивались вниз. Зато нос был прям и тонок, и злоупотребление вином не отразилось на его оттенке. Но усы, эти длинные, висящие усы, выдавали пьяницу: казалось, они были созданы для того, чтобы ниспадать в стакан с мадерой. Во всей его смятой, затрепанной фигуре проглядывал старый рыцарь, опустившийся в подонки. Но, поднимая голову из них, он особенно старательно подчеркивал и жестами, и иными выражениями свое происхождение от древних носителей креста. Говорили, он не врал, что род его когда-то был храбр, богат и знатен, что даже и теперь его ближайшие родные играют не последнюю роль в одной из больших столиц. Говорили также, что эти родные предложили ему небольшую пенсию чтобы избавиться от появлений забулдыги-дядюшки, компрометировавшего их; и теперь, в обмен на нее, он не имел права показываться в столице, ни в других больших городах, а должен был поселиться скромно, где-нибудь в глухом углу. Именно такие обстоятельства привели его в этот тихий городок. В душе он искренно возмущался и был обижен постановкой дела, но, как-никак, эта пенсия давала ему возможность ничего не делать и иметь всегда вино, поэтому он подчинился обстоятельствам.
Попав в городок, Форчио попытался взять некоторый тон, сделал визиты властям, упомянул о своем происхождении и проронил про столичных родных. К нему отнеслись уважительно и даже не слишком обратили внимание на то, что одежда и утлое жилище не соответствуют положению, о котором он говорил. Но когда городской голова, приехав с ответным визитом, нашел его в нетрезвом виде, а через неделю случилось, что Форчио был просто поднят в канаве, то и одежда, и жилище, и причина появления в городе — все сделалось предметом пересуд и сомнений. Еще несколько скандалов и бутылкой разбитое стекло окончательно отвратили от него общество. Последней степенью падения была дружба с зубным врачом.
Дантист, в самом деле, представлял собой темноватую личность. Как и откуда он взялся, не знал никто. Но едва ли он имел медицинское образование. Хотя у него существовали зубоврачебные инструменты, но результат его мизерной практики был плачевен. Ряд воспалений надкостницы, с десяток заражений крови, а может быть, и не один смертный случай тяготели над его нечистоплотными пальцами. Лечились у него разве что самые низы, и то не чаще трех раз в месяц. А между помазанной десной и выдернутым зубом он не прочь был свести соседнего купца со швейкой или добыть и перепродать какую-нибудь порнографическую штучку.
Вино, одиночество и близкое соседство сблизили его с Форчией делля Фурчиа. Дантист, который далеко не лишен был некоторых талантов, с необычайной убедительностью доказал старому отпрыску, что его собственные предки, пускай и трижды по женской линии, обладали правом на графскую корону, утерянную за политические проступки. И Форчио имел возможность увидеть в нем некоторую параллель с его собственной несправедливой судьбой. Пускай аристократизм дантиста был далеко не чистой воды, но дантист и не пытался отнять пальму первенства у Форчио. Наоборот, он уже подчеркивал превосходство Форчио, как прямого потомка, чем не мог не льстить его голубой крови. Форчио принимал его с любезными жестами старого феодала, поил вином, — и время протекало в разговорах о блеске дедов, о крестовых походах и о грубости современного объевшегося общества.
Одна новая страсть связала их еще больше и притянула к ним новое лицо — аббата.
III
— Садитесь, дорогой аббат, вот кресло. Оно довольно удобное, хотя и дырявое. Но мой средневековый бархат давно уже продан распухнувшему плебею, — сказал Форчио делля Фурчиа, обдавая приятным запахом мадеры.
— Ваше кресло удобно и без бархата, — сказал аббат, садясь.
— Полстакана вина? — просил Форчио, открывая буфет.
— О нет, — ответил аббат, — мои желания направлены в иную область.
— Но вы, доктор, сделаете честь?
— Благодарю вас, кавалер. Я только что с практики и позволю себе подбодрить мое утомление.
Небрежная гордость была вложена в эти слова, гордость лекаря, практикующего три раза в месяц. Но так ли, иначе ли, он только что спас человеческую жизнь. Поэтому аббат вставил:
— Сегодня искусство нашего доктора было на высоте. Мои услуги не понадобились.
— О! сказал кавалер, вытирая усы, окунувшиеся в мадеру.
Дантисту чрезвычайно польстила вставка аббата.
— Решительность и быстрота — это принципы моей школы, — сказал он с подъемом.
— Это также принцип моего герба, — присовокупил Форчио делля Фурчиа, — принцип красив, хотя и не всегда ведет к удаче.
— Но все же мы за него выпьем, — ответил дантист, проглатывая мадеру, и, почувствовав ласкающую теплоту в пищеводе, подмигнул аббату:
— Там, в чулане...
Форчио захохотал.
— Наш дорогой друг уже знает про это?
— Как же, — ответил аббат, — только нетерпение толкнуло меня постучать так поздно в вашу дверь.
— А про клапан вы слыхали? — не усидел на стуле Форчио. Это подало сигнал к общему оживлению.
Я не верил ушам, — зашевелился в кресле аббат.
— Упоительный клапан! — сорвался с места дантист. И все трое направились к крошечной дверце в чулан. Форчио вынул большой ключ и вставил его в дверь.
— Дивный клапан, — сказал он и отпер замок.
Из чулана пахнуло плесенью и винным спиртом, который хранил в нем хозяин. Там же, рядом с оружием дедов, лежал большой мешок с луком, купленный в нетрезвом состоянии на базаре. Букет был столь резок, что аббат, закашляв, отступил на шаг.
— Куда же вы? — спросил зубной врач. Но в это время Форчио появился из чулана.
— Вот он, — сказал он, вынося длинный коричневый предмет. Аббат восхищенно протянул к нему руки.
— Цвет-то, цвет один чего стоит! — дрожащим голосом проговорил дантист, тоже протягивая руку, — коричневато-черноватый, благородный...
Аббат осторожно взял длинный предмет в руки и с нежной улыбкой оглядел его.
— Да, — проговорил он, полный задумчивого созерцания, — теперь мы имеем дело с настоящей благородной вещью!
Форчио достал какую-то изогнутую трубочку с красным наконечником и приладил ее к середине коричневого предмета. Аббат не выпускал его из рук. Дантист тоже без особой надобности поддерживал рукой.
— Позвольте, я возьму ноту, — сказал Форчио, отбирая инструмент у аббата. И, приладившись к коричневому предмету, он всунул трубочку с красным наконечником в рот и надул щеки. Аббат и доктор не сводили глаз, оба превратившись в зрение и слух.
Форчио набрал в себя порцию воздуха и взял самую низкую ноту. Сначала вырвалось шипение, затем родился гортанный звук в глубоком басу. Дантист, побледнев, восторженно схватил аббата за руку.
— Клапан... — прошептал он.
— Да, клапан, — с чувством глубочайшего удовлетворения произнес потомок крестоносцев, выпуская трубку изо рта, — да, друзья, это клапан, которого раньше у нас не было. Это си-бемоль.
— Разрешите мне взять си-бемоль! — не утерпел дантист, порываясь к инструменту. Но Форчио отстранился.
— Позвольте. Сначала я возьму еще раз, — сказал он и положил трубку в рот.
Доктор и аббат снова превратились в слух. Аббат даже наклонился одним ухом и поднял указательный палец.
Раздалось шипение трубы и, пополам с шипением, горловой, сдавленный бас: Форчио снова взял си-бемоль.
— Дивно!! — в один голос воскликнули оба, аббат и доктор: глаза их горели. Форчио протянул инструмент доктору. Тот страстно схватил его в руки, как-то зверски вцепился зубами в трубку — и громкий пассаж прокатился с самого низа до самого верха, а затем обратно, с самого верха до самого низа.
— Ах, какой звук! Какой полнозвучный, дивный тембр! — упоенно произнес аббат. И, несмело протянув руки к дантисту, он скромно прибавил:
— Доктор... я тоже очень хотел бы взять одну ноту...
— О, прошу вас! — галантно ответил тот, передавая благородный инструмент аббату.
Тем временем, Форчио делля Фурчиа достал другой инструмент, тоже фагот, старый, который [был] в ходу до появления сегодняшнего экземпляра, и начал на нем наигрывать задумчивый мотив.
— Вы знаете, — сказал он, останавливаясь, — доктор уже кое-что перекладывает для нас троих. Так что на днях мы сможем поиграть все вместе.
— Я перекладываю песню, которую играл сейчас кавалер, — объяснил врач, — и еще один псалом.
— Псалом? — удивился аббат.
Форчио засмеялся и сыграл быстрый пассаж.
— Доктор был всего раз в жизни в вашей церкви, — сказал он, — но запомнил псалом, который пели в прошлое воскресение, и теперь перекладывает его нам.
— Вот этот, — оживленно воскликнул врач и, взяв из рук аббата драгоценный фагот, наиграл на нем медленный мотив. Лицо аббата расплылось в масляную улыбку.
— Ах, как хорошо! — сказал он, — но какой же вы талант, дорогой мой доктор!
Лицо врача тоже расползлось счастливыми морщинками.
— Я вам сыграю мой концерт! — сказал он, надевая на шею тесемку с крючком.
Инструмент был довольно тяжел и, чтобы пальцы, не утомляясь лишним весом, могли свободней бегать, подвешивался на шею на специальном шнурке. Как- никак, они перебирали целую систему дырочек и клапанов, не говоря уже о том знаменитом клапане, который привел доктора в такой неистовый раж, подарив его новою, особо жирной нотою.
Предложение сыграть концерт сулило много наслаждений. Аббат и Форчио с нескрываемым удовольствием расположились в креслах, и доктор начал.
Он превратился в сплошное напряжение, жилы на висках надулись, глаза покраснели, — и тонкий высокий звук со страшной надтреснутостью вырвался из трубки фагота. Звук был протяжный, сипловатый, сдавленный и силой своего напряжения производил неописуемое впечатление. За ним, без перерыва, последовал другой, еще более напряженный, более высокий, а за ним, тоже без перерыва, еще выше, чем предыдущий, самый высочайший, крайний, до того сдавленный, что он казался почти невероятным, фальшивым.
— А-ах! — сладострастно застонал аббат и смутился, боясь помешать артисту.
Но тот уже сполз с верхних звуков на более нормальные, более легкие для исполнения, и разыгрывал на них мелодию собственного сочинения. А затем мелодия стала принимать все более и более живой характер, перекидываясь то в верхние, то в средние регистры, и наконец, превратилась в быстрый, виртуозный пассаж, который, с закруглениями, поворотами и возвращениями, спиралью скатился с самого верха в глубокий бас. В нем слышались и полоскание горла, и бешеное бурчание живота, и хохот подвыпившего старикашки. И, как завершение бурного пассажа, с толстым хрипением квакнул своим гортанным кваком знаменитый клапан, жирный си-бемоль. Не будучи в состоянии удовлетвориться одним разом, дантист повторил его еще, и еще, и еще раз еще, наслаждаясь упоительным хрипом си-бемоля и придавая его повторениям ритм какого-то марша.
Я не могу сидеть!! — исступленно закричал Форчио , срываясь с места и бросаясь к музыканту, чтобы его расцеловать. Аббат схватил кавалера за фалду:
— Ради Бога... ведь будет еще продолжение!
Но дантист уже опустил фагот и, подставляя обе щеки поцелуям, изможденно проговорил:
— Нет... сегодня продолжения не будет... Я слишком устал. Я не привык играть на этом инструменте.
Аббат и делля Фурчиа держали его за обе руки и шумно благодарили за наслаждение. В маленькой каморке царило повышенное настроение, — если так можно выразиться о художественном экстазе.
Затем аббат взглянул на часы, ахнул и, поспешно простившись, большими шагами пошел домой.
IV
Дом городского головы находился в самом центре города, но он был просторен и удобен, а хозяин мил и благодушен. Истинное удовольствие было пообедать у этого почтенного человека, в небольшой компании из уважаемых людей, при нескольких бутылках хорошего вина, а затем, с неспешным разговором на устах, посидеть на заросшей зеленью террасе, в глубоких дремательных креслах, с чашкой пахучего турецкого кофе на маленьком столике, заботливо приставленном к каждому креслу.
В таком роде было и сегодня: собрались, вкусно пообедали, приятно выпили, уселись в кресла, закурили сигары, стали нежно переваривать, выделяя желудочный сок, прихлебывая кофе и проглатывая ликер. Гостей было несколько больше, чем обыкновенно, ликеры разнообразней, а разговор живее: сегодня день рождения головы.
— И среди всех этих приятных вещей я должен вам сказать об одной неприятной, — произнес господин в синих очках, — старик сегодня отправился...
— Неужто умер? — спросил уважаемый гражданин, вытирая губы кружевной салфеткой.
— В два часа. Подумайте: эти изверги пустили ему кровь грязным кухонным ножом! Тем ножом, которым только что резали сырое мясо. Вы можете себе представить, какое пышное заражение крови расцвело на месте этого пореза.
— И через три дня умер? — спросил уважаемый гражданин, кладя кружевную салфетку под чашку с кофе.
— И через три дня был взят на небо.
— Это отвратительно и ужасно! — произнес господин в широком белом жилете, придвигаясь в своем кресле, — и вы уверены, что он действительно резал его таким ножом, каким вы говорите?
— Помилуйте! — воскликнул господин в синих очках, — я сам присутствовал при этой вивисекции. Ведь я лечил старика и спасал его как мог. Но когда ворвался этот эскулап, что, скажите, что я мог сделать? Ведь если я бы не дал ему резать старика, он меня стал бы резать!
— Что? — приблизился городской голова, — беспорядки?
— Не беспорядки, но возмутительности, вопиющие к небу, — расстроенно сказал белый жилет.
— Я перехвачу этот вопль, — произнес голова солидно.
— Перехватите, перехватите обеими руками! — воскликнул доктор в синих очках, — как хранитель здравия, я вторю этому воплю. Это четвертая могила, которую роет грязный зубодер. Пора же наконец пощадить бедных жителей. Ведь этак весь город вымрет!
— Ах! — сказал уважаемый гражданин, поперхнувшись кофем. — Неужели четвертая? Но ведь у дантиста никто не лечится. Я удивляюсь, откуда он взялся с кухонным ножом... Его презирает весь город!
— Я думаю... — начал доктор, но его перебил маленький старичок геморроидального вида. И когда тот заговорил, все сразу смякли.
— Увы, не все. Увы, не все, — сказал старичок ворчливым тенором, — я говорю: увы, не все его презирают. Есть люди, которые водятся с ним, и такие люди, которым весьма не следовало бы с ним водиться!
Геморроидальный старичок был особенно уважаемым гражданином. Если в городе существовало несколько уважаемых граждан, то один из них был самым уважаемым, и потому все сразу замолчали, когда он заговорил.
— Вы имеете в виду этого пьяницу Форчио? — спросил городской голова, сморщив лоб.
— Форчио?! — удивился старичок, — да я и говорить о подобных людях не умею! Они вне моей видимости. Но, дорогие мои друзья, с этим проклятым дантистом спутался такой человек, который должен украшать город примерами нравственности и чистоты. Я и хочу, и не решаюсь назвать его имя...
— К сожалению, я знаю, о ком вы говорите, — сказал крупный торговец селедками и, вытянув шею в середину группы, шепотом произнес некоторое имя.
— Уверяю вас, это недоразумение! — горячо воскликнул уважаемый гражданин, который сочувствовал аббату. — Этого решительно не может быть!
— Как не может? Оно есть! — увесисто сказал особенно уважаемый гражданин, — оно было, есть и будет. Обязательно будет, если мы не примем мер против такого разлагающего зла.
— Аббат и этот грязный человек! Какая назидательная пара! — патетически продекламировал белый жилет.
— Ах, друзья мои! Вы слишком горячитесь, — взволнованно воскликнул уважаемый гражданин, которому было очень жалко аббата, и он опять поперхнулся кофеем.
— Нас горячат уродливые факты, — сказал голова с благородным негодованием.
Уважаемый гражданин хотел протестовать, но кофе попало не в то горло и испортило дыхание. Поднялся ужасный кашель, и все на минуту замолчали. Жена городского головы участливо подошла к нему и попробовала постучать по спине.
— Как бы не вырвало после обеда! — сказала она.
— Пройдет, — сказал голова, — отойди, у нас не женские разговоры.
Вместо нее появился новый гость, который только что приехал. Здороваясь, он сказал:
................................................
................................................
................................................
Жабы
Начат 5 июля 1918 года в Токио
В этот вечер в Гранд-отеле затеяли какой-то праздник. С улицы трудно было решить, в чем заключалось дело, но понаехало целое стадо автомобилей и у подъезда зажгли большие фонари, которые обыкновенно стояли темными. Окна нижнего этажа, где находились залы и гостиные, сияли снопами света, но лучше всего была большая терраса, убранная то цветами, то флагами и освещенная круглыми электрическими фонарями, с целой сотней маленьких лампочек в подмогу. У террасы не было стен, одни колонны, и, благодаря этому, можно было отлично рассмотреть то, что на ней творилось. А творившееся на ней было пестро и довольно занимательно для глаза: иногда между колоннами, усамой решетки, появлялись джентльмены в черных фраках с превосходными белыми жилетами, и луч яркой лампочки застревал в их бриллиантовых запонках, разламываясь на тысячи веселых оттенков. Еще любопытней были дамы: в нарядных легких туалетах, то похожих на пену, то на брызги, они совсем не выглядели обыкновенными женщинами, например такими, которые ходят по улицам. Казалось, и дотронуться-то до них сущий грех, так они были воздушны.
Все это оценили прохожие мимо отеля и, собравшись перед балконом в довольно порядочную толпу, внимательно глазели на содержимое балкона.
— Извините, потому что я наступил вам на ногу, — сказала какая-то изломанная личность мужского рода, чрезмерно увлекшаяся рассматриванием голубой дамы, стоявшей на балконе.
Грязная борода, являвшаяся пострадавшим, равнодушно ответила:
— Можете не извиняться, потому что у меня нет мозолей.
На этом интересная беседа прекратилась, ибо каждый из двух был сосредоточен на созерцании балкона. Количество гостей увеличивалось и между колоннами становилось оживленней и пестрее. А автомобили, рыкая сердитыми гудками, подъезжали машина за машиной и извергали туалет за туалетом, фрак за фраком. Иные дамы, входя в отель, спускали с плеч свои легкие манто, и тогда нечаянно белела открытая спина, декольтированная треугольником до пояса. В толпе же кое-кто мечтал: коль если так открыто сзади, то как же должно быть спереди — и становилось жаль, что дама входит в отель, а не выходит из него.
— Э? — сказал человек, не имеющий мозолей, своему соседу и кивнул бородой по направлению к балкону. Затем, не дожидаясь ответа или, вернее, совсем не интересуясь им, зашагал прочь, хромая на обе ноги и опираясь на третью в лице толстой палки.
Изломанная личность ничего не ответила на вопрос, потому что в это время один автомобиль задел колесом другой, и ее заинтересовало, как они распутаются. После того как те разъехались, она тоже выбралась из толпы и пошла вдоль улицы. Пройдя несколько минут, изломанное существо увидело скамейку, украшенную человеком с бородой, и опустилось на нее.
Оба помолчали.
— Чорт их знает... — задумчиво пропустила борода, находясь под впечатлением парадного съезда.
Изломанное существо ничего не ответило.
— Я говорю: чорт их знает, — настойчиво повторила борода, на которую съезд произвел весьма значительное впечатление. Поэтому, хотя ни природа, ни жизнь не сделали ее болтливой, она решила обменяться на этот счет несколькими фразами. Изломанная личность не ответила ни слова.
— Сам чорт этих чертей знает, — сказала борода очень веско.
Но незнакомый сосед смолчал. Борода повернулась к нему.
— Вы будете со мной разговаривать? — спросила она категорически.
Тот подумал и неспешно процедил:
— Буду.
Затем наступило длинное молчание, вероятно, в подтверждение сказанного. Обладатель бороды тыкал палку в песок и о чем-то думал. Неизвестный сосед сидел скорчившись и не делал ничего.
— Чорт их знает, вот как живут люди! — вернулась борода к своей основной мысли, я и не думал, что так живут. Люди как не люди.
Скрючившийся человек, не двигаясь, сказал:
— Если насчет таких женщин, да взять такую сюда, да подержать ее на этой скамейке, так ничего.
Я не говорю, чего иль ничего, — ответил бородач, — я говорю: живут не по-людски.
— Что же, вы не видали, чтобы так жили?
— Не видал.
— В городе, что ли, не были?
— Да вот, две недели толкусь, а в первый раз вижу.
Скрючившийся индивидуум сидел не раскрючиваясь и только начал немножко раскачиваться взад и вперед.
— Деревня, стало быть, — пропустил он сквозь зубы после некоторого молчания
— И не деревня, и не город, — ответила борода сухо.
— Значит, ни то ни сё, — согласился индивидуум, продолжая раскачиваться.
Тема была исчерпана. Бородач же, ткнув палкой в песок, прибавил коротко и ясно:
— Куклы.
Обещание, данное скорченным индивидуумом, обязывало его к продолжению разговора, поэтому, хотя ему и было глубоко все равно, он пропихнул сквозь зубы:
— Вы это нечаянно сказали: куклы, или чтобы меня обидеть?
Такому вопросу, пожалуй, можно было удивиться, но носитель бороды всегда был философом, поэтому посмотрел с крупицей насмешки на обдерганную внешность своего соседа и спросил:
— А вы какая же кукла?
— Не кукла, но одно время называли куклой.
— А! — согласился бородач. — Значит, изображали собой куклу?
Изломанный индивидуум флегматически ответил:
— Артист, ну, так и изображал.
Бородач достал из кармана сломанную папиросу, из другого спички, долго закуривали, наконец, затянувшись, спросил:
— Артист насчет карманов или вообще?
— Вообще, — ответил индивидуум холодно. Затем, еле заметно, ожил.
— Если, — сказал он, — вы раньше читали на заборах афиши, то там было написано: знаменитый человек без костей. Это я.
— Не читал, — отрезала борода. — Раньше я был занят.
Артист почел себя вполне удовлетворенным таким отношением к его искусству и погрузился в собственные размышления, по-прежнему сидя скрючившись на своем месте и слегка раскачиваясь взад и вперед. Борода выкурила папиросу, покосилась на соседа и как будто слегка заинтересовалась.
— Что же, это в самом деле, что вы без костей? — спросила она.
— Видите ли, — ответило качающееся чучело, — конечно, кости у меня есть. У жабы и той есть кости. Но я уж такой, что, когда я в цирке, то как будто их у меня нет. Гнусь во все стороны, вообще не кряжистый и мягкий. Ну, и схожу за человека, точно из одного мяса. «Знаменитый человек без костей», как писали в афишах.
— Так, — согласилась борода, — и выгодное занятие быть без костей?
— Ничего. Сначала интересовались, ходили трогать. Конечно! Деньги платили. А потом, как выйду, смеются.
— После этого вас выгнали из цирка, — предположила борода.
— Да. Тогда взяли и выгнали, — равнодушно ответил человек без костей, методически раскачиваясь. Его лицо было бесстрастно и не выражало ничего. Вероятно, оно было таким же, когда его выводили на арену и любопытные из публики приходили «трогать». Туловище, действительно, выглядело как без костей, или с костями, размоченными в уксусе.
Обладатель бороды достал вторую папиросу, повернулся к нему, посмотрел и вдруг, скосившись в подобие улыбки, задумчиво проговорил:
— Вас интересно было бы повесить.
Человек без костей, не выразив никакого удивления, продолжал свое занятие.
— Чем, собственно говоря? — спросил он, лениво поддерживая разговор.
— Да так, у вас приятная шея, — ответил тот, потянув из папиросы, — знаете, у иных толстая, рыхлая, веревка впивается: ничего хорошего. Мускулистая тоже неприятна, все кажется, веревка не возьмет. А вот у вас все наоборот, как раз кстати, тонкая, бескостная, самая приятная. Я бы сказал: удавчатая.
— Скажи пожалуйста, — уронил скрюченный тип, качаясь. Но видно было, что такие познания ему импонировали. — Вы, что же, много вешали?
— Лет пять, — ответил тот.
— Должно быть, в палачах служили?
— В петлю не хотелось, и служил, — ответил бородач философски.
— А надо было в петлю? — спросил тип, впрочем без особого интереса, так, чтобы продолжить разговор. Бородач как будто ухмыльнулся.
— По-моему, нет, а по их, надо, — сказал он.
— Что же, потом надоело и ушли? — спросил крючок, лениво поддерживая разговор.
— Ну, так просто не уйдешь. А помяли, так ушел.
— Те, которых вешали, помяли?
— Да, которых должен был вешать. Попался, ну и помяли. Ноги, руки поломали.
— Обе? — флегматично спросил крючок.
— Ноги обе, а руку одну, правую. Хватит и того. Еле в два месяца отдышался. А потом, как стал ни к чорту не годен — видите, ни ног ни рук — ну, вышел какой- то приказ и послали на все четыре стороны. Уходи, говорят, навешался.
Человек без костей вполне удовлетворился очень мало его интересовавшим объяснением. Он кашлянул и встал на ноги. Палач тоже поднялся со скамейки и заявил, что он уходит спать.
— Прощайте! — коротко сказал артист, направляясь в другую сторону.
— Нож в брюхо, — равнодушно ответил палач и, хромая на обе ноги, пополз по бульвару.
Они лежали в курительной.. .
Время и место написания не установлены
I
Они лежали в курительной комнате на широких кожаных диванах, один в одном углу, другой в другом. Ароматный дым тихо и молчаливо струился из их трубок. Оба были сосредоточены, потому что шло состязание на продолжительность.
— Видите ли, — наконец, сказал один из них несколько окисленным тоном, — это, конечно, очень жаль, но я должен сообщить вам, что моя трубка погасла.
С этими словами он сел на диван, на котором лежал. Его друг потянулся, демонстративно пустил клуб дыма и засмеялся, не выпуская трубки из зубов.
— Мне тоже очень жаль, что это так случилось, — сказал он, — но ничего не поделаешь. Давайте мне мои три тысячи, а я вам взамен обещаю дать реванш.
И, пустив еще клубок дыма, он прибавил с маленьким задором:
— Спустя некоторое время, конечно. Когда вы несколько подтренируетесь.
Обладатель погасшей трубки пропустил укол мимо ушей и, взглянув на часы, проговорил:
— Судя по времени, я держался недурно. Но, конечно, это не достаточно. Если бы у меня было более спокойное состояние духа, я вас перекурил бы по крайней мере на минуту.
Он подошел к столу, на котором стояли небольшие весы, и стал вытряхивать пепел из трубки. На этих весах, с точностью до одной десятой грамма, был отвешен табак перед состязанием.
— Более спокойное состояние духа? — переспросил другой, иронически вздрагивая верхней губой и наслаждаясь своей победой. — Разве вне состязания курите более спокойно?
— В состязании так же, как и вне его. Но сейчас, среди дыма, мне все время грезилось лицо Адель.
— Адель? Это очень красивая женщина, — авторитетно сказал другой, все еще сохраняя тон победителя, хотя разговор уже начинал выходить из сферы состязания. — Но разве вас уже опутали магнетические нити?
— Нити тем более сильные, что, вероятно, довольно безнадежные, — ответил побежденный, кладя трубку в карман и вытягиваясь на диване.
— Хвалю вашу скромность, но не одобряю ее, — ответил другой и прибавил, — ну вот, и моя погасла. Я вас покрыл на две минуты, но если бы после вашей сдачи я курил тщательней, я думаю, я продержался бы еще две. Итого четыре.
Но первого больше не интересовали обстоятельства состязания. Он снова вернулся к вопросу об Ад ели.
— Дело не в скромности, — сказал он, а в здравом взгляде на положение вещей. Я просто являюсь слишком поздно, и Адель уже занята.
— Скажите при этом, что двумя, — улыбался друг.
— Вы совершенно правы. За обедом, один справа, другой слева. После обеда, один слева, другой справа. И провожать пошли вместе.
— Но вы не должны падать духом. В таких случаях кусок обыкновенно достается третьему.
— Это если кусок неодушевленный. А если одушевленный, да еще такой страстный, как Адель, да еще такой, как она, увлеченный обоими, то, право, тут затрудняешься с какой стороны подойти.
Он машинально вытащил свою побежденную трубку и снова стал набивать ее.
— Видите ли, — продолжал он, вдавливая пальцами благородный табак, — я, в данном случае, не только опоздал, но и наткнулся на сильных конкурентов.
Адвокат безусловно блестящий causeur{1}, весьма недурен собою, прекрасно носит фрак и, когда говорит, движения его рук вполне пластичны. Другой тоже довольно породистый экземпляр и пишет мечтательные стихи, а женщине как раз это и нужно.
— Не забывайте, что вы мужчина тоже ничего себе, — ответил друг, — а вместо стихов имеете деньги, притом, если вы разрешите, не особенно малые. А женщины это тоже любят.
— Благодарю вас за любезный комплимент. Но мои деньги тут едва ли в силе. Адель не из тех женщин, которым деньги пускают пыль в глаза. Она сама достаточно богата, чтобы не интересоваться моими миллионами или, во всяком случае, чтобы считать их достоинством второго сорта.
Друг покровительственно улыбнулся и стал набивать свою трубку.
— Ах, друг мой, вы просто не умеете пользоваться своим оружием. Конечно, одну женщину можно купить, а другую с размаху не купишь. Но если скомбинировать богатство и некоторую ловкость, то всегда можно играть на выигрыш. А вы, сударь мой, просто еще не выучились распоряжаться вашим наследством. Ну скажите, например, сколько в год давал вам раньше ваш отец?
— Двадцать четыре.
— А теперь сколько имеете?
— Не знаю. Много.
— Вот видите. А впечатление у вас такое, будто вы по-прежнему живете на две тысячи в месяц.
Он зажег трубку, сел на диван и продолжал:
— Ну, допустим, что Адель не смотрит на ваши миллионы. И не надо. Это даже очень хорошо. Очень приятно иметь дело с женщиной, которая не смотрит на миллионы. А те два жеребца, которые ей крутят голову, может, и посмотрят.
— Гм... — сказал миллионер, — посмотрят и посадят в лужу. Адвокат особенно.
— А вы не давайте себя сажать. Правда, что у вас есть имение где-то на юге Африки?
— Нет, это неправда. Есть дома в Австралии.
— Откуда они взялись?
— Чорт их знает. Кажется, отцу кто-то проиграл в карты.
— Ну вот и сплавьте ваших соперников в Австралию. А когда дело наладится, я вам дам реванш. Пока вы ревнуете Адель, вы не можете курить спокойно, и поэтому я считаю бесчестным вступать с вами в новое состязание.
Он поднялся и протянул руку.
— Прощайте. Желаю успеха.
Влюбленный миллионер остался один. Он протянулся на диване и выпустил густое облако дыма. Веселое лицо Адель улыбнулось.
Два маркиза
Нью-Йорк 20 октября 1918 года, окончен в 12 часов пополуночи
I
Ну хорошо, — проговорил маркиз ворчливо, — давайте сюда, я подпишу.
И он потянулся за гусиным пером.
— Пишите, пишите, ваше сиятельство, — сказал ростовщик, несколько более фамильярно, чем следовало бы. — И, притом, напрасно изволите гневаться, что дорого беру. Брать — беру, но совсем недорого.
— Сто на сто-то недорого?! — возмущенно сказал маркиз, махнув пером.
— Ах, ну что вы говорите, — улыбнулся ростовщик, — совсем не сто на сто, а двести на двести! Пишите, пишите, — прибавил он опять-таки более покровительственно, чем хотелось бы, - червонцы-то, которые я вам даю, ведь не деревянные, а золотые, горят как огонь и звенят как колокольчик.
— Посмели бы они не звенеть, — сказал маркиз, сделав росчерк и протягивая вексель.
Ростовщик принял документ, надел большие очки и внимательно проэкзаменовал сиятельный автограф.
— В порядке, — сказал он и, сложив вексель пополам и пополам, присел перед тяжелым кованым сундуком. Редкие торчащие волосы его тихо и отвратительно шевелились на склоненном к сундуку черепе. (Вероятно, ими играл ветер.) Замок был с треском отперт ключом крупного размера, и крышка у сундука слегка приподнята. Ростовщик нырнул в сундук и появился с четырьмя свертками золотых. Червонцы были действительно завидные: с переливами красноватого золотистого цвета и звенели как колокольчики.
— Сосчитайте, ваше сиятельство, — сказал он, — по пятьдесят в каждом.
Маркиз вытащил большой кожаный кошель, в котором одиноко жались пять червонцев — весь его дворянский капитал, и небрежным движением запихал туда золото, не считая.
— До свидания, — сказал он вставая, — спасибо за услугу.
— Покорнейший раб вашего сиятельства, — ответил ростовщик, кланяясь не без юмора. И прибавил, опять-таки более фамильярно, чем надо.
— Да пошлет вам судьба хорошую карту!
Маркиз хотел сказать, что это не его дело, но подумал, что ростовщик еще пригодится, и, дернув плечами, вышел. Ростовщик проводил его наружу и, хотя маркиз больше не оглянулся, для вежливости постоял у входа, пока тот не скрылся за углом.
— Сто на сто, конечно, процент ничего, — подумал ростовщик, — но вернет или не вернет — это уже выходит не сто на сто, а сто против ста.
Если он решился сегодня дать так много золотых, то потому, что до сих пор маркиз платил исправно. Может и теперь заплатит. И, почесав затылок, ростовщик взял котелок и принялся варить себе суп.
— Чтобы ему пришла хорошая карта, — проворчал он, всыпая крупу.
Надо сказать, что почтенный ростовщик ошибся, полагая, что деньги понадобились маркизу для картежных развлечений. Конечно, маркиз, как всякий порядочный человек, не прочь был засыпать семерку кучкой звонких золотых и, удвоив их, оставить все на той же карте; но сейчас было не до карт, требовалось просто платить по старым векселям. Достать груду круглых веселых червонцев для того, чтобы сейчас же прозаически и тупо отвалить их старому кредитору — это ли не гнусно? Но у маркиза было незапятнанное имя и он не хотел его пятнать. Да, великое дело — честное имя, особенно при том способе добывания денег, который практиковал маркиз. А этот способ был старый, истинный и простой. Он брал деньги у одного ростовщика и, прожив их, платил взятым у другого. Второму — взятым от третьего, третьему — от первого, первому — пополам от второго и четвертого. Так как сумма все время двоилась и росла неимоверно, то новые суммы приходилось добывать по частям у нескольких лиц. Главное, быть спокойным, импозантным, платить вовремя и расширять круг лиц, способных дать взаймы. Досадно было, что эти ростовщики безбожно губили процентами и что на эти проклятые проценты уходило больше, чем на собственно жизнь. Но зато деньги являлись, так сказать, из ничего, и можно было, не утомляя себя, жить припеваючи, как надлежит джентльмену. К тому, что долговой boule de neige{2} рос и что когда- нибудь да надо будет что-нибудь с ним сделать, маркиз относился равнодушно. Зачем себя тревожить? Выход сам найдется, мало ли их: богатая невеста, крупный выигрыш, а смотришь, наследник от дядюшки. К тому же, дядюшка действительно имелся, старый, бездетный и богатый. Ну, а уж если ни то и ни другое, то от тюрьмы избавит пуля в лоб, в свой или дядюшкин (что совсем не так трудно сделать, на охоте или даже дома, например, любуясь в его присутствии семейным оружием).
Масло пригорело, навоняло, и ростовщик сердито распахнул окно. Однако приток воздуха был слаб, поэтому почтенный муж пошел свершить свою трапезу на чистом воздухе, раскрыл дверь и уселся на крылечке. Он жил в пригороде, где незастроенных полей и заборов было больше, чем домов, но за свой сундук он не боялся. В этих добрых краях давно установился хороший обычай: коль попадется грабитель — рубить голову, а коли просто вор — то руку, поэтому их было мало, и кованый сундук мог спокойно сохранять хозяйские червонцы.
— Доброго здравия, ваше сиятельство, — сказал ростовщик, вставая и кланяясь. Мимо него шел другой маркиз, повыше ростом, чем первый.
Высокий маркиз холодно взглянул на ростовщика и отвернулся. Он только что встретил первого маркиза и понял, что тот возвращался от ростовщика. Значит, старый шакал опять содрал кожу с одной из своих жертв.
— Дрянь! — подумал высокий маркиз и хотел пройти мимо. Но в это время каблук его задел за камень и отскочил. Маркиз споткнулся, остановился и поднял каблук.
— Молоток и гвоздь для вашего сиятельства! — воскликнул ростовщик и суетливо исчез в своем жилище.
Высокий маркиз подержал в руках каблук и, сев на камень, снял сапог.
— Гвоздь и молоток для вашего сиятельства, — утвердительно повторил ростовщик, появляясь с тем и с другим.
— Подите прочь! — отрубил высокий маркиз, не поворачиваясь и пытаясь приладить каблук к старому месту. На каблуке остались гвозди, поэтому он довольно удачно стал приколачивать его тем самым булыжником, через который споткнулся.
Ростовщик стоял и наблюдал.
— Не ладится, ваше сиятельство, — сказал он через минуту, — при помощи молотка и нового гвоздя будет удобнее.
Высокий маркиз нетерпеливо повернулся к нему.
— Я вам сказал, уйдите прочь! — сердито отбарабанил он. — Вот ваш дом, позади вас!
Ростовщик печально поник протянутым молотком. Жест красноречиво означал: я к вам с услугой, а вы мне платите обидой. Высокий маркиз осмотрел его с ног до головы и презрительно сказал:
— Слишком вы, батенька, вредная гусеница, чтобы я принимал от вас услуги! — и отвернулся к своему сапогу.
Ростовщик проговорил:
— Ваше сиятельство преувеличивает мои недостатки. Я помогаю людям, как могу.
У высокого маркиза возмущенно опустился сапог.
— Вы-то помогаете людям?! Да вы кровь и душу из них высасываете! Вы их в тюрьмы гоните! Я сейчас могу назвать два имени тех двух несчастных, которых вы засудили за неуплату ваших бешеных процентов! Или вы скажете, что нет?
— К сожалению, я не могу сказать, что нет, — ответил ростовщик скромно, — но то были преступные люди, хотевшие поживиться моими сбережениями...
— А что такое ваши сбережения, как не чужие деньги, обманом вымотанные у других? Или, может быть, вы их честью заработали? Сто на сто? Подождите, друг мой, подождите, доберутся и до вас. Веревка-то по вас криком кричит уже который год!
— Всякий трудится, как может, — обиженно сказал ростовщик, — и такая вещь, как веревка...
—... поет по вас, поет, милый мой, — перебил высокий маркиз. Он разгорячился и, швырнув каблук, надел сапог без каблука. — Жаль, что наш епископ слишком стар, ему бы не мешало позаняться вами. За вами кроются мерзкие делишки, похуже, чем ваше ростовщичество. Ух, какая темная молва идет о вас! Недаром все порядочные люди сторонятся вашего дома и крестятся, проезжая ночью мимо!
— И что же, помогает? — с тонкой наглостью спросил ростовщик.
Высокий маркиз никак не предвидел репостации, да еще пополам с издевкой. Это произвело такой эффект, будто по его зеркальной душе провели тупым ножом. Он побледнел и схватил рукоятку шпаги.
— Убирайтесь вон!! — крикнул он. — А то сейчас же проткну ваш дряблый живот!
Дело повернулось плохо. Ростовщик, спотыкаясь, поднялся по ступенькам, толкнулся в дверь и заперся изнутри на засов. Затем хлопнуло окно, ставень и второй засов. Так-то вернее, когда имеешь дело с разъяренными сиятельствами.
Высокий маркиз плюнул ему вслед, как скрывшемуся чорту, и удалился, хромая сапогом без каблука. Он был человек прямой, горячий и принимал дело прямо к сердцу.
II
Наступил вечер; маркиз, не тот, который плюнул в дверь ростовщика, а другой, который получил сегодня двести золотых, стал натягивать свой плащ, чтобы отнести их ростовщику, занумерованному цифрой восемь. Да! Не долго погостили у него звонкие резвуны! Но с платежами надо быть аккуратным, тогда заведутся и другие. Срок через два дня, однако маркиз желал быть барином и всегда платил до срока.
Маркиз задрапировался в черный плащ и вышел на улицу. Номер восемь жил в людной части города, там можно было натолкнуться на знакомых, а это по многим соображениям не входило в расчеты маркиза. Поэтому он надвинул шляпу на глаза и пошел вокруг, по бульвару, где было темно и где редкие встречные мелькали, как неразборчивые тени. «Вот и я такая тень» — подумал маркиз. Тяжелый кошель приятно давил на бедро, но, увы, через какой-нибудь час в нем должен был остаться жалкий квинтет из пятерых червонцев, сохранившихся от прошлого заёма. И эта мысль вселяла печаль в нежное сердце маркиза.
Из-за ящика с мусором выскочила черная кошка и, мелко семеня лапами, перебежала маркизу дорогу.
— Ну вот! — воскликнул маркиз. — Черная кошка! Терпеть не могу, когда такая вещь перебегает мне дорогу! — и он остановился.
На бульваре было тихо и темно. Вдали, в боковой улице, приветливо сиял подъезд в клуб. Жаль, что с золотом приходится расстаться, а то на нем недурно можно было бы сыграть.
— К дьяволу, — сказал маркиз, — играть будем тогда, когда достанем деньги.
И он пошел дальше.
Кошка резко заорала своим горловым голосом и, выскочив из кустов, галопом помчалась вперед. Должно быть, за нею погнался кот.
Маркиз остановился и выбранился. В самом деле, зачем она тут вертится, проклятая? Можно верить в приметы или не верить, но в обоих случаях противно, когда какая-то черная гадость все время бороздит дорогу. Маркиз оглянулся и увидел освещенный подъезд. Пойти, разве, поставить? Ведь есть еще два дня до срока. На случай проигрыша можно успеть отыграться и даже призанять. А сейчас, раз много золота для оборота, много можно и выиграть, притом совсем шутя.
— Зато и больше можно проиграть, — решил маркиз, — нет, золото я взял, чтобы платить, значит, и понесем его платить.
У маркиза было незапятнанное имя, это весьма существенно; было бы непростительно колебать его хоть одним неаккуратным платежом.
Он закутался в плащ и решительно пошел вперед. Так он благополучно сделал с дюжину шагов, а на тринадцатом наткнулся на что-то мягкое и круглое, и кошка с жалобным мяуканьем стрельнула из-под него в кусты.
— А, сатанинское отродье! — закричал испугавшийся маркиз и, подумав немного, пробормотал, — судьба, значит, будет карта.
Круто повернув, он пошел в клуб. Походка его была уверенна: тяжелый кошель придавал ему значение и вес кошелька тоже помогали. В боковой комнате мелькнул профиль высокого маркиза; человек десять окружало его стол. Лицо маркиза просветлело: высокий маркиз был человек богатый, и раз он взялся за карты, то с ним стоило сыграть.
— Позвольте, я поставлю это. Здесь двести пять, — сказал маркиз, любезно раскланиваясь и веско кладя на стол кошелек. Он подумал про себя: «Две карты, я чувствую, пройдут. И у меня будет кругленькая сумма».
Но высокий маркиз знал, откуда эти деньги.
— Извините меня, маркиз, — сказал он, — эти карты я вам не дам.
— Как не дадите? — воскликнул маркиз, у которого предчувствие громко шептало, что все золото, лежащее на столе, назначено ему.
— Извините, но не дам, — твердо сказал высокий маркиз.
Выходило не совсем ловко; даже как будто оскорбительно, а главное, маркиз чувствовал, что, не давая ему карты, его просто обкрадывают.
— Может, вы мне объясните, маркиз, почему вы столь немилостивы? — сказал маркиз.
— Нежеланием так круто поднимать игру, — ответил высокий маркиз.
— Но позвольте, на столе гораздо больше денег! Вы не можете мне отказать! Или... личная причина?
Он разгорячился, чувствуя, что ему не хотят дать того, что принадлежит ему по праву. Так он был уверен в выигрыше.
А высокий маркиз с гримасой глядел на ростовщические деньги.
— Хорошо. В таком случае причины личные, — сказал сухо высокий маркиз.
Маркиз вспыхнул.
— Тогда, быть может, вам будет угодно удовлетворить меня в иной форме? — спросил он остро.
— Э... э... милостивые государи... — запнулся старичок, годившийся обоим маркизам в отцы.
Но маркиз уже нервно стягивал перчатку.
— Карту или перчатку, — сказал он решительно, кладя перчатку рядом с кошелем.
Несколько смятенных взглядов обратились на высокого маркиза.
— Судари... судари!.. — закричал старичок, дергая маркиза за рукав.
Теперь дать карту было уже нельзя. Высокий маркиз пожал плечами и сказал:
— Я ваш покорнейший слуга, — и, взяв перчатку, покинул клуб.
Маркиз запихал в карман свой кошель и, извинившись у окружающих за нечаянное беспокойство, уехал к ростовщику платить долги. Старичок суетился вокруг стола и звал дежурного члена, чтобы запечатать золото, оставленное высоким маркизом.
Сама дуэль состоялась коротко и обыкновенно. Двенадцать шагов. Раз, два, три. Выстрел маркиза. Пуля в висок. Падение высокого маркиза и смерть. Остальное неинтересно.
Ростовщик сидел у себя перед огоньком и гладил черную кошку, которая приветливо мурлыкала.
Умерев, часовщик...
Окончен 15 ноября 1921 года
Умерев, часовщик очень удивился. Услышав трубный звук и почувствовав, что он начинает просыпаться, точно приходит в себя после глубокого обморока сквозь молочный туман, а может быть, сквозь облако, он услышал голос, который говорил:
— А вот мы сейчас рассудим, куда его, в рай или в ад. Часовщик подумал:
— Так вот оно какая история, оказывается, и в самом деле есть и рай, и ад, а я-то думал, что просто меня сгрызут черви, да и дело с концом.
Он протер глаза и увидел, что действительно стоит перед облаком, а на облаке старец с седою бородой. Это был апостол Павел.
— Грешил? — спросил Павел
— Грешил, — ответил часовщик.
— Может быть, убил кого-нибудь?
— Убил, — ответил часовщик.
Апостол Павел нахмурился.
— А красть крал? — спросил он.
— Украл один раз.
— А жен чужих любил?
— Любил.
— Отца с матерью уважал?
Часовщик постарался припомнить и сказал:
— Нет, мальчишкой был дрянным.
— А имя Господа Бога Твоего вспоминал всуе?
— Что говорить, ругался...
Апостол Павел развел руками:
— Ну что ж с тобою, дорогой мой, долго разговаривать! Ступай себе налево.
Часовщик вспомнил что-то из Священного Писания и воскликнул:
— Но позвольте, ведь сказано, что сам Господь будет судить живым и мертвым!
— Некогда Господу Богу заниматься такими пустяками как ты, — ответил апостол Павел и отправил его в ад.
Подхватили его два чертенка и притащили ну точно в баню. Жара такая, что глаза на лоб лезут, и повсюду котлы с кипящей водой.
— Бултых! — заорали чертята и хлопнули его прямо в котел.
— Фу ты, чорт! — подумал часовщик, пуская пузыри. Вода была до того горячая, что у него даже холодок по спине пошел. Но шутки в сторону, стало так жечь, что он места не находил и с воем извивался в котле как змея.
— Хорошо, что я зарезал этого олуха, по крайней мере, Гетропий доживет спокойно, да и сюда не попадет, — успел подумать он, снимая пласт вздувшейся кожи со своего плеча.
— Сколько градусов? — крикнул чертенок.
— Семьдесят пять по Цельсию! — заорал другой.
— Ну-ка, подкрутите до девяноста, а то он что-то там бормочет.
Стало жарче.
— Ай-ай-ай! — заорал часовщик, корчась от боли, и тут же подумал:
— Хорошо же, что это я, а не Гетропий попал сюда! Он мальчик нежный и ему совсем плохо пришлось бы в этом проклятом кипятке!
Подумал — и, несмотря на боль, улыбнулся.
В это время мимо котла проходил очень важный чорт, огромный, косматый, весь в орденах. Он служил у Сатаны в инспекторах и явился сюда осматривать отделение.
— Чего эта харя улыбается? — ткнул он пальцем в часовщика.
— О земле вспоминает, — вильнул чертенок.
— Какая температура?
— Девяносто по Цельсию.
— Мало! Перевезти его в смолу! — гаркнул косматый чорт и отправился дальше.
Часовщика схватили за хохол и потащили в другое отделение. Воздух там стоял смрадный, и в котлах булькала смола.
— Бултых! — заорали чертята и сунули его в котел. Дело стало еще хуже. Было так больно. Точно все туловище состояло из сплошных гнилых зубов, в которые тыкали булавками. Глаза вылезли на лоб, и часовщик уже не выл, а только хрипел.
— А Гетропий-то, наверно, сейчас лежит под яблоней и слушает, как воробьи чирикают... — подумал часовщик. Он хотел было улыбнуться, но вместо улыбки только зубы ощерились.
В это время важный чорт, кончив осматривать водяное отделение, пожаловал сюда.
— Опять эта рожа зубы скалит! — увидел он часовщика.
— О приятеле вспоминает, — вильнул чертенок.
— Что за ерунда, — удивился чорт, — в первый раз такого оболтуса вижу, — и пошел дальше.
Через полчаса часовщика позвали к самому Сатане. Два чертенка вытащили его за вихор и повели к своему повелителю.
— Ты, я вижу, мужик стойкий, коль даже в смоле нашел время улыбаться, — сказал Сатана. — Такие люди нам нужны. Освобождаю тебя от обязанностей
кипеть и произвожу тебя в звание действительного явного чорта.
Часовщик взглянул вскользь на приведших его чертенят и подумал, что сейчас из него самого начнет расти хвост. Но Сатана уже прочел его мысли.
— Не бойся, ты сразу получаешь чин, равный инспектору, никаких хвостов и вдобавок немедленную командировку.
— Командировку? — воскликнул часовщик.
— Да, командировку, и притом на землю, к другу твоему Гетропию. Это будет первым испытанием твоих талантов.
Часовщик так и прыгнул от радости. Сатана продолжал:
— Конечно, ты не скажешь ему, что это ты. Да он и не узнает тебя, так как ты явишься к нему во образе прекрасной черноглазой женщины. И когда он полюбит твое тело до потери сознания, ты будешь требовать от него все больше удовольствия и денег, а когда он истратит на тебя последний червонец, ты заставишь его украсть. После этого брось его и возвращайся ко мне за наградой.
Часовщик наморщил лоб и сейчас же учел (неда - ром он был отменным торгашом):
— Стало быть, меня освободят от котла с тем, чтобы в котел попал Гетропий. Нет, дудки-с, уж лучше я, чем он. А Гетропий пусть лежит под яблоней.
И он заявил Сатане:
— Нет уж, Господин, от таких поручений вы меня избавьте.
Сатана прямо-таки осатанел:
— Что-о?! Ты никак противоречить? Да ты с кем говоришь? Да я тебя силою пошлю, коли так!
— Увидел часовщик, что дело плохо, скорее выскочил вон и с разбегу бух назад в котел с кипящей смолою. Так и нырнул головою вниз, чтобы не слыхать, что ему вслед кричит Сатана. А Сатана прямо из себя вышел от обиды:
— Ах ты, наглый дерзяк! Чтобы духу твоего здесь не было! Вон его! Не потерплю в моем доме.
Подбежали к котлу два чертенка, схватили часовщика за ноги и за вихор, поволокли его и выбросили вон из ада. Лежал часовщик за воротами и не понимал в чем дело. Кожа его была - сплошные пузыри, а глаза лопнули, с тех пор как головою вниз нырнул в смолу.
Увидал его с неба Иисус Христос и спросил у апостола Павла:
— Павел, что это там за куча внизу лежит?
— Трудно и узнать, Господи, что это такое, - сказал апостол Павел, - это, кажется, часовщик. Я его недавно присудил в ад, за то, что он все заповеди нарушил. Только я никак не могу понять, почему его обратно выкинули.
Иисус Христос ласково улыбнулся:
— Ах, Павел, Павел, столько лет ты у меня на небе, а все в тебе сидит Римский Гражданин и чиновник! Все ты судишь по параграфам! Ведь учил же я вас: возлюбите ближнего больше самого себя и будет вам царствие небесное.
С этими словами он спустился вниз и сказал часовщику:
— Не видишь, кто перед тобой стоит? Ну ничего, пойдем к Аврааму, у него есть хорошие примочки и для глаз и для души. Все у тебя заживет.
И, взяв часовщика за руку, Иисус Христос повел его в рай.
Вы не знаете, когда...
Время и место написания не установлены
Вы не знаете, когда отходит пароход в Африку? — спросил слон.
— Кажется, завтра утром, — еще не верным голосом ответил актер.
— Это хорошо,— сказал слон, — Пока все спят, я успею спуститься вниз и, может, мне удастся попасть на него.
— Вы хотите отправиться в город? — смущенным голосом спросил актер.
— Да как же иначе?
— Но что вы делаете? Ведь вас всякий узнает там. И тогда вас отведут назад в зверинец.
— Да, это верно, — печально согласился слон, — Повидимому, таково мое положение, что никуда мне нельзя деться.
Несколько минут они стояли молча.
— Прощайте, — коротко сказал слон. И он исчез в темноте.
Слон протянул к нему хобот, прося апельсин. Этот большой старый хобот был протянут доверчиво и просто. Ярость объяла актера.
— Мерзавец! — в неописуемом негодовании крикнул он и с силой плюнул ему в хобот.
Как реагировал на это слон, он не видал, потому что сейчас же отвернулся от клетки и, нервно толкая [публику], вышел на улицу.
1
собеседник (франц.)
(обратно)2
снежный ком (франц.)
(обратно)


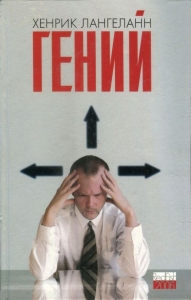


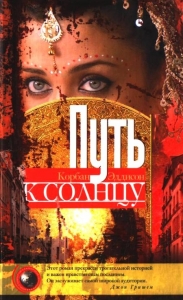

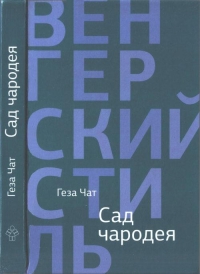





Комментарии к книге «Рассказы», Сергей Сергеевич Прокофьев
Всего 0 комментариев