Алена Жукова Тайный знак
Просило сердце: «Поучи хоть раз!» Я начал с азбуки: «Запомни – “Аз”». И слышу: «Хватит! Все в начальном слоге, А дальше – беглый, вечный пересказ». Рубаи. Омар Хайам (Перевод Н.Тенигиной)Автор книги благодарит доктора и литератора ЕЛЕНУ МЕЛЬНИКОВУ за идею и участие. Без ее неоценимой помощи эта книга никогда не была бы написана
© Жукова А., текст, 2016
© Колесова У. А., художественное оформление, 2016
© Издание. Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2016
Глава первая
Стрелки на циферблате сошлись в верхней точке и превратились в подобие копья. Сейчас секундная, самая тоненькая, отделится, шагнет вперед и начнется новый день. В ожидании короткой судороги, разлепляющей стрелки, Михаил Александрович Степанов затаил дыхание. Иногда ему казалось, что усилием воли он может остановить время или хотя бы поторопить. По крайней мере, то, свое, которое не движется линейно, а представляется ему чем-то вроде кругов на воде. Камешек настоящего – это возмутитель пространства, разгоняющий волны по обе стороны временной координаты. Вчерашний день, который секунду назад назывался сегодняшним, подбросил ему, Михаилу Александровичу Степанову, уполномоченному Наркомстроя по делам машиностроения в Москве и Московской области, такой камень, который может поднять большую волну, если не усмирить в себе ребяческую страсть к разгадыванию исторических ребусов и одержимость кладоискательством.
Конечно, не будь в его тщательно скрываемом прошлом дворянского воспитания, подразумевающего, кроме общей эрудиции, доскональное знание истории своего рода, то он, наверное, остался бы глух ко всему тому, что так небезопасно сегодня. Он хорошо помнил, как входил в отцовский кабинет, заставленный от пола до потолка книгами, и ему становилось страшно от мысли, что шкафы могут рухнуть под их тяжестью. Снимая с полки увесистый том, страницы которого были исписаны именами и фамилиями, напоминая муравейник в разрезе, он всякий раз боялся уронить его на ногу. Чтение этой книги было обязательным и ежедневным, как «Отче наш». Никакого интереса к ней он не испытывал, но, не смея нарушить приказ отца, изучал хитросплетения ветвей родового древа, в который раз удивляясь тому, что в корне его значится человек с нерусским именем – Христофор Граве. Единственной заслугой этого Христофора Граве была верная служба царю Петру Великому, за что он и был облагодетельствован графским титулом. Михаил Александрович частенько слышал от отца, что предков своих надо знать до седьмого колена, и удивлялся, почему в книге ничего не сказано о родителях этого Христофора, приплывшего в Россию из Голландии. И куда же делись сведения о его предках? Позже он догадался: Христофорова родня была из мастеровых, а генеалогическое древо славного семейства Граве должно было непременно произрастать из дворянского корешка. Что же до маминого родового «муравейника», то его корни уходили чуть ли не во времена Ивана Грозного. Запомнить, кто кому и кем приходился, Михаил Александрович никак не мог. Отец не торопил и терпеливо экзаменовал на знание матримониальных связей графских семейств, но Михаил всячески увиливал от скучной зубрежки.
«На этих полках, – сказал однажды граф, вручая сыну медный ключ, – то, что я сам читал в твои годы. Запомни, нет ничего увлекательнее книг по истории. В них полно загадок и тайн. Рождение каждого человека – это звено в череде событий, произошедших не только в недавнем, но и в далеком прошлом. Но пока советую начать с приключений: вот Рим и восстание Спартака; тут Франция и мушкетеры; это мифы Древней Греции, а вот эта книга о пиратах… С чего хочешь начать?»
Михаил Александрович улыбнулся своим мыслям – конечно, он попросил тогда книгу о пиратах и прочел ее, не выпуская из рук, за два дня. Потом ему казалось, что непременно где-то в подвалах их усадьбы или в саду зарыты несметные сокровища, а прадедушки с прабабушками носились по морям и океанам под флагом Веселого Роджера. Отец, шутя, подбрасывал «тайные» карты и письма с головоломками, как и где следует искать клады. Время от времени что-то обязательно находилось, например сундук с обломками сервиза и старыми ложками, а однажды нашелся ящик, наполненный доверху медными кружочками, напоминающими монетки. Когда находка была предъявлена отцу, тот улыбнулся и завел разговор, который врезался Михаилу в память на всю жизнь.
– Ты уже думал, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
– Да, я буду путешественником и кладоискателем.
– Замечательно, а знаешь ли ты, что это за медные кружочки в сундуке?
– Пиратские деньги.
– Нет, дорогой мой, это не деньги, это дело, которому служили многие поколения нашей семьи. И есть один секрет, который я тебе обязан передать.
При слове «секрет» Михаил замер, приготовившись узнать что-то необычное, но вместо этого услышал скучную историю про то, что все мужчины в их роду, начиная от Христофора, были кораблестроителями, а отец еще и владельцем заводов – единственным поставщиком медных иллюминаторов и поручней, серебряной и мельхиоровой посуды для судов императорского флота. Медные пуговки из сундука – отходы производства. Он чуть не расплакался тогда. Но отец успокоил и сказал, что Господь заповедовал человеку трудиться в поте лица своего, но трудиться можно по-разному. Секрет, собственно, и состоит в том, что любое дело таит в себе загадку, как сделать его еще лучше. Это даже интереснее поисков клада: клад нашел – и твой путь закончен, а в любимом деле поиск бесконечен.
Вскоре они вместе колесили по стране, бывали на верфях Николаева, в портах Херсона, Одессы и даже удостоились императорского приглашения в Санкт-Петербург после спуска на воду нового эсминца. Император Николай II разговаривал с ними как с близкими друзьями, жал руку отцу и гладил крестника-тезку (да-да, не удивляйтесь) по непокорным вихрам. Уже сорок ему, но до сих пор волосы на макушке растут торчком. «Царской милостью», – шутил про себя Михаил. Посторонним про царского тезку знать было нельзя. Честно говоря, многое из того, о чем он думает, скорее всего, умрет вместе с ним, как и то, что на одном из петербургских кладбищ покоится прах дворянина Николая Игнатьевича Граве – студента Санкт-Петербургского университета, а Михаил Александрович Степанов, матрос Балтийского флота, здравствует и поныне, пройдя Гражданскую, закончив с медалью Московский политехнический, став главным инженером, членом ВКП (б) и работником Наркомстроя.
На самом деле прах матроса Михайлы Степанова давно истлел, но когда-то его пьяная удаль и классовая ненависть помогли Николаю Граве, наследнику графского титула, выжить в пучине террора. Дело было в январе 1918 года, когда в Петрограде тысячи людей вышли в поддержку всенародно избранного Учредительного собрания. Матросы их расстреливали с крыш, а по улицам шерстили вооруженные патрули, избивая и грабя «классово чуждых элементов». Угрожая наганом, Михайло чуть не вышиб мозги студентику, обобрав того до нитки, присвоив кошелек и документы. Переодевшись в «барские одёжи», он так торопился слинять с места преступления, что забыл возле бездыханного, как ему казалось, тела свой рваный бушлат с бумагой, удостоверяющей личность. Придя в себя, студент обнаружил, что лишился знатной фамилии, но приобрел нечто более ценное в революционной ситуации – охранную грамоту пролетарского происхождения. С ней он и вступил в новую жизнь.
– Но если бы не ты, Маша, – прошептал Михаил, глядя на портрет в черной раме, втянувший, казалось, через приоткрытые ставни свет полной луны, – то кто знает, как бы все обернулось.
Женщина на портрете была круглолица, курноса, на груди у нее лежала толстая светлая коса, перевязанная муаровым бантом. Не разругался бы он с маман из-за ее надменности и дворянского гонора: «Да у нас кухарка и то породистей твоей Маши будет! Родни постыдись!», не ушел бы тогда из дому, лишенный родительского благословения и помощи, бежал бы в двадцатом с родителями и сестрой от большевиков, уплыл бы в Константинополь на пароходе с отцовскими иллюминаторами. Но тогда, после Февральской революции, назад в «дворянское гнездо» не хотелось, противно было. И матроса Мишку он простил за его «пролетарский гнев». Хотел даже документы вернуть, но тот как в воду канул. Похоже, его самого убили, а как иначе объяснить запись в кладбищенской книге о некоем Н. И. Граве, 1899 года рождения, похороненном в общей могиле в январе 1918 года.
– Эх, Машенька, ни о чем не жалею, только о том, что ушла ты в мир иной вместе с нашим первенцем. И знаешь, из головы не идут злые слова материнские: «Потомство ваше прокляну, через него и погибнете…» Ну, ты уж прости ее, как я простил. Долго мы с тобой этого ребеночка ждали, а оно вот как вышло.
Михаил Александрович закурил и прислушался к звукам коммунальной квартиры, в которой проживал уже больше десяти лет на площади не полных семнадцати квадратных метров. Ему, как ценному специалисту, давно предлагали отдельную квартиру в ведомственном доме, но представить себя без соседей – без деда Егора и старух-близняшек Прокофьевых – уже не мог. Да и зачем – тут хоть есть с кем словом перемолвиться. Теперь, после смерти Маши, они его семья. Вместе хоронили ее, вместе горевали. Шумные они, правда, и скандалят между собой по десять раз на день. Уже далеко за полночь, а все не угомонятся. Скорее бы. Не хочется лишних глаз и вопросов, куда это он собрался на ночь глядя с мешком за плечами.
Михаил Александрович еще раз взглянул на часы, подумал, что если через полчаса он не выйдет из дому, а через час не окажется на Ярославском вокзале, переименованном теперь в Северный, то не успеет управиться за ночь. Утром, в шесть тридцать, заедет его шофер Шурик, и к тому времени надо решить, стоит ли ехать с докладом наверх, хлопотать о переносе строительства цеха в Мытищах, где предполагалось делать метровагоны нового типа, на другой участок. Либо – прямиком на стройку, но для этого надо самому убедиться в том, что археологам там делать нечего.
Он услышал, как хлопнула дверь у сестер, как дед Егор захрапел за стеной, и встал с кровати. Пока укладывал в мешок фонарик, веревку, лопату с коротким черенком, в голове прокручивалось вчерашнее. Приехал на объект в конце дня. Большой котлован и высокий земельный террикон рядом уже обозначили место будущего цеха. Рабочие разошлись, только внутри заграждения стоял одинокий экскаватор. Натянув сапоги вместо ботинок, он выбрался из служебной «эмки» и стал осторожно спускаться на дно котлована, стараясь ставить ногу так, чтобы песок не засыпался за голенище. В конце концов он просто прыгнул на дно и, зацепившись носком, упал. А когда стал разглядывать, обо что зацепился, обомлел – в склоне, метров на пять ниже верхней кромки земли, виднелся край сводчатой кирпичной кладки. Сунул руку под камни – пустота. Когда немного разгреб, догадался, что это подземный ход, но войти не решился, а, наоборот, забросал землей, чтобы в глаза не бросалось, и решил, как стемнеет, вернуться.
Первая мысль была, что этот провал – остатки водопровода петровских времен. Археологи предупреждали, что такая находка возможна. Вспомнились также легенды о подземном дворце, кладовые которого заполнены золотом и серебром, о подземном ходе от Кремля до села Тайнинское, который прокопали во времена Ивана Грозного. Все это, скорее всего, сказки, но он должен войти первым и посмотреть, куда этот ход ведет. Странно другое, прежде чем начинать строительство, полагалось получить добро у археологов. Но они, видимо, тоже этим сказкам не верят. Как бы там ни было, надо еще раз документацию проверить. Ведь, если под землей пустоты большие, цех лучше в другом месте поставить. Плохо, конечно, время потеряем. Зимой тяжело будет, а рапортовать о сдаче хотели ко дню рождения Кагановича.
Стоп, а если там найдут его следы? Если выяснится, что вчера не доложил, а сам полез, что тогда? Тогда – крышка, подсудное дело. А, плевать… Надо замести следы внутри хода, а снаружи не страшно. Где веник? Нет, глупость. Лучше боты дачные надеть, они на пару размеров больше. Доложить можно завтра утром, а вот зайдет в подземелье он первый. Кто знает, вдруг после доклада решат этот ход завалить? Тем, наверху, главное план не сорвать, а про историю – так она ж царская…
Доехав на электричке до села Тайнинское, Михаил пошел в сторону стройки, досадуя на полнолуние. На улице было светло как днем, но повезло – по дороге он никого не встретил и надеялся, что остался незамеченным. Охрану на объекте еще не выставили, хотя были заграждения.
Спустившись на дно котлована, он вынул из мешка фонарь, финский нож и стамеску. Лопата не пригодилась – почва осела, полностью оголив вход. Михаил пригнулся и ступил в темноту. Могильный холод и сырость мгновенно сковали тело, сердце учащенно забилось. Луч фонаря то и дело выхватывал из темноты фрагменты полуразрушенной кладки. Кучами лежали камни. Продвигаться приходилось с большим трудом, обходя завалы. Коридор петлял и раздваивался. Левый рукав оказался у́же, и он решил идти по правой стороне. Примерно метров через сто стало тяжело дышать. Вдруг свет фонаря ударил рикошетом по глазам, напоровшись на блестящее пятно в стене. Михаил присмотрелся и обнаружил в кладке углубление, похожее на нишу. Там стоял заваленный камнями металлический сундук. Сердце, и без того прыгающее в груди, понеслось галопом. Он протянул руку и попытался вынуть ящик, но тот не поддавался, словно был приклеен намертво. Попытка расшатать его и оторвать от стены не удалась, кроме того что упало несколько камней, а чуть позже раздался какой-то странный шум, словно где-то прокатилась громадная волна. По стенам и потолку зазмеились трещины. Сознание предостерегало: «Спасайся, беги! Это обвал!», но еще громче в нем вопил безрассудный мальчишка: «Это клад! Настоящий клад! Открой сундук!»
Забыв об опасности, Михаил взломал стамеской замок. Сундук казался пустым. Чтобы в этом убедиться, он запустил руку на самое дно и неожиданно нащупал какой-то сверток. Вынув его, развернул полусгнившую ткань. Внутри оказалась книга. Рассмотреть больше не удалось, так как прямо на голову посыпались камни. Прикрываясь находкой, Михаил побежал к выходу. За спиной грохотало. Потеряв фонарь, он не был уверен, что случайно не свернул в боковой проход. Если так, то живым отсюда не выбраться. Теперь он двигался наощупь в кромешной темноте. Прошла целая вечность, прежде чем впереди замаячили неровные очертания арки, освещенные лунным светом. Теперь этот свет вызвал не тревогу, а радость. Стало ясно, что с пути он не сбился.
Буквально за секунду до конца приключения, почти у выхода, с потолка сыпануло песком, и обвалившаяся стена опрокинула Михаила навзничь. Перехватило дыхание. Так, не дыша, он пролежал неизвестно сколько. Грохот прекратился. Михаил попробовал пошевелиться. Удалось повернуть голову и вздохнуть. Правая рука застряла глубоко под завалом, придавленная камнем. Он заставил себя поработать пальцами, и они нащупали что-то гладкое. Ухватившись, он потянул на себя и как-то неожиданно легко выдернул из-под камней книгу. Это движение помогло ослабить груз песка и камней. Напрягшись, он высвободил вторую руку и ноги. Удивительно, что, пока бежал, книгу он не потерял.
Михаил выполз из подземелья и скатился по склону котлована на дно. За спиной грохотал камнепад. Не в силах подняться, он долго лежал на земле, глядя в небо, на котором плоская, похожая на засаленный серебряный пятак луна затягивалась тяжелыми облаками. Мешок валялся рядом. Сунув в него книгу, он посмотрел на заваленный вход. Каменная кладка покорежилась – теперь туда могла проползти разве что мышь. Ну и хорошо, подумал Михаил, следов уже не найдут, зря боты надевал.
Домой он вернулся к утру, за полчаса до приезда Шурика. Длинный г-образный коридор был темен. По спине пробежал холодок: как в подземелье вошел. Нащупал выключатель. Пятнадцативаттная лампочка, вкрученная экономными соседями, мало чем помогла. Он проскочил мимо кухни, в которой уже басила одна из Прокофьевых: «Ну, когда же закипит этот чертов чайник…»
Закрыв на задвижку дверь, Михаил вынул книгу из мешка. Размером она была чуть больше тетради и толщины небольшой, но очень уж увесиста для такого формата. На кожаном переплете выбито тиснение в форме круглой печати размером с блюдце. От печати расходились зубчатые лучи. Страницы плотной и на удивление хорошо сохранившейся бумаги густо покрывали буквы ржаво-коричневого цвета. На какое-то мгновение ему пришла в голову мысль, что это и не бумага вовсе, а материал совершенно непонятного происхождения – слишком уж гладким и белым казался. Прочесть ничего не удалось – язык книги был непонятен. В корешке переплета он заметил тонкую палочку на шнурке, вроде огрызка карандаша. Времени особо разглядывать не осталось – с минуты на минуту мог появиться Шурик. То, что они сейчас поедут на стройку, решено железно: если его фонарь найдут, лишних вопросов не избежать.
На объекте люди с утра обсуждали внештатную ситуацию: экскаваторщик Макарыч заметил в котловане нору, думал, зверь какой прорыл, но похоже, человеческих рук это дело. Пройти внутрь невозможно – все завалено.
Михаил спустился в котлован и подошел к подземному ходу, который этой ночью мог стать его могилой. Еще раз выслушав от Макарыча историю обнаружения дыры, он подумал, что самое правильное решение – остановить стройку и рапортовать наверх, добиваясь повторной ландшафтной экспертизы. Но прежде надо все вокруг осмотреть, нет ли где фонаря.
Макарыч сел в кабину экскаватора и дал задний ход, чтобы отогнать машину от края котлована. В голове Михаила пронеслось: «Если там, внизу, своды обрушились, то сейчас все провалится под землю – и люди, и техника. Надо срочно всем отойти подальше, а лучше вообще уйти с объекта». Но времени додумать, а тем более отдать распоряжение не оказалось. Экскаватор уже начал заваливаться задом в пролом, открывшийся в метре от Михаила. Люди с криками и руганью стали отбегать, а Макарыч изо всех сил пытался удержать технику, скребя ковшом по земле. «Бросай к черту, прыгай!» – закричал Михаил, но экскаваторщика как парализовало – он вцепился в рычаги и выпученными глазами смотрел на уходящую из-под гусениц землю. Михаил вскочил на дверцу машины и, обхватив Макарыча, тряхнул хорошенько, чтобы вывести из ступора. Оба выпрыгнули в последний момент, когда экскаватор с грохотом провалился в котлован, застряв в дыре боком. Главный инженер строительства и парторг стояли с вытянутыми лицами, понимая, чем это может для них обернуться. Цех должен заработать ко дню рождения основателя Московского метрополитена товарища Кагановича, а срыв сроков будет расценен как саботаж.
Первое, что пришло в голову Михаилу: если бы этой ночью он не полез под землю и своей неосторожностью не вызвал разрушение каменного свода, то аварии можно было избежать. Значит, во всем его вина. Но главное – Макарыч жив и есть очевидное подтверждение того, что продолжать тут строительство нельзя, а фонарик его уже вряд ли кто найдет в этом месиве. Жаль только, что тайный ход, скорее всего, просто замуруют, даже не выяснив, куда он ведет. Сейчас он поедет в Наркомстрой и будет настаивать на проведении археологических раскопок.
Бессонная ночь дала о себе знать. Весь день Михаил ходил как пришибленный, а вечером еле дошел до кровати. Свалился в нее и заснул как убитый, напрочь забыв о своих планах полистать найденную книгу.
Ближе к рассвету он проснулся от приснившегося кошмара. Во сне, проваливаясь под землю, он никак не мог зацепиться за острые камни, которые под пальцами превращались в громадных пауков. Их насылала на него старуха в черном монашеском одеянии. Старуха в гневе вздымала руки к небу, разевая рот, но в страшном грохоте камнепада слов было не разобрать.
Пытаясь отогнать от себя сон, Михаил встал и, напившись воды из графина, вернулся в постель, задев этажерку в полумраке. Сразу вспомнил, что вчера оставил книгу на полке. Отругав себя за потерю бдительности, он опять поднялся с кровати: соседям можно доверять, но времена настали поганые, даже самые крепкие люди ломаются. Спать расхотелось. Вынув книгу, он отметил, что на ней ни царапины, хотя попала под камнепад.
Крепкую, однако, кожу делали, подумал он, а вот когда делали, догадаться не смог. Тут знаток нужен, ученый. То, что книга древняя, это понятно. Похоже, рукописная, значит, появилась еще до середины XVI века. Но и тут уверенности на все сто нет: даже с изобретением книгопечатания монахи продолжали переписывать священные тексты от руки, это у них было вроде послушания. А вдруг она из библиотеки Ивана Грозного, которая, если верить легенде, прячется где-то под землей до сих пор? Надо бы покумекать, как специалистам показать, не вызвав подозрения. И что, интересно, означают эти сплошные закорюки, а палочка на шнурке в книгу зачем вложена? Дивная такая палочка – вроде как из кости, а может, и из металла. На стрелку часов похожа, только вся сплошь значками покрыта, вроде тех, что в книге.
Михаил вертел в руках странный предмет и чуть было не выронил из рук, когда острый наконечник в форме треугольника неожиданно отогнулся, открыв полое пространство внутри. Он потряс палочку над столом – ничего оттуда не выпало. Вернув наконечник на место, Михаил решил, что завтра же пойдет в Исторический музей и покажет находку, объяснив, что нашел ее, копаясь в огороде на даче.
Назавтра был выходной, но музей по воскресеньям работал. Бреясь, Михаил удивился, что на лице нет ни царапины после всех этих злоключений. Рассматривая себя в зеркале, он заметил, что все больше становится похожим на отца. На худом лице – их фамильный «дворянский» нос: небольшая горбинка и чуть «уточкой» на конце. Он надел костюм, макинтош и фетровую шляпу. Когда выходил из квартиры, напоролся на одну из сестер Прокофьевых. Та оглядела его со всех сторон и осталась довольна. Тайком перекрестила и пошаркала в кухню, решив, что идет он по важному делу: на свидание либо с дамой, либо – с высоким начальством, и осенить на дорожку не помешает.
Михаил добрался до Красной площади и зашел в Исторический музей с парадного входа. Там экскурсовод, молодая бойкая девушка, заканчивая экскурсию, отвечала на вопросы. Они, видимо, касались иконы, на которой был изображен паровоз. Экскурсовод объясняла, что икона написана в честь избавления Александра III и его семьи от смерти в железнодорожной катастрофе 17 октября 1888 года на станции Борки.
– Заметьте, – звонко комментировала она, – царская семья вся выжила, а среди обычных людей было много жертв. На иконе изображены только святые – покровители царской семьи, а где те, кто прислуживал царю и погиб, почему их нет? Мы знаем теперь, что поклонение иконам – суеверие. Раньше считалось, что икона может охранять и спасать. Великая Октябрьская социалистическая революция доказала, что все это мракобесие и сказки. Никакая икона не способна уберечь от чего бы то ни было, поскольку это просто доска с нанесенными на нее красками. И как мы прекрасно знаем, Романовым иконы не помогли – пусть в железнодорожной катастрофе они не погибли, зато революция смела их с лица земли.
Михаил решил, что к звонкоголосой девушке ему подходить не хочется. Он поискал глазами служебный вход, а потом решил, что самым правильным будет узнать у вахтера, как поступают в случае находки предмета, имеющего, возможно, историческую ценность, а также к кому обратиться с таким вопросом.
Пожилой вахтер сдвинул на лоб очки, не дочитав передовицу в «Правде», и поднял глаза:
– Вам чего, товарищ?
– Я тут книгу принес, старинную. Хочу узнать, представляет ли она историческую ценность.
– Так вам к Настасье Николаевне надо.
– Как бы ее отыскать, не поможете?
– Дык, это дело серьезное, – важно ответил вахтер, вернул очки на нос, вдел ноги в подшитые серые валенки и поднял трубку большого черного аппарата: – Алё, Анастасия Николаевна, тут к вам гражданин с какой-то книгой старой. Пустить? Ага. Проходите, товарищ. Вот тута на второй этаж, а потом налево и по коридору до конца. – Старик, кряхтя, встал, чтобы показать куда идти.
В самом конце коридора дверь была открыта. Комната с большим столом посредине и множеством книг освещалась настольной лампой под абажуром. У стеллажа, спиной к двери, стояла миниатюрная женщина с русой косой, уложенной вокруг головы. Эта коса… Сердце Михаила ухнуло вниз: точь-в-точь как у его Марии, да и фигурой покойную жену напоминает. Женщина повернулась, и оказалось, что внешне она совсем не похожа на круглолицую, румяную Машу. На утонченном лице не было красок. Открытый высокий лоб, словно выточенный из слоновой кости, бледные щеки. Живыми казались только бирюзовые глаза, внимательно смотрящие из-под густых темных ресниц. «Такая понравилась бы матери», – подумал Михаил и удивился своим глупым мыслям. Но породу в этой женщине не заметить было трудно.
– Здравствуйте, я к вам. Вот, хотел проконсультироваться, Анастасия Николаевна. Нашел, знаете ли, на чердаке книгу среди хлама всякого дачного, – почему-то соврал он совсем не так, как собирался.
Она бережно приняла сверток и, положив на стол, развернула бумагу. Михаил наблюдал за ее реакцией. Природа наделила эту женщину тонкими, красивыми пальцами; они застыли на мгновение и явственно дрогнули в тот момент, когда книга предстала перед ее взором. Заметив палочку на шнурке, вложенную в корешок, она быстро захлопнула книгу. Волнуясь, завернула ее в бумагу и отдала Михаилу. А потом, отведя глаза, быстро проговорила:
– Находка ваша, товарищ, никакой исторической ценности не представляет. У нас весь подвал забит подобными книгами. Все это пережитки прошлого, религиозные тексты. Заберите, пожалуйста.
Михаил заметил, что она смотрит мимо него, куда-то в угол комнаты. Приглядевшись, он обнаружил, что в комнате они не одни: полная женщина в нарукавниках, ухватив с десяток книг, тащила тяжелую стопку к двери. Наконец она толкнула плечом дверь и вышла.
Анастасия Николаевна внимательно посмотрела Михаилу в глаза и, заметно нервничая, прошептала:
– Простите, если обижу, но вы сказали неправду. Вы никак не могли найти эту книгу на чердаке. Вы чего-то боитесь?
– Мне показалось, – улыбнулся Михаил, – что боитесь как раз вы.
– Возможно, но и у вас есть на то основания. Может, это покажется странным, но я вам верю именно потому, что вы врете.
Дверь за спиной Михаила распахнулась, и женщина в нарукавниках опять появилась в комнате.
Анастасия Николаевна поднесла палец к губам, вырвала из настольного календаря листок и стала торопливо писать каллиграфическим почерком. «Книгу никому не показывайте! Очень вас прошу, подойдите вечером в шесть к служебному входу», – прочел Михаил и понимающе кивнул, после чего она смяла записку и сунула ее в карман.
Весь день Михаил боялся опоздать к назначенному часу. Он успел смотаться в Наркомстрой и проверить всю документацию по строительству цеха. В папке была записка одного известного ученого-археолога о подземных сооружениях времен Ивана Грозного, предположительно находящихся в непосредственной близости от выбранного места, но, несмотря на это, строительство не перенесли. Виноваты были все – сверху донизу. Кроме Михаила Александровича: его назначили уполномоченным уже тогда, когда строительство началось, – а вот остальным явно не поздоровится. Теперь задача не из легких – как можно скорее провести повторные геологические и археологические экспертизы и развернуть стройку в другом месте.
Его служебная «эмка» подъехала к музею за минуту до назначенного времени. Ровно в шесть Анастасия Николаевна вышла из музея. Михаил не успел отпустить Шурика. Увидев «эмку», женщина вжалась в стену и застыла. Михаил, заметив это, галантно распахнул перед ней дверцу, но его новая знакомая не двинулась с места.
– Может, пройдемся пешком? – спросила она.
– С превеликим удовольствием, – ответил Михаил и отпустил водителя, предупредив, что завтра, как обычно – по расписанию. Захватив из машины портфель, он вопросительно посмотрел в уже не такие испуганные глаза.
– Мне показалось, Анастасия Николаевна, что вы испугались Шурика, – улыбнулся Михаил, – это так?
– Да нет, вы ошибаетесь, просто… не имеет значения… Нам надо где-то присесть, хочу кое-что вам показать. Книга при вас?
Михаил потряс портфелем и предложил зайти в ресторан поужинать.
– Нет, там полно народу, – отказалась она, – давайте в парк, пока не стемнело. Посидим на скамейке, подальше от ненужных глаз. Пока будем идти, я вам постараюсь кое-что объяснить, хотя бы свое поведение. Не знаю почему, но я вам доверяю.
– Потому что вру? Вы ведь так сказали сегодня днем в кабинете.
– Эта книга не могла нигде оказаться, кроме того места, где вы ее нашли.
– Может, вы знаете это место?
– Догадываюсь либо могу предположить. По крайней мере, мой научный руководитель это знал.
– Почему тогда не нашел?
– Его арестовали. Год назад, а у меня есть документальные доказательства его гипотезы. Давайте свернем сюда – так мы выйдем к бульварам.
* * *
Осень в этом году выдалась просто замечательная: теплая, нарядная. Листья, впитавшие солнце, не торопились упасть, постепенно отдавая свет и солнечное тепло.
Они немного прошлись по аллее и, найдя свободную скамью, присели.
– Простите, я даже не знаю вашего имени, – смутилась Анастасия Николаевна.
Михаил встал, приподнял шляпу и представился полным именем и фамилией, назвал и должность. Она опять очень внимательно и прямо посмотрела ему в глаза, и в этот момент ему вдруг захотелось исправить сказанное и назвать свое настоящее имя, но он отогнал эту бредовую мысль.
– Я так и думала: Мытищи, село Тайнинское, строительство…
– Не томите, Анастасия Николаевна, что такого особенного в этой книге, кроме того, что, судя по всему, она действительно очень древняя.
– Мне бы хотелось взглянуть на нее еще раз. После того как я вам открою тайну, с ней связанную, обещайте, что вы мне ее дадите на пару дней.
– Ну, разумеется, если только это не государственная тайна, – улыбнулся Михаил.
– Дело в том, что я сама не до конца понимаю ее значение. Книга впервые упомянута в письме, датированном 1631 годом. Письмо со мной.
Она вынула обычный тетрадный листок в клеточку, исписанный старинной вязью.
Михаил удивился:
– Что-то больно современно выглядит ваше послание.
– Я скопировала буква в букву. Там многие места повреждены и полно неясностей, но суть прочитывается. Письмо инокини Марфы, матери царя Михаила Федоровича, первого Романова на российском престоле. Написано перед смертью. Из текста ясно, что она кается в своих грехах, один из которых связан с книгой. Вы готовы?
Михаил кивнул и развернулся всем корпусом к своей собеседнице. И в который уже раз поймал себя на мысли, что не может не любоваться этой женщиной. Маленький кленовый листок с красной каймой слетел на ее русую макушку. Михаил хотел его снять, но побоялся прикоснуться к ее волосам, к толстой косе, засиявшей вдруг золотом в закатном солнце.
– Тогда слушайте, я вам сразу со старославянского переводить буду: «Мы, матушка-государыня Марфа, находясь в светлой памяти, решили покаяться перед смертью. Грех великий совершивши, несли тяжесть оного всю свою жизнь. Сын мой и Государь всея Руси, Михаил, прости и помилуй! Находясь в Макарьево-Унженской обители и молясь святому угоднику и чудотворцу Макарию о вызволении из плена мужа моего и отца твоего, патриарха Московского Филарета, на четвертый день поста, в день первый второго лунного месяца, было мне видение. Предстала передо мною Пресвятая Богородица с иконы Федоровской и говорила со мной…»
Анастасия Николаевна качнула головой.
– Тут далее в тексте провал из-за повреждений, но это буквально несколько предложений, а по смыслу выходит, что Богородица дала наказ ей об этой книге. Предположительно, той самой, которая сейчас лежит у вас в портфеле.
Михаил опустил глаза на скучный, пыльный портфель, стоящий рядом, и у него возникло чувство абсурдности происходящего.
– Дальше в письме: «…и заповедала хранить книгу эту, отданную роду Романовых, во славу и силу земли Русской на веки вечные. И пусть будет наречена жена каждого Михаила в роду царском Анастасией, яко звали жену царя Ивана, коей была дарована книга эта за доброту ея…».
Анастасия Николаевна подняла на Михаила глаза и впервые за этот день улыбнулась ему, да так хорошо, тепло.
– Тезка моя, Анастасия. Имя это означает «воскресшая». В письме очень интересный намек, вы поняли? Ведь получается, что книгой сначала владела первая жена Ивана Грозного – Анастасия, которую очень любил царь, да и народ тоже. Она одна могла усмирять тяжелый нрав Ивана. А дальше текст все запутанней и запутанней, и повреждений много. Почему-то книгу надо передавать от Михаила к Михаилу. Предполагалось, наверное, что каждого наследника на престол следует венчать на царство именем Михаил, а его жену, как бы ее ни звали, нарекать Анастасией и отдавать ей на хранение стило.
– Как вы сказали, Настенька? Ой, простите, Анастасия Николаевна, очень уж захотелось вас так назвать, не обижайтесь. Стило – та палочка, которая в корешке книги запрятана? Ведь, как я понимаю, им царапали по бересте или глине, чтобы записи делать, но ведь книга уже написана. Зачем тогда оно?
– Самой хотелось бы знать. Дальше в письме есть упоминание о нем. Сейчас дочитаю. «Книгу, как Богородица завещала, я отдала тебе, сын наш, царь Михаил, а стило отдано мной было девице Марии Хлоповой, которая по сердцу тебе пришлась и выбрана была нами в жены царские. Однако затмение нашло на меня. И, будучи не в ясном уме, учинила я гонения на Марию, ибо обманута была людьми бесчестными…» Тут опять провал в тексте большой, но я вам, если хотите, всю историю царя Михаила и девицы Хлоповой расскажу. Очень романтичная и печальная история…
Анастасия Николаевна задумалась, глядя перед собой.
– Конечно, хочу, – ответил Михаил, – но объясните, в чем кается Марфа в этом письме? И почему эта книга оказалась замурованной в подземелье?
– Давайте я дочитаю до конца. – Анастасия нахмурила лоб и продолжила: – «Отравлена и оклеветана была твоя невеста Мария Хлопова, нареченная Анастасией, а после сослана по воле моей в Тобольск. А после было мне другое видение Богородицы – корила Она меня за грех великий, что совершила по глупости сердца материнского, ради прихоти своей, супротив невесты твоей любимой. И завещала Царица Небесная, что Романовы – последние цари на Руси, и мученическая смерть их ждет, и долгая смута настанет, доколе не будет обретена книга вновь и читана, как подобает, и тайна великая откроется…» Дальше опять не ясно, – вздохнула Анастасия, – текст уничтожен временем, но иногда проскакивают обрывки фраз о каком-то старце, пришедшем из тех земель, куда была сослана Хлопова, и о том, что в руках его будет царский знак. Есть еще слова о «чаде непорочном – царе всех царей», которому суждено книгу прочесть. Похоже, Марфа испугалась, что книга попадет в руки заговорщиков и они посадят на престол Романовых непонятно откуда взявшееся «чадо», судя по всему, очень грамотное. Как ни странно, ни Марфа, ни царь Михаил по какой-то причине не прочли в книге ни строчки.
– Понимаю почему, – усмехнулся Михаил, – вы сами увидите. Буквы странные, не похожие ни на один известный мне алфавит. Я, правда, не знаток, возможно, это язык древний. А что ваш профессор думал обо всем этом?
– Он говорил, что обретение этой книги подобно открытию Гипербореи, и был уверен – в книге есть ответы на самые важные вопросы о судьбе России. Кроме этого, предполагал, что ссылка невесты царя в Тобольск, а потом в Верхотурье предопределила появление того самого «старца». Вы понимаете, о ком идет речь?
– Если честно, теряюсь в догадках.
– Все очень просто – это Григорий Распутин. Он, словно пуповиной, был связан с Верхотурьем. Сначала провел в обители два года, а потом наведывался туда как заговоренный. Профессор установил некую связь между Марией Хлоповой и Распутиным. Их жизни разделяют почти три века, но намек в письме очевиден – место ссылки Хлоповой стало местом обретения силы загадочным старцем. Догадка привела моего учителя в Верхотурский Николаевский монастырь, и там он получил подтверждение своей гипотезы: в некоторых летописях упоминалось стило, которым недолго владела царская невеста. На нем якобы был изображен знак царской власти. По описаниям, найденным профессором в монастырских книгах, этот «царский знак» был лигатурой – сплетением букв М и А, причем очень необычным способом. Представьте, что центральный конус буквы М перечеркнут посредине чертой.
Анастасия Николаевна что-то нарисовала в уголке тетрадного листка и протянула лист Михаилу.
– Если перевернуть изображение, то получается, что внутри буквы М заключена буква А, – объяснила она. – Так Мария Хлопова иногда подписывала письма, адресованные царю Михаилу. И вот тут – самое интересное. Говорят, что полуграмотный Григорий Распутин во время исцеления страждущих будто бы чертил в воздухе странный знак, напоминавший перечеркнутую М. Откуда он о нем знал? Что за этим стоит? Ведь до сих пор непонятно, из какого источника он черпал свою нечеловеческую силу, отчего вдруг сыграл такую роковую роль в истории России. Профессор предполагал, что, странствуя по свету, Григорий мог слышать легенды о книге, дающей власть, и о «царском знаке», который был с нею связан. Скорее всего, Распутин не случайно оказался в тех местах, где когда-то Хлопова отбывала ссылку. – Анастасия перевела дыхание, словно припомнив что-то: – Извините, я обещала вам рассказать про то, как Марфа разрушила брак царя Михаила и Марии Хлоповой, но, может быть, вам это не интересно?
– Ну что вы! Поверьте, мне хорошо известна ситуация, когда мать не принимает будущую невестку. За что Марфа ее невзлюбила?
– Родня Салтыковых поработала, а потом дело дошло до ультиматума: «Или я, или она – обе в одном царстве не уживемся». Прямо как на одной коммунальной кухне… А представьте, что книга и стило действительно могли стать охранной грамотой романовского рода, а Марфа по бабской дури и злобе все нарушила. Во всяком случае, сыну и его невесте столько горя принесла. Она любовь убила, а там, где убивают любовь, ничего хорошего не вырастет. Там пустота и, если хотите, смерть.
Михаил попросил разрешения закурить. Анастасия Николаевна не возражала. Она украдкой рассматривала его. Подумала почему-то: рядом сидит аристократ, который маскируется под пролетария. Красив, благороден и, скорее всего, счастливо женат.
Он смял папиросу, так и не закурив:
– Анастасия Николаевна!
– Можно просто Настя.
– Спасибо! Если вы не спешите, расскажите мне про них прямо сейчас. Сегодня ночью, после того как книгу нашел, приснилась мне старая монахиня. Была она одета во все черное, что-то зло вещала, но слов во сне было не разобрать. Странно это.
– Я не спешу. Муж в отъезде, детей у меня нет, и отец мой пока не со мной. Никто меня дома не ждет.
– Вы замужем? – Вопрос Михаила прозвучал несколько более разочарованно, чем следовало.
– Два года как. А вы разве не торопитесь к жене?
– Овдовел пять лет назад.
– Простите. Тогда, если нам спешить некуда, слушайте. Но учтите, это долгая история.
Глава вторая
Марфа отходила. Уже месяц не вставала она с постели, а последние три дня отказывалась от еды и лишь пила воду со святых мощей, изредка и помалу. Приказала священника позвать для последней исповеди, а остальную челядь услала вон. Тот явился ни свет ни заря, но она уже не спала, находясь между явью и мороком которые сутки.
– Холодно мне, как холодно. Велите еще одеял и топите печи. Почему не топлено?!
– Топим, матушка государыня. День и ночь топим!
В почивальне стоял сухой жар, как в бане, но царица мерзла. Доктор говорил, что это от того, что не бежит у ней кровь по телу, отходит она…
Марфа открыла глаза и, узрев духовника, обратилась к нему:
– Во имя Господа нашего, Иисуса Христа, прими исповедь мою. Случилось мне видение, когда перед святым угодником, чудотворцем Макарием молилась о вызволении супруга моего Филарета из плена. Постилась, как подобает, и в день оный ничего, кроме воды, не принимала. Явилась мне Богородица и говорила со мной, батюшка. Долго говорила, а видела ее, как тебя. Только спервоначалу яркий свет посреди ночи разлился в келье моей… И обещала я все исполнить по воле ее. Но…
Марфа вздохнула тяжко и замолчала надолго. А священник терпеливо ждал, покуда она вновь соберется с силами говорить.
– Грешна я, батюшка, тем, что не сдержала обет, данный мною Богородице. Нет мне прощения! За то и гореть мне на вечном огне в геенне огненной, что я волю свою выше Божеской поставила, – в том и грешна…
Она замолчала, а потом начала говорить шепотом, скороговорками, непонятностями:
– Опять ты, Мария, уйди, не мучай. Зачем пришла? Я сына берегла от супостатов! Не было у тебя детей, не знаешь, каково это! Не плачь. Знаю, что по моей вине бездетна осталась, прости. Мне за это перед Богородицей ответ держать. Страшно!
Марфа завыла по-звериному, заметалась на подушках.
Духовник ждал, не зная, что делать дальше, здесь ли еще Марфа или в видениях своих пребывает. Но вот затихла она, и он, продолжив молитву, заметил, как лицо ее разгладилось, а дыхание стало легким.
И услышала Марфа в тот миг пение ангелов. Светло вокруг стало, и вновь пережила она всё: детство свое и юность; сватовство Федора и замужество; рождение детей, гонения и заточения многие; возвращение в Москву и венчание Михаила на царство – мельком все это пробежало перед взором ее. Но в голове вдруг музыка загремела, скоморохи в ярких колпаках в дудки свои заиграли. Вот оно, праздник скоро! Сына пора сватать!
В тот год исполнилось Михаилу двадцать. Был он хорош собой и царствовал уже четыре года как, но оставался мягок сердцем и характером нестоек. Тревожилась Марфа, ночами не спала: пора найти сыну невесту, дабы через наследника престол укрепить. Хотелось праздник устроить, большой праздник на Руси. Негоже молодому мужчине далее одному оставаться. А о здоровье сына кому, кроме матери, подумать? Но столько всего пережито было, что и о другой стороне все чаще задумывалась Марфа, не смыкая ночами глаз: так бы исхитриться женить Мишу, чтобы не было ему козней от бояр и дворян, к трону приближенных, и новые родственники не стяжателями были бы, а людьми честными и богобоязненными. Все кругом власти да денег хотят, а хочется всю власть сыну родному: чтоб страну в кулак собрал и чтоб сильней той страны на свете не было! Да ведь слаб он характером. Какой там кулак? Нет, самой придется все строить и самой опору средь верных людей искать!
На сей раз аж задохнулась Марфа от мыслей своих и девушку кликнула воды испить.
И вот уже гонцы с грамотами по всем русским городам-весям заспешили. Было в тех грамотах повеление высшее: девок возрастом старше шестнадцати лет дома не прятать, а на смотр наместникам везти. Всех – богатых и знатных, и тех, что пусть не богаты, но собой хороши. И чтоб росту были высокого, и чтоб голова невелика, а ладони и стопы малы и не широки. И чтоб в семье была не единственным чадом, но одним из многих, что о плодоносном чреве свидетельствует.
Повалил народ из деревень и городов малых да великих, и везли дев множество, одна другой краше. А наместник своим взглядом строгим отбирал из них лучших да в столицу отправлял с родителями. В Москве смотр учиняли уже бояре, отобрали из всех пятьдесят самых красивых. А потом представили матушке Марфе, и та на свой вкус выбрала с полдюжины. Хитра была Марфа: всем девицам, вроде как с дороги да с устатку, баньку устроила. Не простую баньку – царскую. А царская банька с мыльней не токмо велика: была там комнатка секретная, в ней окошко проделано, из мыльни невидное, а ключ у Марфы одной, и более ни у кого такого ключа не было.
Как баньку затопили, пошли девы мыться. А Марфа укрылась в той комнатенке и глядеть стала, нет ли у какой из них неправильности в теле, изъяна какого. А девы о том не ведали, и потому смущения в них не было.
Вышла из комнаты Марфа довольная, улыбается. Вперед холодно было в бане, и туман все окошко застил, а как нагрелось, то увидела, что все хороши, все пригожи: и косы до полу, и тело белое да чистое у каждой, аж глаза разбегаются! Но одна среди всех более других приглянулась – взгляд ласковый да кроткий, и статная, и осанистая, будто царицей родилась!
То и была Мария Хлопова. Привел ее дядька, Гаврила Васильевич. Были они из московских дворян, что сама Марфа приблизила за верное служение. Марфе это по душе пришлось, что свои, не пришлые. Да и девица хороша: высока, стройна, и не худа, но и не распирает тело безмерно. Ладони и стопы узкие, а бедра, напротив, широкие, в родах подспорье.
Вот Марию и еще пятерых девушек Марфа отправила после баньки в верхние палаты царские: пожить-погостить. Ночью же, когда они уснули, пошел к ним в опочивальни сам Михаил. А натопили в тот день сильно, чтобы не укрывались девицы и спали в рубашках только; да и Марфа хитрая: каждой по дорогой, тонкого полотна рубашке подарила! Рубашки прозрачные почти, все тело видно.
Ходит Михаил, вглядывается, и все ему хороши кажутся! Трудное это дело – невесту выбирать, царицу будущую! И эта хороша, и та пригожа. Но как в самую дальнюю комнату заглянул, тут сердце его сразу в пятки и прыгнуло! Вот она, моя нареченная! Хоть и не по правилам было, но оставил он подле нее розан – цветок невиданный, заморский. Полюбилась ему Мария Хлопова: сама была, как тот цветок, свежа и хороша!
Вспомнил вдруг Михаил, где видел ее ранее. Был он ребенком в ссылке далекой, с матушкой вместе. Там играл с хохотушкой Марьюшкой. С гор с ней катались, в лес за грибами-ягодами ходили. Не было у него подружки лучше. Вспомнил и то, что она охранника царского, Гаврилы Васильевича Хлопова, племянница. Нет, не бывать для него другой жены! Потому и розу подле нее оставил.
А девушкам меж тем в другой день объявили, что будет в воскресенье главный смотр устроен – царский – и чтоб надели они лучшие наряды свои.
Мария, как увидела царя, так тоже сразу вспомнила дружка своего по играм детским. Улыбнулась, глянула озорно, и больше уж ни на кого Михаил смотреть не стал. Отдал ей, как принято, платок да кольцо обручальное. Тут государыня Марфа возрадовалась, что они с сыном одного хотят и одинаково выбрали!
На другой день позвала Марфа к себе сына и невестку будущую. Заперлась с ними в почивальне своей и речи повела странные:
– Сделали мы выбор свой, и я, и Михайла. Совпал тот выбор. Люба ты нам обоим! Да только непросто царской женой быть. На троне сидеть да наряды богатые носить каждая может, а быть царю поддержкой и утешительницей, другом верным – то долг тяжкий. И коли родня твоя одного хочет, а муж – другого, то он решать должен, а ты его воле всякий раз послушна должна быть.
Строго говорила Марфа, и Мария зарделась от слов тех. Голову повесив, молчала, не знала, что ответить.
– Поди-ка сюда.
Марфа подошла к большому резному ларцу, стоящему на столе, и вынула оттуда книгу в толстых обложках. Извлекла из корешка палочку серую на кожаном шнурке и, подойдя к Марии, на шею надела:
– Вот, Мария, храни и не снимай никогда стило это. И в Господних чертогах то стило будет историю вашего с Михаилом счастья писать во славу земли Русской, доколе на себе носить его станешь! И тебе, сын мой, наказ даю: книгу эту никогда не отдаляй от себя, всюду с собой вози и храни. А назавтра объявим волю свою: Анастасией невесту твою наречем, в честь жены царя Ивана. Теперь же ступайте, устала я, отдохнуть хочу.
Мария вышла из почивальни сама не своя. Странный маленький предмет на шнурке спрятала поглубже, чтоб никто не видел. Красоты в нем особой не было, но теплый был и свербел под пальцами, как живая букашка, коли в кулак сожмешь, поймавши. Глянула на Михаила и, прежде чем успела коснуться пальцами его руки, уведена была мамками да няньками в светелку, где жила.
«Негоже до свадьбы близко к милому стоять», – вспомнила слова бабулины.
Той же ночью подле свечи стала Мария разглядывать затейливую, шершавую на ощупь палочку. Знаки дивные, на жучков похожие, покрывали ее от острия до ушка, в которое был шнурок вдет. На буквы похожи, только непонятные. Одна, самая большая буквица, что ближе к острию, особо приглянулась Марии. Словно кто «Мыслете» и «Аз» начертал как одно целое. Улыбнулась думке своей: «Крещена Марией, а стану Анастасией. А может… ну, конечно же! “М” – это Михаил! Сие знамение того, что царь Михаил и царица Анастасия едины, как буква эта. Славно то как!» Никому не сказав про мысли свои, срисовала буквицу странную на крохотный кусочек бересты и спрятала на груди.
Наутро Марфа вновь вызвала Марию, чтобы одарить девушку ожерельем жемчужным, необычным. Не то что наш речной жемчуг, мелкий да невзрачный. Ожерелье то было из заморского розового жемчуга – крупного, как смородины. Одна жемчужина к одной – хороши да ярки, как на подбор. Но как надевать ожерелье на невесту стали, так оно и рассыпалось, раскатились жемчужины по всей горнице. Озлилась Марфа и повелела тот жемчуг выкинуть – мол, примета плоха. И почали бусинки собирать все девушки сенные, все прислужницы, кому больше всех достанется, ибо как же этакую красоту выбросить можно! Но Марфа прогнала всех до единой.
На другой день в главные царские терема Марию с мамой и бабушкой ввели. Обычай такой: которую девушку царь выберет, ту с молитвою нарекают царской невестой, или царевной, имя новое дают и в главные терема поселяют. С той поры крест ей должны целовать дворовые люди да в ектеньях упоминать. А имя дали ей Анастасия, в честь жены Ивана-царя.
Пришло время Анастасию-невесту народу показать. На то выбрали Троице-Сергиев монастырь. После заутрени воскресной под сладкий колокольный перезвон двинулись царские возки из Кремля: сама матушка Марфа с челядью, царь Михаил со свитою всей, бояре да дворяне, к царю приближенные, и нареченная царская невеста с родными. Великий поезд получился. А по всему пути были для них в больших селах шатры поставлены, горячие яства готовились, щи кислые наливали, взвары, меды, сладости да смоквы заморские, и печиво разное, чтоб с устатку поесть-попить и далее ехать. Путь-то неблизкий, поди, почти семь десятков верст, и по всему пути люд русский мог на царицу будущую глядеть, ибо ехала она в открытом возке.
Не было человека, кому не по нраву она пришлась. От красоты такой глаз отвести не могли. Однако не всем по сердцу выбор был такой. Была среди девушек, кто гостевал с другими невестами в верхних палатах, одна невыбранная – Екатериной звали, дальней родственницей братьям Салтыковым она приходилась. Те желали хитростью через нее, коли станет царицей, к Михаилу приблизиться. Но никто о том пока не знал и не ведал. Той ночью, что смотрины были, встала Екатерина воды испить: жарко натоплено в палатах, и воздух сух безмерно! Услышала, как государь уже вниз спускается, и увидела цветок подле Марии Хлоповой.
– Беги, Наташка, – послала она девушку свою сенную к дядьям. – Скажи как есть всю правду, что царь Хлопову царицей выбрал. Да нигде не останавливайся и ни с кем о том больше не говори, поняла?
Наташка, босая, потихоньку из палат выбралась, половица под ней нигде не скрипнула, да припустила к боярскому дому мухой! Насилу отдышалась в сенях и сразу, как было приказано, с докладом к дядьке Борису постучала. Он ей за то пятак подарил. А наутро братья стали совет держать:
– Слышь, Катька ночью девку свою прислала. Дело-то, поди, решенное с царской невестой! Чё делать будем?
– Решенное говоришь? А это мы еще посмотрим, какое оно решенное, – ответил старшой и хитро улыбнулся.
Приказали дядья Екатерине взять зелье, по две капли в воде растворять незаметно и опаивать тем питьем Марию Хлопову. От этого зелья живот у ней болью изойдет, и здоровью вред причинен будет сильный, а коли те капли долго пить, то и совсем человека извести можно! Да вот отослали Екатерину из Кремля домой на пятый день гостевания, не успела она великой беды натворить.
И все же стала невеста царская Анастасия животом маяться. Жаловалась бабушке своей:
– Ничего не ела, окромя хлеба, а тошнит, мочи нет! Что со мной, бабуля?
– Эх, Машенька, птенчик мой родный, не уберегла я тебя. Вот мы лекаря позовем, и все пройдет. Не тревожься, дочка, ты невеста царская названая, дальше все только хорошо будет. Ну, занеможила, с кем не случается?
Она гладила Марию по голове и баюкала, как дите малое, а сама думала: «Не к добру тот жемчуг рассыпался, будто слезы девичьи из глаз покатились, ох, не к добру… Лучше бы и не дарила его государыня Марфа».
Но говорят, даже у стен есть глаза и уши, а в кремлевских палатах и подавно. Слух пошел, что невеста нездорова. Михаилу о том доложили в тот же день. Он и послал бояр Салтыковых следить за докторами и помогать тем повсеместно, чем понадобится, и каждодневно к нему, царю, с докладом ходить.
Другой день, как доктора осмотрели Марию Хлопову, решила Марфа совет держать с братьями Салтыковыми. Кто ж еще ближе стоит, чем собственные племянники?
– Видать, не крепка царская невеста здоровьем. Хочу совет ваш слышать! Говори, Бориска, сначала ты, – приказала Марфа.
– Матушка государыня! Доктора говорят, не чадородна она через слабость свою, а какой с той невесты государству прок? К тому же дядька ее, Гаврила Васильевич, уж такую власть взял прежде времени, что и на место поставить не грех. Как бы не было престолу большой беды от этих Хлоповых. Не зря Господь на Марию болесть наслал, неспроста это. Что уж мы невесты государю-батюшке Михаилу не сыщем, чтоб здоровая и чтоб без подвоха какого?!
– Хорошо говорите, складно, и доверие я к вам имею, – кивнула Марфа. – Кому же мне верить, как не вам? Объявляйте завтра земский собор. И пусть вся родня ее там будет, на том соборе. Докторов еще раз строго расспросите сами, а мне про то потом доложите!
Созван был большой собор земский. На том соборе Гаврила Хлопов челом бил, что здорова была племянница его все годы, что ее знает. И шесть недель, что в палатах царских провела, тоже была здорова, а хворь с ней сделалась по причине сладкой еды, во множестве поставляемой, и доктор, мол, обещал, что болезнь лишь на время и чадородию не помеха.
Но следом выступили братья Салтыковы, в один голос заявив:
– Оба доктора допрошены. Невеста здоровьем непрочна.
Тут шум великий вышел промеж них и Гаврилой.
Последнее слово держала матушка Марфа, повелев завтра же девицу Хлопову из палат со всей родней отослать в Тобольск, с глаз долой, а отца ее на воеводство в Вологду, чтобы никого из ее рода на Москве не осталось, ибо обманом в доверие вошли и власть над Москвой тем обманом хотели заиметь.
– Сына моего здесь власть и другой не потерплю! – кричала она, разволновавшись после собора так сильно, что руки тряслись, а сердце тугим комом распирало грудь, не давая дышать…
– Лекаря велите позвать, – наконец тихим голосом повелела Марфа, – и Михайлу покличьте. Слово ему должна сказать материнское.
А Михаил после собора этого в таком расстройстве чувств пребывал, что искали его до ночи самой и насилу сыскали в дальних садах, чтобы к матери направить.
Как он вошел, Марфа приказала:
– Сядь подле, Михайла, руку мою возьми. Холодно рукам, мерзну я.
Он укрыл мать шелковым, подбитым соболями одеялом и сел рядом.
«Рука холодная, как лед, сухонькая, жилки все синие выступают, кожа, как пергамент, – подумал. – Бедная, как же она за меня сердцем мается! Жаль ее, и Марию жалко. Люблю их обоих. Как быть?»
– Сыночек! – Марфа, молча лежавшая, словно полумертвая, открыла наконец глаза и заговорила. – Знаю, по нраву тебе Мария Хлопова пришлась, и мне тоже поначалу славной показалась, но обманула нас ее родня, скрыла болезнь тяжкую, желая власть большую над нами захватить. Сам мог слышать, что на соборе творилось. И коли был бы ты простой человек, то сказала бы я тебе, поступай как знаешь, однако государство великое за тобой стоит, и ты за то государство в ответе перед Господом и всем православным миром. Смирись, Господь отвел от нас беду через хворобу невесты твоей! Не быть ей царицей!
– Люба она мне одна, и другую за себя не возьму! А коли по-моему не будет, то и не надобно мне другой в жены, не хочу! – ответил Михаил и заплакал, как дитё.
Он долго еще говорил ей, что неправда все, что здорова Мария была, доколе не попала в палаты, что отравили ее завистницы, что по сердцу ему пришлась очень, что знает ее с детских лет, и многое еще говорил, роняя горькие слезы на синий шелк одеяла, пока не заметил, что мать уснула и не слышит его…
На другой день ночью вызвана была ключница Марфы, коей доверяла та самые важные дела.
– Иди, Дарья, в палаты, где Хлоповы до поры живут. Вели Марии отдать то, что более ей не принадлежит. Пусть при тебе стило с шеи снимет. В шкатулку положишь и мне доставишь сразу!
В точности выполнила ключница все. А как стала матушка-инокиня проверять стило, то до того оно холодным ей показалось, будто в прорубь его опустили и держали там долго.
Как ни далеко отправили любимую Марию-Анастасию, а писал ей царь Михаил письма каждый день: что делал, какие цветы выписал из-за моря, про труды государственные тяжкие. Одно утешение – писать ей и представлять, что она рядом сидит и говорит с ним каждый день, за руки держит. Мария тоже писала и тоже каждый день, но письма не доходили ни ей, ни ему, потому как бояре Салтыковы крепко стояли на страже тому.
«Любый мой, – писала Мария, – инда забыл ты меня и не пишешь, а знаю я от родных, что нет у тебя жены до сих пор. Помнишь ли игры наши детские – как с гор катались, как напугал меня в лесу, за дерево спрятавшись? Поклялась, что буду верна тебе до гробовой доски. И если Господь решил испытать любовь мою, то любое испытание будет мне не пыткой, но счастьем. Ибо без тебя жизни мне нет. А цветок, тобой подаренный, храню – он сердцу одна отрада». И подпись: две буквы «М» и «А», слепленные воедино.
А от Михаила летело письмо: «Свет мой Марьюшка! Плохо мне одному. Ибо государственный долг свой исполняю, но нет подле близкого человека. Тревожусь одиночеством, и страхи меня посещают частые, что не свижусь уж с тобой никогда. Как в сад пойду, то птичку певчую, или цветок на заре открывшийся, или саму зарю раннюю – всё тебе показать хочу. Во снах тебя вижу часто, тогда счастливым проснусь, и тяжкие дела государственные становятся мне не в тягость…»
Так и маялись они душами в неведении, отчего ответа нет. А когда отец Михаила, патриарх Филарет, вернулся из плена и почестями встречен был, то имел беседу с сыном своим.
– Не верю, отче, что истинно было то, что Салтыковы доложили, – сетовал Михаил. – Оговорили Марию, дабы возвыситься в глазах Марфы и не дать никакой власти Хлоповым.
– Сынок! Женский ум изворотлив, да зачастую лукавством своим себя же в обман вводит, – успокаивал его Филарет. – Доверился ты матери, ибо другой опоры подле тебя не было. Велю завтра позвать Салтыковых да учиню допрос лекарям.
Дознался-таки Филарет, что очернили девушку и напраслину возвели. Хотел Михаил к Марье своей помчаться, но мать заявила: «Или я, или она! Не быть в Кремле обоим!» Не захотела признать себя одураченной, к тому же не по нраву ей было, что сын противится воле материнской, других невест не ищет, только Хлопову подавай. «Эдак, – думала она, – начнет невестушка сыном крутить, что песьим хвостом, а мне-то обиду не простит и супротив матери настроит. Решено, и все тут!»
Однажды после вечернего моления к Марфе пожаловал сын, а в руках его была книга заветная. Встал на колени и, склонив голову, сказал:
– Прости меня, государыня матушка! Греховен я был в помыслах моих, ибо чувства свои выше долга поставил. Велишь жениться – женюсь, ибо в Писании сказано: почитай отца и мать своих, – а я не почитал. Однако книгу эту забери от меня. Не ведаю, что в ней написано, но чувствую, что с каждым днем она тяжелее становится. Холодом от нее могильным веет. А давеча привиделся страшный сон, что передо мною яма глубокая, а в ней кости человечьи в кучу свалены, и знаю отчего-то, что это царь и царица, дочери их и отрок-наследник так захоронены, словно прокаженные, в могиле общей. Земля из-под ног уходит. Мария мне руку протягивает, но мочи нет за нее ухватиться. Падаю туда, а сверху плита могильная надвигается, и похожа она на книгу эту. Забери ее. Сними тяжесть с души моей. Знай, что покорился я воле твоей, но не разлюбил. Засылай сватов, пусть жену мне сватают. Которую выберешь, на той и женюсь. Мне теперь все равно…
Марфа вспомнила все это в последние моменты жизни своей, вспомнила и то, что книгу тогда приказала глубоко в землю спрятать. Затем легкость в ее теле настала необыкновенная: видела она себя теперь маленькой и худой, на ложе в большой темной палате, но взирала будто со стороны, сверху. Куда-то ушли тяжесть сердца и прочие болести. Суетились вокруг слуги и доктор, но было ей безразлично, будто не ее окружали, а чье-то чужое тело, до которого теперь ей не было никакого касательства. Испытывала она лишь радость, легкость и счастье. Вдруг показалось, что кто-то сильный подхватил ее под руки и вынес из темных палат на свет божий и что она, растворяясь в нем, сама постепенно становилась этим светом.
Михаил Александрович очнулся, как от сна. Анастасия Николаевна замолчала и удивленно посмотрела на собеседника:
– Михаил, вы меня слышите? Еще не заскучали?
– Да что вы! Я словно провалился во времени. Даже странно представить, как мало меняется человек. Свекровь на пустом месте может невзлюбить невестку – дело обычное. Курьез в том, что, если следовать логике покаянного письма, в результате это привело к падению царской династии. И кому такое в голову придет?
– Зло порождает зло и аукнется обязательно, даже через триста лет.
– Хочется верить во вселенскую справедливость, но иногда жизнь доказывает обратное.
– Темнеет, мне пора, – встала со скамейки Настя. – Вы обещали мне книгу.
– О да, конечно. Но, знаете, она довольно тяжелая. Давайте я вас провожу, донесу прямо до подъезда.
– Мне тут недалеко, но буду рада.
Солнце, проваливаясь за горизонт, зацепилось ненадолго за верхушки деревьев; они кроваво полыхнули и погасли. Михаил и Анастасия шли бульварами к Арба ту, топча листву, похожую на луковую шелуху, рассыпающуюся под ногами золотисто-коричневой трухой. Маленький листок с красной каемкой, застрявший в Настиных волосах, гипнотизировал Михаила – ему очень хотелось снять его и спрятать в карман украдкой, но даже при мысли о прикосновении к русым волосам бросило в жар. Воображение нарисовало идиллическую картину: уютная комната, вечереет, теплый свет торшера, а под ним на диване, поджав ноги, сидит она. Открывается дверь, и ее глаза, оторвавшись от книги, смотрят на него…
Стоп, на кого? К сожалению, не на меня, словно проснулся Михаил, а на мужа. Интересно, каков он? Расспрашивать неприлично. И так выгляжу дураком. Стыдно, что не удержался и расстроился, узнав, что она замужем. Думаю, муж намного старше ее. Во всяком случае, так хочется думать… Он, возможно, работник умственного труда. Идиотская фраза – «умственный труд», как будто бывает какой-то иной. Даже гвоздя не забьешь без мозгов! Наверняка он ее очень любит. Еще бы, такую не любить! А вот она – любит ли? Почему-то совсем она не похожа на счастливую женщину: смотрит в землю, хмурится, идет быстро.
– Вот мы и пришли. – Анастасия развернулась к нему так быстро, что они чуть не стукнулись носами.
Засмеялись, и он наконец решился:
– Анастасия Николаевна, разрешите. – И протянул руку к ее голове.
Она не отпрянула, отметив с удивлением легкое прикосновение его пальцев к своей макушке. С великой осторожностью, как пойманную бабочку, он извлек листок и положил себе в карман.
– Зачем он вам? – рассмеялась Настя.
– Пока не знаю. Буду на него дуть и вызывать ваш образ.
– Вы мистик?
– Я сказочник. Мне столько лет, а я не перестаю верить в чудеса. Сегодня получил миллион доказательств того, что они случаются. И представьте, поверил даже в волшебную силу таинственной книги.
– Давайте ее. Обещаю, что изучу от корки до корки, и мы в ближайшее время обязательно встретимся. Если не возражаете, я сама ее определю в музей. Что-нибудь придумаем, а то – чердак, дача… Несерьезно это. Могут быть большие неприятности.
– Да они и так будут.
– Кто-то еще знает об этой книге?
– Нет, только вы.
– Ну и хорошо.
– А когда я вас увижу опять и где?
– Давайте на той же скамейке, недели через три.
– Так долго!
– Я раньше никак с текстом не управлюсь. Вы же хотите узнать тайну?
– Тайну… конечно, но можно и без тайны, просто так встретиться.
Настя, спрятав за уголком воротника улыбку, перевела разговор на другую тему, вернув Михаила на землю:
– Вот мои окна, видите, на первом этаже. Здесь раньше кухня была для прислуги, а теперь наша квартира.
Она посмотрела на окна, и Михаил заметил, что взгляд ее помертвел. Счастливые жены так не смотрят на свой дом. Сердце радостно забилось: а вдруг она несчастлива в браке, мужа не любит, хочет уйти? Если бы это было так! Он неловко пожал протянутую руку. Рука была холодной и слабой.
Настя зашла в темноту подъезда. Три ступеньки вниз. Открыть ключом, он всегда в левом кармане. Но почему шинель Семена на вешалке? Как же это он без шинели, ведь холодно уже. Но хозяин шинели был тут же, в комнате, называемой им «залой». Он стоял у окна и гаденько скалился:
– Ну что, жена, не ожидала? С кем была? Только не ври – я видел. Кто такой? В шляпе, только что не в очках, антеллегент вонючий. Муж за порог, – Семен перешел на фальцет, – а она сразу к своему полюбовнику. Как мужа родного приласкать – так времени нет. Детей родить и то не можешь. На что ты годишься? Книжки свои сраные читать день и ночь? А в твоих книжках не написано, что мужа надо уважать? Того, который кормит и поит, шмотки тебе покупает. Который отца твоего, попа паршивого, от расстрела спас и шкурой своей рискует, чтобы ты, отродье поповское, на этапе не загнулась.
Семен покраснел от крика. Глаза его, казалось, обесцветились до белизны, а зрачки превратились в крохотные злые точки. Он замахнулся, чтобы ударить, но не посмел. Настя подняла голову и глянула на него презрительно:
– Еще раз тронешь или оскорбишь, уйду. Чем с тобой в одной кровати лежать, лучше всю жизнь на нарах.
Рука Семена опустилась, но пальцы сжались в кулак.
– Успеешь еще. Жрать давай, устал как собака: тридцать допросов за сутки.
Он выпил стопку водки, потом еще несколько под жареную картошку с луком и ушел спать в комнату, служившую когда-то кладовкой для хранения домашних заготовок в барском доме. Комната была без окна и считалась теперь спальней. В ней стоял затхлый дух Семенова перегара, отрыжки и носков. Настя проветривала каждый день, но мужний запах был стойкий, и ее крепко от него мутило. Почему она все это терпела? Да потому что боялась. Смертельно боялась этого маленького человека с колючими глазами.
Пять лет назад ее отца – протоиерея храма Успения Пресвятой Богородицы Иоанна Пермского – могли расстрелять за антисоветскую агитацию. Он был арестован по ложному обвинению в принадлежности к церковно-монархической организации, ставившей своей целью свержение советской власти и восстановление монархии. Семен был один из тех, кто вел это дело, и пообещал: «Пойдешь за меня, расстрела не будет». Согласилась. Отцу дали десять лет без права переписки и сослали на Соловки. «Главное, что жив!» – возносила молитвы Настя. Кроме отца, никого у нее не осталось: мать и младший брат умерли от тифа. Семен поначалу был ласков, приносил одежду красивую и вещички, даже золотые серьги как-то подарил. Она радовалась подаркам, пока однажды не догадалась, откуда все это. Шакалил Сема по арестантам – все, что не успевали по документам изъятия провести, в его карманах оседало. Она попросила больше не носить, потому как надевать это – грех великий. Семен покрутил пальцем у виска и носить не перестал, только прятал по углам.
Настя прибралась на кухне и, заслышав Семенов храп, прикрыла дверь в спальню. Настольная лампа выплеснула блюдце желтого света на сверток, лежащий на столе. Она отогнула края грубой коричневой бумаги, в которую была завернута книга, и чуть не потеряла сознание от волнения. Перед ней лежала та самая книга, которую последние годы искал учитель – профессор Сергей Никанорович Вяземцев. Теперь ясно, что он был прав – поиски действительно надо было вести у села Тайнинское, но ему не дали. Про тайну, в ней заключенную, говорил намеками, но утверждал, что это спасет Россию. Теперь Насте придется самой ее разгадать.
Она провела рукой по вытесненному на кожаном переплете рисунку, похожему на зубчатую круглую печать. Никак не могла понять, что это напоминает. Оглядевшись по сторонам, догадалась: конечно, салфетку, ту, что под вазу постелена. Когда-то сама крючком связала – белая, нарядная, как снежинка, и на книге такая же, но поменьше и тусклая.
Открыла книгу. Под твердой внутренней обложкой, скользкой на ощупь, были страницы из непонятного материала – плотного, как пергамент, но белого и гладкого. На свет они казались полупрозрачными и сплошь были покрыты буро-коричневыми буквами, издали похожими на жучков. Вглядываясь в них, Настя заметила, что многие из них ближе всего по написанию к лигатурам кириллицы и латиницы, а есть схожие с иероглифами.
Вынула из корешка стило. Разглядев на его поверхности буквы-жучки, такие же, как в книге, взяла лупу. Изучая их под увеличением, решила, что перед ней алфавит, поскольку ни один значок не повторялся, только вот какого языка – она не знала.
Был здесь и тот «царский знак» – соединение двух букв «М» и «А», о котором говорил профессор. Крупнее всех остальных, он бросался в глаза. Настя попыталась найти «царский знак» в тексте, но нигде не встретила, что было огорчительно, ведь, понимая значение одной буквы, можно было подобрать ключик к расшифровке всего языка.
Письменность, как в книге, она видела впервые, хотя долгое время занималась сравнительно-историческим языкознанием и могла довольно квалифицированно отнести текст к той или иной языковой группе. С момента появления теории Марра о классовой сущности языка и начала гонений на дореволюционную лингвистику профессор Вяземский перестал публиковать свои труды, окружив себя малочисленными учениками. Настя была лучшей студенткой. С ней одной он делился мыслями о таинственной книге. Профессор, заметив Настины уникальные способности, в шутку называл ее полиглотиком и примерно раз в месяц интересовался, каким новым языком она овладела на досуге. Смеясь, Настя честно признавалась, что месяц – маловато, а вот за полгода освоить новый язык – для нее это реально. В детстве она сама, без чьей-либо помощи, научилась читать по церковным книгам на старославянском, чем очень удивила отца-священника. Однажды она случайно сказала об этом профессору и сразу запнулась, испугавшись, что выдала себя.
– Успокойтесь, Анастасия Николаевна, – улыбнулся Вяземский. – Представьте, предметом гордости моих родителей долгое время был тот факт, что в двухлетнем возрасте я знал наизусть не только гимн «Боже, царя храни», но и длиннющее стихотворение Жуковского, из которого взяты эти шесть строк. Папа и мама частенько хвастались перед незнакомыми людьми моими уникальными способностями. Я им напоминал, что «Боже, царя храни» – не лучший пример правильного воспитания, но они все время забывали об этом. Слава богу, умерли своей смертью.
Настя сама не заметила, как задремала над книгой. Очнувшись, хотела встать, но не смогла двинуться с места. Ее охватило неприятное ощущение, что кто-то невидимый дышит рядом. Показалось, что хлопнула форточка. Она оглянулась и не поверила своим глазам – форточка была заперта на щеколду. По ногам потянуло холодом. Пересилив себя, Настя встала и пошла к окну проверить, откуда дует, но застыла на полпути: из темноты ночного стекла на нее смотрела молодая женщина, в руках она держала розу. Настя крепко зажмурилась, тряхнула головой, потом резко открыла глаза и поняла, что приняла за дивный образ сломанную ветку тополя за окном. Постояв в задумчивости, решила, что пора идти спать. Расплетая косу, нагнулась над умывальником, и вдруг что-то стукнуло о его чугунный край. На шее у нее висело стило – то самое, что было запрятано в корешок книги. Но ведь она его не надевала! Хотя, может, забыла. Потянула, чтобы снять, и почувствовала, что в ладони засвербело, зачесалось. Настя осмотрела ладонь и, ничего особенного не обнаружив, решила, что показалось. Сняла стило с шеи и вложила обратно в книгу.
* * *
Три недели до встречи, отмеренные Настей, стали для Михаила вечностью. Пару раз, не выдержав, он приходил к музею в надежде перехватить Настю на пути к дому, но так и не встретил: то ли она заканчивала рабочий день раньше, то ли засиживалась допоздна. Стараясь быть незамеченным, он ходил кругами возле ее дома, и тоже безрезультатно.
Он уже почти смирился и отсчитывал дни до встречи, когда однажды, проезжая с Шуриком по Тверской, заметил ее. Настя быстро шла, сосредоточенно смотря под ноги, словно силясь найти что-то случайно оброненное. Михаил выскочил из машины и бросился за ней вдогонку.
– Настя, постойте! Как же я рад вас видеть!
Она повернула голову, и у него от сердца отлегло: в ее глазах зажегся огонек радости.
– Я тоже рада! А вы за кем гнались?
– За вами. Там, за углом, мой водитель ждет. Вы спешите?
– Да нет, сегодня в музее тараканов травят. Вот, отпустили…
– Слава тараканам! Ура! – проскандировал Михаил. – Предлагаю выпить за их здоровье. Тут «Метрополь» совсем близко, умоляю, давайте посидим чуточку, а потом я вас к дому подброшу.
Настя рассмеялась:
– Ну, разве что за тараканов, но я к шести должна быть дома.
– Обещаю!
* * *
Их усадили в центре зала – других свободных столиков не оказалось. Настя разглядывала роскошный интерьер, но делала она это скорее любопытствуя, чем восхищаясь.
– Интересно, за каким конкретно столиком сидели Есенин и Айседора Дункан, когда он сделал ей предложение? – задумчиво произнесла она, разворачивая салфетку.
– Думаю, вон за тем, пустым, прикрытым портьерой. Наверное, этот столик для влюбленных. И, простите мою дерзость, я бы с удовольствием туда перебрался, – сказал Михаил, чувствуя, как заливается краской.
Настя слегка прищурилась, качнув головой:
– Я бы тоже не отказалась, но, увы, он не для нас…
– Не говорите так, Настя, я все понимаю, но позвольте мне быть честным с вами. Я мечтал об этой встрече с той минуты, как мы расстались. Извините, если ставлю вас в неловкое положение.
– Нет, отчего же, мне приятно, но и грустно одновременно. Я тоже буду честна: в браке я несчастлива, вы мне нравитесь, но это ничего не меняет.
– Это меняет многое, – поднял бокал Михаил, – это дает надежду. Настенька, за вас!
– Михаил, давайте на брудершафт! Но без всех этих выкрутасов и целований, пожалуйста…
– С удовольствием! А почему ты, Настя, не желаешь поцеловаться? – удивился своей наглости Михаил и даже слегка втянул голову.
– Потому, Миша, что ты нетерпеливый и абсолютно нелюбознательный. Вот тебе, как видно, все равно, что в книге написано. Между прочим, твое имя, если мы раскроем тайну книги, войдет в историю.
– Я весь внимание…
– Нет уж, сначала поедим.
Но оба, казалось, не заметили, как официант принес сначала солянку «Метрополь», потом утку с яблоками. Они говорили и говорили, не сводя друг с друга глаз, забывая заглянуть в тарелки.
– Я даже язык этой книги определить не могу, – жаловалась Настя, – знаний не хватает, какая-то странная письменность. А стило – вообще сплошная загадка. Вот, например, точно помню, что не надевала его, а оно среди ночи оказывается на моей шее, да еще легонько жужжит, словно муха. Странный предмет. Если честно, то я много раз надевала и снимала это стило и вот что заметила – как только оно тела касается, так сразу все плохие мысли вон из головы. Вдруг так радостно становится, легко, вот и ношу. Оно и сейчас на мне. Знаешь, что мне пришло в голову, когда перечитывала письмо Марфы? Что мы не зря с тобой встретились. Там сказано: книгу отдать Михаилу, а стило – Анастасии, и так поступать всякий раз на протяжении многих веков. Каким-то образом именно эти имена должны сработать. Предлагаю попробовать почитать вместе.
Огромной ладонью Михаил накрыл ее крохотную, почти детскую руку:
– Давай поедем ко мне на дачу, там безопасно. Никто не помешает.
– Потерпи немного, мой муж собирается надолго в командировку. Скорее всего, к Новому году – тогда и встретимся.
– Я не выдержу! Раньше никак нельзя?
Настя вдруг посерьезнела и как-то сникла сразу:
– Раньше нельзя – опасно.
Они сидели, слегка опьяневшие от старого, семилетней выдержки, вина и от совсем еще юной любви, которой не было и месяца, но им казалось, что любовь была всегда.
Тем временем рабочий день Семена подходил к концу. Оставался только один объект – ресторан «Метрополь». Надо было отследить контакты паршивой «контры» – иностранной журналистки и гражданской жены арестованного писателя, который был обвинен в шпионаже. «Контра» приехала из Германии, чтобы вызволить своего сожителя, и встречалась тут со всякими неблагонадежными. Вполне возможно, это заговор.
Сема за руку поздоровался со швейцаром и перекинулся с ним парой слов. Швейцар был из «своих».
– Проходи, – кивнул он. – Пока одиноких баб не было.
Спецстолик для таких случаев всегда пустовал. Он стоял у входа, и тот, кто сидел за ним, был незаметен за большой плюшевой гардиной. Семен прошел к столику, заказал нарзан и стал шарить глазами по залу. В центре сидела парочка. Женщина – спиной к нему, но он сразу узнал жену. Мужика тоже вспомнил – морда лощеная, буржуйская, видел их вместе под окнами квартиры.
«Вот же сука! Со мной в рестораны никогда не ходит, стесняется. А с ним – пожалуйста. Видать, большой заказ сделал, деньжищами швыряется. Ничего, ты у меня дошвыряешься. Надо проследить, как выйдут. Черт, как же пост оставить? Федора расспрошу, что за тип, а если в машину сядут, то пусть номерок срисует».
Семен долго прикидывал, как бы выскользнуть за дверь незамеченным, но те двое были настолько поглощены друг другом, что осторожность была излишней. Швейцар, оказывается, хорошо знал мужчину. Он уважительно заметил, что Михаил Александрович Степанов частенько обедает в «Метрополе» со своим водителем, большая шишка в каком-то министерстве. Спутницу его он видит впервые, да и вообще никогда прежде Степанова с женщинами не замечал. Номер служебной «эмки» он помнил наизусть.
Вернувшись в зал, Семен продолжил наблюдать за влюбленной парочкой. Рука мужчины по-прежнему лежала поверх Настиной, а лицо светилось, как начищенный чайник. Настя смеялась и что-то оживленно говорила. Но вот мужчина поцеловал ей руку, они встали и пошли к выходу. Семен спрятался за гардину.
Номер служебной «эмки» был у него в кармане, оставалось выяснить, где жена-шалава снюхалась с этим скользким субъектом, да и вообще, что этот гусь из себя представляет, адрес, телефон, чем дышит и что скрывает. Из личного и служебного опыта Семена, старшего лейтенанта районного НКВД, выходило, что нет людей, которым нечего скрывать от советской власти. Все перед ней грешны, как перед Господом Богом. Но если у Бога еще можно вымолить прощение, то с властью этот номер не пройдет.
Настя вернулась домой вовремя. Семен вел себя как обычно: поужинал, лег. Жену ни о чем не спрашивал, затаился. Он радовался: завтра же будет знать все о ее хахале – и даже то, чего тот сам о себе не знает. Посадит обоих. Еще не оформилась мысль – как и за что, но было уже предчувствие, сладко-мстительное. Семен ощутил себя всемогущим, карающим, побеждающим и справедливым! Мощь всей страны была за его плечами, и страна была с ним заодно.
Зима началась противными холодными дождями, которые, схватываясь на лету морозцем, лупили наотмашь по лицам прохожих ледяной крупой. Это промозглое, слякотное время Настя не любила. В один из таких дней забрали ее отца. За ним пришли в храм во время службы, а он своим палачам сказал: «Идите с миром! Адрес я знаю, сам приду». И пришел, поскольку совесть его была чиста, а вера крепка, но он не смог доказать свою невиновность. Настю утешало лишь одно – что его сослали, а не расстреляли, значит, есть надежда, что отец вернется.
Вечерами она продолжала листать книгу, которую все еще держала у себя, тщетно пытаясь пробраться сквозь пелену непонятностей. Особенно удивлял тот факт, что нигде – ни в тексте, ни на переплете – нет религиозных символов. Почему нигде нет креста? Как могла книга, которую Марфа в покаянном письме описывает как дар самой Богородицы, быть не духовной? Можно ли предположить, что текст дохристианского происхождения? Но тогда при чем тут Богородица? А если речь идет о России, то должны быть православные символы веры. Все эти вопросы она задавала себе по многу раз и чувствовала свое бессилие. Попробовала работать как дешифровщик, обращая внимание на повторяющиеся в тексте знаки, анализировала внутреннюю структуру слов и фраз, выделяя похожие между собой конструкции, но и на этом пути не продвинулась ни на йоту. Перечитывая вновь и вновь Марфино письмо и разглядывая «царский знак» – соединение букв «М» и «А», – находила любопытным совпадение имен: книга «воскресла» через Михаила и попала в руки Анастасии. Может, действительно, стоит попробовать почитать ее вдвоем с Мишей?
Откладывая книгу в сторону, Настя мечтала о предстоящей встрече и не могла понять, чего в этом ожидании было больше: научного любопытства или желания любви. О том, что измена мужу – грех большой, не хотела думать. Не был Семен ей мужем. Если бы не беда с отцом, никогда бы за такого не пошла. А какие они муж и жена, если не венчаны? И слава богу, что детей у них нет, хотя все чаще слезы набегают на глаза от невозможности прижать к сердцу родное дитя. Не беременела она, а Семен и не знал, что на ведомственном курорте, куда он возил ее от бесплодия лечиться, старенькая сердобольная докторша сказала: «Милая, от него у тебя детишек-то не случится, бесплодный он, ты уж не первая, кого он сюда привез. Только я тебе ничего не говорила… Думай, как дальше быть». Настя думала только об одном: десять лет пройдут, отца выпустят, перемучаюсь как-нибудь… Спасибо и на том, что дядька Семена, полковник районного НКВД, не передал дело протоиерея Пермского Особому совету, который мог священника к стенке поставить. Был суд, приговор вынесли суровый, но оставили жить. За это она своей жизнью платила. Наложница, рабыня, но не жена.
Михаил был как на иголках, беспокоясь, что поездка на дачу может сорваться. Вдруг Настя передумает, вдруг муж ее не уедет, вдруг его самого пошлют к черту на рога, да мало ли что… Он старался уйти с головой в работу, мотался по стройкам, пытаясь расшевелить археологов. Но все его доводы, что раскопки подземного хода ответят на многие исторические загадки, натыкались на извинительные отговорки:
– Понимаем, батенька, все понимаем, да только и вы нас поймите, нет у нас власти остановить строительство. Кто нам такое позволит? Мы на объекте были, кроме вашего хода подземного ничего более не нашли. Пуст он, абсолютно пуст.
– Но ведь проверить надо, куда ведет, где заканчивается, – кипятился Михаил.
– Вы правы, но время сейчас неподходящее, сами понимаете. Вам тоже не стоит в бутылку лезть. Те, кто стройку начинал, прекрасно знали, что на этом месте мы добивались проведения раскопок, однако было спущено указание – строить новый цех. Вряд ли сейчас и наше, и ваше предложение будет правильно истолковано. Скорее всего, ход зацементируют и сдвинут закладку фундамента немного восточнее. Вот и все.
– Я так этого не оставлю, – напоследок сказал Михаил, чтобы хоть что-то ответить.
Но на самом деле вышло, что этого «так не оставил» археолог: стукнул куда следует, и над головой Михаила стали сгущаться тучи, хотя он об этом долгое время не догадывался.
Семен наконец собрался в командировку в далекую Воркуту. Настя долго складывала ему чемодан, а потом спросила, когда ждать обратно. Сема соврал: «Вернусь после Нового года, числа десятого». На самом деле командировка заканчивалась накануне праздника. В неправде этой был свой умысел. Семен выяснил, что Степанов живет в коммунальной квартире, а туда любовниц не водят. Но дачка у мужика имелась, и это меняло дело. «На дачке-то ой как хорошо Новый год справлять. Вот там-то я вас и застукаю, голубчиков», – злорадно думал Семен. Месть грела его лучше овчинного полушубка, выданного накануне.
Выпал снег, мазнув побелкой по серым улицам. Город задышал морозной свежестью, напоминавшей Насте запах снятых с веревки пододеяльников, которые мама заносила в комнату зимой. Твердые, ломкие, холодные, они пахли арбузом, огурцом и лишь немного мылом. Хотелось уткнуться в них носом, но детям не разрешалось подходить к белью, чтобы не простыли.
Как только Семен ступил за порог, Настя распахнула окно, устроив сквозняки, и принялась за уборку, чтобы поскорее выветрился тяжелый дух мужа. Из шкафа достала драповое пальто на ватине с лисьим воротником, ненавистное своей тяжестью. Это был подарок Семена, надевать его не хотелось, но в чем ехать на дачу к Михаилу – она не знала. Когда-то у барышни Насти был полушубок из белки, легкий и теплый, он и сейчас есть, но расползался по швам. Надо попробовать зашить, в нем и поехать. Захотелось перерыть весь свой гардероб и найти что-то праздничное, светлое, из прошлой жизни. Вот платье из голубой шерсти с пуговками-леденцами. Можно его надеть, а рукава, прохудившиеся на локтях, подрезать. Она взяла ножницы, иголку с ниткой и села поближе к свету. Узорчатый, как оренбургский платок, иней занавесил окно. Проведя по нему пальчиком, она написала: «Михаил + Анастасия =», а после знака равенства поставила «царский знак» и приложила горячие губы к стеклу. Струйка холода, как змея, обвилась вокруг сердца.
На Киевском вокзале была предпраздничная толчея. Михаил издали заметил Настю, похожую на перепуганного бельчонка. Она озиралась по сторонам и куталась в пушистый полушубок. Отчаявшись докричаться и боясь потерять ее из виду, он бросился в водоворот толпы. Разнонаправленные людские потоки, имевшие свои приливы и отливы, заставили его, как пловца, погружаться и выныривать. Наконец, настигнув Настю, он вцепился, как утопающий, в ее рукав, который тут же с треском оторвался. Настя охнула, развернулась, чтобы осадить нахала, а увидев Михаила, рассмеялась. Сконфуженный своей неловкостью, он попытался приставить на место оторванный рукав. Но Настя, отмахиваясь и утешая, просто потянулась к нему всем телом и застыла в его объятиях. А вокруг бурлило людское море, обтекая островок любви, так неожиданно возникший в этом водовороте. Чуть в стороне это бурление натыкалось на еще одно препятствие – человека в овчинном тулупе, который зорко следил за влюбленной парочкой. Семен пас Настю от самого дома, оставаясь незамеченным. Он был мастер своего дела.
Поезд отходил через пять минут. Симпатичный паровоз уже попыхивал паром. Доехали быстро. Станция Катуар. Они пошли в сторону дачи по нетоптаному мягкому снегу. Михаил снял шарф и обмотал Настю так, чтобы рукав шубки не сползал с плеча. Дача была недалеко, но путь к ней оказался долгим: они то и дело останавливались, лепили снежки, целовались.
Михаил толкнул калитку. Она, скрипя, поддалась и неожиданно легко отворилась. По обе стороны расчищенной дорожки лежали высокие сугробы, а самый большой подпирал елку в глубине двора. Почти идеальной треугольной формы, елка напоминала пирамиду. Опередив Настю, Михаил вбежал на крыльцо и распахнул в галантном поклоне дверь.
В доме было тепло, печка протоплена. Заметив празднично убранный стол, Настя поняла, что Михаил готовился к ее приезду. Прогрел дом, приготовил ужин и только после этого поехал за ней.
– Тебе не холодно? – спросил он, снимая с нее полушубок. – Я сейчас дровишек подброшу в печку, Африку устроим.
– Зачем Африка, там елки не растут, а как Новый год без елки?
– Есть у нас елка, да еще какая! Не хуже кремлевской, видела? Вон, за окном стоит, красавица. Хочешь, нарядим? У меня игрушек целый ящик на чердаке. Вот только успеем ли до темноты, может, завтра?
– Нет, сегодня, непременно сегодня! Тогда год удастся и подарки будут, – всплеснула руками Настя.
– Хорошо, Настёна, можно я тебя сегодня так называть буду?
– Можно Настёной, Настюхой и разными другими ласкательными именами, – кокетливо улыбнулась Настя.
За окном что-то грохнуло. Настя вскрикнула.
– Наверное, у соседей, – отозвался Михаил сверху. В руках его была коробка, полная старинных картонных игрушек. – На базаре по случаю купил, совсем за копейки, – пояснил он.
– Миша, у нас дома такими на Рождество елку украшали! – воскликнула Настя, по одной доставая из коробки игрушки: серебряного ангела с крыльями из настоящих перышек, собачку с лихо закрученным хвостом, мальчика на санках, трубочиста с ершиком. – Ты меня в детство вернул…
Она закрыла лицо руками, боясь расплакаться. Михаил подошел, обнял, поцеловал в макушку, как маленькую, и спросил, загадала ли она желание. Настя кивнула и тут же вздрогнула – за окном опять что-то грохнуло.
Накинув тулуп и сунув ноги в большущие валенки, Михаил вышел во двор. Высокий фундамент, отделанный наклонной жестяной полосой – по-деревенски завалинка, – заледенел от капели. Возле завалинки валялось пустое цинковое ведро. Видимо, кто-то пытался подставить его и заглянуть в окно.
– Вор, что ли, лез? – удивился Михаил. – Эй, есть тут кто? – крикнул на всякий случай, но никто не отозвался, и он поспешил назад к Насте.
Странный какой вор: лез и не долез…
Настя уже стояла на пороге дома в своем «одноруком» полушубке, держа коробку с игрушками. Ей очень хотелось поскорее нарядить елку. Первым она повесила на веточку маленького серебряного ангела с крылышками из перьев. Он крутился на ниточке, отражая свет луны, а повыше на ветках устроились собачка, трубочист с ершиком и мальчик на санках.
– Пусть у меня когда-нибудь будет такой мальчик! – загадала Настя. – И пусть он будет похож на Михаила. Ангел, ангел, исполни мою волю…
– Что ты там нашептываешь, Настёна?
– Ой, я варежку потеряла, – запричитала Настя. – Не знаю где, нет варежки. Вот когда приехали, была, а сейчас нету.
– Девочка моя маленькая! Миллион варежек тебе куплю, сто миллионов. Что хочешь для тебя сделаю. – Михаил кружил ее на руках все быстрее и быстрее, но не удержался, и они оба, покатываясь со смеху, свалились в большой сугроб.
– Вставай, медведь лесной, подымайся. – Она вскочила первая. – Пошли в Африку.
Быстро согревшись в доме, Настя почувствовала, что оттаяло не только тело – оттаяла душа. Вот это и есть ее настоящий дом и ее настоящий муж, а все, что было до того, ошибка, морок, наваждение.
Она разложила еду на тарелки. Михаил выскочил в сени и через пару минут появился в красном халате, при ватной бороде.
– Девочка Настя, поздравляю тебя с Новым годом, – пробасил он, доставая из мешка коробочку духов и плитку шоколада.
– Спасибо, Дедушка Мороз.
Она чмокнула его в обе щеки по очереди, а он снял бороду, крепко обнял Настю и уже не мог остановиться. Подхватил на руки и понес в глубину дома, где было темно и гулко. Ногой толкнул дверь в спальню, бережно опустил на кровать и стал медленно раздевать, целуя каждый открывшийся сантиметр ее тела. Она не сопротивлялась, а даже помогала справиться с крючками и застежками, резинками и пуговками. Теперь она поняла – все, что когда-то делал с ее телом Семен, было не с ней, а с кем-то другим. Здесь, сейчас, в сладостных судорогах и лихорадке любовного озноба, рождалась настоящая женщина.
– Будь моей женой, Настя, – не просительно, а твердо и уверенно сказал Михаил. – Уходи от мужа, если несчастлива с ним. Нам будет хорошо вместе, я знаю.
Настя благодарно прильнула и закрыла его рот ладошкой:
– Не торопи, ладно. На все Божья воля.
Потом они лежали тихо, боясь шелохнуться, ощущая необыкновенную легкость, но жизнь вернулась, заявив о себе зверским голодом. Вылезать из кровати не хотелось, и они просто перетащили в спальню еду. Ели из одной тарелки, запивали шампанским и поздравляли друг друга с наступившим Новым годом.
Настя вдруг выпорхнула из постели и принесла книгу. Завернулась в одеяло, соорудила Вавилон из трех подушек, уселась поудобнее, накинула на голову кружевное покрывало и торжественно произнесла:
– Я, Анастасия, согласна стать женой Михаила по любви и по сердцу – и на веки вечные. Книга, открой нам свою тайну великую.
С этими словами она надела на шею стило и раскрыла книгу.
Ничего ровным счетом не произошло, кроме того, что Михаил поморщился, как от зубной боли. Она удивленно глянула на него:
– Что-то не так? Ты чего скис, передумал жениться? – Попыталась усмехнуться, но усмешка получилась грустной.
Он притянул ее голову к себе, поцеловал и прошептал на ухо:
– Прости, родная, очень хочу, только хочу, чтобы ты стала женой не Михаила, а Николая. Михаил – имя не мое, и фамилия и отчество тоже. Так уж судьбе было угодно пошутить. Вот, наверное, потому книга и молчит.
– Как Николай? Почему? Расскажи.
Он встал, прошел в другую комнату, отворил секретным ключом маленький ящик комода. Вынул оттуда старинную фотографию. На ней были запечатлены его сиятельство граф Игнатий Федорович Граве с супругой и детьми – Николаем и Софией.
* * *
К железнодорожной станции Сема брел долго и всю дорогу крыл жену последними словами. Он замерз, выпил шкалик водки, чтобы согреться, но от этого замерз еще сильнее. Исхитрившись, сумел заглянуть в окно и увидел красиво накрытый стол, шампанское, свечи, но потом поскользнулся и упал. Затем он видел, как эти двое елку наряжали, и варежку жены – вещественное доказательство – унес тоже он. Дважды Сема валился с обледеневшего козырька, и оба раза попадал, как назло, скулой по ведру, которое подставил, чтобы ловчее было залезать. Самого важного он не увидел – парочка ушла вон из комнаты, в другую, с закрытым ставнями окном, но он знал, зачем они туда пошли. Хотел ворваться в дом и, застукав в постели, перестрелять всех к чертовой бабушке, но вдруг в окне мелькнула тень, в которой он узнал завернутую в простыню Настю с какой-то книгой в руках. Не успев додумать, зачем им могла понадобиться книга в постели, он заметил, как из комнаты вышел полуголый Михаил. Подойдя к комоду, Настин хахаль выдвинул потайной ящик. «Ясно, там у него заначка, – подумал Семен и понял, что надо делать. – Я вас в лагерях сгною. Накопаю улик, нутром чую, что накопаю. Проще всего тряхнуть дачку под видом ограбления. Что-то найдется, а не найдется – подбросим».
Семен потрогал саднившую скулу. На рукавице остался кровавый след. «Вот же сука! Посажу обоих! Посаж-жу, посаж-жу…» – повторял он, впечатывая в каждый свой шаг это лязгающее жестью слово. А под ногами с яблочным хрустом перекатывался снежок и занимался первый день нового, 1941 года.
Январь для Насти пролетел в одно мгновение. В мыслях она была далеко от затхлой квартиры, от упреков и скандалов. Даже боль в паху и синяки на руках не могли убить в ней воспоминание о счастье, которое она испытала в новогоднюю ночь.
Из Воркуты Семен вернулся раньше срока, злой, подозрительный, с кровоподтеком на скуле. Обматерив с порога, схватил Настю за шею и потащил в кровать. На ее счастье, после удара по лицу она потеряла сознание и пришла в себя только после того, как обнаружила Семена храпящим рядом. Поняла, что изнасилована. Ее словно посадили на кол, боль разрывала изнутри. Она еле добралась до коммунальной ванной, оставляя по ходу кровавую дорожку, а потом свернулась калачиком в кресле и заснула, забыв спрятать книгу.
Наутро очнулась от крика Семена. Он орал, что не потерпит в доме всякой гадости, что сыт по горло макулатурой, от которой в доме ступить некуда. Потребовал объяснений, где взяла книгу и что в ней написано. А еще, гаденько осклабившись, поинтересовался, чем же эта хрень помогает в постели.
Настя так и не поняла, что он имел в виду, но в душе поселилась тревога. Позже созрела мысль: срочно позвонить Михаилу, передать книгу и попросить, чтобы получше спрятал. Отдавать книгу в музей, не разгадав послание Марфы, не хотелось. Успею, подумала она.
Ночью ей не спалось. Семен опять уехал в командировку, а значит, они с Михаилом завтра встретятся. Ближе к утру, когда за окном дворник заскреб лопатой, возник ничем не объяснимый страх. Он поднимался откуда-то из живота. «Вот почему страх называют животным, – подумалось Насте. – Господи, глупость какая в голову лезет».
Она услышала, как к дому подъехала и остановилась машина. Хлопнула дверца, потом дверь парадного, забухали по ступенькам сапоги. «Три ступеньки вниз. Тут ведь только одна квартира – наша…»
В дверь позвонили. Настя захлопнула книгу, сняла с шеи стило и быстро вложила между страниц. Успела затолкать книгу в шифоньер, поглубже на полку. Накинула шаль: зябко все-таки – январь. В двери стояли двое.
– Гражданка Трепцова? Одевайтесь, пройдемте с нами.
Страха уже не было, он куда-то исчез. Настя давно приучила себя не бояться неизвестности, помня слова отца: «Думай о хорошем, и случится хорошее».
Двое сразу подошли к стеллажу с книгами. Она отметила про себя: «Странно как – никаких чувств относительно происходящего, словно все чувства исчезли, замерзли где-то по дороге». Она была как в коконе, и ее совсем не оскорбляло то, что эти двое, не снимая кожаных перчаток, одним пальцем сбрасывают с полок дорогие ее сердцу книги. Потом они открыли комод и стали рыться в нижнем белье. Потом прошли на кухню, перевернули там банки с крупой, крупа посыпалась со стола, шелестя: пшено, греча… Снова вернулись в комнату. Заметно было, что чекисты устали и делают все без особого рвения.
– Глянь, эта? – один из них вынул из шифоньера книгу, наспех спрятанную Настей.
– Похоже. Там палка какая-то должна быть. Палка есть?
– Точно, вот она. Только на книге инвентарного номера нет. Так музейная она или нет?
– Гражданка Трепцова, вы эту книгу украли из музея?
– Не понимаю, о чем вы говорите. Эта книга моя собственная. Сами же сказали, что на ней нет музейного штампа.
– Ладно, собирайтесь, кому надо, разберутся, что там есть, а чего нет.
Настя достала вещмешок Семена, машинально положила белье, зубную щетку, расческу, полотенце, мыло, теплый платок, носки, тетрадь, карандаш…
– Не положено. – Холодный, будто неживой голос. – Тетрадь и карандаш нельзя.
«Надо же постановление об аресте спросить, что же это я?» – пришла вдруг в голову запоздалая мысль, и, словно прочитав ее, один из мужчин вынул и развернул перед ней бумагу с печатью.
В коридоре толкались, не зная куда себя деть, понятые: дворник Степан и соседка Зинка.
Настю вывели во двор, где уже стоял грузовик с закрытым белым кузовом. «Хлеб», – было написано сбоку, и нарисованы румяные батоны, бублики на шнурке, буханки черного хлеба. Она явственно ощутила запах этого хлеба. Подумала: «Семен вернется из командировки, а меня нет. Вот разозлится!»
Ее подсадили в нутро «хлебного» фургона, который был поделен на крохотные металлические отсеки с железными скамейками. Каждый отсек закрывался на дверь. Стало совсем темно. Коленки Насти упирались в дверь, и всякий раз, когда машину подбрасывало на ухабах, она ощущала боль. Все железное, скрипит, лязгает, грохочет… Машина ехала, ехала и ехала. Голоса снаружи доносились слабо. Наконец раздалось:
– Выходите, гражданка Трепцова, руки за спину, проходите вперед.
Распогодилось. Солнце было неяркое зимнее, но глаза слепило после темной утробы фургона. Двор-колодец, маленькие зарешеченные окна вдоль стены, распахнутая широко дверь, глоток свежего, холодного воздуха напоследок, а потом – пара охранников по бокам, тусклая лампочка, темно-зеленые стены коридора с высокими стрельчатыми потолками, запах кирзы, вареной капусты, сырости, казеинового клея и еще чего-то противного, канцелярского.
«Ненавижу капусту, – пронеслась в голове мысль, – ненавижу…»
Рот наполнился слюной, и Настю вырвало. Она оперлась о стену. Голова кружилась.
– Вот же, бля! – выругался один из конвоиров. – Еще не села, а уже гадит!
Он несильно толкнул Настю прикладом в спину, чтобы шла быстрее.
«Села? Странно всё, как странно…» Настя никак не могла уцепиться за реальность.
Ее втолкнули в большую комнату, поделенную надвое барьером. Здесь раздевали, стригли, осматривали, записывали в большую книгу: «Имя, фамилия, следующий». Народу было довольно много, кого-то, видимо, привезли вместе с ней. Настю заставили сесть в одном белье на холодный клеенчатый стул. Кто-то прикоснулся сзади к ее голове:
– Ишь ты, коса какая!
– Стриги, Пирогова, все одно завшивеет, не в камере, так на этапе.
Ржавые ножницы скрипели в руках грубой Пироговой, кромсая косу.
«Что же это я? Ведь забрали. В тюрьму сажают. Что же я не волнуюсь, не говорю, что ошибка? Надо ведь что-то говорить…»
Настя огляделась по сторонам, но все вокруг молчали, и те, кого сажали, и те, кто сажал.
Голове стало неожиданно легко: косы нет. Настя провела рукой по неровным остаткам волос, захотелось глянуть в зеркало. Без косы она себя не представляла. Подошла женщина в белом халате, грязном, застиранном, мятая папироса в зубах:
– Иди ложись, ноги в стороны!
Стыдно, больно, противно – на глазах у всех. Холодная оранжевая клеенка, скользкая от чужого пота, слизи, крови. От папиросного дыма опять затошнило, во рту пересохло. Попить бы… Миска, ложка, кружка – все эти предметы швырнули в маленькое окошко.
– Проходи, следующий.
– Вперед! – приказал казенный голос, и они пошли строем – восемь женщин с узелками и чемоданами.
Зарешеченные лестничные пролеты, длинные коридоры.
– Бутырка, – шепнул кто-то.
– Не разговаривать! Стоять! Лицом к стене!
Охранник уже отпирал дверь и ждал, пока все пройдут внутрь. Тут же загремел засов и повернулся ключ в замке. Камера большая, метров двадцать, нары в три ряда. Очень много женщин.
«Который теперь час и что же это со мной? – никак не могла прийти в себя Настя. – Почему я как во сне?»
Она машинально отвечала на вопросы сокамерниц: нет, не знает ничего, просто утром арестовали, и вот… К ней подошла молодая женщина, назвалась Катей, улыбнулась и стала рассказывать свою историю про анекдот в магазине:
– Услышала, повторила на коммунальной кухне, и теперь вот здесь, и не знаю, кто заложил.
Женщины сторонились ее, считая подсадной.
Настя вдруг ощутила усталость, будто силы куда-то разом утекли. Опустилась на табурет. Отвечать говорунье не хотелось, и она, сославшись на дурноту, просто сидела, закрыв глаза. Ей объяснили: ночью руки под одеяло нельзя, спать при свете, оправка дважды в день. Счастье – раковина в камере. Можно пить, можно постирать белье. Передачи разрешены, если принесут. Ей – некому: Семен в командировке, да и побоится.
Как бы Настя ни относилась к мужу, ей и в голову не могло прийти, что именно Семен, а не кто другой, упек ее в тюрьму и начал копать под Степанова, на которого недавно поступил сигнал: какой-то археолог донес, что Степанов добивается пересмотра правительственного решения по строительству цеха для метровагонов.
Для инсценировки ограбления дачи Семен взял в помощники Петьку Сытина. Оделись похуже, забрались ночью в дом и устроили шмон. Петьку Семен отослал на чердак, а сам прямиком направился в комнату, где стоял комод. Ножом попытался открыть секретное отделение под верхним ящиком. Не сразу удалось взломать, пришлось повозиться, и тут же натолкнулся на фотографии. На одной – барская семья: представительные родители – мать в строгом черном платье, с жемчужным ожерельем на шее, отец в сюртуке, с шелковым цилиндром в руке – и двое детей: девочка годовалая в нарядном платьице на руках у матери и мальчик-подросток в матроске. Надпись гласила: «Семья графа Граве на водах». Позади семьи на фото были нарисованные на холсте горы. Стояло клише, украшенное вензелями: «Дом фотографии Самитского». На другой фотографии мальчик-студент, похожий на Степанова, одно лицо. И подпись: «Николай Граве. Город Николаевъ. Фотография Зелинского».
Так вот какой ты матрос Степанов! Да ты, голубчик, вылитый Граве из Николаева! У Семена просто руки зачесались: сдать его с потрохами! Он быстро убрал фотографии за пазуху. Надо будет выяснить, что там в архиве есть по этим Граве.
Ушли они с Петькой быстро, перевернув весь дом, чтобы было понятно – на даче побывали домушники.
Сделав запрос в архив НКВД, он быстро получил сведения о проживавших в Николаеве до революции дворянах Граве. Семейство было зажиточное, и наверняка многое успели вывезти, но у сынка должно же что-то остаться. «А как хитер – под матроса заделался. Вот контра!» – злорадствовал Семен, переписывая собственноручно данные из большой книги на листок в клетку. Он знал, что сегодня ночью Настю заберут, а завтра утром он доложит начальству по Степанову, и того, как миленького, упекут за ней вслед.
Семен обычно уходил с работы часов в семь, правда, иногда рабочий день старшего лейтенанта Трепцова, помощника секретаря первого спецотдела районного НКВД, заканчивался далеко за полночь. Сегодня после работы его вызвал к себе начальник отдела полковник Савенко. Ровно в восемь, как было назначено, Семен караулил возле заветной двери, чтобы по первому же требованию войти и доложить. Но вызова все не было. На часах минуло девять. Потом половина десятого. В десять он подошел к секретарше и спросил, здесь ли начальник. Тот был на месте. В одиннадцать клевавшего носом Трепцова пригласили наконец на ковер:
– Проходи, садись, племянничек!
Если полковник начинал запанибрата, ничего доброго это не сулило.
– Ты чего там, Сёма, напортачил? Что за кража из музея? Я сегодня у начальника управления краснел и бледнел! Ты бы хоть удосужился факты проверить! Зацепиться не за что! Курам на смех: жена украла из музея НИЧЕГО! Ничего, слышишь, из музея она не украла! Они срочную инвентаризацию книг провели в экстренном порядке: всё по описи и всё на местах, а главный сегодня это дело из папки вытащил и на проверку! – Начальник перешел на зловещий шепот: – В общем, Сёма, завтра рано утром ты идешь в музей и находишь факты. Все об этой книге: когда и кто принес, почему не зарегистрировали сразу. Ценность ее, ну там, век какой, и заключение с подписью директора музея, не меньше. – Он подвинул Семену старую книгу в кожаном переплете. – Ты меня хорошо понял, племянник хренов?!
Сема понял. Другого бы на его месте уже арестовали, другой бы на его месте уже ехал на Колыму, а все из-за нее, из-за жены. Гадина! Кабы не связалась с этим своим, то и черт с ней. Но за живое взяло: мужик видный и чин большой, бац, Настьку под ручку и на дачку! Еще верующая называется. Дочка поповская, а такая же блядь, как все! Ничего, я их обоих на чистую воду выведу. В кармане уже лежали справочка по дворянам Граве и фотография их сына Николая, но он решил, что торопиться не надо. Утром сходит в музей, уладит с книгой дело, а потом по всей форме доложит о враге народа, который столько лет скрывал свое истинное лицо пособника мирового империализма. Он только сказал на прощание полковнику, догадываясь о том, чья книга:
– Есть подозрения, что мужик, который эту книгу в музей принес, совсем не тот, за кого себя выдает.
– Иди ты со своими подозрениями, знаешь куда! Мне факты нужны! – рассвирепел Савенко.
– Будут факты, обещаю.
Утром следующего дня Семен пришел в музей. В его портфеле лежала чертова книга, а в боковом кармане шинели – две фотографии семейства Граве. Он решил убить двух зайцев в один день. Сразу после музея, где наверняка найдутся свидетели того, что гражданка Трепцова присвоила ценный экспонат, он пойдет к Савенко и выложит перед ним неопровержимое доказательство того, что Степанов из Наркомстроя – классовый враг.
Портфель оттягивал руку: книга оказалась тяжелой. Если бы спросили, сколько она весит, ответил бы: пуд, не меньше.
Семен подошел к служебному входу. Как положено, на страже исторических ценностей сидел дед в валенках. Но отчего-то бегали сверху вниз женщины в синих халатах и здорово пахло гарью. Вахтер поймал его за полу шинели:
– Слушай, мил человек. Подмогни, а? Похоже, горим, а у нас одни бабы. Я тут на посту, уйти не могу, как назло, ни одного мужика.
Семен живо предъявил удостоверение. Дед вытянулся во фрунт.
– Где тут у вас директор музея?
– Ты прости, милай, пожар у нас. Какой сейчас директор?
– Я по государственной важности делу сюда пришел. Я вам не пожарный.
– Дык, вызвал я этих пожарных, сейчас будут, но ведь горит! Добро государственное горит!
Дед метался от стола к лестнице.
– Мне нужно получить заключение специалиста по поводу исторической ценности книги, – сказал Семен и удивился сам себе: «Что это я вахтеру докладываю?», но в это время откуда-то сверху действительно повалил дым и кто-то закричал истошным голосом.
– Да черт с ней, с книгой этой, там люди сгореть могут, слышишь! Оставь ее тут, я покараулю, ничего с ней не случится. Ведь музей горит!
Семен, вынувший было книгу из портфеля, затолкал ее обратно.
– Где горит? – спросил он деда, и тот поднял палец к потолку.
По коридору, что-то крича, бежала крепкая тетка в синих нарукавниках. Заметив Семена, она судорожно схватила его под локоть и потащила за собой на второй этаж. Сопротивляться Сема не стал – общая паника захватила и его.
– Там, в кабинете Анастасии Николаевны, горит, – задыхаясь на бегу, скороговоркой выпалила она. – Туда со вчерашнего никто не входил, дверь опечатали, и вдруг загорелось, ужас! Открыли, а оно как полыхнет! Помогите!
Огонь буйствовал, подбираясь к самому потолку по высоким стеллажам. Языки пламени лизали потолок и деревянные балки перекрытий.
«Старое здание, балки сухие, сгорит все в один миг, – подумал Семен. – И чего это вдруг именно в Настином кабинете загорелось? Ее же арестовали, значит, поджег кто-то из своих. Сейчас все сгорит дотла, а мне еще и попадет до кучи, мол, сговор с арестованной, следы заметал. Припаяют групповой заговор или “в особо крупном размере”. Почему оказался в ее кабинете во время пожара, разбираться не станут. Был – значит, виноват. Может, какие вещественные доказательства сжег? От же, стерва! Опять меня под монастырь подвела. Срочно нужно что-то делать…»
Скинув шинель, он начал неумело ею размахивать, только еще больше пламя раздул. Про фотографии Степанова он забыл, не до того было. Огонь разгорелся серьезный, и Семен, не соображая толком, что делает, даже не заметил, как подломились нижние опоры большого стеллажа. Вся масса книг рухнула на него сверху, и он, упав, оказался погребенным под их тяжестью.
Дым окутывал музей все сильнее.
– Ох, ведь сгорит всё! – не выдержал старый вахтер, оставил свой пост и тоже бросился наверх.
К приезду пожарных полыхало вовсю. Женщины старались сбить пламя, пустив в ход огнетушители и песок, но это мало помогало. Самое удивительное, что огонь не перекинулся на соседние помещения.
Когда наконец пожар был потушен, на полу обнаружили гору обуглившихся книг, под которыми лежал обгоревший мужской труп. Больше никто не пострадал, однако всех музейных работников попросили выйти, и они кучкой стояли у здания, обсуждая происшествие.
Просидев на скамейке больше часа в ожидании Насти, Михаил разволновался. Накануне она позвонила и попросила о срочной встрече, сказала, что хочет передать ему книгу на хранение. Он посмотрел на часы – дальше ждать не было смысла – и решил зайти к ней на работу, узнать что и как. Подходя к музею, он почувствовал запах гари. На улице стояли перепуганные сотрудницы музея. Многие были без верхней одежды, замерзли, но их не пускали внутрь, на рабочие места.
Михаил поискал глазами Настю, но не нашел и, предчувствуя неладное, обратился к одной из женщин. Чтобы согреться, она подпрыгивала на месте и куталась в платок. Показалось, что это ее он видел в Настином кабинете, когда впервые пришел в музей. На женщине были те самые синие нарукавники, которые запомнились лучше, чем ее лицо.
– Извините, а что случилось? Похоже, пожар?
– Да, пожар. Слава богу, потушили. Нас пожарные выгнали, говорят, только один кабинет сгорел и человек в нем какой-то, но не наш сотрудник. У нас сегодня мужчин на смене не было…
– Понятно. А вы, случайно, Анастасию Николаевну Трепцову не видели? С ней все в порядке?
Женщина внимательно посмотрела на Степанова и, отвернувшись, сквозь зубы процедила:
– У Трепцовой вчера в кабинете обыск был. Говорят, арестовали. Кабинет с вечера опечатали, и вдруг сегодня там пожар начался. Как такое могло случиться?
Женщина смотрела на него вопросительно и недобро. Кто-то крикнул, что можно запускать людей. Работники музея гуськом потянулись в здание, а Михаил стоял как громом пораженный. В голове стучало: «Арестовали! За что? Кто посмел!» Постояв недолго, он также вошел в здание – хотел найти вахтера и попробовать его разговорить. Пожарный, дежуривший на входе, не препятствовал.
Вахтера на месте не оказалось. На его столе, возле черного телефонного аппарата, стоял портфель. Михаил не обратил на него внимания, но, пробегая мимо, услышал сзади грохот: портфель упал, и из него вывалилась книга – их с Анастасией книга! В голове как молния промелькнула: «Откуда она тут? Ведь еще вчера Настя звонила, хотела отдать ему. А может, это она ее принесла? Нет, бред! Говорила, что, пока не разгадает загадку, в музей книгу не сдаст. Скорее всего, кто-то донес, а теперь в музей притащил как доказательство».
Оглянувшись по сторонам, Михаил затолкал книгу в портфель, быстро схватил его и устремился на улицу, почти в тот самый момент, когда в конце коридора показалась фигура вахтера, спешившего на пост. На улице ему хотелось побежать, но это могло вызвать подозрения, и он сдержал себя. Все мысли были только об одном: как помочь Насте? Но вдруг мелькнула еще одна мысль, и он замер как вкопанный: «А с чего это вдруг портфель упал? Стоял себе и стоял… Может, сквозняком от входной двери сдуло? Да нет, ерунда, портфель слишком тяжелый. Мало того что портфель упал, книга выпала из него прямо под ноги… Хотела, чтобы я ее заметил? Господи, чего только в голову не придет…»
В тот же день он попытался дозвониться своему другу из аппарата ЦК ВКП (б). Через него можно было выйти на следователей и хоть что-то разузнать. Но друга на месте не оказалось, а секретарь сообщила, что вернется товарищ Чиргунов не раньше чем через месяц.
Дойдя до дома, Михаил заглянул в почтовый ящик в надежде найти там весточку от Насти – глупо, конечно, но вдруг она успела отправить, вдруг кого-то попросила? – но вместо этого обнаружил повестку в районное отделение НКВД. Там был указан телефон следователя, который его вызывал, и стояла дата – девять утра следующего дня. Михаил позвонил по указанному телефону, чтобы сказать: на завтра у него была запланирована важная министерская летучка.
– Летучку отменяйте, – ответил следователь. – Мы будем с вами работать весь день.
Повестка его не напугала – все мысли по-прежнему крутились вокруг Насти. Кроме книги, в которую было вложено стило, в портфеле ничего не оказалось, а значит, его владельца теперь не найдешь.
Вечером он вышел на кухню, чтобы вскипятить воды, и разговорился с дедом Егором.
– Они тебя не посодют, – сказал дед Егор, узнав о повестке. – Ты им во как нужен! – И он провел ребром ладони по горлу.
Дед подтащил две табуретки к своему столу, достал шкалик, сковырнул крышку и разлил водку в два граненых стакана:
– Давай, Михайла, на посошок. Ты думаешь, дед Егор не сидел? А как же! Сейчас, поди, каждый второй сидел… – дед задумался на минуту, – или сидит. Было, значится, так: пронюхали, что батька мой сапоги самому царю шил, да не простые – с секретом, а я с малолетства при нем ходил в подмастерьях. Когда мне лет десять было, мог уже любые сапоги скроить. Батька-то мой в Гражданскую сгинул, а я, взрослый уже, его дело не похоронил. В сапожной мастерской работал, а мастерская наша считалась ведымственая. Тьфу, черт, слово не выговорить… Короче, для кремлевских начальников работали. Вызывают меня как-то мерки снимать, сажают в закрытую машину, чтоб не видел, куда едем, а когда приехали, подводят к стене, а в ней дыра и через нее одна нога просунута. Маленькая нога, но, понятное дело, мужская, значится. Ну, я мерки-то снял, а после меня на ковер. И приказали, чтоб никому ничего не говорил, а сапоги чтоб пошил такие, как батька делал, – в них каблук вроде снаружи, как обычно, но внутри еще один спрятан. Хозяину тех сапог сразу росту прибавляет. Догадался я тогда, чья нога-то была. Сапоги пошил, но по пьяни трепанул, что, мол, вождь у нас хоть и велик по всем статьям, да вот росточком не вышел. Так на следующий день меня под микитки и в эти, как их, органы, ага… Уж пужали, пужали, да не испужали. День посидел, второй, а на третий отпустили. Потому как некому стало вождю сапоги с секретом шить, ага… Правда, говорят, он и сам в сапожном деле разбирается. Может, поэтому и смог оценить работу… И тебя, Мишка, отпустят, потому что ты им сейчас позарез нужен. Давай мы с тобой выпьем за работу, которая нас завсегда спасает.
Утром старуха Прокофьева сунула Михаилу в карман пальто бутерброд «на дорожку»:
– Эти ж изверги будут мытарить целый день без еды и не покормят. – Она прослезилась и, как всегда, перекрестила в спину.
Дежурный на проходной долго разглядывал его паспорт.
– Ждите, – сказал наконец, – за вами придут.
Минут через пятнадцать подошел штатский «с глазами по стойке “смирно„» – так называл про себя всех служащих этой конторы Михаил.
– Пройдемте, там автомобиль, – последовала короткая команда.
Ехали недолго. Михаил понял: Бутырка. Въехали за двойные ворота, дважды проверили документы. Еще одна проходная у входа в здание, потом – коридоры, решетки, металлические тяжелые двери. Их открывали перед ним и тут же с лязгом захлопывали за спиной. Следователь завел Михаила в большую комнату, освещаемую одной тусклой лампочкой, и вышел; за ним лязгнул замок. Михаил осмотрелся: стены окрашены в темно-зеленый цвет, скамьи по периметру, наглухо прикрепленные к полу, окон нет, большой глазок в двери. Он взглянул на часы – десять утра. Нащупал в кармане бутерброд, мысленно поблагодарил соседку и съел половину. Выбрал угол, который, как ему казалось, не просматривается через глазок, и лег на лавку. Подумал: почему я здесь? Настя дала показания? Нет, это исключено. Это что-то другое. Незаметно задремал. Во сне ему показалось, что он падает в пропасть. Вздрогнул, проснулся – и сразу вспомнил, где находится. Часы показывали половину второго. Кто-то открывал дверь. Зашел следователь – вежливый, коротко стриженный, в форме.
– Михаил Александрович, у меня сегодня было много работы. Время сейчас обеденное, давайте зайдем в нашу столовую. Здесь готовят совсем по-домашнему.
Идея пообедать в Бутырке показалась Михаилу «неаппетитной».
– Я, знаете ли, не голоден.
– Ну, тогда будем работать.
Они прошли в небольшую комнату с письменным столом. Возле него стоял стул, а посреди комнаты – табурет. Следователь кивнул на табурет:
– Присаживайтесь, гражданин Степанов. Что вам известно об инциденте с экскаватором на строительстве цеха для метровагонов в селе Тайнинское? Почему экскаватор провалился под землю? Кто виноват в аварии, вы знаете?
– Ну, в общем, насколько я могу судить, никто не виноват. Разве мог кто-то предположить, что под землей существует подземный ход?
– Когда вы об этом узнали, почему так жестко потребовали остановить строительство нового цеха?
– Поймите, это история нашей страны.
– Ну, допустим, история НАШЕЙ страны началась с Октябрьской революции. А все, что было до нее, это история царской России. Это не наша история.
Михаил ошарашенно посмотрел на собеседника.
– Вам что, в университете про это не говорили? Кстати, какой вы заканчивали, в каком году? А что до того делали?
Следователь сыпал вопросами, как горохом из мешка, но Михаил, сохраняя терпение, обстоятельно отвечал. И вдруг:
– Вы, Михаил Александрович, сейчас здорово удивитесь. Совершенно случайно у нас тут оказалась ваша родственница.
Сердце ухнуло вниз, в глазах потемнело. Какая родственница?
В кабинет ввели худую, высокую женщину в черном платье. Прямо с порога, не глядя на Михаила, она затараторила:
– Братик мой, Мишенька, сразу после революции пропал, искала его. Он старшой был, в матросы на Балтфлот пошел. Мы сами костромские будем, пропал братик мой…
Следователь остановил ее слезливый поток и попросил взглянуть на Михаила. Женщина осеклась, замолчала и долго всматривалась:
– Нет, гражданин следователь, это не он. Наш покрасивше, не такой носатый. И чуб у него кудрявый был, светленький, и глазки серые, а этот больно чернявый.
– Так, значит, не он, гражданка Степанова? А год рождения, имя, отчество и фамилия совпадают, так?
– Да пусть и так, но не похож.
Он снял трубку:
– Уведите!
Женщину вывели из кабинета.
– И как вы это объясните, Михаил Александрович?
– Обычное совпадение.
– Допустим. Но ваша биография полна неясностей. Матрос Михайло Степанов был полуграмотен, а вы после службы на Балтфлоте закончили бригадным методом институт.
– На то он и бригадный метод – за нас умники сдавали экзамены. Один умник за десяток студентов.
– Насколько я знаю, экзамены за десятерых на механико-математическом факультете сдавали именно вы. И вся ваша головокружительная карьера как-то не вяжется с полуграмотным прошлым матроса Степанова.
– Ну, ведь вы сами только что получили подтверждение, что Степановых Михаилов Александровичей было по меньшей мере два. И к тому, костромскому, я отношения не имею.
– Тогда изложите, пожалуйста, вашу настоящую биографию.
Следователь протянул листок бумаги, карандаш. Дверь, как капкан, защелкнулась, и Михаил понял, что попался. Писать придуманную биографию было бессмысленно – начнут проверять; а если изложить правду, то это значит подписать себе приговор. Он гнал от себя мысль о том, что из Насти выбили показания, что это она открыла его настоящие имя и фамилию.
В одиннадцать часов вечера охранник открыл дверь. Михаил приготовился к худшему, но неожиданно тот отдал ему пропуск с печатью и подписью и проводил до выхода, ничего не объяснив и ничего не потребовав. В полном недоумении Михаил добрался до дома на Новослободской, благо для этого пришлось всего лишь перейти через дорогу.
Только назавтра, на летучке в Наркомстрое, все объяснилось. Оказывается, замнаркома по делам строительства позвонил Лазарю Кагановичу и объяснил, чем грозит арест Степанова для общего дела: второго такого спеца не найти, стройка остановится, и цех не будет сдан в срок. Он ручался, что Степанов прежде всего заботился о безопасности строительства, а все обвинения в саботаже сплошь надуманные, просто кому-то Степанов крепко насолил. Надо вызволять. А Михаилу он посоветовал впредь быть осмотрительней:
– Ты, Михаил Александрович, не выступай особо, ладно? Перестань ты с этими археологами собачиться, а то мне не с кем будет цех строить. Обещаешь?
Михаил кивнул утвердительно, внезапно осознав, что единственный путь помочь Насте – самому остаться на свободе. Пройдя по краю, он представлял теперь, каково ей в этом липком кошмаре Бутырки. За что ее посадили? Возможно, причиной стала книга, иначе почему она так спешила ее передать? Утверждала, что прочесть ее – все равно что открыть мифическую Гиперборею, а теперь книга лежит на этажерке и что с ней делать, непонятно. В чем же ее секрет? Пока на ум приходила только абсурдная мысль о том, что книга каким-то образом формирует пространство вокруг себя, влияет на события. Иначе как объяснить историю с пожаром и то, что погибший был не кто иной, как Настин муж? Об этом вчера написали в газетах и даже наградили посмертно гражданина С. П. Трепцова медалью «За отвагу на пожаре». И если уж быть честным с самим собой, то мечта о том, чтобы в один прекрасный день Настя освободилась от уз брака, исполнилась не без помощи книги. Скорее всего, принес ее в музей Настин муж, да и донес на нее тоже он, за что и был наказан.
Глава третья
Почти месяц в Бутырке Настя провела в полной неизвестности: на допросы не вызывали. Она молилась, чтобы поскорее наступила хоть какая-то ясность. Чувствовала она себя очень плохо, есть не могла. От тюремной еды – вареной капусты, перловки и черствого хлеба – постоянно мутило. Даже месячные пропали. Доктор на курорте говорила, что от нервов такое бывает. Соседки, жалея ее, делились кто сахаром, кто салом из передач. Кусочек соленого сала казался вкусней шоколада.
Вызвали ее только в конце февраля. Предъявили обвинение в краже ценного экспоната из музея, припомнили, что она дочь врага народа. Зинаида, соседка по камере, старая большевичка, советовала: «Подписывай сразу, признавай вину. В лагере легче будет, это я по своему опыту знаю. А будешь отпираться, измордуют тут». Поверила, подписала. Через несколько дней им из соседней камеры в стенку простучали: «Темлаг, Мордовия».
Снова «хлебная» машина, вокзал, вагоны для скота, насквозь продуваемые, ледяные. Две кружки воды в день, селедка. Зинаида велела: «Селедки не ешь, терпи!» Делилась с ней сухарями. Грелись, собравшись в кучу. Тем, кто внутри, было теплей, потом менялись. Досаждали блатные – отнимали одежду и хорошую обувь у тех, кто послабей. Драки, ругань, но странным образом Настю обходили стороной, будто не замечали. Постоянно пребывая в полусне, она напоминала сомнамбулу. Голод переносила легко, однако юбка почему-то стала мала в талии, не застегивалась.
Ехали сначала до Саратова. Там всех вывели на платформу, поставили на колени, пока не подошел новый состав. Станция Потьма. Здесь начиналась узкоколейка, идущая к поселку Явас. Только в лагере Настя узнала приговор: пять лет исправительно-трудовых лагерей. После сортировки в ходе саносмотра, который проводили не врачи, а начальник режима и нарядчик, отобрали самых крепких и молодых женщин на лесозаготовки. Настя оказалась в их числе. Она считала, что ей повезло, ведь Зинаиду определили туда же, и в барак их поселили вместе. В напарницы им досталась та самая говорунья Катя. В тюрьме думали, что она подсадная, оказалось, нет – просто болтушка. Спозаранку они пилили и рубили сучья и ветки с поваленных стволов. На двадцатиградусном морозе тело деревенело еще до того, как доходили до просеки. Катя подбадривала, сыпала шутками, пыталась даже петь. Заледеневшие пальцы не держали тупую двуручную пилу, та все время выскальзывала. В момент, когда дерево падало, нужно было отбежать подальше, чтобы не прибило.
Настя продержалась на лесоповале три дня. По-прежнему не ела, с трудом ходила. На четвертый день, в тот самый миг, когда спиленное дерево стало клониться, она потеряла сознание. В последнюю секунду Катя и Зинаида оттолкнули ее. Настя упала лицом в натоптанный снег, чуть нос не сломала. Хлынула кровь, ее отвели в лагерную больничку. Там мало чем помогли, но определили: беременна. Все сразу стало на свои места: и заторможенность, и непонятная прежде тошнота, и неистребимое желание съесть соленого. «У меня будет ребенок! Это Мишин, я знаю. Семен бесплоден. Только бы выносить! Как же моему маленькому удалось выжить после того, что Семен со мной сделал? А вдруг это как-то отразится на малыше, вдруг эта маленькая клеточка уже знает, что такое насилие и злость? Господи, дай мне сил, дай моему ребенку увидеть свет!» – просила она.
Счастье было столь огромным, что не удерживалось внутри, заставляло растягиваться в улыбке разбитые до крови губы.
К Первомаю лагерное начальство решило провести большой праздничный концерт. Комендант отобрал тех, кто «из искусств чего умеет», но главной в этой затее была артистка, которую недавно по этапу доставили в Потьму. Да какая артистка! Народная любимица, известней ее в ту пору была только Любовь Орлова. Хитрый комендант пораскинул мозгами: устроит концерт, на него все начальство съедется, чтобы на знаменитость поглазеть, а там, глядишь, наверху понравится и премию дадут. Вызвав Настю, Катю, Зинаиду и Татьяну Карпинскую, он приказал составить программу концерта, сообщив, что от работ на лесоповале временно всех четверых освобождает, переводит в пошивочные мастерские, а из барака обещал переселить их в лагерный клуб. «Подготовьте такой концерт, что и Москве не снилось», – поставил он условие.
Посулы были щедрые, но комендант рассуждал так: «Сегодня артисточку эту, бывшую фаворитку верхов, посадили, а завтра могут затребовать назад. Должна быть в товарном виде».
Татьяна Карпинская, красавица, кинозвезда и певица, относилась к своему аресту с гордостью – знала, что села не за что-нибудь, а за стопроцентную «женскость», отказав высокому чину из ЦеКа. В свои двадцать два она мало чего боялась, думала, день-два – и отпустят. Увы. Жестокий приговор – лагерь, восемь лет без права переписки.
Как и обещал комендант, женщин в тот же день привели в нетопленый, грязный клуб, где относительно чистым был только один угол – «красный», с портретом «отца народов». В центре стояла ободранная трибуна, перед ней – отсыревшая, некогда красная дорожка. Подруги по несчастью обнялись и даже немного всплакнули. После барака, забитого под завязку, клуб казался им царскими хоромами. Взялись за уборку с радостью: мыли, скребли, белили, красили, по ходу придумывая номера для концерта – танец со швабрами, чечетка на ведрах. Шутили, смеялись, а во время передышек слушали, открыв рот, Татьянины байки про кремлевских ухажеров, про закулисную жизнь артистов и съемки фильмов.
– Те, что там, – поднимала вверх пальчик Татьяна, – хамы, а если не хамы, то зверье. Не дала – получи срок! Припаяли мне связь с иностранцем, а Мишель успел только цветы подарить. Он француз, режиссер известный. Как увидел, сразу замуж позвал в Париж, а я отказала. Объяснила, что тут родилась, тут и жить буду, пока не помру.
– Тут – это где? – ехидно спросила Зинаида. – Здесь, что ли? В помойке этой лагерной, куда тебя выбросила твоя собственная страна?
– Не страна, а те, кто окопался наверху. Ой, как они еще пожалеют. Девчонки, я точно знаю, что правда победит и мы все будем свободны. Главное – верить и не вешать нос. Вперед! Давайте распределим, кто что поет и читает…
Все дни до праздника Татьяна, Зинаида, Катерина и Анастасия работали с утра до ночи. Клуб теперь сиял свежей побелкой, лавки покрашены, трибуну они обтянули новым кумачом. Настя была счастлива. Вернулся аппетит, тошнота прошла, и теперь она наворачивала лагерную баланду за обе щеки. «Это Мишенька помог», – думала она то ли о будущем сыне, то ли о Михаиле-старшем. В том, что родит мальчика, даже не сомневалась. Родить должна была в сентябре. Сейчас уже май, а там и лето пробежит – не заметишь: все лучше, чем зима лагерная. Ничего, выживем!
Первомайский концерт прошел на отлично. Гвоздем программы была Татьяна Карпинская: лихо отбивала чечетку, плясала, пела, читала стихи. Зал обмирал от восторга: как же, живая Карпинская, хочешь – сиди и любуйся ямочками на ее щеках, золотыми кудряшками, стройной фигуркой, хочешь – прикажи, и танцевать будет до утра. Ее подруги тоже заслужили аплодисменты – они исполняли народные песни, и все втроем, и поодиночке. Участников для концерта Татьяна набрала и среди охраны, и среди осужденных. И те и другие побаивались ее одинаково. Ленивым на репетициях влетало здорово, но тех, кто старался, она хвалила от души. Зрители оглушительно хлопали, начальник лагеря прослезился. Тут же, в обновленном клубе, накрыли высоким чинам стол.
Спустя неделю после концерта начальник лагеря получил почетную грамоту НКВД «За развитие культурно-массовой работы среди осужденных». «Концертный актив» в лице четырех женщин он не расформировал, а поручил им заняться выпуском стенгазеты «Светлое завтра». Теперь Настя была за редактора и корректора. Зинаида ходила по лагерю, собирала заметки. Катя и Таня рисовали, вырезали, клеили, сами писали стихи и рассказы. Работа в пошивочном цехе, а ее никто не отменял, после лесозаготовок казалась им отдыхом – шили рубашки, платья, вышивали наволочки для подушек. Хоть от долгого сидения и ломило спину, Насте нравилось – руки сами делали работу, а она могла думать о Михаиле, мечтать, что появится хоть какая-то возможность дать ему о себе знать. Переписка была разрешена только с близкими родственниками, а кроме отца, который получил десять лет без права переписки, у нее никого не было. Семен не в счет. Она однажды отправила ему короткое сухое письмо, но ответа не пришло. Писать Михаилу было опасно – это могло ему навредить, но так хотелось, чтобы он узнал о будущем ребенке, о счастье, которое подарил.
Прошло почти полгода с ареста Насти, а Михаилу так и не удалось выяснить, где она и по какой статье осуждена. Попытка узнать через Чиргунова о ее судьбе не увенчалась успехом: он так и не вернулся в Москву ни через месяц, ни через два. Его отправили в ответственную партийную командировку на западные рубежи страны. Михаил мучился от неизвестности, ненавидя себя за беспомощность. Он перестал спать по ночам, жить не хотелось. Частенько листал Настину библию – так он теперь называл книгу. Однажды, коротая над ней бессонную ночь, ненадолго провалился в дрему, но тут же очнулся от странных звуков: на его кровати лежала закутанная в черные монашеские одежды, худая, как скелет, старуха. Она тяжело дышала, сипела, пытаясь что-то сказать. Сквозь невнятное бормотание и кашель он расслышал:
– Война завтра, торопись… Глубоко схорони книгу, а то сына не увидишь, жена не вернется… спрячь…
Михаил потер руками лицо и окончательно проснулся. Старухи не было, но в голове застряли слова: «Война, сын, жена, книга, спрячь…» Светало. Дворник за окном мел двор, и это скребущее «спрячь, спрячь…», казалось, рождалось от шарканья метлы об асфальт.
Весь день Михаил не находил себе места. Сон был настолько реальным, что отделаться от него он никак не мог. О какой войне вещала старуха? Откуда сын и жена? То, что книгу спрячет, решил давно, ведь ею так дорожила Настя. Он даже придумал куда. Вечером поехал на дачу. После той счастливой новогодней ночи ни разу он туда не возвращался. С порога понял – побывали воры, но взяли негусто. Гораздо хуже было то, что потайной ящик в комоде оказался взломанным, а семейные фотографии украдены. Значит, неспроста следователь ему «сестру» подсовывал. Надо готовиться к худшему.
Прибравшись в доме, Михаил захватил лопату и вышел в сад. Книгу он заранее упаковал в свинцовый ящик и раздумывал, куда лучше его закопать. Заходящее солнце вдруг пробилось сквозь пирамиду высокой елки, полыхнув пучком ярких огней. Михаил пригляделся и подошел к елке поближе. На мохнатых зеленых лапах так и остались висеть игрушки с Нового года. Трубочист, мальчик на санках, собачка с закрученным хвостиком покачивались на ветру, отражая закатные лучи. И только серебристый ангел валялся у корней, выпачканный в пыли. Михаил поднял игрушку, сдул пыль и повесил на то же место, куда зимой определила его Настя.
– Мы дождемся ее, вот увидишь! Она обязательно вернется, – сказал он, щелкнув ангела по крылышкам.
Тот раскрутился на веревочке и весело заблестел.
Штык лопаты вонзился в сухую землю под елкой. Через полчаса книга была спрятана, и Михаил, отчего-то совершенно обессиленный, побрел к дому. Июньские сумерки стелились мягко, вытесняя ароматы жаркого дня сыростью ночной прохлады. Он и не заметил, как солнце провалилось за горизонт, но вспомнил, что завтра наступит самый длинный день года, а ночь – самая короткая. Решил заночевать на даче – воскресенье, спешить некуда. Прилег на кровати, которая, казалось, еще пахнет Настей. Проплакал всю ночь, а на рассвете началась война.
Глава четвертая
О войне заключенные узнали из приказа об ужесточении режима: увеличилась норма выработки, урезали паек, переписка запрещалась для всех, а бесконвойный режим отменялся даже для тех немногих, кто раньше мог выходить за пределы лагеря. Грозное и страшное это слово – «война» не укладывалось в голове никак. Бывших военных, сидящих не по политическим статьям, отправляли на фронт. Они радовались, не страшась смерти на передовой, – смерть в бою казалась легче, чем та, что караулила в лагере на каждом шагу.
Вместо наволочек и пододеяльников пошивочный цех перешел теперь на шинели, гимнастерки и шаровары. Обстрачивая очередную шинель, Настя думала, что, может, именно эта достанется Михаилу, согреет его. Иногда становилось страшно: а вдруг Михаила убьют? – и тут же подступали слезы.
Миша родился в сентябре – тощий, с длинными ступнями и длинными пальчиками на руках. Не плакал, лишь пищал тихонько. Татьяна принесла в подарок «торт» – буханку хлеба с разложенными на ней шоколадными конфетами, которые носил влюбленный в нее комендант, и еще маленького резинового медвежонка со свистком – выменяла в соседнем бараке на черепаховый гребень.
– А что, Настька, ты письмо благоверному отправила? Или он у тебя до сих пор в полном неведении, что отцом стал? – спросила у подруги.
– Танюш, мой благоверный небось уже и думать про меня забыл. Видишь, ни одного письма. Мишка не его сын, а самого дорогого для меня, любимого человека. Но я боялась ему писать, вдруг это ему навредит? Он ведь начальник большой. Да и письмо просто-напросто не дойдет. Кто он мне?
– Не боись, девка, придумаем, как сообщить. Он что же, даже не знает, где ты?
Настя покачала головой.
– Ну и дела! Что же ты молчала? У меня же своя почта голубиная есть. Вон мой голубь с ружьем вышагивает, от любви сохнет, – показала она глазами на окно. – Что хочешь для тебя, говорит, сделаю. Я через него письма отправляю своей близкой подруге в Москву, и она мне пишет. Письма с воли на волю идут, тут не подкопаешься. Маскируемся, вроде как сестра его переписывается с племянницей. Спасибо, ни разу не подвел. Давай я сама напишу, а подружка найдет твоего, если только он в Москве. Адрес знаешь?
– Знаю. Только лучше будет, если письмо через сестер Прокофьевых передать – это соседки по коммунальной квартире. Они как родня ему, тогда точно ничего плохого не случится.
– Адрес диктуй.
* * *
Московская подруга Татьяны, Вера Петровна Варламова, билетер МХАТа, получила письмо от мордовской «племянницы» примерно такого содержания: «…все мужики подлецы. Помнишь Мишку, свояка нашего? Он до войны, когда приезжал, обрюхатил соседку Настю. Теперь от него ни слуху ни духу и носу не кажет. А она в сентябре пацана родила. Ну, копия! Назвала тоже Мишей. Я ей говорю: “Много чести”, а она: “Люблю!”, хоть застрелись. Сходила бы ты к сестрам его, Прокофьевым, по этому вот адресу, и сказала бы, что порядочные люди так не поступают, а если Мишка захочет ее найти, то ты знаешь, где…»
Вера Петровна сразу поняла, что надо делать. Москву бомбили, но чаще по ночам. Она оделась потеплее – снег валил, хотя ноябрь только начался. Хорошо, что вчера метель помешала фашистам расстрелять с неба парад на Красной площади. Кутаясь в козий мохнатый платок и тяжело переступая опухшими ногами, она пошла к сестрам Прокофьевым. Ноги гудели – всю осень она работала на строительстве защитного кольца вокруг Москвы. Еле добравшись до Новослободской, сверилась с адресом, указанным в письме, и постучалась в окрашенную темно-коричневой масляной краской входную дверь, на которой был один звонок и три фамилии: Степанов, Криворучко, Прокофьевы. К последним, Софье и Елизавете, надо было звонить два раза, но звонок не работал. Постучав, прислушалась, но никто не ответил. Потоптавшись у двери, она еще раз постучала, погромче, и собралась уже уходить, решив, что все жильцы эвакуированы, но вдруг дверь отворилась, и на нее глянули похожие как две капли воды старушки.
– Добрый день, я к вам, если вы сестры Прокофьевы. Меня зовут Вера Петровна.
– Очень приятно, – ответили они почти хором.
– У меня письмо для вас по поводу Насти.
Одна из сестер схватилась за сердце, другая охнула, и они потащили Веру Петровну в комнату.
– Покажите скорее! Неужели от Насти? Она жива! Боже, как жаль, что Михаила сейчас нет дома! Вы понимаете, – тараторили сестрицы, – он жить без нее не может! На фронт рвется под пули, а ему приказали тут сидеть, укреплять заграждения и строить метро. Пять лет назад жену потерял, а потом Настю встретил, ожил прямо. Мы так радовались, а она пропала. Сказал, что, видимо, арестована. Так что в письме?
– У него ребенок родился, Мишей назвали. Они в Темлаге, это Мордовия. Вы можете взять письмо. Пусть ваш Михаил напишет, а я придумаю, как ответить и передать туда.
– Вы – добрый гений! – смахнула слезу одна из сестер. – И даже не можете представить, что для него это значит: Настя нашлась и сын родился! Какое счастье!
Приказ сверху о том, что он, как литерный сотрудник, должен остаться в Москве, Михаил нарушить не мог, но продолжал упорно добиваться отправки на фронт. Он знал, что смерть сама его там найдет, ведь она всегда безошибочно вычисляет тех, кто жить расхотел. Сегодня он провел восемнадцать часов под землей на строительстве новой ветки метро. После начала войны метро не работало всего один день, и сразу же было принято решение продолжить строительство новых станций, а имеющиеся превратить в бомбоубежища. Домой Михаил вернулся глубокой ночью. Удивился, что никто не спит: ни сестры Прокофьевы, ни дед Егор. Они сидели на кухне и пили самогон, припасенный дедом Егором до «лучших времен». Лица соседей не оставляли сомнений, что для них эти времена уже наступили. Завидев Михаила, все дружно бросились к нему с поздравлениями, смысла которых он никак не мог понять: «Какой Миша? Чей сын, где?» А когда прочел странное письмо, не удержался на ногах, хорошо, дед Егор вовремя подхватил, не дал упасть.
Ответ от Михаила пришел накануне Нового года. Татьяна, еле сдерживая смех, передала Насте письмо. Московская подружка ответила «мордовской племяннице», что к Прокофьевым сходила и те Михайле задали жару. Теперь он обязательно приедет к Насте и никогда их с сынишкой не бросит. Пусть девка не сохнет, любит он ее, по всему видать…
Этой ночью было морозно. Дым из трубы, как собачий хвост, стоял торчком над крышей барака, подбираясь к ярким рождественским звездам. Настя вырезала из белого картона маленького ангела с крылышками, приделала нитку и повесила на елку, которую комендант распорядился поставить в клубе.
– Ангел, ангел, благодарю тебя, ты сделал все, как я просила. Теперь у меня есть Миша-маленький. Очень тебя прошу, сохрани его отца Михаила… или Николая, не знаю, как правильнее… Пусть он живет долго, и пусть мы обязательно встретимся.
От сквозняка ангел резво раскрутился на нитке, словно захотел взлететь и, прошмыгнув между прутьями зарешеченного окна, вырваться на свободу.
Сразу после Нового года случилось чудо: Настю, как мать с грудным ребенком, перевели из лагеря на спецпоселение. Живя в поселке, она должна была выполнять ту же самую работу: трудиться на швейной фабрике, устраивать концерты для начальства, издавать газету «Светлое завтра». Председатель поселкового совета – Петр Васильевич Пасько, а для всех просто Василич – давно на нее глаз положил. Он-то и помог ей с жильем. Настя и Миша перебрались в здание совета, где на втором этаже была больница. Там, в больнице, и выделили им угол, огороженный ширмой и шкафом. Закуток маленький, но зато с окном. Это было счастьем: тепло, уютно. Появилась надежда, что болезненный, худой, плохо евший и вечно поносящий Мишутка пойдет на поправку. Фельдшерица, правда, очень сомневалась, что младенец удержится на этом свете – доходягой родился, доходягой и помрет. И если бы не председатель, так тому и быть.
Насте, как и другим заключенным, приходилось по двенадцать часов проводить в цеху, а в обед можно было сбегать покормить ребенка. Мишу определили в ясли, где ему должны были давать сцеженное Настей молоко, но он соску не брал. Возиться с ним никому не хотелось, и молоко отдавали другим детям. Малыш лежал голодный и мокрый, слабел день ото дня и все больше походил на старичка. Настя рыдала, молилась по ночам. Миша таял на глазах.
Однажды Насте приснился сон, что стоит она на заледенелом мосту и еле на ногах держится, боясь соскользнуть в черную воду, шумящую внизу. Ухватиться за перила она не может, так как прижимает к груди полуживого закоченевшего Мишу. Вдруг видит, навстречу идет бородатый мужик, глаза которого как угли горят из-под густых нависших бровей. Взгляд страшен, но отчего-то ей тепло становится и все вокруг оттаивает. Поднимает мужик руку, осеняя ее крестом, а потом чертит в воздухе знак, тот самый, что стило украшал…
Подскочив на кровати, Настя мгновенно очнулась от сна. Миша хрипел, судорожно вздрагивая, глаза закатились – по всему, умирал ребенок. Рыдая, она закутала его в одеяло и выскочила в больничный коридор в надежде найти хоть кого-то из медперсонала. На ночном дежурстве обычно оставалась одна сильно пьющая санитарка, которую можно было уговорить вызвать врача, если та еще не приняла на грудь и не заснула. На посту, однако, никого не было. Наконец в одной из палат Настя обнаружила ее мертвецки пьяной и добудиться не смогла. Все время, пока металась по коридорам, из головы не шел сон. Казалось, она узнала, кем был тот страшный мужик. Решила вернуться в свою комнату, потеплее укутать ребенка и отправиться к Василичу, ведь он уже однажды помог, может, и теперь не откажет, врача вызовет.
Пришла к нему, положила ребенка на кровать и остановилась, боясь развернуть одеяло и обнаружить неживого Мишеньку. Дрожащей рукой перекрестила сверток и пальцем вывела на ватной поверхности тот самый знак, что чертил во сне Распутин. Сильный, требовательный детский плач вывел ее из ступора. Она откинула уголок одеяла. Миша кричал, причмокивая губами и вертя головой в поисках материнской груди. Настя приложила его к соску. Жадно захлебываясь, он начал есть. Плохо слушающимся языком она пролепетала: «Спасибо, Григорий Ефимович, спасибо!» – и начала неистово молиться.
Василич вмешался в эту историю по двум причинам: во-первых, надеялся, что женщина оценит его доброту и не будет кобениться особо, а во-вторых… После тяжелого ранения на фронте и ампутации голени он был комиссован из пограничных войск и определен Народным комиссариатом внутренних дел начальником поселкового совета, а поселок тот был при исправительно-трудовом лагере. К протезу он приспособился быстро. Хуже было другое: осколок, задевший мошонку, лишил его возможности иметь детей. Врачи, что смогли, сделали. Обещали, все обойдется. Обошлось. Бабы вроде не жаловались, но не беременели, а ему вдруг захотелось пацана, хоть ты тресни. Уже несколько лет он сожительствовал с Ниной – милой, тихой женщиной на поселении, до нее еще с двумя, но ни одна не забеременела. Когда он увидел Настину взбухшую молоком белоснежную грудь и припавшего к ней отощавшего младенца, понял сразу, что такую принял бы с потрохами и ребенка вырастил как своего. Понравилась она ему и красотой, и характером. А еще надеялся, что по гроб благодарна будет, если он этого мальчонку от смерти спасет. После ранения его потянуло к «чистеньким» барышням. Они, если что в постели не так, хай не поднимали, интеллигентно молчали. Не то что бывшие подруги. Раньше, до войны, когда служил в НКВД, путался с девками бедовыми, случалось, и шалавами уголовными не брезговал. Они отдавались за любую подачку, а то и без нее, ради удовольствия. Теперь дело другое. Сына хотелось, а как его получишь? Вот только так – с младенчества вырастить. Но женщина эта не простая, даже заговорить иногда боязно. Навел о ней справки. Узнал, что овдовела, что муж погиб на пожаре. Сидит за расхищение: книгу из музея умыкнула. Нашла что красть! Дуреха, одним словом. Решил, буду помогать. Мальца вытащит, он еще ого-го каким богатырем вырастет!
Василич и вправду сдержал свое слово. Привозил Мишку на фабрику каждые четыре часа, чтобы Настя кормила. Через пару месяцев мальчишку было не узнать: щечки круглые, попка пухленькая. В год с небольшим он затопал, а в полтора – заговорил. Рос шалуном, ни минуты не сидел на месте, прищемлял пальцы, набивал шишки. Василич в нем души не чаял. Когда Мишку пришлось отдать в ясли-сад, а заведение это было общим и для детей заключенных, и для тех, кто на вольных хлебах жил в поселке, весь персонал был в курсе – это Василича любимчик. За ребятней присматривали нянечки, а мамы допускались не каждый день. Называлось это пятидневкой. Миша очень быстро из жизнерадостного карапуза превратился в хитрого, расчетливого воришку. Жизнь сама учила: нянечки воровали у детей еду, а Миша воровал у них. Если кому и влетало, то только не ему. Он быстро усвоил законы лагерной жизни: есть свои и есть чужие. У чужих можно брать, своих лучше не трогать. Самым важным «своим» был Василич. Миша привязался к нему, как собачонка, которую подманивают сахарком. Именно сахарок и конфеты были поначалу основным оружием Василича. Он закармливал малыша дефицитными сладостями, брал с собой на рыбалку, дарил игрушки и потихоньку учил всякому.
Сам Василич был из беспризорников. Подростком сбежал из родной деревни, мечтая попасть в отряд Григория Котовского, о дерзких набегах которого ходили легенды. Пешком прошел пол-Украины, от Днепра до Черного моря. Если везло: на товарняках перебирался. Поймали, отправили в сиротский дом под Одессой. Документов никаких при нем не обнаружилось. Настоящие имя и фамилию называть он не захотел, чтобы не отправили назад в деревню. Представился отчеством – Василич. Прозвище Василич к нему прилипло, так и остался с ним. В приюте он пробыл недолго. Полуголодный паек, на котором держали сирот, и жестокие нравы, царившие среди бывших беспризорников, заставили воровать и драться до кровавых соплей. Однажды ночью один, без сообщников, чтобы ни с кем не делиться, открыл отмычкой замок в столовой и сожрал все что смог: буханку хлеба, большой кусок масла, луковицу и пару морковок. Там же его и вырвало, а потом рвало, не переставая, до самого утра. В лазарет не отправили, зато наказали голодным карцером. Когда выпустили, дружки устроили «темную». Чудом удалось вырваться из-под одеяла и дотянуться до табурета. Первый, кто полез к нему, получил по кумполу. За проломленный череп Василич получил срок. Освободился по амнистии после Февральской революции. Узнав, что его кумир, «Атаман ада» Гриша Котовский, выпущенный из тюрьмы, как говорили, самим Керенским, уже на полную катушку кутит в Одессе, отправился навстречу судьбе. Судьба, однако, и на этот раз его обманула: вместо того чтобы сколотить новый отряд лихих бойцов, Котовский записался добровольцем на румынский фронт «смывать кровью позор». Василич быстро сориентировался, что молоть языком в новой пролетарской действительности самое правильное и доходное дело. Сойдясь с революционерами, он стал агитатором, потом вступил в большевистскую партию и целиком посвятил себя классовой борьбе.
Маленького Мишу он учил нехитрым правилам выживания в государстве рабочих и крестьян:
– Запомни, пацан, ты должен стать своим в доску. Кто не с нами – тот против нас. Ты же не барчук сопливый. Ты наш, рабочая косточка, а барчуков мы били и бить будем. Раньше как было: у них все, а у нас ничего. Теперь наша власть пришла. Власть народная. Мы – сила! А в ком сила, у того и правда. Ты меня, малец, держись. Я тебя всему научу. Вижу, что злости в тебе маловато. Хитришь, шалишь, а драться ты слабак. Слабак и есть, – подзуживал он малыша, легонько укладывая на лопатки.
Мишка визжал, дубася по воздуху крохотными кулачками:
– Не слабак я! Сам слабак!
А Василич похохатывал, продолжая дразнить.
Письма от Таниной московской подруги приходили регулярно: в месяц по письму. Из них Настя узнавала о судьбе «свояка Мишки», который старается изо всех сил свою зазнобу Настёну с мальцом вернуть в семью, да не дают. Но недавно друг один вернулся и обещает, что поговорит с кем надо, чтобы родня согласилась. Скоро уже они встретятся. Из этих писем она понимала, что Михаил старается добиться пересмотра дела и есть надежда, что у него получится. Но главное – он жив, здоров, любит ее и ждет. А вот Мишка об отце и не спрашивал. Василич заменил ему и отца и мать. Ей хотелось приласкать сына, а тот отбивался отчаянно, смешно выпячивая губу и хмурясь: «Мужуки не цулуюца». Настя понимала, откуда ветер дует, и попросила Василича не забивать детские мозги всякими глупостями, а главное, не превращать ребенка в волчонка; она ему благодарна за все, но если так и дальше будет продолжаться, то запретит им встречаться. Он еле сдержался, чтобы не поставить зэчку на место, но вместо этого пришел на следующий день свататься с бутылкой водки и фунтиком липких конфет-подушечек для Миши.
Ясное дело, официально жениться на заключенной он не собирался: кому охота анкету портить? Но взять ее на полное содержание и усыновить Мишку – это, пожалуйста. То, что Мишка безотцовщина, подтверждалось письмом из Москвы. Письмо он ей покажет, а вот о том, что на днях вызывало его лагерное начальство и сообщило о бумаге, которая вот-вот должна прибыть из Москвы по делу Трепцовой, он ни словом, ни намеком. Кто-то наверху, видно, шибко хлопочет о пересмотре, и, похоже, она скоро освободится.
Сначала он с деланой скорбью сообщил Насте, что та уже четыре года как вдова: муж ее погиб на пожаре в Историческом музее в январе сорок первого. Он ждал, что Настя хотя бы всхлипнет, но она и бровью не повела. Бросила в пространство: «А что он делал в музее?» – и равнодушно отложила копию свидетельства о смерти. Тогда он пошел дальше и четко, без всяких там экивоков, изложил свои намерения.
– Хороший ты человек, Василич, – отвела глаза Настя. – Любая твое предложение приняла бы, но у Мишки есть отец, и я очень его люблю. А тот, который на пожаре погиб, к моему сыну никакого отношения не имеет. Мишкин отец скоро приедет за нами, вот увидишь. Я вас познакомлю и скажу, что без твоей помощи мы бы не выжили.
– Вон оно как… Значит, не в муже дело. Нагуляла, значит. А с чего это ты взяла, что кто-то приедет? Тебе же еще год сидеть. Кто позволит? Не муж он тебе. Не положено свиданий. Только родственники, и не в твоем случае. А может, он начальник большой? Ладно, чего уж там…
Махнув стакан водки, Василич поднялся и собрался уходить, но полусонный Мишка вцепился в него, не желая отпускать. Настин гость застыл, не зная, как поступить. Весь его предыдущий жизненный опыт подсказывал, что надо бы отомстить этой женщине, к примеру забрать себе мальчишку, который смотрит на него не мигая полными слез бирюзовыми глазами, точно такими же, как у его матери. Но что-то его остановило, он и сам не знал что. Может, осторожность: предупредили ведь о высоких покровителях Трепцовой, – а может, и что другое… Он отодрал от себя мальца, приказал идти спать и вышел, хлопнув дверью.
Надежды Насти на скорое свидание с Михаилом были не беспочвенны. «Голубиная почта» Татьяны все чаще приносила весточки о том, что дело сдвинулось с мертвой точки. Помог тот самый Иван Чиргунов, старый приятель Михаила, который курировал в аппарате ЦК строительство военных объектов. Вернулся он в Москву только в конце войны. Его связи помогли прояснить ситуацию: из документов НКВД следовало, что Анастасия Трепцова осуждена за кражу госимущества и приговорена к пяти годам исправительно-трудовых работ. Обнадеживало, что никакой политики в деле нет, а значит, можно надеяться на досрочное или даже на полную реабилитацию, если доказать невиновность. Из протоколов выяснилось, что упек ее не кто иной, как собственный муж, а дело вел полковник Савенко, которого Чиргунов хорошо знал.
– Иди к нему, Миша, – посоветовал Иван, – я ему позвоню. Он неплохой дядька. Тут мутная история. Не доказано, что экспонат похищен, его как бы и не было вовсе. Книга какая-то старинная. Ценность ее неясна, и видел ее только сам Трепцов. От же, гад! Жену посадить, да еще беременную! Выслужиться хотел. А она, эта Трепцова, тебе кто?
– Считай, что жена. Это мой сын.
– Во дела! Это прямо Вильям Шекспирович какой-то! Муженек наверняка вас выследил и все это затеял. Вызволим твоих, не переживай. Савенко скажу, что Трепцова тебе двоюродная сестра. Он и подаст на пересмотр. В этом деле полно нарушений, у него самого рыльце в пушку.
Полковник Савенко принял Михаила без проволочек и заверил, что работа по делу Трепцовой уже идет и сам он старается ускорить процесс, насколько может. Гражданка Трепцова находится на спецпоселении в мордовских лагерях. Условия там неплохие, дождется освобождения, это точно. И он, Савенко, уже переговорил кое с кем, кто с начальством лагерным связан, чтобы никаких неожиданностей… В глаза он не смотрел, бурчал что-то под нос, а потом вдруг разоткровенничался:
– Дурак был следователь, напутал все. Нашел у собственной жены, музейного работника, книгу старинную и донес, что она ее из музея украла. Я ему сказал: «Иди с этой книгой в музей, а еще лучше в задницу». И надо же было, чтобы Сема в тот же день сгорел на пожаре, да тут вахтер музейный шум поднял, что, мол, книга пропала. А если пропала, значит, была. Вот и все дела. Посадили Трепцову, но налицо ошибки и нарушения при ведении дела. Надо исправлять.
Хоть и обещал Савенко быстро разобраться, пересмотр дела затянулся больше чем на полгода. Только после Победы Настю реабилитировали, сняв все обвинения за отсутствием состава преступления. Когда Михаил об этом узнал, крепко обнялся с Иваном Чиргуновым, поблагодарил и попросился на две недели в отпуск. Иван стал бухтеть, что не вовремя, что строительство секретного объекта надо форсировать. Потом, похлопав Михаила по плечу, успокоил: «Перевози своих, квартиру дадим хорошую. Обещаю».
Слетев по лестнице вниз, Михаил выбежал из здания ЦК и помчался на вокзал за билетами. Билетов конечно же не было, но по брони удалось взять боковое место на завтрашний поезд. Решил до отъезда накупить продуктов и подарков. Поехал в ГУМ. Что дарят женщинам? Что дарят любимым женщинам? Конфеты? Какие конфеты – она мать моего сына!
– Девушка, скажите, что жене подарить? Она сейчас далеко, я в гости еду. Пожалуйста, помогите.
– Рост, размер обуви?
– Не знаю, она вот такая. – Михаил показал уровень собственной подмышки. – Обувь? Маленькая у нее нога, очень маленькая.
– Вот гляньте, белые бурки, очень тепло, натуральные, валяные. Одни остались, потому что размер детский.
– Так май на дворе.
– Как хотите. – Она оценивающе оглядела Михаила. – Вот еще завезли по ленд-лизу белье женское: лифчики и трусы американские. Таких вы нигде не найдете. Завезли только в Москву и Ленинград.
– Давайте бурки и белье, по две пары этих, как их…
– Размер какой? – нетерпеливо переспросила продавщица.
– Маленький такой… Не знаю, правда. Вы уж как-нибудь сами, пожалуйста.
– Ну, мужчина, без размера нельзя покупать.
– Девушка, пожалуйста, подберите сами.
– Ох, ну вы даете, не знать, какой у жены размер! Я вам выберу, но потом назад не приносите, если что не так.
– Да-да, конечно.
– В кассу платите.
– Скажите, а вот что у вас такое с цветами голубыми?
– Шаль, чистый шелк. Хотите посмотреть?
– Давайте ее. У моей жены глаза такие же, как эти незабудки.
– Это хризантемы, мужчина. Не видите?
– Все равно заверните.
Из ГУМа Михаил поехал на рынок.
– Слушай, Шурик, – спросил он шофера, – что обычно из продуктов везут, если далеко ехать надо?
– Ну, это как сказать, когда картошку, а когда сало. Тарань еще можно и чеснок. Тушенку, если достать, тоже хорошо.
– Да-да, тушенку и сало.
Михаил проталкивался меж рядов и выискивал хохлушек, торгующих салом. Сколько его нужно, не знал, купил наугад побольше, чеснока прихватил, еле доволок все до «эмки». На выходе взял для сына леденцовых петухов на палочке. Ему в детстве их никогда не покупали, а очень хотелось. Мальчишки в гимназии, нализавшись петухов, со смехом демонстрировали друг другу карминно-красные языки, но мама говорила, что это конфеты для плебеев. Миша тогда не знал, кто такие плебеи, но ему безумно хотелось попасть в их число, чтобы попробовать такого вот петушка.
Он заметил инвалида на костылях, тот стоял в стороне и продавал авиационный шлем: настоящий, кожаный, подбитый короткой смушковой цигейкой ярко-рыжего цвета, с клапанами для наушников и кучей застежек, чтобы подогнать размер. Шлем был новый.
– Шлем продаете? – Михаил уже держал его в руках и точно знал – Мише-маленькому понравится. Обрадуется сынишка.
– Ты, товарищ, цену сначала спроси. – Продавец тянул шлем из рук Михаила, но тот не отдавал.
– Я куплю, скажите сколько.
– Дорого. Не купишь.
– Сынишке хочу, говорите, сколько стоит.
– На рынке торговаться положено. Давай, мужик, торгуйся.
– Зачем? Вам нужно продать, я покупаю. Скажите, какая цена.
– Нет, так не продам. Торгуйся.
– Ну, хорошо, буду торговаться, называйте цену.
– Нету цены. Бесценный он. Это шлем моего сына Витьки. Погиб он, геройской смертью пал старший лейтенант Виктор Петрович Лапин в боях под Ржевом. Последний раз в отпуск приехал, наградили его отпуском за то, что в одном бою трех фрицев сбил. Шлем вот мне привез. Ходи, говорит, батя. Тебе, говорит, тепло в нем будет, а я пока в старом могу еще повоевать. Уехал, а через неделю похоронка. Ты, мужик, вот что… ты сына береги. – Он вытер слезу рукавом телогрейки. – Прости, я шлем не продаю, я хочу, чтобы люди про моего Витьку знали, чтобы помнили, потому и стою тут.
Мужик отвернулся и пошел на костылях куда-то в рыночную толчею. Догонять его Михаил не стал.
Дорога к Насте казалась бесконечной. От Москвы до Саратова, потом с пересадкой до Потьмы, а в Потьме пришлось ждать лагерного поезда, который ходил по своему расписанию, никому не ведомому. Из Потьмы Михаил дал телеграмму.
Двадцатого мая Василич зашел к Насте и, резко выдохнув, сказал:
– Телефонограмма была. Приезжает твой, завтра днем приезжает.
Мишка испуганно заверещал, увидев, как мать сползает по стене на пол.
Всю ночь мальчик ворочался в кровати и донимал Настю вопросами:
– Ма, а тот папа, который завтра приедет, рыбу ловить умеет, как Василич?
– Не знаю, Миша.
– А он, как Василич, стрелял фашистов?
– Стрелял, – машинально ответила Настя, приглаживая непослушный вихор на макушке сына.
– А он такой же красивый, как Василич?
– Красивее, ты на него похож.
– А на каркосах будет катать, как Василич?
– Будет, спи давай, завтра рано вставать.
Утром они пошли на станцию. Путь был неблизким. Возле клуба, украшенного флагами, лозунгами и портретами генералиссимуса, их чуть не сбило с ног ветром. Ветер рвал и трепал алые полотнища, создавая шум, словно гудела кровь в ушах. Миша быстро выдохся. Мимо проезжала подвода, груженная пустыми бочками. Повезло – для них нашлось место. Настя, пока тряслись по разбитой дороге, запрокидывала голову, щурясь от яркого солнца, и втягивала в себя запахи этой особенной, такой долгожданной и невероятно счастливой весны. Запахи струились отовсюду – ясные, чистые: так пахла свобода, так пахла Победа. Мишка тоже был счастлив – он сосал леденец из топленого сахара, который дал ему в дорогу Василич.
Приехав на станцию, они оказались единственными, кто встречал этот поезд. Точное время его прибытия не знал никто. Часы ожидания вытягивались в бесконечно серую полосу рельсов, убегающих за горизонт. За полдня не проехало ни одного состава. Миша заснул у Насти на руках. Вдруг ей показалось, что воздух наполняется запахом жареных семечек, перегретой сковороды и дыма. Раздался протяжный, тоскливый гудок. Испугавшись со сна, Мишка громко заревел.
Михаил выпрыгнул из вагона и побежал к ним навстречу. Он ничуть не изменился – легкий, подтянутый, только поседевший изрядно. В этот момент Настя вспомнила, что даже не взглянула на себя в зеркало перед выходом. Быстро стянула с головы косынку, легонько пробежала пальцами по волосам, собранным в тугую косу. А дальше все это уже не имело никакого значения. Они стояли, обнявшись, не сдерживая слез. За компанию хныкал и Мишка, которого отец тут же подхватил на руки, подбросил высоко и посадил на плечи. Так и пошли они в поселок счастливые – Михаил-маленький на Михаиле-большом, рядом с Настей, звонко смеющейся и подпрыгивающей, чтобы не сбиться с ноги и не отстать.
Глава пятая
Вернувшись в Москву, Настя обнаружила, что в их с Семеном квартире живут люди: большая татарская семья нового дворника. Вещей никаких не осталось, кроме книг, которые подпирали матрасы, а «лишние» сгорели в печке. «Холодно было, сам должен понимать…» – оправдывался хозяин семейства. Жаль было словарей, учебников, научных трудов по лингвистике, которых Настя не досчиталась. Еще пропали сережки, папин подарок: крохотные, золотые, с капельками яркой бирюзы. «Настины глазки», – называл их отец.
Но самая главная книга была в целости и сохранности. Еще до войны Михаил закопал ее под елкой, и Насте не терпелось поскорее поехать на дачу, но Михаил остановил – лучше подождать. Удивительным образом его дачное хозяйство не пострадало во время войны, хотя почти все соседские дома лежали в развалинах. Снаряд разорвался очень близко, но дом устоял, и елка уцелела, не спилили ее на дрова, только ветки обрубили. Недалеко от дома была большая воронка, и надо было ее засыпать. Михаил предложил недельку-другую пожить у него в коммунальной квартире, а летом перебраться на дачу. Книга подождет. Не стоит ее сейчас в доме держать. А вдруг кому вздумается с обыском нагрянуть и проверить? Настя согласилась.
Радость сестер Прокофьевых и деда Егора от того, что в доме появился «внучок», постепенно угасла. Сначала каждый старался заманить его к себе и угостить вкусненьким. Миша этим ловко пользовался, а когда не звали, сам приходил. Выпячивал голое пузо, хлюпал носом и говорил по секрету, что мамка его не кормит. Сердобольные соседи, понятно, подкармливали, но вскоре до них дошло – мальчишка врет, а еду прячет. Сестры Прокофьевы, учуяв запах гнили, с носами наперевес бросились бороться с нечистотами. Тогда и выяснилось, что у Мишеньки везде тайнички с протухшей едой, и все это, конечно, следствие тяжелого лагерного детства. Они вздыхали, качали головами и старались не замечать, когда мальчишка, громко топая, носился по коридору из конца в конец, забегал в комнаты и брал чужие вещи. Настя извинялась, хватала сына в охапку и тащила на улицу, чтобы никому не мешал.
– Господи, Твоя воля, бедный, вечно голодный ребенок. Когда же я его накормлю досыта?
Но досыта не получалось.
В июле они перебрались на дачу. Чувствуя, что Михаил всячески оттягивает момент «раскопок», Настя сама взялась за дело. Сердце, как и в первый раз, ударило гулко, когда книга оказалась в ее руках. Проведя ладонью по зубчатой печати, вытесненной на обеих створках переплета, она вынула осторожно стило и повесила на шею. Почувствовав его оживающее тепло, счастливо улыбнулась: «Вот теперь точно все будет хорошо! А как может быть иначе, ведь война кончилась и мы все выжили! И книга тоже».
В дом она ее занесла, когда Миша доедал булку, намазанную маслом и посыпанную сверху сахаром. Увидев маму с большим свертком, он противно заверещал: «Дай, дай!» Настя положила книгу на стол и разрешила открыть, если он вымоет грязные руки. Но Миша наотрез отказался идти к умывальнику. Настя настаивала на своем, объясняя, что книга особенная, очень старая, и ее надо беречь. Она не успела охнуть, как сын, разревевшись, с криком «Плохая книга!» столкнул книгу со стола. Она упала, ударившись об пол со страшным грохотом. Показалось даже, что дом содрогнулся. Миша заорал и сполз под стол. Желание наказать прошло сразу же, как она увидела, что тельце ребенка содрогается в конвульсиях от плача. Взяв сына на руки, Настя отнесла его в кроватку и просидела возле хнычущего малыша несколько часов. Мишка все это время, заикаясь, цыганил конфетки. «Только бы не остался заикой», – переживала Настя.
Когда он наконец уснул, вернулась в комнату. Книга лежала возле слегка покосившейся ножки стола. Поднимая ее с полу, Настя почувствовала, как кружится голова: книга была тяжелой, как могильная плита.
– Устала я, очень устала. Миша становится неуправляемым, за ним нужен глаз да глаз, – пожаловалась она вечером мужу, и Михаил настоял взять женщину в помощь по хозяйству.
Через несколько дней к ним пришла Серафима. Ее посоветовали соседи, она многих ребят тут вынянчила.
Зайдя в дом, Серафима огляделась, по-хозяйски отметила, что сыровато тут и что надобно все перины да подушки на солнышко вынести, а комнаты просушить, затопив печку. Была она немногословна, улыбчива и очень неуклюжа. Миша смешно передразнивал Фиму, копируя ее гусиную походку вразвалочку. Она смеялась в ответ, утирая слезы: «Ну, чистый артист у тебя, Настёна, растет. Сопли только мешають… Буду вам молоко парное носить, пусть пьет, и сугревать его будем. Ты печника вызови, дом прогреем. Мне и самой тута зябко».
Парное молоко Миша пить не хотел, соглашался только на «оранжевое». Вечером под шелковым абажуром с кистями все становилось оранжевым, и молоко в чашке тоже, другое он выплевывал. Фима не лезла в родительское воспитание, но у нее частенько руки чесались отшлепать мальчишку как следует, однако Настя и Михаил наказывали его исключительно словом, лишь иногда ставили в угол лицом к стене. Однажды, проходя мимо Мишки, ковыряющего стенку и глядящего волчонком из темного закутка, Фима остолбенела, услышав нецензурную брань. Таких слов она даже от пьяных мужиков в своей деревне не слыхала. Подумала: «И ясно ж, где он такого набралси – у вертухаев лагерных, у блатных воров и душегубцев. Страх господний! А родителям каково? Чай, услышат – помрут на месте…» Но Настя слышала, и не раз. Боролась с этим, как могла, да безуспешно. Впервые подслушав, как Мишенька во сне, шепелявя и коверкая слова, грязно матерится, она опешила, а когда уже не во сне, а сознательно Миша назвал досаждавшую его муху «сучьей мандой», объяснила, что так говорить нельзя, что это очень плохие слова и, если еще раз услышит, конфет ему не видать. Это Миша понял и при маме не выражался, но Фима была не в счет. Однажды Фима не выдержала и спросила мальчишку, почему ему приходят на ум такие слова. Миша раздул щеки и ответил, что они у него в животе сидят и толкаются. Мама-то запретила их говорить, но, если не сказать, можно лопнуть. Фима задумчиво посмотрела на мальчишку, провела рукой по непокорным вихрам и перекрестилась. Насте она слова не сказала, решив, что надо мальчишке дать «беса выпустить», пусть себе матерится на здоровье, но только при ней. Обычно после таких приступов Миша успокаивался, ластился, как котенок, и засыпал тихонько. Это была их маленькая тайна.
Каждый вечер, уложив сына спать, Настя открывала книгу. Прежние записи с вариантами дешифровки и языкового анализа не сохранились, пришлось все восстанавливать. Шло время, и она все больше склонялась к мысли, что книгу надо передать специалистам-историкам, но при этом постараться избежать ненужных вопросов: откуда, где взяла? Ведь ее реабилитировали, не найдя доказательств похищения древней книги из музея. Глупо и опасно взять теперь и признаться, что «взяла попользоваться».
Случайно ей удалось установить, что стило ведет себя по-разному, когда зажато в руке и когда висит на шее. В руке абсолютно мертвое, а на шее слегка нагревается и вибрирует. Это было необъяснимо, и она решила проверить на Михаиле. К ее большому разочарованию, на нем стило всегда оставалось одинаково нейтральным.
– Это, наверное, потому, что я фальшивый Михаил, – шутил он, успокаивая.
Но на самом деле, замечая ее упрямство, пытался убедить, что такие открытия сомнительны. Ведь если стило действительно обладает способностью менять температуру, так это любой человек должен чувствовать. Его огорчало, что Настя буквально приросла к этой палочке, даже спала с ней, ни на минуту с шеи не снимала и твердила, что, следуя пророчествам инокини Марфы, им надо обвенчаться, тогда, возможно, и сработает каким-то образом «царский знак». Все это, мягко говоря, выглядело ненаучно. Михаил был убежден, что дело в ключе, который открывает информацию, зашифрованную в книге. Его-то и надо искать. Намутила инокиня в покаянном письме страхов и глупостей. При чем тут имена? Но даже если и так, Бог не Микитка, его не проведешь, хоть ты десять раз назовись Михаилом, а Николаем крещен, Николаем и помрешь. Правильнее будет просто расписаться, а с венчанием подождать. Время тревожное, только из одной беды выкарабкались, можно накликать другую. Если донесут, опять не поздоровится.
Михаил и Настя побывали в загсе, где расписались в присутствии свидетелей: деда Егора со стороны жениха и старшей сестры Прокофьевой со стороны невесты. На даче под старой яблоней накрыли стол. Пригласили соседей и веселились до утра. Маленький Миша был счастлив – он получил подарков больше, чем молодожены. Фима подарила ему шоколадного зайца, а дед Егор, кроме шкалика, который извлек из кармана, водрузил на стол обувную коробку с дырками по бокам. В коробке что-то скреблось и пищало.
Прокофьева, как обычно, накинулась на деда:
– Шкалик принес, алкаш несчастный. А в коробке что?
– А-а-а, не скажу, может, там тоже шкалик, только для мальца.
– Еще чего надумал, старый!
– Ты это, ты погодь трындеть, ты глянь сперва, – оправдывался Егор, стараясь развязать никак не поддающуюся бечевку.
Миша-младший скакал от нетерпения рядом:
– Деда, давай помогу, давай я сам.
Наконец упрямая веревочка была развязана. В коробке оказался котенок: тощий, взъерошенный, с большой головой.
– Его Шкаликом зовут, я знаю, – победно заявил Миша и понес котенка в свою комнату, оставив без внимания подарок родителей: большую, красиво иллюстрированную книгу сказок Пушкина.
– Во-от, а ты говорила. – Егор победителем глядел на грозную соседку. – Парень сразу сообразил, как кота назвать. Вот же юморист! Надо же, кот Шкалик! Ну, давайте выпьем за здоровье молодых, за их сына Мишку и за то, чтобы не было войны. Горько!
Соседи принесли в подарок большой таз для варки варенья, которому больше всего обрадовалась Фима. Патефон заиграл фокстрот «Рио-Рита», потом танго «Брызги шампанского». Танцевали на веранде, пока не стемнело. Настя и Михаил чувствовали себя и впрямь молодоженами. Они заглядывали в глаза друг другу, кружась под музыку, и беспрерывно целовались. Когда гости ушли, они вдвоем пошли бродить по поселку, высматривая на небе падающие звезды, чтобы загадать желание одно на двоих – никогда не расставаться.
Утром их разбудили крики Серафимы и плач Мишки. Оказалось, Мишенька взял в шкафу недопитую бутылку водки и налил котенку в миску. Котенок пить не захотел, что привело мальчика в ярость. «Если ты – Шкалик, то должен пить водку, сукин сын, падла вонючая…» – кричал он, тыча кота мордой в миску, а Фима пыталась выдрать из его рук царапавшегося малыша. Насте и Михаилу пришлось всех разнимать, после чего их самих впору было откачивать. Спросили Фиму, не ругался ли ребенок при ней. Она, как на духу, рассказала про Мишины приступы сквернословия и посоветовала окрестить. Настя умоляюще посмотрела на Михаила, он кивнул. Перед сном Настя, помолившись, взяла в руки книгу сказок Пушкина и села у постели сына:
– Мишенька, давай я тебе сказку красивую прочту про Спящую царевну, а хочешь – про Золотую рыбку?
– Ты не читай, – сонно пробормотал Миша, – ты расскажи.
– А почему не читать?
– Книга плохая, – утирая кулачками глаза, прохныкал Миша. – Убери книгу, она плохая, не хочу…
Настя опять чуть не разрыдалась, понимая, что причина кроется в другой книге, которая так его напугала. Она прикрыла Мишу одеялом, перекрестила и подумала, что упустила время, что надо было давно приучать ребенка к чтению, а она все время разгадывала головоломки. Оставив «Сказки» на прикроватном столике, она погасила лампу.
Утром Фима нашла в помойном ведре разорванные в клочья страницы с цветными картинками, на которых были Спящая царевна с богатырями, и Золотая рыбка, и Золотой петушок. Спросив у Миши, кто это сделал, получила ответ: «Шкалик». Миша опять был наказан: его поставили в угол и лишили сладкого. На семейном совете было решено отправить Фиму в ее родную деревню, она знала одного батюшку, которого можно было уговорить провести тайно обряд крещения. Путь был неблизким, и Фима обещала вернуться только через неделю.
После ее отъезда Миша опять стал сопливить, потом кашлять. К тому же в начале августа зарядили дожди, и в доме снова все отсырело. Вспомнив советы Серафимы, Настя попросила Михаила восстановить разрушенную печку, ведь надо готовиться к осени. Михаил вызвал печника, чтобы устроить печку-голландку. Она получилась по всем правилам, только дверцу печник поставил больше обычной. У него в загашнике была «старорежимная» дверца, чугунная и с решеткой резной. «Буржуйская дверца, – сказал он. – Можно сразу побольше дров положить и на огонь поглядеть. Вроде камина выходит».
Когда печник ушел, Настя и Михаил долго сидели, обнявшись, перед печкой и глядели на пляшущие язычки пламени. В доме стало намного уютнее.
Утром Настя ждала прихода молочницы. Миша в это время еще крепко спал. Она подошла к калитке, чтобы забрать банку парного молока и отдать вчерашнюю пустую. Обычно это делала Фима. Молочница почему-то задерживалась. За Михаилом приехала машина. Настя поцеловала мужа на дорожку и помахала вслед. Продолжая вглядываться в утренний туман, минуту назад поглотивший мужнин автомобиль, она вдруг почувствовала, что откуда-то тянет дымком. Вот и листья жгут, подумала. И удивилась: что-то рановато, ведь листопада еще не было. Оглянулась и обомлела: из окна гостиной валил дым.
Сломя голову она кинулась в дом и, задыхаясь, побежала в детскую.
– Миша, Мишенька, где ты? – закричала изо всех сил и вдруг услышала то ли плач, то ли кошачье мяуканье.
Бросившись на звук, нашла сына, сидящего у печки в ночной рубашке. Он отмахивался от искр, как от пчелиного роя. Рубашка и волосы занялись пламенем. Закрывая ручками глаза, он уже не кричал, а скулил, как щенок. Из печи торчал край книги, той самой, которую он боялся и с которой хотел расправиться. Схватив сына в охапку, Настя выпрыгнула во двор. Появившаяся наконец молочница вопила: «Помогите! Пожар!», а Настя бежала к колодцу, чтобы окатить Мишу водой из ведра. Крики молочницы услышали соседи и бросились спасать имущество: облили водой скатерть, тюлевые занавеси, обивку дивана. Только когда опасность миновала, Настя вспомнила о книге. Схватив кочергу, вытащила ее из печи. Книга почернела, казалось, под переплетом бушует пламя. Плеснув на книгу водой и обтерев наспех фартуком, она бросила ее на пол у печки и кинулась опять к Мише, который громко плакал, не давая притронуться к голове. Настя прижала его к груди, рисуя в воздухе заветный «царский знак», который однажды спас от смерти ее мальчика, но Миша зашелся в крике еще больше. Он бил ее по лицу, стараясь вырваться из объятий. Соседи вызвали пожарных и «скорую помощь».
– Что же вы, мамочка, за ребенком не смотрите? – выговаривал Насте молодой доктор в ожоговом отделении Филатовской больницы. – Рубцы, вероятно, останутся на всю жизнь – и на руках, и на лице. Хорошо, глаза целы. Видеть будет нормально.
Свои ожоги Настя заметила, только когда приехал в больницу Михаил. О пожаре ему сообщили соседи. Всю ночь они не отходили от постели сына, следя за капельницей, которую тот все время хотел выдернуть из вены. Руки его с тыльной стороны были сплошь покрыты пузырями, кое-где лопнувшими, на лицо наложена повязка. В мучениях и страхах пролетела неделя, а потом мальчик очень медленно пошел на поправку. Настя еще несколько раз пыталась начертить над его головой спасительный знак, но Миша словно чувствовал это и громко кричал, как от боли. Объяснение этому она не нашла и решила, что тогда, в лагере, это было простым совпадением: наступил кризис, организм ребенка сам справился с болезнью, и никакие знаки тут ни при чем.
Но было и другое объяснение, от которого она предпочла бы отмахнуться, но именно оно все чаще лезло в голову: «Что, если книга почувствовала в Мишке врага? Что, если начнет ему мстить? Знак теперь не во благо, а на погибель, и это чувствует ребенок. Если все так, то надо Мишу обезопасить и подальше от него держать книгу, а может, вообще с ней расстаться. Нет, не смогу… Никогда себе не прощу, что бросила все, не разгадав загадки, над которой столько лет бился учитель. Просто надо быть осторожнее и не причинять книге даже капельки зла».
Вернулась из своих странствий Серафима. Заехав в больницу проведать Настю и Мишку, рассказала, что батюшка Нестор, которого она привезла из деревни, не мог оставаться надолго, их с матушкой сыночек хворает, малец еще, годов, как Мишке, но, если не передумали, приедет еще. Успокоила, что в доме все прибрали, покраси…
Она вдруг осеклась на полуслове, заметив, что Настя побледнела.
– Книга! Серафима, что с книгой? Скажи, ты видела ее? Пожар ведь от нее начался. Мишка хотел сжечь, я ее из печи еле достала!
– Толстенная такая? И как же он ее туды дотянул, паршивец? Ну, лежала она на полу, с печкой рядом. Что ей сделается – как новенькая. А ты говоришь, из печи достала? Ну, дела! На ней ни пятнышка, ничегошеньки. Михаил твой видел, тоже подивился. И знаешь, что скажу тебе, очень он на твою книгу злой. Пригрозил закопать куда подальше.
– Нельзя ее трогать, Серафима, непростая она. Я с ним поговорю. Как бы он большей беды не натворил.
Глава шестая
Дожидаться нового жилья семье Михаила пришлось недолго. После пожара на даче квартиру ему выделили вне очереди. Дом стоял на высоком берегу Москвы-реки посреди ромашкового поля и любимого пчелами донника. Воздух здесь можно было пить, как целебный чай.
– Мы едем жить в Москву, ура! – кричал Михаил-младший, которого врачи выписали из больницы только через два месяца после пожара. Он путался у взрослых под ногами, не давая укладывать вещи, скакал между ними на палке с лошадиной головой. – Мама, скажи, а лошади могут жить в доме?
– Да, дорогой, – Настя с грустью взглянула на сына.
Лицо его было обезображено двумя большими рубцами: от виска к подбородку. Одно веко нависало красным валиком, а мочка правого уха полностью отсутствовала. Доктора, правда, обещали, что можно будет убрать следы ожогов после того, как Миша перестанет расти.
– Моя вина, это я не доглядела. Господи, прости меня. – Она бесконечно винила себя и задавалась одним и тем же вопросом: почему книга, которая побывала в печке, осталась совершенно целой, а ребенок так изуродован? Она уговорила Михаила заказать сейф, чтобы хранить книгу в нем, и была уверена, что впредь не допустит того, чтобы книга попала в руки сына.
Первым в дом пустили Шкалика. Он к тому времени вырос, стал толстым и наглым. Шкалик дом оценил. Лениво заглянул в большие пустые комнаты, прошелся по широким подоконникам и устроился на кухне, поближе к плите. Настя не могла поверить, что вся эта громадная квартира из четырех комнат теперь ее собственная. Гостиная, спальня, детская и даже отдельная комната для няни! Она закружилась, задрав голову к потолку: красиво-то как – люстра хрустальная, стены в комнатах расписаны под шелк розовыми и голубыми пионами, огромная кухня с газовой плитой, большая ванная, душ с горячей водой… О таком она даже мечтать не могла, а еще был балкон.
Облокотившись на перила, они с Михаилом смотрели, как солнце садится за рекой в поля.
– Настя, ты только глянь, дивно-то как, – прошептал Михаил. – Теперь каждый закат будет наш.
– И восход тоже, – ответила Настя, положив голову на его плечо. – Наша комната окнами на восток смотрит. Миша, а давай новоселье справим, – предложила она, – гостей позовем, соседей твоих старых и еще кого хочешь.
– Скажи, Настёна, ты ведь в Москве долго жила, почему у тебя подруг совсем нет?
Настя вздохнула:
– Знаешь, Семен говорил, с кем попало общаться нельзя – может работе помешать. Всех моих подружек от дома отвадил, а его друзья мне не нравились. Вот если бы можно было моих девчонок лагерных созвать – Татьяну, Зинаиду, Катьку… Я часто о них думаю, все жду письма. Татьяна обещала своей почтой голубиной переслать, но пока ничего. Молюсь за них и верю, что вернутся они живые. Ну, не может же быть, чтобы Татьяну Карпинскую, любимицу народную, сгноили в лагерях. Не верю!
Михаил грустно усмехнулся. Закатное солнце погружалось во тьму, напоследок зловеще вспыхивая кровавыми струйками в темных водах Москвы-реки. Он укутал потеплее в платок Настины плечи и ничего не сказал.
Все попытки Михаила навести справки о Настином отце заканчивались ничем. Нигде по документации о репрессированных и отбывающих наказание он не значился. После долгих поисков наконец выяснилось, что протоиерея Иоанна Пермского расстреляли еще до войны и что дело его вел Семен Трепцов. Врал Сема Насте, врал с первого дня.
После вести о смерти отца Настя, страдая, вспоминала свою гадкую жизнь с Семеном – унижения, побои бесконечные, и еще ей часто снились лагерные подруги. Она ждала писем от Татьяны, но приходили они очень редко. В одном из писем, полученном накануне нового, 1948 года, Таня сообщила, что Зинаида умерла от внутреннего кровотечения, надорвавшись на лесозаготовках, куда опять вернули женщин, а Катя – от гнойного аппендицита: ее побоялся оперировать местный фельдшер. Настя проплакала всю ночь, мучаясь от сострадания и стыда за то, что ее собственная жизнь теперь так безоблачна: любящий муж – министерский начальник, дом – полная чаша, нянька при сыне, шофер по первому требованию, нет отказа ни в чем, спецпайки и спецбольницы, а подруги погибли, только бы Танечка выжила…
Впереди предстоял ответственный год – Миша пойдет в школу. Приступы ярости и сквернословия у него почти прошли, он рос бойким и сообразительным парнем, с феноменальной памятью и восприимчивостью к наукам. Слета его стали готовить к школе: купили новую школьную форму с белым пикейным воротничком, клеенчатый портфель, чернильницу-непроливашку, ручку-вставочку, перышки к ней и тетрадки в косую линейку. Настя очень боялась, что дети станут дразнить сына из-за шрамов, но тот с первых дней школьного года в обиду себя не давал, хотя и приходил домой с шишками и синяками. Учился легко, уроки делал моментально и тут же убегал во двор играть с ребятами в футбол. Насте разрешили вернуться на работу в музей. Она с головой ушла в изучение истории письменности и собиралась защищать диссертацию. Все для того, чтобы постепенно, шаг за шагом, расшифровывать язык древней книги.
Расшифровка шла тяжело. Она вела дневник, куда записывала свои маленькие открытия, составляя ряды частотности употребления тех или иных знаков в книге, но по-прежнему не могла прочесть ни слова. Настю мучила совесть, что она из-за своего эгоизма, трусости и тщеславия ставит препоны полноценному научному исследованию. Но желание передать книгу в музей для продолжения работы в команде с историками и лингвистами отпало после очередного необъяснимого события. В тот день, когда она твердо решила, что не имеет больше права скрывать историческую ценность, что бессильна перед таинственным текстом, начались мелкие странности, которые переросли в большие проблемы.
Утром, перед уходом на работу, сняв с шеи стило и заложив его в корешок, пошла за бумагой, чтобы обернуть книгу. Вернувшись, обнаружила, что книга пропала со стола. В доме находилась только Серафима. Мишка, «заклятый враг» книги, был в школе. Настя спросила Серафиму, не она ли, часом, ее куда переложила, но та лишь пожала плечами. Настя обыскалась, заглядывая под стол, стулья, под конец даже под диван полезла – и там пусто. Обычно книга хранилась в сейфе, и Настя вынимала ее только тогда, когда сын уходил в школу или крепко спал. Сейф был пуст. Не веря своим глазам, чувствуя, что не может найти объяснения пропаже, она обессиленно опустилась на пол. Вдруг хлопнула входная дверь.
– Серафима! – крикнула Настя. – Ты ушла?
– Кудыть ушла? У меня котлетки жарятся, как я могу отойтить! – Серафима, обтирая о фартук мокрые руки, появилась перед глазами.
– А кто дверью хлопнул входной?
– Так это Мишаня, как ураган пронесси, котлетку цапнул. У них учительница заболела, урок отменили, вот он домой и сбегал подкрепиться. А тебе что, и слова не сказал? Вот негодник!
– Серафима! Это он книгу взял. Господи, надо бежать за ним.
– Погоди бежать, пустой уходил. Сама видела. Портфельчика даже не было.
– Мог под одеждой спрятать.
– Да как он спрячет? Ее и поднять-то тяжело. Может, к себе в комнату утащил?
Они перерыли все ящики и шкаф в Мишиной комнате. Пусто. Пока искали, в дверь позвонили. На пороге стоял участковый и крепко держал упирающегося Мишку.
– Это ваш? – грозно спросил милиционер.
– Наш, – хором ответили женщины.
– Вот, пытался перебежать улицу в неположенном месте, создал аварийную ситуацию. Если бы не это, – милиционер протянул Насте тяжелый портфель, – был бы сбит проезжающим транспортом. Водитель затормозил, говорит, сам не понимает как. Машина словно об стену ударилась, когда под колеса портфель попал. Ваш сын бросил его на дорогу – и бежать. Считайте, чудом спасся. Теперь я должен оформить протокол и провести воспитательную работу с родителями. Учить надо детей улицу переходить.
Миша стоял, не поднимая глаз. Серафима утерла набежавшие слезы, а Настя изменилась в лице. Она поблагодарила милиционера и пообещала вместе с мужем и сыном зайти в отделение милиции для беседы.
Когда за участковым захлопнулась дверь, Настя открыла портфель. В нем лежала книга. Серафима ойкнула:
– А как же это объяснить? Он же без портфеля был?
Настя крепко тряхнула за плечи Мишку и посмотрела в зареванные глаза:
– Ты украл книгу! Зачем? Что удумал на этот раз? Ты специально оставил портфель за порогом, так? Чтобы мы не заметили, как книгу уносишь?
Миша громко заревел и, заикаясь, стал оправдываться:
– Я просто ребятам хотел показать, что тут такого? Я им сказал, что книга не горит, а они не верят.
Настя сглотнула:
– Ты хотел им доказать, что она не горит? А для этого собирался еще раз ее поджечь, так?
– Так она ж не горит!
– Запомни: никогда никакие книги нельзя сжигать. Так поступали только фашисты. И не смей брать чужое. Это моя книга, МОЯ. И будь любезен с этим считаться, иначе ты – вор. А теперь ты понял, что книга тебя спасла? Если бы не она, тебя бы уже не было.
Настя ничего не рассказала мужу, но решила, что теперь точно книгу не отдаст в чужие руки. Она не могла сформулировать «по науке» какую-то внятную материалистическую теорию, но могла поспорить, что книга мстит тем, кто на нее посягает. Семен захотел отнять ее – и погиб. Мишка, задумав книгу сжечь, – сам чуть не сгорел. Если бы не бросил портфель с книгой на дорогу, угодил бы под колеса. Настя все яснее осознавала, что книга вовсе не зло, а живой организм, борющийся за свою безопасность.
Михаил-старший давно потерял интерес к разгадке тайны и намекал, что с радостью закопал бы книгу поглубже. Не нравилось ему то, что Настя вечерами погружается в ее изучение, как в омут. Сидит, склонившись над страницами, с безумными глазами. Не мог он принять и того, что из-за «чертовой книги» Мишка весь в шрамах, но Настя теперь знала наверняка: шрамы – ерунда, книга от большего зла отвратила, сын остался живым, вот что главное. Однако она согласилась, что в доме держать книгу не стоит, в этом Михаил прав. Лучше всего устроить тайник под елкой и самой на дачу почаще наведываться. Вот и будет спокойнее двум Михаилам. Кстати, надо бы съездить, пока погода стоит хорошая, соседей пригласить по грибы, а потом на пироги с яблоками.
Сестры Прокофьевы и дед Егор с радостью откликнулись на предложение. Они приехали электричкой и сразу пошли в лес, а когда вернулись, пили чай с клубничным вареньем в компании с няней Серафимой. Во время чаепития одна из Прокофьевых подмигнула Насте и заговорщически прошептала:
– Ну что, девка, заждалась свою подружку? Тут от нее опять тебе письмецо, надеется, что скоро выпустят.
Но этим надеждам не суждено было сбыться до самой смерти вождя. Зато, когда Татьяна вернулась, казалось, пол-Москвы встречает ее цветами. Ее тут же вернули и на сцену, и на экраны. Того, кто упек в лагеря, давно расстреляли по доносу, а ей за главную роль в нашумевшем фильме присвоили звание народной и выдали ордер на квартиру в сталинской высотке.
Настю и Михаила Карпинская считала самыми близкими друзьями. Приглашала их на все премьеры, а на «Бесприданницу», где Татьяна играла Ларису, и на ее Катерину в «Грозе» они ходили по многу раз.
Накануне Нового года Татьяна объявила, что после спектакля все едут к ней отмечать новоселье. И она приготовила еще один сюрприз.
– Знакомьтесь, это мой муж Котя. – Татьяна потянула за руку хорошенького юношу, который был намного моложе и смотрел на нее по-собачьи преданно. – Котечка, не отпускай их никуда! – крикнула она, ныряя в гримерку. – Нет, Настя, ты со мной, пусть мужики на улице ждут, мне надо с тобой поговорить… Ну, как он тебе? – спросила Карпинская, как только закрылась дверь.
– Кто?
– Ну, Котя же? Только не говори, что молоденький очень, это и так понятно, но ведь красавец и умница большой. А любит как, с ума сойти можно. Осуждаешь?
– Танюшка, даже в голову не пришло. Ты-то любишь? Сама-то счастлива?
– Как никогда!
– Вот и замечательно. Радуйся, люби. Ты это выстрадала и заслужила.
– Ой, Настька, я так счастлива, что вы у меня есть. А ведь если б не лагерь, может, никогда бы и не встретились.
– Хорошее место для знакомства, ничего не скажешь. А помнишь, как ты в лагере спектакль ставила, как на охранников орала, когда слова путали? Я так боялась, что они тебя ударят.
– А я нет. Я тогда научилась страху в глаза смотреть не моргая. Слушай, все хотела тебе сказать, что твой Михаил просто шикарный мужик. Ему бы фрак пошел. Абсолютно чеховский персонаж. Порода в нем, выправка. Кто его родители?
Настя решила, что не стоит открывать их тайну даже близкой подруге:
– Да так, из мещан. Он на «Балтфлоте» служил, потом инженерный факультет закончил. А чем твой Костя занимается?
– В министерстве работает, что-то там насчет леса.
Татьяна снимала грим и без умолку говорила о Коте. Настя слушала и не перебивала, понимая, что Таня по уши влюблена и предмет разговора теперь у нее один.
– Знаешь, у Костика в жизни все всегда складывалось удачно. Он «золотой мальчик». То есть иногда случались мелкие неприятности, но мелкие. Родители работали во Внешторге, рос на Арбате, в отдельной квартире, ездил во Дворец пионеров, в числе правильных мальчиков и девочек из правильных семей отдыхал в Артеке. И школа у него была правильная, с углубленным изучением иностранных языков, и одежду покупали ему не фабрики «Мосшвея», и обувь не «скороходовскую» носил. Родители ездили по заграницам, и дома было все, что только можно пожелать. Говорит, что его не баловали и он даже сам в институт поступил, без всякого блата. Теперь, к своим двадцати пяти, имеет полный джентльменский набор: диплом торгового вуза, свободный английский и работу в том же самом мамином-папином ведомстве, в отделе лесоторговли. Ему даже невесту подыскали: барышню из приличной семьи, только что окончила медицинский институт. Свой доктор в семье – это ведь тоже правильно. А тут у нас премьера в Доме кино. Я на сцене в роскошном платье, ну, сама понимаешь… Бедный мальчик… он пришел на премьеру женихом, а вышел из зала влюбленным в другую. Я тогда укатила домой, сбежав с банкета, а Костик развил бурную деятельность и узнал, где я живу. Квартиру я только-только получила. Как уж он подлез к нашей вахтерше, чем ее охмурил, не знаю, только она ему выдала и номер квартиры и то, что получила я ее от правительства в качестве извинения. Когда я открыла дверь, передо мной стоял запыхавшийся юноша, который взбежал на восьмой этаж, не дождавшись лифта. Смешно, правда? Он просто ел меня глазами. Я говорю: воды выпей и сядь, не то упадешь здесь, что я с тобой делать буду? И цветы отдай, чего мнешь их, они не виноваты. Зачем пожаловал? А он мямлит что-то вроде: «Я на премьере был. Вы… вы такая, такая…» Хорошо, говорю. Любовь, значит? У меня гости скоро, что с любовью делать будем? Звать-то как? А он, представляешь, малиновый весь и по-детски так: «Котя. Ой, Костя». Так и остался этот котенок у меня, с того дня не расстаемся. И так с ним сладко, так спокойно! Знаешь, хозяйственным оказался, со вкусом. Мою квартиру в такой музей превратил, закачаешься. Сейчас сама увидишь.
Татьяна накинула на плечи каракулевую шубку и, взяв Настю под руку, потянула к служебному выходу. На улице возле подъезда стояла новенькая «Победа». Рядом топтались Михаил и Константин.
– Ну что, мальчики, не соскучились? Давайте в Елисеевский заедем и домой. Гости раньше одиннадцати не соберутся. У всех спектакли, съемки, концерты.
В Елисеевском гастрономе компания еле поспевала за Татьяной. Она взвешивала здесь, просила нарезать там, требовала показать и достать оттуда. Вихрем пронеслась через хлебный и винный отделы, и вот наконец, нагруженные покупками, они подъехали к дому на Котельнической набережной.
Настя считала свой дом в Щукино верхом совершенства, но дом на Котельнической показался ей дворцом: зеркала в подъезде, лампионы, лифт, облицованный панелями красного дерева. Но более всего поразил Настю наборный паркет в Таниной квартире: несколько пород дерева были подобраны так, что создавалось впечатление восточного ковра с лилиями.
– Господи, Таня, роскошь какая!
– Да, Настёна, особенно после клуба нашего барачного. Я на кухню, а вы тут отдыхайте.
– Я тебе помогу.
– Ни в коем случае! Сейчас мои помощники приедут, повар и официантка.
Настя отодвинула лиловую плюшевую штору на окне в гостиной. Внизу, вся в огнях, лежала Москва. Аж дух захватило от такой красоты. Обернулась и заметила, что на лакированных цветах паркета также заиграли теплые огоньки.
– Скажите, Костя, а вот паркет такой красивый, это кто делал? – обратилась она к Таниному ухажеру.
– Это мастера на Урале. Я туда по делам часто езжу. Вот один раз они мне такой подарок преподнесли. Пришлось и мастера с Урала сюда привезти, всю эту красоту собирать. Вот смотрите: розовый цвет – это груша, а здесь кедр, ольха, сосна, береза карельская.
Михаил с интересом прислушался и вспомнил, что в их усадьбе под Николаевом был очень похожий паркет. Вряд ли, конечно, делал тот же мастер, но, возможно, его ученик. Важно другое – в мясорубке революций и войн все-таки уцелела красота. Уж как старались пролетарии разрушить старый мир и на его обломках построить новый, уродливо-справедливый, но, уничтожив классовое неравенство, породили кастовость. Свергли царей, но утвердили абсолютную власть тирана. Боролись с религиозным культом – и заменили его культом личности. Со смертью Сталина все должно измениться, без такой надежды просто невозможно жить.
Михаил наблюдал за женой и Татьяной – теперь они суетились возле праздничного стола – и думал, что эти женщины, с их тонкими запястьями, алебастровыми шеями, узкими плечами и рюмочными талиями, тоже красота, которая сохранилась вопреки всему. Он налил шампанского и выпил за них, никому не сказав ни слова.
Скоро дом загудел как улей. Легендарная балерина, соседка по лестничной клетке, впорхнула на кухню за щепоткой гвоздики, оставив за собой шлейф дивного корично-яблочного аромата яблок. Из приоткрытой двери ее квартиры, как из театральной кулисы, доносились оперные арии, звуки рояля и аплодисменты. Очередной звонок, и в Танину квартиру зашла самая красивая «свинарка» отечественного кинематографа со своим несимпатичным, как показалось Насте, мужем-режиссером. Места в шкафу для шуб уже не хватало, гостья стояла в растерянности, не зная, куда пристроить свое норковое манто. Мужа сразу увели в сторону, и о жене он забыл напрочь. Настя бросилась к актрисе, предложив помощь. Ослепительно, но как-то искусственно улыбнувшись, та протянула ей влажную меховую шкурку, сладко пахнувшую духами. Насте пришло в голову, что у актрис, как у кошек, есть много жизней и в какой из них они более счастливы – неизвестно. В ненастоящих, экранных, эти женщины бессмертны и всеми любимы, а в обычной жизни их предают и бросают. Она вспомнила о Таниной влюбленности, и в сердце кольнула тревога, но Настя отогнала от себя плохие мысли. Пора было идти к столу, там уже кто-то громко произносил тост за Новый год.
Снег, летящий за окном, быстро таял. Никто в шумной компании не видел, как по циферблату часов на Спасской башне Кремля медленно стекают струйки талой воды. До весны было еще далеко, но пришел 1956 год, а с ним – долгожданная оттепель.
Глава седьмая
Они так и продолжали дружить вчетвером: Татьяна, Котя, Михаил и Анастасия. Вместе ездили на дачу в Катуар, жили там подолгу, если позволяла работа. Вместе ходили на выставки, вместе отдыхали на море. У Тани был плотный график съемок, а Котя все чаще уезжал по делам на Урал. Хрущевская оттепель постепенно ушла, будто и не было ее, но все же, как и положено после дружной весны, проклюнулись росточки новой, более свободной и радостной жизни. Жизнь эта заявила о себе неудержимым, ярким, непричесанным искусством. Оно не прославляло, не помогало строить светлое будущее – оно само было этим будущим. Партийные «бульдозеры» пытались сровнять с землей творчество абстракционистов, скульпторов и поэтов, но закатать подчистую уже не удавалось. Даже наступившие «заморозки» не смогли уничтожить новую поросль. Она оказалась живучей и гибкой, разбегающейся в разные стороны и уже совершенно непригодной для укрепления фундамента социализма. Цемент общественного строя осыпался, как песок, самиздат кувалдой выбивал опорные балки идеологии, кухни гудели, психушки пополнялись инакомыслящими.
При этом вечный рулевой страны – страх – никуда не делся, хотя кустистые брови нового кормчего никого не пугали. Страна все больше погружалась в летаргический сон, однако семье Михаила и Насти было не до сна: их единственный сын Мишка все больше отдалялся от них, превращаясь в алкоголика. Формально он учился в автодорожном институте, но уже несколько раз заваливал сессию и был на грани отчисления. Михаил-старший много раз пытался поговорить с сыном, но после прочистки мозгов Миша исчезал, не предупреждая родителей, куда и надолго ли. Настя не находила себе места. Не могла понять, откуда в сыне столько жестокости и столько равнодушия. Страдали все. Серафима сдавала на глазах и все чаще присаживалась «на минуточку», хватаясь за сердце. Она уже не жила с ними, а просто ежедневно приходила помогать по хозяйству.
Как-то раз Насте понадобилось расплатиться за доставку спецзаказа из магазина, но денег в столе не оказалось. Вчера у мужа была зарплата, и он обычно клал в ящик стола пару сотен на неотложные нужды. Она зашла в его кабинет:
– Мишенька, ты, наверное, забыл из портмоне деньги выложить. Мне расплатиться надо, заказ привезли.
– Настя, как же это? Я вчера положил в стол двести рублей, поищи лучше, может, среди твоих квитанций потерялись?
Но денег в столе не было. В доме завелся вор, и все знали, как его зовут.
Утром Михаил растолкал сына:
– Миша, тебе в институт не пора?
– Пап, у нас сегодня две пары, с часу только, дай поспать, я поздно лег.
– Мне срочно нужно с тобой поговорить.
– Пап, ну, поговорим после, будь человеком, спать хочу.
– Миша, у нас из письменного стола пропали деньги, большая часть моей зарплаты. Ты взял?
– Я? Нет, ты что! – Он наконец оторвался от подушки и сел, свесив ноги с кровати. – Я не брал. Ты Серафиму спроси.
– Миша, Серафима болеет и третий день не приходит. И так уже не захотела жить с нами, не догадываешься – почему?
– Пап, ну ты как маленький прямо! Днем никого дома нет, а ключ у Серафимы свой собственный. Пришла, взяла и ушла, будто и не было ее. Она и раньше брала. У меня из кармана деньги пропадали. Я просто говорить не хотел.
– Миша, Серафима человек набожный, для нее это грех великий.
– Но ведь пропали деньги. Неужели ты думаешь, уважаемый Михаил Александрович, что я, твой единственный сын, не попросил бы у тебя денег в случае крайней нужды?
– Миша, прошу тебя ничего не говорить матери. И больше так не делай. Я знаю, что это ты, больше некому. Я сам буду тебе давать деньги каждый месяц. Скажи, сколько? Кстати, почему ты не получаешь стипендию?
– Пап, там с деньгами сложности. Хватает не всем, а только тем, кто нуждается.
– Да-да, конечно.
– Но ты же понимаешь, мне на учебники, бывает, деньги нужны. Сейчас, знаешь, как сложно учиться.
– Хорошо, я буду давать тебе на учебники и на еду, но если ты еще раз придешь домой пьяный, денег не получишь.
– Да ты чего наезжаешь? Когда это я был пьяный? Так, с друзьями по пивку пропустили. Ну что за бред!
Вечером Михаил отдал жене деньги, которые взял в сберкассе, и сказал, что впредь правильнее будет, если всю зарплату сразу же класть на книжку. И Серафиме тоже надо сделать сберкнижку и класть туда определенную сумму на покупки. Главное, чтобы в доме деньги на глаза не попадались. Настя расстроилась, догадавшись, почему он хочет принять такие меры.
– Да, Миша. Но послушай, это же ужасно. Что же делать? Что делать?
– Делать, я думаю, нужно было раньше. А сейчас просто не будем создавать условия для повторения подобного.
Когда родители наконец ушли на работу, Михаил накрутил диск телефона:
– Слушай, Родик, предки просекли, что я мани увел. Больше не смогу тебе платить.
– Захочешь, чтобы не узнали про твой вылет из института, – найдешь, – ответил приятель.
– Родька, а ложечки серебряные тебе подойдут? У нас хорошие ложечки есть.
– Пошел ты со своими ложечками. Неси их в комок. Мне они на кой сдались?
Выход нашелся сам собой. Миша глянул в окно. Во дворе какой-то забулдыга вытаскивал бутылки из контейнера. «Вот займусь стеклотарой, а потом в институте восстановлюсь, и никто не узнает». Эта мысль успокоила, и, быстро одевшись, он спустился к магазину. Стеклотару принимали со двора, мать и отец пустые бутылки аккуратно выставляли возле помойки: «Кому надо, заберут», и можно было не волноваться, что ненароком столкнешься с предками нос к носу.
Мишу взяли на работу сразу. Зарплата, правда, совсем крошечная, но зато обещали процент от сдачи. Тетка в сером халате и засаленном переднике, главная по приему стеклотары, научила: «Говори быстро, считай в уме и называй цифру на двадцать – тридцать копеек меньше, в пролете не останешься».
Дня три все шло гладко. На четвертый появился щуплый мужичок, который заранее дотошно посчитал стоимость посуды. Миша назвал сумму на восемьдесят копеек меньше. Первый раз его предупредили, на второй раз он попал на работника ОБХСС. Потом только он догадался, что его поставили на предобеденное время специально: проверки шли именно в эти часы. С работы он вылетел без разговоров, а «старая гвардия» не пострадала.
Теперь Миша был умнее, поехал в центр города. На площади Восстания, в высотке, тоже был магазин. Он устроился туда грузчиком. Клавдия Васильевна, директор магазина, когда принимала от него заявление о приеме на работу, заметила не только ожоги на лице, но и то, что лицо у парня красивое, породистое.
«Бедный, эк его жизнь-то не пожалела», – подумала сердобольная женщина и стала подкармливать новенького в обеденные часы, а вечерком не скупилась на рюмочку. Она не нагружала его «грязной» работой – гораздо чаще просила подсобить в бухгалтерских делах. Миша быстро складывал в уме трехзначные числа, все только диву давались.
Работая директором магазина в режимном районе, снабжаемом по первой категории, Клава была крайне осторожна. Слететь с должности, которая считалась золотой, ничего не стоило. Дефицитным товаром нужно было снабжать вышестоящее начальство и вообще «хороших людей». Понятно, она и себя не обделяла, меняя один дефицит на другой: на приличную одежду, на билеты в театр или в Дом кино, на подписки книжные, да мало ли еще на что.
Как-то раз она пригласила Мишу в театр. Он приехал хорошо одетый, на собственной «Волге».
«Ба! Так мальчик еще и при деньгах», – обрадовалась Клава.
Разница в годах у них была немалая. К тому же выглядела Клава – а была она женщина высокая и дородная – намного старше своего возраста. В тридцать пять ей давали все сорок восемь. Субтильный Михаил казался рядом с ней мальчишкой.
«А пусть говорят, что хотят. Мой он. Родители, вон, заморили, грузчиком работать отправили, а я человека из него сделаю. Нечего ему в грузчиках сидеть. Пойдет на бухгалтера учиться. Стоп, а откуда у него костюм дорогущий, “Волга” откуда? Ведь не у приятеля попросил, это сразу видно…»
И Клава решила во всем разобраться.
Как-то вечером, войдя в бухгалтерию, она облокотилась о стол и ласково произнесла:
– Ты это, Мишань, сегодня после работы не уходи, у меня к тебе дело есть. Надо обсудить кое-что. Подъедем ко мне домой.
В восемь вечера они, нагруженные сумками с дефицитом, сели в такси. Жила Клава не где-нибудь, а на Ленинградском проспекте. Когда-то давно, лет восемнадцать назад, у нее была любовь с сынком высокопоставленного цековского работника. Сынок через полгода решил уйти, а в качестве отступного Клава, изобразившая глубокую беременность, получила двухкомнатную квартиру, пусть и в хрущевке, зато в приличном районе. Обставлена квартира была старинной мебелью из комиссионки, на окнах плюшевые гардины, в буфете сиял хрусталь.
– Видал! Я же деревенская, а сама в люди выбилась, никто не помогал. В пятнадцать в Москву приехала, колхоз учиться послал. На отлично техникум закончила, только дудки обратно. Цеплялась за столицу зубами, ногтями, всем, чем могла, зато теперь человек. Будем ужинать, Мишань?
Клава разогрела борщ и пирог с мясом, достала бутылку перцовки. Выпили, закусили. Готовить она всегда была мастерица. И теперь, глядя, как Михаил ест, жалела его самой большой бабской жалостью, на которую была способна. Как уж дальше вышло, она и не помнила.
Закуривая после жаркой любви на широкой, красного дерева кровати «а-ля Людовик», Михаил разоткровенничался. Она узнала, что на самом деле он сын большого министерского начальника, что бросил институт, что обгорел он в детстве, а родился в мордовском лагере, где сидела мать. Еще поняла, что родители его не любят, не понимают совершенно, поняла и то, что учиться он не хочет, а хочет жить как человек: носить красивые шмотки и ездить за границу.
«Бедный, – подумала Клава, – как тебя жизнь-то не пожалела. Ничего, я пожалею. Мы с тобой, Мишаня, сыночка родим. И будет у меня муж, а у тебя семья настоящая, не то что сейчас. А что молод, так это и хорошо, это даже и лучше».
Почему лучше, она пока не придумала.
– А ты знаешь, Мишань, ты скажи своим, что хочешь в общежитие переехать, вроде как самостоятельным быть. А сам ко мне перебирайся, лады?
«Ведь это выход, – подумал Михаил. – Родька меня здесь не достанет».
О том, что он съезжает в общагу, родителям заявил с порога на следующий день. Настя расплакалась. Держась за сердце, осела на диван и потеряла сознание. Михаил-старший кинулся к ней и скомандовал, чтобы сын звонил в «скорую». Шнурок, на котором висело стило, перекрутился, запутался и плотно сдавил Настину шею. Михаил разрезал его ножницами и бросил вместе с подвеской на пол.
«Скорая» приехала, когда Настя пришла в себя, но жаловалась, что темно в глазах. Врач настоял на том, чтобы везти ее в больницу, мать и отец уехали, а Миша остался.
Утром он своего решения не изменил. Уходя, заметил на полу брошенную с вечера странную штуковину, которую мать все время носила на себе. Знал, что штука эта старинная и что в ней таится какая-то загадка, но какая – понятия не имел. Он разглядывал острую палочку со странными знаками по бокам. Металл, из которого она была сделана, не тянул на благородный.
«Железка какая-то, и чего мать с ней носится? А вдруг действительно дорогая, кто знает? Надо бы в скупке оценить, даже интересно… Сбегаю проверю, а потом верну. Предки, понятно, искать будут, а я приеду и вроде как сразу найду», – подумал он.
В антикварной скупке на Арбате приемщик долго рассматривал стило, потом куда-то ушел посоветоваться и в конце концов предложил сто рублей. Миша не хотел отдавать, но кто-то внутри подсказал: «Бери, парень, это же деньги хорошие за такую хрень. С товарищем расквитаешься». И он оставил стило антиквару, который в последнюю минуту засомневался в правильности сделки. Крутил пустую трубочку в руках и сам не понимал, почему заплатил так много и зачем эта вещица ему нужна.
На следующий день Миша домой не вернулся, но позвонил узнать, как там мать. Отец сразу спросил не о том, где сейчас находится сын и собирается ли вернуться, а о пропавшей подвеске. Мишу эту очень обидело.
– Да не видел я ее, может, куда закатилась или врачи со «скорой» сперли. Вместо того чтобы про цацку спрашивать, лучше бы поинтересовались, как и где ваш сын родной жить будет. Эх, родители! Без вас проживу, и не в общаге задрипаной. У меня теперь семья будет настоящая, не то что вы…
С Клавой жить было одно удовольствие. Она не утомляла нотациями, не приставала с расспросами. Михаил работал в день от силы часа три, а остальное время проводил, как ему вздумается: мог с товарищем в пивнушке посидеть, а мог на танцы завалиться. Главное, прийти домой вовремя, чтобы не дразнить ревнивую Клаву.
Как-то летом решил проведать родителей, а заодно пригласить их на свадьбу. Хоть и не шибко хотелось, но Клава настаивала, что все должно быть по-человечески. Свадьбу она готовила грандиозную. Михаил за те сто рублей, что получил у антиквара, купил ей толстенное дутое кольцо. Клавку он с собой на дачу не взял, понимая, что не придется она ко двору, лучше пусть прямо на свадьбе увидят. Прежде чем выйти из дому, выпил для храбрости, а в том, что предки на даче, не сомневался – те в городе никогда на лето не оставались. К тому же телефон городской квартиры не отвечал.
Дача утопала в зелени, деревья разрослись, на яблонях, как шары на новогодней елке, зрели плоды. Стараниями Серафимы поспевал обильный урожай овощей на длинных грядках.
– А, блудный сын явился, – грозно произнесла Серафима, выпрямляя спину. – И где ж тебя носило? Горе у нас: Настасья Николаевна болеет. Уже второй месяц. Как ты уехал, так и заболела сразу. Пропажа у нас случилась – подвеска ее пропала, оберег ее. С тех пор везде ищет. Не ест, не спит. Иди к ней, может, признает тебя.
– Что значит «может, признает»? Я же ее сын.
– Иди, иди, сам все увидишь.
Настя его узнала. Вот он, любимый и единственный ребенок. Вырос, взрослый совсем… а шрамы откуда? Ведь не было шрамов…
А Миша мать не узнал. Она превратилась в сухонькую старушку с трясущимися руками и головой. Рот перекошен, глаза выцвели.
– Мишенька, кто тебя так поранил?
– Мама, мама. – Мишин кураж и хмель слетели мгновенно. Он опустился на колени перед инвалидной коляской. – Ты не помнишь, мама? Ну, как я в печку полез маленький и обжегся? Книжку в печку пихал, пихал, пока не загорелось все вокруг, не помнишь?
– Бедный мой мальчик, маленький мой. Не уберегла тебя от гнева ее. Господи, грешна перед тобой. Прости меня.
– Ну что ты, мама!
Он гладил ее по рукам, голове, прижимал к груди, такую маленькую, беззащитную, родную.
– А розан ты мне принес? Он должен быть красный.
– Прости, мамочка, без цветов я.
– А стило мое принес?
Михаил, опустив голову, заплакал:
– Прости меня. Я виноват, я скотина последняя. Но я его найду, принесу, вот увидишь.
– Богородице отдай, а мне оно уже ни к чему. Я и без него все теперь вижу, все, что в книге этой и что на Земле и на Небе. Что будет, знаю. Все теперь ясно стало. Ты мне веришь? Я тайну открыла и тебе только ее расскажу. Дай ушко.
Михаил прислонился ухом к ее губам, но из Настиного горла вырвались страшные хрипы и скулеж. Он в испуге отпрянул.
Подбежала Серафима и обняла бьющуюся в судорогах хозяйку.
– Ложку давай, там, на столе! – крикнула она Михаилу. – Надо в рот засунуть, чтобы язык не прикусила. Так всякий раз, когда про книгу вспоминает. Сил уже нет. Помоги, тяжелая она.
Анастасия изогнулась, как в падучей. Изо рта потекла слюна. Потом она обмякла и, казалось, заснула. Дыхание стало глубже, голова упала на грудь.
– Давай в кровать перенесем, – попросила Серафима. – Отца дождись, не уходи. Ему тяжело. Поговори хоть. Он скоро будет. Да вот, слышишь, машина подъехала.
Михаил застыл на пороге, увидев сына. Словно натолкнулся на невидимую преграду. Его глаза, жесткие и колючие, впились в сына.
– Ну, здравствуй. И каким ветром тебя занесло?
– Вас проведать. На свадьбу пригласить. Не знал я…
Михаил Александрович сморщился: от сына разило водкой.
– Уходи, Михаил, прямо сейчас уходи. Видеть тебя больше не желаю. Иди думай, как дальше жить. Только помни: ложь и воровство отольются тебе сполна. Ты не пожалел самого родного человека.
– Ты о чем?
– Я все сказал, уходи.
Миша выбежал из калитки и бежал еще долго, не разбирая дороги. В тот же вечер он пришел в скупку на Арбате, но она была закрыта на переучет. Потом выяснилось, что магазин куда-то перевели и теперь на этом месте будет кафе, а где откроется скупка, да и откроется ли вообще, пока неизвестно. Миша немного подергался, чтобы разузнать, а потом не до этого стало. Приготовления к свадьбе оказались делом нешуточным.
После свидания с сыном Анастасия прожила недолго. Она все чаще уходила в свой дивный мир, а потом долго не могла вернуться назад – дороги не находила. Каждый вечер требовала книгу:
– Где книга? Цела ли, Мишенька, скажи, цела?
– Да, Настя, все с ней в порядке.
– Так дай же мне почитать. Что же ты не даешь? Ничего, я у Марфы попрошу, она даст. Вон на поставце ларец, в нем книга, а стило пропало. Сын украл, но не по воле своей. Его Гришка Распутин надоумил, потому как ему стило позарез понадобилось. Воскреснет он и с врагами расправится. Грех это великий, через него погибель придет…
– Настя, давай ужинать будем.
– Да-да, Мишенька, сейчас. Надо только норму выполнить, ветки срубить, много веток. Колючие они, цепляются, тянут к земле. А не выполню норму, так пайка не будет.
– Фима, скажи, ты лекарства все давала, которые профессор выписал?
– Не беспокойтесь, Михаил Александрович, все, как велено, делаю. Вон у меня и бумага на стене, когда что давать вечером и утром.
Если погода была хорошей, Михаил возил жену погулять у реки. Как просила Настя, подкатывал инвалидную коляску почти к самому обрыву, за которым уже не было видно берега, только водная гладь, да так близко, что, казалось, можно сделать шаг и войти в реку или улететь на небо.
– Миша, смотри, ангел пролетел, тот самый, с елки, только черный, – указала пальцем на темное облако Настя. – Этот черный Мишку и послал сюда…
Михаил прикрыл пледом Настины дрожащие плечи, поцеловал в висок, сказав что-то ласковое, утешительное, в надежде сменить тему разговора, но не удалось.
– …послал и приказал ему с книгой расправиться. Задание у Мишки такое – уничтожить ее и нас заодно.
Михаилу стало не по себе. Он покрепче обнял Настю, стал поглаживать по голове, плечам, пытаясь предупредить новый приступ. Сильная дрожь сотрясала все ее тело, речь становилась все сбивчивее.
– Не гони его, – взмолилась, вцепившись в руку, Настя. – Слышишь, не гони! Хоть и не сын он тебе… Разве не заметил? Семен его отец… или Василич, не помню… Все они за книгой охотятся. Прогонишь, а Мишка войско за собой приведет черное. Лучше сам убей. Стило мое продал за тридцать сребреников. Но уже в лесу родилась сестричка, она его найдет и вернет. Только и ей недолго жить. Бесы по следу идут, а след сюда ведет, к дому нашему, где книга спрятана. Всех по очереди убьют, а детей не смогут. Время пришло. Не прочтут люди книгу, погибнут. Сыну человеческому открылась тайна, да и того распяли, хотел научить нас – не вняли… Потому страдаем, болеем, убиваем… Только бы Мишенька не помешал! Его подослали. Надо было толкнуть его в бездну темную, откуда пришел, а я спасала. Но я же люблю его! Как быть? Ты что думаешь? А давай считалочку прочтем. На золотом крыльце сидели… кто первый выйдет, тот и умрет…
– Настенька, дорогая, никому умирать не надо. Миша наш с тобой сын, да и похож на меня очень, только он немного с пути сбился. Ничего, скоро женится и придет к нам с женой. Будем внуков нянчить.
Проглотив комок слез, Михаил покатил к дому коляску с больной женой. В тот вечер он долго размышлял над тем, что в Настиной болезни книга сыграла роковую роль. В чудесные свойства книги он уже не верил, проклиная день, когда нашел ее под землей. Не в силах заснуть, он метался в постели, прислушиваясь к тяжелому дыханию жены. Как сделать так, чтобы Настя забыла о книге, Михаил не знал.
Они прожили на даче все лето, и лишь в конце сентября, когда наступили холода, Михаил решил, что пора перебираться в город. За день до отъезда он поехал навести порядок в городской квартире и попросил Серафиму еще раз свозить Настю на речку. Серафима усадила ее в инвалидную коляску и укутала потеплее одеялом. Настя потребовала книгу. Решив, что ничего плохого не будет, если хозяйка посидит почитает у реки, Серафима вынула книгу из сейфа. Выкатив коляску на пригорок, поставила подальше от края обрыва, но Настя попросила сделать так, как Михаил Александрович делает: «Чтобы река под ногами текла». Подтолкнув коляску чуть ближе к обрывистому склону, Серафима села рядом. Спустя четверть часа она заметила, что Настя, недолго полистав книгу, заснула. У Серафимы на душе кошки скребли – никак не могла вспомнить, сняла ли с огня кастрюлю с картошкой. Что воду слила, помнила хорошо, а что дальше – забыла. Если кастрюля стоит на огне, то подгорит или, хуже того, сгорит полностью. Этого еще не хватало! Решила, ничего не случится, если она Настасью Николавну одну тут оставит. Если даже та вдруг проснется, то ни встать, ни повернуться без посторонней помощи не сможет. Успею, одна нога там, другая тут.
Серафима управилась минут за десять, не больше. Когда бегом возвращалась, издали заметила, что коляска исчезла. Еле добежала, сердце чуть не выскочило из груди. Упав на колени – ноги не держали, – поползла к краю обрыва. Глянула вниз и обмерла от ужаса: из воды торчали колеса перевернувшейся коляски, а рядом, улыбаясь и обратив неподвижный взгляд в небеса, покачивалась на волнах Настя; книга была зажата в руках. Серафима закричала в надежде, что хозяйка услышит, но та не отзывалась. Спуститься вниз по отвесному склону Фима не смогла, пришлось вернуться в дом, позвонить Михаилу и позвать соседей на помощь. «Скорая» и милиция приехали не сразу. Все это время Настя так и лежала на воде, словно отдыхая. Не ушла под воду, не захлебнулась. Ее даже не снесло течением.
Следствие затруднялось объяснить, как пострадавшая, будучи, по свидетельству врачей, почти полностью парализованной, могла самостоятельно столкнуть вниз коляску. Не исключали версию предумышленного убийства, даже Серафима попала под подозрение. Был еще один странный фактор: в легких Анастасии не обнаружили воды. Она умерла из-за остановки сердца еще до того, как оказалась в реке. Тогда почему в течение часа удерживалась на поверхности. Что ее держало?
Михаил не чувствовал горя – он ничего не чувствовал. Будто вчера у него были две ноги и две руки, а сегодня по одной осталось. И не знал он, как теперь жить на этом свете одноногим и одноруким.
Фима, мучаясь виной за смерть Насти, решила податься в монастырь – замаливать грех. Перед тем как уйти, позвонила по телефону, который Мишка продиктовал, когда в последний раз приходил. Трубку взяла женщина:
– А ты кем ему будешь, Фима?
– Скажи, няня.
– Ну, жди, няня, сейчас позову.
– Алё, – хриплым голосом спросонок отозвался Миша. – Ты, что ли, Фима? Чего надо? – И тут же осел у телефона.
Обхватил голову руками, выдохнул и, не сказав ни слова, заплакал. Плакал долго, утирая слезы рукавом пижамы, а они лились и лились по небритым щекам.
– Это из-за меня! Это я, сволочь, ее убил. Скотина я, Клава, подлая скотина….
Клава подошла и, как ребенка, подняла с пола, усадила на кровать:
– Тише, тише, Мишань, ну, чего стряслось?
Говорить он не мог, только плечи тряслись. Наконец еле выдавил из себя:
– Мама умерла. Мамы больше нет. Это я ее доконал, это я во всем виноват, я один.
– Ну-ка, выпей. – И она налила полный стакан коньяку.
Он выпил, не морщась, будто воду.
– Никто не виноват, – успокаивала его Клава. – Это жизнь, судьба. Одевайся, отцу сейчас подмога нужна. Поехали.
– Не могу, Клава. Стыдно мне. Сама звони, спроси, когда хоронить будут и где. Сейчас никуда не поеду.
– И то правда, иди приляг, а я к вам на квартиру сгоняю, разузнаю что да как.
Клава пошла одеваться, а Михаил крутился, вертелся, но заснуть не мог. Мысли его, как с ледяной горки, все время соскальзывали в далекое детство. Попытался думать о маме, но почему-то вспомнился Василич и вкус леденцов из жженого сахара. Рот наполнился вязкой слюной, его чуть не стошнило. Горячая испарина выступила на лбу, заныли шрамы, и сразу накатило: печка, жар, книга… Да, книга, над которой ночами сидела мать. Он вспомнил, как капризничал, все хотел помешать ей. Ревновал к этой книге или еще что? Она вставала, ложилась рядом и пела песенку про серенького волчка, хватающего за бочок непослушных детей. Миша прислушался, ему показалось, что под кроватью кто-то дышит. Он с трудом отполз от края, но детский страх подбирался все ближе. Пересилив себя, заглянул под кровать и свалился бы головой вниз, но в последний момент ухватился за одеяло. Еле отполз на середину постели, чтобы волк не покусал – тот, что сидел сейчас в темноте и смрадно дышал.
– Клава, Клава! – закричал, рыдая. – Волка прогони, он там, под кроватью, сидит!
Клава перепугалась: уж не «белочка» ли Мишку накрыла? Легла рядом, придавила теплой грудью, и Миша не заметил, как задремал. Засыпая, думал, что с Клавой ему нечего бояться: она кому хошь, и этому сраному волчаре, пасть порвет…
На следующий день Клава, навестившая свекра, узнала, что Серафима ушла в монастырь замаливать свою вину. Миша, ни минуты не раздумывая, поехал вызволять Фиму, снять грех с ее души. Перед ней он покаялся во всем – что воровал и что стило в скупку сдал. Признался, что отца всегда недолюбливал, чувствуя в нем чужого, а на мать обижался: увезла его от Василича, да и книга для нее дороже всего на свете, даже сына дороже – так он думал.
Серафима слушала, охала и, как в детстве, жалела:
– Слаб ты, Мишаня, ох, слаб. Мучают тебя бесы. А все потому, что дверца в душе крест-накрест не заперта, и ходют те бесы сквозь тебя, как по бульвару: туда-сюда, туда-сюда, – и гадят постоянно. Ты знай: ту дверцу только молитвой закрыть можно. Захочешь – научу. И вот еще что подумала, Господь и без меня тут обойдется, а Настасье там спокойнее будет, если я за Михаилами ее присмотрю. И правда, поедем-ка домой.
Хоронить Настю пришли самые близкие люди, которых было немного. Сестры Прокофьевых давно уже на тот свет перебрались. Дед Егор, которому было под девяносто, держался, как мог, но, вспомнив, что уже вторую жену Михаила хоронит, схватился за сердце и осел на кладбищенскую дорожку. Татьяна Карпинская приехала с мужем Котей. Все стояли перед храмом Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в ожидании начала заупокойной службы. Серафима сама похлопотала, чтобы по бумагам смерть Анастасии проходила как несчастный случай, а не самоубийство: тяжко болящая она была, не ведала, что творила.
Младший Михаил стоял рядом с Клавой. Увидев Карпинскую, Клава преобразилась, засияла неподобающей моменту улыбкой:
– Ой, здравствуйте, а я вас знаю, вы артистка знаменитая.
– Да-да, здравствуйте, – ответила сухо Татьяна, смахивая набегавшие слезинки. Очень многое было связано в ее жизни с этой лежащей в гробу маленькой долготерпеливой женщиной, подругой, красавицей, светлым человеком.
– Я – Клавдия, а это – мой муж Михаил, – не переставая улыбаться и заискивающе смотреть в глаза артистке, сказала Клава.
Татьяна прищурилась: она хорошо знала, что в последнее время происходило в семье Степановых, знала и про все похождения Миши. Когда они собирались на семейные торжества, Миша, как правило, линял. Она подозревала, что неспроста, да так оно и было. Карпинская всегда казалась Мише высокомерной, ее Котя – полным придурком, а застольные разговоры об искусстве – скучнейшей белибердой.
– Здравствуй, Миша, давно не виделись. Поздравляю. Что же ты на свадьбу не пригласил?
Клава всполошилась:
– Да как же так! Он мне даже не сказал, что вы знакомы! Извините, если бы я знала… Все гости просто с ума бы посходили от зависти – живая Карпинская! Нет, правда, приходите к нам. Стол накроем – закачаетесь. А хотите, можно в ресторан. Отметим как следует. – Клава заметила стальной взгляд актрисы и осеклась. – Не сейчас, конечно. Такое горе. Но я все, что смогу для вас…
Миша был готов провалиться сквозь землю. Или хотя бы стать меньше ростом, словно стыд его станет незаметнее.
– Мы же теперь почти родственники, – никак не унималась Клава. – Вы, Танечка, за дефицитом подъезжайте, я завсегда своим помочь рада. На площади Восстания, в высотке, мой продуктовый. Я там директорствую. Так что, если к празднику чего, заходите по-свойски.
– Спасибо.
– Я спектакли ваши ни один не пропускаю, на все хожу.
– Пойдемте, отпевание сейчас начнется.
Михаил Александрович, заметив сына с невесткой, подошел и протянул руку:
– Здравствуй, Миша. Спасибо за Серафиму. Она мне все рассказала.
Миша неловко обнял отца и прошептал:
– Прости, папа, прости меня, дурака. Моя это вина, только моя.
– Бог простит. Я тебе не судья. Она ушла и забрала все грехи наши, твои и мои. Теперь живи честно. Пойдем, сынок.
Глава восьмая
После похорон Насти случилось еще одно захоронение. Михаил-старший решился наконец покончить с проклятием всей их жизни – с книгой. Он никому не говорил, но считал ее причиной Настиной болезни и смерти. Выводы следствия, что, дескать, книга сыграла роль спасательного круга, его не убедили. Ведь слишком тяжелая она и, наоборот, как камень, должна была утянуть Настю под воду. Но как в огне не сгорела, так и в воде не утонула, что в принципе невозможно… Ему хотелось поскорее покончить с этими загадками. Как он и обещал Насте, книгу не отдал, да и уничтожить не попытался. Снова закопал ее под елкой, чтобы в исполнение еще одной просьбы жены передать книгу внукам. Сомневался, правда, что доживет до этого момента, но огорчать своей смертью Мишку, его неумную жену Клаву, верную Серафиму, Танечку Карпинскую и ее Котика, которые изо всех сил старались ему помочь, не хотел – вот и жил по инерции.
В снах часто приходила Настя – веселая, молодая. Однажды приснилась с младенцем на руках, смешным и щекастым. «Держи внука, следующего Михаила. Третьим будет, – рассмеялась она. – Дай бог, не последним».
Он проснулся в недоумении. Откуда же внук? Клава и Миша давно отчаялись детей завести. Возраст у Клавы подпирал – ей уж за сорок перевалило, а все никак. Да и у Мишки здоровье пошаливало, пьянки даром не проходят. Врачи утешительных прогнозов не давали. Никакие воды, никакие грязи и бабки Клаве не помогали, а усыновлять они никого не хотели.
Сон был таким ярким, что Михаил поделился с невесткой. И в душе Клавдии снова загорелась надежда: если уж с того света оповестили, значит, так тому и быть, только надо не сидеть на месте, а бороться. Вот, например, одна женщина посоветовала съездить на Даниловское кладбище. Призналась, что никак не могла забеременеть, а после того, как стала ходить к могилке какой-то Матроны и землю оттуда брать, так сразу двойню и понесла. Многим женщинам помогает. Еще хорошо на камень Девий сесть, что в Чудовом овраге Коломенского парка лежит, хуже не будет. Ну и, конечно, в церковь сходить, свечку поставить. Сначала Клава решила попробовать первых два способа, а церковь оставила на крайний случай, если другое не поможет. Неприятности ей ни к чему.
В итоге она все прилежно исполнила: посетила кладбище, посидела на камне и даже в церковь тайком заглянула. А Мише достала дефицитные кубинские настойки на роме, которые поднимали активность сперматозоидов. Миша был не против употреблять настойки в любое время суток, после чего сам был готов к употреблению почти круглосуточно.
Что из этого помогло, неизвестно, но через три месяца Клава и вправду забеременела. Счастью не было конца. Как и положено, Клава никому ничего не собиралась говорить, пока живот не попрет, чтобы не сглазили, но свекор, который, конечно, о беременности знал, не удержался и разболтал Карпинской. Этого-то Клава больше всего и боялась. Татьяна была товаркой по несчастью – не было у них с Котиком детей, и от этого их брак, как считала Клава, трещал по швам. Котик все чаще уезжал и все реже проводил время с женой. Клава нутром чуяла – к хорошему это не приведет. Что за семья без детей?
Узнав, что Клава в положении, Татьяна пришла с подарками будущему младенцу, что было вообще не по правилам. Она недавно приехала из гастрольного турне по Америке и видела, как там подружки будущей мамы устраивают «младенческий душ» – задаривают ребеночка подарками, чтобы тот захотел появиться на свет. «А какой же дурак откажется появиться, когда его ждет такое приданое?» – шутила она. Но Клаве эти объяснения не понравились и ничуть не убедили. Она считала, что вообще нельзя говорить о младенце, нельзя заранее поздравлять и сразу, как родится, тоже показывать нельзя – так ее бабки в деревне учили.
Проходила она беременность без особых проблем. Пришло время рожать, но заветный день все не наступал. Перенашивала она немного, но всего пугалась: врачей, давления повышенного, белка в моче. Хотя чего пугаться, всю беременность в рот ни капли не брала, ни одной затяжки сигаретной не сделала.
В тот день вся страна праздновала день рождения Генерального секретаря, бессменного руководителя государства Леонида Ильича Брежнева. К ним пришли гости, и Мишка наклюкался как скотина. Она и сама не удержалась, рюмашку пропустила. Только и было разговоров, что надо бы поднатужиться и родить сегодня, генсеку в подарочек. Может, будет еще один Ленчик бровастенький. Еле этих гостей-бухарей она выперла. Миша свалился в постель, как шашкой порубанный. А ей не спалось – тянуло поясницу. Необъятный живот давил, как гиря, дышать было невмоготу. Клава ходила в туалет каждые полчаса, с трудом нащупывая шлепанцы под кроватью. Каждое движение отдавалось в пояснице, будто кол туда вставили. Муж теперь спал на самом краю, чтобы не мешать ей, и так всегда полной, а теперь и вовсе слоноподобной: отекшие столбообразные ноги, распухшие губы и нос.
– Миша, – вдруг застонала Клава, – Миша, пора.
– Что пора, куда пора? – Михаил со сна не мог сообразить, о чем речь. Глянул на часы – половина второго ночи.
– Ехать пора, я чувствую…
– Ой, Клава, потерпи, а? Утром поедем, дай поспать. Как я за руль сяду, ведь выпил же.
– Такси вызыва-а-ай! – Клава перешла на крик, утробный и страшный.
Кряхтя, кое-как слезла с кровати. С боку на бок переваливаясь, понесла живот на кухню звонить знакомому таксисту. Пока мылась и одевалась, трижды принималась стонать и охать. Потом таксист посигналил снизу, и она ушла, изобразив на лице смертельную обиду.
Михаил спохватился: натянул брюки, туфли прямо на босу ногу, куртку на майку надел, но лифт уже уехал. Он мчался с пятого этажа по лестнице вниз, хватаясь за перила, чтобы не упасть.
– Клава-а-а! – отдавалось эхом по всем этажам дома на Ленинградском проспекте.
– А-а-а! – вторила ему Клава из лифта.
Бежал он быстрее, чем спускался лифт. Успел, помог выйти, сесть в такси, и они поехали. Роддом тут же, на Ленинградском, всей дороги минут восемь от силы.
В приемном отделении сонная пожилая нянечка нехотя открыла дверь:
– И ходят, и ходят… Спать ночью надо! Людей бы пожалели!
Клаву разобрало не на шутку.
– Ты давай поворачивайся, – заорала она вдруг, – сейчас рожу прямо здесь, на пороге, а-а-а-ай!
– Так все говорят: «Сейчас рожу, вот прямо тут». Пугают только, а как до дела дойдет, так ни туда ни сюда. Щас кликнем доктора, он и скажет, когда родишь.
Не спеша выплыла нарядная акушерка в накрахмаленном халате и высоком колпаке:
– Схватки давно? Рожаем в первый раз? Мужчина, выйдите отсюда.
Она провела Клаву в родильный зал:
– Так, ложитесь на кресло. Думаю, хорошо, если к обеду родите, а то и к вечеру.
Но Клава решила по-своему: она издала еще один утробный вопль и поймала что-то, вдруг появившееся у нее между ног. На пол лилось…
– Ой! – растерялась акушерка. – Кирилловна, каталку живо, набор стерильный.
– Батюшки, да как же это, да не может такого быть. – Гремя каталкой, почти бегом одышливая Кирилловна понеслась к роженице.
Акушерка взяла наконец родившегося крепыша, довела Клаву до кушетки и уложила. Тут она увидела Мишу, который непонятно как в родильный зал просочился и оцепенел от увиденного.
– Мужчина, а вы что здесь делаете? – озлилась на него. – Ну-ка, марш отсюда!
Миша ретировался за дверь. Жена больше не кричала, и от этого было легче.
«Пойду напьюсь, все-таки сына родил!»
Победная мысль о законности пития вытеснила остальные, тревожные, мысли из его головы.
Клава отдыхала: живот не давил больше, дышалось легко.
«Господи, счастье-то какое: сыночек родился. Лёней, конечно, не назову, а Вольдемаром точно. Интеллигента растить буду, музыке учить, языкам иностранным. Маленький мой!»
Она заплакала вдруг – это были слезы облегчения.
Утром позвонила мужу, Михаил на звонки не отвечал.
«Бухает где-то», – отчаялась Клава и набрала номер свекра.
– Михаил Александрович, Клава это. Родила, да. Мальчика, четыре сто, пятьдесят пять сантиметров, богатырь. Спасибо, спасибо за поздравления. Выпишут к пятнице. Да, утром, часов в десять. До свидания, Михаил Александрович.
Позвонила заместительнице своей, спросила, все ли в магазине гладко, потом соседке по дому. Жаль, Карпинская сейчас на съемках в Крыму, а так бы точно организовала «сцену у роддома» с музыкой и цветами. Соседка к выписке обещала привезти все, что заранее подготовлено. На мужа надежды нет. А что поделаешь? Жалко его – слабый, бесхарактерный, зато свой в доску, не то что его папаша. Хотя, если бы спросили, на кого хочешь, чтобы сын был похож, когда подрастет, ни на минуту не задумалась бы – конечно, на деда.
В пятницу в роддом приехали все, кто только мог: муж, на удивление трезвый, дед Михаил, сотрудницы, соседки. Миша забрал кулек с синими бантами и сунул по традиции червонец в карман акушерке, которая вынесла мальчика. Расселись по машинам. Клава отобрала ребенка уже на выходе из роддома. Стало понятно, что маленького она никому не доверит и в обиду не даст. Дома, к ее изумлению, уже был накрыт стол. На кухне суетилась Серафима, которая, казалось, помолодела. Она приняла у Клавы ребенка, перепеленала и уложила в детскую кроватку. Дед расстарался: приготовил дорогое приданое для внука.
Выпили за здоровье новорожденного. Клава пила слабый чай с молоком.
– Ты вот что, Клава, скажи, как моего внука зовут? – спросил Михаил Александрович, наливая себе и дамам еще вина. – За кого пить будем?
– Вольдемаром назову, – с вызовом ответила Клава. – Интеллигентное имя, и судьба будет хорошая. Вольдемары в жизни завсегда устраиваются.
– В общем, так. – Михаил Александрович сделал паузу. – Моего внука зовут Михаил. Разве ты не помнишь, что во сне Настя сказала? Михаил Третий.
– Да что же это, да как же? – всполошилась Клава. – Я родила, я и имя дам.
– Дело твое, – спокойно ответил Михаил Александрович. – Но дачу тогда отпишу Дворцу пионеров. Пускай дети там биостанцию устраивают.
Клава замолчала, насупившись, но потом прикинула, что дачу жалко терять.
– А что, я согласна. Давайте за Михаила Третьего выпьем!
Когда гости разошлись, Клава, покормив маленького, подсела к Михаилу Александровичу:
– Я, это, сказать хотела, что год мне, так или иначе, с ребенком посидеть надо. А потом отправила бы его к вам на дачу. Фима присмотрит, а вы хорошему научите, языкам там всяким, да? – Она заискивающе посмотрела новоиспеченному деду в глаза. – Так ведь правильно будет, Михаил Александрович? Хочу, чтобы он на вас был похож – интеллигентный, умный. Лучше, если он от своего отца-алкоголика подальше будет.
– Да, Клава, это хорошее решение. Только я думаю, что его отцу надо дать еще один шанс. Но вы привозите мальчика, когда посчитаете нужным.
– А когда мы дарственную на дачу составим, Михаил Александрович?
– Да хоть завтра. К нотариусу съездим и сделаем все.
– Зачем же ехать? У меня знакомый нотариус на дом приезжает. Прямо сейчас можно позвонить.
Михаил вздохнул: торговая жилка невестки не давала ей покоя, все нужно делать сразу, чтобы шанс не терять, чтобы товар не ушел.
– Зови, Клава, своего нотариуса, зови сейчас.
Весть о рождении Михаила Третьего застала Таню Карпинскую в Ялте. Она снималась в очередном фильме старого друга-режиссера, который давно ее тянул не только на съемочную площадку, но и в творческо-семейный союз. От ролей юных женщин, переживающих пылкие чувства, она перешла на роли мам этих самых женщин, перестав играть любовь как на экране, так и в жизни. Выглядела она в свои «чуть за пятьдесят» роскошно, но пленка фабрики «Свема» – вещь жестокая, как ни свети, как ни гримируй, крупные планы почти все улетали в корзину, и ее лицо все реже мелькало на экранах.
Режиссер убеждал Татьяну, что гражданский брак с Константином – прекрасный фантом, которому все же пришло время исчезнуть. То, что у Коти кто-то есть, понятно всем, даже самой Тане, и пора признать это. Если бы Костя любил ее по-прежнему, не торчал бы сейчас в Москве или на своем Урале, а приехал бы сюда, в Ялту.
Таня, вдыхая аромат голландского табака – режиссер курил трубку – и внимая сладким речам про неизменную к ней любовь, все же ждала вестей от своего Котика. Когда ей позвонили и сказали, что пришла телеграмма из Москвы, она чуть ли не закричала в трубку: «Читайте, читайте же скорее!» Ассистентка режиссера прочла: «Клава родила мальчика. Назвали Михаилом. Все счастливы. Ждем Москве». Ей стало грустно и радостно одновременно. Захотелось сообщить об этом Коте, но она опять не дозвонилась.
А Константин не отвечал, потому что рожала Даша, и он боялся, как бы все это плохо не кончилось. Роды были довольно тяжелые и проходили они в домашних условиях, так как у роженицы не было документов. Родила она девочку и назвала Анастасией – в честь бабки. Молодой матери недавно исполнилось восемнадцать, но выглядела она гораздо старше – рослая, крупная, располневшая за время беременности. Акушерке за молчание и профессиональную помощь были заплачены большие деньги, почти годовая зарплата.
Наконец, когда все тревоги улеглись, Котя позвонил Тане, поздравил с наступающим Новым годом и узнал, что у Степановых родился внук. Ему очень хотелось рассказать о дочке, но, по понятным причинам, он этого сделать не мог. Татьяну он по-прежнему любил, но все же не так, как раньше. Когда все начиналось, они были на равных, несмотря на разницу в возрасте, но постепенно Таня, следуя неизрасходованному материнскому инстинкту, превратила его в «сынка», что здорово раздражало, ну а собственные комплексы несостоявшегося отцовства подбросили Коте влечение к женщине-ребенку.
Замену Татьяне он не искал специально – Даша появилась в Котиной жизни как давно существующая ее часть, открывшаяся внезапно.
Прошлым летом вместе с коллегами из министерства Константин поехал в Сибирь для утверждения на месте объемов по закупкам древесины. В доме лесника приметил статную и рослую девчонку, которая, что бы ни делала по хозяйству, напевала себе под нос. Голос у нее был очень красивый, и песни странные, тягучие. Отец ее, Николай, как-то под рюмочку с закусочкой разоткровенничался с гостями, что семь лет назад внезапно овдовел и с тех пор один с ребенком мается. Обычно он был немногословен, а тут его как прорвало:
– Все бабы – дуры, им всем город подавай. Только Катька моя могла в лесу жить, потому что зверье любила. Может, даже больше людей. Если находила тварь какую пришибленную – птицу, там, с крылом оторванным, лисицу, в капкан угодившую, – то вылечить могла. Сам видел. Что-то пошепчет, руками помашет, и кровь через минуту останавливается. Заговаривать кровь умела, вот… Говорила, дед научил. И меня с того света вернула, когда медведь подрал. Хорошая женщина была, но со странностями, упрямая, как ослица. Ежели чего решит, ни в жисть не отступит. После войны с ней сошлись. Я-то сам из Тобольска буду, а она в селе Покровское жила. Как-то приехал я навестить сестру, которая замуж вышла за покровского мужика. Их двор неподалеку от распутинского стоял. Да это не того Распутина, не Гришки, а Катерины моей. Тот Распутин тоже был родом из Покровского. У них там, куда ни плюнь, везде Распутины. Дворов десять, не меньше. Ну вот, значит, встретились мы с Катюхой на базаре. Оба молодые, горячие, только она из семьи поганой. Хрен их там разберешь, кто такие – одним словом, сектанты. Через слово крестятся, песни поют, а дед Катькин – тот вообще как умалишенный: и плеткой мог себя отхлестать, и заставлял внучку ночь на коленях простоять, чтобы молилась. Катька боялась его как огня и рассказывала, что дед заставлял ее по сто раз на дню целовать икону, на которой что-то было написано рукой самого Григория Распутина. Он-то деду ее и подарил. Меня они сразу невзлюбили. Поняли, что чужой и что на дух не переношу все их поповские бредни. Я хоть и беспартийный, а за родную КПСС готов жизнь отдать. Наливай, Константин, выпьем за победу коммунизма во всем мире! Эх, хорошо пошло… Ну вот, значит… Замуж за меня Катерину не пускали, но она полюбила и решила по-своему. Сбежала со мной в Тобольск. Родня потом порог обивала, что только ни делали – угрожали, подкупали. А мы расписались и айда в лесничество, хозяйство налаживать. Егерем предложили стать, я и пошел. Дом, старую развалюху, подновил, веранду выстроил, а после уж и баню поставил. Сами видели, какая баня вышла складная, можем сегодня опять попариться. Когда прознали в округе про наше с Катькой хозяйство, стали возить сюда большое начальство из района, а потом и столичных. Рыбалка тут знатная и охота. Только недолго той радости было. Как-то пришло письмо из Покровского от сестры моей, в котором та писала о беде страшной, что случилась с Катиной родней. Ночью загорелся дом, и все погибли – мать, отец, брат с золовкой, только деду удалось выскочить на улицу в одних портках и с иконой в руке. Побежал по дворам людей будить, но мало кто этому психу верил – надоел всем пророчествами про геенну огненную. Пока до людей дошло, что дед не врет, дом сгорел, а старик от горя скончался. Поехала моя Катерина на родину. Вернулась другим человеком. Крепко ее это горе скрутило. Привезла с собой ту икону, которую дед из дому вынес, и стала день и ночь на нее молиться. Ух, и разозлился я тогда! Ни работы, ни еды в доме, только поет и крестится. Не выдержал, выхватил как-то из ее рук икону и об стену с размаху. Тут Катька на меня с топором поперла. Убила бы, но увернулся. С того дня не было больше покоя. Что ни день – драка. Тут еще с иконой хрень какая-то случилась. Думал, Катька ее слезами обливает, а все не так просто. На доске деревянной прям капли красные проступали. Слегла моя Катерина. Лежит, в потолок смотрит, губами шевелит, а со мною – ни слова. Так и померла тихо, с иконой в руках. С нею и похоронили. Вот я теперь думаю, что яблоко от яблони, как говорится… Если бы не родня сектантская, то и жил бы человек нормально. Сама же от них сбежала, а потом тем же боком и вернулась. Если с детства задурить мозги, так это ж на всю жизнь. Вот и за Дашку боюсь. Она – копия мать, и голос от нее достался. И песни эти – не песни, а молитвы. Мать научила. Когда Катерина померла, Дашка замолчала. Ей тогда чуть больше десяти было. Дома молчит, в школе молчит. Я взял да перестал возить в школу. Так на меня сразу РОНО наехало, требовало определить ее в школу-интернат, пугали, что одичает, что должна с детьми расти. А чем зверье хуже детей? Дашка сама по учебникам начала учиться и экзамены сдавать. Худо-бедно восьмилетку закончила, больше и не надо. Дел и так по горло. Спорая она, толковая, все умеет: и стряпать, и за скотиной ходить. Сюда, почитай, каждый месяц кто-то приезжает, и не скучно, всё с новым человеком поговорить можно. Только не до разговоров ей: надо корову на выпас погнать, потом подоить, кур накормить, поросенка, а еще в доме прибраться, обед приготовить, а если приезжие, то и готовки и хлопот больше. Она теперь и баню затопить умеет. Но есть у нее мечта: желает в белом халате ходить, уколы делать и людям помогать, кто заболел. В общем, хочет на медсестру выучиться, в больнице работать. А если ей что в голову взбрело, не удержишь. Вся в мать. Тьфу, тьфу… Пока не сбежала, потому как знает, что нужны женские руки в доме. Самое правильное – найти ей в мужья парня рукастого, чтобы жил тут и хозяйствовал. Есть один сплавщик леса на примете, только горазд выпить. А где теперь других найдешь?
После «исповеди» лесника Константину захотелось поговорить с Дашей, но все не решался. В голове его никак не укладывалось, как такое возможно. Став заложницей отцовской дури, эта юная красавица и, по всему видать, умница, если сама выучилась и закончила восемь классов экстерном, проживет всю свою жизнь в глуши, не получив ни малейшего шанса приблизиться к исполнению мечты. Наблюдая за ней издалека, он ловил себя на том, что любуется, не в силах отвести глаз.
Даша заметила, что гость ни баней, ни рыбалкой, ни застольем с водочкой не интересуется. Молчит и смотрит на нее, словно больной, а как уезжать стал, заперся с отцом в доме и минут сорок разговаривал о чем-то. Вот после этого впервые и обратился к ней:
– Даша, меня Константином зовут. Я в Москве живу. Знаю про мечту твою. Хочу помочь тебе в медучилище поступить. Поедешь?
– Поеду. Но отец не отпустит.
– Я с ним договорился.
Хитер оказался Николай, ой как хитер. Сговорились на том, что Константин все уладит с районным руководством и Николаю выделят женщину в помощь по хозяйству. Ей будут выплачивать приличную зарплату, что справедливо, ведь охотничий домик известен всем министерским как лучшее место отдыха. Да при таких условиях от желающих отбоя не будет, и Даша, так уж и быть, поедет в Москву учиться.
Со своей стороны Константин обещал, что поможет Дарье, чем сможет. Если надо, устроит в вечернюю школу, найдет работу в больнице – тогда и поступать легче, – и общежитие он ей подыщет. На первое время предлагал пожить у них. Жена – человек добрый, будет только рада.
Николай вроде как согласился, правда, попросил задаток. Костя удивился: о каком задатке речь? Разве он Дашу покупает? Билет ей возьмет, даже деньги на дорогу выделит.
Николай надулся, кивнул и на этом разговор прекратил, а утром посадил дочку в погреб под ключ и пригрозил «задницу прострелить, если рыпнется».
Константин ждал Дашу у машины, которая с минуты на минуту должна была везти москвичей на вокзал. Рядом с ним топтались скучающие коллеги, которые никак не могли понять, какого черта так переживать и на кой ему вообще сдалась эта девчонка. Если на молодую потянуло, так в столице таких цыпок пруд пруди.
Костя чуял неладное: вчера, когда Даша узнала, что судьба ее может так круто измениться, чуть не расплакалась от счастья, прыгала на месте и хлопала в ладоши, как ребенок. Обещала утром принести выписку из табеля с оценками за восьмой класс. Представить, что передумала, было невозможно. Ясное дело, не обошлось без Коли-лесника. Ждать дальше грозило опозданием на поезд, и Костя сел в машину с тяжелым сердцем.
Состав уже тронулся, когда на перроне появилась Дарья. Она бежала, заглядывая в окна вагонов, и все время озиралась, словно боялась погони. Заметив ее, Константин сломя голову кинулся в тамбур и сорвал стоп-кран. Тут же на него набросилась проводница, угрожая милицией. Костя сунул ей в руку свой бумажник:
– Вот деньги, заплачу штраф, обещаю. В тюрьму сяду, но только не мешайте! Там девочка на перроне: вопрос жизни и смерти!
Проводница отступила, в сердцах выругавшись:
– Псих грёбаный! Иди уж.
Спрыгнув на платформу, он быстро схватил Дашу за руку и втянул за собой в вагон. Она упала к нему в объятия, рыдая и смеясь. Далеко не пустой кошелек Кости помог уладить дело и с проводником, и с начальником поезда. Никто из пассажиров и не заметил минутной остановки. А после того, как Костя отдал начальнику «дары природы», которые припас для Москвы, нашлось даже отдельное купе.
Даша рассказала, как сбежала из погреба: ей удалось задвижку на замке палочкой сдвинуть. Когда выбралась наружу, обратно задвинула, чтобы отец не заметил. Потом ползком в овраг, бегом через лес и вплавь на другой берег реки, а оттуда уже близко до станции.
Четверо суток, пока ехали, Даша ластилась, как кошка. Не соблазняла, просто истосковалась по ласке, теплу, любви. Причину смерти матери объясняла жестокостью отца. Рассказала, что лаялись родители друг с другом нещадно, да и кулаки в ход пускали, и вот после одной из таких стычек мать слегла со сломанными ребрами и ключицей, а началось все из-за иконы, которую отец чуть не уничтожил. Потом началось крупозное воспаление легких, и мать в одночасье умерла. С тех пор Дашу никто не обнимал и не целовал.
Константину было тяжело бороться с искушением, когда на расстоянии вытянутой руки, через проход, спала влюбленная в него девушка, и он убегал в купе к друзьям. Но в одну из ночей не выдержал. Даша сама попросила не уходить, прильнула к нему, быстро стянув с себя одежду. Терпеть больше не было сил.
Когда приехали в Москву, оказалось, что у Даши при себе нет ни одного документа. Квартиру удалось снять на чужое имя, а вот с учебой пришлось повременить. Отцу Даша сообщила, что не вернется и будет учиться в Москве. Николай опять потребовал денег. Костя, не раздумывая, отдал все, что собрал на строительство дачи. Но через полгода уже было не до поступления: с первых дней беременности у Даши начался токсикоз. Девушка таяла на глазах, не ела, плохо спала, а к врачам не пойдешь – опасно: несовершеннолетняя она. За такое Костю могли посадить, а этого Дарья допустить не могла и решила рожать дома, как ее мама и бабка делали.
Костя испугался: а вдруг что не так пойдет? Успеет ли помочь? Уговаривал себя, что, как только Даша родит, уйдет от Татьяны, словно это могло как-то помочь родам. Только бы все обошлось!
Удивляло, что Даша сама ни разу не попросила, даже не намекнула о женитьбе. Никаких упреков – наоборот: «Перед женой твоей виновата. Придет время, упаду перед ней на колени прощения просить. Сама я к тебе прилепилась, сама и отвечать буду». Когда узнала, что Константин с Татьяной не повенчаны и даже не расписаны, вроде успокоилась, но не надолго. Хотелось ей, конечно, как любой женщине, узнать, кто же та, другая, которую он называет женой, а узнав, не поверила. Да и как можно в такое поверить? Ее Костя – муж знаменитой Карпинской, портрет которой она в детстве вырезала из журнала «Советский экран» и пришпилила кнопкой над кроватью. Когда беременная ходила, услышала от кого-то: «Смотри на красивых людей, и ребенок родится красивым». Купила в ларьке «Союзпечать» фотографию любимой артистки – очень хотела родить дочку с ямочками на щечках и с золотыми кудряшками. Костя, увидев молодую Таню, улыбавшуюся с фотографии, спокойно сказал:
– Это моя жена.
Даша сначала обиделась, решив, что он подшучивает над ней, но оказалось, не врет. С этого момента она отдалилась, замкнулась, и, когда Костя сказал, что, как только родится ребенок, они поженятся, Даша ответила: «Никогда!»
Ее слова удивили Константина.
– Даш, я тебя не понимаю. Ты же любишь меня. Я хочу быть мужем и отцом ребенка. В чем проблема?
– В том, что твоя жена – мечта, идеал! А я простая девушка, каких миллионы. Ты всегда будешь маяться тоской по ней, потому что она НЕДОСЯГАЕМА! А на мне ты женишься из жалости.
– Брось глупости городить. Я люблю тебя. Даже не в этом дело… С тобой я живу по-настоящему, а с Татьяной все как на сцене или в кино. Иногда кажется, что у нее в голове кто-то командует: «Мотор, начали!» – и она бросается в объятия. Или кричат ей: «Твоя реплика – забыла?» – и Таня тут же отвечает как по писаному.
– Ну и что? Ты к этому уже привык. Она твоя богиня, и не только твоя. Вся страна ее любит, и я тоже. Никогда, слышишь, никогда этой женщине я не причиню боль. Ребенку дадим твое отчество, а фамилию мою. Я так решила. И очень прошу тебя, если ты хочешь, чтобы я не вернулась в лесничество и жила тут, растила ребенка у тебя на глазах, не заводи этого разговора, ладно?
– Ну, а если Татьяна сама тебя попросит? Скажет: «Дашенька, мой Котя совсем извелся, не может без вас жить, выходите за него», – что тогда?
Даша насупилась, наклонила голову, словно хотела боднуть больно. И в этот момент Константин, вспомнив слова Николая: «Вся в мать, упрется рогом, хоть кол на голове теши…», понял, что сморозил глупость. Она подняла на него глаза, полные слез, и твердо произнесла:
– Если она тебя прогонит, то поженимся, а по-другому – никогда!
То, что Татьяна, узнав о существовании Даши, отпустит (но не прогонит), было ясно как день. Костя раздумывал, как убедить Таню сыграть роль разлюбившей жены и поговорить с Дашей. Он почему-то находил это почти нормальным: бывшая жена спокойно передает будущей из рук в руки то, что ей было когда-то дорого, но со временем утратило ценность. К тому же Татьяна всегда повторяла: «Отпущу не к девке, не к бабе, а к матери твоего ребенка». Вот и пришло время. Для этого, правда, надо было выбрать подходящий момент. Уж точно не сейчас, перед ее любимым праздником.
Глава девятая
Подходящего времени, чтобы объявить Тане о решении уйти к другой женщине, родившей от него ребенка, у Кости никак не находилось. Мешало все: Танины гастроли и съемки, творческие удачи и неудачи, болезни и выздоровления, а главное – сознание того, что Дарью, как ему казалось, все устраивало и так. Его тоже устраивало. За три года он привык жить между двух стульев, порой успевая посидеть на обоих сразу, и не без удовольствия. Недавно, правда, вышел прокол: гулял в парке со своими девчонками, катал обеих на карусели, а тут коллега со своим отпрыском нарисовался. Дочка с карусели сползла, подбежала к нему и на ручки попросилась: «Папа, папулечка! Головка клужица, калуселька Сясю заклутила…» Он подхватил Настю, успев заметить, как у товарища Петренко отвалилась челюсть и подскочили белесые бровки. Умница Даша все мгновенно «прощелкала». Отобрав у Константина ребенка, вежливо поблагодарила:
– Извините, мужчина, она вас перепутала с отцом. Давно не видела, он у нас моряк. Всего хорошего. – И ушла.
Петренко «варежку» захлопнул и ухмыльнулся.
После этого случая Константин разозлился на себя и в очередной раз решил, что пора объясниться с Татьяной, но его срочно послали в командировку, так и не успел до отъезда поговорить. Вернулся перед самым Новым годом и, как всегда, отложил разговор на «послепраздника».
– Девчонки, вы дома?
Костя открыл дверь и, придерживая ее ногой, ввалился в квартиру с чемоданом, кучей свертков и коробок, потом занес елку.
– Настька, солнце мое, иди к папе. Ну, кто у нас самая хорошая девочка на свете? Кто у нас самая любимая, кто самая, самая, самая красивая?!
– Сяся! – пролепетала девочка и вырвалась из отцовских объятий. – Мама, папа приехал!
Дарья отложила вязанье и обняла Костика:
– Как долго тебя не было. Я так соскучилась!
– И я. Совсем одичал в лесах этих. Давай сумки распаковывать. Настька, вот твои подарки, забирай.
Девочка ухватилась за длинный мохнатый красный шарф и поволокла за собой, пока не вытащила весь, растянув по комнате. Потом достала новую куклу:
– А как ее зовут?
– Не знаю, она не сказала. А ты как думаешь?
– Мишка.
– Погоди, мишки, они лохматые, с лапами, а это девочка.
– Всё лавно Мишка. Она на ушко Сясе шепнула.
– Ну, хорошо, давай елку ставить.
– Елка, елка, – хлопала в ладоши Настя, прыгая вокруг отца, мешаясь под ногами.
– Ну-ка, иди сюда, доставай шарики и вешай на елку.
– Костя, она маленькая, разобьет.
– Не разобьет, она аккуратно будет вешать. Правда, зайка?
– Я буду аккулатно, – посерьезнела Настя. Она вытащила из коробки серебристого ангела. – Кто это? Посему у мальчика клылышки?
– Это ангел. Он помогает всем желания исполнять.
– И Сясе?
– Конечно. А какое у тебя желание?
– Хочу замуж!
Дарья и Костя переглянулись и прыснули со смеху. Насте было всего три года.
– Ранняя у нас барышня, и в кого это? – засмеялся Костя и, не дав жене открыть рта, крепко поцеловал ее в губы.
Когда оба отдышались от затянувшегося поцелуя, Костя вспомнил:
– Да, кстати, я собирался завтра вас за новогодними подарками везти. Есть такой замечательный магазин на Арбате – антикварный комиссионный. Там старинные вещи бывают, очень красивые. Только выехать нужно пораньше. Было время, его закрыли, но теперь он снова открылся.
– Ула, ула! Мы едем за подалками! – выкрикивала Настя, вращая длинный шарф, как прыгалки, потом запуталась в нем и свалилась на ковер.
За несколько дней до отъезда в Москву Константин позвонил Татьяне и соврал, что вернется чуть ли не тридцать первого декабря, прямо в канун праздника, но на самом деле приехал раньше, чтобы побыть со своими дорогими девочками. Даша уже не так, как прежде, противилась разрушению его гражданского брака с Татьяной. Убедившись, что Костя о жене почти не вспоминает и все чаще проводит время с ними, уже не перебивала его, когда тот говорил: «Таня прекрасная, удивительная, чудная, но не моя, понимаешь? Она для всех, и все ее любят, а мне нужна такая, как ты, своя, родная и близкая».
Перед походом в магазин Константин предупредил, что едут они за кольцами. Даша не могла скрыть счастливой улыбки.
В антикварном, пока Дарья выбирала кольцо, Константин с Настей на руках рассматривал витрины.
– Настюха, а ты чего хочешь? Смотри, вот заяц с барабаном и куклы старинные…
– Папа, вон ту палочку на велёвочке хочу.
Под стеклом на витрине лежала блестящая палочка на шелковой ленточке. Ее поверхность была покрыта какими-то непонятными знаками.
– Да на что она тебе? Она и некрасивая совсем.
– Класивая…
– Послушайте, что это за штука? – спросил он у продавца.
Тот смешался, не зная, как ответить, и ляпнул, что это вроде старинной закладки для книги.
– Хочу заклядку! – заявила Настя.
– Сколько она стоит?
– Сейчас проверю. Эту вещь уценивали трижды. Последняя уценка… дайте взглянуть, да, точно, десять рублей сорок три копейки.
Продавец мог бы еще добавить, что кожаный ремешок, на котором висел странный кулон, был отталкивающе засален и его заменили шелковой ленточкой, а сам кулон, похожий на толстый гвоздик, испещренный странными знаками, отполировали, придав блеск и вполне товарный вид.
– Даш, пробей эту штуку.
Настя схватила странный предмет, тут же просунула голову в алую шелковую петлю и, довольная, рассмеялась. Даша удивилась выбору дочки. Поднесла кулон поближе к глазам, чтобы рассмотреть получше. Он показался ей странным, каким-то нездешним, но плохое от него не исходило, в этом Дарья была уверена, ведь в лесу выросла и чуяла опасность задолго до ее появления. Штука эта вызывала кучу вопросов – например, что означают знаки на нем и почему один из них кажется таким знакомым? Никак не могла вспомнить, где видела эти, словно переплетенные, буквы М и А. Кольцо для себя она нашла быстро – тонкое, неброское, но старого красного золота, похожее на то, что мама носила когда-то. Костя еще купил маленькие золотые сережки с бирюзой, уверяя, что они точь-в-точь по цвету к Дашиным глазам.
Стоя в очереди в кассу, Даша думала, что теперь все у них будет по-человечески: документы скоро обещали выдать, теперь уж не временные, постоянные. Распишутся, обвенчаются, она учиться пойдет, медсестрой станет, как хотела. Настю в садик пора отдавать, нужно ей с детишками быть, скучает одна, все с мамой, да с мамой… И вдруг она вспомнила, где видела похожий знак – на материнской иконе. Перед смертью мама попросила дать ей приложиться губами к образу, а после показала какую-то закорючку на обратной стороне иконы, что-то хотела сказать, но не смогла, зашлась в кашле, потеряла сознание, да так и ушла, ничего не объяснив.
Надо бы дома получше рассмотреть, подумала Даша. Вряд ли, конечно, между этими знаками есть связь. А даже если и так, что они означают? Уж точно, ничего плохого. Вон как Настька радуется новой игрушке.
В доме Карпинской, как всегда в новогоднюю ночь, ожидалось много гостей. Котя появился утром, вроде бы с дальней дороги, уставший, и проспал до позднего вечера.
– Танечка, а во что холодец выкладывать? – спросила домработница Маша, которая совсем недавно поселилась у Карпинской.
– Маша, вы как-нибудь сами насчет холодца. И вообще, вы на кухне самая главная, запомните это раз и навсегда.
– Таня, а фрукты во что класть?
– Маша, ничего не знаю. Стол за вами. Чтоб к десяти все было в ажуре, поняли? Кто-нибудь к телефону подойдите! Он же звонит, разрывается! Я одна не могу за все отвечать. Котя, Котя, ты из ванной скоро выходишь? Давай побыстрей. Половина десятого, а стол не накрыт. Маша, вы платье мне не погладили? Нет? Ладно, я другое надену, времени нет. Откройте дверь! Господи, некому в этом доме дверь открыть. Телеграмма? Давайте распишусь, спасибо… Где подарки? Котя, ты куда их подевал? Не слышу, скажи громче, вода ведь шумит. Ах, ты уже выходишь. Вот и хорошо. Котик, давай-ка распорядись насчет спиртного. Если не хватает, можно еще успеть на Смоленку подскочить, там сегодня до десяти работают. Что? Маша, у вас что-то в духовке горит, горелым пахнет. Да, пожалуйста, вешалку в прихожей освободите, а то мы всех не повесим.
Наконец Татьяна, раздав все ценные указания, присела в спальне перед туалетным столиком. И тут же начался трезвон: входная дверь не закрывалась, впуская новые и новые партии гостей.
– Какая елка у вас шикарная! А где можно переодеться? Где же Татьяна? Ау, хозяйка, – хорошо поставленным оперным баритоном позвал кто-то из прихожей.
– Бегу-у-у, – откликнулась она, на ходу вдевая ноги в лодочки на высоком каблуке. – Уже бегу.
Предновогодняя суета продолжалась до тех пор, пока все гости не уселись за стол, и началось: тосты за встречу, за проводы старого года, звон вилок о тарелки, разговоры и анекдоты. Внесли пироги с мясом, потом с рыбой, потом еще что-то.
Котя сидел как на иголках, не мог ни есть, ни пить. По телевизору началось традиционное выступление генсека. Куранты били, шампанское проливалось на скатерть, праздник перетекал из прошлого в будущее.
Заметив, что Татьяна занята беседой с молодым актером, Котя потихоньку решил слинять. Его девчонки, Даша и Настя, были в этот вечер одни.
– Тата, – сказал он на ухо жене, – у нас сотрудник в больницу попал вчера, иногородний. Никого у него в этом городе нет. Хочу съездить, поздравить.
Татьяна всплеснула руками:
– Что за разговор, Котя? Надо, значит, езжай. Попроси Машу, чтобы дала тебе с собой всего. Человек в больнице в праздник один! Езжай, конечно. Шампанское не забудь! – крикнула она, когда он уже был на лестнице.
Из телефона-автомата возле гаражей, где стоял его верный «жигуленок», позвонил Даше:
– Девчонки, я еду к вам. Буду через полчаса.
Шампанское и закуски, заботливо уложенные домработницей Машей в стеклянные банки, показались ему совсем не лишними.
Заснеженные улицы новогодней Москвы были пусты. Костя торопился – он пообещал девочкам поехать посмотреть елку на Красной площади. Настя, выспавшаяся днем, отказывалась лечь в постель и уже натягивала рейтузы в коридоре:
– Мама, мама, пойдем папу встлечать. Он приедет, а мы тут как тут! Ну, пойдем, ну, пожалуйста.
Даша, которая весь день суетилась по дому с уборкой-готовкой, решила, что идея прогуляться по ночному городу, запорошенному чистым снегом, не так уж плоха. Они вышли на улицу. Мотыльки снежных хлопьев кружились под фонарями, беззвучно падая на землю. Ленинградский проспект был пуст. Неожиданно мимо них, громко сигналя, проехала машина, в которой поддатая молодежь горланила песни. Через открытое заднее окно парень выливал что-то на асфальт, выкрикивая: «С Новым годом, москвичи! Вас испортил квартирный вопрос, но вам помогут! Аннушка уже пролила масло!»
«Какое масло? – подумала Даша: – При чем здесь масло?»
Настя вздрогнула и неожиданно разревелась:
– Посли домой, посли сколее, не хочу гулять. Домой хочу…
Даше стало не по себе от страха, непонятно откуда взявшегося. Она решила повернуть к дому, но вдруг заметила Костину машину и принялась махать руками, чтобы он случайно не проехал. На секунду ей показалось, что их глаза встретились, и тут его «жигули» повело в сторону. Автомобиль крутился на асфальте, выписывая дуги и визжа тормозами, а потом, ослепив огнями фар, помчался на них. Дальше был удар и яркая вспышка – последнее, что увидела Даша.
Татьяне позвонили в час ночи. Она не хотела подходить, просила Машу ответить, что занята. Маша стала что-то объяснять, а потом закричала и замахала руками. Татьяна взяла телефон и осела на пол. Шок. Костик, ее Котя, не справился с управлением, его больше нет. Звонил заместитель начальника московского ГАИ, ее старый поклонник. Сказал, что они в Боткинской. Почему они? Кто это они? А я, как же я теперь, без Коти… Как же он? Бедный мой мальчик!
Такси довезло Татьяну и Машу до Боткинской за двадцать минут. Следом за ними поехали несколько близких друзей. В приемном отделении женщин сразу же провели к дежурному врачу. Пахло химией, медициной, и было жутко холодно. Татьяну бил озноб, остановить который она не могла. Врач протянул стакан с водой:
– Пейте! В общем и целом: детки постарались, изобразили сцену из «Мастера и Маргариты». По пьяни, а может, и специально разлили масло по Ленинградке. Семнадцать аварий за полчаса, пять трупов. Будут разбираться.
– А он? – Татьяна подавила тяжелый вздох. – Как все было?
– В столб фонарный врезался, потеряв управление на масляном пятне. А возле столба женщина с ребенком стояли. И черт же их понес в новогоднюю ночь гулять! Дети в это время должны спать, а они гулять пошли, твою мать! Женщина на месте погибла, как и ваш муж. А девочка, вот ведь чудо, целехонька, ни царапины, хотя мать за руку держала. Так и нашли – руку матери отпускать не хотела, а рука… Да что там говорить, всё в лепешку. Самое поганое, что у этой мамочки никаких документов при себе не было, неизвестно, есть ли у этого ребенка отец, родня. Люди из соседних домов девочку узнали. Говорят, только с мамой ее и видели, очень редко какой-то мужчина с ними был, но описать точно не могут.
– Скажите, а ребенка куда сейчас? Что с девочкой будет?
– В детприемник, пока не выясним, кто родители. Да она и не разговаривает, хотя по виду ей года три уж точно.
– Маша, сиди тут, никуда не уходи, я сейчас, – приказала Татьяна своей домработнице и выскочила из кабинета звонить своему знакомому милицейскому начальнику. – Слушай, Семёныч, нужно сделать одно дело, но очень быстро. Ты меня слышишь? Костика больше нет. Понимаю, что ты уже знаешь, и даже больше моего, а если знаешь, ответь: если он мать сбил насмерть, а ребенок остался, и выяснится, что у ребенка никого, кроме матери, не было, я могу усыновить этого ребенка? Да, я в своем уме, не пьяная, нет, потом, всё потом. Главное распорядись и позвони кому надо, чтобы сейчас, пока разбираются, девочку я могла забрать к себе домой. У нее мать погибла, а ее в детский дом, или приемник, или черт их разберет, куда отправят. Нельзя этого делать, понимаешь, нельзя! Да, завтра поговорим. Да, все завтра. Звони в приемное отделение. Я без ребенка отсюда не уйду. Знаю, что нарушение, все знаю. Ты меня плохо знаешь, да? Нет, сказала, что не уйду, значит, не уйду. Звони сейчас же!
Через сорок минут телефонных препирательств было решено, что ребенок едет к Татьяне под расписку. Все остальное – после новогодних праздников и выяснения личности погибшей.
Медсестра вывела к Тане девочку лет трех: маленькая, с крохотной косицей и красным бантом; глаза огромные, серые; нос пуговкой; свитер и рейтузы домашней вязки; валенки с галошами.
«Глаза какие знакомые», – подумала Татьяна и присела на корточки перед ребенком:
– Как тебя звать, милая?
Девочка смотрела в пол и молчала. Медсестра вздохнула:
– Молчит все время, не плачет, не говорит, будто замороженная. Это шок, по-видимому. Отойдет, время нужно.
Девочка дала себя одеть и, спокойно взяв Татьяну за руку, пошла вместе с ней. Маша шла сзади и несла пакет с вещами Костика, которые отдали в больнице: часы, портмоне, золотые запонки и заколка для галстука. «Вот и всё, что от человека осталось, был и нету», – подумала Татьяна и, подавив рыдания, еще сильнее сжала руку девочки.
– Маша, чем детей кормят таких маленьких?
– Да не маленькая она уже, будет есть, что все едят. Перченого только не давать.
– А как ее спать устроить? У нас и кроватки детской нет.
– Поспит с вами пока, а там, бог даст, купим, если, конечно, ее нам оставят.
– Не отдам! – Татьяна была настроена воинственно. Почему-то она питала к этой девочке что-то похожее на долг. Она должна о ней заботиться, и точка.
Дома девочку умыли, переодели в Костину майку и уложили в большую постель. Татьяна заметила, что у девочки на шее висит на шелковой ленте странный предмет, похожий на металлический карандаш. Попыталась снять на ночь эту штуку, но та вцепилась ручонками и замотала головой – мол, не отдам! Ну и ладно, пусть висит, спи только. Таня гладила ее по кудряшкам и уговаривала:
– Мы с тобой все исправим, что сможем, и станем большой красивой девочкой. Скажи, как тебя зовут?
Но девочка уснула, так и не сказав ни слова.
Утром Татьяна проснулась от тихого всхлипывания у себя под боком, удивилась и тут же все вспомнила.
– Здравствуй, маленькая, ну, пожалуйста, скажи, как тебя звать? Как тебя мама и папа звали?
Она обняла кроху, прижала к себе и заплакала, но быстро утерла слезы. Ребенку и так плохо, нельзя плакать при ней.
– Сяся, – прошептала девочка.
– Ну, вот и умница. Буду тебя Асей звать, хорошо? Сейчас пойдем умываться и чай пить. Маша, как там насчет завтрака?
– Готов давно. Я ей кашу сварила.
– Маша, она сказала, что зовут ее Сяся. Как думаешь, это Ася?
– Похоже. Если на Асю будет откликаться, так и оставим. А что с ее документами? Неужели соседи не знают, в какой квартире эта женщина несчастная жила?
– Знают. Милиция уже там побывала. Нет ни одного документа! Все равно, конечно, найдут – кто, что… А пока Асенька с нами поживет.
Через пару дней, увидев на комоде фото Костика в черной рамке, девочка указала на него пальцем, потом глянула на Таню, приглашая в свидетели, и снова на фото:
– Папа!
– Маша, слышишь, она Костю папой назвала!
– Танечка, что вы, она же маленькая, ей сейчас любой мужчина папой будет. Да и откуда у Костика ребенку взяться, такому большому тем более?
Девочка молча пошла в ванную. Стоя на табуретке, которую она сама же и принесла из кухни, умылась, потом отыскала расческу на туалетном столике Татьяны и причесала волосы.
– Умница какая!
Потом она молча села за стол и съела кашу, всю без остатка. Отодвинула тарелку и пошла в комнату. Ни звука больше не произнесла.
Так и пошло: молча шла гулять, молча садилась за стол, молча ела и шла в комнату, где просто сидела на полу и перебирала бахрому кромки ковра или мусолила в руках палочку, висевшую на шее.
Документы на ребенка так и не обнаружились, хотя были допрошены соседи по дому, знавшие мать девочки. Они свидетельствовали, что девочка жила с матерью. Иногда заезжал к ним какой-то мужчина, но толком описать его не могли. У погибшей не было паспорта. Правда, в паспортном столе его потом нашли, но ни муж, ни ребенок в него вписаны не были. Когда милиция занялась поисками родственников погибшей женщины, выяснилось, что паспорт выписан недавно и, скорее всего, имя и фамилия женщины изменены.
Разослали информацию в газеты и в отделения милиции, в надежде, что объявится ее сожитель, который мог быть отцом ребенка. Квартира была снята на подставное имя, деньги уплачены на несколько лет вперед.
После похорон Костин кабинет переделали в детскую: веселые занавески, книжки на полке, куклы, мишки, кровать с пологом, как для принцессы. Но Ася молчала по-прежнему. Таня подарила ей медвежонка с большой головой, рыжим мехом и смешными глазами-пуговицами. Девочка укладывала его рядом спать.
Великое дело – связи! Татьяна удочерила Асю и через месяц уже получила метрику, где была записана как ее родная мать. В клинике детский психоневролог сказал Тане, что у девочки на фоне стресса развилась афазия, попросту говоря, немота. Чтобы болезнь прошла, нужно время, и хорошо бы на море свозить. Морской воздух, вода, солнце – все это благотворно для детской психики.
– Ася, мы с тобой летом на море поедем. Ты была на море?
Девочка вопросительно посмотрела на Татьяну.
– Ох, милая, ты и ответить не можешь. Но ничего, мы в Одессу полетим. Там съемки будут как раз в июне. Купаться будешь, фрукты есть. Маша, поедешь с нами?
Маша своих детей давно вырастила и, не дождавшись внуков, с удовольствием нянчилась с Асей: купала, кормила, разговаривала, хотя девочка и не отвечала. Она поняла: малышка сообразительная, все хорошо слышит, а молчит только до поры до времени.
– Поеду, Таня. Вы одна с ней не справитесь.
Татьяна сохранила часть вещей Асиной мамы: золотые сережки с бирюзой, часики, брошку с мухой в янтаре, – намереваясь рассказать потом девочке о ее настоящей маме и отдать все, что от нее осталось. Фотографию, которую нашли в съемной квартире, – мама с Асей, вставили в рамку и повесили девочке в комнату. Татьяна чувствовала: так нужно.
Глава десятая
В московском аэропорту рейс на Одессу отложили сначала на час, потом на два, а потом на неопределенное время. Одесса не принимала – шел грозовой фронт. Ася маялась: она измучила Татьяну и Машу, тащила за руку в кафе, туалет, к сувенирному киоску, ей было скучно.
Вдруг Маше пришло в голову:
– Таня, а давайте ей книжку почитаем, может, она книжки любит?
В газетном киоске они купили книжку-сказку в стихах какого-то современного детского автора. Стихи были про город, про машины, про море и корабли и про детей, которые едут на море. Асю как подменили. Она уселась с ногами на диванчик и стала внимательно слушать, не отрывая глаз от страниц.
– Умница какая, как же мы раньше не догадались, Маша? Она, оказывается, любит слушать.
– Тань, да она картинками больше интересуется, смотри, как пальчиком водит. Я раскраску ей когда-то дала, она соображает, где какой цвет надо. Пойду посмотрю в киоске, может, есть чего для рисования.
Карандаши и альбом пришлись как нельзя кстати: Ася, высунув язык, разукрашивала белые листы, и самое удивительное, что по калякам-малякам вполне можно было догадаться, что имел в виду юный художник: цветы, солнце, домик, девочка…
Татьяна и Маша попытались разговорить Асю:
– Это собачка, Ася? Или лошадка? А это кто такой синенький?
Но Ася мотала головой и не отвечала. Выплеснув бурю разноцветных эмоций на бумагу, она незаметно уснула. В это время как раз объявили посадку. Татьяна растерялась: вещей – целых три больших чемодана, да еще спящий ребенок, которого невозможно разбудить.
С диванчика напротив поднялся высокий немолодой мужчина с красивой осанкой. Выворачивая ступни, он пружинисто-легкой походкой направился к ним.
Балетный, сообразила Татьяна. В прошлом, конечно. Ему навскидку под пятьдесят будет.
– Извините, Татьяна Карпинская? Я вас сразу узнал. Лечу тем же рейсом, что и вы. Простите, услышал ваш разговор. Позвольте вам помочь. У меня только сумка через плечо. Я возьму на руки вашу спящую красавицу, если позволите. Ах да, забыл представиться – Вениамин Левитин, солист Пермского балета, теперь уже бывший. Ныне хореограф. Лечу в Одессу на съемки фильма.
– Какое совпадение, мы тоже, – улыбнулась Татьяна, протягивая руку Вениамину. – Вы, случаем, не к Петровскому? Он сейчас о летчиках фильм делает. Я к нему, а вы?
– Нет, мне в фильме о летчиках делать нечего. В Одессе снимают водевиль, я постановщик танцев.
– Как интересно. Спасибо за помощь.
Вениамин узнал Карпинскую сразу. Судьба давала ему шанс познакомиться с очередной знаменитостью. Он коллекционировал подобные знакомства и в разговорах любил прихвастнуть громкими именами, благо жизнь действительно часто сводила его с известными людьми. Да и сам он был, что называется, на слуху у театральной общественности.
Судьба была добра к Венечке: в пять лет он был отобран среди многих детей в Пермскую балетную школу. В училище его взяли без экзаменов как самого одаренного. В последних классах он уже танцевал сольные партии на сцене пермского театра и обладал внешностью херувима. Девчонки дрались за право танцевать с ним в паре, но девочек, особенно балетных, он не любил – они были слишком привязчивые и пахли потом. Его жизненный девиз был: «Не заморачиваться!» Никаких серьезных чувств ни к кому в жизни он не испытывал, легко влюблялся, легко расставался. Не любил женских истерик, зато любил принимать подарки и знаки внимания. К пятидесяти, не обзаведясь семьей, жил в свое удовольствие. Балетная пенсия плюс подработки хореографом в кино и в театре давали возможность, не особо шикуя, вести холостяцкую жизнь, но хотелось поближе к столице, и он давно искал случая бросить якорь возле какой-нибудь стареющей одинокой звезды.
В самолете Венечка пересел поближе к Карпинской, отдав свое место у окна пареньку с фотоаппаратом. Весь рейс они проговорили. За час с небольшим полета подружились и даже нашли много общего, например общих знакомых.
В одесском аэропорту Татьяну встречала машина съемочной группы, а Вениамин собирался взять такси.
– Какое такси? Помилуйте! Мы вас подбросим к киностудии. Нам же всем в одну сторону, – потянула Вениамина в машину Татьяна.
Водитель покачал головой:
– Подбросить можем, конечно. Но вам, Татьяна Николаевна, в центр, в гостиницу «Красная». Будете жить как королева. Распоряжение Петровского.
– Ну вот, приехали, – возмутилась Татьяна. – Я же просила поближе к морю. Меня вполне устраивала киностудийная гостиница, маленькая такая, ну, вы знаете, со смешным названием «Курьяж».
– Так это ж клоповник! – удивился водитель.
– Нечего наговаривать, я там много раз останавливалась. Там приличные люди жили, можно сказать, весь цвет отечественного кинематографа: Хуциев, Тодоровский… Вениамин, вы там бывали?
– Нет, я первый раз в Одессе.
– Тогда вам точно туда. Чудный двор, киностудия через дорогу, а главное, пара шагов – и спуск к морю. Давайте сейчас в киногруппу, там все решим. Еду в «Курьяж» и вам предлагаю.
Решение Карпинской не обсуждалось, хотя директор группы пожала плечами: «Мол, хочешь как лучше…», а потом пронесся слух, что Карпинская поселилась там из-за хореографа. И действительно, их часто видели вместе. Сплетни о новом романе Татьяны разлетелись раньше, чем роман случился. Вениамин старался изо всех сил быть приятным, ненавязчивым и одновременно необходимым семейству Карпинской. Они все вместе ходили на пляж. Ася обожала, когда Вениамин, усадив ее на плечи, сбегал по глинистому склону, ведущему к морю. Он изображал лошадку – громко ржал, брыкался, жевал кусты акаций. Малышка хохотала, а женщины едва поспевали за ними. Татьяна профессиональным глазом отметила красоту Венечки – сильный торс, небольшая голова на гибкой шее, рельефные мышцы рук и ног. Но главное, с Вениамином было очень легко, он был мужчина из ее «лукошка» – остроумный, светский и чрезвычайно деликатный. Конечно, он хотел нравиться, она это понимала – и признавала, что это у него отлично получается. Маша таяла от его комплиментов, да и сама Татьяна уже ни дня не могла обходиться без его компании.
Правда, Ася улепетывала от него со всех ног, когда Вениамин переставал быть лошадкой. Ей не нравилось просто так сидеть у него на руках, строить с ним галечные домики, прыгать на волнах. Все это ей хотелось делать только с Таней, ну, в крайнем случае, с Машей. Впервые увидев море, девочка раскинула ручки и побежала целоваться с водичкой, чем рассмешила всех вокруг. Вытянув губки, она склонилась над водой и быстренько чмокнула маленькую волну, которая, как щенок, прибилась к ее коленкам. После такого знакомства с морем Асю уже невозможно было вытащить из воды. Таня переживала, что девочка перекупается, Маша – что перегреется, а Вениамин старался не раздражаться от суеты вокруг этого странного ребенка, но однажды сдержать себя не смог. Этого не заметили женщины, но Ася после случившегося уже не хотела забираться к нему на плечи.
А произошло вот что. Как-то в один из дней волна накрыла Асю с головой. Девочка не испугалась – выскочила на берег и, хохоча, бросилась к перепуганной Маше. Подхватив Асю на руки, Маша чуть не выронила ее в ту же минуту: малышка кричала, шлепая себя по груди, на которой секунду назад висела палочка. Ася рвалась назад, в море. Подбежали Вениамин и Таня и увидели, что с Асей происходит что-то странное – она посинела и начала задыхаться от крика. Таня умоляюще посмотрела на Вениамина и стала быстро объяснять, что этот странный предмет девочка никогда не снимает и никому не дает это сделать, что это память о ее маме: «Прошу тебя, попробуй найти его. У меня сердце разрывается от ее плача». Вениамин нехотя зашел в море и начал нырять на мелководье. Женщины унесли рыдающую Асю подальше от воды. Не отрывая глаз от Вениамина, девочка тяжело дышала и сжимала кулачки. Найти палочку в бурном море, полном водорослей, было невозможно. Несколько раз нырнув для проформы, Вениамин вышел на берег. Догадавшись, что он ничего не нашел, Ася вырвалась из рук Тани, подбежала к нему, размахивая кулачками. Он схватил ее, несильно тряхнул и сказал тихо, так, чтобы ни Таня, ни Маша не услышали: «Слушай, ты, козявка, прекрати истерику. Палка твоя тю-тю. Хочешь, ракушку на шею повесим?» Девочка отскочила и побежала к морю. Он еле нагнал ее у самой воды. Осев на мокрый песок, Ася горько заплакала. И вдруг Вениамин увидел, как ту самую палочку на ленточке, из-за которой и случился весь сыр бор, прибило волной к маленькой пятке. Это было невероятно, необъяснимо – самое настоящее чудо. Ася мгновенно выловила пропажу, надела на шею и улыбнулась, но не Вениамину, а солнцу, облакам и морю.
До гостиницы Ася протопала сама, отказавшись от Вениной «лошадки». В номере она свалилась спать, а когда проснулась, громко попросила молока. Таня и Маша чуть сами не потеряли дар речи от неожиданности. С этого дня Ася заговорила.
Танины съемочные дни подходили к концу. Роль жены трагически погибшего пилота была небольшой. Последний съемочный день отмечали на даче оператора фильма. Дача была на Каролино-Бугазе, в дивном месте, где с одной стороны песчаной косы плескалось соленое море, а с другой – мелководье пресного лимана. Пожилой оператор Федор Борисович в двух последних эпизодах снял маленькую Асю, что было не по сценарию, но вся съемочная группа вместе с режиссером влюбились в девочку, и не снять ее было бы преступлением. Ася теперь болтала, не умолкая, и удивляла всех своей взрослой речью и суждениями.
Старый Танин поклонник, режиссер Петровский, был очень раздосадован появлением в Таниной жизни этого «танцора». Единственное, что успокаивало, – слухи о его нетрадиционной ориентации. Это были опасные и ничем не подтвержденные слухи, но на пустом месте они не могли возникнуть. На даче он все время исподтишка наблюдал, как Веня ведет себя с женщинами и как – с мужчинами, но большой разницы не заметил. Вскоре ему надоело его разглядывать, и он перевел глаза на девочку. Никак не мог понять, кого она ему напоминает.
Все расселись в беседке за большим столом, крытым клетчатой клеенкой. Над столом висела лампа без абажура, свет которой пробивался через густую листву и нефритовые капли еще не созревшего винограда. После ухи, жареных бычков, плова с мидиями и картошечки с чесночком и укропом пришло время торта, которого так ждала Ася. Она давно приметила коробку с нарисованным медведем. Это был шоколадный торт «Мишка на Севере», Асин любимый, но его разрезание все оттягивалось. Неожиданно Федор Борисович сказал, что сейчас будет сюрприз, и вынес фотоальбомы. Как выяснилось, именно в этом месяце десять лет назад Петровский и Татьяна Карпинская встретились впервые. За это время она сыграла почти во всех его фильмах. Роли были разные, от эпизодических до главных. Оператор собрал фотографии. На них Таня была в разных образах, в гриме, почти неузнаваемая; она смеялась, плакала, выразительно молчала, пела, танцевала и скакала на лошадях. Одна фотография была особенной. Ее Федор Борисович показал в конце. На ней были почти все, кто сейчас сидел за столом, но десять лет назад.
– Помнишь, Таня, как ты первый раз приехала к нам? – спросил Федор с грустью. – Тогда ты была не одна, а с Костей, Царство ему Небесное. Вот, посмотри. – И он протянул Карпинской довольно большую фотографию.
Таня схватила ее и прижала к сердцу:
– Господи, это было совсем недавно!
Она не заметила, что через ее плечо на фотографию смотрит Ася. И тут все услышали то, чего никто не ожидал и что сразу все объяснило. Ася ткнула в изображение Кости и сказала: «Папа». Потом помолчала и добавила: «Мой папа Костя». Маша тут же стала оправдываться: мол, девочка уже не в первый раз реагирует на фотографии мужчин таким образом, для нее все папы, но Ася посмотрела на нее как на дуру.
– Маша, это мой папа, – упрямо повторила она, – а другие – не папы. Глупостей не говори.
Таня охнула и схватилась за сердце. Петровский стукнул ладонью по столу, аж подпрыгнув:
– Ну, конечно, посмотрите на ее глаза, губы. Она же копия Кости. Как ты раньше этого не замечала, Таня?
Татьяна разрыдалась, прижав голову девочки к груди. Она Котина дочь! Она моя родненькая! Теперь все понятно, почему он сорвался той ночью, понятно, куда ехал. Господи, почему он не сказал? Я бы все поняла, господи…
Девочка тоже всхлипывала, прижимаясь сильнее к Татьяне. Они что-то шептали друг другу на ушко и обнимались.
Подхватив Асю на руки, Таня ушла. Этой ночью они обе долго не могли уснуть и откровенничали, как старые подружки, делясь памятью о человеке, которого любили.
Потом сон наконец сморил девочку, а Татьяна до самого рассвета гуляла по берегу. В темноте Черное море действительно было черным, как смола, и таким же, как смола, густым и вязким. Сонно накатывая на песок, волны перешептывались и откатывались обратно. Танины щеки, мокрые от слез, так и не высохли до утра: в эту ночь не было ветра…
Они вернулись в Москву другими. Ася вспомнила, что мама и папа звали ее Настей, и по документам стала Анастасией Константиновной Колчиной, официально получив отчество и фамилию отца. Но имя Ася уже прочно закрепилось за ней, она к нему привыкла и менять не захотела. В свои три с половиной года девочка хорошо говорила, а к пяти годам научилась бегло читать. В семь лет она пошла в первый класс, и ей очень нравилась школа, особенно уроки рисования.
С каждым днем Таня все яснее замечала в приемной дочке сходство с Костей и от этого любила ее еще больше. Ася отвечала такой же привязанностью. Всем вокруг она готова была рассказывать, что ее «вторая мама» самая добрая и самая красивая, и еще она артистка и все ее знают. Единственное, что омрачало, с точки зрения Аси, их семейную идиллию, так это приезды Венечки, которого Ася про себя называла Вонючкой. Он больше четырех лет «окучивал» Татьяну. В тот день, когда стало ясно, что Венечка наконец дожал и Татьяна согласна выйти за него замуж, Ася долго и безутешно плакала. Причину слез она не раскрыла, а Таня поняла по-своему: ревнует ребенок. Но дело было в другом.
Асе стали сниться сны, которые повторялись чуть ли не каждую ночь. Сны были настолько реальными, что поутру она заглядывала за шкаф, надеясь обнаружить в стене дверцу, из которой к ней по ночам приходили две женщины – одна старенькая, другая молодая. Старушка была одета во все черное, а молодая, как царевна, во всем золотом и с розой в руках. Они были ласковые, рассказывали сказки, которые, проснувшись, Ася забывала, однако кое-что в памяти оставалось и всегда сбывалось.
Однажды утром она проснулась в слезах и бросилась к Маше на кухню:
– Машенька, родненькая, прошу тебя, не уходи! Можно я сегодня в школу не пойду, мы с тобой посидим, почитаем. Я розочку тебе нарисую, как у царевны в руках, красненькую. Пожалуйста! – поскуливала девочка, тычась мокрыми щеками в Машин фартук.
– Что значит «в школу не пойду»? Заболела, что ли? Дай-ка лоб. Ах ты, симулянтка! Нормальный лоб. Бегом собираться, у меня дел по горло. Сейчас в школу тебя отведу, а потом в химчистку, в прачечную, на рынок.
– Не уходи-ии-и, – заныла Ася. – Царевна сегодня розочку в ямку бросила, а там ты лежишь, мертвая.
Маша осела на табурет:
– Это тебе, что ль, приснилось?
Ася закивала.
– Плохой сон, что скажешь. Но сны врут, деточка. Мне вот недавно снилось, что я на красивом пароходе уплываю в кругосветное путешествие, и что? Пустой сон. Ты иди умойся. Позавтракаем и пойдем по своим делам. А умирать всем положено, только кому в какое время – неведомо.
Встречать Асю из школы Маша не пришла. Учительница позвонила Тане в театр. Предчувствуя недоброе, Таня сорвалась с репетиции и приехала за дочерью. Из учительской вывели зареванную Асю, и первое, что Таня от нее услышала, было: «Маша умерла, потому что меня не послушалась».
Учительница прошептала на ухо Татьяне:
– Она очень странно ведет себя с утра, все время плачет и говорит о смерти няни. Что с Марьей Ефимовной случилось? Здорова ли?
У Тани по спине пробежал холодок.
– С утра все было в порядке, – ответила неуверенно. – Видела, как они выходили из дому. Маша вела Асю в школу, потом собиралась по делам. Странно. Вы говорите, что Ася с утра твердит о Машиной смерти, но утром все было в порядке. Где же Маша?
Только к ночи выяснилось, что на трамвайной остановке нашли женщину, которая сидела на скамейке, прислонившись к дереву, словно спала. Ее заприметил водитель трамвая, проезжая эту остановку по третьему кругу. У Маши случился обширный инфаркт с разрывом аорты – мгновенная смерть. Таня и Ася лишились близкого человека и надежной помощницы. То, что Ася напророчила смерть няни, вылетело из Таниной головы в похоронной суете. Никто с расспросами к Асе не приставал, а жаль. Она могла бы рассказать, что после пророческого сна чувствовала, как палочка на груди стала холодной, как лед, а потом, когда все произошло, словно оттаяла.
После смерти Маши сразу приехал Вениамин, который понял, что настал его звездный час. Он взял на себя все домашние заботы – готовку, уборку, стирку: тут очень пригодился опыт старого холостяка. Теперь он уезжать не собирался, предложив Тане сначала помощь по хозяйству, а потом руку и сердце. И Таня согласилась.
Накануне их помолвки Асе приснился сон, о котором она не рассказала Татьяне. Так и жила с ним всю жизнь, зная, что в нем все правда: Венечка, трущийся возле мальчиков с маленькими крепкими ягодицами, стянутыми балетным трико, его цепкие руки на их бедрах, влажные губы на детских шеях. Во сне казалось, что он злой колдун, превративший мальчиков в кукол, а иначе почему они не убегают, прочему позволяют делать с собой все эти ужасные вещи? Каждую ночь, перед сном, Ася нашептывала в темноту: «Бабушка черненькая и Царевнушка золотая, сделайте так, чтобы пришел добрый принц и спас нас от злого волшебника Веньки». Принц не приходил, но зато появился Мишка, которого Ася мысленно назначила принцем-освободителем. А случилось это на елке в Кремле.
Обычно, переодев детей в карнавальные костюмы и отправив плясать у елки, родители уходили в буфет, ожидая там окончания праздника. Ася, разодетая царевной, в красивом парчовом сарафане и кокошнике, топталась возле двери, не выпуская Татьяниной руки. Ей было боязно оказаться одной среди шума и беготни незнакомых детей. Дело чуть не кончилось позорным, со слезами, возвращением домой, как вдруг они увидели большую женщину в мохнатой шубе, похожую на медведицу. Еле поспевая за сыном в маске и костюме медвежонка, она кричала ему вслед:
– Миша, постой, ты забыл билетик на подарок!
Таня окликнула ее.
– Ой, Татьяна Николаевна! – Дородная Клава утопила Татьяну в объятиях. – Как я рада! Давно не виделись! А это мой Мишка.
Татьяна, едва не задохнувшаяся от тяжелых и сладких Клавиных духов, взяла за плечики Асю:
– А это моя Ася. Она стесняется. Миша, может, ты поможешь? – обратилась она к мальчику.
Тот стянул маску с раскрасневшегося лица и взял Асю за руку. Сине-бирюзовые глаза Миши светились не хуже лампочек на елке. Ася отцепилась от Татьяны и, как загипнотизированная, пошла за ним.
– Ну, вот и хорошо, – обрадовалась Клава, – вместе и будут плясать, синеглазки наши. А мы, Татьяна Николаевна, давайте в буфет пойдем. Там пирожные вкусные.
В буфете Таня взяла кофе, а Клава – эклеры и бутылку «Буратино».
– Танечка, ну что же вы за дефицитом никогда не зайдете? Я же всегда своих помню.
– Спасибо, Клав, зайду. А Миша-то Третий как вытянулся! Очень на деда похож, а глаза Настины.
– Правда ваша, весь в деда. Умничка такая, язык учит английский, на фортепьянах играет. А ваша принцесса тоже, ну, прямо кукла. И знаете, все больше на вас становится похожа, хотя не должна, а похожа. Точно артисткой вырастет.
Таня сморщилась и от «фортепьян», и от бестактного намека на Асину «похожесть».
– А как поживают два других Михаила? – перевела она разговор и тут же об этом пожалела.
Клава с полоборота завелась и со слезами на глазах начала жаловаться на мужа-алкоголика и упрямого старика, который все хочет делать по-своему. Но потом, споткнувшись на полуслове, всплеснула руками:
– А я слышала, вы опять замуж вышли. Правда, Татьяна Николаевна?
– Да вроде правда.
– От, молодец! Оно конечно, вы ж актриса какая! Да вы и в сто лет невеста хоть куда. Это нам, обычным женщинам, после полтинника хоть вешайся. А покажете мужа?
– Чего не показать? Приходите. Всей семьей. Новый год отметим. Детей подружим.
– Да я думаю, после сегодняшнего они будут неразлейвода. А мы придем. Давайте на недельке. Я вкусненького принесу. Погуляем!
Михаил ехать в гости к Карпинской категорически отказался. Он по-прежнему недолюбливал Татьяну, и ее новый муж нисколько его не интересовал. Сколько ни уговаривала Клава, не поехал. А Михаил Александрович и Миша Третий собрались.
Ася, услышав трель дверного звонка, сама кинулась открывать дверь:
– Мишка пришел!
Она втянула его за руку в дом. Казалось, что они знают друг друга целую вечность, хотя познакомились всего лишь три дня назад на елке.
– Пошли скорей ко мне, я тебе такое покажу! – Ася стянула с Миши шарф, помогая побыстрее снять пальто. – Ну, что стоишь? Побежали!
Она затащила его к себе в комнату и быстро погасила свет. В детской остался гореть на стене лишь ночник в форме мухомора.
– Смотри, – прошептала Ася, на цыпочках подходя к большому платяному шкафу. – У меня там за шкафом бабушка и царевна живут. Видишь? Вон там, в углу?
– Нет, – тихо отвечал Миша. – Не вижу, а какие они?
– Бабушка вся в черном, но не страшная, маленькая такая, а царевна – в золотом и с розой в руке. Они ночью приходят и сказки рассказывают.
– Про что? – шепотом спросил мальчик.
– Про разное. Про то, что с нами будет.
– И что с нами будет?
– Откуда я знаю? Они не про всех рассказывают.
– Выдумываешь ты все.
– А вот и нет, я их нарисовала – бабушку и царевну.
Ася включила свет и вытащила из письменного стола рисунки. Рисовала она здорово, Мишка так никогда бы не смог.
– Ух ты! А я буду, как дед, инженером. Дома буду строить, мосты красивые и всякие магазины большие, чтобы люди туда ходили и все себе покупали. У меня дед, знаешь, какой хороший, он меня по-английски и по-французски говорить учит. Мы летом на даче живем, приезжай к нам, ладно?
– Приеду. – Ася кивнула. – Возьму маму и приеду.
– А кто там, на фотографии? – Миша указал пальцем на фото Дарьи.
– Эта мама Даша, она меня родила, а мама Таня вырастила. У меня две мамы. Вот, смотри, у меня на шее штучка висит, она в кулаке дрожит, а когда что-то плохое должно случиться, холодеет. Мне ее мама Даша повесила, перед тем как умерла. Только никто не верит, что это волшебная палочка. А ты веришь?
– Еще чего! Волшебные палки только в сказках бывают. И все ты выдумываешь, – обиделся Миша.
По сравнению с ним, у этой девочки было слишком много преимуществ: бабушка и царевна за шкафом, целых две мамы и какая-то непонятная штуковина на шее, а у него только дед, вечно пьяный папа и мама Клава, которая никуда не пускала, зацеловывала до боли и звала обидно: «Моя сладкая попа».
– Ты, Аська, выдумщица! Не бывает у человека две мамы, и штука эта не волшебная, и никто за шкафом не живет, ты все выдумываешь!
– А вот и не выдумываю, нет, я правду говорю. А еще я в кино снималась!
Этого мужская гордость вынести уже не могла. Мишка дернул Асю за косичку и умчался от нее по коридору:
– Выдумщица, выдумщица, все придумала!
– Мама. – Ася в слезах помчалась к Тане за утешением. – Он сказал, что я все выдумываю, и за косичку дернул.
Клава расхохоталась.
– Я же говорила, будут неразлейвода. И чтоб ты знала, – обратилась она к Асе, – когда мальчишка за косичку дергает, это значит влюбился. А что? Я не против! Мне такая невестка подходит.
Татьяна попросила детей больше не ссориться, ведь очень скоро к ним придет Дед Мороз.
Кто скрывался за маской Деда Мороза, Ася догадалась сразу. Выдавали глаза – стеклянные, пустые. К тому же Таня на вопросы гостей о Венечке неопределенно отвечала, что, мол, задержался на работе и, наверное, скоро будет. Ася глянула с презрением на обалдевшего Мишку, который при виде высоченного, широкоплечего, одетого в атласный камзол и сафьяновые сапоги Деда Мороза забыл закрыть рот. Он бы так и простоял с открытым ртом, пока Венечка театрально декламировал заученную накануне ахинею, но Ася успела шепнуть ему на ухо: «Это не настоящий Дед Мороз, это Венька, злой волшебник». От этого у Миши рот захлопнулся, зато глаза распахнулись от удивления и страха.
Дед Мороз попросил детей прочесть стихи, чтобы вручить подарки, но Ася вышла вперед, заслонив собой Мишку, и громко сказала:
– Я знаю, кто ты. Ты не Дедушка Мороз, ты – злой колдун. Уходи и больше сюда не приходи никогда, слышишь, а то я взмахну своей волшебной палочкой и превращу тебя в крысу.
Взрослые растерялись, Венечка тоже, но потом, не выходя из образа, объявил, что девочку заколдовала Баба-яга и теперь она, непослушная и злая, подарков не получит, все достанется хорошему мальчику, который прочтет стишок. Пока он это говорил, они с Асей, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. На лице девочки проступили красные пятна, пальцы сжались в кулачки. Таня поняла: Ася узнала Вениамина и готова открыто продемонстрировать свое отношение. Быстро взяв себя в руки, она по-актерски профессионально разрулила ситуацию, подбросив реплику:
– Дедушка Мороз, разве ты не узнаешь? Это же твоя Снегурочка, а рядом с ней Медвежонок. Это хорошие дети. Отдай им подарки, а стихи они потом почитают.
Веня скинул со спины мешок, вынул из него коробки с куклой и пожарной машиной, отвесил поклон и удалился. За столом повисла напряженная пауза. Михаил Александрович подозвал к себе Мишу, а Клава, махнув рюмку водки, сказала:
– Ишь ты какая! С характером. Всем тут жару задаст.
Детей увели в детскую. Венечка, отклеив бороду и переодевшись, присоединился к компании. Он был само очарование: шутил, успокаивал Таню, советовал переключить Асю со сказок на книги о школьном детстве, например такие, как «Веселая семейка» Носова или стихи Сергея Михалкова. С висюлькой на шее Вениамин тоже советовал разобраться:
– Это же ненормально, когда ребенок ее никогда не снимает и по любому поводу за нее хватается.
Михаил Александрович поднял глаза на Таню и поинтересовался, что это за «висюлька».
Таня махнула рукой:
– Талисман. От ее мамы Даши остался. Не дает к нему притронуться. Похож на тот, что у нашей с вами Насти на шее висел, только размером меньше, но я заметила странную вещь: кажется, эта палочка вместе с Асей растет. Может, нам вдвоем уже пора к психиатру?
Михаил Александрович поднялся и попросил разрешения пройти к детям. За столом с двумя женщинами остался Вениамин. Клава не сводила с него глаз. Ей нравилось в нем все: и коротко стриженные седые волосы, и капризно изогнутые губы, и бледная кожа, и светло-серые, почти прозрачные глаза. Но больше всего, конечно, фигура – стройная, подтянутая, не то что у мужа, хоть он и моложе.
Повезло Татьяне, решила она, какого красавца отхватила, да еще и хозяйственного, вон как с посудой управляется. А готовит как! Биточки – пальчики оближешь. Ну а девка у нее малахольная, вся в бывшего, малость подвеянного. Да еще неизвестно, какая там мамашка была. Эта Аська может им всю жизнь отравить. Знаем, как случается: сначала будет мать к отчиму ревновать, а как повзрослеет – отчима к матери. Да, дела…
Михаил Александрович вернулся из детской слегка растерянным. Улучив минутку, шепнул на ухо Татьяне:
– Невероятно, точь-в-точь как то стило, которое у Насти пропало, но да, меньше, вроде его миниатюрной копии. Блестит как серебро, а то тусклое было. Вместо шнурка грубого – лента шелковая. Скорее всего, просто похожая штуковина. То стило никак не могло оказаться у Асиной мамы… Странно как…
Когда гости засобирались домой, Ася и Миша стояли, держась за руки. Они не хотели расставаться. Ася категорично заявила, что пойдет к директору школы и попросит перевести Мишку к ним, а иначе она сама в его школу переведется. Таня пообещала обсудить это завтра, а Миша, вцепившись в Клаву и дедушку, просил еще хоть немножечко побыть с Асей.
Идея перевода Миши в «блатную» школу, где училась Ася, захватила Клаву не на шутку. С одной стороны, Ася не подарок, но попасть в английскую школу, где учатся цековские детки и детки дипломатов, очень хотелось. Раньше она над этим как-то не задумывалась. Дед Михаил учил внука языкам, водил его повсюду, вкладывая в него всю душу, но он скоро девятый десяток разменяет, а в таком возрасте всякое может случиться. Решила: надо сделать все, чтобы не упустить шанс, и свои соображения изложила свекру. Тот после визита к Карпинской пребывал в каком-то особенном, приподнятом настроении. Как только Клава завела разговор о переводе Мишки в школу, где учится Ася, радостно обнял ее и сказал, что готов возить и забирать Мишку после уроков, поскольку ему, как заслуженному пенсионеру союзного значения, положен персональный транспорт. Раньше он об этом молчал, и Клава в очередной раз убедилась, что дед «тихушник» и от него можно всего ожидать.
«Хорошо хоть пенсию свою не замыливает, – подумала она. – Да и в свою квартиру шикарную пустил жить, а так бы в старой ютились».
Клава знала, дед не подведет, главное, чтобы здоровье у него не подкачало и протянул бы подольше.
Мишу, благодаря хорошим оценкам, а главное, Таниным связям и Клавиному «дефициту», легко перевели в спецшколу на Арбате. Там он и проучился все годы рядом с Асей. Дети были неразлучны. Их отношения росли вместе с ними: из детской дружбы-вражды вылупился почти что родственный союз. Их даже считали братом и сестрой. Потом начались подростковые метания, ссоры и ревность, закончившиеся обоюдным признанием в любви и желанием никогда не разлучаться. Правда, эти свои планы ни Ася, ни Миша пока не озвучили не только в семьях, но даже самим себе. Михаил Александрович и Татьяна догадывались и, что называется, стучали по дереву, боясь сглазить. Зато Клава дорого бы отдала за какую-нибудь «порчу» на Аську, до смерти надоевшую и отвлекающую ее сына от учебы. Даже подумывала, не сходить ли к гадалке, что в своем объявлении обещала за дополнительную плату «отворот-приворот». Если бы кто спросил, чем же ей так Ася не угодила, то внятного объяснения не последовало бы: «Просто не нравится, и все тут!» Ей трудно было сформулировать интуитивно-животное неприятие Асиной независимости и внутренней свободы.
– Она же ни в грош нас не ставит! – как-то пожаловалась мужу. – Нос воротит, только и слышно: «Здрасьте, до свиданья». Хоть бы раз села, поговорила, за советом к старшим обратилась. Нет, куда там! С гонором и себе на уме, та еще прынцесса! А все – Танькино воспитание, богэма! Посмотри, во что одета, смех один! Штаны обтрепаны, майки в разводах каких-то чернильных. А на голове что творится! Отмыть и причесать! А заметил, как она старается на эту б… из фильма походить. Ну, помнишь, недавно вышел. Все только и твердят: «Маленькая Вера, маленькая Вера…» Пластмассу в уши вдела, на руки браслетов дешевых навешала. Даже похожую полосатую футболку натянула, с плечом голым… И глаз у нее такой же блудливый, а все вокруг аж заходятся: «Ася талант, художник». Ё-моё! Да ты видел эти картины? Без бутылки не разберешься! С придурью девка, с детства такая. А думаешь, Татьяне с ней легко? Эта засранка с отчимом даже разговаривать не хочет.
Миша отвернулся к стене, натянув на голову подушку.
– Но с другой стороны, – продолжила Клава, – квартира ей достанется по наследству будьте-нате! Я слышала, что Татьяна болеет. Недавно опять с сердечным приступом слегла. Возраст, никуда не денешься. Дура она, что Веньку прописала. Делить придется. Балерун своего не упустит. Что молчишь? Ладно, все понятно. Судьба сына тебя не интересует. Вот заявится такая невестка и всем рот затыкать будет: «Мол, кто вы такие, собственно? Ваше место на овощебазе, а я – голубая кровь!» Аж зло берет.
Вздохнув, Миша повернулся на другой бок, скривившись от взвинчено-крикливых модуляций Клавкиного голоса.
– Да, забыла сказать. Как-то в нашем почтовом ящике нашла пакет на имя деда. Весь марками обклеен красивыми, и с королевой, и с листиками красными. Сначала не поняла, что за страна такая на букву «С», а потом в словаре нашла – Канада. Как думаешь, с кем это дед переписку ведет? Вот я поражаюсь: старый пень, почти девяносто, а мозги варят! Слышала, как он по телефону на иностранном лопотал, быстро так, четко.
Миша понял, что избавиться от Клавы не получится. Сел на кровати и протянул руку к бутылке пива. Хлебнув, равнодушно промямлил:
– Небось наконец родню нашел. Его семья во время революции сбежала. Теперь можно искать, не запрещается, а до перестройки молчал как партизан. Недавно намекнул, что не Степанов он, а другая фамилия у них, графьев этих… И не Михаил он вовсе, а Николай.
Клава так и села:
– Так что, у нас родственники за границей? И мы тоже, значит, графья?
– Уж ты, бля, точно. – Мишка осклабился и икнул.
– Ладно скалиться, почему молчал?
– А тебе что с того? Все как с ума посходили, бегут кто куда.
Он потянулся до хруста в костях и опять прилег на кровать.
– Правильно делают. А если он граф, то и наследство имеется, как думаешь?
– Может, и так, но мы с тобой пролетаем, как фанера над Парижем. Мы – Степановы, а он если докажет, что граф… черт, забыл фамилию… то все и получит. Нам ничего не оставит, и не надейся. Все Мишке отпишет, внучку своему драгоценному. Я вот слышал, как он заливал ему про свою сеструху канадскую, Софью, кажется, и про книгу какую-то.
– Какую еще книгу? Может, он там, в книге этой, деньги прячет?
Миша задумался и затих. Как Клава ни пыталась вытянуть из него, что он конкретно имеет в виду, но так и не получила ответа. Плюнула, решив расспросить сына, но поговорить в этот день не удалось. А то, что случилось потом, вообще надолго выбило ее из колеи.
Михаил Александрович каждое лето проводил на даче. Несмотря на приближающееся девяностолетие и нездоровье, отказывался быть под присмотром Клавы – предпочитал платить сиделке, которая помогала и ему, и по хозяйству с утра до позднего вечера, а ночью уезжала в город. Клава злилась, что дед опять плюет на всех и, вместо того чтобы экономить – лежать себе тихонько в городской квартире, – транжирит деньги почем зря. Лучше бы отдавал ей свою персональную пенсию, справилась бы не хуже сиделки. Но дед считал, что Клаве и так досталось по жизни говнеца в избытке, хватит уж миазмов. Ее возмущало также, что он отпускает сиделку на ночь и остается в доме один, но Михаил Александрович успокаивал: «Ночь самое подходящее время для свидания с костлявой, а если еще и во сне – так об этом только мечтать можно».
Как-то утром сиделка позвонила и сообщила, что нашла Михаил Александровича на полу возле кровати. И тут же быстро добавила: в сознании, дышит и даже говорит. «Скорая» уже тут, но ее подопечный отказывается от госпитализации и срочно хочет повидать внука. Клава удивилась, при чем тут внук, но, недолго думая, собралась и поехала с двумя Михаилами на дачу. Все выходные они провели там. Состояние Михаила Александровича ухудшалось с каждым часом. Он умирал.
Миша Третий вернулся в Москву с тяжелым сердцем. Он бы ни за что не уехал, но утром в понедельник должен был сдавать выпускной по математике. Врачи предупредили: смерть может наступить в любой момент. Прощаясь, дед передал ему пакет. Миша бегло просмотрел содержимое – там были письма на английском языке от некой семьи графов Граве, живущих в Канаде, и нотариально заверенные документы о наследстве на имя внука: Михаила Михайловича Степанова, 1972 года рождения. Миша не вникал в суть всех этих бумаг. В голове крутились невнятные слова деда, которые с трудом расслышал: «книга», «стекло», «полка», а может, и «елка». Бредил дед, что ли? Ему казалось, все это происходит не с ним. Ругал себя, что не остался хотя бы на ночь, мог бы уехать первой электричкой, но в Москве его ждала Ася, трясшаяся как заяц перед математикой. Они договорились готовиться вместе.
О том, что дед умер, Миша узнал ближе к вечеру следующего дня. Клава специально не звонила, дожидаясь окончания экзамена. Как оказалось, деда не стало ночью, но она решила не волновать сына в такой ответственный момент.
Услышав в трубке Асины рыдания, Клава в очередной раз психанула:
– Да что же это такое! Прямо некуда от нее деться! Ясное дело, что она рыдает. Еще бы! Знает, что дед мечтал их поженить. Ладно, пусть порыдают на пару, легче будет.
Сейчас ее волновало другое – куда делся муж? Ночью, закрыв глаза свекру и вызвав «скорую», она растолкала спящего Мишу. Тот поплелся в комнату отца. Клава прилегла – за эти два дня она ужасно устала и у нее не было сил идти проверять, не умыкнул ли стервец-муженек с дедовой тумбочки бутылку с медицинским спиртом. Когда тело увезли, она и вовсе заснула как убитая.
Наутро муж не объявился. Бутылки со спиртом тоже не было. За окном лило как из ведра, начиналась майская гроза. И где его черти носят в такую погоду? Клава зашла к соседям, сообщила о смерти Михаила Александровича и спросила, не попадался ли им на глаза ее благоверный, но Михаила никто не видел. Она оставила на столе записку, чтобы Миша срочно ехал в Москву помогать с похоронами, но тот не появился в Москве ни на второй, ни на третий день. Такое с ним случалось не впервой, но сейчас искать его по вытрезвителям и дружкам не было ни сил, ни времени.
Решили, что деда будут хоронить, как и положено, на третий день. Миша на похороны не пришел, и это уже было подозрительно. Клава заявила в милицию, но поиски ничего не дали.
После похорон Клава вместе с сыном и Асей носилась по больницам и моргам, звонила Мишкиным друзьям-алкашам, но муж как сквозь землю провалился.
Только спустя неделю соседи по даче оповестили, что из сарая на участке Степановых доносится жуткий запах. Там и нашли Мишу – почерневшего, распухшего. Он лежал на полу в засохшей крови. Левая ступня располосована, пальцы болтались на тонкой полоске кожи. Вскрытие показало, что умер он от кровопотери. Никто не мог понять, почему он разрубил себе ногу тяпкой. Если бы Миша мог говорить, то поведал бы странную, почти нереальную историю, которая случилась с ним в ту самую ночь, когда умер его отец.
После того самого разговора с женой Миша старался вспомнить все, что связано с книгой. Книгу-то он помнил очень хорошо, как и то, что хотел ее уничтожить, а вот почему хотел – не знал. Иногда казалось, кто-то назойливо жужжит ему в ухо: «Сейчас же жги, режь!» Потом книга куда-то пропала, а куда именно – его не интересовало. Случайно подслушав разговор деда с внуком, он понял, что книга где-то рядом. В памяти всплыло, как однажды мама взяла лопату и пошла к елке, а потом принесла сверток с книгой. Может, в книге и вправду спрятаны деньги и фамильные ценности, иначе с чего ее закапывать?
Миша решил: пока Клавка не разузнала у сына, о чем ему говорил дед, надо книгу найти. Его проспиртованные мозги шевелились медленно и плохо. Думал только: надо спешить. Ночью вытащил из сарая тяпку. Почему копать нужно именно тяпкой, он не мог объяснить, просто это было первое, что попалось под руку. Елка на их участке была одна. С детских лет помнил перекопанную землю под ней. Сейчас земля утрамбовалась, и тяпка ее не брала. Он стукнул один раз, другой. И тут его отбросило в сторону, как если бы он на электрический провод напоролся. Долбануло будь здоров как, аж руки задрожали. Он оступился на кирпиче, но все же еще раз замахнулся со всей силы. Тяпка вонзилась в ногу. Старый кед был пробит вместе со ступней, ступня оказалась пригвожденной к земле. Боль была адской. Рванув тяпку, Миша почувствовал, как полилась кровь. Теряя сознание от боли, он упал на землю и нащупал в штанах бутылку со спиртом. Вытащив зубами пробку, хлебнул из горлышка и немного пришел в себя. Он хотел снять кед, но не смог. Опираясь на тяпку, встал и поковылял к сарайчику – там у него была заначка. Спирту в бутылке было немного, граммов двести, зато чистого, медицинского. Боль отпустила. Миша ползком добрался до ящика с дачным скарбом и нашарил там поллитровку. Забился в угол между старым шкафом и ящиком, выдул и ее. Потом укрылся ветхим одеялом, которым на зиму укутывали кусты роз, и заснул. Он даже не заметил, как умер.
Глава одиннадцатая
После похорон свекра, а потом и мужа Клава почувствовала удивительное облегчение. Она рыдала на людях, носила траур, но душа ее отдыхала. Уже не надо было изводить себя постоянными волнениями и заботами о больном свекре и алкоголике-муже. Последнее время носилась ведь как заведенная: дом – дача, дача – дом. Оттого и Миша запил еще больше. Он допивался до «белочки», бузил, пропадал, тащил из дому все что мог, отравляя жизнь ей и сыну.
Если бы не эта тяпка, думала она, то я бы первой в ящик сыграла. И с чего это его понесло ночью землю окучивать? – спрашивала себя Клава и сама же отвечала: «Ясно с чего – с бодуна».
Миша тоже пытался восстановить картину несчастного случая. Причиной всего, конечно, была водка, но тем не менее многое казалось странным. Тело с перебитой ступней нашли в сарае. Рядом лежала тяпка, но дощатый пол в сарае не поврежден. Первая версия следствия была такой: пострадавший, вероятно, спрятал в сарае заначку, пытался отогнуть доски тяпкой, но ударил себя по ноге – пьяный же был. Удар оказался роковым. Следствие закрыли, вынеся заключение, что смерть наступила в результате несчастного случая. Но пару дней спустя после того, как сарай осмотрела милиция, Миша нашел на внешней стороне двери следы крови. Выходит, отец вошел в сарай, уже истекая кровью, но нигде в саду следов не нашлось – все смыла майская гроза, разыгравшаяся в ту злополучную ночь.
Спустя еще несколько дней, Клава пристала к сыну с расспросами о книге. Она перерыла все в квартире и на даче. Была уверена: книга – это тайник, в котором спрятаны дедовы деньги и фамильные ценности. Может, Миша знает что? Услышав в ответ, что сын не в курсе, погрозила ему пальцем и предупредила: «Смотри у меня!», но Миша действительно ничего не знал. Дед когда-то рассказывал ему о книге, которая стала причиной бабушкиной болезни и смерти, но подробности он опустил. А дедовы предсмертные слова постепенно выветрились из головы.
«Черный май», как назвал его Миша, подходил к концу. Месяц выдался дождливым, грозовым, ветреным. Казалось, природа старается смыть беды, навалившиеся на их семью, но самая страшная буря разыгралась в последний майский день, ударив по самому больному – по Асе.
Последний раз Миша видел Асю и ее маму Таню с Вениамином на похоронах отца. Ему показалось, что между Асиными родителями размолвка: они не разговаривали и даже не смотрели друг на друга. Таня выглядела плохо, пила сердечные капли. Ася была бледнее, чем обычно, а Вениамин казался растерянным и напряженным. На следующий день после похорон Ася собиралась приехать, но даже не позвонила, а когда позвонила, то прорыдала в трубку, что мамы больше нет, что она умерла от сердечного приступа. Такое и в страшном сне невозможно было представить – цепочка смертей продолжилась, а ведь только что двоих похоронили. Миша и Клава поехали в дом Карпинской. Таню уже увезли в морг, ее комната была пуста. Возле кровати стоял большой букет ландышей. У Миши застрял комок в горле: он вспомнил, что Татьяна Николаевна очень любила ландыши и песню про них: «Ландыши, ландыши, светлого мая привет» – да какой уж тут, к черту, светлый…
Ася сидела в спальне, запершись, а Вениамин разбирал коробки и чемоданы со своими вещами. Для чего он их упаковал и куда, собственно, собирался перевозить, было непонятно.
Услышав Мишин голос, Ася выбежала из комнаты и первое, о чем попросила, это разрешить пожить у Миши и Клавы. Сбивчивым шепотом она объяснила, что боится Вениамина и не хочет ни секунды с ним оставаться под одной крышей. Клава пожала плечами, решив, что просьба девочки, как всегда, очередная блажь. Пошла к Вениамину, чтобы расспросить о внезапной смерти Татьяны, и предложила помощь в организации похорон. Он довольно резко отказался, заверив, что проблем с погребением народной артистки не может быть никаких. Попросил только об одном: истеричку падчерицу увезти с его глаз долой.
Клава и Миша забрали Асю к себе домой. Клаве, конечно, не терпелось расспросить девочку, что произошло между ней и отчимом и почему Веня распаковывал собранные вещи, но Миша запретил ей лезть с расспросами. Сам он был в курсе: поздно вечером, когда Ася немного пришла в себя, она рассказала ему о событиях последних дней.
Буквально за день до похорон Мишиного отца Ася пришла домой и застала странную картину: Веня швырял в чемодан свои шмотки и кричал, что Татьяна дура, что она ничего не понимает и что ей все померещилось. Таня лежала в своей комнате и молчала. Вечером Ася услышала от мамы то, что давно хотела услышать: «Мы разводимся! Он страшный человек, Аська, опасное чудовище. Я его упеку в тюрьму, вот увидишь. Пусть убирается сегодня же!» Асиной радости не было конца, а Татьяна вскоре почувствовала себя совсем плохо. Она приняла сердечные порошки и пообещала, что со временем все расскажет дочери, но только не сегодня, поскольку сил нет. Вениамин ушел налегке, с одной сумкой, и сказал, что за остальным вернется завтра. Утром он вернулся с цветами, объявив с порога, что принес два букета на прощание: один для Татьяны – ее любимые ландыши, а другой для покойного Мишки. Пообещал, что сразу после похорон уйдет. Заберет вещи, и они его больше не увидят. На поминках Веня сильно надрался, чего раньше за ним не замечалось. Ася заподозрила, что он пьет специально, чтобы отсрочить свой уход. Так и случилось. По возвращении домой его развезло, он еле добрел до дивана и рухнул как подкошенный. Плюнув, Таня решила: черт с ним – и ушла в свою спальню.
Ночью Асе снова приснились старушка и царевна, что было удивительно: с того момента как Веня поселился в их доме, сны с ними не повторялись. В руках царевны вместо розы был букет ландышей. Она прижимала букет к груди, а потом уронила. Цветы стали плавно падать, как в замедленной съемке, превращаясь в пепел, серая пелена покрыла пол и стены. Вдруг распахнулась дверь, и вошла Татьяна. Пепел взлетел, закрутился вокруг нее, как смерч, сбил с ног и протащил через всю комнату к окну. Комната опустела.
Ася проснулась с тяжелым сердцем. Глядя в потолок, подумала, что сон плохой и приснился, конечно, неспроста. Что-то мешало ей глубоко вздохнуть. Проведя рукой по шее, она поняла, что горло стянула лента талисмана. Расправив ее, она с трудом встала, чтобы проверить, спит ли еще Веня в гостиной. Оказалось, ушел, но запакованные чемоданы, как и вчера, стояли посреди комнаты. Ася заглянула к маме. Таня спала, тяжело дыша. Брови сведены, уголки рта опущены – лицо даже во сне не расслаблялось. Последние время она чувствовала себя очень плохо, без конца пила лекарства, и Ася решила ее не будить.
Готовя завтрак, Ася услышала, как в комнате матери что-то упало, и со всех ног бросилась туда. Оказалось, ничего страшного, просто разбился стакан, который Таня выронила из рук, когда принимала лекарство. Ей прописали дигиталис, порошок надо было запивать водой. Иногда даже стакана не хватало, чтобы проглотить лекарство. Вот и сейчас Таня выпила всю воду, даже лужу подтирать не пришлось, только собрать осколки стекла с пола.
В комнате сильно пахло ландышами, рядом с кроватью стоял большой букет. Вспомнив свой сон, Ася захотела немедленно выбросить их, но Таня, заметив направление ее взгляда, улыбнулась:
– Красивые, правда? Умеет, гад, подлизаться. Но на этот раз не пройдет. Сядь, расскажу тебе кое-что. Ты уже взрослая, поймешь.
Танино ужасное открытие Асю не удивило – о Венечкиных склонностях она знала давно: старушка и царевна рассказали ей о них во сне – «зашкафные приживалки», как, шутя, она их звала. Веня всегда вызывал в ней брезгливость, но Ася предпочитала молчать: как в такое могла поверить Татьяна? Прозрение случилось два дня назад, когда из-за аритмии и упавшего давления Таня отменила в «Щуке» урок актерского мастерства. Вениамину она решила не звонить – у него шли репетиции в балетном кружке при бывшем Доме пионеров, а ныне Культурном центре для детей и юношества. Вызвала такси и приехала домой. Голова кружилась, и хотелось только одного: чтобы скорее прошла тошнота. Зайдя в квартиру, Таня удивилась тому, что Венечка уже вернулся, и, судя по валяющемуся в коридоре рюкзачку, не один. В комнате вовсю гремела музыка из балета Минкуса «Дон Кихот». В приоткрытую дверь Таня увидела в зеркале отражение телевизора с видеозаписью выступления Нуриева. Кассетами, привезенными Таней из зарубежных гастролей, Венечка очень дорожил, таких тут было не достать. Приглашал домой только самых талантливых учеников – посмотреть на легендарного танцора. Таня решила не обнаруживать себя, чтобы не помешать, и потихоньку двинулась в спальню, но вдруг остановилась как громом пораженная. На ковре перед телевизором лежали два абсолютно голых человека: Веня и мальчик-подросток, на вид не старше четырнадцати. Они ласкали друг друга, никого и ничего не замечая вокруг. Таня, чуть не потеряв сознание, схватилась за стену, пробралась к себе в комнату и тихонько, не включая света, легла в кровать. Мысль была одна: «Умереть сейчас же, в эту минуту…»
Умерла она два дня спустя. Ася прокручивала в голове последние часы маминой жизни и упорно искала объяснение случившемуся. Все разворачивалось на ее глазах: ультиматум Вениамину; решение подать на развод; уход Венечки и возвращение на следующий день с ландышами. Покоя не давал сон. Почему-то ей казалось, что нежные цветы, превратившиеся во сне в пепел, каким-то образом связаны с Таниной смертью, но вскрытие показало, что та умерла от сердечного приступа.
Все так и было – сердечный приступ, только патологоанатом не мог знать, что Таня выпила воду, в которой сутки простоял букет ландышей. Воду, напитанную ядами, Венечка ночью перелил из вазы в стакан. Он прекрасно знал, что Таня, как проснется, примет порошок дигиталиса, и все хорошо просчитал. Татьяна загнала его в угол, объявив, что подает на развод, а если он вздумает претендовать на квартиру или иное имущество, просто посадит в тюрьму. Уйти с голым задом и жить в постоянном страхе не входило в его планы. Когда-то он слышал от своего молодого любовника душераздирающую историю. Скорее всего, история была выдуманная – мальчишка ненавидел женщин, – а может, и нет. Как утверждал парень, его мать отравила отца водой из-под большого букета ландышей. Порывшись в энциклопедии, Веня нашел информацию, что действительно, если цветы простоят сутки в воде, вода превращается в яд. Образуется большое количество сердечных гликозидов, способных вызвать остановку сердца, а если такой водой запить дигиталис, который и сам в больших дозах может быть смертелен из-за тех же самых гликозидов, то конец очевиден. То, что вскрытие покажет недостаточность, никаких подозрений не вызовет: Татьяна сердечница с большим стажем, и никаких других экспертиз проводить не будут. К тому же в энциклопедии указывалось, что морфологические изменения при вскрытии не выявляются. Венечке понравились сама эстетика такого ухода из жизни, элегантность и необычность способа. Со смертью Татьяны основная цель достигалась просто: развода не было, и он, как законный муж, становился наследником всего ее имущества. Приемная дочь имела право на четверть наследства, но она была несовершеннолетней, и он мог оформить над ней попечительство. Сердце Венечки ликовало: теперь эта маленькая гадючка со свистком на шее, отравлявшая жизнь уже только тем, как презрительно смотрит на него, как брезгливо морщится при его появлении, будет полностью в его руках до наступления совершеннолетия. Первым делом он сорвет с ее шеи эту дурацкую штуку и выбросит на помойку. Почему хотелось сделать именно это, он не мог объяснить, но чувствовал неодолимое отвращение к Асиному талисману. Глупость, конечно, но иногда ему казалось, что девчонка при помощи этой штуки манипулирует людьми. Первый раз эта мысль пришла ему в голову, когда Асины работы были приняты на ура художниками и критиками. Девчонке устроили персональную выставку. Да где ж это видано! Мало кто понял, что почти в каждую картину вписаны знаки с ее талисмана. А вот он это сразу заметил. Они были везде – в пейзажах с переплетающимися ветвями, в натюрмортах, на кружеве скатертей и даже на портретах в завитках волос. Тогда его и осенило: именно они и воздействуют на подсознание зрителей, а значит, и на его собственное! Только вот каким образом? Иногда ему казалось, что девчонка читает мысли. Но ничего, теперь она полностью в его руках, теперь уже никто не помешает… Но он ошибся.
В детстве маленькая Ася ждала принца, который избавит ее от чар злого волшебника. Вместо принца появился Мишка. Она назначила его на роль спасителя, а после смерти Татьяны, которая узнала о Венечкиных «художествах», сказка стала былью. Пока страна хоронила народную любимицу, а «безутешный вдовец» вынашивал план избавления от приемной дочери, Миша остро почувствовал, что над Асей нависла опасность. Решение пришло мгновенно: они срочно поженятся. Аська переедет к ним, и никакой Веня ее не достанет.
Когда Миша изложил свой план, Ася обняла его и как-то буднично, кивком головы, согласилась с первой частью, а вот по поводу второй засомневалась:
– Твоя мама не согласится, чтобы я у вас жила.
– Вот глупости какие, – возразил Миша. – Эта квартира моя. Дед на меня завещание оформил. Я там хозяин.
– Хозяин ты, Мишка! Ты же несовершеннолетний. – Настя улыбнулась, утирая слезы. – Твоя мама всему хозяйка.
– Ну, конечно, – смутился он, – но только до зимы, а там нам обоим по восемнадцать исполнится.
– А пока что делать будем? Кто нас распишет?
– Не волнуйся, я все разузнал. Есть варианты. Можно и в семнадцать, если убедить, что срочно, а насчет мамы даже не думай, я сам с ней разберусь.
– Выгонит она меня, вот увидишь. Не нравлюсь я ей. Никогда не нравилась.
Когда Миша и Ася зашли в квартиру, на пороге выросла Клава в старом фланелевом халате с желто-лиловыми разводами, на макушке – пучок грязных волос, на губах – ярко-алая, местами съеденная помада. Она была похожа на боевого петуха.
– Ты чего это, Мишенька? Кого привел? Асю? Опять? Она ж теперь должна у себя жить, а то Венька хитрый, возьмет и выпишет ее. А там же квартира роскошная. Нам такая и не снилась! Это же дворец Зимний, а не квартира!
– Мам, там Асе нельзя находиться, – категорично заявил Миша.
– Что значит – нельзя? Он что, паскудник, приставал? – всплеснула руками Клава и даже вроде как выматерилась, прикрыв рот рукой.
– Не, мам, он не по девочкам, – успокоил Миша, отчего лицо Клавы пошло красными пятнами.
– Ты что такое говоришь? Ты на что намекаешь? Фу, гадость какая! И откуда ты про такое знаешь? Совсем распустился!
– Татьяна Николаевна перед смертью обо всем Асе рассказала, – спокойно ответил Миша и добавил: – Наверное, и умерла после того, как застала его с любовником.
Клава стояла как мешком прибитая, а потом засуетилась, подталкивая детей к кухне:
– Ладно, потом все расскажете, есть пошли.
Изображая праведный гнев, она наполнила тарелки огромными порциями макарон по-флотски. Потом сказала, что сама пойдет к Вениамину и во всем разберется. Неужели все эти годы Татьяна ни о чем не подозревала? А если подозревала, то, скорее всего, сделала завещание на дочку. Нет, надо проверить!
– Ты, Аська, просто так не сдавайся, – погрозила она толстым пальцем. – Борись за каждую копейку, за каждый метр этой квартиры. Тебе положено, и все тут.
– Мам, она там жить не будет, – охладил ее пыл Миша.
– Это как? А где же будет?
– У нас. С нами, со мной…
– Чего-то я не поняла. – Клава уставила руки в бока, в одной руке было зажато грязное полотенце. – Вам что тут, гостиница? Хватит уже, пожила пару дней. Негде у нас жить.
Ася вскочила и побежала в прихожую. Миша остановил ее, схватив за локоть.
– Мамуль! Я ведь тебе самое главное забыл сказать, – прокричал он от двери, еле удерживая Асю. – Мы решили пожениться! Аська – моя невеста. Так что никуда она отсюда не уйдет, а если уйдет, то и я с ней.
– Жених! Нет, вы видели такое, молоко ведь на губах не обсохло! – бушевала Клава. – Женилка еще не выросла! Невесту нашел – курам на смех, да кому она сдалась без квартиры!
– Мама, мы сейчас уйдем, а ты останешься одна.
Миша говорил с ней уже из комнаты, складывая в рюкзак свои вещи: куртку, джинсы, кроссовки, выгреб из комода майки, документы.
– Подумай хорошо, мам. Я не шучу.
Клава затихла, испугавшись, и было от чего. Сразу вспомнился рассказ деда Михаила о том, как родня не приняла его первую жену. Графья эти решили, что невеста им не ровня, он ушел и больше не вернулся. Клава со своей далеко не дворянской колокольни тоже считала Аську чужой – слишком уж много в ней непонятного и неудобного. Была б ее воля, вышвырнула бы на улицу, но своего сына она знала хорошо: если чего решит, так тому и быть. В деда пошел, а значит, не шутит. И Клава решила сбавить обороты.
Ася стояла возле двери ни жива ни мертва. И испугали ее вовсе не крики Клавы и Миши. Талисман, висящий на груди, вдруг больно кольнул в сердце и стал таким холодным, что терпеть невыносимо. Миша вышел из комнаты с рюкзаком, когда она теряла сознание. Он подхватил ее, усадил на стул. Клава охнула и скомандовала немедленно поставить на огонь чайник и принести тонометр.
Едва придя в себя, Ася попыталась встать и уйти, но Клава своим широким телом перекрыла входную дверь.
– Значит, так, голубчики, – скомандовала она. – Значит, так, дорогие мои жених и невеста, вы ж понимаете, что распишут вас не раньше зимы. Оно, конечно, если глупостей не натворите и ляльку не заделаете. Тогда по экстренному… а может, уже приспичило? Чего покраснели? Вам, мои дорогие, в институт поступать, забыли? На что жить собираетесь? Я, конечно, не против, пусть Ася у нас остается, но прописывать ее не буду. Предлагаю сейчас, пока лето, тепло, на даче вам пожить. Там воздух, речка, лес. Заодно уберетесь и огород пощиплете. Я заперла там все наспех. Поезжайте, а потом разберемся, кто куда.
Когда они, ближе к вечеру, уехали, Клава раскисла.
– Сыночка, – плакала она, присев на кухне, – никого у меня, кроме тебя, нет. Я же тебе добра хочу. Книжки все собирала сберегательные, на предъявителя, чтобы выучился, чтобы женился как человек, чтобы в костюме и галстуке и невеста чтоб в белом, а не эта сыроежка… а-а-а-а, – в голос зарыдала она. – Но ничего, порезвишься с ней, может, еще передумаешь. Надо бы к Вениамину сходить и самой убедиться, правду ли эта малахольная Аська плетет. Убедиться и предупредить: если вздумает приемыша оставить без кола без двора, так я этого не позволю.
Она утерла слезы полотенцем и только тогда заметила, что оно грязное.
– Тьфу, пропасть, вонючка какая! – И швырнула полотенце на пол.
Ребята медленно шли к вокзалу. Ася еле волочила ноги. Миша пытался убедить ее, что надо вернуться к ним переночевать, а на дачу поехать утром, но Ася скорее бы тигру в пасть отправилась, чем оказалась сейчас рядом с Клавой. Чувствуя неправду за километр, Ася старалась не общаться с «клаваподобными». Их бранные слова, их истеричные интонации впивались в мозг, но еще противнее было их лицемерие и полное отсутствие совести.
По дороге они заскочили в магазин. Денег хватило только на хлеб и молоко.
Темный дом среди веселой россыпи огоньков дачного поселка казался дверью в пустоту. Они вошли. После дождливой весны в комнатах было сыро и холодно.
– Ну-ка, Аська, помоги. Открывай печку, а я сейчас дров закину. Как затопим, сразу уютней станет.
– Миш, а мама твоя не приедет? Вдруг опять передумает и нагрянет прямо сейчас?
– Не беспокойся, я ее знаю. Она теперь к воскресенью только появится. Ей же на работу с утра.
Миша присел возле печки на старую оленью шкуру. Полустертая, шкура лежала здесь, сколько он себя помнил. Мать когда-то достала по великому блату, не зная, что олений мех линяет в тепле. В результате шкуру «выселили» на дачу.
– Давай, хозяйка, корми мужика. – Миша улыбнулся.
Ася выложила на тарелку хлеб и налила молока в кружки.
– Погоди, я сейчас. – Юноша поднялся и вышел за дверь.
Минут через десять он вернулся с игрушечным пластмассовым ведерком, полным клубники.
– Ну-ка, попробуй! Это с нашего огорода. Мама в теплице выращивает. Смотри, какая большая!
Сидя на шкуре, они ели хлеб с клубникой и пили молоко. Асе казалось, что ничего вкуснее она в жизни не ела. К слову, она и не помнила, когда и что ела до этого.
Подложив под голову диванную подушку, брошенную на пол, Ася долго смотрела на огонь, а потом заснула. Миша тихонько, боясь разбудить, снял с нее босоножки, укрыл пледом и, не удержавшись, поцеловал в губы, пахнущие клубникой и молоком. Ася не проснулась. Он уткнулся носом в ее затылок, обнял покрепче… и неожиданно отдернул руку. Аськин талисман вывалился из-за ворота майки и зажужжал под пальцами, словно пойманная муха. Миша ухватил его за кончик, и жужжание прекратилось. Он привык, что эта штука всегда на Асе, но никогда не верил, что она становится то теплее, то холоднее. Странная палочка, и значки на ней странные… Он вспомнил, как удивился дед, когда впервые увидел палочку на Асиной шее. Что он знал об этом талисмане? Теперь уже не скажет… Надо бы найти объяснение, почему секунду назад эта палочка, как живая, дрожала в руке. Объяснения не нашлось, и Миша заснул.
Спали они долго, до тех пор пока полуденное солнце, продырявив острыми лучиками ставни, не начало щекотать им носы. Ася проснулась первой и чихнула. Миша тоже чихнул и только потом проснулся. Покрытые налипшими волосами от старой оленьей шкуры, они напоминали дикобразов. Миша скорчил рожу и зарычал:
– Я снежный человек и очень люблю девочек, которые едят клубнику и пьют молоко! – Он схватил Асю за запястья, прижал к полу и принялся целовать.
– Мишка, ну перестань. – Ася отбивалась, хохоча, а он целовал ее и не мог остановиться.
Старая оленья шкура разлезалась по швам. «Ну, что же вы, как дети, право. Имейте совесть! Сейчас лопну», – казалось, жаловалась она. В конце концов она действительно лопнула – в тот самый момент, когда произошло чудо и две человеческие половинки соединились в одно целое.
Затем, испытывая неловкость от обуревавших вопросов и не решаясь задать их вслух, Ася и Миша отпрянули друг от друга. Но очень скоро забрались в сырую кровать голышом, чтобы продолжить поиски ответов.
Неужели произошло то самое, вокруг чего так много запретов и мифов? Почему человеческое тело устроено так неудобно? Почему не было крови? Почему больно? И самое главное: куда делось то сладкое облегчение, которое они испытали, целуясь взасос и обнимаясь до беспамятства?
Клацая пружинами, старая кровать вопила о пощаде. Вместо серьезного отношения к серьезному делу эти двое вдруг затеяли «подушечную» войну. Нахохотавшись, напрыгавшись, они наконец слиплись голыми животами, повторяя пройденное. На этот раз получилось гораздо слаженнее и приятнее.
Если бы в тех самых животах не заурчало от голода, они бы и не встали с кровати. Но голод не тетка, и Мише пришлось наскрести какие-то копейки в маминой сумке, валявшейся на кухне, оседлать велосипед и отправиться на станцию за хлебом и молоком.
Когда Мишка укатил, Ася отправилась в огород за клубникой. Быстро набрала полное ведерко и пошла к дому мимо елки. Нижние ветви, разросшиеся и колючие, почти лежали на земле. Несколько веток, довольно больших, были сломаны. От елки пахло смертью. Ее родители погибли в новогоднюю ночь, и с тех пор запах хвои соединился в голове с бедой. С недавних пор с бедой соединились и ландыши.
Ася ускорила шаг и поднялась на веранду. Вытащила из дома кресло-качалку, уселась и стала смотреть на небо. При каждом качке верхушка елки втыкалась в пушистое брюшко облака, похожего на зайца. Закатное солнце, вспыхнув, как зажигалка, вдруг подпалило ему лапы. Ася прикрыла глаза и продолжила фантазировать. Вот возьмет и нарисует картину, на которой будут елка и облако-заяц. В темную зелень елки она впишет знак со своего талисмана – тот, что похож на буквы А и М, соединенные друг с другом. Его значение она давно поняла, а теперь и подавно: «Ася и Миша forever». Ася улыбнулась и нащупала талисман на груди. Он был очень горячим, и вдруг она чуть не свалилась с кресла: от елки к ней шла царевна из детских снов, сияя золотом царских одежд. В руках была книга, которую она протягивала ей.
Ойкнув, Ася зажмурилась. А когда открыла глаза, увидела Мишку. Он дул ей в лицо, пытаясь разбудить.
– Миш, я правда спала? Слава богу! Знаешь, так испугалась, жуть! Там, в елке, царевна живет. Она ко мне вышла с книгой, а я от страха чуть концы не отдала.
– А волка не видела? – пошутил Мишка. – Он тоже там сидит, зубами щелкает.
– Нет, волка не видела, только зайца в небе.
– Зайца? – присвистнул Миша. – Нормально… Конечно, заяц должен быть в небе, а где же ему еще быть?
Ася всем своим видом изобразила смертельную обиду:
– Ты думаешь, что я чокнулась, что вещие сны со старухой и царевной – бред, а живой талисман – моя больная фантазия? Если ты мне не веришь, как же мы будем жить?
– Знаешь, Аська, иногда верю, иногда нет, но я не сомневаюсь, что это все – чистая правда. ТВОЯ правда. Художникам так положено, а я – скучный технарь. Завидую. Мне бы такое воображение! Хотя, если честно, сам обалдел, когда твой талисман у меня в руке завибрировал, как живой.
– А что я тебе говорила! Никто мне не верил, только твой дед Михаил. Он тогда еще, давно, когда мы были маленькими, рассказал, что талисман не простой, что он видел похожий. Еще помню, что талисман нашли внутри книги какой-то. Я не очень тогда поняла, а вот сегодня мне вдруг книга привиделась.
– Значит, скоро и книгу найдем. А пока давай слопаем чего-нибудь. Живот свело. Смотри, тут два пирожка с горохом. Еле удержался, чтобы не заглотить. К соседке зашел, она еще и картошки отсыпала. Живем!
– Ура! Только долго мы так не протянем, – загрустила Ася. – Но в город не хочется! Вот если бы можно было тут жить всегда, чтобы никого больше – только ты и я!
Глава двенадцатая
Когда дети уехали, Клава попыталась дозвониться до Вениамина. Телефон не отвечал. На следующий день после работы она зашла на Котельническую. На смене была знакомая Клаве вахтерша. Себя она называла консьержкой, но Клаве было плевать на стилистические тонкости, вахтерша она и есть вахтерша, чего бы там о себе ни воображала.
Верочка была «прикормленная». Клава всегда, когда приходила с сыном к Карпинской в гости, оставляла Вере шоколадку. От нее она узнала, что Веня с час как вернулся. Поднялась на нужный этаж, позвонила, потом постучала, но дверь никто не открыл. Решив, что Вениамин, скорее всего, заснул, уже собиралась уйти, но тут в дверном глазке мелькнула тень.
– Вениамин, это я, Клава. Открой!
Но дверь так и не отворили. Пришлось спуститься и предупредить Веру, что она уходит, но вернется через часок-другой.
Клава вышла из подъезда и отправилась «на гаражи» – так жильцы дома называли площадку, где выгуливали детей. Именно там можно было встретить тех, кто с удовольствием расскажет о семье Карпинской. Детей «пасли» скучающие нянечки, которые никогда не рискнули бы сплетничать о хозяевах, но с большим удовольствием могли поделиться своими наблюдениями за жизнью соседей. Лицо одной женщины показалось Клаве знакомым. Няня шестилетней девочки, игравшей неподалеку, тоже признала в Клаве ту, что на поминках Карпинской ни минуты не сидела на месте – все подносила и подносила еду. Разговор у них завязался душевный, и из этого разговора Клава поняла, что дело плохо: Вениамин совсем замкнулся, ни с кем из соседей не общается, и ходят слухи, что вроде бы он вместо приемной дочки, которую он куда-то отправил, привел в дом своего сына. Парнишке на вид лет пятнадцать, только с ним его и видят. Сынок очень на отца похож – такой же стройный. И походка, и фигура – все отцовское.
Такого поворота Клава не ожидала. Оказывается, тот, кого Таня и Ася приняли за любовника Вениамина, его внебрачный сын, и, стало быть, Аськины шансы получить квартиру или хотя бы приличную часть наследства тают на глазах. Надо было действовать немедленно, и Клава решила сегодня же поговорить со знакомым юристом.
Вернувшись к вахтерше, она предупредила, что уходит, но оставила свой телефончик на всякий случай, например если Верочке понадобится что-нибудь из продуктового дефицита. Верочка тут же раскололась – шепнула, что Веня с мальчиком пришел, потому и не открывает; ходят слухи, что этот мальчик его сын.
Тем же вечером Клава поехала на дачу, чтобы объяснить этим дуракам, Аське и Мишке, ситуацию. Все, что они напридумывали про Веньку, полный бред, а вот сынишка – это серьезно. Знакомый юрист посоветовал не мешать решению детей пожениться, а наоборот, всячески способствовать этому. Мишку после свадьбы надо прописать в квартиру жены, тем самым увеличивая шансы Аси не лишиться наследства. С этим революционным предложением Клава и вломилась без стука в дом, напугав спящих в обнимку ребят. Спросонья они плохо понимали хитросплетения Клавиного плана: какая нужна справка для регистрации брака; откуда надо выписаться и куда прописаться. Ясно было одно: мама Клава хочет, чтобы они поскорее стали мужем и женой, и это было невероятно.
Заснули они счастливыми, а утром вместе с Клавой уехали в Москву – она настаивала на незамедлительной встрече с юристом для обсуждения плана действий.
Оказалось, что в Москве они появились очень своевременно. Как только вошли в квартиру, раздался звонок. Дедов нотариус просил Мишу срочно приехать к нему в контору. Миша поинтересовался, а может ли его сопровождать будущая жена, и получил ответ: «Если будущая жена – Анастасия Константиновна Колчина, то это ее тоже касается». Клава прокричала в трубку: «А маму-то, маму забыли? Ее, что ли, это не касается?» Нотариус ответил: «Нет», и Клава обиженно ушла на кухню.
* * *
Через полчаса Миша и Ася уже стояли перед дверью нотариальной конторы. Представительный старик в старомодных очках кивнул Мише как старому знакомому:
– Проходите, ребятки.
Как только они вошли в кабинет, старик сразу открыл сейф – большой железный ящик, крашенный суриком, и вынул оттуда конверт.
– Миша! Разреши тебя так называть, без официальных имени и отчества. Мы ведь давно знакомы.
– Конечно, дядя Володя. Он наш сосед по даче, – шепнул Мишка Асе на ухо.
– Завещание, которое находится в этом пакете, вступит в силу через несколько месяцев, – почти нараспев произнес старик. – Но воля покойного была такова, что я обязан огласить его при определенных обстоятельствах, которые сегодня как раз и случились, но об этом чуть позже. Ты ведь знаешь, Миша, что настоящее имя твоего дедушки – Николай Граве? Он был дворянин, граф, потом волею случая сменил имя и фамилию, благодаря чему выжил во время революции. – Старик вздохнул и продолжил: – Теперь, когда произошла перестройка, мы можем открыто признать, что это было правильным решением. Его семья – отец, мать и сестра – бежали за границу. Младшая сестра, София, и поныне проживает в Канаде. По завещанию графа Игнатия Граве его дети, Николай и София, являются наследниками в равных долях, то есть наследуют равные доли движимого и недвижимого имущества. София долго искала своего брата и только в конце восьмидесятых получила свидетельство о том, что он погиб еще в 1918 году. Известно и место захоронения. Но эти сведения оказались ложными. Твой дедушка Михаил, а по метрике Николай, тоже долго разыскивал свою семью и почти перед самой смертью наконец нашел. Когда София узнала, что ее брат жив, то сначала поверить не могла. Она собиралась приехать, но не успела: твой дед умер, и София, узнав об этом, тяжело заболела. После смерти брата она распорядилась передать долю, причитающуюся Николаю, в собственность его потомкам. Ты, Миша, единственный потомок. Тебе принадлежат приличная сумма денег и недвижимость в канадском городе Торонто.
Ася шепотом поинтересовалась у Миши, что такое недвижимость. Нотариус услышал и объяснил:
– Недвижимость, дорогая девушка, это дом, который вы можете всегда продать, если не собираетесь эмигрировать в Канаду.
Ребята покрутили головой: мол, конечно, не собираемся.
– Но это еще не все. По завещанию дедушки ты, Миша, в случае женитьбы на Анастасии Колчиной становишься владельцем дачи.
Ася открыла рот, потом закрыла, потом открыла снова и посмотрела на Михаила.
Нотариус был доволен произведенным впечатлением и предвкушал самое интересное.
– Но и это еще не все, молодые люди. Твой канадский двоюродный дядя, сын Софии, приехал сюда, чтобы посетить могилу Николая, а для нас с вами – Михаила, и познакомиться с тобой поближе, Миша. Живет он в гостинице и с минуты на минуту будет здесь. О своих планах он расскажет сам, но готовься к тому, что тебе все-таки придется съездить в Канаду.
– Зачем? – испуганно и почему-то шепотом спросил Миша.
– Ну, как я понимаю, к двоюродной бабке за бабками, – тоже шепотом ответил нотариус, удивив ребят жаргонным словечком.
– А можно отказаться? – спросил Миша. – У нас тут с Асей совсем другие планы, мы должны расписаться.
– Можешь, конечно можешь. Только я никогда не думал, что у Михаила внук идиот.
В дверь постучала и вошла секретарша:
– Владимир Петрович, тут к вам иностранец, мистер Николя Элдер.
– Пусть войдет.
Пригнув голову, в кабинет вошел очень крупный мужчина. Он белозубо улыбался. На открытом, широкоскулом, несколько простоватом лице чужеродным объектом торчал аристократический нос с горбинкой, нависая «уточкой» над верхней губой.
– Доброго дня, счастлив познакомиться! – произнес он несколько неуверенно, словно подбирая слова. – Мое имя Николя, а по-русски Николай, я сын Софии Элдер, которая в девичестве носила фамилию Граве. Полагаю, передо мной Михаил Граве, внук моего родного дяди, не так ли?
– Здравствуйте! – Миша протянул руку. – Только я не Граве, а Степанов.
Николя внимательно посмотрел на родственника:
– Вы, несомненно, Граве. Как говорят у нас, no doubt! Вас выдает фамильный нос. У всех Граве он одинаковый. Просто удивительный феномен. Вот, например, моя жена японка. Дети на нее очень похожи, глаза… как это сказать по-русски… косые, sorry, не то слово. Ну, вы меня понимаете, японские глаза. Вот, вспомнил, правильно сказать – раскосые, а носы – с горбинкой. И у вас, Майкл, такой же, как у меня, не замечаете?
– Действительно, что-то есть.
– А вас, сударыня, как величать? – старомодно обратился он к Асе.
Неожиданно для самой себя она назвала полное имя – Анастасия. При этом ей захотелось выпрямить спину и приподнять подбородок, чтобы соответствовать этому красивому обращению: «Сударыня».
– Вы так же прекрасны, как ваше имя, – чуть склонив голову, заметил Николя. – Михаил и Анастасия! Какое великолепное созвучие, истинно царская комбинация.
– Почему царская? – улыбнулась Ася. – Просто очень русская, такая же, как Аленушка и Иванушка.
– Ну, не совсем так и не совсем русская. Хотя, дорогие мои, когда смотришь на вас, приходят на ум абсолютно другие имена, которыми называют влюбленных всего мира, – хитро прищурился Николя, заметив, как смотрят друг на друга ребята. – Вы так похожи на юных Ромео и Джульетту.
Нотариус усмехнулся:
– Слава богу, у наших влюбленных история не так печальна. Они собираются пожениться в ближайшем будущем.
– Замечательно! – воскликнул Николя. – Поздравляю! Значит, вы приедете вдвоем навестить Софию. Она будет счастлива. Вы знаете, у нас на Западе дети медленно взрослеют и не спешат обзаводиться семьей. На мой взгляд, это неправильно. Я рад, что вы следуете традициям русской старины. Помните, в «Евгении Онегине»: «Да как же ты венчалась, няня? – Так, видно, Бог велел. Мой Ваня моложе был меня, мой свет, а было мне тринадцать лет…» Можно сказать, что вы уже почти старички в этом смысле. И когда же свадьба?
Ася смутилась, а Миша, не моргнув глазом, заявил, что не позже чем через месяц.
Николя улыбнулся:
– Значит, в конце лета вы сможете прилететь в Канаду. Мы постараемся оформить визы как можно быстрее. София должна вас увидеть. А сейчас, если вы не возражаете, давайте вместе пообедаем. Я могу забрать молодежь? – обратился он к нотариусу.
– Конечно, – отозвался улыбающийся дядя Володя. – Забирайте, теперь они ваши.
Николя пригласил их в ресторан, но ребята топтались в нерешительности, не зная, как вежливо отказаться. Дома их ждала Клава. Если не вернутся вовремя, то не только обидят – подведут ее, ведь она договорилась о встрече с юристом.
Выйдя из нотариальной конторы, оба охнули: неподалеку, как постовой, вышагивала гренадерского телосложения женщина. Миша, признав мать, тут же бросился к ней, подозревая, что придется остановить поток брани в адрес хама-нотариуса, тихушника-деда и дурака-сына. Обняв Клаву за плечи, он шепнул:
– Спокойно, мать, это канадец, наш родственник, потомок графов. Веди себя прилично. Он зовет нас в ресторан и приглашает в Канаду.
Клава, выпучив глаза, отстранилась от сына. Потом развернулась, распахнула объятия и, слащаво улыбаясь, пошла навстречу иностранцу:
– Вот это да! Родственник заграничный, да еще граф! Как мы рады! Здравствуйте вам! Меня Клавой зовут, Клавдия Васильевна. Я – Мишина мама. А вас как называть?
– Николя Элдер, можно просто Николай.
– Коля, значит… По виду-то сразу видно, что оттуда, слишком уж на нашего не похож.
– А чем же не похож, Клавдия Васильевна?
– Ну, не знаю. Больно марко одеты. Во всем светлом. Оно ведь быстро пачкается. Да и улыбаетесь так, что не боитесь зубы показать. А лицом и вправду чем-то на деда Михаила смахиваете, только не пойму чем.
– Носом фамильным. У вашего сына такой же.
– И правда, – согласилась Клава. – Я все переживала, что Мишка отцовский шнобель унаследовал. Ну, вы же понимаете: боялась, что будут пятый пункт ему клеить. Лучше бы мой, картошечкой, к нему не придерешься.
– Про пятый пункт не понял, но догадываюсь. Вы боялись, не сочтут ли вашего сына евреем?
– Именно. Хотя сейчас быть евреем очень даже удобно. Их выпускают без разговоров. Знаете, сколько уже уехало? И я их понимаю. Ничего в магазинах нет: ни масла, ни яиц, одна перестройка. Если бы не мои связи, мы бы уже с голоду подохли.
– А мы вот с вашими детьми собирались в ресторан, присоединяйтесь.
– И чего я там забыла? Эти коммерческие обрыгаловки – одно безобразие, знаю, чем там кормят. А я борща наварила, и сервелатик у меня припрятан, и бутылочка есть. Поехали домой, посидим по-родственному, потолкуем. А юрист подождет, теперь не к спеху.
Домашнее застолье очень понравилось гостю. Он, правда, терял нить разговора, когда Клава сыпала словами: расписаться, прописаться, выписаться. Слова понимал, но значение их до него не доходило. Клава пыталась объяснить остроту момента, почему так важно было детей как можно скорее поженить, но теперь, после оглашения завещания, это уже не актуально. Выпила она на радостях много. Язык развязался, но и заплетался изрядно.
– Вот скажи мне, Коля, – тихонько обратилась она к гостю, когда дети ушли на кухню. – Тот канадский дом ведь не хуже квартиры на Котельнической будет, как думаешь? А коли его продать, то кучу хренову денег получить можно. А Мишке, что ль, жить негде? Пусть тут, со мной, но при деньгах. Как ты вовремя-то приехал!
Николя пожимал плечами – дескать, не понимает о чем это Клава, – и старался как можно дальше от нее отсесть.
– Я к тому говорю, что мой сына теперь богатеньким стал. Бегом жениться уже ни к чему, правда? Ой, не люблю я эту девку! Какая-то она не от мира сего и себе на уме. Вот меня как учили: пока ты сама никто и звать тебя никак, не высовывайся перед обычными людьми. Не любят они этого. Дуди с народом в одну дуду, иначе затопчут. А вот перед начальством – другое дело. Почаще на глаза попадайся да головой все время кивай, не отвалится. Признает тебя власть своей, вот тогда можно на всех забить. Уважать будут по-любому. А она, сопля зеленая, во всем поперек, на все свое мнение имеет. И ладно бы держала язык за зубами, так нет. Договорится когда-нибудь. Чую, скоро эта перестройка кончится. Распустились, страх забыли. А как без него с нашим народом совладать? Короче, я вот что думаю, бог с ней, с той квартирой на Котельнической. Тут, правда, дед намудрил: мол, если на Аське не женится, то дача не Мишкина. А чья же тогда? Что думаешь? Во, головой качаешь. Не знаешь. То-то и оно. У нас ой как трудно жить. Мозгами надо шевелить, чтобы жопа не замерзла. Прости пардону. Будем считать, что ты слов таких никогда не слышал.
Николя понял, что надо вмешаться:
– Я, Клава, всякие слова слышал и знаю, потому как журналист и переводчик. И хочу тебе сказать, не мешай детям, пусть женятся. Мне твоя будущая невестка очень даже понравилась – открытая, свободная. За этим поколением будущее. И слава богу, что страха в ней нет и что рот на замке не держит. Страх – плохой рулевой и для человека, и для страны. Пойми, решение Софии поделиться наследством – ее добрая воля. Имеет полное право не давать ни копейки, ведь брат ее формально умер еще до смерти родителя, а Михаил Степанов кто такой? И при чем тут внук Степанова? Очень важно, чтобы София увидела Михаила и уловила семейное сходство. Миша хороший парень, но мало ли? А вдруг ей чем-то не понравится. Тогда ку-ку, ничего она вам не должна. А дом и вправду стоящий: в престижном районе, хоть и не новый. В нем три этажа и пять спален, наверняка не хуже той квартиры, о которой ты говоришь. Пару миллионов точно можно за него взять. Но если Миша появится с женой, то гарантирую на все сто, что София не передумает. Для нее семья – самое важное в жизни. Знаешь, как она меня прессовала: «Женись, женись». Я только к сорока сподобился, а сестра все никак. София очень за дочь переживает.
– Ладно, уговорил. Я и сама понимаю, что Мишка не отступится, а как восемнадцать стукнет, так меня и не спросят. Если надо, можно свадьбу ускорить. Ты когда улетаешь?
– В конце месяца. Хочу в Николаев съездить, в наше родовое имение. Я узнавал, дом на месте. Теперь в нем офисы открылись, торгуют чем-то.
– Сейчас все торгуют, а кто не торгует – ворует, а чаще то и другое. Давай так. Справку достать, что Аська в положении, мне раз плюнуть. Вот ты из Николаева вернешься, детей и распишем. А пока давай еще выпьем на посошок. Хороший ты мужик, Коля, красивый и абсолютно свой в доску. А меня в Канаду пригласишь?
– Конечно! Вот я думаю, что летом дети улетят, а ты за ними следом.
– Нет, ты чего? Как я хозяйство брошу, квартиру, дачу? Подожди, а как же институт? Мишка же должен поступать. Что значит – улетят?
– Опять ты, Клава, ерунду говоришь. Мишка твой может учиться в Канаде.
– Ишь ты какой быстрый. Я вспомнила: нельзя им до середины июля жениться. У Татьяны еще сороковины не прошли. Так что мотай в свою Канаду, а когда все утрясется, отправлю голубчиков, не боись. Я что, дура, не понимаю, что им там лучше будет, а мне вот хуже, да кто про это думает.
Глава тринадцатая
Как обещала Клава, так и сделала: справку фальшивую об Аськиной беременности достала, детей в загсе без очереди расписала, Мишке оформила прописку на Котельнической набережной и, наконец проводив молодоженов в Канаду, почувствовала, что окончательно выдохлась.
Перед отъездом Клава пыталась вбить им в голову, чтобы с возвращением горячку не пороли, а все внимательно разузнали и сориентировались на месте. Может, Николя и прав, что стоит там поучиться. Тут-то хрен что творится. Ее гастроном закрыли, работы нет, все кооперативщики захватили, надо перестраиваться, а возраст уже не тот. Но если дети там зацепятся, то и она к ним поедет. Что тут делать одной?
Наревевшись в аэропорту, она вернулась в пустой дом и отчетливо осознала, что теперь ей не о ком заботиться, а дети, скорее всего, не вернутся. Она боялась, что самолет не долетит, а если и долетит, то там, за океаном, детей встретят эмигранты, которые всегда недолюбливали советских людей. Мишу с Аськой могут завербовать в шпионы, посадить в тюрьму, да мало ли… Клава опять расплакалась. Теперь вся эта история про наследство казалась ей специально придуманной канадцами операцией по заманиванию молодых людей в сети мирового империализма.
От страшных мыслей ее отвлек телефонный звонок. Звонила вахтерша Верочка с Котельнической. Зная, что у Клавы есть ключ от квартиры Вениамина Евгеньевича, просила срочно приехать. Жильцы жалуются: у него в квартире стоит жуткий грохот, кричали сильно. Мальчишка, который к нему обычно ходит, мимо нее стремглав пробежал к выходу, прикрывая разбитую голову, кровь прямо на пол капала. Если Клава не приедет, придется вызывать милицию.
Клава пулей выскочила из дому и тормознула частника. Через двадцать минут она уже была в Котельниках.
– Спасибо, что приехали, Клавдия Васильевна, – встретила ее вахтерша. – Чего уж он там делает, непонятно, а шуметь минут двадцать как перестал. Идите скорей проверяйте, живой ли…
Клава с тяжелым сердцем открыла дверь квартиры, понажимав с минуту кнопку звонка. Во всех комнатах горел свет. Пол был усыпан осколками хрусталя и фарфора, валялись перевернутые стулья. На стене – большая винная клякса с потеками. Господи, твоя воля, что же случилось?
– Веня, Ве-еня, где ты? – Клава шла по квартире, заглядывая в комнаты.
В самой дальней, которая когда-то была переделана по просьбе Таниного мужа в репетиционную с большими зеркалами и балетным станком, спиной к двери стоял абсолютно голый Венечка и выполнял балетные па.
– Тьфу, пропасть, совсем с ума сошел! Не слышишь, что ли, звоню, звоню, – разозлилась Клава. – И оденься. Чего голый, охальник?
Вениамин повернулся к ней и спросил:
– Таня? Ты опять пришла? А меня здесь не кормят, денег не дают, только бьют больно. Ты видела, как Левушка меня поцарапал? Он кусаться начал, а я его проучил. Бросил он меня, старенького.
– Сдурел, что ли, какая я тебе Таня? – Клава насильно вдела руки Вениамина в рукава халата, запахнула полы и перевязала поясом с кистями. – Ты что это вытворяешь?
– Танюша, ты вкусненького принесла? Венечке плохо, Венечку бросили. Кушать хочу, покорми.
– Пошли. – Клава подтолкнула его в сторону кухни. – Ну, говори, много выпил? Дыхни давай.
Она не церемонилась с алкашами. Опыт у нее был богатый: покойный муж, да и на работе мужики, что ни день, в дребодан, но от Вени алкоголем не пахло. На кухне в раковине горой лежала грязная посуда, по обеденному столу резво сновали откормленные тараканы, валялись ошметки высохшей колбасы и сыра, сковородка была затянута плесенью. Тут только Клава заметила, что Венечка исхудал неимоверно – просто кожа да кости. Последний раз она его видела в июле, на Таниных сороковинах, а теперь, считай, середина сентября. Тогда он выглядел совсем иначе, как говорится, со следами былой красоты на лице, а уж фигуре его и молодой мог позавидовать.
– Господи, да ты что же это и вправду голодный сидишь? – изумилась Клава. – Погоди-ка, я сейчас.
Она стала проворно разгребать залежи грязной посуды и одновременно пыталась выспросить у Вени, что же с ним такое приключилось. Но он нес какую-то ерунду и все время называл ее Таней.
– Не Таня я, а Клава, не видишь, что ль? Чай не слепой и не пьяный. Чего городишь-то?! Посуду побил дорогую. Одного хрусталя, наверное, тысяч на тридцать расколошматил.
Она взялась было мести пол, но потом очнулась и присела за кухонный стол: одной квартиру в порядок не привести – вон хоромина какая! – нужно вызывать уборщицу. Венечка все это время кутался в халат и, оглядываясь по сторонам, махал руками.
– Чего размахался, кого высматриваешь? – раздраженно спросила Клава. – Нет тут никого.
– Как же нет? А старушка? Она в Аськиной комнате живет. Ты же сама ее привела. Видишь, там, в коридоре, стоит, в черном вся. Устал я от нее. Выгнать хотел, а она прячется. По ночам приходит, спать не дает, пальцем тычет больно. Прогони!
Клава встала и вышла в коридор. Никакой старушки она не обнаружила, но ей показалось, что дверь Аськиной комнаты захлопнулась, как от сквозняка.
– Так, Веня, пошли старушку выселять. – Клава широко распахнула дверь.
– Уходи, – тоненьким фальцетом вдруг закричал Вениамин и бухнулся на колени. – Христом Богом молю, уходи! – Он вцепился в Клаву и завыл: – Танечка, прогони ее. Я знаю, ты с ней заодно. Зачем в кровать мою ложишься? Ты холодная, мертвая, а Левушка теплый. Почему его прогнала? Все Венечку обижают. Хлебушка не на что купить, все украли.
Тут только до Клавы стало доходить, что Веня не в своем уме.
Она на всякий случай проверила кошелек, который лежал на виду в прихожей. Там было полно бумажных купюр и мелочи.
Вот ведь судьба, подумала Клава. И красивый, и талантливый, а сдвинулся на старости лет. Куда же его теперь такого, полоумного?
– Иди-ка, Веня, супчику похлебай, я там тебе сварила.
Она налила ему щей и заплакала, видя, как быстро и неаккуратно он ест. В голове ее никак не укладывалось, с чего бы это вдруг Вениамин зачудил. Ведь прекрасно же выглядел. Ни на похоронах, ни на сороковинах по Татьяне не скорбел, и было странным, что накрыло его сейчас, когда пора бы уже немного успокоиться.
Клава не знала, как правильно поступить и что в таких случаях делать, но решила позвонить в «скорую». Минут через тридцать за окном раздался знакомый сигнал. Она выглянула в окно – двое с носилками направлялись к подъезду.
– Ну, мать, рассказывай, что приключилось, кто помирает? – Громадный, как шкаф, лысеющий мужчина лет сорока в мятом, не первой свежести халате вошел и заполнил собой почти всю кухню.
– Ты мне сначала скажи, кто у вас тут за главного? – сурово спросила Клава.
– Я и есть. Фельдшер Семенов Николай Николаевич. Прошу любить и жаловать.
– Любить мне тебя ни к чему, а вот подсобить смогу. Родственник мой овдовел, жену схоронил недавно. Видал, какой бедлам учинил? Глюцынации, тьфу, пропасть, язык сломаешь! Ну, всякое разное ему кажется, чего и нет. Меня не узнает, дом запустил. Сегодня приехала, а он в чем мать родила балетом занимается. Он балерун бывший.
– Да, мать, горе твое понять можно, но везти его нам некуда. Таких, считай, по Москве в каждом доме с десяток наберется, а то и больше. Больница не резиновая, это же понимать надо.
– Что уж я не понимаю, что ли? Держи вот. – Клава вложила в руку фельдшера толстенькую пачку купюр. – Я очень даже понимаю.
– Ну ты, мать, действительно понятлива. – Он быстро спрятал купюры в карман брюк. – Телефон у вас где? Буду место искать родственнику твоему. Вася, оформляй: острый сенильный психоз и попытка суицида. Ты, мать, запомни: в комнату вошла, а он на подоконнике стоял и вниз сигать собрался, голый, конечно.
– Хорошо, поняла, заметано, только скажи, куда везти будете. Мне же его навещать после.
– Вась, чего там, восьмая? Мать, в восьмую психиатрическую везем. Завтра по ноль-девять наберешь и телефончик узнаешь. Одевай родственника.
Клава отметила, что фельдшер не подошел к больному, не подержал за пульс, в глаза даже не заглянул. Второй, худой и низкорослый, вроде как санитар, вообще в коридоре топтался. Она надела на Веню шерстяной спортивный костюм, решив, что ему, тощему такому, будет в нем теплей. Помогла надеть плащ. Но провожать дальше лифта не стала, почувствовав дурноту и слабость в ногах. Тут только вспомнила, что за хлопотами сама забыла поесть, с утра голодная, но вставать, наливать суп, греть чай сил уже не было. Она отломила сухую горбушку от батона и сжевала, запив водой.
– Ох, Веня, Веня, что же с тобой дальше делать? Век в больнице держать не будут, а если придурком останешься, так это ж все на мою голову.
И опять ей показалось, что в Аськиной комнате хлопнула дверь. Прислушалась и зашла с опаской: все окна были закрыты, откуда ж быть сквозняку? Обойдя квартиру, выключила свет, решив, что наводить хоть какой-то порядок будет уже завтра. Легла в Асиной комнате. Еле уместилась на узенькой девичьей кровати, от усталости сразу провалилась в сон и очнулась только, когда уже светало. Заснуть больше не могла, лежала и думала о судьбе человеческой, о том, что у любого, самого везучего из везучих, все в один день может пойти коту под хвост, и получается, зря копил, зря работал, изворачивался, доставал. Клава вздохнула, ей не давала покоя мысль, что существует в жизни нечто, чего она не поняла, упустила, не использовала. Как это объяснить, она не знала, но именно ковры, хрусталь – просто хлам, который от беды не спасет. Но ведь должно быть то, что беду отводит? Не может не быть.
Она тяжело повернулась на бок, и глаза ее уперлись в окно. Там, кроме неба, по-осеннему серого, ничего хорошего не было. Подумала вдруг, что, может, только несколько раз в жизни чувствовала себя счастливой: первый – в юности, когда из загоревшегося сарайчика для скота вытащила полудохлую козу Ляльку, которая потом ожила и еще как бегала; второй – когда мужа-пьяницу с того света вытянула и он надолго завязал; ну а третий – когда Мишенька родился. Вздохнув, собралась встать с кровати, но еще раз глянула в окно. Всходило солнце, оно разорвало в клочья дождевую тучу, похожую на губку, набухшую грязной водой, и раскрасило розовым облака. Клава улыбнулась, неожиданно почувствовав облегчение и даже непонятно откуда взявшуюся радость, похожую на счастье, хотя совершенно не было для этого причин. На небе образовалась ярко-голубая река, по которой плыл маленький серебристый самолетик. Она посмотрела на часы и поняла, что дети уже приземлились за океаном и что у них все в порядке. Мысленно расцеловала Мишу и даже Аську, хотя при мысли о невестке тут же на душе заскребли кошки: «Ну ведь не пара она моему Мишке, не пара!» И сразу легкость улетучилась и свет погас. Голубая река неба затянулась тяжелыми облаками. Клава вздрогнула: дверь заскрипела и легонько хлопнула, словно кто-то вышел.
– Ой, что же это я лежу, мне ведь ехать надо, выяснять, куда Вениамина отправили и как там дальше будет.
Наскоро выпив чашку растворимого кофе, мерзкого на вкус без молока и сахара, Клава поехала в восьмую психиатрическую больницу на Донской улице. Серое здание с облупленной краской на стенах; серые застиранные мешковатые пижамы пациентов; душный запах засаленных волос; тоскливая пустота в глазах. Господи, помилуй от такого на старости лет, подумалось ей.
Долго ждала, когда после обхода освободится заведующий старческим отделением. Он оказался улыбчивым и круглым, как колобок, пожилым мужчиной с венчиком седых волос вокруг большой лысины. Клаве он напомнил Доктора Айболита из Мишкиных детских книжек, и голос у него был соответствующий: спокойный, негромкий, вкрадчивый. Такому сразу хотелось раскрыть душу, жалуясь на весь мир.
– Голубушка, расскажите, как все было.
Он усадил Клаву в дерматиновое кресло в ординаторской, присел рядом. Сбиваясь и повторяясь, она пыталась подробно описать разгром, который увидела вчера вечером в квартире на Котельнической; как голый Веня репетировал у станка, а вокруг все было усыпано битой посудой; как жаловался, что голоден и нет ни копейки, а рядом валялся кошелек с деньгами; как не узнавал ее и называл именем жены; как отмахивался от несуществующих старушек. Потом, вспомнив, что говорил фельдшер, соврала, что еле удержала Вениамина от прыжка с восьмого этажа сталинской высотки.
– Ну что, доктор, что с ним такое? Лечится это? Может, просто перепил и пройдет? Это как запой, да?
– Не знаю, не знаю, чтобы поставить диагноз, требуется долгое обследование, а оно дорогое, и средства по нынешним временам у нас очень ограниченные. Контингент специфический – им доживать только, нетрудоспособные. Финансирование на них очень скудное. Такова жизнь.
– Да я не про то. Что с ним дальше будет? Ведь человек работал все время. Вроде нормальный был, не жаловался ни на что раньше-то.
– Ну, одно вам могу сказать точно, прогноз в его состоянии неутешительный. Насколько я понял из записей ночного дежурного врача и после утреннего осмотра, предварительный диагноз – острый галлюциногенный психоз на фоне прогрессирующей старческой деменции. Наверняка после сильного стресса. В самом лучшем случае, если лечение будет успешным, мы его выпишем через месяц-другой, но за ним глаз да глаз нужен: он и газ может открыть, и из окна выпасть, может из дому уйти, заблудиться и замерзнуть – зима впереди. Просто не знаю, что вам сказать. Обычно такие больные живут лет пять – семь, постепенно все забывая. В конце даже забывают, как говорить, глотать и дышать. А кем он вам приходится?
– Да, считай, десятая вода на киселе. Муж подруги. Она умерла недавно, вот он один и остался.
– Просто не знаю, как вас утешить. Я, конечно, понимаю, благотворительность и все такое, но войдите в наше положение. Держать более двух-трех месяцев мы его вряд ли сможем.
Клава, хорошо понимая, куда он клонит, без обиняков предложила:
– Оформляйте, что недееспособный, подписывайте на меня доверенность. В собес поеду и вам каждый месяц буду переводом всю его пенсию пересылать, пока вы его у себя держите. Мне она без надобности. И вот еще тут, в кошельке, он же не тратил ничего, забыл, видно, что у него деньги есть, забирайте.
Доктор, не стесняясь, открыл ящик своего стола и быстро сгреб все, что Клава перед ним выложила. Потом встал и, пожимая руку, проводил до выхода из отделения.
На прощание он сказал:
– Очень приятно видеть таких заботливых родственников. Если бы все такие были, а то сбагрят родителя сюда, к нам, а квартиру, пенсию – всё себе оставляют. Такое сегодня очень часто встречается.
– Доктор, мне самой не с руки сюда часто ездить. Вы уж поспособствуйте, чтобы фруктов ему каких, сладкого чего, ладно?
– Не волнуйтесь, голубушка, всё сделаем: и укольчики с витаминами, и питание усиленное. Завтра к старшей медсестре подойдете после двух часов, она вам доверенность выпишет. Только паспорт захватите, нужно будет паспортные данные вписать, у главврача подписать и печать на документ поставить. А вот здесь мой адресок и имя-отчество для переводов.
Доктор быстро передал Клаве записку. Она и ахнуть не успела, как за ней уже заперли дверь сенильного отделения.
Вот, думала Клава, топая к остановке такси, был человек и нету. Живой вроде, и не болит ничего, а теперь и не человек вовсе, а так, растение. Жестокая какая жизнь: и красивый был, и обходительный, интеллигентный какой, а так все кончилось. Как же так? Ведь никто из врачей не разобрался, с чего это вдруг головой поехал. Говорят, что, мол, из-за смерти жены. А я считаю, не в этом дело. Еще в июле, на сороковинах, он же был совершенно нормальным!
Клава не ошиблась. Веня был в совершенном порядке до сорокового дня со смерти жены. С трудом дождавшись окончания поминок, раздраженный и уставший, он свалился в кровать, чувствуя себя паршиво. Проснулся среди ночи от страшного озноба. Хотел натянуть одеяло, но что-то ему мешало. Он повернул голову и чуть не умер от страха – рядом лежала Таня. От ее мертвого тела шел могильный холод. Вскочив с кровати, Веня с криком побежал в коридор, натыкаясь в темноте на мебель. Прислонился к стене и завыл, стараясь унять дрожь. Постояв так недолго, прошел на кухню. Там, откупорив початую бутылку водки, оставшуюся с поминок, выпил прямо из горла. Полегчало, и, осмелев, он вернулся в комнату. Страшное видение исчезло – кровать была пуста. Успокоив себя, что это просто ночной кошмар, он решил света не выключать. Забрался под одеяло, покрутился, стараясь найти положение, в котором удобнее заснуть, но окаменел от ужаса, увидев, как медленно открывается дверь, пропуская в комнату старуху, закутанную в черные монашеские одежды. Старуха постояла на пороге, потом подошла очень близко и ткнула его скрюченным пальцем прямо в сердце. Ни звука не издав, вышла из комнаты, а Веня, не в силах вздохнуть, упал на подушки, теряя сознание. С этого все и началось. Каждую ночь Танин труп оказывался в его постели, старуха приходила, чтобы ткнуть его пальцем в грудь, а он, парализованный болью и страхом, проваливался в пустоту. А тут еще его лучший ученик и любовник Левушка стал избегать встреч. Никакие подарки, никакие деньги не помогали, и в конце концов, с помощью зубов и ногтей вырвавшись из объятий обезумевшего Вениамина, Левушка сбежал, получив напоследок по лбу ножкой стула.
Два месяца Веня почти не спал и не ел, только водку пил. Его разлагал страх. Однажды, заметив, что дверь в Аськину комнату сама распахивается и потом закрывается, поставил замок, но это не помогло. Старуха обнаглела еще больше и начала преследовать круглосуточно. Теперь могла средь бела дня появиться, стараясь уколоть своим острым, как шило, пальцем. Он гонялся за ней по квартире, швыряя в злыдню все, что под руку попадется. Даже теперь, в больнице, эта тварь умудрялась пробраться в палату. Веня жаловался врачам, они кололи его галоперидолом, но старуха уходить не собиралась.
Прожил он в больнице всего месяц. Заболел острой пневмонией и скоропостижно скончался. В октябре Клава его похоронила.
Теперь ей не надо было опасаться за квартиру: Ася и Миша стали полновластными хозяевами роскошных апартаментов, но оказалось, что в их планы возвращение на родину в обозримом будущем не входит. Этого Клава не могла понять. Она писала им в Канаду, звонила, требовала одуматься и скорее приехать, а вместо этого получила от них приглашение на венчание, которое должно было состояться в православной церкви канадского городка с русским названием Березки. Разозлившись на легкомыслие детей, хотела выбросить приглашение в мусорное ведро, но одумалась и поспешила оформить визу.
Оплаченный Мишей в обе стороны билет на самолет Голландских авиалиний ей вручили в канадском посольстве. Сын обо всем позаботился, но оставил на сборы всего-то неделю. Снова чуть не психанула, решив было отказаться от поездки: о чем они думают, как она поедет, в чем? Ведь надо платье нарядное успеть достать, туфли, продуктов закупить с собой в дорогу, а попробуй-ка все это добыть, когда в магазинах шаром покати и даже ее мощные связи не помогают. Но худо-бедно все же собралась к назначенному сроку.
На другом конце земли семья Граве тоже готовилась к приезду Клавы. Вовсю шли приготовления к венчанию Михаила и Анастасии.
Как и предполагал Николя, София сразу влюбилась в молодую пару и с большой радостью передала им документы на владение домом, но этим не ограничилась. Узнав, что у ребят фактически не было свадьбы, а главное, что они не венчаны, предложила обвенчаться в православном храме, построенном когда-то на деньги русских эмигрантов, в том числе и семьи Граве, а свадьбу закатить грандиозную – с каретой, музыкантами и двумя сотнями приглашенных. Николя понимал, почему София не жалеет ни сил, ни денег и с таким энтузиазмом взялась все это организовывать, – свершилась ее мечта. Собственные дети лишили ее такой радости. Сын женился, когда перевалило за сорок, после того как его японская подружка Мики, прожив с ним под одной крышей пять лет, забеременела. Свадьбы как таковой не было: смотались в Лас-Вегас, там весело расписались, а по возвращении ограничились праздничным обедом. Еще хуже обстояло дело с дочерью: она меняла бойфрендов как перчатки, дважды была помолвлена, но в последний момент срывалась и уматывала куда-нибудь на край света, только бы не обременять себя семьей. София этого не понимала, но молчала и никогда не вмешивалась в ее жизнь.
Объявление о венчании Михаила и Анастасии было сделано во время Русского бала, на который съезжалась русская эмиграция. Все эти люди, хранившие традиции старой, дореволюционной России, оказались на канадской земле после двух войн. Кто-то нашел здесь свой последний приют, как и великая княгиня Ольга, родная сестра последнего императора, похороненная на Северном кладбище Торонто. Семья Граве была с ней дружна. Уже тридцать лет, как великая княгиня отошла в мир иной, но София и теперь мысленно обращалась к ней за советом.
От великой княгини у Софии осталось кое что, что ей хотелось непременно показать Асе. Да и вообще хотелось поговорить по душам с этой милой девушкой. Как-то вечером она прислала за Асей машину, чтобы обсудить «по-девичьи» все тонкости свадебного наряда и рассказать, как себя вести во время венчания.
София жила довольно далеко от «старого» дома, в котором теперь обосновались Миша и Ася. На склоне лет она предпочла большую и светлую квартиру в пентхаузе ультрасовременного кондо с видом на озеро, где было круглосуточное обслуживание. Личная прислуга тут и не нужна была: все что надо – приготовление еды, уборку, стирку, персональный уход и медицинскую помощь – она получала за вполне разумную плату, немногим большую, чем ее государственная пенсия. София любила пошутить, что на старости лет по-настоящему разбогатела – денег теперь на все хватает, потому как нужна самая малость: чистая постель, легкая еда, удобная обувь и, самое главное, не быть в тягость близким. Жить с детьми категорически отказывалась, хоть и любила их очень.
Когда Ася переступила порог ее квартиры, София сразу растаяла, заметив, как эта девочка, не в силах оторваться, разглядывает картины на стенах и в подрамниках, как втягивает в себя запахи краски, как прикасается к мольберту.
– София, я и не знала, что вы художница, – наконец произнесла потрясенная Ася. – Ваши работы восхитительны!
– Да, дорогая, тут кое-что действительно мое, – смутилась София. – Вот эти пастели с пейзажами мне и самой нравятся, а вот масло несколько тяжеловато. Посмотри-ка сюда. – Она подвела Асю к небольшим картинам в красивых рамах. – Эти акварели уникальны, они принадлежат кисти великой княгини Ольги Александровны, – сказала торжественно, ожидая услышать от Аси возглас удивления.
– Светлые, прозрачные, – улыбнулась Ася и спросила: – А кто она, эта великая княгиня?
София обомлела. Ей казалось, что перед ней образованная, воспитанная девочка, и уж наверняка она хорошо знает историю России, по крайней мере то, что Ольга Александровна Романова – родная сестра императора Николая Второго. Она с трудом скрыла огорчение, подумав, что первое впечатление об Асе, наверное, было ошибочным, но тут же саму себя отругала: «Откуда этому бедному ребенку знать о династии Романовых во всех подробностях? Ее страна выбросила на помойку все, что было до большевицкого переворота. Так ее учили в школе: нет больше Российской империи, есть СССР – тоже империя, а вместо императоров – идолы, которым надобно поклоняться почище царей. Наверняка она без запинки расскажет биографию Ленина, не к ночи помянут будет. Откуда ей знать, что русские цари называли себя слугами народа, а теперь, прости господи, вместо слуг одни вожди да генсеки. Последний, правда, объявил себя президентом. Надо бы расспросить Асю, что она о перестройке думает, а заодно и о Михаиле меченом. Он, говорят, собирается с коммунизмом покончить…»
София пригласила гостью к красиво сервированному столу и предложила отужинать. За чаем с вишневым пирогом они разговорились, почувствовав единение сердец и взглядов. София поняла, что их сближает, несмотря на возрастную пропасть: «Мы с тобой, Ася, как сестрички, потому что обе художницы». Ей вспомнилось, как много лет назад она так же сидела перед пожилой женщиной с царской осанкой и радовалась, что, несмотря на большую разницу в возрасте, дочь самого императора не отказывает ей в дружбе и даже готова помочь начинающей художнице Софии Граве.
– Я была от природы хорошей рисовальщицей, но никогда не училась ремеслу, – откровенничала София, – а великая княгиня прекрасно владела живописной техникой. Ее любимый папа, император Александр Третий, в которого она пошла характером, да и внешностью тоже, поощряя в дочери стремление к искусству, приглашал ей в учителя известных живописцев и музыкантов. Представь себе, дорогая Ася, что ты – царская дочь, что твоя мать – блистательная императрица, знающая толк в нарядах, балах и драгоценностях, а ты всякий раз страдаешь от того, что тебе приходится сменить простое холщовое платье, в котором ты часами стоишь у мольберта, на роскошные царские одеяния. Ольга их ненавидела и называла доспехами. Мать раздражалась из-за ее взглядов, а отец был с ней заодно: ему тоже не нравились балы. Царской мантии он предпочитал простую деревенскую рубаху. В народе его называли «мужицкий царь». Дочке он привил любовь ко всему настоящему: к природе, животным, к простым людям и, конечно, к Богу. А вот скажи, душа моя, ты в церковь ходишь?
Ася честно ответила: «Нет» – и призналась в своей ужасающей духовной необразованности. Совсем недавно, когда в стране начались перемены и появилась запрещенная прежде литература, в том числе духовная, почувствовала, что многого не понимает.
София печально улыбнулась.
– Я помогу тебе, девочка. Без священных книг и веры в Бога жить тяжко. Ты – словно беспризорник, лишенный родительского тепла. А сейчас давай-ка приступим к самому интересному: я покажу тебе образцы подвенечных нарядов, которые есть в каталоге моей кузины Магды. У нее потрясающий бутик свадебной одежды. Ты выберешь платье, а потом поедем к ней и на месте все подгоним по фигуре. Но, кроме платья, я хочу тебе показать еще кое-что. – Из маленькой шкатулки, обтянутой бархатом, София извлекла подвеску розового жемчуга величиной с вишню. Она отогнула маленькую лапку застежки и надела подвеску на Асину шею: – Это к свадебному платью. В каталоге есть кремовое кружево с бледно-розовой подкладкой, подвеска к нему очень пойдет. Но прежде я расскажу тебе историю этой жемчужины. Еще чаю?
– Нет, спасибо, лучше историю.
– Тогда слушай. Эта жемчужина одна из знаменитых жемчугов императрицы Марии Федоровны, матери последнего императора, которая славилась своим отменным вкусом и любовью к дорогим украшениям. У Марии Федоровны и Александра Третьего было шестеро детей. Двое сыновей умерли, Николай стал императором, а младшей была Ольга, чьи акварели тебе так понравились. Эти картины она мне дарила на протяжении десяти лет нашей дружбы. Кстати, если хочешь, можем проведать великую княгиню, ее могила здесь недалеко.
Ася не выдержала и задала вопрос, который мучил ее:
– А каким образом царская дочь вдруг оказалась в Канаде?
– О, это долгая история, но тоже интересная. Если я начну ее рассказывать, то окончательно собьюсь и не дойду до жемчужины. Если кратко: после падения Дома Романовых Ольга перебралась в Данию, куда ранее уехала ее мать, Мария Федоровна. Там бы она и жила, но после Второй мировой войны Сталин потребовал у Дании выдачи великой княгини, обвинив ее в сотрудничестве с немцами. На самом деле это вранье. Великая княгиня помогала русским, которых Сталин считал «врагами народа», и в 1948 году, опасаясь за жизнь своей семьи, она переехала жить в Канаду.
– А муж ее был принцем? – спросила Ася, включаясь в сказку о царской дочке.
– Первый – да. Но поверь мне, не дай нам бог таких принцев. Она с ним прожила пятнадцать лет, оставаясь девушкой. Принц Ольденбургский был другой сексуальной ориентации, к тому же игрок, и он промотал ее наследство. Я не хочу никого осуждать, но где были материнские глаза и сердце, когда императрица так жестоко наказала свою дочь, подсунув ей этого урода? И все же любовь победила: Ольга встретила на учениях «гатчинского кирасира» Николая Куликовского, человека совсем не царского происхождения, и они полюбили друг друга. За право стать мужем и женой им пришлось бороться много лет. Ольга пошла за любимым на фронт и работала сестрой милосердия в госпиталях, выносила утки из-под раненых солдат. В конце концов первый брак был расторгнут, и Ольга стала счастливой женой и матерью.
– А как царица Мария Федоровна пережила то, что великая княгиня вышла замуж за простолюдина?
– На удивление спокойно, хотя Куликовского на встречи с царственной родней никогда не приглашали. Но к этому времени императрицу все больше заботила совсем другая женщина, которую она не приняла с самого начала и обвиняла во всех смертных грехах. Она считала, что, не женись ее Ники на Алекс, империя устояла бы. Родня недолюбливала жену Николая, обвиняя в дурном влиянии на царя, в болезни наследника, перешедшей от матери, и, главное, в появлении при дворе Распутина. Но ведь Александру можно понять. Что может быть страшнее обреченного на смерть ребенка? Да тут кого угодно облагодетельствуешь, если на твоих глазах прекращаются страдания сына, останавливается кровотечение и появляется надежда. Для меня интересно другое: почему Распутин, получивший, уж не знаю от кого – от Бога или черта, – провидческий дар и способность исцелять, не выдержал искушение властью? Власть его развратила, уничтожила. Зачем полез туда? Я слышала от людей, близко знавших Григория, что он попал к Романовым не случайно. Он шел по следу какой-то таинственной книги и знал магический символ, связанный с ней, дающий власть над миром. Вот эту книгу он и хотел найти, полагая, что она была дана Романовым во спасение династии, но бесследно исчезла. Скорее всего, это легенда. Но как ты думаешь, если бы он нашел книгу, то отдал бы ее царю или сам воспользовался ее силой?
Ася пожала плечами, не зная, что ответить. На самом деле она, конечно, видела фильм «Агония», в котором ее любимый актер Алексей Петренко сыграл бесноватого распутника, но ничего больше не приходило в голову, кроме слов Ленина из учебника истории про «царскую шайку во главе с чудовищным Распутиным». Решила, что лучше промолчать. София тоже пожала плечами, изобразив на лице сомнение.
– Вот и я не знаю, – сказала она. – Обычное заблуждение простого человека, что царствовать всякий может. Опасное заблуждение. Оно дорого обошлось России. – София на минуту замолчала и вдруг сменила тему разговора: – А я вот хотела у тебя спросить, душа моя, ладишь ли ты со свекровью? Какая она? Ведь ты сирота, я знаю. Может ли эта женщина заменить тебе мать?
Ася вжалась в стул, как испуганный зверек:
– Простите, София, я не хочу об этом говорить. Вы сами все скоро увидите. Так что же с этой жемчужиной? Вы так и не рассказали. – Ася попыталась вернуть разговор в прежнее русло.
– Поняла, – загрустила София. – Вечная история: свекровь недолюбливает невестку, теща – мужа своей дочери. Родня подпевает, сплетни, интриги. Семья рушится, а с ней кусочек мира. Кстати, однажды, когда я решилась спросить у великой княгини, в чем, на ее взгляд, причина такого трагического конца династии, она высказала интересную мысль. По ее мнению, внутрисемейная неприязнь расшатала основу Романовского дома, и в тяжелый момент Николаю Второму не было на кого опереться. Все ополчились на его жену. Даже мать, которой он бесконечно доверял и бегал по нескольку раз на дню за советом, умудрилась возвести стену непонимания между собой и сыном из-за нелюбви к невестке. Знаешь, однажды великая княгиня Ольга сказала удивительную вещь: «Лучше бы у Романовых не было сердца». Понимаешь, о чем это? О любви. Ольга винила себя и брата Михаила, связавшего себя узами морганатического брака, что любовь поставили выше царского предназначения. Ведь их дети уже не могли претендовать на престол. Ну, а сам император Николай Второй, оберегая спокойствие своей Алекс, бесконечно любя ее и потакая ее слабостям, не считался с мнением министров, домочадцев и даже народа. По-человечески его можно понять, но было ли у него на это право?
Ася сидела молча, не зная, что сказать. Жемчужина на груди мягко светилась, отражая свет хрустальной люстры.
Софья вдруг охнула:
– Вот видишь, начала об одном, а заехала совсем в другую сторону. Так вот, о жемчужине. Как я уже сказала, Ольга была абсолютно равнодушна к драгоценностям, более того, разговоры об известной всему миру шкатулке императрицы пресекала на корню. Моя семья, тогда еще были живы отец и мать, решили сделать Ольге Александровне на день ангела поистине царский подарок. Многие из друзей знали, что великая княгиня живет более чем скромно, поскольку была обманута своей сестрой Ксенией: та забрала шкатулку с матушкиными драгоценностями, выплатив мизерные проценты от реальной стоимости, – а последние реликвии Романовых – кольцо с большим сапфиром в окружении бриллиантов, подаренное Марией Федоровной на рождение первенца, несколько браслетов и брошей – были похищены в Канаде при довольно странных обстоятельствах. Многие судачили, что причиной стала обычная безалаберность великой княгини. Ну кто такое держит в доме! Для чего же тогда сейфы в банках? Решив, что самое время помочь нуждающейся в средствах дочери царя, мои родители приобрели на аукционе в Нью-Йорке «Розовую жемчужину императрицы Марии Федоровны», как значилось в каталоге. Каким образом эта жемчужина оказалась в единственном числе, разъединенная со своими «сестрами», связанными в полуметровую нить, не знал никто. Скорее всего, те, в чьих руках оказалась часть царских сокровищ, были людьми предприимчивыми и старались заработать как можно больше. Судьба одинокой жемчужины, вырванной из великолепного украшения, показалась родителям символичной. Ольга Александровна с благодарностью приняла подарок, но особой радости не выказала. Потом, после ее смерти, подарок вернулся ко мне по завещанию. Мне стало понятно, как она к нему отнеслась: все, что было связанно с семейными драгоценностями, доставляло ей боль. Но вещичка красивая, согласись. Думаю, если бы великая княгиня тебя увидела, а еще узнала, что зовут тебя Анастасия, то сама бы тебе ее подарила. Знаешь, сколько тут Анастасий-самозванок ее донимали? А ведь она так любила свою племянницу, расстрелянную извергами вместе с родителями, братом и сестрами. Носи, пусть эта красавица принесет тебе счастье.
Ася открыла рот, чтобы поблагодарить, но София не дала ей ни слова сказать, взяла за руку и потянула в комнату разглядывать журналы.
Перелистывая страницы каталога, Ася поглядывала на без умолку стрекочущую о модных тенденциях этого сезона Софию и поражалась ее живости. В свои почти восемьдесят худенькая, красиво причесанная и элегантно, в спортивном стиле одетая София выглядела куда моложе Клавы. Вспомнив о Клаве, Ася сморщилась как от зубной боли. Трудно было представить Клавино появление в этом аристократическом семействе.
Согласившись с Софией, что кремовое кружевное платье лучшее в каталоге, Ася, счастливая, поехала домой, а уже на следующий день ей позвонили из бутика Магды, сказав, что ждут на примерку. София тоже приехала, чтобы оценить со стороны, как платье сидит на невесте, а еще обговорить все, что к нему прилагается.
Увидев платье на манекене, Ася обомлела. Она сомневалась, что сможет втиснуться в него, а если и получится натянуть, ничего не порвав, то сможет ли хоть шаг в нем ступить? Узкое наверху, платье расходилось роскошным воланом книзу. Сзади подол создавал подобие шлейфа. Все это великолепие из нежнейшего кремового кружева подсвечивалось бледно-розовой подкладкой. Ася стояла завороженная, а хозяйка бутика радостно воскликнула:
– Великолепно, оно точно будет по ней!
В примерочной, вопреки ожиданиям, платье легко наделось и село как влитое. Ася улыбнулась своему отражению в зеркале, подбородок взлетел, спинка выпрямилась.
– Ах, красавица, какая! – всплеснула руками София, любуясь девушкой. – Ну просто царица!
Заметив на Асиной шее ленточку с неказистой палочкой, поинтересовалась, что это за штука такая, и, узнав, что это талисман, доставшийся от мамы, попросила все же на свадьбу не надевать: царской жемчужине он совсем не пара. Ася немного огорчилась, но подумала, что София права. К тому же с того дня, как они переехали в Канаду, талисман словно умер: уже никогда не дрожал, не нагревался. Она не сразу заметила его безжизненность, слишком была увлечена новой жизнью. Но какое-то время спустя вдруг осознала, что он ни на что не реагирует. Как объяснить это, не знала. Вернувшись домой, она сняла его и положила в коробочку рядом с жемчужиной.
Наконец наступил день, когда нужно было встречать маму Клаву. В аэропорт Пирсон Миша и Ася поехали на лимузине с личным шофером семьи Граве, а в доме, который теперь родня называла вместо «старого» «детским», шли приготовления к встрече дорогой гостьи. София распорядилась нанять на вечер повара и официантов, заказала много цветов, выставила фамильное серебро.
– Мишенька, сына дорогой! – закричала Клава, выкатив тележку, груженную тремя чемоданами. Аси она словно не замечала.
– Мамка, молодец, как долетела? – Миша обнял ее и потянул Асю за руку. – Давайте, девчонки, обнимитесь.
Клава прижала Асю к груди так, что аж хрустнуло.
– Ну, ты и тощая стала, – осмотрела она невестку и тут же перевела взгляд на сына: – И ты, сынок, отощал. Не кормят вас, что ли? Я читала, что все продукты тут из пластмассы сделаны. Ничего натурального. Боже ж ты мой! Как вы оба вымахали. Вам бы еще расти и расти, а вы поженились. Как тут с погодой, не холодно? Говорят, в Канаде ветры сильные и животных диких много по городу ходят – и лоси, и медведи.
– Мам, ну какие медведи? Белки разве что и еноты. У нас цивилизация, небоскребы. И продукты нормальные, мне нравится, – улыбнулся Миша.
– Ну, ничего, сыночка, я колбаски привезла, нашей, московской, икорки черной к свадьбе и сало настоящее, базарное. – Клава с гордостью глянула на гору своих чемоданов.
– Ну, ты даешь, мать! – присвистнул Мишка. – Как же ты таможню прошла? Нельзя же это все провозить! Тебя могли арестовать.
– Вот еще, а я почем знаю, что нельзя.
– Ты же декларацию заполняла.
– Чего заполняла? Эту бумажку, что ль, в самолете? Так мне помогли, и я везде «но-но» поставила.
– В смысле, «нет» на английском?
– Точно. А когда мне хлопец чернорожий, пардон, чернокожий, на таможне что-то проквакал, то я ему на чистом английском выпалила, как пулемет: «Ай гоу ту май сан вединг» – и от себя добавила: «Хелло!» Два дня учила и в самолете повторяла, чтоб не забыть. Он сразу меня и пропустил.
Подъехав к дому, ребята чуть не потеряли Клаву. С трудом выбравшись из машины на затекших от долгого перелета ногах, она глянула на дом и тут же, охнув, схватилась за сердце. Через секунду она уже лежала на земле без сознания. Ася побежала в дом, чтобы вызвать «скорую», а Миша с водителем лимузина пытались вывести Клаву из глубокого обморока. Наконец им это удалось.
Открыв глаза, Клава увидела по меньшей мере дюжину склоненных над ней лиц: перепуганную родню, повара в колпаке и официантов во фраках.
– Сомлела я что-то с дороги, – пожаловалась она и попыталась встать.
Миша подхватил мать и потихоньку повел к парадной двери.
Она успела шепнуть ему на ухо:
– Это ж не дом, Мишаня, а дворец какой-то.
Мишка только хмыкнул.
На самом деле дом был совсем небольшой и очень старый, построен он был в викторианском стиле. То, что Клава назвала дворцом, напоминало старинный замок в миниатюре, с башенкой, украшенной остроконечной крышей, со стрельчатыми окнами и стеной, увитой плющом. Перед домом была лужайка, в центре которой стоял фонтан, у подножия которого клубились цветы, а по бокам возвышались густые елки. Клаве была выделена комната на первом этаже с видом на патио и маленький садик, где центральное место занимали два дерева: клен и береза. Когда-то давно София посадила их так близко друг от друга, что стволы и ветки переплелись. «Как в моей жизни Россия и Канада», – говорила София.
Очень быстро Клава окончательно пришла в себя и со всеми перезнакомилась. Забила холодильник припасами, удивив повара-француза шматком сала в тряпочке. Почему сало надо заворачивать именно в тряпочку, он так и не понял, но решил обязательно выяснить у специалистов по русской кухне.
Празднично накрытый стол отсвечивал золотобагряными красками канадской осени. София любила в сервировке соответствовать времени года: скатерть и салфетки цвета луковой шелухи, кремовый фарфор с коричнево-золотой каймой, пурпур бокалов на высоченных ножках. В низких вазах в форме соломенных шляп стояли букеты астр, в цветах преобладали лилово-бордовые тона, разбавленные легкой дымкой резеды и яркой зеленью остроконечных листьев.
На первое официанты подали суп-пюре из цветной капусты и голубого сыра. Клава попробовала и отложила ложку. Она с минуту поерзала на стуле и, не выдержав, громко потребовала московские гостинцы:
– Я, что ль, продукты зря везла? Хочу вас всех нашей колбаской угостить. А там еще две баночки икры черной, но это можно на свадьбу, как хотите. А вот по сервелатику сейчас вдарим, деликатес как-никак.
Она вскочила, чтобы выбежать на кухню, но София, улыбнувшись, остановила ее, попросив официанта уважить гостью и принести все, что она хочет. Он вскоре вернулся с подносом, на котором стояли икорница на льду и тарелочка с колбасой, нарезанной тонкими, почти прозрачными ломтиками.
– Ты чего это колбасу настрогал, как папиросную бумагу? Как украл, ну, честное слово! А икры такой плевочек, даже одному мало.
Клава громко распекала прислугу, благо официант ни слова не понимал по-русски и вежливо улыбался. Миша прижал ее запястье к столу, пытаясь успокоить. Но Клаву уже понесло:
– Не хватай меня за руку, Мишаня. Что думаю, то и говорю.
Ася покраснела и опустила глаза. Только одна София виду не подала и разрядила неловкость вопросом о городе, о том, удалось ли Клаве что-нибудь рассмотреть, пока она ехала из аэропорта. Клава пожала плечами и призналась, что в окно не смотрела, а только на «сыночку дорогого», по которому соскучилась сильно.
После обеда Миша вывел мать из столовой, не дав собирать тарелки. Попросил разговаривать вежливей и тише, особенно с прислугой. Она надулась и буркнула в ответ что-то вроде «буржуи проклятые». На предложение Софии осмотреть дом отказалась, сославшись на усталость. Настроение у нее было испорчено. Пока официанты готовили перемену стола к десерту, она вышла на задний дворик и огляделась. Справа и слева стояли дома, похожие на этот. На душе стало радостнее – «этот» теперь был Мишкин. Одно только ей не понравилось: участок полностью открыт, никакой тебе оградки или забора. И у соседей так же. Ходи туда-сюда кому не лень, а если ворье какое?
Клава решила проверить, можно ли «огородами» пройти на другие участки. Метров через сто поняла, что заблудилась. Не зная языка, не запомнив адреса, шла наугад, в надежде кого-нибудь встретить, и громко повторяла единственную английскую фразу, которую с трудом запомнила: «Ай гоу то май сан вединг, хэлло».
Неожиданно она оказалась в переулке, который вывел на большую дорогу. Мимо проносились дорогие автомобили, шли няни-филиппинки с детишками, хозяева выгуливали собак, но никто не обращал на Клаву ни малейшего внимания. А она, в розовых тапочках, которые ей подарила Ася, в ярко-красном китайском халате с драконом, была похожа на большую экзотическую птицу, неведомо как залетевшую сюда, в этот город. Ноги гудели, присесть было негде: ни тебе лавочки, ни скамейки.
Издалека по направлению к ней бежал какой-то парнишка. Когда он приблизился, Клава заметила, что «парнишка» не молод, может, даже ровесник; на нем был светлый спортивный костюм и белоснежные кроссовки. Поравнявшись, он улыбнулся ей, как старой знакомой, и сказал: «Хай!» Клава опешила и ответила: «И вам хай, хай, дорогой товарищ». Бегун заметил, что женщина еле переставляет ноги в мохнатых тапочках и одета как-то странно, не по сезону. Моросило. В любой момент мог начаться ливень.
– Говорите по-русски? – уточнил он, и Клава, рыдая, бросилась ему на шею:
– По-русски, только по-русски и говорю. Спасите меня, я заблудилась. Тут мой сын где-то живет. А я вышла во дворик, дай, думаю, пройдусь, и как пошла, пошла…
– Но как же вы ушли, адреса не спросив?
– Так я только что прилетела. Из Москвы вот сегодня. Меня Клавой зовут.
– А меня Афанасий, очень приятно. Сына-то как фамилия?
– Мишенька Степанов.
– Нет, такого не знаю. А как дом выглядит?
Клава возвела руки к небу, изображая, что, мол, большой очень, с крышей остроконечной, и добавила:
– Дом богатый, в три этажа, с окнами такими красивыми.
– Здесь почти все дома такие, – ответил Афанасий. – А ваш сын его недавно купил?
– Да не купил, ему двоюродная бабушка подарила. Софией звать, может, знаете?
– София Граве?
– Точно! Графиня она, из бывших.
– Так вы к Граве в гости?
– Ну да, к сыну приехала.
– Позвольте вас проводить. Я живу по соседству.
Дома Клаву искали везде – от чердака до подвала. Послали водителя, чтобы он прочесал улицы, но она как сквозь землю провалилась. Когда наконец ее привел Афанасий, все облегченно вздохнули. За короткое время Клава умудрилась напугать всех дважды.
София обнялась с Афанасием, поблагодарила его за спасение родственницы и пригласила к чаю. Он не отказался, с интересом поглядывая на Клаву, но сказал, что ему надо пойти переодеться, не подобает в спортивной одежде садиться к столу. Афанасий уже два года как овдовел и чувствовал себя очень одиноко.
– Милая Клавдия Васильевна, – попыталась успокоить ее София, – Миша сделает вам карточку с адресом, и вы ее булавкой к одежде пристегнете, хорошо? И вы должны знать, что бы ни случилось, найдите полицейский патруль, он тут на каждом шагу, вас сопроводят в участок, а там найдут переводчика и доставят домой.
Больше ничего особенного в этот вечер не случилось, кроме одного и, наверное, самого важного: Афанасию Крюкову, потомку поручика 12-го Ахтырского Ея Императорского Высочества великой княгини Ольги Александровны гусарского полка, приглянулась Клава. На край света поехал бы он за такой крепкой, надежной, настоящей русской женщиной, тем более что давно решил перебраться в Россию, и на то у него был свой интерес. В память об отце он собирал материалы, воспоминания, реликвии, связанные с Ахтырским гусарским полком. История полка началась еще в семнадцатом веке, а в девятнадцатом полк был расформирован. Когда в Торонто хоронили великую княгиню Ольгу, шефа Ахтырских гусаров, его отец нес караул у гроба. Ясное дело, в Россию ему надо было позарез.
Венчание предстояло в храме Смоленской Божьей Матери Одигитрии, что в поселке Березки, в пятидесяти милях от Торонто.
В красивейшем месте у озера, среди прозрачных березовых рощ, в конце пятидесятых годов двадцатого века появился городок с улицами, названия которых были так близки русскому сердцу: Волга, Калина, Вода. У семьи Граве в Березках была своя дача. Таких «русских» дач по соседству становилось все больше и больше. Храм, где должно было состояться венчание, был особенным – его строили всем миром переселенцы из России. Сами еще не до конца обжившись, первым делом собрали деньги на его возведение. Сначала построили небольшую церквушку, а потом на ее месте поставили белоснежный храм с посеребренными куполами, отражавшими голубизну канадского неба.
После венчания там же, в Березках, должен был состояться праздничный обед. На даче у Граве поставили длинные шатры с обогревом и иллюминацией; чтобы хватило места на всех, пришлось даже занять два соседних, тоже «русских», участка.
В день венчания дом гудел как муравейник. С утра приехали флористы, парикмахеры, визажисты и водители. Хозяйка бутика Магда прибыла с двумя помощницами, и те внесли с десяток коробок со свадебными причиндалами. Платье надели на невесту часов в десять утра. Миша, вспомнив, что Настя не завтракала и времени поесть у нее пока точно не будет, принес чашку горячего шоколада и бутерброд, но тут же был вытолкан за дверь спальни. Видеть невесту перед свадьбой – плохая примета. Шоколад и бутерброд, правда, у него милостиво взяли. Ася, однако, есть отказалась, только чуть-чуть пригубила из чашки. Когда все были готовы, невесту и жениха посадили в разные лимузины. Ася ехала с посаженой матерью Софией, а жениха вез Николя. Маму Клаву пригласил в свой «мерседес» Афанасий. Она была польщена.
Двери храма были широко распахнуты. Солнце, по-летнему сиявшее на небе, проникало в придел сквозь узкие окошки. Казалось, внутри горят тысячи свечей. На ступеньках храма и на дорожках вокруг уже стояли гости.
Миша обомлел, увидев Асю в подвенечном наряде. Словно случился провал во времени, и юная невеста с царственной осанкой, в кружевном платье, с жемчужиной на груди совсем не Аська, а кто-то другой, например какая-нибудь княгиня. Ничего, кроме «княгиня Волконская», в голову не пришло. Миша вдруг осознал странную вещь: с того момента, как они сюда приехали и познакомились с семейством Граве, у него возникло ощущение «нездешности», словно вывернули наизнанку привычный мир. И дело было не в географии – нет, в чем-то совсем другом, не связанном с четырьмя измерениями. Другой язык, другие люди – спокойные, неторопливые, улыбчивые, – все другое. Из философского ступора он вышел, увидев, как мама Клава, накинув на плечи боа из малиновых перьев, суетливо взбегает по ступенькам храма. Все тут же стало на свои места.
Миша и Ася подошли к аналою. Дьякон вынес на подносе кольца, и священник, спросив предварительно, нет ли у жениха либо невесты препятствий к этому браку, попросил обменяться ими. Когда прозвучали слова: «Венчается раб Божий Михаил рабе Божьей Анастасии», послышались громкие всхлипы. Не в силах справиться с рыданиями, Клава громко высморкалась в носовой платок. На нее стали с удивлением оборачиваться, по храму пополз шепоток. Афанасий взял Клаву за локоть, стараясь успокоить. Он уверял, что не плакать, а радоваться надо. Спросил, не принести ли водички. Стараясь не обращать внимания на все это, батюшка поднес венцы к губам жениха и невесты и начал читать текст из Евангелия, и тут Асе нестерпимо захотелось есть. В животе громко забурчало, да еще и с каким-то кошачьим взвизгом. Она готова была провалиться от стыда, а Миша с трудом подавил смех. В этот момент поднесли чашу с вином, из которой следовало отпить по три глотка. Вино было сладкое, церковное, очень вкусное. Голод прошел, и Ася почувствовала, как по телу прокатилась волна тепла и невероятной радости. Захотелось взлететь под самый купол, как те пылинки, что кружились в солнечном луче над ликом Спасителя, и, немного поплясав с ними, вылететь в узенькое окошко на хорах, устремляясь в синее безоблачное небо.
Молодоженов ждал сюрприз: после венчания их усадили в ландо, запряженное белым в яблоках рысаком, и повезли к озеру. Там они пересели на двухмачтовую яхту «Ольга» – свое имя она получила в честь великой княгини – и отправились в плавание. Николя, капитан яхты и ее владелец, хотел показать ребятам все великолепие канадской осени. Прибрежные рощи были раскрашены в волшебные цвета: от ярко-алого до бледно-розового, от оранжево-золотого до лимонно-желтого, с изумрудными вкраплениями почти еще летней листвы. Ася и Миша узнали, что в Канаде началом осени считают двадцать первое сентября. А сейчас в разгаре «индейское лето», которое в России называется «бабьим».
Свадебный обед прошел весело: много танцевали, даже София с Клавой удивили всех, изобразив нечто похожее на кадриль и польку одновременно. К вечеру развели костры и уселись вокруг петь песни. Афанасий оказался обладателем красивого тенора. Он пел русские романсы под гитару и все время поглядывал на Клаву. Девушки попросили Асю бросить через голову свадебный букет. Она не знала об этом обычае, а когда ей объяснили, с удовольствием откликнулась. Букет взлетел высоко. Одна из девушек подпрыгнула, но не поймала, только задела рукой. Изменив траекторию, букет ударился о Клавину голову и упал к ее ногам. Все захлопали. Клава смутилась, замахала руками, но, увидев, как Афанасий подкручивает седой ус, подняла букет с земли.
Первые месяцы на канадской земле прошли для Миши и Аси как во сне.
– Не знаю, как ты, – однажды разоткровенничался с женой Мишка, – а у меня такое ощущение, будто я готовлюсь к экзамену по русской литературе конца девятнадцатого тире начала двадцатого века. И я нисколько не удивлюсь, если прямо здесь, у нашего дома, встречу графа Толстого или доктора Чехова. Ты меня понимаешь? Все какое-то ненастоящее… литературное, что ли, не знаю, как объяснить. Будто взяли ту Россию, которая давно кончилась, и перенесли сюда, в канадские Березки.
– А мне кажется, что я всегда тут жила. Мишенька, дорогой, не хочу возвращаться, давай останемся. Дом продавать не будем, пойдем учиться, работать. Пожалуйста.
– Да я не против, а вот с мамой как быть? Ведь у нее, кроме нас, никого. А переезжать сюда она не захочет, ты же знаешь. Все про квартиры талдычит, про добро, что всю жизнь наживала.
– Теперь она уже не одна будет, – интригующе улыбнулась Ася. – Разве ты ничего не заметил? Афанасий ей предложение сделал и собирается перебраться в Россию.
– Ты шутишь! Она ничего не сказала.
– Стесняется, наверное. София случайно проговорилась. А я-то думала, с чего это мама Клава преображается на глазах: шепчется с Софией, советуется, что надеть. София пару раз ее в магазины возила и в парикмахерскую. Я чуть не упала, когда увидела ее с новой прической и в элегантном костюмчике с шарфиком. Разговоры у нее только об Афанасии. Теперь вот умотали с ночевкой на Ниагару.
– Вот это да! Надо бы этому процессу придать ускорение. Тогда все решится лучшим образом: мы к ним в гости приезжаем, они к нам, и все счастливы. А нам с тобой пора делом заняться: сдать английский для университета и оформить вид на жительство. Не пожалеешь?
Перед отъездом Клава заявила детям:
– Погуляли, и хватит. Тут хорошо, а дома лучше. Что значит, не вернетесь? Вот Афанасий и тот в Россию рвется. Замуж за него выйду и перевезу, как обещала, а вы что же? Соскучитесь ведь. Его вот мальчишкой сюда привезли, а он все помнит и все тоскует.
– Мам, я учиться здесь буду в университете. И Настя тоже, – спокойно и твердо ответил Михаил. – Выучимся, а там посмотрим. Жизнь, она долгая, может, и в России со временем найдется что делать. Слышала, что София говорила про царя Петра? Не зря он деток боярских в учение к иностранцам отдавал – мозги прочищал на пользу отечеству.
Клава вздохнула и возражать не стала. В глубине души она понимала, что дети правы. Ну что плохого в том, что поживут они тут, в красоте и чистоте этой, среди улыбчивых и вежливых людей. Будут приезжать, в конце концов, а там со временем, может, и вернутся. А пока – пусть. Дома черт-те что творится, сбесились все, друг дружку режут, взрывают: то тебе Карабах, то казахи как с цепи сорвались, то грузины с абхазцами собачатся, и главное – жрать нечего. Как Афанасий не боится? Еще, не дай бог, передумает.
Глава четырнадцатая
Возвращение Миши и Аси затянулось на долгие годы и могло бы никогда не произойти, если бы не история с книгой, которая, как оказалось, ждала своего часа.
Миша частенько наведывался в Москву, закрутив совместный бизнес с российскими предпринимателями. Ася не приезжала. От одной мысли о свекрови ее мутило, ей и так хватало Клавиных визитов в Канаду. Клава, конечно, скучала по детям, но за эти годы привыкла жить припеваючи вместе с Афанасием. Устроились они на Котельнической. Дети, правда, настояли, чтобы в одной из комнат был открыт музей великой актрисы Татьяны Карпинской. Но это Клаве не мешало. «Пускай народ заходит, веселее даже», – говорила она. Просто так в музей прийти было нельзя – только по записи и обязательно с экскурсоводом. Афанасий от этого даже выиграл: соорудил в коридоре стеллажи с реликвиями Ахтырского полка и рассказывал людям о гусарах, даже стихи Дениса Давыдова читал.
Миша иногда подумывал о возвращении, но Ася этот вариант даже не рассматривала. Она выучилась в университете Райерсон на художника-аниматора, сняла несколько мультфильмов, которые были отмечены призами, преподавала живопись в колледже, писала картины и регулярно выставлялась в престижных галереях. Всякий раз, встречаясь со свекровью в Торонто, она словно получала по лицу грязной тряпкой. Отношения у них не только не улучшились, но стали еще более напряженными. И все из-за одного обстоятельства, которое Клава превратила в козырную карту, когда начинала петь Мише, что Ася – совсем не та жена, которая ему нужна, и, пока не поздно, лучше развестись. До сих пор у пары не было детей.
Первой, кто решился задать Асе вопрос о детях, была София. Она молчала почти десять лет. Сначала Миша и Ася учились, потом устраивались на работу, потом путешествовали. Им было всего-то по семнадцать, когда они поженились. Какие дети – сами еще малы, но время шло. Отметив, что Ася завела одну кошку, потом другую, потом поселила дома семью кроликов и в довершение всего собиралась обзавестись собачкой, София не выдержала и спросила, как весь этот зоопарк уживется с младенцем и, собственно, когда ожидается появление наследника.
Ася и сама хотела бы это знать. Она много раз была у докторов, которые подтверждали ее полное здоровье. Именитый гинеколог, консультации которого она ждала полгода, как и все остальные канадские доктора, просто посоветовал немного подождать. Но это «немного» превратилось в годы и годы бесплодной надежды – беременность не наступала.
Миша тоже был ни при чем, анализы подтвердили его мужское здоровье. Постепенно оба склонились к мысли, что надо бы решиться на искусственное оплодотворение либо искать суррогатную мать.
Узнав о планах молодых людей, София умоляла этого не делать. Она говорила, что если Господь не дает детей, то есть на это причины, которые пока неведомы, но обязательно откроются. Она посоветовала Асе помолиться о будущих детях иконе Федоровской Божьей Матери, заказала специальный молебен и по субботам ходила вместе с Асей к чудотворной иконе в Свято-Троицком храме на улице Генри. Но все было тщетно. И все же после того, как Ася начала молиться, причащаться и исповедоваться, после того как втянулась в церковную жизнь, помогая Софии в делах местного сестричества, ее страдания утихли. При виде младенцев она уже не заходилась в рыданиях, зависть к беременным отпустила, и отвращение к себе прошло бесследно. Правда, смирившись, Ася не потеряла надежду.
– На все Божья воля, – часто повторяла София. – Он лучше нас знает, когда, кому и зачем, потому что вперед видит, а мы нет. Если суждено – родишь, нет – усыновишь, тоже дело Божеское, а вот эти подсадки, матери суррогатные… Не люблю. Знаешь, сколько там зародышей отбракованных погибает, пока один зацепится? А как же Дух Божий, что делением каждой клеточки ведает? Страшно. Пока у тебя есть надежда и время самой родить, молись.
Миша с тревогой наблюдал за изменениями в Асином поведении. Он довольно скептически относился ко всему религиозно-клерикальному, но при этом старался не обижать жену. Однако, когда «церковные заморочки» стали все больше проникать в их семейный быт, с раздражением справиться было все труднее. По большому счету Миша не особо страдал по поводу отсутствия детей. «Наука поможет, – убеждал он жену. – Соорудим себе бебика с ее помощью, не волнуйся». София чувствовала, что в семье назревает конфликт, и, как она сама говорила, держалась на этом свете только потому, что не могла позволить развалиться семье. Уже совсем больная и немощная, она твердила, как заклинание: «Не умру, пока вашего ребенка не окрещу». Но своего обещания София не исполнила.
Ей перевалило за девяносто пять, когда должно было произойти великое событие: подписание акта о каноническом общении ветвей Русской Православной Церкви. Из Москвы в Торонто везли великую святыню – икону Божьей Матери «Державная». Ждали мужской хор Сретенского монастыря и большую делегацию священнослужителей. Многие этому радовались, но те, кого называли «старой эмиграцией», относились к предстоящему событию по-разному. Ася переживала за Софию. Каждое обсуждение с друзьями и родственниками вопроса объединения церквей – Московской и заграничной – отнимало у нее здоровье. После всех этих разговоров София плакала, у нее повышалось давление, пропадали сон и аппетит. В душах старых эмигрантов кипела обида на «советскую церковь» за сотрудничество со сталинским режимом и коммунистами. София, как истинно верующая, молилась о покаянии и прощении заблудших сынов и надеялась, что через единую Церковь придут благодать и всепрощение. Она верила, что настанет час, когда русские будут уважать и любить друг друга вне зависимости от места проживания и перестанут клеймить эмигрантов, называя предательством отъезд в другую страну, ведь никто в мире – ни канадцы, ни американцы, ни французы, ни англичане – не называет предателями тех, кто покидает свою родину.
– Даже китайцы не объявляют иммигрантов врагами, наоборот, приветствуют расселение по всей земле. А китайцы всегда были хитрыми и дальновидными, – говорила София.
В день, когда должна была приехать делегация Московского патриархата, София попросила Асю сопровождать ее. Она давно уже передвигалась в инвалидной коляске, но дело не в этом – ей просто хотелось, чтобы Ася была рядом с ней в храме.
На православном календаре, который висел у Софии в спальне, красным фломастером было отмечено 8 сентября. «Билеты для Миши и Аси» – выведено каллиграфическим почерком. Ася поняла, что София заказала им билеты на концерт церковного хора. Сама София уже не могла высидеть в зале несколько часов, но поход в храм на встречу с великой святыней даже не обсуждался, София приползла бы туда даже мертвой.
Как только подъехали к храму, она ожила. Просидела в инвалидной коляске всю службу, приложилась к великой святыне и с радостью приняла предложение отобедать в трапезной с гостями из Москвы. Ася ненадолго оставила Софию под присмотром милой девушки из сестричества, а сама вышла на улицу позвонить Мише и предупредить, что задерживается. Добавила, что София держится молодцом, даже, можно сказать, разгулялась. Но когда Ася вернулась, Софию как подменили. Возбужденным шепотом она попросила: «Едем домой немедленно! Что они себе позволяют!» Прощаясь с батюшкой, вдруг горько заплакала. Асе пришлось ее увезти.
По дороге домой София не произнесла ни слова и, только когда Ася помогла ей перебраться из кресла в постель, немного пришла в себя. Вызвать врача она наотрез отказалась. Испугавшись, Ася позвонила Мише. Бросив все дела, он тут же приехал. Увидев его озабоченное лицо, София сказала:
– Успокойся, я еще не умираю, иначе вместо тебя тут стоял бы священник, но и жить особо не хочется.
– София, дорогая, да что же случилось? – спросила Ася. – Я ведь только минут на десять вышла. Кто вас так обидел?
София с трудом приподнялась на подушках, ее глаза заблестели.
– Сижу я в трапезной в кресле своем, а он мимо меня пробегает, шустрый такой, в рясе, лет тридцати, с бороденкой реденькой. Я ему: «С праздником!», он мне: «И вас». Думаю, дай-ка спрошу, откуда приехал, наших ведь всех знаю. Он отвечает: «Из Москвы, с делегацией. У вас ко мне вопросы?» Я отвечаю, что вопросов нет, а вот поговорить хочется. Он весь как на иголках и отшивает меня, мол, нет времени тут с вами разговаривать, сейчас банкет начнется, а на столах еще водки нет. Я дар речи потеряла – водку в храм! Хвать его за руку и отчитываю. Он притих, говорит, что приказали, что сейчас посольские приедут, отцепись, мол, старуха…
– Так и сказал? – охнула Ася.
– Нет, старухой не обзывал, врать не буду, но спрашивает: «Женщина, что вы, собственно, хотите знать?» Дорогие мои, вы когда-нибудь слышали такое обращение – «женщина»?
Ася и Миша расхохотались.
– Чего смеетесь? – посуровела София. – Это же неприлично. Я ему в ответ, специально так, с издевкой: «Мужчина, что вы думаете насчет того, что самодержавие и престолонаследие на Руси суть божественное явление? Династию Романовых уничтожили, а красные цари все норовят на их место забраться, и все они плохо кончат, заслужив кару Небесную». А он мне: «Отстали вы, бабушка, нет больше царей в России. Президенты у нас, не Романовы, так другие, дело большое…» – и убежал. Вы понимаете, какой цинизм! Получается, что их Церковь согласна объявить самодержцем любого самозванца, и мы с ними теперь заодно.
Миша вздохнул и спросил Софию:
– А вы, случайно, не заметили у него погоны под рясой? Не похож он на священнослужителя. Служба у него другая, в другом ведомстве. Насчет царей, это он прав: что Романовы, что не Романовы нашему народу по барабану, было бы перед кем лоб расшибать. Да хоть как назови: генсек, вождь или президент, – результат один, в генах заложенный. Кстати, ваши Романовы с вашей Церковью не последнюю роль в этом сыграли. И что в сухом остатке? Раб Божий, которого они зомбировали страхом и обещаниями Царства Небесного, в один момент восстал, вопя дурным голосом: «Мы не рабы, рабы не мы!», разнося в щепки вековые устои. Как же так случилось, что христианская идея всеобщей любви и милосердия не сработала и оказалась утопией в сознании большинства? Куда привлекательнее звучало: «Грабь награбленное» и «Кто не с нами – тот против нас!». Ваш распятый парень ошибался, предполагая, что животные инстинкты и стадные рефлексы Homo sapiens будут когда-нибудь успешно коррелироваться при помощи душеспасительных теорий.
– Не богохульствуй, – печально сказала вконец ослабевшая София. – Поверь, быть настоящим христианином очень нелегко. Давно живу, а по жизни встречала таких людей мало. Знаешь, что их отличает? Удивительная способность сострадать, принимая чужую беду как свою. Собственно, у них даже нет такого слова – «чужой». Даже к иноверцу, как бы тот ни относился к Христу, абсолютная терпимость. Ведь не человек судит, а Бог. Все беды от безбожия. Твой атеизм – тоже религия: веришь, что Бога нет. Веришь, а знать не знаешь.
– Правда, что не знаю, но допускаю, а узнаю – поверю.
– Вот, вот, – сказала София. – А всего знать невозможно и не положено. Эка гордыня проклятая! Тем прародители и согрешили, что захотели все знать.
– Значит, они и есть первые атеисты. А чем нет? Опыт с яблоком удался и привел к офигительному результату: мир, оказывается, познаваем, и цель познания – законы его сотворения.
– Так ты не отрицаешь сотворение, а значит, и Божественный замысел?
– София, дорогая, я человек науки, и моя Святая Троица – это Гипотеза, Эксперимент и Доказательство, но в начале всего должна быть Идея. Возможно, она и есть Бог.
София задумалась и вдруг резко сменила тему:
– Говорят, сегодня в России церквей все больше и больше, и людей в них тоже. Даже начальники большие всю службу стоят, и президент вместе с ними.
– Молодцы, что стоят. Чего не постоять, если за это по башке не дадут. Оно, конечно, после закона о религии, который еще при Горбачеве вышел, теперь никаких гонений: двери открыты, иди молись, сколько хочешь. Только боюсь, скоро начнется охота на ведьм – на атеистов то бишь.
– Двери открыты, это правда, но идолов же не вынесли, потому и не ведают, что творят. А напомни-ка мне, он твой тезка был, Горбачев?
– Да, Михаил Сергеевич.
– Ну, храни его Господь. А своего первенца, если мальчик родится, Михаилом назовите. Имя это особенное для России, с него Романовы начались, и означает оно: «Богу подобный».
– Да как сказать… Проклинает нынче народ Горбачева, что империю советскую развалил, да и Романовы как-то подкачали, – усмехнулся Миша. – Выходит, непруха России с Михаилами.
– А ты не торопись, на все Божья воля. Если Создатель это допустил, значит, так надо. Ни один волос не упадет с головы без ведома Его. Придет и другое время. Устала я, ребятки. Идите домой. Сиделку вызову, через минуту будет.
Они распрощались с тяжелым сердцем. Ася была недовольна, что Миша позволил себе бестактность по отношению к религиозным чувствам Софии, и никак не могла успокоиться.
– Ты же тонкий, умный, думающий человек, – сокрушалась она в машине, словно разговаривая сама с собой. – Неужели не понятно, что любая тупая, бескомпромиссная убежденность в своей правоте и желание навязать ее другому не что иное, как гордыня. Великий грех, между прочим, приводящий к бедам, даже войнам. Я вот заметила: ты нервничаешь, заводишься в споре, а София абсолютно спокойна. Ей никого не надо ни в чем убеждать, поскольку она знает, что Бог дал свободу выбора: «Имеющий глаза – да увидит, имеющий уши – да услышит». Иногда мне кажется, что у тебя на глазах шоры, а в ушах бананы…
– Точно, только не в ушах… Рыба моя дорогая, будь добра, там, на заднем сиденье, в сумке лежит банан. Поищи, умоляю. Жрать захотел смертельно.
– Ты специально увиливаешь? Тебе не интересно со мной разговаривать на эти темы?
– Разговаривать – пожалуйста! Только не хочу, чтобы это меняло наши отношения. Я все понимаю, ты страдаешь из-за того, что у нас нет детей, и выбираешь в помощники религию, но не науку. Это твое право. Но есть и мое. Не надо упрекать меня в том, что я не могу принять твою позицию. Давай каждый останется при своем. Но в одном ты права: переубеждать кого-либо с пеной у рта стыдно. Завтра извинюсь перед Софией. Вел себя по-хамски. А знаешь, дед правильно говорил, что всякий по-настоящему интеллигентный человек на самом деле христианин, потому что знает, чего нельзя себе позволять ни при каких обстоятельствах. Ты, Аська, для меня самый родной и любимый человек на земле. Верь во что хочешь, если тебе так легче. Когда ты спокойная и счастливая, и мне хорошо. Слушай, а Хам это ведь из Библии?
– Надо же, значит, не совсем безнадежен! Из нее. Хам отца пьяного оскорбил, выставил на посмешище. И тот человек, кто Отца Небесного оскорбляет, тоже хам.
– Понял. Молчу, даже каюсь.
Ася погладила мужа по голове и улыбнулась:
– Завтра вместе позвоним Софии. Так и скажу: «Мишка кается».
Но ранним утром позвонил Николя и сообщил, что мама умерла.
В почтовом ящике Ася обнаружила билеты на концерт хора Сретенского монастыря, присланные Софией накануне. На них стояла дата ее смерти. Ася положила билеты в ту же коробочку, где лежали мамин талисман и жемчужина. Теперь там было их место. А те, кому посчастливилось побывать на концерте, рассказывали, что во время исполнения одноголосного распева «Стихиры праздника Успения Божьей Матери» в зал залетела птица. Она не билась в поисках выхода, а плавно кружила, покачиваясь на волнах божественной музыки. «Это была душа Софии», – подумала Ася и успокоилась.
Во время отпевания Софии Ася заметила в храме милую женщину лет пятидесяти, которая приветливо кивнула, когда их глаза встретились. Лицо показалось знакомым, но имя начисто стерлось из памяти. После поминок они разговорились, и Ася сразу вспомнила, что перед ней приятельница Софии, доктор-гомеопат Мария Гановски. Пару лет назад, когда Ася наконец, следуя совету Софии, собралась к Марии на консультацию, выяснилось, что та надолго уехала. Мария была русской по происхождению и отправилась в Россию в поисках документов, способных пролить свет на судьбу ее деда, пропавшего в сталинских лагерях. Он был известным ученым.
– Я помню вас, Анастасия, – улыбнулась женщина. – Вы привозили Софи ко мне в офис. Она спрашивала, могу ли я вам чем-нибудь помочь. Я была готова, но уже собиралась уезжать. Думала, на пару месяцев, но пришлось задержаться. Вернулась только неделю назад, даже не успела повидаться с ней…
– Спасибо, Мария. Да, София мне вас рекомендовала.
– С удовольствием встречусь с вами и помогу, чем смогу. Не откладывайте. Приходите на днях, вот мой телефон и адрес.
Когда прошло девять дней со смерти Софии, Ася позвонила Гановски. На следующий день она уже входила в кабинет, который совсем не был похож на медицинский: два больших кресла, журнальный стол, книжный шкаф во всю стену и пальма в кадке у окна.
– Миссис Граве, хорошо, что вы решились прийти, – мягко, с улыбкой начала хозяйка кабинета. – София, будучи деликатным человеком, не поставила меня в известность, что конкретно вас беспокоит, но намекнула о своей мечте – дожить до появления вашего первенца. Ей это удалось? У вас есть дети?
– Нет. Вот почему я здесь. Мне уже тридцать пять, и я ни разу не была беременна. По всем анализам мы с мужем абсолютно здоровы.
– Так бывает, но не часто. Возможно, придется искать ответы в тех сферах, куда обычная медицина вторгаться не любит, например в область подсознательного: снов, вкусовых предпочтений, запахов, даже цвета, который вы выбираете для своего гардероба. Что вы на это скажете?
– Я готова, – ответила заинтригованная Ася.
– Тогда расскажите мне о ваших снах. Есть ли такие, которые повторяются?
Ася задумалась, стоит ли рассказывать о детстве, о старушке и царевне за шкафом, не подумает ли доктор, что она не в себе, но решила, что, если уж пришла, надо выложить все начистоту.
После довольно путаного рассказа о детских снах возникла долгая пауза, Ася даже заерзала на стуле.
– Так, голубушка, подождите, – наконец произнесла Мария. – Последний сон, или видение, как вы говорите, был много лет назад, еще в России. Как я понимаю, вы живете в Канаде семнадцать лет. И за столько лет сны ни разу не повторились?
Ася отрицательно покачала головой.
– Ну, а когда приезжаете в Россию?
– Я ни разу туда не возвращалась. На то есть семейные причины, – отвела глаза Ася.
– Если не секрет, какие? – спросила Мария и добавила: – Это важно. Мне надо понять, кем вы были и кем стали. Согласитесь, что жизнь вне родины меняет человека, пусть даже не целиком, но значительно. Другой язык, уклад, ценности, даже воздух и вода…
– Я не дружу со свекровью, – призналась Ася. – Боюсь ее. Она всегда была против нашего брака, а вопрос детей вообще больной. Когда муж едет по делам в Россию, я всякий раз волнуюсь, что она убедит его не возвращаться или подстроит какую-то гадость.
– А если бы не свекровь? Неужели вас не тянет в родные места?
– Наверное, не знаю… Я уже забыла многое или постаралась забыть…
– Полагаю, вы там пережили какую-то душевную травму. Захотите, поговорим об этом подробнее, но не сейчас. Меня заинтересовали ваши сны, особенно тот, в котором была царевна с книгой. Вы сказали, что это был последний сон в России. Вы знаете, что это была за книга?
– Нет, не знаю, – неуверенно произнесла Ася. – Но… как вам сказать, у меня есть талисман, который каким-то образом связан с этим сном. Всякий раз он как-то особенно реагировал… не могу это толком объяснить, не подумайте, что я сумасшедшая. – Ася запнулась. – Понимаете, он как живой: нагревался или, наоборот, холодел, когда мне снились такие сны, даже жужжит иногда, как букашка, зажатая в кулаке. Может, это все мои детские фантазии? Скорее всего, так. В Канаде талисман словно умер. Ничего такого не происходит, да и снов давно нет. Тихо и спокойно.
Глаза доктора, как скальпелем, полоснули по Асиному лицу.
– Он сейчас на вас? Нет? Тогда, пожалуйста, опишите его точнее.
– Длинненький такой, – неуверенно начала Ася. – Напоминает тонкую палочку на шнурке. На палочке знаки непонятные…
– Откуда он у вас?
– Мне подарили его родители. Странно, но я хорошо помню, как это было, хоть я была совсем мала. Папа купил его в комиссионном магазине.
– Жаль, что этой вещи нет с вами. Думаю, нам стоит встретиться еще раз. И обязательно захватите ваш талисман. Это важно. Я должна его увидеть.
– Доктор, а как же с ребенком? Вы даже не взглянули на анализы.
– Через день, в среду, я вам все скажу. Анализы тут ни при чем. Мне надо кое-что проверить.
До следующей встречи Ася ходила сама не своя и подгоняла время. Но оно, как назло, тянулось с черепашьей скоростью.
Утро долгожданной среды началось буднично. Правда, собираясь на прием, Ася чуть ли не до крови укололась об острие талисмана. Раньше такого никогда не случалось. Едва Ася перешагнула порог, Мария затянула обычную волынку вежливости: «Здравствуйте, миссис Граве, как дела?», но Асе показалось, что она торопится побыстрее перейти к делу.
– Вы принесли то, что обещали? – нетерпеливо спросила хозяйка кабинета, заглядывая Асе в глаза.
– Да, вот. – Ася сняла с шеи талисман и положила на протянутую ладонь.
Пальцы Марии судорожно сжались и разжались.
– Этого не может быть. Так не бывает, – словно уговаривая себя, прошептала она. – Так вы утверждаете, что этот предмет был куплен вашим отцом в магазине? Невероятно! Формой он напоминает древнее стило, и мне кажется, ему скорее место в музее.
– Извините, я не расслышала. Что напоминает?
– Стило. Это такая острая палочка, которой в древности писали, а вернее, царапали на бересте. Но дело в том, что это стило часть чего-то большего. Во всяком случае, у меня есть основания предполагать, что он связан с книгой, поисками которой занимался мой дед – Сергей Никанорович Вяземцев. Дедушка был известный профессор-языковед. Я провела в России больше года, стараясь выяснить его судьбу. Кроме того, что перед войной он был осужден, сослан в лагерь и не вернулся оттуда, мы ничего не знали. Мама перед смертью уже тут, в Канаде, просила меня найти хоть какие-то документальные свидетельства его жизни. Она до последнего надеялась, что ее отец жив. К сожалению, он умер в лагере, не дожив до кончины Сталина. Скорее всего, после смерти вождя, получив свободу, он бы вернулся к поискам книги. В архивах сохранились дедушкины дневники, письма и даже одна университетская фотография. Сейчас я ее покажу.
Мария принесла увесистую папку и вынула из нее старую фотографию. Сквозь облупившийся глянец, словно через растрескавшийся глинозем, едва проступали лица давно умерших людей. Их было немного: профессор, девушка с толстой косой и еще четверо молодых мужчин.
Ася поднесла снимок поближе к глазам и охнула:
– Доктор, я, конечно, могу ошибаться, но эта женщина рядом с профессором невероятно похожа на Анастасию Николаевну, бабушку моего мужа. Я не застала ее в живых, но хорошо помню фото из семейного альбома. Мой Миша очень похож на нее – глаза, подбородок, улыбка. Значит ли это, что она была вовлечена в поиски той книги, о которой вы говорите? А что это за книга такая и при чем тут мой талисман?
Мария опять застыла и, казалось, окончательно потеряла дар речи. Ася открыла рот, чтобы попросить объяснений, но Мария опередила ее:
– Я так и знала, что все не случайно! Там, где стило, должна быть и книга. В дневниках деда я обнаружила один интересный документ, скопированный от руки, – покаянное письмо инокини Марфы, матери первого Романова на престоле. Наверняка бабушка вашего мужа тоже знала об этом письме. В нем говорится о книге, которая была послана свыше и должна была стать чем-то вроде охранной грамоты династии и даже самой России. Еще там идет речь о рождении нового человека, который освоит язык Бога. Из письма я узнала, что, кроме книги, было еще и стило. Судя по записям, дед готовился к поискам этих артефактов, но не успел. Его ученица, видимо, оказалась более везучей, а как иначе объяснить то, что на вашей шее висит ключик, открывающий великую тайну книги.
– Тайну? – обомлела Ася. – Какую?
– Дед не знал наверняка, но предполагал, что в книге могут быть ответы на вопросы, волнующие русских людей: почему столь трагична история Руси? в чем истоки силы русского народа? каково его будущее? Для этого книгу надо суметь прочесть. Видите, ваш талисман испещрен разными, довольно необычными знаками, но есть один, самый крупный, изображение которого я встречала в дневниках деда, – соединение букв М и А. Сергей Никанорович впервые обнаружил этот знак в летописях Николаевского монастыря в селе Верхотурье. Туда в семнадцатом веке была сослана невеста первого Романова Мария Хлопова. По всей видимости, она и положила начало легенде о магической силе «царского знака». Во всяком случае, через триста лет в тех местах появился человек, сумевший этой легендой воспользоваться. Ведь до сих пор остается загадкой, кем был Распутин на самом деле – шарлатаном или великим провидцем и целителем. А если так, не связан ли его уникальный дар с этими буквами? Ведь они могут быть не чем иным, как буквами Слова Божьего.
Ася глянула на подвеску и мысленно сконфузилась. Она-то считала, что М и А – всего лишь «Мишка и Аська».
Мария вскочила и начала возбужденно ходить по комнате, не замолкая ни на минуту:
– Профессор Вяземский предполагал, что книга и есть то самое Слово. Что она, в том или ином виде, уже много раз появлялась на Земле, побывала в разных руках, но никогда не была прочитана полностью. Скорее всего, некоторые знания время от времени приоткрывались человечеству и становились основой великих духовных книг. Например, Кумранские свитки, из которых вышло Пятикнижие, – дед считал их одним из самых явных следов таинственной книги. По его мнению, очередная ее реинкарнация в России была не случайна. В этой стране накоплен невероятный по силе энергетический потенциал, который содержит в себе как вселенское добро, так и вселенское зло. Поверьте, Ася, я это почувствовала на себе. Вам же знакомо состояние от небольшого удара статическим электричеством? Неприятно, правда? Из-за трения вступают во взаимодействие объекты, которые заряжены противоположно: плюс и минус. Вот такое трение я чувствовала между людьми в России постоянно. Не беда, если вас слегка шарахнет дома или на работе – кто-то вспылил, даже обругал, с кем-то вы поссорились из-за разности взглядов на происходящее, – но ведь молния тоже образуется от статического электричества, а бьет с высоты, и бьет сильно. Вы понимаете, о чем я говорю? В этом случае не увернешься, правда? Есть ощущение, что Россия всегда либо в предгрозовом состоянии, либо в момент разыгравшейся бури. Скорее всего, книга появляется именно там, где необходимо снять напряжение, изменить представление людей о мире. Я долго размышляла над гипотезами, изложенными в дневниках деда по поводу того, почему книга так и не была прочитана царем Михаилом и его женами. Ни одна из них не согласилась назваться Анастасией. Профессор склонялся к мысли, что были нарушены некие условия, при которых срабатывают имена, вроде того что она адресная, ведь недаром «царский знак» содержит именно эти буквы. Возможно, именно этот знак и есть ключ к прочтению. Но это не все. Неожиданно мне в голову пришло парадоксальное предположение. Хочу с вами поделиться. Я вас не утомила?
– Что вы, доктор, очень любопытно, только…
Ася не успела договорить, как Мария опять окунулась в рассуждения о книге:
– Одним из условий, при которых книга может быть прочитана, является соединение мужского и женского начал через любовь. Банально, правда? Хотя мы также знаем, что ничего более загадочного, нежели субстанция любви, не существует. Именно любовь отличает нас от животного мира и приближает к Богу. Но, беспрестанно твердя о ней, люди путают ее с другими, более приземленными проявлениями естества. Знаете, в чем согрешила Марфа? Уничтожила любовь и, как следствие, не дала появиться на свет плоду этой любви. И вот тут самое главное! Я поняла, что книга предназначена не мужу и жене, даже если зовутся они Михаил и Анастасия, а их ребенку. Тому «чаду непорочному», которое у них родится. Только оно сможет ее прочесть. А догадываетесь, почему? Сейчас попытаюсь объяснить. Чтобы понять любое слово, надо знать язык, на котором оно произнесено или записано. Язык любви, которым с нами говорит Бог, люди не слышат и не понимают. Книга может научить этому. Вовсе не значит, что в мире, где царит любовь, нет места злу. Его предостаточно. Вот вы, Ася, уверены, что в душе у вас царит порядок и зло не угрожает любви? Например, вы носите в себе обиду на свекровь, на землю, где родились…
– Доктор, а вы правда думаете, что у меня есть шанс зачать и родить? Я совершенно растеряна. Мы говорим сейчас о вещах, безусловно, интересных, но я не очень понимаю, как это связано с возможностью стать матерью.
– Отвечу. Не знаю, почему так случилось, но вы с Михаилом, возможно, станете родителями того самого «чада непорочного», которому суждено прочесть книгу. Не удивляйтесь и не пугайтесь, это совсем не значит, что вы родите Мессию. Не об этом речь. При помощи книги вы сможете вырастить нового человека, живущего в полной гармонии с миром. Через него и таких, как он, на Земле воцарится новый порядок – эра любви и благоденствия. На это одна надежда. Возвращайтесь домой, в Россию, найдите книгу. Ваш ребенок родится там, где он сегодня очень нужен. Поспешите.
Мария аккуратно вложила стило в Асины ладони.
Этим удивительным разговором странные события среды не закончились. Вечером Миша вернулся с работы и вдруг сказал за ужином:
– Аська, я знаю, ты Москву не любишь и с мамой Клавой не дружна, но на фирме так складываются обстоятельства, что мне придется туда поехать весной, и, возможно, надолго. Если не хочешь, можешь, конечно, остаться, но я не очень представляю, как буду жить один, без тебя.
– Миша, это невероятно! Я не знала, как начать разговор, чтобы убедить тебя вернуться.
Миша с облегчением вздохнул и обнял жену.
Глава пятнадцатая
Моросило. Москва пахла весенним дождем и мокрым асфальтом. Шуршали шины. Миша приоткрыл немного окно такси, чтобы напитаться этим воздухом. В Канаде воздух был другим, похожим, но другим: вроде бы и асфальт такой же, и дождь, а запаха этого, знакомого с детства, не было. У Аси были свои ностальгические ощущения – аромат молодой тополиной листвы, сладкий, по-настоящему московский. Но вот проехал грузовик, обдав смрадом солярки, и Ася потребовала закрыть окно.
– Послушайте, – обратился Миша к водителю, – давайте не будем торопиться. Поезжайте не очень быстро, проедем через улицу Горького.
– Какое быстро! Вы что, давно в Москве не были? Пробки такие, сдохнешь, пока доедешь. Откуда к нам? – Услышав ответ, водитель улыбнулся, глядя в зеркальце заднего вида: – Канадцы, значит. Тогда поехали кататься, но если застрянем, с вас процент за простой.
Москва, облитая позолотой заходящего солнца, была нереально красивой. Миша и Ася глазели по сторонам, и, несмотря на пробки, настроение у них было замечательное.
– Город, – Ася приложила ладонь к стеклу, – ты меня слышишь? Прости, что не приезжала. Ты красивый, ты сказочно прекрасный, и я люблю тебя.
Через мгновение она чуть не вскрикнула от неожиданности, чувствуя, как нагревается стило. Нащупав его под блузкой, подумала – показалось, просто луч солнца нагрел, так не бывает… Но подсознание твердило – бывает! Просто из мира рационального она приехала в страну, где ЧУДО считается нормой, а те, кто его ждет и в него верит, абсолютно психически здоровы. Чем еще объяснить, что талисман молчал столько лет на чужой земле, и вдруг – нате, пожалуйста, ожил. Может, это она ожила?
Пока Ася рассуждала о метафизике происходящего, солнце быстро скатилось за горизонт. Сумерки сковали город, сделав его тесным и одинаково серым. Реклама, назойливая и наглая, била по глазам неоновым светом. Ася представила встречу с Клавой, и настроение сразу испортилось, но она тут же вспомнила, о чем говорила Мария, и дала себе зарок – не раздражаться, попробовать поладить с Клавой. Вообще-то она не могла припомнить случая, чтобы они нормально поговорили. Полностью ли это Клавина вина? Может, права Мария и давно надо привести душу в порядок? Странно ведь получается: абстрактный ближний, которого ты готова возлюбить, молясь перед образами и слушая проповеди, никаким образом в сознании со свекровью не соотносится. Да, та еще христианка…
Мише она так и не объяснила причину своего внезапного желания ехать. Поразмыслив, она сложила в голове все звенья: Мишин дед, умирая, сказал: «Книга, стило, елка», а вовсе не «стекло» и «полка», как послышалось Мишке. Книга наверняка зарыта под елкой на даче, ведь недаром приснился ей тот сон с царевной, но Мише лучше об этом пока не говорить – подумает, что совсем головой поехала.
Незнакомая консьержка улыбнулась:
– Граве? Знаю, знаю, Клавдия Васильевна предупреждала. Ну, проходите, иностранцы. Небось погулять приехали? – произнесла она слегка пренебрежительно.
– Так я всю жизнь гуляю, – откликнулась Ася. – Вот как родилась, все остановиться не могу. Очень, знаете, мне это нравится! Но тут вы ошиблись – мы вернулись домой.
– Да идите уж, чего там, – сказала консьержка уже беззлобно. – С возвращением!
Клава и Афанасий к приезду детей осилили ремонт. Все было покрашено и побелено. Старинная мебель, которую Афанасий отреставрировал своими руками, чинно стояла у стен, поблескивая свежим лаком; наборный паркет, редкий по красоте, также был подновлен и отполирован. Клава набила холодильник, купила все, что могло пригодиться на первых порах в хозяйстве, и собиралась уехать с Афанасием на дачу.
Звонок отозвался незнакомой трелью. Миша и Ася переглянулись, решив, что не туда попали, но в тот же момент послышалось:
– Афанасий, скорее! Дети приехали, открывай!
Сама она, пошатнувшись, схватилась за дверной косяк, ноги от волнения совсем не держали.
Афанасий отворил дверь и раскрыл объятия, а Клава осела на стул в прихожей.
– Мишенька, Ася, ну что же вы не позвонили из аэропорта, – раскудахталась она. – Я сейчас, я сейчас. Надо же на стол накрыть. Афанасий, ну что ты стоишь? Я же приготовила все.
Клава порывалась встать, но ноги не слушались. Она заплакала. И в этот момент Ася поняла, что больше не злится на эту хамоватую и недалекую женщину, что жалеет ее и эта жалость валит ее на колени.
Присев на корточки перед Клавой, она легонько погладила подагрические руки, потом попыталась ее поднять:
– Ну, что вы, Клавушка? Не плачьте. Мы вернулись. Теперь будем всегда вместе. Давайте помогу вам. Посидим, чайку попьем. Соскучилась по вашему чудному варенью с клюковкой.
Клава еще больше разревелась, чмокнула Аську в макушку и тихо сказала:
– Пойдем, доченька.
Так уж случилось, что ни в один из своих приездов в Москву Миша ни разу не побывал на даче. Теперь им с Асей пришлось перевозить туда стариков. Они набили багажник всем, что могло понадобиться для летнего сезона, а для Клавы с Афанасием вызвали такси.
По дороге каждый вспоминал свое: Ася – молоко с клубникой у печки и Мишкины поцелуи, Миша – свои великие детские открытия, вроде лисьей норы или выпавшего из гнезда птенца. Вдруг Ася задала вопрос, который Мишка никак не ожидал от нее услышать:
– Миш, а помнишь, что перед смертью дед сказал?
– Конечно помню. А чего это ты вдруг?
– Надо. Ты скажи, а я объясню.
– Ну, что-то про книгу, стекло и полку какую-то. А что?
– Так это не стекло и не полка, а СТИЛО и ЕЛКА!
– А при чем тут стило?
– Так оно на мне. Доктор, что Софию лечила, сказала, что ребенок у нас не родится, пока в Россию не вернемся и пока не соединятся стило с книгой. Понял?
– Честно? Нет. Твой талисман, значит, стило? Понятно. А где книгу взять?
– Где стило, там и книга. Под елкой она закопана, я уверена. Мне сон такой однажды приснился. Давай проверим.
– Согласен, давай. Я и сам иногда о дедовых словах думаю. Ясное дело, он хотел тогда что-то важное сказать, только не смог внятно объяснить. Хочешь, начнем раскопки прямо сегодня ночью? Пусть старики улягутся, чтобы вопросов лишних не было, а мы лопату в руки и клад раскапывать. Эх, люблю я это дело – всякие тайны, клады, загадки. Интересно, что это за книга? А вдруг в ней золото-брильянты спрятаны? Знаешь, как бывает – сверху вроде книга, а внутри тайник.
– Детский сад! Миша, сколько тебе лет? При чем тут стило тогда?
– Оно ключ к замку!
– Фантазер! Миша, смотри, смотри, Лесной городок изменился как!
Дачная местность, много лет именуемая «Лесным городком», теперь могла так называться лишь с большой натяжкой. Скорее это был «новорусский городок». И куда только делись простенькие домики, утопавшие в яблоневых садах? Теперь с двух сторон за высокими глухими заборами стояли навороченные «дворцы» из красного кирпича. Невдомек было хозяевам, что испокон веков красный кирпич на Руси покрывали цветной штукатуркой, а иначе дом считался недоделанным. Среди всех этих «дворцов» старую дачу Степановых и разглядеть было трудно.
Заполненная доверху машина ребят следовала за такси. Они старались угадать, какой из домов – их, выискивая глазами хорошо знакомый ориентир: большую треугольную красавицу елку у входа. Но такси заехало на участок, где не было никакой елки. Ни большой, ни маленькой – никакой. Вместо нее рядом с обветшалым домом они увидели фундамент и незаконченные стены пристройки наподобие гаража. Ася не могла поверить глазам. Она словно окаменела, ей даже выходить из машины расхотелось, зато Миша вылетел пулей и налетел на Клавдию:
– Мам, что за дела? А елка где? Что вы тут строите?
Клавдия удивилась, что он вспомнил про елку, и махнула рукой куда-то в глубь сада.
– Забыла тебе сказать, сейчас познакомлю. У нас тут спаситель наш, Вовка, развернулся вовсю. Помнишь сарай, где отца нашли? Так снесли мы его, а Володя теперь тут строит новый, большой. Да и гараж тоже будет. Вам подарок. Я парня пустила полгода как. Просто пожить и за домом присмотреть, он на заработки в Москву приехал. Не поверишь, такой хозяйственный оказался, золотые руки. Шумный, правда, и на мотоциклах повернутый. Друзья у него тоже с виду страшные, но добрые, рукастые. Нам, старикам, помощь нужна, одни не справимся, а они за временное жилье хозяйство наше в порядок приводят, да и не сунется никто, а то все растаскивали за зиму. Ворья мелкого развелось, как тараканов.
– А с елкой что случилось? Неужели спилили? Такую красавицу!
– С елкой жуть. Она чуть не погубила нас всех. Не поверишь вот. Когда вы мне сказали, что возвращаетесь, я решила ремонт в квартире сделать и дачу в порядок привести. Володька с ребятами сначала у нас дома работал, а потом я его на дачу свезла. Он стал крышу чинить, красить, сарай латать, и вдруг среди ночи звонит и орет, что елка горит. Молния в нее попала, могло все, к чертовой матери, сгореть вместе с домом. Пока пожарные ехали, сам тушил, не дал огню на дом перекинуться. Мы наутро приехали, смотрим, стоит это чудовище – черное, страшное. Она же разрослась на пол-участка, свет закрывала, не пройти, не проехать, даже посадить ничего полезного не могла из-за нее. А тут – бах, и сгорела. А знаешь, как тяжело ее было спиливать? Сколько сил и денежек это стоило… Если бы не Вовка, фиг бы справились. Ты с ним поприветливее. Он на вид вроде как гопота, весь в наколках, морда ящиком, но парень что надо, честный, не хапуга. Володь, слышь, иди к нам! – закричала Клава куда-то в сад. – Мои детки приехали, познакомься.
Парень появился не с той стороны, куда смотрели Клава и Миша, – он вышел из дома, вытирая на ходу руки засаленной тряпкой. Коренастый, крепкий. В черной шапочке, натянутой на лоб до бровей, грязной майке, заляпанной краской. Руки густо покрыты завитушками татуировок, а по шее, ближе к уху, переплелись щупальца то ли осьминога, то ли паука, тело которого брало начало, видимо, где-то в районе предплечья. Вова был небрит, серые глаза холодно, в упор смотрели на Мишу, но рот растянулся в широкой улыбке.
– Тетя Клава, привет! – обнял он за плечи Клаву. – Это, значит, и есть ваши канадцы? С возвращением! Вот дела! Это что ж, в Канаде так плохо, что вы назад побежали? – ехидно поинтересовался он у Миши.
В это время незаметно подошла Ася; она все поглядывала в ту сторону, где должна была стоять елка. Услышав последнюю фразу, она скривилась и поднялась в дом.
– Владимир, вас ведь так зовут? – спросил Михаил.
– Можно Володя, как хотите, – ответил парень, протягивая руку. Миша разглядел на его запястье латинские буквы эмблемы Harley Davidson. – Я тети Клавы квартирант, – добавил он. – Может, по пивку?
Михаил пожал ему руку:
– За предложение спасибо, но не сейчас.
– Да ладно тебе, не тушуйся. Мне тут тетя Клава говорила, что ты вроде как граф.
– А что, не похож? – рассмеялся Миша.
– Да не очень. Так если пиво не будешь, тогда бывай, граф, у меня тут работы невпроворот в твоем имении.
Владимир направился к недостроенному сараю, а Миша, глядя ему вслед, прошептал Клаве на ухо:
– Зря ты, мама, все это затеяла… Мне с ним поговорить надо будет по душам, узнать кое-что.
– Миш, а что узнать-то? – спросила Клава, семеня за сыном, который быстрыми шагами пошел к дому. – Ой, Мишань, неужели ты не понимаешь, время такое, что ни год, дачу грабят. Берут по мелочи, больше рушат и гадят. Вот я его и пустила. Что не так? Ты его не бойся, я сама сначала боялась. Нормальный парень, мода у них такая, наколки эти страшные, но муху не обидит…
Миша уже не слушал ее причитаний, ему хотелось поскорее утешить Асю и рассказать о том, что случилось с елкой. А если книга была под елкой зарыта, то наверняка «квартирант» ее нашел, а значит, не все потеряно.
Ася сидела как каменная и держала руку на груди, будто старалась усмирить боль. Она подняла глаза на Мишу и побледневшими губами произнесла:
– Стило холодное и дрожит все время. Страшно.
– Аська, давай пройдемся, – предложил Миша. – А потом уже с вещами разберемся.
Ветки яблонь в молодой листве были усеяны розовыми бутонами, готовыми вот-вот взорваться. Клубника обильно цвела, кусты сирени, которую так любил дед, покрылись лиловой и белой пеной соцветий.
– Знаешь, что с елкой случилось? – спросил Миша, глядя в сторону, где раньше росло могучее дерево, а теперь была развернута строительная площадка. – Она загорелась от удара молнии в тот самый день, когда мы сообщили нашим, что возвращаемся. Как ты это объяснишь?
Ася остановилась и переспросила:
– В тот самый день?
– Представляешь? Мы днем звонили, а ночью сгорела. Стоит выяснить подробности у этого «байконутого».
– У кого?
– У Вована. Он байкер, ну и гастарбайтер по совместительству. Откуда приехал, не знаю, ремонт на Котельниках делал, потом мать сюда его притащила. Попросила дачу привести в порядок, а теперь вот и пристройку сделать. Живет уже тут полгода.
– А когда Клава ему сказала, что мы возвращаемся?
– Вот мне бы тоже хотелось восстановить хронологию событий. Может, и не молния это, а хитрый план: на месте елки пристройка, где можно жить, заодно и гараж соорудить для мотоцикла. Видела? Вон там, за углом, его железный конь стоит. «Харлей», правда, старый, но штук на десять потянет. Для бездомного недешевая игрушка. Он уже себя тут хозяином почувствовал, и вдруг на тебе – детишки какие-то. Не нравится мне все это.
– Значит, зря мы вернулись? Книгу теперь не найдем, все напрасно.
– Ася, ты меня пугаешь. Даже если мы бы нашли под елкой какую-то книжку, это ничего не значит. Ты уж очень близко к сердцу приняла слова докторши. Я боюсь одного: если твоя мечта о ребенке не исполнится, ты у меня окончательно скиснешь.
Ася молча взяла его руку и приложила к своей груди:
– Чувствуешь, как оно дрожит? Проснулось, как только приземлились, а теперь просто бешеное, но все холоднее и холоднее, как лед.
– Ничего не чувствую. А сердечко твое колотится, это точно. Успокойся, ладно? Обещаю, что поговорю с ним. Денег захочет – дам. Скорее всего, когда елку выкорчевывали, именно он книгу нашел, если она вообще там была.
Тем временем Афанасий разжег печь, чтобы согреть дом. Стол накрыли на веранде – там было светлей и уютнее. Афанасий подложил под входную дверь колышек, чтобы тепло от печки шло к ним, неся с собой волну летних ароматов: по углам были развешаны душистые пучки лаванды, чабреца, ромашки и мяты. Прогревшись, дом наполнился пряным духом, ожил, разомлел. На столе гудел электрический самовар, румянились плюшки, прозрачным янтарем с гранатовыми каплями светилось Клавино варенье из яблок и клюквы, Мишино любимое. Чай получился необыкновенно вкусным. Много лет назад дед Михаил вырыл на участке артезианскую скважину, и за водой, какой-то особенно мягкой, к ним частенько приходили соседи.
– Народ, у меня, кажется, кислородное отравление, просто засыпаю, – зевнул Миша после третьей чашки чаю.
– И то правда, соснуть вам не мешает. У вас в Канаде сейчас ночь давно. Ну-ка, марш спать, – скомандовала Клава. – Ваша комната так и стоит нетронутой, а в угловой, где дедов кабинет был, теперь Володя обитает. Вот закончит пристройку и туда переберется.
– Ты решила его усыновить? – язвительно поинтересовался Миша. – Если хочешь знать мое мнение, то я против.
– Я так и знала, что он тебе не понравится. А если хочешь знать, Володя – хороший человек, заботливый, православный. В храм по воскресеньям ходит, почти не пьет, не курит, книжки религиозные читает. Сказал, что, может, даже пойдет на священника учиться, а ты сразу в штыки. Афанасий, ну скажи, я ж не вру…
Афанасий кивнул и хлебнул чайку. Миша подумал и вдруг неожиданно ляпнул:
– А ваш «святой» книжечку, которую под елкой нашел, небось прикарманил. Не в курсе?
Клава и Афанасий переглянулись.
– Ты про ту тетрадку, что под елкой в ящике лежала? – спросил Афанасий. – Так она у меня где-то валяется. Там записи какие-то мудреные. Мы с Володей читали, ничего не поняли, там про знаки какие-то, буквы… Похоже, бабка твоя, Анастасия, писала. Она же умом тронулась. Ну, сам знаешь – с обрыва прыгнула. Так вот, это вроде как дневник ее, только путаный какой-то. А книги никакой не было, только эту тетрадку Володя нашел.
– А ты там был, когда он ящик откопал?
– Нет, а чего бы он стал книгу прятать? Что в ней такого?
Клава встряла в разговор, стараясь найти оправдание Володе и закрыть тему:
– Твой отец тоже все какую-то книгу искал. Подслушал, как дед с тобой говорил перед смертью, да и пошел ночью копать. Это я только потом поняла. Как всегда, нажрался и ногу себе разрубил. А что оказалось? Вместо книги – тетрадка дурацкая. Вот и вся история.
Миша посмотрел на Асю – ее невидящий взгляд был устремлен куда-то поверх голов, лицо вытянулось, под глазами залегли темные тени. Ему стало невыносимо жаль жену.
– Так, а давайте-ка еще раз вспомним, как все было. Октябрь прошлого года, так? Я позвонил тебе, мама, и сказал, что мы приняли решение вернуться. Дальше? Где вы были в это время? Случайно, не на даче?
– Точно, на даче, – удивился Мишкиной прозорливости Афанасий и добавил: – Только я один, без Клавдии. Мы с Володькой и его другом Серегой решили наш старый сарайчик снести: крыша обвалилась, всё думали, как бы новый соорудить. На том месте, где старый стоял, считай, оползень из-за артезианской скважины, а больше ставить негде. Тут елка эта поперек дороги – пол-участка заняла. Ходим, думаем, меряем, а тут вдруг Клавдия звонит и прямо рыдает в трубку от счастья.
– Ты, конечно, сразу об этом рассвистел Вовику.
– Конечно, ну как же? Он же рядом был. Мы и выпили на радостях по чуть-чуть.
– А потом ты уехал, и ночью загорелась елка.
– Да. Гроза была страшная, совсем как летом. Октябрь стоял сухой, теплый, и тут на тебе…
– Не верю. Какая молния? Кто видел? Ваш «квартирант» сам эту елку поджег. Сообразил, что в одном доме не уживемся, а он тут вроде охранника и садовода и еще бог знает чего. Подумал, можно соорудить типа служебного помещения, а где поставить? Только на месте елки, больше негде. Да и вы были бы рады от нее избавиться, он это понял. Все правильно. Потом, когда пришлось что-то делать со сгоревшей елкой, копнул землю, чтобы пень выкорчевать, и наткнулся на ящик. Странно, что он вообще об этом рассказал, тетрадку передал. Мог бы и промолчать.
– Так он же не один копал, попробуй такую махину сам спилить и пень толстенный вытянуть. Сначала ему Серега помогал, но куда там… Пришлось бригаду нанять из лесхоза, денег угрохали, – с обидой сказала Клава. – Ребята видели ящик этот, рассказали, что не открывался поначалу, а Володя с Серегой его в дом понесли, там мудрили что-то с замком. Когда открыли, оттуда эту тетрадку и достали.
– То есть, когда вскрывали, никого из вас рядом не было? Что и требовалось доказать. Заныкал ваш «квартирант» книгу, как пить дать. Афанасий, можешь принести тетрадку с бабушкиными записями? Не выбросил? Нам с Асей это очень важно, а про книгу я сам с вашим Вовиком потолкую.
Афанасий задумался, кряхтя поднялся и ушел в глубь дома. Клава всем видом выражала недовольство: поджав губы, принесла тряпку и стала протирать стол, бухтела, что лучше бы шли спать, а не ерундой занимались.
К счастью, Афанасий появился неожиданно быстро. В руках – голубенькая школьная тетрадка, вся в желто-серых пятнах плесени, казалось, вот-вот распадется. Ася ойкнула и схватилась за грудь. Отдышавшись, перекрестилась и стала повторять как заведенная: «Господи, помилуй…» Клава с удивлением уставилась на невестку и на всякий случай тоже перекрестилась, сплюнув через левое плечо. Миша обнял жену, что-то шепнул ей на ухо, она тихо ответила: «Стило жжет…», но ни Клава, ни Афанасий ничего не поняли.
Тетрадку ребята унесли в свою комнату. Дремоту как рукой сняло, но они решили лечь и согреться под одеялом. В кровати открыли тетрадку.
– Знаешь, – призналась Ася, – доктор Гановски показывала мне фотографию своего деда, профессора Вяземского, в окружении учеников. На этой фотографии была Анастасия, твоя бабушка. Ты похож на нее: та же улыбка, глаза. Я узнала, что профессор всю жизнь искал загадочную книгу, а нашла книгу его ученица – Анастасия Трепцова. В этой книге заключена какая-то тайна, то ли знак, то ли пророчество о судьбе России. Есть сведения, что она из библиотеки Ивана Грозного и принадлежала его первой жене Анастасии, а к ней пришла от самой Богородицы.
– И ты веришь этим сказкам? Нет, я вполне допускаю, что книга может иметь научную ценность, но про Богородицу – это что-то из разряда поповских баек. Ну, прости, ты обиделась? Не буду. Давай посмотрим, что бабушка писала. Эх, как же нам у этого поджигателя книгу вытрясти? Тетрадка – доказательство, что она у него. Знаешь, а я помню, как дед рассказывал про знакомство с бабушкой. Она работала в Историческом музее и всю жизнь занималась лингвистикой, изучала древние языки. Интересно, что она пишет…
Через недолгое время ребята поняли, что ничего не поняли, слишком уж обрывочны и непонятны были записи. Похоже, книга, которую изучала Анастасия Николаевна, была написана неизвестным ей языком, найти разгадку не удалось, но Ася обратила внимание на одну странную фразу: «…книга и стило – одно целое, они придут во взаимодействие, и текст откроется, имена имеют значение, но прочтет тот, кому только суждено родиться…».
Она подскочила на кровати:
– Ты понял? Книга и стило – это одно целое! У нас есть стило. Нужна книга, а прочтет ее наш ребенок. В ней, может быть, какой-то рецепт зачатия, может, какое-то заклинание… Теперь понятно?
– Не совсем. Вся эта мистика вокруг книги только ради того, чтобы у нас родился ребенок? Это уж слишком. Сама посуди. Кто мы такие? Смотри, тут рисунок – треугольник в треугольнике. Покажи-ка еще раз свою железку… Ну да, острие точно такой формы. Значит, надо искать еще один треугольник. Скорее всего, он в книге.
– Миша, а что это значит? Может, это и есть ключик?
– Если бы так, то бабушка смогла бы разгадать сама. Она тут пишет про стило, что оно «живое». Ну, как ты тоже любишь говорить. Значит, оно то самое, которое у нее было. Но почему-то у нее эта схема не срабатывает. Вопрос: как стило могло к тебе попасть? Вот из последних записей ясно, что оно исчезло, что бабушка в панике, а дальше все бредовее и бредовее, про каких-то демонов и врагов книги, которых она почему-то называет своими мужьями, сыну заодно грозит геенной огненной… Жуть какая-то, на ночь лучше не читать. Давай пока успокоимся, поспим. Завтра потрясем нашего библиофила, если он только не загнал эту книгу по дешевке какому-нибудь любителю антиквариата. Ну, не грусти, найдем, обещаю. Мне теперь и самому интересно. Люблю ребусы разгадывать. Спи.
Глава шестнадцатая
Под утро Мишу разбудило тарахтенье мотоцикла, судя по шуму – не одного. Слышались возбужденные голоса, перебранка. Он подбежал к окну и увидел двух парней в косухах, восседающих на железных конях. Один из них был Вова, другого Миша не знал. Этот другой, что-то прокричав, резко рванул с места, Вова погнался за ним. Миша чертыхнулся и вернулся в постель. Ася спала, а ему расхотелось. Он вышел в коридор, постоял немного и направился в сторону угловой комнаты, где теперь квартировал Вова. Дверь была не заперта, даже слегка приоткрыта – видимо, хозяин очень спешил. Увидев в щелочку, во что превратился дедов кабинет, Миша, не раздумывая, переступил порог.
На стенах висели глянцевые картинки свирепых байкеров, восседающих на мотоциклах, с постеров скалились черепа в крылатых касках, над кроватью красовалось распятие, вставленное в стилизованное мотоциклетное колесо, по краю которого было написано яркими кроваво-алыми буквами: «Forgive & Forget. Everyone crashes. Some get back on. Some don’t. Some can’t»1.
1 Простить и забыть. Кто-то разобьется. Некоторые вернутся, другие – нет. Кто-то вернуться не сможет (англ.).
В углу комнаты стоял дедушкин письменный стол, заваленный всякой дребеденью, грязными тряпками, бутылочками с краской, аэрозолями. Теперь он выглядел здесь чужеродным, гнутые ножки и медные вычурные ручки были совсем из другого времени.
Миша вспомнил, что в столе есть потайной ящик, который запирается специальным замком с секретом, но этот секрет Миша подсмотрел еще в детстве – надо было прижать встроенную чернильницу на столе, повернуть ее по часовой оси до воображаемой цифры 7, потом вернуть назад крутящийся механизм, и ящик сам выдвигался. Он глянул в окно – на горизонте Вовы не наблюдалось – и, не раздумывая, подошел к столу. На месте чернильницы зияла воронка, ящик не выдвигался. Миша попробовал отпереть его силой, но безрезультатно.
Быстро обшарив все небольшое пространство комнаты и убедившись, что книги в ней нет, Миша направился к выходу, не сомневаясь, что Вова прячет ее в столе, хотя, кто знает, может, давно сплавил кому-то по дешевке.
Вернувшись в комнату, он заметил, что Ася ворочается в полусне и вот-вот проснется. Он тихонько прилег рядом, хотел обнять ее и согреть, удерживая в коконе сна, но Ася вдруг проснулась и резко села, словно вынырнула на берег, тяжело дыша.
– Что случилось? – тревожно спросила она. – Почему ты не спишь?
Миша рассказал о своем походе в комнату Вовы.
– Пошли сейчас же! – скомандовала Ася, вскакивая.
Миша хотел отговорить ее, но она, не слушая его доводов, как была, в одной ночной рубашке, рванула в коридор. За окнами послышался рев мотоцикла, и Миша побежал за Асей, пытаясь ее остановить.
Через проем двери дедова кабинета он увидел, как жена, схватившись за грудь, со стоном рухнула на пол; до потайного ящика она так и не дотянулась.
Следом за Мишей в комнату зашел Вован и с ходу прыгнул к столу, загораживая его телом; на лежавшую без сознания Асю он и внимания не обратил. Сжимая кулаки, гаркнул:
– Что вы тут делаете? Кто разрешил входить? Слышь, ты, граф, пошел вон, и припадочную свою унеси. Тут я хозяин. Документики показать? Старики небось побоялись тебе рассказать, а может, склероз? Ты дачу им подарил, забыл? А они мне половину отстегнули. Все по-честному. Так что уматывай, ты вообще тут никто. Нечего в моих вещах шарить.
Миша пытался привести в чувство Асю, которая стонала и пыталась стянуть с шеи ремешок. Крики Вовы он пропустил мимо ушей, но кое-что осталось в сознании, а главное, он понял, с каким гадом имеет дело. Подхватив Асю на руки, пошел к выходу, бросив Вовану на ходу:
– Заткнись, поговорим позже…
Вова хотел было ответить, но осекся, заметив, что на Асиной шее болтается диковинная палочка. Он протянул руку, чтобы сорвать ее, но в последний момент остановился. Это было то, без чего книга не имела смысла. Тетрадку с записями он изучил досконально.
Миша осторожно положил на кровать еле дышавшую Асю. Она очнулась и теперь пыталась стянуть с шеи стило, чуть не рыдая. Миша не мог понять, что происходит: он не чувствовал ни жара, исходящего от талисмана, ни холода, несмотря на Асины слова. Распутав перекрученную ленточку, на которой висело стило, осторожно снял его и положил на стол.
– Мне страшно, – сказала Ася, глядя на свой талисман. – Стило меня чуть не убило. Это был разряд тока, клянусь. Только протянула руку к ящику стола, как меня насквозь прожгло, а в голове голоса и видение: опять старуха черная и царевна, как в детстве. Книгу видела, она там, в столе, я уверена. Пойдем к Володе, извинимся, попросим отдать. Если надо, заплатим, пожалуйста.
– Асенька, успокойся. Мы обязательно добудем книгу, обещаю. Но давай я сам с ним поговорю. Ты лежи отдыхай, а стило пока не надевай. Не трогай его. Поспи, ты вся дрожишь. Давай укрою тебя потеплее. Я пойду сейчас к нему и денег дам, сколько попросит. Ты, главное, ничего не бойся.
Он вышел в коридор. Из комнаты стариков доносился двухголосый храп. Видимо, канадские беруши, которые он привез им в подарок, работали безотказно: никто не проснулся, несмотря на шум. Дверь в кабинет, теперь уже в прошлом дедов, а теперь Вовин, была заперта. Миша постучал – без ответа. Он потоптался, еще раз постучал и негромко потребовал: «Эй, открой, слышишь, поговорить надо». Никто не отозвался. Миша вышел из дома и попытался заглянуть в окно кабинета, но, несмотря на высокий рост, не дотянулся. Поискал поблизости, что бы такое подставить, и нашел цинковое ведро. Теперь комната была хорошо видна. Володи в ней не было, а ящик стола выдвинут. И тут он чуть не навернулся от неожиданности, услышав с другой стороны дома странный звук – окно хлопнуло? – женский вскрик, топот, а потом треск сорвавшегося с места мотоцикла. Забежав за угол, Миша увидел, что окно их спальни открыто. Ася стояла в ночной рубашке и плакала. Все, что она могла произнести дрожащими губами: «Стило… он украл стило, влез в окно, оно тут лежало…» Миша тут же ринулся за калитку, но мотоцикл был уже далеко.
Будить стариков было жалко – они так сладко спали, но Миша с трудом сдерживал раздражение: как мать могла скрыть про продажу, почему ничего не сказала? Не надо было, конечно, отдавать им дедов дом, но кто знал, что так повернется? Странно, с деньгами у них всегда было в порядке, он регулярно присылал, да и квартиру сдавали… И что же могло заставить их продать этому скользкому типу половину дачи?
Ася выглядела потерянной. Здесь, на даче, началась их взрослая жизнь, и ей казалось, что по углам все еще прячутся призраки прошлого: молоко с клубникой, расползающаяся по швам оленья шкура, кровать, скрипящая под их молодым натиском, но теперь даже эти призраки им не принадлежат.
– Миша, я не хочу тут оставаться, – прошептала, она, отвернувшись.
– Ася, ну вот! А как же мечта, вера в чудо? Теперь уж и у меня никаких сомнений, что в этой книге и в твоем талисмане есть некий тайный смысл, а иначе с чего бы этот фрукт так возбудился.
– Ты не понял, я рада, что мы вернулись. Оказывается, я тосковала по России, все тут родное, мое. Только в этом доме, наполовину чужом, жить не хочу.
– Давай поговорим со стариками. Документов я не видел, этот Вован мог просто соврать. Ему надо было меня поскорее спровадить, деморализовать. Может, все не так.
– Если бы… Только вот ни книги, ни ключа к ней нам теперь не видать.
– Но ведь вернется, куда денется, тем более если он теперь законный владелец половины дома.
В коридоре послышались шаркающие шаги и кашель – старики проснулись. Ася подняла глаза на Мишу и попросила:
– Ты на них сразу не налетай, помягче как-то. Они тут без нас столько лет жили будто сироты. Мы виноваты, я – особенно. Все только о себе думала, внуков не подарила, с кем им нянчиться было? Вот и появился этот парень, они к нему привязались. Вова нас заменил, ты это понимаешь?
– Понимаю, только мутный он какой-то, тот еще гад. Давай пойдем что-то соорудим на завтрак, а там как пойдет. Кофейку бы…
Завтрак как-то сразу не заладился: кофе убежал, оладьи подгорели. Клава и Афанасий были не в духе, зато Ася старалась изо всех сил хозяйничать и угождать свекрови. Миша, дожевав очередной оладушек, не выдержал:
– Мам, чего дуемся, а? Вову не пригласили к столу, так?
– Да уж можно было и пригласить, – буркнула под нос Клава, отодвинув тарелку. – Не по-людски как-то получается. Что плохого он вам сделал, не пойму.
– А ты в окошко глянь: где твой постоялец? А нет его, сбежал. Украл книгу и Аськин талисман, да еще обхамил, хорошо хоть руки не распустил, и тю-тю… Ищи-свищи. Мы тут с раннего утра имели счастье тесно пообщаться. Может, знаете, куда он мог умотать? И заодно растолкуйте, пожалуйста, кто тут теперь на даче хозяин.
Афанасий перестал хлебать чай и вопросительно уставился на Мишу, зато Клава с полоборота завелась:
– Мы тут хозяева, мы! А вы – гости. Кто вас знает, может, через пару дней опять захотите уехать. Где теперь ваш дом, родина, сами не знаете, перекати-поле какое-то. Здесь плохо – туда поехали, там плохо – сюда, эх!
– Не надо мне уроки патриотизма давать, хорошо? – разозлился Миша. – Ты лучше скажи, правда, что вы продали постояльцу половину дома? Он тут грозился документы предъявить.
Афанасий не выдержал:
– Клава, какие документы? Мы же все остановили! Ребятушки, как только узнали, что вы возвращаетесь, так решили повременить. Клавушка все радела за Володеньку, очень уж он славный, заботливый. Он ведь не для себя старался, для церкви нашей и для деток. С батюшкой посоветовались, хотели даже всю дачу для церковного приюта отдать – деткам-сиротам. При храме нашем приют есть, но деток все больше, места уже не хватает. Нам, старым, уже тяжело было управляться одним с дачей этой. Володька взял бы на себя все хозяйство, а мы бы летом приезжали на свою половину, даже половины не надо – так, комнатку одну. Зато детишкам какое раздолье! Мы документы подготовили, только вот остановились, а вдруг вы и вправду навсегда вернулись, вдруг Бог вам деток даст, а нам внуков, вот тогда вместе с вами будем тут доживать. И сироток не обидим, еще один домик построим для них. Вы не волнуйтесь – как скажете, так и будет. Это Володя в сердцах, наверное, про документы сказал. И украсть он ничего не мог – не такой человек. Что вы с этой книгой заладили. Не было никакой книги. А талисман Асин надо поискать, может, закатился куда…
Миша вышел, хлопнув дверью, но быстро вернулся с тетрадкой в руках. Все молча сидели за столом, не глядя друг на друга.
– Афанасий, ты же умный человек, – сказал Миша с порога, протягивая тетрадь. – Наверняка сам хотел понять, о чем тут написано, и Володя ваш старался. Он понял прекрасно, что книга не простая, в ней есть тайна, тут даже намек имеется: пророчество о судьбах государства Российского. Ничего себе инфа! Да за такую кто хочешь душу продаст. И что важно – невозможно эту книгу прочесть без Аськиной палочки-выручалочки, без ее талисмана. Кто вообще мог представить, что это и есть ключик к разгадке? Хотя непонятно, почему бабушка не смогла прочесть, ведь у нее были и книга, и стило…
Клава кисло усмехнулась:
– Твоя бабка того, умом тронулась совсем, а талисман этот, или, как ты сказал, стило, твой отец выкрал у матери да в комиссионку отнес, чтобы кольца обручальные купить. Ради меня старался, а от деда твоего, как же, дождалась бы. Он со своим графским гонором меня в грош не ставил. Мне потом отец твой всю эту историю рассказал: как книгу хотел сжечь, когда ребенком был, и как сам чуть не сгорел, а книге этой хоть бы что; как украл талисман, а мать заболела и с обрыва бросилась. А вот когда Татьяна Аську нашла, то эта палка уже на ней болталась. Дед как увидел, так чуть дара речи не лишился. Может, с того момента и решил, что вас поженить надо, что это знак какой… Я вам вот что скажу – даже если Володя и взял все это, то не для плохого. И поехал наверняка в наш храм, к батюшке Илье. Батюшка наш – сын отца Нестора, который твоего папу собирался крестить, да не сложилось. Дед Михаил потом Нестора нашел и тебя окрестил, но шито-крыто, так, чтобы никто не знал. Мы вот теперь с батюшкой Ильей как родные. Он тоже как-то про книгу и стило спрашивал. Наверное, от своего отца узнал, а тот от нашего деда…
– От Володьки вашего он узнал – вот от кого. Не дурак парень, книгу придержал, в дедовом столе припрятал, а попутно все у вас выспрашивал, узнавал что и как. Значит, думаете, он в церковь поехал, к попу этому, как его?
Ася нахмурилась, хотела было что-то сказать, как ее опередила Клава:
– Во-первых, не смей говорить с пренебрежением. Не к попу, а к батюшке Илье. Хотите, можем съездить, там и разберемся с вашими фантазиями. Зачем вам сдалась эта книга, не знаю, но беды она много наделала. Дед ее жуть как боялся, и если действительно закопал, то не зря. А ты, Ася, пойди поищи хорошенько побрякушку свою, прежде чем человека хорошего обвинять.
– Клава, на моих глазах это было. Он в окно влез, напугал до смерти. Стило на столе лежало. В одно мгновение умыкнул, я только закричать успела.
Афанасий покачал головой:
– Не нравится мне все это. Тут к Володьке его дружок Серега повадился, все чего-то требовал. Может, Володя задолжал ему или еще что? Последнее время он сам не свой был – нервный, неулыбчивый. Не случилось бы какой беды. А давайте-ка действительно в храм съездим. Узнаем, был ли Володя там сегодня.
– Хорошая мысль, – ответил Миша. – Все едем?
Женщины закивали, Афанасий обрадовался и тут же пообещал Асе, что она не пожалеет о такой экскурсии. Ася улыбнулась:
– Дорогой Афанасий, я в церковь на экскурсии не хожу.
– О чем вы? Аська чаще в церкви, чем дома, бывает, – съязвил Миша. – Ладно, Асюха, не сердись. Так что, дорогие, она вас еще всяким церковным заморочкам поучить может. Поехали!
Глава семнадцатая
Машина то и дело подскакивала на разбитой дороге. На горизонте небо темнело, наливаясь грозой. Уже накрапывал дождик, рискуя перерасти в полноценный ливень. Клава озиралась по сторонам, прислушиваясь к едва слышным раскатам грома и утираясь мокрым от пота носовым платком. Ехать было недолго, каких-то пару десятков километров, но она как заведенная твердила: «Может, вернемся? Сейчас как ливанет, застрянем ведь…» Чтобы разрядить обстановку, Афанасий начал рассказывать Асе историю храма.
– Асенька, ты глянь направо. Вот, через лесок, присмотрись, купола видны зеленые. Как ближе подъедем, увидишь, какая красота: стены белоснежные, кресты золоченые. Недавно новые колокола привезли. Звон такой, сердце замирает. Храм наш, считай, заново построен, но на старом месте. Раньше там стояла церковь, которую чуть ли не при первом Романове поставили. Чего только с этой церковью не делали: и в огне горела по неосторожности, а потом вандалы большевистские с умыслом жгли; и вода ее затопила, когда какие-то монтажные работы неподалеку вели; и грабили ее, устраивали всякие склады, даже скотину там колхоз держал… Но возродилась, красавица. Второй десяток лет пошел, как всем миром стали поднимать. А батюшка наш, Илья, герой просто. При храме и школу воскресную организовал, и теперь вот приют. Дай Бог ему здоровья.
– Афанасий, а сколько детей в приюте? – спросила Ася и добавила: – Малыши?
– Да нет, не только. Разных возрастов, ребят уже сорок, наверное. Больных много появилось. Страх господний, как такое пережить? Смотришь на них, и стыдно, что живешь: руки-ноги на месте, глаза видят, уши слышат, язык ворочается, а еще недоволен чем-то… Только бы батюшка на месте был, когда приедем. Он у нас хоть уже крепко немолодой, но активный очень, все сам.
Когда они подъехали к храму, погода совсем испортилась. Ася попыталась разглядеть церковь сквозь струйки дождя, лупившие по лобовому стеклу, но видела только светящиеся белоснежные стены на фоне грозового неба, которое вдруг ярко вспыхнуло и с грохотом обрушилось на землю. Клава охнула, перекрестившись. Асе и самой показалось, что крест на одном из куполов принял на себя удар молнии.
Майская гроза грохотала под завывания ветра, сначала не давая им выйти из машины, а потом выворачивая зонтики в руках. За пару минут, пока добежали до церкви, промокли насквозь. В притворе Афанасий и Клава сразу разговорились с милой женщиной из церковной лавки, которая протянула им бумажные полотенца; на вопрос Клавы, на месте ли отец Илья, она ответила, что батюшка собирался уехать, но гроза остановила.
Ждать пришлось недолго. Отец Илья вышел, приветливо улыбаясь промокшему семейству. Он был уже глубоко пожилой человек, но крепкого телосложения, почти что военной выправки. Миша отметил забавное сходство между стариками: Афанасием и батюшкой, Клавой и женщиной, торгующей свечами. У всех на лицах было какое-то особое, не повседневное выражение – то ли от напускной серьезности, то ли еще от чего, он не мог объяснить. Может, и у Аси такое же? Он посмотрел в ее сторону. Голова жены была покрыта легким газовым шарфиком, глаза были счастливые, а на губах, впервые за эти дни, он заметил улыбку.
Без особых церемоний батюшка пригласил всех пройти в трапезную, согреться чаем. Ася хотела подойти к иконам помолиться, но Миша шепнул ей на ухо:
– После успеешь, сейчас надо побыстрее разузнать, когда Володя последний раз тут был и что Илья знает про книгу. Ты уж прости, пойдем с ними, а потом вместе помолимся.
Ася с удивлением уставилась на него:
– Неужто? Прямо вместе и помолимся?
– Асенька, шучу, конечно, но ради тебя на все… – Он увлек ее за собой.
Очень скоро из разговора с батюшкой стало ясно, что Володя сегодня в церкви не появлялся, и не только сегодня – оказывается, его тут не было уже больше месяца. Чем это объяснить, отец Илья не знал, но высказал предположение, что Володя мог впутаться в неприятную историю со своим новым другом Сергеем. Почему он так думает? Да просто отцу Илье показалось, что Володя боится своего товарища или в чем-то очень от него зависим. Перестал исповедоваться, причащаться, а теперь и вовсе в храм ни ногой.
– Батюшка, – не выдержал Миша, – а не было ли у вас разговоров о старинной книге, которую Владимир раскопал на нашем участке?
Отец Илья удивленно посмотрел на Мишу:
– Как раскопал? Кто?
– Вот видите, вы даже не спрашиваете, о какой книге речь, – заметил Миша. – То есть вы знаете, что Володя нашел старинную книгу, но не понял ее значения, поскольку не мог прочесть, так? Но вы-то знаете, о чем идет речь, и, скорее всего, видели ее.
Батюшка покачал головой, он явно был взволнован.
– Ох, если бы я мог ее увидеть, если бы мог понять, что это та самая книга, которую все ищут и ждут часа, когда откроется ее тайна… – Он задумался, потом внимательно посмотрел на Мишу: – Это не просто книга – это священное СЛОВО Господа о нас, о нашей земле и государстве. Каждому народу в свое время приходит такое послание свыше, и народ становится сильнее. Вместе с этой книгой рождается новый человек, способный усвоить Божественную грамоту. Теперь она появилась в России, появилась и пропала. Многие ищут ее и, казалось, находили что-то похожее, но у этой книги есть один секрет – вместе с ней должно быть найдено стило, на котором стоит знак, открывающий тайну. Володя действительно рассказывал о странной книге, но про стило не обмолвился ни разу.
– Ну да, – воскликнул Миша. – Так ведь он только сегодня его украл! У Аси стащил – то самое стило, не сомневайтесь. Книгу наш дед Михаил закопал вместе с бабушкиным дневником, в котором она вела записи о своих догадках. Вот тетрадь, смотрите.
Отец Илья бережно перелистывал ветхие страницы, его пальцы все сильнее дрожали.
– Невероятно, – очнулся он. – Похоже, это та самая книга. Но как? И почему стило оказалось у вас?
– Долгая история, – ответил Миша, пресекая попытку Клавы вмешаться с объяснениями. – Давайте лучше вместе подумаем, где искать этих двоих. Сегодня утром Сергей приезжал к Володе. Я был свидетелем их ссоры. А потом Володя залез в окно и выкрал Асин талисман, который и есть то самое стило. Вот только сомнительно, что они смогут прочесть хоть строчку. Бабушке нашей не удалось, а ведь она была известным языковедом.
Отец Илья с озабоченным видом вынул из кармана рясы зазвонивший айфон и кликнул по экрану. Миша усмехнулся, подумав, что научно-технический прогресс и тут не дремлет. Батюшка извинился, попросил подождать и вышел из трапезной, разговаривая на ходу. Семья сидела молча, и вдруг за спиной у Аси раздался мяукающий звук; все повернулись, думая, что это кошка, но вместо кошки увидели девочку лет пяти. Лицо ее было обезображено страшной паралитической гримасой, из угла рта подтекала слюна, и только большие, почти круглые глаза василькового цвета были по-детски живыми и сияющими. В глазах застыло любопытство. Девочка пыталась что-то сказать, но у нее не получалось.
Ася вскочила и присела перед ней:
– Хорошая моя, что случилось? Позвать кого-то? Батюшка сейчас вернется.
Девочка обхватила Асину шею и прижалась щекой к ее щеке. У Аси перехватило дыхание. Синие глаза-пуговицы оказались совсем рядом. Малышка внимательно изучала Асю и вдруг провела указательным пальчиком по ее лицу. На пальчик налипла Асина ресница.
– Видишь, ресничка, можно загадать желание, – сказала Ася. – Давай ты его загадаешь. Твое желание – на мою ресничку. Как тебя зовут?
Девочка невнятно произнесла:
– Уасся. – А потом добавила: – Ты загуэдавай.
– Тебя зовут Ася? – чуть не подскочила от удивления Ася.
Девочка отрицательно помотала головой.
– Вася? – пошутила Ася, прижимая малышку к себе. – Опять не угадала?
В ответ заливистый хохот и опять:
– Ты заугадывай!
– Хорошо, – согласилась Ася. – Мое желание такое: хочу быть мамой. А твое?
Девочка опять по-кошачьему пискнула, растянув кривоватый рот. Она принялась дергать себя за верхнее веко, густо покрытое длинными ресницами. Ася испугалась, но поняла, что малышка старается вырвать у себя ресничку, хотела остановить, но ребенок уже протягивал на вытянутом пальце сразу несколько.
Еле слышно девочка промямлила:
– Я тоше хоушу маму.
Ася обняла девчушку и расплакалась.
Клава вскочила и побежала искать кого-то из интернатских наставников. Вернулась она быстро – с монахиней, которая причитала, что за Настей нужен глаз да глаз, все норовит сбежать, хоть и еле ходит. Она подхватила девочку на руки, а та сопротивлялась и тянула ручки к зареванной Асе.
Миша, как мог, успокаивал жену, но она не успевала вытирать слезы, льющиеся по щекам, и твердила: «Миша, ее зовут Настя, слышишь? Тезка моя, Настенька! Миша, давай ее заберем! Мишенька, пожалуйста, я нашла своего ребенка, мне уже никакой другой не нужен…» Он обнимал ее, гладил по голове, по плечам, целовал, как маленькую, в макушку. Клава и Афанасий тоже всхлипывали. Вернувшийся батюшка так и застал всех в слезах. Он стоял в задумчивости и долго не мог произнести ни слова, а потом наконец сказал:
– Беда случилась. Погибли два парня-мотоциклиста. Всего пару часов назад, в пятидесяти километрах отсюда. Сильнейший удар молнии. Там сплошь поля открытые, только небольшая лесопосадка у обочины. Они под елью спрятались от дождя, так молния прямо в нее угодила. Елка сгорела, а на мотоциклах даже железо оплавилось. Документы при них нашли – это Володя и Сергей. Царствие им Небесное.
Клава, охнув, чуть не потеряла сознание.
– Мы поедем в полицию, – решительно сказал Миша. – Надо срочно сделать заявление, что украдена семейная реликвия. Если книга не сгорела от удара молнии, то мы ее вернем.
Клава горько усмехнулась:
– Да чего ей сделается? Она же не горит и не тонет! Тут парни молодые погибли, а ты все про эту книгу талдычишь!
Прибыв в полицейский участок, Миша и Афанасий сделали заявление о краже. Они подробно описали следователю, как выглядит стило, но вот книгу описать было не так-то просто, ведь ее никто не видел. Миша решил подбросить следователю мысль, что пропавшие предметы, на вид ничего особенного из себя не представляющие, дороги их семье, это, мол, память о бабушке, а Володя их украл, чтобы насолить старикам, которые отказались продать ему половину дома. Следователь кивал, уточняя детали, а потом сказал:
– Должен вас огорчить, но ничего, что соответствовало бы вашему описанию, возле тел не обнаружено. Был найден планшет марки Apple iPad Air 2. В кейс вложен стилус для письма на экране. Криминалисты будут изучать содержание записей. Если появятся сведения о предметах, которые вы ищете, мы дадим вам знать.
– А можно взглянуть на планшет? Пару дней назад у меня исчез мой собственный, – неожиданно выпалил Миша.
Семейство с удивлением уставилось на него, но тот продолжал блефовать:
– Мой – той же марки, в черном кожаном кейсе, небольшая царапина в правом верхнем углу…
Следователь вынул из сейфа запечатанный целлофановый пакет, распаковал и протянул планшет Мише. И тут по Мишиной спине пробежал холодок. Он узнал свой планшет сразу, и по царапине, и по щербинке на одной из кнопок. Но ведь еще сегодня утром, за завтраком, перед тем как отправиться в церковь, он пользовался им – заглядывал в почту. К тому времени Володя уже сбежал, а это значит, что планшет никак не мог оказаться у него в руках.
Стараясь не выдать удивления, Миша предложил:
– Давайте попробуем ввести мой пароль. Если откроется, значит, к числу похищенного можно приплюсовать и этот планшет.
Он набрал свой пароль, и айпад мгновенно отреагировал: появилась заставка с изображением смеющейся Аси в соломенной шляпе, открылся доступ к личной почте, контактам и важным линкам.
– Ладно, – сказал следователь, – все понятно. Забирайте ваш планшет. Пострадавшие оказались ворами. Кроме того, я думаю, они могут быть причастны к «Братьям во Христе», преступной банде, на которую заведено дело. В последнее время зарегистрировано несколько внезапных смертей одиноких стариков, отписавших имущество церковной общине, документы которой оказались липовыми. Кто-то грамотно втерся в доверие к батюшке Илье и ловко прикрывался его именем. У тех, кто дома свои отдавал, никаких сомнений не было. Для сироток из приюта чего не сделаешь, правда? Вам, Клавдия Васильевна и Афанасий Петрович, крепко повезло, что молодежь ваша приехала. Могли и с вами расправиться. Мало ли способов? К примеру, одного старика нашли угоревшим. И все шито-крыто: печка старая, дымоход не чищен, задвижку не сдвинул, окна закрыл, а документики на дарственную уже оформлены давно…
Из полицейского участка все вышли в подавленном настроении. Старики не могли прийти в себя от мысли, что чуть не стали жертвой мошенников, а Мише и Асе не терпелось вернуться на дачу, чтобы разгадать загадку планшета-двойника, который открылся Мишиным паролем и был точной копией того, что лежал в их спальне.
Глава восемнадцатая
Первым делом, переступив порог дома, Миша и Ася заявили, что ужинать не будут, так как хотят отдохнуть, и заперлись у себя в комнате. Миша тут же вынул из сумки планшет, полученный в участке, и положил рядом со своим, преспокойно лежавшим там же, где он его и оставил. Планшеты были похожи как две капли воды, и объяснений этому не было. «Двойник», правда, не включался. Разрядился, решил Миша и подключил зарядное устройство, но экран не показал обычную картинку заряжающейся батареи.
Он повертел планшет в руках, стараясь понять, в чем причина, как вдруг на стол выпал стилус, заложенный в кейс. Стилус как стилус, такой же, как в его планшете, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что на конце его был тот самый знак из двух соединенных букв – М и А.
– Миша, что это? – Асины губы побледнели.
Она осторожно провела по стилусу пальцем, потом сжала в руке и тут же бросила на стол, словно обожглась. Стилус теперь светился на конце, напоминая лазерный пойнтер.
Миша усмехнулся:
– Нормально, а почему нет? Кого теперь этим удивишь…
Но удивиться им все же пришлось. Луч коснулся темного экрана планшета, и на его поверхности проступило изображение старинной книги. Оно было объемное и напоминало голограмму.
– Невероятно! Ущипни меня, – прошептал Миша. – Ты видела что-нибудь подобное? Он же только что вообще ни на что не реагировал. Стило его зарядило… или оживило – один черт….
Миша елозил по экрану в надежде пролистать книгу, но она не открывалась. Они разглядывали причудливую печать на обложке.
– Аська, скажи, что она тебе напоминает?
– Не знаю. Салфетку кружевную, но скорее снежинку. Точно, снежинку.
– Молодец! Это и есть снежинка, только не простая. Ее называют «снежинкой Коха». Это фрактал.
– Фрактал? Это что?
– Двоечница. Это… ну, как тебе проще объяснить: фигура, состоящая из бесконечного множества подобных ей фигур. Вглядись, все мельчайшие части этой снежинки – такие же снежинки. В центре маленький треугольник. Если его единичный отрезок разделить на три равные части и заменить средний интервал равносторонним треугольником без этого сегмента, то образуется ломаная, состоящая из четырех звеньев длины одной трети. На следующем шаге повторяем операцию для каждого из четырех получившихся звеньев, и так далее до бесконечности. Поняла?
– Издеваешься? Ну и что?
– Поразительно! Откуда могла взяться коховская снежинка на древней книге? Кох был математик, швед, и описал он ее в двадцатом веке. В этой фигуре есть один фокус: периметр ее бесконечен, а площадь конечна. Если хочешь, это что-то вроде метафоры постоянного процесса познания и ограниченности его в пределах одной жизни. Кое-кто считает фрактал простейшей иллюстрацией Бога: за границами нашего восприятия реальности есть Абсолют, нам недоступный, но тесно с нами связанный. Красиво, правда?
– Красиво. Знаешь, я вдруг вспомнила, как мама Таня подарила мне «Азбуку». На обложке были нарисованы Буратино и Мальвина. Они сидели рядышком и читали точно такую же «Азбуку», на обложке которой были Буратино и Мальвина, и дальше дальше… до бесконечности, все мельче картинка… Образовывался туннель. Я, как загипнотизированная, могла часами в него проваливаться, а мама Таня спрашивала, что со мной, почему не открываю книгу?
– Молодец, правильный пример, это тоже фрактал.
– Миш, не томи. Перестань забивать мне мозги фракталами. Давай что-то сделаем. Думай, на какую кнопку нажать. Нам обязательно надо прочесть книгу. Может, там рецепт старинный, помогающий зачатию. Ну, недаром же Гановски сказала, что, когда книга и стило соединятся… Хотя, знаешь, это уже не так важно, наверное. Мы заберем Настеньку из приюта, и она станет нашей дочкой. Ты же не против?
– Аська, мне главное, чтобы ты была счастлива, и девочку возьмем, и книгу прочтем, но я не понимаю, если перед нами электронная игрушка, копия моего айпада, то кто же в нее закачал эту самую книгу? Кому это понадобилось? И что именно Вовка нашел под елкой? Единственное объяснение, которое возникает в рамках здравого смысла, что он фотографировал книгу этим планшетом, а оригинал надежно спрятал. Но это же мой планшет! Я схожу с ума! Надо найти способ, как открыть ее, ведь пока мы видим только обложку. Давай-ка еще раз бабушкины записи перечитаем. Мне кажется, там был рисунок, напоминающий наконечник твоего талисмана, вставленный в какой-то треугольник. Посмотри, этот стилус хоть внешне и не похож на тот, что был раньше, но тут есть и знак, и треугольный наконечник. Тащи тетрадь.
После нескольких попыток разобраться в бабушкиных рисунках Миша уверенно взял стилус и ткнул им в экран планшета, прямо в середину снежинки. Внезапно по ее граням побежал свет лучика, и картинка на экране ожила. Книга распахнулась, замелькали страницы со знаками, похожими на жучков. Затем, когда вся книга была пролистана, страницы сами собой стали листаться в другую сторону. Ребята, онемев, переглянулись: на их глазах странные буквы-жучки исчезали со страниц одна за другой. В конце концов книга стала похожа на ежедневник с девственно-чистыми листами. Что делать дальше, они не знали.
Миша хмыкнул.
– И что это было? Что не так? – взволнованно зашептала Ася. – Миш, мы все испортили, да? Стерли информацию? Значит, никаких надежд?
– Давай рассуждать логически. Сейчас перед нами чистые листы, а в твоей руке предмет, предназначенный для письма, попробуй-ка что-то написать.
– Чем, этим лучиком? А что писать?
– Ну, напиши: «Мишка и Аська тут были», а хочешь: «Мишка + Аська = Любовь».
– Ты опять шутишь.
– Да какие тут шутки! На наших глазах происходит черт-те что, не имеющее никакого рационального объяснения! Можно, конечно, под все это подвести современные технологии. Но как объяснить, что штуковина, которую ты таскала на шее больше тридцати лет, а до этого почти столько же таскала моя бабка Анастасия, оказалась портативным лазером. Ладно, сегодня этим не удивишь даже кошек, которых хозяева развлекают пятнышком пойнтера, но тогда-то лазеров просто не было! Вот, смотри, тут, в тетрадке, написано, что эта штука вместе с книгой были в руках некой Марфы лет так четыреста назад. Это же бред! При царе Горохе – лазерные пойнтеры!
– Ничего невероятного, – возразила Ася. – При царе Горохе, как ты выразился, стило было другим. Ведь книга… может быть разной. Когда-то ее, возможно, пытались прочесть в свитках или на пергаменте, а может, и на глиняных табличках. Это сейчас она превратилась в электронную читалку. Она меняется, подстраиваясь под текущий момент. Я это поняла из объяснений доктора.
– А доктор тоже книгу читала?
– Нет, только дедушкины дневники.
– Ах, еще и дедушка есть? Дурдом, честное слово… Слушай, я в чудеса не верю, и твой доктор малость завралась. Давай попробуем все же что-то написать. Вдруг сработает.
Ася направила луч на экран и старательно вывела их полные имена: «Михаил», «Анастасия». Слова словно растворились в воздухе, но секунду спустя на чистой поверхности возник равносторонний треугольник, внутри которого был хорошо знакомый Асе знак: соединение букв М и А. Немного подумав, Ася направила на него луч, и грани треугольника мгновенно изогнулись, образовав новые углы, на вершинах которых появились значки, подобные тем, что покрывали когда-то стило. Этим все не закончилось, каждая из граней делилась дальше, а знаки распадались на буквы, на глазах превращавшиеся в обыкновенную и абсолютно понятную кириллицу. Из букв образовывались слова, из слов – предложения. Каждое новое слово порождало десятки, а потом и сотни понятий. Миша окаменел:
– Аська, с ума сойти! Это невероятно, но сам собой выстраивается фрактал! Смотри, читай! Понимаешь, что все это значит? Он сидел, боясь вздохнуть, и едва шевелил губами: – Глянь, выпрыгнули слова: «Русь», «Русский», «Россия». С ума сойти! Вся история, настоящее, будущее, на тысячелетия вперед.
– Ну же? Не томи, что нас ждет?
– Что за черт! Не открывается. Понимаешь, это что-то вроде оглавления, ни одно понятие не растолковывается. Указаны разделы и главы, и можно только догадываться, что в них.
– И что же дальше?
– Не знаю. Непонятно, как отсюда инфу выудить. Вот, например, раздел «Войны», видишь? Наводим курсор, клик… И тут тебе подразделы: «Локальные», «Этнические», «Экономические», «Мировые»… Идем дальше, кликаем на «Мировые», и опять новые понятия, но нет ни одной даты, ничего по сути. Надо подумать, попробовать разные варианты. Ты же видишь, что происходит. Соображаешь? А может, знак на стилусе и есть пароль? Давай пиши его.
– Где писать?
– Вот тут, где слово «Война»… Нет, не работает… Аська, если мы поймем принцип, сможем получить четкую картину будущего. Ты представляешь? Тут, конечно, все о России, но она же не в изоляции существует, не в безвоздушном пространстве. Всё на этом шарике взаимодействует: и природа, и народы. Тут грохнет – там отзовется, это как в живом организме. Короче, есть шанс воссоздать картину мира и узнать, что нас всех ждет! Ай, – завопил он, потирая выкрученное Асей ухо.
– Слышь, ученый, еще раз спрашиваю: каким образом все это связано с ребенком? Можешь считать меня тупой, скучной бабой, но есть только одна вселенская тайна, которую я хочу сейчас для себя открыть, – откуда берутся дети. Ты случайно не знаешь?
– Асюнечка, ну, прости меня. Ясное дело откуда. С детьми разберемся, тут такое… Эх, если бы я мог сам читать! Но видишь, как только ты опускаешь стило, ничего не происходит.
– Если честно, я устала и хочу спать. Завтра же поедем в приют и заберем Настю, ты обещал. Она такая славная, глазки умненькие, заметил? Мы ее вылечим, обязательно вылечим. Я давно загадала, если девочка родится, то Анастасия, а если мальчик…
– Михаил… Угадал?
– Ага.
– Хорошо, прямо завтра с утра поедем в приют, точно, обещаю. И Мишку очередного родим, не сомневайся, только давай еще книжечку полистаем…
– Знаешь, если в ней не написано конкретно, что у Миши и Аси в такой-то день такого-то месяца родится ребенок, то все другие тайны мира меня не интересуют.
– Ладно, и в самом деле спать пора. Аська, а помнишь, как мы тут на шкуре оленьей ночевали?
– А молоко с клубникой помнишь? – улыбнулась Ася и погнала Мишку в постель.
Но выспаться им не удалось. Было зябко, и они долго согревали друг друга – точно так же, как делали это почти двадцать лет назад, впервые оказавшись в этой постели. И надо сказать, что получалось у них совсем не хуже, а в самом главном – даже лучше прежнего. Последнее, что Асе запомнилось, это Мишин полусонный шепот: «Я люблю тебя, очень люблю…»
Под утро ей приснился коротенький сон: старушка и царевна держали на руках хорошенького малыша. Он тянул к ней ручки. Было нестерпимо больно глазам от солнечного света.
Ася проснулась. Солнце за окном светило не по-весеннему ярко. Миша стоял у стола в одних трусах, взъерошенный и несчастный. Он тряс планшет, то включая, то выключая, и, чуть не плача, бурчал под нос:
– Что же это такое! Почему? Что вообще происходит? Где книга? Что за ерунда? Детский сад какой-то!
Сладко потянувшись, Ася сползла с кровати. Увиденное заставило ее сначала улыбнуться, потом рассмеяться, а потом запрыгать от радости и захлопать в ладоши: она все поняла и про сон, и про мальчика в нем. На экране планшета разноцветными крупными буквами было написано «АЗБУКА», а чуть ниже: «Вашим детям, Михаилу и Анастасии, все Тайны Мира. Начнем с буквы А…»
Только об одном Ася подумала с опаской: «А вдруг и у них не получится?..»







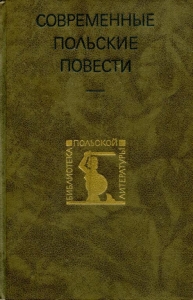





Комментарии к книге «Тайный знак», Ольга Григорьевна Жукова
Всего 0 комментариев