Олег СЕНЦОВ
КУПИТЕ КНИГУ - ОНА СМЕШНАЯ
Ненаучно-популярный роман с элементами юмора
Предисловие автора
Никто не читает предисловия, и я в том числе. Зачем читать, чьи-либо тугие мыслишки по поводу книги, которую ты только собираешься прочесть? Мы ведь покупаем книгу какого-либо писателя, чтобы прочесть его мысли, а не разглагольствования на двадцати четырех страницах какого-нибудь Пупкина, которого жизнь и издатель впихнули на разогрев перед Достоевским. Поэтому я лично, никогда не читаю предисловия, если, конечно товарищ Пупкин не смог вместить их в половину страницы.
Плоха та мысль, которую нельзя вложить в одну строчку, и плохо, то предисловие, которое занимает более одной страницы. Я постараюсь уместить свое ровно на страницу.
Вообще-то писать авторам предисловия самим себе – это дурной тон, для этого есть господа Пупкины, со своим диапазоном таланта от одной до двадцати четырех страниц, пусть они этим делом и занимаются. Я же просто хотел сказать заранее одну вещь, чтобы не показаться полным невеждой в глазах своих будущих восемнадцати случайных читателей.
Дело в том, что эта книга написана глазами американца, а как известно, про Америку и американцев в основном пишут только те люди, которые там никогда не бывали, поэтому и я решил не выделяться. Эта книга не про Америку и даже не про американцев, просто смотреть на события глазами полностью чужих тебе людей, о которых ты знаешь только понаслышке, намного удобнее и свободнее — можно придумывать себе все что угодно, чем я, в общем-то, и занимался на страницах этого (с трудом пишу это слово) произведения.
Короче, книга полна штампов, непроверенных данных, предрассудков и простеньких поведенческих схем, которые автор усвоил при не самом прилежном обучении в советских учебных заведениях, а также чтения некоторого количества не всегда полезных книжек и не ограниченного просмотра уж совсем вредных телепередач.
Итак, если силы и желание еще не оставили вас, мои маленькие друзья, то смело переворачиваем страничку…
г-н Пупкин. З.Е.
Справка вместо эпилога:
«Автор никогда не употреблял, не употребляет и
не собирается употреблять никаких наркотических
средств, ни при написании данной книги, ни при
совершении других, более пристойных действий».
Глава первая
Ночь в Африке наступает очень быстро. Вот и сегодня солнце со всего маху свалилось за горизонт, так что аж потемнело в глазах и по небу рассыпались мелкие звезды. Темнота начала остужать пот, тот в свою очередь тело, телу стало хорошо и в благодарность оно стало вонять. Особо чувствительные натуры в такие моменты могут начать ощущать не только запахи соседей, но и свои собственные. От меня, говорят, пахло как от скунса и его носков, то же самое я мог сказать и про своих соседей.
Нас было трое, три скунса: Джимми, Билли и Джеббс. Джимми, мой лучший друг и единственный порядочный человек в обозримом будущем и припоминаемом прошлом, очкарик-интеллигент с душою теленка и темпераментом телеграфного столба к которому этот теленок привязан. Билли – это я, ваш покорный слуга, тертый жизнью субъект, стреляный воробей, и так далее, но тем не менее, не достаточно проницательный, чтобы не связаться с Джеббсом. Джеббс – это человек без имени. Говоря откровенно, мне иной раз кажется, что это даже и не фамилия, это будущий научный термин, означающий психическое отклонение у людей, из разряда умственно вперед ушедших. Я думаю, что, в скором времени слово «Джеббс» перестанет ассоциироваться с конкретным человеком и войдет в историю как название болезни или мании как, например: болезнь Боткина или Паркинсона, ну, в крайнем случае, в джеббсах, как в вольтах ток, будут измерять маразм.
Так вот Джеббс, этот поддонок-иллюзионист, с задатками харизмы и даром убеждения неполноценных личностей, морем идей и безграничной верой в их совершенство, затащил нас в эту дыру, в которой, в связи с закатом мы перестали потеть и начали вонять, а вскоре начнем и мерзнуть. Нет, не могу сказать, что поехать в Африку это была сильно плохая идея, по мнению Джеббса у него вообще не бывает плохих идей, бывает только неправильно их воплощение в жизнь не способными ни на что подчиненными – это он нас с Джимом имеет ввиду. Подчиненные, вассалы, падаваны, я бы предложил ему называть нас рабами, раз уж мы на Черном континенте. Отправиться сюда, искать древние города это было даже как-то научно-популярно, полезно для всей цивилизации, что ли… Хотя предыдущая агония разума Джеббса была не менее привлекательной – доставка айсбергов благодарным жителям Сахары! А, каков размах? Взяв в Бристоле покататься на два часа маленькую рыболовецкую шхуну, мы рванули на ней к северным широтам. Признаться мне это поначалу даже понравилось, потому что трехмесячное таскание мешков в порту, и мне, и моей спине уже порядком поднадоело, и я с радостью согласился на небольшую морскую прогулку. Джим как всегда был со мной, потому, что ему было по большому счету все равно, чем заниматься. Джеббс до этого мешки естественно не таскал, он таскал припасы, мазут и вообще все, что плохо лежит и нам с Джимом постоянно приходилось за него отдуваться. Но зато теперь мы вышли в море с полным набором всех необходимых в дальнем плавании вещей, а именно: шезлонгами для детей не старше восьми лет, клюшками для гольфа, мексиканскими сомбреро различных размеров, моделей и расцветок, а также шкурок тушканчиков, нуждающихся в дополнительно просушке и чистке, сигнализирующие постоянно об этом ужасным запахом из трюма. А главное у нас был гарпунная пушка и лебедка, короче все необходимое для долгого путешествия и дружной ловли табунов айсбергов. Не знаю, где и какой прибор удалось стащить Джеббсу, но только ночью береговой охраной мы были распознаны как ракетный крейсер «Хорнет», направляющийся в Атлантику по очень важному делу. Если бы неудачник, владевший до этого лоханью под названием «Полярная Сирена», на которой мы теперь рассекали темные октябрьские волны, мог знать о том, что его посудину назовут крейсером, то возможно его горе от потери своей любимицы хоть немного, но уменьшилось бы в размерах .
Море… Не то чтобы я не любил море, скорее всего море не очень любило меня. Не знаю даже за что. Может за то, что я в детстве часто мочился в речку или надувал через трубочку лягушек до хлопка, но за что-то явно водная стихия меня не взлюбила, наслав на меня вечную болезнь адмирала Нельсона. Через неделю болтанки я уже знал все о содержимом моего желудка, мое лицо окончательно приобрело цвет морской волны и, в конце концов, мы с окружающей действительностью отрешились друг от друга.
Так как мои познания о природе айсбергов и маршрутах их следования ограничивались лишь информацией полученной в процессе просмотра фильма «Титаник», но и они были впитаны недостаточно глубоко, так как титьки Кейт Уинслет интересовали меня сильнее происходившей на экране природно-техногенной катастрофы, поэтому я был не готов увидеть айсберг так близко и так сразу. Мои мозжечок спрятался в желудок, а затем они оба затаились где-то в районе копчика, когда я вышел утром на палубу и увидел его, плывущего на нас, ну или нас плывущего на него, я точно не помню, короче я заорал! Хорошо, что на дворе был день, тьфу, то есть за бортом, или, где там, у моряков день, они вообще все в склянках каких-то меряют. Короче, хорошо, что было светло, и мы эту дуру увидели сразу и вовремя отвернули, не то свистать нам в ледяной воде в свистки с синими мордами до последнего, самого короткого заката в нашей молодой еще жизни.
Айсберг был здоровенный и сдвинуть его с места, как по мне не представлялось возможным в принципе, но Джеббс сказал, что сопротивление у воды меньше, чем у земли и поэтому все получится. В этом я не мог с ним не согласиться, собственным носом подтвердив эту теорию еще в детстве, прыгнув мимо речки в берег. Джеббсовый выстрел из гарпунной пушки был снайперский, хотя промазать по этой огромной ледяной горке было трудновато, но, я думаю, что если бы поручили это дело Джимми, то он бы наверняка не подкачал. Но стрелял предводитель полоумных орангутангов, и как оказалось потом, лучше бы он попал себе в голову. Гарпун не подвел, и мы намертво срослись с дрейфующим айсбергом, который и продолжил дрейфовать в своем направлении, не смотря на надсадный рев мотора шхуны и маты гарпунера. Да… После этой поездочки я понял смысл выражения «видимая сторона айсберга» и стал лучше разбираться в направлении гольфстримовского течения отличного от запланированного направления нашего путешествия. Лодка пыталась всеми своими лошадиными силами вырваться из этого капкана, что-то очень нехорошо скрежетало, все остальные бегали по палубе и махали руками, но это как-то не особо помогало. К счастью, тросу надоела эта маечня раньше, чем нам и мотору, и он благополучно лопнул, слегка задев Джима по ноге. После наложения двенадцати швов с помощью английских рыболовных снастей, а также внутренней и внешней обработки лучшим шотландским антисептиком, большинством голосов было принято решение, двинуть обратно, к берегам Старого Света, но взять немного южнее, чтобы во второй раз не проверять доверчивость королевских военно-морских сил и не давать им повода немного потренироваться в стрельбе.
Предложение Джеббса начать ловлю камчатских крабов, было сразу отвергнуто ввиду отсутствия Камчатки, хотя его знания географии и геометрии было достаточно для утверждения, что мы находимся где-то неподалеку от этого дикого острова или пролива. Я не мог вступать с ним в научный спор, так как сам на уроках географии учил названия всех пятидесяти американских штатов, но, правда, на тринадцатом штате пришлось прервать учебный процесс по обстоятельствам личного характера. В такие особо горестные моменты своей биографии я думал, что это наш бог Иисус Христос Суперзвезда карает меня за мое плохое прилежание, да и число тринадцать особо счастливым не назовешь. Тем не менее присутствие раненого и отсутствие Камчатки повлияло на временное принятие правильного курса в направлении Лиссабона.
Португальский берег встретил нас пустыней и песчаной бурей, да и сами португальцы вместе с лиссабонцами встретили нас мало дружелюбно: смуглые, грязные, в белых тюрбанах и на верблюдах. После получаса безуспешных попыток объяснений с португальцами, все они очень резко стали марокканцами, а счастливая страна обладателей шенгенских виз, оказалась где-то на севере. Джеббс тут же отправился на переговоры о продаже лодки и прочего полезного инвентаря из ее трюма, тем более что все шезлонги и сомбреро остались в целости и сохранности, чего нельзя было сказать о клюшках для гольфа, окончательно испорченных после отчаянной игры двухдюймовыми шариками из под подшипников, а также жесткой тренировки на мечах, для участия в съемках продолжения фильма про джедаев и лохматую обезьяну. Нам же с Джимом было любезно предложено доковылять до ближайшего кабачка и дожидаться там своего хозяина. Мы в очередной раз повелись как фермеры на джекпот и проторчали в грязнущей забегаловке до самого вечера. Джеббс естественно не появился. Когда нас все-таки вытолкали взашей, то мы решили вернуться к лодке, переночевать там и спокойно уже дожидаться Джеббса. Лодки на месте, конечно же, не оказалось, как и этого подлеца.
Три дня проведенные в порту полузабытого городка значительно обогатили наш лексикон, а также ознакомили окрестных жителей с репертуаром народных канзасских песен, неизменно выручавших нас при попадании в подобные ситуации. Взносы в фонд жертв церковно-приходских школ с уклоном в хоровое пение на этот раз были невелики, но их хватало, чтобы мы не протянули ноги. Джимми, хромающий на переднюю лапу с раздобытым на свалке костылем был особенно жалостлив. Карьеру нашего дуэта, а также дальнейшую ассимиляцию с местный фольклором прервал гудок Студебеккера одна тысяча девятьсот сорок восьмого года выпуска небесного цвета с откидным верхом. Это был Джеббс. В белом костюме, при бабочке, сигаре и девке. Я ничуть не удивился – этот человек всегда умел о себе позаботиться. На мой скромный вопрос, о том, как продвигаются переговоры о продаже лодки, он на секунду задумался и вскинул вверх оба глаза. Нет, Джеббс не думал, что мне ответить или соврать, для этого ему не надо было думать, он просто вспоминал события последних дней и мучительно пытался отыскать в них кильватерный след от шхуны. Судя по двум секундам растерянности на лице плейбоя, я понял, что событий произошло настолько много, что спасибо господу нашему Аллаху и пророку его, что Джеббс хотя бы вспомнил про нас и вернулся.
— Они зашли в тупик, — наконец, ответил он.
Это означало, что про лодку, а также про шезлонги, и особенно о великолепных тушканчиках в сомбреро, мысли о которых, так согревали нас с Джимом в эти прохладные ночи, можно было больше не вспоминать.
— Но я нашел для вас работу, — сказало наглое улыбающееся лицо, попеременно слюнявящее, то сигару, то шею белогривой кобылицы, впялившей свой взгляд в двух бомжей и один костыль. – Все, собирайтесь, наш пароход отходит через час! – скомандовал наш адмирал.
Собираться нам было не долго – все нажитое за три дня добро можно было с легким сердцем бросить прямо тут и собрать примерно такой же набор на любой помойке в любом городке этой паршивой планеты. Мы бросили все, кроме костыля наземь и залезли на заднее сиденье.
— Что за подруга? – крикнул я в ухо Джеббсу, когда раритетная колымага, стуча всеми своими запчастями, запылила по дороге.
— Это Мэгги!
На кодовое слово «Мэгги», подруга отреагировала как собака Павлова на звонок в дверь – повернулась к нам лицом и улыбнулась передними зубами годовалого жеребца вперемежку с деснами примерно того же происхождения.
— Она дочь профессора, у которого мы теперь работаем, он плывет в Южную Африку – копать там что-то… — Джеббс пытался перекричать ревущий мотор. — Что-то ищут! А Мэгги дальше не плывет! (Снова зубы и десны). Она проштрафилась с одним черным матросом и папаша, сказал, что если в Африке станет на одного негритенка больше, то тут же станет одной блондинистой шлюшкой меньше! Зубы снова зарыготали, а после джеббсовой щекотки третьего ребра кулаком, вовсе запрыгали в диссонанс машинной тряске. Поэтому она возвращается домой, пока еще не совсем поздно спасти остатки семейной чести, а мы плывем дальше.
Я не стал больше расспрашивать о сексуальной жизни Мэгги, хотя такие разговоры, похоже, нравились и ей и Джеббсу. Тем более я не стал спрашивать, что нас ждет впереди.
— А много плыть-то? – прорезался немного надсаженный верхними нотами арии молочницы, голос Джимми.
— Не-а.
«Не-а» длилось почти месяц. За это время мы ни разу не видели Джеббса и я уже смел слабо надеяться, что его вздернули на рее за попытку бунта с целью начала раскопок слоновьих костей на проплывавшем мимо одноименном берегу. Хотя это было бы для него слишком мягкое наказание за наш проезд в железном и слегка душноватом трюме в котором вещи не надо было класть на стул, они спокойно могли висеть и в воздухе вместе с топорами. Джим пообещал после этой поездки больше никогда не разогревать телятину в железных банках, потому что он теперь в курсе как нехорошо там некоторым частям теленка. Я же чувствовал, что это наше искупление за причиненные страдание неграм, которых сотни лет вывозили белые колонизаторы из Африки. Теперь белых ввозят таким же способом обратно – за все приходиться платить. Времени развить эту теорию у меня хватало и я попробовал применить ее к Джеббсу. Да, физические страдания я мог ему нафантазировать, но вот на моральные он был вряд ли способен. Для этого надо быть как минимум человеком.
Чтобы хоть как-то убить время мы начали играть с нашими сотрюменниками в картишки на деньжишки. Ставить нам особо было нечего, так как еще на причале Джеббс сообщил нам, что наше жалованье за полгода вперед уже получено и потрачено, то есть надежно вложено. Куда и кем, выяснить не удалось. Эта новость не утешила нас. Но все же это лучше чем горланить дуэтом песни, склонившись над жестяной банкой. Кормили здесь исправно, нога у Джима почти зажила, а сброд, собранный со всего света на этом судне, любил поразвлечься в карты. Джимми, как любая светлая душа, не любил азартные игры, и ему соответственно в них бескрайне везло, поэтому при надлежавшем уходе с моей стороны он мог выиграть у кого угодно, чем мы и занимались всю дорогу. К концу путешествия накопилась уже довольно приличная сумма денег. Правда каждую ночь Джима мучила совесть и он порывался отдать деньги этим несчастным, что в конечном итоге нам и пришлось сделать, потому, что несчастные продемонстрировали нам свою коллекцию ножей и кастетов, а имевшийся у нас в арсенале костыль был слабым аргументом в переговорном процессе. С деньгами пришлось отдать и часть одежды, тем более, как сказали эти добрые люди, она все равно нам не понадобится.
Наконец наши мучения закончились, и мы бросили якорь в Порту. Мы с Джимом наперебой целовали бетон причала, потому что дойти до ближайшей клумбы с землей не позволял частично утративший свои функции мозжечок. После месяца душегубки в трюме, пятичасовой переезд на дне грязного грузовика показался нам легкой воскресной прогулкой, в ходе которой Джим настойчиво доказывал мне, что по ночам он слышал как поют киты. Я не стал с ним спорить, тем более что сам слышал, как музыкально храпел тот толстяк с крайней койки.
Прибыв на место, мы не обнаружили никаких разительных отличий в пустынно-каменистом пейзаже от точки отправления, за исключением отсутствия моря и каких либо зачатков современной цивилизации, если не считать маленькой деревушки местных аборигенов, расположенной ближе к горизонту. Я резонно заметил, что мы могли бы поискать древний город и где-нибудь в районе Порта, на заднем дворе какого-нибудь милого кабачка в более комфортных условиях. На что появившийся из ниоткуда Джеббс, и уже начавший руководить разгрузкой своих вещей, ответил: «Эти Тутанхамоны жили где ни попадя, и в последний раз их видели где-то тут. Поэтому и рыть будем где-то здесь…». Разбив небольшой лагерь и понатыкав везде табличек с надписью «Научная экспедиция», все принялись отдыхать. На третий день отдыха, когда в ход уже пошла тормозная жидкость, спирт из градусников и средство от змеиных укусов, профессор дал команду начать раскопки. На передовой фронт науки была брошена команда лучших, в составе меня и Джима, которая должна была рыть траншеи согласно плана руководства, обозначенного прямо на местности путем вождения носком ботинка по земле и махания руками в различные направления, скрепленного при этом соответствующими выражениями.
Вся остальная научная братва числом около двух десятков человек во главе с профессором, прихватив достаточное количество лопат, кирок, сит и прочего научно-исследовательского оборудования погрузилась в грузовик. Профессор сказал, что они отправляются на несколько дней на разведку, вдруг здесь где-то поблизости еще притаились древние города, а этот они оставляют раскапывать нам. Джеббс очень сильно расстроился, когда узнал, что его не берут, а оставляют присматривать за нами и за лагерем. Он битый час признавался перед руководителем экспедиции в своей любви к археологии, демонстрировал свою великолепную технику копки не большой ямки столовой ложкой, а также показывал, как он быстро находит зарытый в песке окурок. Джеббс был на сто процентов уверен, что он пропустит какое-то важное открытие и не покроет себя еще при жизни соответствующей его талантам славе. Я и не знал, что у него существуют такие сильные первооткрывательские амбиции, которые, как думал Джеббс, он будет не в состоянии реализовать здесь с нами, а вот там, куда едут эти смелые сильные люди, во главе с таким… Но профессор оказался на удивление холоден к мольбам, которые напротив, становились до неприличия все красноречивее и красноречивее и переходили всякие границы этики принятой в наших научных кругах. И только прилюдный подсчет патронов в револьвере профессора, неожиданно вынырнувшего из кармана его пиджака, остудили джеббсову голову, заставили отпустить профессорову штанину, подняться с колен и поплестись прочь под насмешки и улюлюканья других научных сотрудников из кузова. Грузовик покатил, по дороге, а мы остались глотать ее пыль.
Джеббс не проявил должного интереса к нашей работе, видимо профессор чересчур охладил его пыл к археологии, и улегся в тень. Мы и сами довольно быстро запыхались, побросали лопаты, улеглись под брезентовый тент к Джеббсу и засопели. В выкопанных нами траншеях, конечно, было бы тяжеловато отбивать танковую атаку, но моя тетушка Джинджер нашла бы их вполне пригодными в качестве грядок под чеснок. Я рассудил, что копать в такую жару чистое безумство, следует дождаться более прохладной погоды. Джимми немедленно со мной согласился и сказал, что в сезон дождей копать будет значительно приятней, благо до него осталось какая-то пара месяцев, а провизии у нас навалом.
Первая неделя прошла незаметно, мы целыми днями валялись в тени брезента и делали только то, что ничего не делали. Это было мое любимое занятие, я делаю его лучше других, это мое призвание. Джимми периодически почитывал Библию – единственную книгу, которая у нас оказалась. Ее дала мне в дорогу моя добрая тетушка три года назад, когда мы с Джимом покидали родные шпинаты. Тетя сказала, что в этой книге я найду ответы на все свои вопросы. Не знаю, какие она вопросы задавала себе перед прочтением этой книги и находила ли она в ней ответы, но лично я еще никогда не прочел в ней точный и удовлетворительный ответ на какой-либо мой вопрос. Нет, ну когда мы с Джимом в первый раз прочно заблудились, а он сопровождал меня все три года наших путешествий, впрочем, как и предыдущие девятнадцать, и раскрыли и спросили у книги куда же нам идти, то она нам дала четкий ответ: «К Коринфянам», и тут мы четко поняли, что на развилке надо было все-таки направо. А когда той же ночью мы забрели, наконец, в какой-то спящий маленький городок, то снова спросили у книги: «Где нам добыть еды, крова или хотя бы немного денег?» И с открытой наугад страницы нам было дано четкое указание: «К Иудеям». Да… населению этого городишка еще долго будет сниться в кошмарах, как два молодчика, в одну прекрасную лунную ночь, стучатся в их дома и ищут евреев. Никто, конечно, им дверей не открывал, но каждый судорожно вспоминал всех своих родственников, особое внимание, обращая на темноволосых и кучерявых, при этом непременно отвечая, что никого нет дома. Обойдя добрую половину домов и убедившись, что дома таки никого нигде нет и готовясь уже приняться за злую половину домов, нам неожиданно ответили. Кроткая чувствительная душа из-за дубовой двери, севшим женским баритоном нам поведала, что эти сволочи живут на той стороне площади в двухэтажном доме с лавкой внизу, в которой ничего покупать не надо, потому что у них товар лежалый, и что, ни обладательница этого чудного голоса, ни миссис Баклер, ни другая благопристойная половина Сильвертауна к ним не ходит. Светало. Добрые люди, живущие в доме над лавкой, долго рассматривали нас в маленькое окошечко через прицел дробовика, пока не убедились в искренности и некриминальности наших намерений. Я и не подозревал, что за пять минут через все тоже маленькое окошко можно выслушать столько полезных советов о том, как зарабатывать деньги и потратить их на лечение в доме для умалишенных.
Долго мы еще смеялись с Джимом в то утро, когда укладывались спать в стог сена, жуя хлеб, которым нас угостили пастухи, смеялись и вечером, когда проснулись и потопали по дороге дальше, смеемся и теперь, когда вспоминаем эту или какую другую историю из нашей жизни.
Память щадит наше сердце, поэтому наиболее плохие и неприятные воспоминания стираются и притупляются, а хорошие, наоборот, выпячиваются, тщательно шлифуются и полируются от серости бытия, поэтому всю тусклость жизни мы наблюдаем только в настоящем, заглядывая же в день прошедший, мы видим только аккуратные белые столбики приятных моментов на ярко-зеленом газоне жизни. Будущее же представляется нам сплошным фейерверком. О, это сладкое слово «завтра». В нем нам всегда хорошо и комфортно, в нем нам всегда будет хорошо и комфортно. Завтра все должно быть, так как надо, так как мы хотим и никак не иначе. Но доживая до завтра, которое становится сегодня нам остается только запах горелых петард от прошедшего, а точнее так и не состоявшегося праздника, который никогда не суждено свершиться. Будущего нет, прошлого никогда не было. Есть только сегодня, только сейчас. Им и надо жить. Только тогда ты будешь жить в живом мире настоящего, а не в мире иллюзий или в мире призраков.
Глава вторая
Страна в которой мы очутились была наверное самой бедной на этом и без того не богатом континенте. Половину ее территории занимала безжизненная пустыня, все население которой состояло из сорока жуков, и те состояли на строгом учете. Остальная часть страны мало чем отличалась от пустыни, но в ней, по крайней мере, можно было жить, хотя я бы не назвал это жизнью. Ее уровень даже обеспокоил обычно равнодушного к чужим проблемам Джеббса:
— Вот ты умный, Джимми, а скажи мне, почему люди тут так живут плохо. Ну, вот совсем плохо. Тут же все человечество зародилось с твоих слов, а такое впечатление, что из всего прогресса цивилизации они приобрели лишь пластиковые ведра и любовь к выпивке, а во всем остальном остались на доисторическом уровне. У них наверняка было больше времени, что бы развиться как следует, да и климат тут потеплее, чем у нас… — Джеббс с утра был озабочен этой проблемой, после небольшой прогулки в деревню местных с целью обменять или приобрести свежий хлебушек или чего-то иного, отличного от содержания наших консерв, составивших основу нашего теперешнего рациона. Хлебушка Джеббс тогда не принес, зато принес впечатления от жизни местного населения, которыми он теперь и делился с нами.
— Существует такая теория, что… — начал не спеша Джимми.
Стоит отметить, что он всегда начинал извергать свои неприличные объемы знаний с этой довольно штампованной фразы: «Существует теория…» Хотя другим людям, которые начинают что-либо объяснять с этой затертой фразы или с другой: «По мнению ученых…» я обычно не особо доверяю. Они могли бы говорить более прямо: «Я как-то слышал, но не помню где, не помню что, но я сейчас вставлю свои пять центов, чтобы поумничать и привлечь к себе внимание, даже не смотря на то, что говорить я буду полный бред…» Джим, конечно же, был не из таких. Раньше он говорил более конкретно: кто высказал данную теорию, в каком году, в каком издании или на каком симпозиуме она была впервые высказана, когда была принята за основу вместо предыдущей. Отдельно шли всякие дополнительные материалы, такие как краткая биография автора, мнение реакционеров, радикалов и либералов по этому вопросу и прочее. А еще Джим грешил тем, что называл год и название издания, номер страницы и абзац, где он с этой теорией имел честь ознакомиться. Но затем он понял, что это все лишняя и неважная информация, и перестал ее запоминать. Потом он перестал называть имена ученых, их степени и заслуги, историю сделанных ими открытий и прочее. И стал просто и кратко говорить уже о самой теории или открытии, начиная с банальнейших слов: «Есть такая теория или, по мнению ученых». Все-таки надо признать, что, не смотря на полную социопатию данного персонажа, не могу не заметить, что он иногда старался донести до окружающих его в пространстве и времени людей, какие-то мысли и знания в компактной и доступной форме, а не оставаться горделивым всезнайкой.
Итак, Джим Гаррисон начал стандартно, со слов: «Есть такая теория».
— … что на развитие европейской цивилизации большое влияние оказало колебание среднегодовых температур, приводящих как к смене сезонов, а иногда и к сильному похолоданию или потеплению климата, ледниковым периодам и прочее. Народы, населявшие Европу, были вынуждены постоянно приспосабливаться, как-то развиваться, изобретать новые технологии, постоянно бороться за выживание всего своего народа. Борьба с природой подстегивала развитие знаний. А народы, Африки, Америки и части Азии, не сталкивавшиеся с такими природными катаклизмами, и жившие в более благоприятных природных и климатических условиях, остались на прошлом уровне. В то время, когда в Европе уже вовсю дымили мануфактуры, большинство остального мира еще жило при первобытнообщинном строе.
— Ага, — начал привычно язвить я. – Зато теперь ваши заводы настолько закоптили все небо, что нам теперь всем грозит очередное потепление климата, прямо как в теплице. Лучше жили бы себе как вот эти – и я махнул в сторону видневшейся вдалеке деревни, просто и без всяких машин, то может и Земля была бы чище и смертность ниже, люди бы до ста лет жили!
— Ну, до ста лет можно было жить всегда! Но вот, правда, в древности средняя продолжительности жизни была тридцать лет… А вот, что касаемо потепления климата, то, насколько я понял, ты имел ввиду так называемый парниковый эффект?
— Да, он самый! – ответил я обиженно. – Не очень люблю, когда со мной начинают разговаривать как с ребенком, но Джимми по-другому не умел.
— На счет того, что заводы и прочие достижения техногенной цивилизации загрязняют нашу планету я абсолютно согласен и это ужасно, — продолжил Джим голосом самого терпеливого учителя в классе с самыми непроходимыми учениками. – Но, а то, что их выбросы вызывают парниковый эффект – это все чушь собачья…
— Стойте, стойте, — снова включился в разговор Джеббс. – А как же – «Есть такая теория»?
Джим рассмеялся:
— А вот тут как раз и нет никакой теории.
— Как нет? – это мы уже с Джеббсом запели хором, немного подпрыгнув, насколько позволяли размеренные полуденной жарой тела. – Все ведь только и говорят, об этом, о парниковом эффекте, как о главной проблеме человечества!
— Ну, говорят и говорят, что с того, — невозмутимо парировал Джимми. – Но вот только теории, как таковой, научной, не только доказывающей, но и хоть как-то обосновывающей это предположение нет.
— Как это нет? — все не унимался Джеббс.
— А вот так – как есть, но только наоборот. Есть ряд докладов комиссии ООН, подкрепленных предположениями некоторых ученых и все. А еще есть большая шумиха по этому поводу.
— А зачем?
— Ну, как зачем? Человечеству нужна глобальная проблема. И чем она глобальней и страшнее, тем лучше. Тем лучше управлять этим человечеством. Раньше у нас раздували проблему коммунистической угрозы, теперь глобального потепления, не переживай, скоро придумают что-нибудь пострашнее, чтобы ты уже боялся наверняка и молился на своих политиков — единственных, кто сможет с ней бороться, а ты будешь наблюдать за их подвигами затаив дыхание и беречь свой голос до выборов.
К слову сказать, Джимми, не смотря на свой постоянный обет молчания, периодически выплескивал на людей накопившиеся мысли или знания. Видно внутри у него им становилось там так тесно, и чтобы куда-то можно было запихнуть новые ему просто было необходимо с кем-то поделиться старыми. Но вы не сочтите Джима за ходячую энциклопедию, такого мистера-всезнайки, который знает кучу чужих мыслей, но не имеет ни одной своей, стоящей. В период сбрасывания Джимом лишних знаний в атмосферу, можно было обнаружить путем анализа, что все они были им как следует переработаны, с добавлением своих идей, причем, иногда ему удавалось выдвигать полностью свои теории, ну или мне тогда казалось, что они полностью его. Просто иногда моя вера в знания Джима Гаррисона была столь непоколебимой, что скажи он мне, что земля круглая и вращается вокруг солнца – я бы поверил бы безоговорочно, даже если бы на самом деле это было не так.
Но одной из моих самых любимых теорий Джима, была та, которую он высказал в седьмом классе накануне каникул, когда мы отличным майским днем, после уроков, пошли за город и валялись там в поле. Все было вроде бы прекрасно: и солнце, и трава, и ветер, и какие-то птички, то щебетали, то принимались летать туда сюда, но я ничего этого не замечал – я был расстроен, что у меня по геометрии за год выходила в лучшем случае тройка. И это будет уже шестая тройка в табеле, а минимум троек, по словам тетушки Джинжер, был уже мною исчерпан еще в прошлом году, поэтому желанная летняя поездка в луна-парк оказалась под реальной угрозой срыва. Джим спросил у меня, чего я такой кислый, ведь все вокруг так прекрасно! Хорошо ему было говорить, ведь ему ставили пятерку, лишь за то, что он приходил на экзамен! И я ответил, что настроение препаршивое, по геометрии будет трояк, в луна-парк и на ярмарку, скорее всего не возьмут, и вообще все вокруг какое-то дерьмовое и сплюнул.
— Даже этот прекрасный день? – от всей души изумился Джим.
— Этот день в особенности! Ниче в нем особенного нет, кроме того что он дерьмовый, а впереди еще куча таких же, — и я плюнул вверх, но так, чтобы плевок по баллистической траектории попал на ближайший дерьмовый цветок. Но я промазал.
— Ты неправильно живешь и мыслишь, Билли! – Джимми не переставал мне удивляться, не плевался и обоими этими вещами тогда начал меня раздражать.
— А ты значит правильно?
— И многие живут вот так, не радуясь, — Джимми умел продолжать свою мысль, не обращая внимания на сопротивление собеседника. – Не понимая, что вся наша жизнь, точнее все, что мы в ней делаем – это пашем на эндорфин.
— На кого? – я аж приподнялся на локтях. – Я знал всех богачей нашего городка и всей округи, потому что планировал рано или поздно разбавить их общество кислых лиц, своим присутствием, но с такой мерзкой фамилией не мог вспомнить ни одного.
— Не на кого, а на что! На эндорфин. Это так называемый «гормон счастья», он вырабатывается у нас в мозгу, и когда вырабатывается, то мы чувствуем себя счастливыми.
— И когда он вырабатывается? — не слишком веря, уточнил я.
— Когда в нашей жизни происходят хорошие, приятные вещи. Мы получили пять по геометрии или нашли сто баксов, или нам сказали, что нас все равно возьмут в луна-парк и так далее. Всегда, когда с нами происходят приятные нам вещи, наш мозг вырабатывает сам себе эндорфин и тихонечко там радуется в своей черепной коробочке, и мы, заодно с ним, потому что человеческая личность тоже живет где-то там, в мозгу… Так вот мы начинаем чувствовать себя счастливыми, не потому что нашли стодолларовую бумажку с портретом улыбающегося дядьки Бенджи, а потому что мы сами себе скомандовали, что найти сто долларов – это хорошо и мозг по команде начал вырабатывать эндорфин и там ты с ним в обнимку оба стали резко счастливые, не на всю жизнь конечно, так на некоторое время, но, тем не менее – счастливыми! Ну и вот, все, все, что мы делаем в этой жизни по большому счету, направлено на то, чтобы кайфовать от выработки эндорфина в мозгу. И уровень кайфа зависит не от произошедшего события, а от нашего, а в данном случае твоего отношения к нему. Найди ты два цента, ты был бы счастлив?
— Не особо…
— А сто долларов? А тысячу?
— Конечно, о чем речь!
— Так вот в том-то и дело, что Рокфеллер бы за ста долларами даже и не нагнулся. Хотя Рокфеллер бы как раз бы и нагнулся, но разогнувшись, он не был бы счастлив, понимая, что пока он нагибался, его контора заработала за это время ему еще тысячу, а он всего сто, и он посчитал бы, что остался в убытке и еще больше бы расстроился. Но дело не в этом, а в том, что событие с вами вроде одно и то же происходит, но ты вырабатываешь эндорфин и кайфуешь, а он нет, ему надо как минимум миллион найти, чтобы он хоть какое-то удовольствие получил.
— Ну, ты сравнил… с Рокфеллером – этот пример меня явно никак не зацепил и ни в чем не убедил, и тем более в том, что надо скакать от радости от того, что я знаю, что мне скоро светит по предмету о черчении дурацких треугольничков.
Видя, что меня не проняло это сравнение, Джимми не сдался, а поискал кое-кого поближе:
— Хорошо, ты знаешь Энди?
— Того слепого пацана с улицы Роз? – уж с ним-то Джим точно не сможет меня сравнивать — парень с рождения ничего не видит, ходит с палочкой и ста долларов не найдет никогда, поэтому эндорфин ему вообще не светит ни при каких вариантах.
— Да он самый, — не унимался Джим. – Так вот, ты лежишь тут и стонешь о своей тройке, и не замечаешь всей этой красоты кругом – солнца, неба, травы. А Энди всего этого никогда не видел и вряд ли, когда-нибудь увидит. А если бы и увидел, то наверняка сошел бы с ума от счастья. Он бы получал удовольствие от разглядывания каждой травинки, каждой букашечки и ее какашечки, он получил бы такую дозу эндорфина, что поначалу был бы самым счастливым мальчиком на земле. Но у него никогда этого не будет, а ты уже это все имеешь и не хочешь быть счастливым! А он никогда не будет иметь, и, тем не менее, он все равно пытается быть счастливым – я вчера шел по его улице и видел, как он сидел на скамейке перед своим домом, читал книгу для слепых и улыбался. А потом две маленькие соседские девочки взяли его за руки и бегали с ним по дороге, и он радовался и смеялся, потому что уровень эндорфина у него в мозгу зашкаливал. Он может получать удовольствие от простых вещей, и я могу, и ты сможешь, если перестанешь расстраиваться по пустякам, или что еще хуже постоянно изображать из себя крутого парня, выпускать из себя дым и напускать важный вид. Я видел однажды одного мальчика, у которого есть все, ну, вот вообще все – мы ездили к родственникам в Даллас и жили у них несколько дней. Они очень богатые, очень, у них огромный особняк, самый большой в районе, и у их единственного сына (я был тогда помладше, а ему было как нам сейчас), уже тогда было все, даже собственная машина. Водительских прав у него еще не было, а машина была, и говорят, что это уже третья – предыдущие две продали, потому что они ему разонравились, да и третьей, когда мы приехали, он был уже недоволен. А кроме этого он был недоволен и всем остальным, и был очень несчастным. У него было все, но он ничем не был доволен и не знал что ему еще надо, чтобы стать счастливым. Но он не умел получать удовольствия не только от простых вещей, но и от всего того огромного количества интересных вещей, что он имел, в том числе и от машины. Не умел и все и был несчастен. Очень. А там, на той же улице ребята играли в футбол и были счастливы, все, что у них было – это мяч, игра и они сами. И они от всего этого получали столько удовольствия, ну просто море, и с эндорфином у них тоже все было в порядке. Я пытаюсь донести это до своего отца. Но он не понимает. И если мы едем куда-то далеко, то он долго ищет самую дешевую заправку, чтобы сэкономить доллар, нервничает, раздражается – не хочет быть счастливым, получать кайф от дороги, от путешествия, от своих пассажиров. Сам эндорфин не вырабатывает и нам с мамой не дает! Он считает, что получит удовольствие или свою дозу эндорфина потом, когда сэкономит этот доллар или тогда, когда будет его тратить – он же бонусный! Но он не получает удовольствия, ни когда ищет заправку, ни когда экономит этот несчастный доллар, ни когда потом прощается с ним. И вместо того, чтобы получить три раза свою среднечеловеческую порцию эндорфина, он ее вообще не получает и поэтому живет несчастливо, ища причину в не сэкономленном где-то долларе.
— По твоему все богатые люди несчастные, а бедные счастливые? Что-то я давно не встречал счастливых бедняков!
— Да нет же! Есть и среди миллионеров вполне счастливые люди, а среди нищих полно несчастных. Но это не зависит от их положения, это зависит от их отношения к жизни! Просто надо сосредотачиваться не на стремлении к обладанию какими-либо вещами самими по себе, в том числе деньгами или положительными отметками по геометрии, а на получении удовольствия от них. А если ничего нет, то тоже не беда – солнце, небо и ветер для всех общие, они всегда под рукой и от них всегда можно получить свою порцию эндорфина.
Я внимательно выслушал тогда Джима, но все равно побрел потом, после этого долгого разговора домой все равно грустным. Я не сразу принял теорию Джима под названием: «Все мы пашем на эндорфин». В тот год я таки получил по геометрии свою законную тройку, меня долго ругали и понукали ею, но все равно потом взяли с собой на ярмарку в луна-парк. Но там я почему-то не был счастлив и не получил особого удовольствия, аттракционы за год порядком пообветшали, а несколько любимых вообще не работало, и от тех, что были уровень эндорфина, как-то особо не повышался.
Но постепенно я начал ловить себя на мысли, что не получаю удовольствия от, казалось бы вещей, которые должны были приносить очевидную радость, а от всякой ерунды я бываю иногда счастлив. Счастье наступает иногда в такой момент, когда его и не ждешь – бах, порадовался какой-то мелочи, улыбнулся и уже счастлив, чувствуешь, как там мозг эндорфинчиком уже балуется и тебе самому становится хорошо. И я начал стараться получать кайф от всего, от всяких мелочей, даже от того, от чего раньше бы расстроился – я терял мелочь, что мне давали на обед в школе и не расстраивался, а получал удовольствие от того, что просил у Джима или еще и кого другого, сэндвич. Я получал двойку, шел домой и радовался тому, что могу ходить. Я ложился спать и кайфовал от того, что у меня есть отдельная комната, от того, что мне было, что есть на ужин и по ночам нас не бомбят. Я засыпал счастливым от того, что знал, что возможно увижу прекрасные сны. Я начал глядеть вокруг себя совсем другими, счастливыми глазами и увидел рядом прекрасных и тоже счастливых людей – это и тетушка Джинджер, получавшая удовольствие и от своей торговли, и от походов в церковь и даже от выходок своего мужа. Тот вообще был со всех сторон счастливым человеком, но о нем чуть позже. Я видел, какими счастливыми глазами смотрит на этот мир Джим и я был благодарен ему, за то, что он так научил смотреть и меня. Но я также начал замечать вокруг себя и кучу глубоко несчастных людей, которые жили, как им казалось очень несчастной, серой жизнью, сами не понимая, что это только их вина, что они так живут и не в состоянии получать от жизни свои дозу кайфа. Они не понимали, что все мы пашем на эндорфин, что это и есть главное предназначение любого человека – быть счастливым! Правда вот многие из людей не совсем правильно понимают этот лозунг, тратя время на физические, а зачастую физиологические удовольствия: карты, выпивку, женщин, получая какую-то дозу не того кайфа, и мучаясь потом по утрам угрызениями совести, похмельем, долгами и венерическими болезнями.
Я стал мыслить по-другому и ни разу об этом, после не пожалел. Поэтому, когда спустя несколько лет, после того, как Джим открыл во мне эндорфиновый краник, в один прекрасный летний вечер, он остановился у моей калитки и предложил отправиться попутешествовать, я сразу же согласился. Потому что я знал, что впереди нас ждет ну просто море эндорфина, по которому мы плыли, плыли, пока не приплыли теперь сами знаете куда.
К исходу третьей недели пребывания в этом африканском лагере, когда беспокойство по поводу долгого отсутствия большей части нашей научной экспедиции во главе с ее идейным вождем, начал высказывать даже ходячая жертва эндорфина по имени Джим, от профессора и компании поступило известие. Точнее не от них, а о них, мы получили в виде выпуска местной еженедельной газеты, которую я бы назвал ежедвухнедельной, потому что выходила она раз в неделю, а привозили ее в местное миссионерское отделение раз в две недели, вместе с почтой и прочими необходимыми вещами аккурат раз в две недели. Миссия располагалась в той маленькой деревушке и состояла из одного дома и нескольких монашек. Пока наши отношения складывались лишь в обмене некоторыми продуктами и предоставлением нам любезной возможности ознакомиться с местными новостями посредством вышеназванной газеты.
Джеббс, едва получив газету в руки, сразу весь углубился в поиски в ней хоть какой-то информации о прибытии столь важной научной экспедиции, а лучше собственного портрета в полный рост, в охотничьем костюме и пробковом шлеме, чтобы одна нога на трупе льва, а во второй руке ружье и чтобы дымок еще шел… На что я заметил, что Джеббс мог видеть льва только в зоопарке и то, держа в это время за руку маму. На что он ответил, что даже уже эскимосы применяют фотомонтаж для получения красивых видов Аляски, хотя всем давно известно, что там кроме нефтяных вышек уже ничего не осталось, и я сам мог бы быть уже в курсе данного достижения, если бы мы с цивилизацией не развивались в противоположных направлениях. Но в этой милой стране, наверняка нашлось бы парочка отчаянных парней, которые смогли бы увековечить личность Джеббса на страницах своей передовицы, будь у них чуть больше свободного времени.
Нашу слегка затянувшуюся дискуссию прервал то ли полукрик, то ли полувздох Джима: «О, нашел!» Мы тут же заглянули в его, второй, более свежий выпуск и обнаружили, что нашел не Джим, а нашли пограничники, точнее, обнаружили и задержали банду незаконных добытчиков алмазов на границе с соседней страной. Были и фотографии, две: профессора с наручниками и грузовика без. В статье также указывалось, что до сих пор не обнаружены остальные члены банды, а также их базовый лагерь, но ведутся их активные поиски. Молча и спокойно мы оторвали взгляд от четырехполосной пакостной газетенки и медленно осмотрели горизонт. Почти одновременно наши глаза уперлись в малюсенький столбик пыли, который был так далюсенько от нас, очень медлюсенько приближался и обозначавший большусенькие проблемы. В жизни я бы не поверил, что люди в состоянии рыть так быстро окопы, если бы не участвовал в этом сам. Причем я видел работающего Джеббса, а это было уже само по себе невероятным событием, и что ради этого зрелища стоило проделывать сюда столь долгий путь.
За сорок минут, которые облачко пыли медленно превращалось в столб пыли, тянувшийся за военным джипом, мы успели основательно окопаться, и будь у нас пара пушек, Роммель был бы нам уже нипочем. На джипе приехали двое. Загорелые негры, в форме, с автоматами и недобрыми лицами. Мы как могли старались придать своему английскому местный акцент и наперебой на нем говорили, что никаких бандитов мы не знаем, грузовика их никогда не видели, тоже, на каком корабле они приплыли вместе с нами мы не знаем, и когда они обещали вернуться мы тоже не в курсе. Военные, так и не промолвив ни слова, и, надеюсь, не поняв ничего из той околесицы, что мы несли, проследовали дальше к деревне. Проезжая через полчаса обратно они снова посмотрели на нас, но мы были уже подготовлены – дружно кланялись, говорили: «Масса, масса» и махали джеббсовым белым платком в горошек. Когда облако за джипом стало снова уменьшаться, мы попадали под тент от усталости и нервного напряжения и приняли совместное решение в честь нашего спасения, сегодня вечером устроить праздник, дунуть и позвать девок.
Дунуть, это означало выкурить мою заначку – разлапистую веточку марихуаны, которая уже давно дожидается своего часа в книге, что читает иногда Джим, где она бережно хранилась уже не первый месяц в ожидании особого случая. Позвать девок — это пригласить двух разбитных сестер-монашек, которые еще несколько лет назад были нью-йоркскими проститутками, попавшими однажды в неприятную историю в Большом Яблоке, и чтобы не кормить рыб в Гудзоне, они предпочли стать на путь божий, но как можно подальше от родного берега. Одну из них звали Эльза, а другую Елен, хотя она просила называть ее Елена, чтобы она не забывала свои русские корни, но мы, конечно, звали ее как нам удобнее – Елен, а она больше нас и не поправляла.
Отношения между нами за этот неполный месяц сложились довольно дружеские, я бы даже сказал, соседско-платонические, хотя как по мне, то уже пора было переходить к плотоядным, тьфу, то есть плотским отношениям. Но стратежный Джеббс предложил не спешить с этим делом, так как они все-таки монашки, пусть и с прошлым, а мы как-никак теперь научные работники, хоть и наемные, и это нас немного сдерживало и дисциплинировало. Джеббс очень мечтал стать нобелевским лауреатом, а тут такой шанс! Но сегодня пелена спала с наших глаз и мы вместо научных снова превратились в обычных, чудом спасшихся работников и поэтому было принято решение устроить по этому поводу небольшое бордельерро местного значения, с привлечением выпивки, легких наркотиков, и, надеюсь, доступных женщин.
Переговорщиком от нас был единогласно выбран Джеббс, как самый представительный и самый одетый, потому что у нас с Джимом из одежды были на двоих только одни штаны с майкой. Благо последняя была достаточно длинна чтобы прикрывать колени, чего нельзя было сказать о штанах, для которых и слово бриджи то уже стало недосягаемым. Джеббс вернулся назад довольно быстро, в приподнятом настроении и сообщил, что дамы будут, причем не одни, а вместе с флягой спирта. Не успел я понять чему я рад больше, как Джеббс сразу же предложил сестер поделить заранее. Джим возразил, что это не совсем корректно, что мы с ними едва знакомы и заниматься банальным распределением в такой интимной сфере как личностные межполовые отношения по крайней мере неэтично и бесполезно, сердцу мол не прикажешь… Даже я посмотрел на Джима как на инопланетянина. Нет, ну я знал, что он девственник, но все имеет свои пределы!
— У них есть спирт, у нас – трава, надо делить сейчас, чтобы потом не было неразберихи — практично подвел итог всем этим разглагольствованиям Джеббс.
Решили тянуть бумажки с именами. Джеббс сказал, что он будет тянуть два раза.
— За то, что ходил, — заглушил он мой недовольный окрик. – А если не нравится, сейчас схожу еще раз, и Санта с Клаусом уже ни к кому не придут. Вас с вашим видом все равно только в темноте показывать людям можно.
Я потер бороду и кивнул.
— Лишь бы ночь была безлунная, — успел вымолвить Джим, как Джеббс уже быстренько нарвал четыре бумажки, надписал две из них, свернул, перемешал, сказал, что будет тянуть первый, и вытянул, одну с буквочкой «Е», а вторую с — «Э».
Да… Не везет так не везет, подумалось мне, вертя вместе с Джимом в руках пустые бумажки. Джеббс поспешил готовить себе на ночь тройное брачное ложе, а наши одеяла предложил нам постелить на другом конце пустыни, ну или хотя бы, за линией траншей, опоясывающей весь наш небольшой лагерь. Переселяться мы отказались напрочь, и сказали, что раз не будем участвовать в ночной оргии, то посмотреть, ну или, в крайнем случае, послушать, если ночь все-таки будет лунная, имеем полное право.
Дамы прибыли вовремя, фляга тоже не опоздала.
— Ух, какие симпатичные! – изрекла Эльза, которую многие, даже жившие долго и одиноко в пустыне, все равно назвали бы безобразной. Вторая, Елен, была не в пример симпатичнее подруги, я бы даже сказал, что было в ней что-то ангельское, она была более сдержанна на слова и поступки и поэтому целомудренно промолчала.
— Надоели мне эти обезьяны! – продолжала первая. – Целый день им талдычишь про любовь к ближнему своему, они кивают дружно, а потом ночью прирежут своего соседа и едят его до утра, а нам затем потроха на суп несут… Брррр!
— Да, с мясом здесь туговато… — это, наконец, подал голос мой белокурый ангел.
Тут я вспомнил, как сладострастно на нас с Джимми смотрели двое местных на прошлой неделе. Мы еще подумали, что гомосексуализм докатился и до этих мест, Джим смеялся, а мне стало тогда тошно. Сейчас мне снова стало тошно, но уже по-настоящему. Меня спас Джеббс, который крикнул, что стол готов. Когда мы зашли за ряды ящиков, пространство, огороженное ими, можно было вполне считать за комнату, мне стало понятно, что готово, скорее всего, ложе на троих, а мы с Джиммом даже на первой части вечера будем выступать статистами. Такого мы терпеть уже не могли и немного перетряхнули приготовленную для трио «Zavodnoy DJebbs vs Monashki» постель, скрутили одеяла и уселись на них верхом поближе к ящику с кучей открытых консервов. Сестры тоже приняли самое живое участие в разделе постельных принадлежностей и присоединились к нам и все принялись уплетать все те деликатесы «черного дня», которые мы достали из самых тайных ящиков. Джеббс ел за троих, видать копил килокалории для решающей битвы, а как дошло дело до консервированных персиков, то он пробубнил с набитым ртом, что может на спор съесть все оставшиеся пять банок. Никто, конечно, не дал осуществить ему столь гнусный план и персики были распределены более менее справедливо, но при слове «спор», я тут же вспомнил о Дяде…
Глава третья
«Не каждый дядя достоин отдельной главы, да еще и с эпиграфом…»
Итак, при слове «спор», я тут же вспомнил о Дяде. Надо признаться, что я вспоминаю его не только после этого слова, но и после некоторых других слов, а иногда и просто так, но сегодня он мне вспомнился именно после этого. Я могу вам немного рассказать о нем. Хотя я могу рассказать и много – там хватит на целую книгу и не одну, но, я думаю, что и небольшого знакомства с моим дядей будет для вас вполне достаточно, он умеет достаточно быстро утомлять, даже в пересказанном виде. Я буду называть его Дядя, да именно «Дядя» и непременно с большой буквы. Хотя он действительно приходится мне родным дядей, и я прекрасно знаю, как его имя, но не буду поминать его всуе, а буду просто уважительно называть его Дядя…
Так вот, мой Дядя любил шутить. Нет, не в привычных проявлениях этого слова, принятых в нашей местности, такими как дружный хохот над героями туповатых комедий, падающих в лужу или подсыпании не смертельной дозы стрихнина в суп соседу, когда вы у него в гостях. Нет, мой Дядя умел шутить по-настоящему! Он был творец! Колкости, приколы и остроты сыпались из него на окружающих как пряники из рога изобилия. Он умел шутить над всем и всеми, не останавливаясь ни на миг. Не то чтобы Дядя пытался все высмеять, нет – он просто не мог воспринимать мир серьезно, как воспринимаем его мы с вами. Он говорил: «В жизни вообще практически не бывает серьезных вещей: над чем горюешь сегодня, завтра уже будешь воспринимать спокойно, а послезавтра рассказывать как анекдот. Так отчего же не смеяться сразу?»
Дядя ко всему относился с иронией. Иногда легкой и слегка заметной, иногда с нарочно грубой желчью, но и эта желчь была сама по себе смешной, не только в качестве критики по отношению к кому-либо, а просто, сама по себе, эдакая выставочная желчь в банке.
Все люди, которые окружали Дядю в различно время суток – будь то вечер или день, один или сто человек, все они обычно пребывали в состоянии от коликов различной глубины и резкости до шока средней тяжести в зависимости от степени своей подготовленности и градуса дядиного задора в данный момент. Он никогда не играл на публику. Никогда никого не пытался смешить – он не был веселым добродушным клоуном с красным носом и плоскими мозгами. Он не работал на публику, но нуждался в ней. Дядя почти никогда сам не смеялся над своими шуточками, даже если народ вокруг ползал на карачках и молил о пощаде. Его лицо всегда сохраняло подобие маски, и этот контраст между зажигательным юмором и меланхолично-отрешенным выражением лица создавал еще больший резонанс в гражданах, которые к тому времени уже перестали ползать на коленках, а просто вздрагивают в конвульсиях на полу.
Дядя никогда не повторялся. Он считал, что шутка, повторенная дважды, перестает быть смешной. Правда был и такой особый разряд шуток, по признанию самого Дяди, вся прелесть которых состояла в их постоянном повторе и частом употреблении. Некоторые были у Дяди всегда под рукой, остальные просто валялись в переднем кармане. Например, его любимый прикол про время. Всегда в любой время года, суток, расположения планет относительно Земли и Луны относительно приливов и менструального цикла, на вопрос: «Сколько время?» Дядя неизменно отвечал: «Полвторого». Голос у него всегда был уверенный и четкий, какой мог бы быть у лондонского Биг Бэна, если бы тот умел говорить. Родные уже так давно свыклись с этой временной дядиной константой, что перестали обращать на нее внимания. Чего нельзя сказать о незнакомцах, желавших иногда ознакомиться у Дяди с их расположением во временном отрезке григорианского летоисчисления, и всегда получавшие авторитетнейший ответ: «Полвторого». Некоторых это вводило в такой ужас, что они начинали двигаться быстрее фаворитов на скачках, на которых они имели неосторожность спросить у респектабельного господина: «Который час?» Затем жертвы дядиного времяисчисления обычно подбрасывал вверх билеты со ставками и заключенными в них остатками семейного бюджета и быстрее, чем те успевали опуститься на землю, чтобы быть подобранными благодарными дядиными племянниками, срочно ретировались с ипподрома, придумывая на ходу для своих женушек душераздирающие истории из жизни похищенных кошельков.
Итак, Дядя никогда не повторялся, но зерна его таланта иногда давали всходы на благодатной почве штата Канзас. Заехав, бывало в какой-либо захудалый городишко к своим старым знакомым на пару бутылочек достаточно крепкого чая, Дядя мог услышать шутку над которой он мог и сам посмеяться от души. Причем не просто шутку, а целый культ, пласт юмора который вырос явно из какого-то старого прикола, оброс подробностями, вариантами, слоями и ракушками, являясь при этом одним из основных стержней местного фольклора. Дядя как истинный ценитель и знаток юмора, непременно интересовался историей происхождения данного перла. Обычным ответом на это был круг недоуменных лиц и разведенных рук, обитателей данного конклава: «Мол, это ты сам так пошутил много лет назад, когда был здесь последний раз. Нам шутка очень понравилась, вот мы и развили ее!» Дядя, который действительно забывал почти все свои выбрыки больного рассудка уже на следующий день, неизменно улыбался в таких случаях, слегка подтрунивал над окружавшими его последователями, отчего последние начинали чувствовать себя генетически измененными продуктами, и затем одаривал их очередными порциями нового компоста и до конца вечера нежился под сенью древа разросшейся шутки, оброненной им в благодатную почву, под благоговейные трели местных обитателей.
Один из почитателей дядиного таланта, который умел говорить, читать и записывать свои мелкие мыслишки в еще более мелкий блокнотик крупными буквами и оттого именовавший себя писателем, долго предлагал Дяде написать книгу, ну или хотя бы позволить ему записывать дядины шутки и использовать их в своей книге. Сделать это без дядиного разрешения приспешник не решался, так как это грозило отлучением от церкви почитателей таланта Великого Смешного. Но Дядя всегда отмахивался от его предложений словно веником от мух: «Это обыденно, глупо и неинтересно.»
— А если Ваши шутки вдруг будет использовать кто-то другой? Если он напишет книгу и заработает кучу денег? – не унимался писашка.
— Ну, заработает и черт с ним! Подхватит он пару моих шуточек и будет носиться с ними как убогий с конфетой, что с того? Конфету он свою съест, деньги имеют свойство заканчиваться, а мой юмор всегда со мной! – в этом месте он обычно хлопал себя по необъятному животу, и всем сразу становилось понятно, где у Дяди живет его коллекция смеха и что хватит ее еще надолго. – Он подхватит пару угольков у моего костра и греется ими всю жизнь, они остынут, а новых ему взять будет негде. А я как действующий вулкан, который одаривает окружающих вечным огнем, лавой и посыпает их головы пеплом, – потом Дядя обычно начинал гоготать демоническим хохотом, вы не обращайте внимания, у гениев часто не все дома, а кто дома, те обычно голодают. Семья Дяди не исключение, если бы он занимался ее пропитанием и проживанием, то эта ячейка общества была бы уже давно и надежно зарыта на глубине шести футов в деревянных ящичках.
Жизнеобеспечением в дядиной семье занималась, как и в большинстве семей, его жена — тетушка Джинджер. Она владела небольшим, но довольно преуспевающим магазинчиком, который кормил не только ее, Дядю, все их потомство, но еще с десяток мелкородственных прихлебателей, включая меня самого.
Сам Дядя за свою жизнь сменил около миллиона профессий. Он менял их так быстро, что, не успевая как следует примерить на себя одну шкуру, уже ногами влезал в следующую. Например, выходил он с утра из дома устраиваться плотником, приходил в пожарное депо, поступал туда на службу диспетчером, и после подозрительно быстрого возвращения домой думал уже о карьере моряка. Ночь, проведенная за штудированием морского атласа и раскуриванием трубки, выливалась в хмурое утро, морскую болезнь и мысли о карьере землепашца.
Иногда Дядя довольно сильно увлекался и его хватало на несколько дней сосредоточенного сотрудничества с каким-то одним видом человеческой деятельности. Но тогда уже коротким становилось терпение работодателей, потому что такого наплыва рационализаторских предложений не мог выдержать и переварить не один мозг в мире, в том числе, и Эйнштейна, и самого дяди. Причем мозг последнего и не задумывался об обработке своих идей, он их просто вещал во Вселенную. Мысль о том, что Космос решит в один, прекрасных для всех день, отомстить и вернет весь это бред обратно в голову первоисточника, Дядю не пугала.
Когда список вакансий и вариантов трудоустройства в нашем и всех соседних городках заканчивался и Дядя был не в настроении заходить на очередной круг, а нерастраченная энергия еще бурлила в его самоварном теле, то он принимался за создание принципиально новых профессий и родов занятий в истории человеческой цивилизации. Так как тетя Джинджер раз и навсегда преградила своим двухсотфунтовым торсом и шестиразмерным бюстом путь Дяди в мелкий и средний бизнес, требующий хоть малейших денежных вложений (на крупный у него хватало идей, не хватало кредитоспособности, особенно после той дохлой истории с разведением песца в условиях полупустыни), то Дяде ничего не оставалось, как периодически пытаться захватывать необъятный рынок по оказанию услуг для ничего не подозревающего населения. К сожалению, большая часть потенциальных, но недалеких клиентов нашей ближайшей округи не была готова к таким смелым экспериментам как: психоанализ и персональный гороскоп для крупного рогатого скота или массовый гипноз с психозом и поголовной сдачей на справедливый суд хозяев, домашних вредителей. Правда, идея межзвездной экспедиции на Венеру в 2024 году нашла своих приверженцев в виде Малыша Кида, долгожителя нашего городка, первого и единственного участника этого смелого, и, обо всей видимости очень нужного для всего человечества проекта. Дядя завалился к Малышу прямо на его девяностолетие и вручил ему только что изготовленный собственноручно буклет, сделанный из разорванной коробки из-од видеокассеты с изображением Чейси Лейн в довольно открытом звездном костюме с одной стороны и нарисованным фломастером ракеты с крыльями и пропеллером с другой, с подписью: «Лети или сдохни!» Малыш сразу же выбрал лететь и тут же внес вступительный взнос в размере 19,99$. На следующее утро весь город был в курсе этой истории, а Малыш Кид был успешно переименован в Астронавта Кида, а затем до просто Астронавта. Следующие пять лет на свои дни рождения он исправно получал шлемофоны и гермошлемы, штурвалы и куски обшивки «Челленджера», канистры с авиационным бензином, консервы со сроком хранения более тридцати лет, а также утяжеляющий водолазный пояс, чтобы не так болтало в невесомости, а также весь прочий хлам, который ему непременно понадобится в полете. Инициатором большинства подарков, как нетрудно догадаться выступал сам Дядя. Но к сожалению, для окружающих и, наверное, к счастью для самого себя Малыш Кид, он же Астронавт, в конце концов отправился в путешествие к звездам налегке, прихватив лишь свою душу в октябре 1995 года. На могиле же с его бренным телом лежит скромная памятная плита: «Здесь покоится Малыш Кид, первый и единственный астронавт нашего города».
Вернемся к Дяде. Так вот, главным его увлечением была не постоянная привычка менять работу и даже не умерщвление морального облика соседей, там он не встречал никакого сопротивления – достичь вершин его сарказма, а тем более побороться с ним на равных не было под силу никому из смертных. Настоящей страстью Дяди были споры. О, да! Здесь он раскрывался полностью! Здесь была борьба! Да какая борьба, здесь была война, истребление, апокалипсис! Здесь был противник – живой, пока еще живой и не согласный с тем, во что свято верил Дядя. А тот умел верить по гроб жизни! И так как дядино мировоззрение и круг интересов был равен триста шестидесяти градусам, а горячая и бесповоротная вера в нестандартное толкование событий и предметов у Дяди не имела границ, прибавьте к этому вздорный и задиристый характер моего родственника и умножьте все это на количество жителей нашего городка и вы получите примерное количество заключенных Дядей пари.
Я не буду утомлять вас и без того слегка утомленных дядиным обществом читателей, перечислением всех споров в которых участвовал Дядя, пройдусь лишь по некоторым. Скажу сразу, что большинство этих споров так и остались неразрешенными, по причине малых возможностей проверки их на практике или ограниченности человеческой жизни и терпения для проверки конечного результата. Например, что раньше погаснет Луна или Солнце? А, каков размах? Или прорежется ли у человека в результате эволюции третий глаз? Зачем ему это надо было знать и еще об этом спорить? Не знаю.
Обычно человек, вступающий с Дядей по неосторожности в спор, уже через пять минут был готов признать свое поражение под напором дядиной харизмы и аргументов вперемешку с чесночным перегаром. Но нам не нужны легкие победы! Для начала Дядя давал уничтожительную характеристику для своего визави, его ближайших родственников, их умственного и физического здоровья. Далее обычно шли прозрачные, ненаказуемые, но в тоже время достаточно однозначные намеки на кровосмесительную связь всех фамильных ветвей противостоящей стороны с участием различных животных вплоть до тотемных. Если этого было мало, тогда Дядя вкратце проходился по теме будущего поколения его противника, которое может появиться в результате такого образа жизни, если уже текущее несет на своем лице все признаки генетических изменений. Если субъект спора еще не пытался придушить Дядю, а сделать это с его почти трехсотфунтовой тушей и бычьей шеей было практически нереально, но в то же время подавал хоть какие-то признаки жизни, то приступали к практической проверке предмета спора, если таковое представлялось возможным. Тут доходило до всякого: приклеивание машин к асфальту и попытки ее самостоятельного отрыва (участвуют различные марки клея и автомобилей), протаскивание носового платка через нос и рот – тут Дядя немного поднаторел, и мы стабильно брали это очко, выпивание на скорость литра подсолнечного масла вместе с оппонентом! Тут главное было вовремя остановиться, точно зная свою дозу, после которой ты обычно начинаешь блевать – Дядя эту дозу хорошо знал, а противник обычно нет. Ну и так далее…
Я же хотел вам рассказать, как Дядя поспорил о том, сломал ли он ногу или нет. Это было на празднике. День Урожая, уже не помню какого года – короче, ярмарка, массовое гуляние на окраине города, неприлично огромное поедание еды и распивание питья. Народу было много, трезвых намного меньше. Машины, кони, повозки, трактора. К тракторам мы еще вернемся, пожалуйста, не глушите вон тот большой, с красной крышей! Спасибо. Дядя обычно на праздниках пил много и в меру, но на вид не пьянел – не могу ручаться за его голову, что творилось в ней в трезвом виде и отличалось ли содержание мозговой деятельности от пьяного состояния, об этом простые люди, и я, в том числе понятия иметь не могли. Во всяком случае, внешние поведенческие признаки особо не менялись, а острота и колкость его выходок от количества выпитого им спиртного никак не зависели.
В разгар массовой попойки и поедки на свежем воздухе, которые все мещане почему-то упорно называли празднествами, Дядя предложил устроить гонки на тачках. Благо дело было по осени, тачки у всех были на ходу и поэтому большинству народа идея понравилась. Бабушки, оккупировавшие периметр пустыря на котором проходил пока еще слишком мирный по дядиным понятиям праздник и где должен был состояться Первый Большой Бриджтауновский тачечный заезд, вздохнули с облегчением. В их сердца слишком глубоко врезалось последнее массовое дядино развлечение – стрельба по диким гусям. Это было аккурат на прошлом празднике Подготовки к празднику Урожая. Тогда Дядю и осенила та гениальная идея, и ее также поддержали многие «неведавшие что творят». Так как в наших краях диких уток, а впрочем, равно как и диких гусей можно было увидеть только по телевизору, то выставили на поле замену – домашних цыплят. Кто сказал, что куры не летают? Я видел совсем другое. У них был совсем небольшой шанс, и некоторые им воспользовались – улететь в добрые края подальше от этой своры пьяных фермеров с ружбайками, во главе с полоумным заводилой. Сотня цыплят, собранных в кучу на этом самом пустыре, после предупредительного выстрела в воздух полетела исправно, но не кучно и крайне низко. Инстинкт убийц мамонтов и птеродактилей взыграл в и без того разогретой кровеносной системе охотников мгновенно, и пальба началась во всех направлениях стихийно, но довольно плотно.
Наш городок никогда не подвергался нападениям индейцев, но я всегда знал, что где-то глубоко внутри мы к нему готовы. Бабули в первую очередь, мамаши с малыми детьми во вторую, с задержкой максимум в пару миллисекунд, оказались на земле. Перья опускались еще в течение получаса, в принципе столько же сколько и стихала стрельба в окрестностях. Кое-кто успел окопаться…
Хорошо, что на этот раз забава обещала быть мирной – подумаешь пробежаться с тачкой навоза по кочкам, эка невидаль! Дорогая, где наша тачка, в сарае?
Предложение устроить дерби с порожними средствами перевозки дерьма, было отвергнуто Дядей решительным взмахом руки и фразой: «Это для слабаков!» Поэтому тачки трамбовались биогумусом по самые ого-го. Дядя лично попрыгал перед стартом на каждой тачке, чтобы проверить тщательность трамбовки, после чего несколько моделей были сняты с заезда со сломанными колесами.
И вот гонка началась! Дядя быстренько выбился в лидеры, проехав при этом по паре конкурентов, основная масса тачечников мчалась за ним, но первым был не он, первым бежал, а точнее катил в желтой кепке лидера Морган Фрост! Дядя мог проиграть кому угодно: Саддаму Хусейну или Мефистофелю вместе с Гете, но только не Фросту! Фрост был из оппозиции из очень маленького и самого вредного меньшинства, из тех, кто никогда не смеется над дядиными шутками, из тех, кто не боготворит его и не воздает ежедневную хвалу небу за то, что имеет возможность жить рядом с таким Человеком!
— Морган, старый пират, сколько ты сегодня прирезал народу? Что ты роешься в огороде, забыл, где зарыл свои сокровища? Я видел вчера рекламу по телевизору, так ты не только ассенизацией, но и одеждой теперь занимаешься? – это был стандартный набор приветствий, которыми встречал Дядя Фроста. И вот сейчас, это ничтожество – этот не способный даже достойно отпарировать дядины выпады в свой адрес, а умеющий только злобно тявкать: «Старый неудачник, закрой свой поганый рот!» — сейчас бодро толкал тачку на десяток корпусов впереди основной группы, в том числе и Дяди, кричавшего истошным голосом неприличное ругательство, от которого все дамы позакрывали себе уши: «Фальштраф! Фальштраф!» На что Фрост только улыбался во все свои три желтых зуба, оборачивался и показывал язык. В очередной раз, обернувшись на не совсем удачном куске трассы, он зацепился ногой за кочку и некоторое время еще проехал на своей тачке, головой в грузе и ногами вверх, а затем весь этот человеко-тачко-навоз, полетел на землю в районе второй беговой дорожки. Заметив такое неожиданное, но вполне заслуженное счастье, Дядя издал воинствующий клич гугенотов – это племя одних французских индейцев и припустил вскачь, практически обогнав свою тележку. Это ускорение стоило ему золотой медали, или чем он там себя собирался награждать за первое место, потому что если, Дядя проигрывает в подобных соревнованиях, зачастую сам являясь их организатором, то до награждения дело обычно не доходило. Так вот Дядя, конечно же, тоже упал, причем вровень с Фростом. Некоторое время они еще ползли наперегонки, но вскоре тачки, вцепившиеся им в руки, а так же стадо неандертальцев, пронесшееся мимо них и табун ржущих со всех сторон лошадей остудили их спортивный пыл. Отдышавшись, оба старых пердуна попытались встать, причем удалось это, лишь одному и это был не Дядя. Он снова упал в перепаханную тачками и ногами, а также хорошо удобренную навозом землю, схватился за ногу и вскрикнул неприличным словом.
— Перелом, — единодушно констатировал научно-медицинский консилиум из всех быстренько собравшихся зрителей тачечного забега.
— Нет, — академично парировал Дядя. – Я не слышал хруста!
Под влиянием его авторитета единство в рядах резко испарилось и наметился раскол. Половина родонаселения — в основном отчаявшиеся домохозяйки, признавали в Дяде пожизненного инвалида. Другая половина, в основном мочащаяся стоя, и смеющая перечить первой только на людях – отрицательно качала головами, наперебой припоминая истории про прыжки с амбара, нераскрывшиеся парашюты и танцы в тот же вечер с активным участием нижних конечностей. Дядя продолжал лежать.
— Это точно перелом, — изрек, наконец, Фрост, который физически не мог оказаться на дядиной стороне.
— Спор! – это уже Дядя.
— Десять долларов, что ты калека! – принял вызов Фрост.
— Согласен, — это Дядя. – Хотя если бы спорили по поводу твоей инвалидности, то я победил бы даже без проведения вскрытия! – дружных хохот нашей стороны. – Нужно проверить, — изрек Дядя, по-прежнему возлежа на куче навоза и потихоньку там уже обживаясь. – Эксперимент! – не закусывая, продолжил вещание на своей волне главный участник сегодняшнего вечера, которому было не привыкать к этой роли.
Большой трактор с красной крышей подогнали быстро. Несмелые предложения типа: «Может все-таки рентген…» были быстро затюканы желающими острых зрелищ и их аргументами: «Ехать долго… Все доктора шарлатаны…» и прочее. Дядю и его, пока еще не слишком травмированное тело, разложили на более ровном месте с мягкой почвой. Я вместе с Дядей смотрел тот рекламный ролик с участием подобного трактора и лампочки, волшебно извлекаемой в конце из-под его колес, поэтому я, как и он не сомневался в благополучном исходе эксперимента.
Дядя лично командовал собственной казнью, велев трактористу проехаться для начала по больной ноге, чтобы убедиться, что она вовсе не больная, а потом уже приниматься за здоровую. После первого проезда сельхозтехники по собственной конечности, Дядя потерял сознание совсем ненадолго, это его, конечно, немного встревожило, но не остановило, и он решил все-таки для сравнения проехаться и по здоровой, чтоб уже наверняка! После второго проезда Дядю уже вырубило надолго, и партия его сторонников быстро потеряла позиции в обеих палатах, а ее лидер через несколько часов был наконец доставлен в больничную.
— Зачем вы пытали старика? – это был первый вопрос заданный дежурным врачом. – Неужели этот малый смог столько скопить и так хорошо спрятать, что ему пришлось ломать ноги в трех местах? – это были его следующие вопросы, и пока Дядя был в отключке, его дух все равно поддерживал в нас силу юмора через уста этого молодого хирурга.
Дядю выписали уже на следующий день после обеда – больничный персонал в сговоре с больными обратился с воззванием к главврачу пообещав, что они все умрут и поувольняются, если этот старый зануда останется в клинике еще хоть на час.
На этом я, пожалуй, прерву свой затянувшийся рассказ о своем Дяде и так изрядно утомивший читателя своей персоной. Но может быть, мы к нему еще вернемся, если вдруг нам станет скучно на страницах этой книги…
Глава четвертая
А наш африканский праздник тем временем продолжался. Когда прибывшие леди спросили, по какому поводу праздник, то мы решили не посвящать их особо в наши маленькие археологические радости, а сказали, что празднуем Рождество. Они с радостью согласились, хотя до Рождества оставалась минимум еще неделя, но им настолько надоел пост, который их заставляли держать в миссии, да и какие женщины не любят праздники, пусть даже столь скромные! Хотя Елен сказала, что до настоящего Рождества еще не одна неделя, а почти три, но я не стал с ней спорить – у этих ньюйоркцев все, ни как у людей… Джеббс вообще заявил, что, скорее всего никакого Рождества нет и не было и все это сказки и вранье. Но меня было не провести, я уж точно знал, что Рождество есть, или, по крайней мере, было. Оно для меня также реально, как праздничный стол с индейкой, пудингом, шоколадными зайцами и подарками поутру в сапожках над камином. Единственное чего я не мог понять, почему для некоторых Новый Год является более важным праздником, нежели Рождество? Например, та же Елен рассказывала, что у них в России все старания хозяек проломить снедью столы, направлены именно к Новому Году, а на Рождество, которое наверно из-за своей неправильной христианской любви переставили после Нового Года, они доедают, то что осталось, ну а если не хватает, то готовят недоваренную пшеницу – называя ее при этом Kutya! Ну, Россия дикая страна, в которой правят медведи, хотя вон у китайцев вовсе позднее зажигание, Джим говорил, что к ним Новый Год вообще в феврале доходит и то постоянно в разные дни! Как они знают, когда к празднику готовиться? Хотя что им так готовиться – у них и так каждый день на обед рис. Хотя так у них хотя бы было бы время из него тортик с индейкой вылепить… А есть ли у них Рождество они вообще не признаются.
Но бог с ними, с китайцами и с их несчастным миллионом населения, кому они интересны? Мне нет. Мне интересно, почему некоторые люди считают Новый Год главнее Рождества? Вы же не празднуете Новый Месяц или Новую Неделю и тем более Новый День? Хотя помнится, был как-то у того же Дяди недолгий период, когда он праздновал каждый день Новый День. К нему как раз очень неожиданно, но как нельзя вовремя приехал старый родственник из Кентукки. Дядя никогда его до этого не видел, и поэтому так по нему наскучался за всю свою жизнь, что не отпускал его из своего дома и объятий почти две недели, в течение которых они ввели празднование не только Нового Дня, но постепенно деградировали до празднования каждого Нового Часа. Не знаю, куда еще чаще можно было откупоривать бутылки и до каких новых праздничных делений времени добрался бы Дядя со своим уже не радостным тогда, то ли деверем сестры мужа тети, то ли свекром двоюродного племянника брата отца, но тут вернулась из очередной поездки по святым местам набожная тетушка Джинджер. Она быстро прекратила этот затянувшийся, по словам соседей, пьяный дебош, который Дядя, пусть нечленораздельно, но все же пытался представить в виде «трчского симпозма». Бедному кентукскому родственнику было произведено краткое, но глубокое дознание на предмет его познаний в генеалогических ветвях, корнях, стволах и дуплах семейства Джонсонов, по результатам которого оный представитель табачного штата, не набрав ни одного балла, был назван самозванцем и в двадцать четыре секунды был выставлен за дверь со всеми своими полутора чемоданами вещей, потому что на другие полтора чемодана тот имел неосторожность сыграть с Дядей в вист.
Буквально через четверть часа бедный странник из Кентукки был радостно найден своими счастливыми родственниками из семейства Дэвис, живущих на другой стороне улицы и чуть наискосок. Об этом еще через четверть все того же часа тетушке Джинджер сообщила через ограду заднего двора соседка, добавив, что Дядя мог бы и пораньше выпустить бедолагу на свободу, если бы он хоть раз за это время выглянул на улицу и взглянул на любой забор, где он непременно заметил бы объявление о розыске, с обещанным вознаграждением за любую информацию о местонахождении жертвы, ну, или хотя бы каких-либо ее ценных и распознаваемых органов. Правда в человеке, лучезарно улыбающегося с каждого забора и столба нашего города, было крайне трудно узнать того заросшего и опустившегося типа, которого полчаса назад тетушка спустила с нашего крыльца. Дядя впоследствии очень жалел об упущенном вознаграждении, которое могло бы хоть частично возместить непоправимый урон, нанесенный двухнедельной попойкой магазинному складу, потому что одними дядиными извинениями, сильно девальвировавшими в течение последних сорока лет совместной жизни, тетушка Джинджер уже не удовлетворялась. Мнение самого родственника из Кентукки по поводу произошедших событий узнать не удалось в связи с тем, что как только он немного отошел и начал снова узнавать людей и отличать их от чертей, в отсутствии которых его всю неделю дружно уверяло все семейство Дэвис, он был немедленно отправлен обратно домой в закрытом фургоне под покровом темноты, причем маршрут отступления был проложен так, чтобы он ни в коей мере не мог пройти мимо дома Дяди или мест его возможного обитания.
Но бог с ним, с Дядей и его праздником Нового Дня. Сейчас он далеко, а у нас ночь, светят звезды, горит костер, мы доедаем персики, пьем спирт и мы празднуем Рождество. Еще мне греет душу маленькая веточка счастья в божьей книге и настроение хорошее, и все кругом замечательные люди, даже Джеббс, который уже начинал ощупывать наряд Эльзы не только глазами. Когда фляга и консервные банки опустели, а животы наполнились, пришла очередь главного блюда. Я достал Библию, монашки как по команде выровнялись, отчего эльзина правая грудь выскользнула из левой руки Джеббса и обе сестры замерли в первой позиции сидя.
— Вольно, — сказал я им. – Сегодня обойдемся без вечерней молитвы.
Я раскрыл книгу на нужной странице, вынул волшебную веточку и начал крутить не менее волшебную папироску. Монашки увидев, что это была ложная тревога, расслабились, круг силы был восстановлен и зажженная папироска, постепенно уменьшаясь, начала свое неторопливое путешествие по заблудшим душам против часовой стрелки. На четвертом кругу папироска выдохлась, мы еще больше расслабились, отношения еще больше потеплели и даже начали слегка подогреваться с одной стороны: Джеббс принялся за другую грудь Эльзы, а я постепенно наподсаживался к Елен, так что наши коленки один раз соприкоснулись, но она немного отодвинулась. «Неплохо» — подумал я — мне этих сексуальных впечатлений хватит на некоторое время. Но останавливаться я не собирался и снова по микрону начал смещаться в нужную сторону. Джима наши полоколовращения мало интересовали, он смотрел в звездное небо, как будто видел его первый раз. Елена тоже правда постоянно смотрела в небо, периодически бросая взгляды на Джима и ретируясь от меня к нему.
— Ой, звезда упала! – глубоким голосом прогудела Эльза, тем самым имея повод вырваться из объятий Джеббса и оправиться.
— Это не звезда, это метеор, — голосом экскурсовода из планетария поправил Джим. – Странно… В декабре…
— А-а, — привычным голосом ничего не понимающего человека глубокомысленно изрекла Эльза. – А ты умный? – это прозвучало уже как оскорбление, и было заметно, что она пошла в наступление на Джима. Но он никогда не обращал на такие вещи внимания, и обычно с его обидчиками расправлялся я.
— Просто читаю много.
— Да? – это уже Елен, открыла второй фронт. Я немедленно за это ухватился.
— Да! Джимми знаешь, какой у нас умный, почти такой же, как я сильный, – я поднял руку, согнул ее и напряг бицепс, выставляя его напоказ, получилось весьма эффектно, хотя и недооценено собравшимися – темно, наверное, было.
— И про звезды все знаешь? – спросила Елен, развернувшись и пытаясь заглянуть Джиму в глаза, лишь бы не быть сраженной размером моих мышц.
— И про все! Я же сказал! – я не терял надежд и напряг вторую руку все с тем же успехом.
— Как интересно… — снова сказала Елен.
Что-то в ее голосе мне не понравилось, и я опустил руки.
— А что это за яркая звезда? – Эльза указала куда-то Елен за спину, все кроме меня оглянулись и у Эльзы появилась, наконец, возможность высвободиться из-под слишком братской опеки Джеббса и встать.
— Это не звезда, это планета. Венера, — продолжал умничать Джим. – А вот там Марс, остальные не видны невооруженным взглядом.
— А если в прицел посмотреть? – спросила Эльза. Джеббс засмеялся, то ли просто так, то ли со злобы за прерванные ласки — не понятно, хотя всем было ясно, что смотреть в прицел винтовки на звезды толку мало, если только он не оптический.
— Тут прицелом не обойдешься, тут нужен телескоп, — как всегда спокойно, будто разговаривает с детьми, ответил Джим. – Мой дома остался, а то бы я вам показал эту красоту…
— Ну, я думаю, что ты и так сможешь показать нам всю свою красоту, — Эльза начала приближаться к Джиму самой развязанной походкой из своего нью-йоркского, да и не только прошлого, проводя параллельно вендеттовские действия по отношению к Джеббсу, да и просто позиционируя себя центральной фигурой вечера.
Джимми никак не отреагировал на ее демарш и продолжал смотреть вверх. Придя в пустоту, Эльза развернулась и потопала на свое место мириться, а я только сейчас понял, что так много слов подряд в общении с малознакомыми людьми я слышал от Джима только в шестом классе. Тогда к нам в школу пришел новый учитель и по неосторожности, а может и с легкой руки своих новых коллег-интриганов, не предупредивших новенького, что у нас учится такой мальчик как Джим Гаррисон. Едва урок начался, как новенький сразу же начал делать Джиму замечания, за то, что тот не слушает учителя, а читает на уроке какую-то книгу. Хотя даже не читает, а, по-видимому, просто рассматривает картинки, потому, что читать с такой скоростью, с которой он листает страницы, невозможно. Джимми никак не отреагировал на его замечания — он просто не мог себе предположить, что кто-то может обращаться к нему во время урока и тем более учитель. Когда же молодой, и до этого памятного в его жизни урока, и еще не до конца опытный преподаватель подошел к Джиму и взял его книгу, тот поднял, наконец, на учителя свой взгляд.
— Это учебник по термодинамике для третьих курсов технических колледжей? Ты можешь сколь угодно ее смотреть, но ты не найдешь здесь порнооткрыток, если конечно их здесь не спрятал твой отец! – Самоубийца засмеялся истерическим смехом своей последней шутке, оборачиваясь при этом к классу в поисках поддержки, но ответом ему была лишь гробовая тишина и жужжавшая муха.
— Я ее читал, — своим обычным спокойным голосом, которым он обычно разговаривает с идиотами и хомячками, сказал Джим.
— На уроке?
— Да.
— И как же ты при этом собирался слушать учителя, получать знания так сказать? – на этот раз безумный учитель уже не стал искать поддержки в классе, а попробовал пробуравить взглядом лоб Джима.
— Какие знания? – создавалось впечатление, что Джим просто сводит его с ума, но я то на самом деле знал, что Джимми в эту минуту абсолютно искренне удивлен.
— Новые!!! Новые, нужные знания! За которыми дети и приходят в школу! – не буду вам напоминать, дорогие моему сердцу восемнадцать читателей, что в споре проигрывает тот, кто первым начинает кричать.
— Я их и получаю, — Джим отвечал, так как будто кричали вовсе не на него. – Вы мне мешаете, — и кротко протянул руку за своей книгой.
— Ну, это уже наглость, — учитель перестал кипеть и перешел в стадию шипения и сопения. Класс в это время потихоньку делал ставки. Ставили на то, что новичок выбежит из класса еще до звонка или на то, что он не сможет встать со стула до конца урока, на победу самого учителя ставки не принимались. – Сейчас же к доске и рассказывай, о том, о чем я только что говорил.
— А что за предмет? — спросил, вставая со своего места Джим.
— Что? Что за предмет? Ты не знаешь? – оппонент терял остатки терпения и слюны.
— Нет.
— Биология у нас сегодня! А не… Не… — учитель попытался быстро прочесть надпись на обложке книги, но не смог – глаза были залиты кровью.
— А тема?
— Происхождение жизни на Земле! – вот тут наша вражина ошибся, потому, что он еще в начале урока повесил на доске плакат с какими-то грибами, а я пусть и не такой умный как Джимми, но, тем не менее, в состоянии отличить грибы от не грибов. А тем временем Джим вышел к доске.
— Существует масса теорий происхождения жизни на Земле и наука до сих пор ни одну из них не может признать окончательно достоверной. Основной на данный момент является теория эволюции Дарвина, но у нее… — и Джим начал быстро и без запинки зачитывать целый научный доклад и непосвященные вполне могли подумать, что он делает такие доклады каждый день, а не раз в год по особым случаям. Что он берет с собой в школу до десятка книг и прочитывает их уже к четвертому уроку. Потом он начитает, что-то писать и чертить в своих тетрадках, что – боится спросить даже директор школы, он попал в прошлом году как-то под джиммов каток, имев неосторожность спросить его об обратных матрицах в математике.
Поэтому все эти годы система американского среднего образования жила спокойно по своим законам, а Джим по своим, и первая к нему не лезла, потому что почувствовать себя полным тупицей перед всем классом желающих было мало. Этому новенькому не повезло, никто не хотел ему зла и Джимми в том числе, но беспощадному богу знаний нужны периодически кровавые жертвоприношения, и оно было принесено. Через полчаса, когда Джимми только что закончил рассматривать все минусы креационизма и решил более подробно остановиться на теории самозарождения Опарина-Холдейна, наконец, прозвенел звонок. За это время он так отделал новенького своими метеоритными спорами, электромагнитными полями и прочей агрессивно влияющей на неорганическую материю фигней, что тот сам превратился в кусок нематериальной фигни с ослабленным галстуком под раскрытым ртом. После уроков коллеги все-таки над ним сжалились и повели бедолагу отпаивать в паб, по пути приговаривая: «Да… А что ты думал, у нас таких много… Представь каково нам…»
Зачем Джимми вообще ходил в школу, мне никогда не было понятно. Также мне никогда не было понятно, почему он не пошел в университет, хотя мог бы выбрать любой или сразу несколько – получить для него гранд с его напичканной всякой всячиной и разложенной по полкам с ярлычками румяных знаний головой – не составило бы особого труда. Но Джим заявил своим домашним, что в колледж он не пойдет, не видит в этом смысла – он давно уже прошел заочно как политехнический, так и политологический курсы (на знаю, зачем он повторил одно и то же слово дважды, наверно для усиления эффекта). И теперь он хочет несколько лет попутешествовать, на что его мама ответила глубоким обмороком, а папа двумя предупредительными выстрелами в воздух. В течение десяти минут, пока мама пыталась самостоятельно привести себя в чувства, а папа искал в гараже запасные патроны, Джимми быстро собрался, вышел из дома и зашагал по нашей улице по направлению к выходу из этого мира. Я жил от него за два дома и, как и все соседи, выскочил на звук выстрелов на улицу. Дяди не было в это время в городе, поэтому стрельба могла означать и что-то серьезное. Джим замедлил шаг около меня и моей калитки и сказал: «Я еду попутешествовать. Ты со мной?» Я ответил, что зачем он задает глупые вопросы, вместо того, чтобы сказать, брать ли с собой зимние вещи? Джим предположил, что возможно это надолго, на что я ответил: «Тем лучше! Мне нужно семь минут!»
Мое прощание с родителями прошло в более спокойной, чем у Гаррисонов обстановке: папа, смотрел на меня со стены как всегда бодро, он был в форме, погонах, медалях и явно одобрял мои действия. Мама как всегда переживала, но, тем не менее, смотрела ласково с соседней фотографии, и от нее я тоже получил благословение. Не могли, наверняка не могли быть у такого замечательного сына какие-нибудь заурядные и непрогрессивные родители.
Дяди, как я уже сказал, не было дома, но оно и к лучшему, потому что он наверняка увязался бы за нами. Дошли бы мы с ним максимум до окраины города, до какого-нибудь милого кабачка, где немедленно бы началась фиеста в честь нашего отъезда, почти наверняка перешедшая бы в банальнейшую попойку, закончившуюся как всегда нетранспортабельностью части отбывающих и традиционный вызовом полиции.
Тетушка Джинджер задала только два практичных вопроса: вернемся ли мы к обеду и взял ли я теплый свитер? Вещи я упаковал быстро, тетя собрала пакет с провизией, поцеловала меня в лоб и торжественно подала коллекционный экземпляр Библии, который обычно продавался в ее магазине по двенадцать долларов. Я очень обрадовался ее подарку, потому что в качестве памяти о доме и тары для последней веточки марихуаны еще прошлого сезона, я прихватил первое, что попалось под руку, и это был каталог племенных коров штата за 1964 год, но вариант предложенный тетей был намного легче, компактней и безопасней и я ее расцеловал. Пока всплакнувшая тетушка ходила на кухню проверять не сбежало ли у нее молоко – весьма неожиданное предположение, высказанное ее милым и заботливым племянником – волшебная веточка перекочевала с разворота с голштинскими рогатыми красавицами в шестую главу Бытия, поближе к Ною. Когда тетушка вернулась, сообщив, что у нее на плите нет молока, то поцеловала меня еще раз, снова всплакнула и сказала свою знаменитую фразу о том, чтобы я всегда помнил, что в это книге (я как раз засовывал Библию в рюкзак) я найду ответы на все вопросы и в ней хранится самое главное! Теперь я уже не мог с ней спорить, обнял ее и побежал на улицу к Джиму. По пути я подумал: «Как странно…». Как странно устроена наша память – какие-то важные вещи мы не запоминаем, а всякую чушь можем помнить всю жизнь. С самого раннего детства я каждое воскресенье проводил с тетушкой в баптистскую церковь (Дядя с нами естественно не ходил — по словам тети, он готовился гореть в вечном аду и поэтому копил силы и жир на диване). Вместо сказок мне читали житие апостолов, вместо стишков я заучивал псалмы, но особенно мне нравилось хоровое пение, а сейчас ничего из этого не могу вспомнить, ни строчки. Но зато однажды брошенная Дядей фраза о том, что Библия самая воруемая книга в мире засела во мне навсегда…
Мои мысли уже возле самой калитки оборвал выстрел – папаша Джима нашел все-таки дополнительные патроны и перестал стрелять в воздух, потому что листья на голову в мае не опадают, а если и опадают, то не вместе с ветками. В этом месте я уже пожалел, что сегодня нет дома рядового Джонсона, который бы смог своим широким задом прикрыть наше отход. Поэтому нам с Джимом пришлось спасаться банальным бегством, но тем не менее я успел крикнуть ему, да всем собравшимся зрителям: «Мы не убегаем – мы стартуем!»
Стартанули мы довольно лихо и за два года объехали половину Штатов, а за вторые два почти всю Европу. Кстати когда впервые нелегально пересекали границу, один парень, бывший кубинец, пристроивший нас фиктивными партнерами по танцам на круизный лайнер, что отплывал в Старый Свет, сказал, что впервые видит двух идиотов, которые пытаются нелегально покинуть Америку, а не наоборот. На что я ответил, что это начало нового четырехвекого цикла миграции в обратную сторону, что мы первые, но скоро за нами попрут, и ему надо быть наготове.
Чтобы описать все наши зло — и доброключения, то надо писать отдельную книгу, а я и с этой еле справляюсь, так что как-нибудь в другой раз.
И только однажды в один из самых хреновых моментов нашего трудного путешествия, когда хотелось бросить все и вернуться к тетиным пирогам, Джим спросил меня, только раз: «Не жалеешь?» На что проклявший к этому моменту уже не один раз все на свете, включая Джима, а особенно самого себя и эти тяжеленные мокрые мешки, я смог, выдержав паузу, ответить с достоинством и еще более кратко, чем он: «Нет.»
Глава пятая
Снова возвращаемся в Африку, где примерно в центральной ее части, как-то раз вне графика… мы покушали, выпили, покурили и принялись считать звезды подряд, а точнее некоторые их них, которые по трагическому стечению обстоятельств, оказались в конце концов планетами.
— А интересно, сколько их там? – романтично спросила Елен, классически при этом обняв руками согнутые в коленях ноги.
— Звезд не считано, а планет девять, — подал из своего угла разврата голос Джеббс, он почувствовал, что в этот вечер пользуются успехом умные парни, и тоже решил себя показать с нужной стороны.
— Да это я знаю, у меня в школе по астрономии было отлично…
— Это раньше было девять, сейчас восемь, — аккуратно поправил Джим.
— Одна потерялась? – Эльза закатилась смехом.
— Нет, просто пару лет назад астрономы решили, наконец, лишить Плутон статуса планеты.
— На ней наверно бедные инопланетяне понапивались с горя. – Эльзу было не остановить с ее закатившимся смехом.
— Погоди, погоди, — я даже проснулся. – Ты хочешь сказать, что простым голосованием можно решить, сколько у нас планет???
— Конечно.
— Быть этого не может, — Елен продолжала демонстрировать образчик женского поведения в режиме «ненавязчивое, ничего не обещающее обворожение» и положила руку Джиму на колено и посмотрела ему очень глубоко в глаза. – Я всю жизнь прожила, уверенная, что у нас девять планет, а оказывается их уже восемь? Да еще и меняют их количество, когда этим звездочетам вздумается? Я всегда считала, что есть вещи неизменные на земле, как сама Земля, количество планет вокруг нее, Солнце и Луна, как то, что Иисус Христос, сын божий был послан нам, чтобы искупить…
— То, что Иисус сын божий тоже решали голосованием…
— Что??? – Елен подпрыгнула, некоторые вскочили.
— Что ты сказал?! – запел наш разноголосый, но единый в своем порыве куриный хор.
— А вы не знали? – Джим единственный остался сидеть и при этом даже не вспотел. – В четвертом веке на одном из первых Вселенских соборов мнения разделились: одни епископы считали, что Христос бог, а другие, что он полубог. Проголосовали. И тех, кто считал Иисуса полубогом, объявили еретиками и сослали подальше, а Христа объявили богом и спокойно приняли закон о Троице…
— Как это? – это я.
— Быть этого не может! – это Джеббс
— Я не верю. В Библии об этом ни слова. – это Елен.
Эльза тоже раскрыла рот, чтобы тоже сказать что-нибудь этакое, но все фразы лексикона из ее раздела под названием «Этакое» уже успели произнести чуть раньше и она не нашла ничего лучше как зафиксировать свою открытую челюсть в пространстве.
— Ну, в Библии о многом не сказано! — Джимми явно распалялся и я почувствовал себя на горячем стуле того учителя-новичка. – Не сказано, например, что церкви нужно строить, что нужно поклоняться Ему через посредников-попов, что нужно будет кому-либо вообще поклоняться, в том числе орудию Его смерти! Он учил любви и мудрости, но люди как всегда все поняли по-своему, переиначили, понапридумали себе религию, понатаскали в нее, черт знает что как сороки, две тыщи лет отполировывали все это и вот вам, пожалуйста, теперь чтобы пройти обряд крещения нужно обязательно с собой новое полотенце приносить – иначе неправильно, не по обряду! Как будто Христос, когда пришел к Иоанну креститься, тот его сразу: «А где твое чистое полотенце?». И тут голос сверху громовой: «Он со мной.» А потом другой, чуть потоньше: «Пускать уже голубя?»
Нет, конечно, не так все это было! Крестили прямо так, в чем пришел или без всего, главное в воду окунуть. Да и не это главное, главное суть! А сейчас? Откуда взялось это полотенце? В какой момент? На кресте он, что ли, по их мнению, кричал: «Про полотенца только в следующий раз не забудьте!» Или потом, когда через три дня из пещеры выходил и себе под нос: «Так. Это сделал. Это сделал. Ну, все — я пошел, а вам я делаю замечание и попрошу про полотенца впредь не забывать…» Ну не бред? Конечно, несусветица! И придумали ее люди. Люди, которые выдумали после него религию о нем, упростили схему иудейства, добавили кое-чего и вуаля, новый продукт на рынке религиозных услуг!
Все уже сидели, потому что слушать это стоя организм отказывался. Единственным человеком, у которого сохранились остатки артикуляционных способностей, был я и этот человек произнес не своим голосом: «Джимми, ты грешной человек, ты не веришь ни во что святое…»
— Нет, я тоже верю, — продолжал хоронить свою бессмертную душу Джим с каким-то нездоровым блеском в глазах. – Но не в религию, а в Бога, не в попов и в бородатого дядьку с тремя обличьями. Я верю в бога-творца, в бога-вселенную, в бога, который окружает нас, каждой своей частицей и частью которого являемся и мы с вами. Я не верю, что бы кто-то за семь дней создал всю огромную вселенную, а потом несколько тысяч лет наблюдал за одной планеткой, как там его подопечные себя ведут, праведно? Кому накинет грешок, кому скинет за хорошее поведение, как на счетах, и так за всеми шестью миллиардами! С одной стороны неделя на все мировоздание, с другой такая вот мелкостная бухгалтерия – маразм какой-то старческий. Не верю! Не тот масштаб у этого Кого-то! Или он только христиан подсчитывает, по трем основным кучкам раскладывает? Мусульман другой товарищ подсчитывает. А буддисты, иудеи, индусы – у каждого свой счетовод там сидит что ли? У них там конкурирующие аудиторские конторы? А как они полномочия делят? У них как в нижней палате конгресса – количество мест по населению штата? У кого электората побольше – у того и стол помассивней и счеты, да и сам бог крупнее. Наш — самый большой у него почти контрольный пакет, остальные поменьше, Фигурку Будду я в магазине видел – не очень большая. Ха, а это что за пигмей раскрашенный чего-то на орехах считает? А не обращайте внимания — это маорийский Ио, за последнее жертвоприношение очки начисляет!
Джимми вскочил, я подумал, что сейчас его поразит молния и на секунду даже зажмурился. Но он продолжал, как, ни в чем не бывало:
— Или не так! Никакого небесного конгресса нет, никакой канцелярии со счетами не существует – бог один, он правильный и он наш! А все остальные: китайцы, индусы, арабы и прочие — беспросветные грешники и направляются после смерти прямиком в ад! Ну, а если человек веру меняет, тогда как? Фамилию его бессмертной души из одного списка «правильных» в список «неправильных» переводят, так что ли? Снова бухгалтерия получается! Снова баланс не сходится… А секты христианские, их куда, в какой список? Они ведь тоже верят в Христа, но немного не так. Тоже в ад? Апостол Петр их препроваживает, да приговаривает, не так милые надо веровать, не так – вон спросили бы у старших товарищей из центрального района Рима, они в курсе, они на этой теме давно сидят…
Про охоту на ведьм, продажу индульгенции и различных священных реликвий мелким и крупным оптом в средние века можно вообще не вспоминать. В каждом городе можно было купить парочку гвоздей, которыми Иисуса распяли, из щепок Животворящего креста, если их собрать вместе, наверно можно будет дом двухэтажный постоить…
Или все-таки простит всех грешников-инаковерцев Иисус, ад ведь тоже не резиновый, да и эти неутомимые китайцы… Да к тому же он и добрый, весь, по словам очевидцев, так что наверняка простит. Но тогда тем более разницы нет, как верить! А подробностями и шелухой с чепухой, что хочешь, за две тысячи лет обрастет. Вон, в России, — Джимми зачем-то кивнул на Елен, — Ленина всего через семьдесят лет уже святым считали. Если бы коммунизм не лопнул у них, то еще лет через двести уже о божественном статусе заговорили, потом голосование, кто против — на костер, то есть в Сибирь и пожалуйста, новая религия – метод опробованный.
Кстати о кострах. Вот Жанну Д’арк, матерую грешницу, спалили на костре, как считали по заслугам, по приговору церковного суда. Душу соответственно переправили в ад. Но тут на земле быстренько разобрались лет через двадцать и оправдали. Там в аду ее сразу из кастрюли вынули и перевели в менее горячий цех, куда-нибудь по хозчасти. А когда дела к блаженизации и канонизации пошло, тогда конечно, адово начальство забегало, телефоны зазвонили: «Как! Почему? Столько лет? Чем вы там вообще занимаетесь?» Ее конечно быстрехонько нашли, отмыли и торжественно двум ангелам передали. Те ее под белы рученьки подхватили, под трубную музыку наверх вознесли, а миллиарды грешников плакали и утирали слезы – не каждый век такую мелодраму посмотришь!
— Да, нет, конечно! Все не так было! Это была ошибка, — собрала все мужество в маленький кулачок, а буквы в слова, маленькая, но храбрая Елен.
— Вот! Ошибка! – продолжал этот страшный человек, в котором я решительно перестал узнавать Джима Гаррисона. – А может это была не единственная их ошибка? Может только одни ошибки и были? Начиная с Петра? Сплошняком – одни ошибки. Сваливали их в кучу, они гнили сотни лет, поливали их кровью и слезами, в итоге получили качественный перегной из людей – христианскую религию, в которой самой уже давно не наблюдается никакого единства. У конкурирующих фирм дела не лучше – там, конечно не те обороты, но зато более цельненько, сбитенько-прибитенько, но все равно, очень много понатаскано, напридуманно…
— Так что, ты считаешь, что Христос не был богом? – Эльза, наконец, перестала искать свой закатившийся куда-то смех и задала первый и последний умный вопрос в своей жизни.
— Как по мне, то нет – подписал себе окончательный приговор Джим.
— И кем же он, по-твоему, был? — осторожно как у человека с гранатой без чеки, спросила Елен.
— Пророком.
— Пророком?
— Да, пророком. Как Мухаммед, как Будда, Конфуций, Лютер, как многие другие, которым открылась Истина, ну или хотя бы часть ее. Кто-то постигает больших знаний, кто-то меньших, кто-то познает бога-мир, с одной стороны, кто-то с другой. Кому-то приоткрывают занавеску тайны, а кто-то и в распахнутую дверь не может войти, или боится… В разных религиях бога называют по-разному, но он один. Это признают все религии, в этом они правы. Но каждая их них зовет Его по-своему, и каждая из них в этом уже не права. Каждая религия указывает, как нужно поклоняться своему богу и здесь, они совсем уже не правы. Кто-то не ест свиней, кто-то коров. Кто-то не работает в субботу, кто-то в воскресенье. Эти не так молятся, те не так крестятся. Все это придумано людьми, а не богом. Думаете, бог просит, чтобы ему молились? Поклонялись? Амбиции и тщеславие присущи людям, не Ему. Он и так вас создал, вы и так часть его. А он часть вас. Скажите, нужно ли вам, чтобы вам поклонялся ваш средний палец на правой ноге? А на левой? Так вот, никто никому поклоняться не должен. Поклонение придумали люди, так же как и власть, управление и любую религию.
Джимми, наконец, отбомбился по церкви, успокоился и вернулся на свое место. Еще через мгновенье, он снова начал смотреть на звезды, как ни в чем не бывало, чего нельзя было сказать об окружающих. У Джеббса резко обнаружился столбняк – он застыл с открытым ртом и растопыренными пальцами в форме грудей Эльзы. Сестры сидели, вцепившись друг в друга, и смотрели на Джима как бендерлоги на обеде у Каа. Как я сам выглядел со стороны, сказать не могу: чувствовать, я ничего не чувствовал, но шевелиться тоже не мог. В самые тяжкие моменты джимовой речи, я мог только зажмуривать глаза, но тогда мне виделась страшная картина, как тетушка Джинджер в белом балахоне Ку-Клус-Клана и своем кухонном переднике, с факелом в руке во главе толпы других белых балахонов, привязывающих Джима к столбу и подкладывающих хворост, медленно и тяжело поворачивается ко мне и указывает на меня перстом.
И кто только мог подумать, что это все сидит у него в голове! Тетушка Джинджер уж точно не могла, он всегда ставила Джима мне в пример – он ведь перечитал все религиозные книги в нашем доме и всегда живо интересовался этой темой, но он никогда не высказывал своего мнения, и кто мог знать, что оно у него такое!
Я никогда не был религиозным фанатиком и походы, как в церковь, так и к дантисту воспринимал с одинаковыми пропорционально смешанными чувствами необходимости и ответственности. Но чтобы так к этому относится! В эту минуту я был готов выдать службе безопасности Святого Престола главного еретика тысячелетия, только за то, что он только что сломал часть моего мира! И дело даже не в поджаристых боках индейки, и в подарках, не помещающихся в красные валенки над камином! Просто так нельзя… нельзя, Джимми… в слух так точно нельзя. Нет, может ты где-то и прав! Может. Но чем черт не шутит, а вдруг там, наверху, все-таки сидят, следят, и планомерно подсчитывают? Я непроизвольно поднял голову вверх и начал присматриваться и прислушиваться. И почти услышал стук костяшек на счетах, но оказалось, что это звук не с небес а с земли – это Джеббс начал чем-то стучать в ящике. Чем-то оказалась еще одна фляга – на этот раз с виски. Джеббс все-таки сволочь, но с запасом! Он начал снова шутить, щипать Эльзу, та начала призывно визжать и мир потихоньку задвигался дальше, а вместе с ним новая фляга по кругу. Все понемногу успокоились, а алкоголь прибрал остатки трудного разговора.
Но через некоторое время я понял, точнее, ощутил краями зрения и разума, что нас стало больше. Он появился не внезапно. Нельзя сказать, что он вообще появлялся, даже нельзя сказать, что я его вдруг увидел. Такое впечатление, что он всегда сидел, весь вечер между Эльзой и мной. Хотя я точно помню, что там никого не было, но весь вечер все понемногу двигались и перемещались, и после бенефиса Джима, когда все застыло, а потом снова ожило, нас было уже не пятеро, а шестеро. Не знаю, понял ли я это первым, но первой отреагировала как всегда Эльза – центральная фигура любого вечера, от литературных чтений до садомазохистских оргий. Передавая в очередной раз флягу, она, наконец, отреагировала на чужака, одетого, толи в балахон, толи в простыню, взвизгнула, а точнее икнула и попыталась вскочить, но плотный ужин и спирт удержали ее тело на земле, только слегка его пошатав.
— Ой, а кто вы? – во второй раз икнула Эльза, удерживая баланс исключительно благодаря фляге в правой руке, и вытаращившись на незнакомца, хотя до этого она несколько раз автоматически передавала ему виски. На этот раз не только я, но и все остальные поняли, что среди нас чужой. Незнакомец в ответ лишь кротко улыбнулся, привычным жестом взял из рук Эльзы флягу, отхлебнул, передал ее мне, и сложил руки на животе. Я сделал ну очень большой глоток, надеясь, что после этого видение исчезнет, но оно только начало слегка двоиться. Я закрыл глаза, думая, что незнакомец после этого пропадет, но увидел лишь, что тетя Джинджер все еще на месте и продолжает руководить массовыми казнями, поэтому быстренько раскрыл глаза вновь. Незнакомец сидел на своем месте и двоиться перестал. Я передал флягу Елен, которая, не успев, как следует, отойти от первого шока после монолога Джима, с легкостью впала во второй, при котором вливательные рефлексы были еще частично сохранены, а вот глотательные уже отсутствовали напрочь и она поперхнулась. Ловкий Билли успевший подхватить выпавшую из ее рук полфляжки, дал выход своему стрессу через отчаянное хлопанье по упругой женской спинке.
— Осторожней, госпожа Соколова, так и подавиться, не ровен час можно, — произнес незнакомец.
— Мы разве знакомы? – медленно выговаривая все буквы, включая пробелы и другие знаки препинания, спросила Елен.
— Ну, в некотором роде мы все знакомы, — ответил незнакомец, со своей все той же полуулыбкой.
— Мы даже все в какой-то мере все родственники – подхватил из своего угла Джим, единственный из всех, кто не смутился незнакомца, а скорее всего его даже и не заметивший.
— Это как это? – спросил Джеббс, к которому вернулась фляга, а вместе с ней и дар речи.
— Есть теория, что все человечество зародилось в Африке и произошло от одной женщины, правда было это пару сотен тысяч лет назад, — выписал справку Джим.
— Да, это не очень далеко отсюда было, — незнакомец тряхнул рукой куда-то в темноту за нашими спинами. – Только климат был не много поприятней, сейчас жарко чересчур, — руки снова сложились куда-то в складки балахона и появилась уже начавшая меня раздражать еле заметная улыбка, которую в следующий раз я уже назову злобной усмешкой.
Повисла и начала медленно раскачиваться, как маятник часов, пауза. Фляга закончилась на Джеббсе, но никто не жалел об этом – мне так точно было уже достаточно впечатлений на сегодня.
— Ну, хорошо тут у вас. Спасибо за угощение. Спасибо за разговор. Мне уже пора, — незнакомец начал раскланиваться, но только на словах, тело в этом прощании пока не участвовало, зато источало безлимитный запас злобных усмешек.
— Да мы ведь и не поговорили толком, — ответила за всех хозяйка вечера.
— Ну, чтобы разговаривать не обязательно произносить слова, тем более, что сказано сегодня было предостаточно, — незнакомец в очередной раз ухмыльнулся, но теперь как будто не сам себе, а Джиму. – Но перед уходом, я хотел бы вас отблагодарить, добрые люди. Чего бы вы хотели?
— В смысле? – я решил включиться.
— Ну, какие у вас есть желания?
— У меня? — Я посмотрел на сидевшего напротив меня Джеббса, на пустую фляжку у его ног, затем на валявшийся рядом окурок волшебной папироски и сделал, как потом оказалось, слегка поспешный выбор. – Еще бы косячок, а лучше два!
— Так один или два? Тут важна точность, — и меня озарили улыбкой мудрой черепахи и поворотом ее головы. Знаете, есть такая категория людей, которые считают себя намного умнее других. Они вроде, и говорят с тобой, и смотрят на тебя, но улыбаются в никуда и ты понимаешь, что ты для них ничего не значишь. Я не люблю таких людей, и незнакомец был именно такой, а про его улыбку я вам уже говорил. Он начинал меня уже конкретно раздражать и меня понесло:
— Правильно! Чего мелочиться! Один, два – это не масштаб. Надо чтобы много и не кончалось.
— Надо конкретнее, — попросил уточнений бухгалтер в балахоне.
— Конкретнее? Поле! Да, поле. От края до края, — и я помахал разным частям горизонта.
Балахон внимательно поглядел в обозначенные стороны, темнота в которых была абсолютно идентичной.
— То есть примерно восемь тысяч гектаров? Поле? И чтобы на нем рос Cбnnabis?
— Да, да, — не унимался Безумный Билл. – Чтобы росло и никогда не заканчивалось.
— Хорошо. А ты? – незнакомец обратился к Джиму, но тот был где-то в районе туманности Андромеды и никак не отреагировал. Зато отреагировал герой-любовник и любитель нью-йоркских монашек, Джеббс.
— Поле – это все ерунда. Один рок-фестиваль скурит его меньше чем за неделю. А вот камешки, брюлики – это уже навсегда!
По-видимому, история с профессором, и его не совсем удачной и совсем не научной экспедицией не только не охладила разум определенных слоев нашего общества, а наоборот вызвала его воспаление у некоторой части индивидов.
— Неужели? – чаепитным тоном ответил незнакомец. Ну и сколько вам нужно этих самых камешков? Ведь речь идет о бриллиантах, насколько я понимаю, или все-таки вы удовлетворитесь и алмазами?
«Передайте мне сливки, миссис Хадсон» — был готов услышать я следующим предложением, но я услышал: «Алмазные копии царя Соломона!». Это была Эльза, она начала играть в слова синонимы и смеялась сама с собой.
— Да не все ли равно! – тоже начал смеяться Джеббс.
— Вам – возможно, а мне надо знать точно.
— Ок. Пусть будут бриллианты.
— Бриллианты – лучшие друзья девушки! – Эльза начала танцевать и продолжила набирать очки в свою игру с одним участником.
— Нет, нет, все-таки лучше алмазы! Да, алмазы! – Джеббс торопился перекомпостировать свое желание, как будто был уверен в его исполнении.
— Ок. Сколько? – незнакомец явно был готов торговаться.
— Поле конечно мне не надо… посыпать до горизонта – боюсь помять всходы, — Джеббс засмеялся своей как всегда искрометной шутке, и как всегда в одиночестве – по его каналу транслировалась юмористическая передача.
Он как обычно в таких ключевых точках принятия решений своей жизни, вскинул взгляд вверх. Ох, сколько раз он делал так за то короткое время, что мы находимся у него в услужении, но еще ни разу это не приводило ни к чему хорошему, так что я по привычке зажмурился. Там внутри я, наконец, увидел привычную темноту – видать тетушка Джинджер сотоварищи уже разъехались по домам готовить ужин. В темноте прозвучало слово: «Вагон», я выдохнул и вынырнул на божий свет, точнее ночь.
— Какой? – продолжал незнакомец, уже, по-моему, просто издеваясь над Джеббсом, а заодно и всеми нами. – Железнодорожный? Четырехосный? Какой тоннаж?
— Самый большой, — отвечал самый жадный Джеббс в мире.
— Шестьдесят тонн?
— А больше не бывает?
— Нет.
— Хорошо, пусть будет шестьдесят, — под весом своего желания Джеббс откинулся на спину, положил руки на живот, зажмурил глаза и по всей видимости начал плавать по своему вагону с алмазами.
— Ну, а ты? – незнакомец во второй раз обратился к Джиму.
Тот ответил в свойственной ему манере отсутствия при любом разговоре:
— Было бы хорошо, если бы люди говорили правду….
— Хм, — незнакомец потер свою бороду.
Джимми мог озадачить любого нормального человека, но как выяснилось – ненормальные в балахонах ему тоже были по плечу.
— Это полностью не получится, — после некоторого раздумья ответил незнакомец.
Он продолжал втирать бороду себе в подбородок и смотреть перед собой рассеянным взглядом. Степенью социализации, а точнее ее полным отсутствием, они в эту минуту с Джимом были очень похожи. «Полностью не получится…» — а вагон с полем легко – у этих местных психов с фантазией было явно слабее, чем у нас.
— Жаль… — потянул Джим. – Я очень устаю от вранья.
Я знал это. Джимми как-то говорил мне, что среднестатистический человек врет около пятидесяти раз в день. Я пытался подсчитать за собой, но больше двух у меня никогда не выходило. Пробовал считать за Дядей – сотню мы набирали до обеда, а потом за разогревшимся родственничком я уже не поспевал. Джим же сам никогда не врал, по крайней мере, я такого не припомню, но это абсолютно никак ему не помогало жить – человечество было явно к этому не готово, и вот теперь он решил ситуацию слегка уравновесить.
Ложь Джимми действительно не любил, хотя и интеллигентно старался не обращать особого внимания на враки других, но было видно, как он морщится практически сердцем, когда кто-то в его присутствии начинал врать. Я это знал и поэтому старался никогда не обманывать Джима, только иногда, для его же блага. Впрочем так я поступал и с другими, те в свою очередь со мной и с другими другими, те – со своими другими, короче по кругу врало все человечество, почти все во благо, некоторые по мелочам и для дела. Джимми это не нравилось, я привык, а статистика медленно и аккуратно вывела число пятьдесят.
— Трудно, трудно… — бормотал себе под нос наш неадекватный новый знакомец. – Могу предложить…
— Тост! – выстрелила со своего места Эльза, думая, что наступил конкурс в «угадай слово».
— Компромисс. Я правильно сказал это слово, — обладатель пыльного балахона обвел нас взглядом.
Я такого слова тоже до этого не знал, но надеюсь, что здесь написал его правильно. После всех этих вопросов и новых слов, мы все вшестером напомнили мне русскую передачу «What? Where? When?»* (*«Что? Где? Когда? перевод автора»). Я видел как-то раз, как Джим смотрел ее по кабельному – шестеро идиотов сидят в креслах, крутят волчок со стрелкой, а потом долго спорят кому письмо!
— Да – компромисс, — незнакомец продолжал, по-моему, говорить уже сам с собой. – Трудно, точнее невозможно выполнить это желание. Люди не хотят, точнее не готовы говорить только правду. И ни вы, ни мы, никто не в праве их неволить. Нельзя заставлять делать что-либо людей. Они должны захотеть делать это сами. Когда они поймут, что все зависит от них самих, тогда они и правду говорить начнут, и делать другие правильные вещи и поступки. Я обязательно дождусь этого момента. Он не может не наступить. В чем тогда смысл всего этого? – незнакомец красиво помахал руками в разные стороны – видно было, что они у него затекли.
После его слов Джимми опустил взгляд с небес на землю и очень внимательно посмотрел на незнакомца. Последнего начало уже немного заносить, но под взглядом Джима он смог взять себя в руки.
— Но я обязан вам помочь, — мне показалось, что при этих словах незнакомец даже слегка поклонился Джиму. – Поэтому все, что в моих силах, это сделать так, чтобы никто не мог лгать лично тебе, Набии, — товарищу становилось все хуже, и он уже начинал заговариваться.
Затем незнакомец снова слегка поклонился, на этот раз уже точно Джиму, и сделал это более понятно, а не как раньше: все эти полу кивки, полу качки, полу улыбки, не пойми кому. Джимми, правда, тоже подхватил эту заразу и неопределенно кивнул-качнул головой в сторону незнакомца. Со стороны казалось, что он на секунду заснул, а затем сразу проснулся.
— Пусть будет так, — сказал Джим.
— Пусть будет так! – незнакомец неожиданно и резко хлопнул в ладоши, так что дамы взвизгнули, и встал на ноги. – Я был очень рад нашему знакомству.
Незнакомец начал кланяться уже совсем определенно и каждому по очереди.
— Так, а мне, — еле сдерживая смех, поднялась со своего места Эльза, наконец, понявшая, что это канал телемагазина, а не дурацких викторин. – Такую белую… Знаете, с длинным…
Но незнакомец, как будто и не слышал ее, впрочем, как и о движении феминисток.
— Но теперь мне пора. Прощайте, – еще один, последний поклон, на этот раз всем и никому и незнакомец шагнул назад спиной в темноту.
— Постойте, — крикнула ему вслед Эльза. — Я ведь только начала! Может, вы зайдете завтра? Я подготовлю списочек! Я покажу вам его, а вы мне — что у вас под простыней, и мы как-то договоримся!
Далее следовал свинячье хрюканье и визг, не лучших представителей парнокопытных нашего стада.
— Странные субъекты конечно у вас тут живут, — еле успокоившись, сказал Джеббс.
— У нас? – удивилась Эльза. – Я его впервые вижу. Я думала, что это ваш рабочий, просто немного не в себе.
— Нас тут всего трое, — ответил Джеббс. – Остальные… в отлучке.
— В отключке, точнее в заключке за колючкой – попробовал я подразмять свое чувство юмора, а заодно и покрутить сальто из каламбуров.
— По-моему он просто псих, — подвела итог нашему вечеру Елен.
— И к тому же старый! – Эльза включилась в любимое женское развлечение по обсуждению того, кто только что ушел.
— Да, где там! Ему лет тридцать пять максимум!
— Тридцать пять? Ты в своем уме, да ему под семьдесят! И эта борода до колен.
— Борода?! Ты хотела сказать: усы! Точнее усики?
— Да? А мне показалось, что он просто с щетиной, — попробовал присоединиться к обсуждению Джеббс, но оно продвигалось и без его участия.
— Усики? Ты уверена, дорогая? — Эльза сказала это тоном, каким только объявляют соседке, что у той обнаружили шизофрению.
— Уверена! — ответ больного, который сам легко ставит диагнозы.
— Не знаю, куда ты смотрела весь вечер, что не заметила у него бороду! Хотя я знаю, куда ты жмешься весь вечер, — и Эльза кивнула на снова впавшего в медитацию Джима.
— Ну-ка, ну-ка, — Елен медленно поднялась, и как-то нехорошо направилась к Эльзе.
Я понял, что третьей частью нашего вечера, обещают быть женские бои в песке без правил. В глубинах своей души, где-то в букмекерском отделе, я уже мысленно поставил двадцатку на Эльзу. И вовсе не из-за мести к Елен, отвергнувшей мои флюиды, просто Эльза выше ее на голову, явно крепче и ей нечего терять – сломанный нос только придаст ей шарма, а Елен же кровавые царапины не будут идти, ни к ее ангельскому личику, ни к платью. Эльза, судя по всему это понимала, и сделала шаг навстречу подруге, так что следующий мог сблизить соперниц уже на расстояние удара. Но всех как всегда спас Джеббс — у него есть прекрасное качество выкручиваться из любой трудной ситуации и ужасное качество вкручиваться в нее, увлекая за собой всех в очередную воронку своего безумия.
— Девочки, девочки, брэйк! – Джеббс удачно вклинился между двумя боевыми монашками. – У меня есть еще!
Еще было не раз и не два. Откуда он доставал все эти фляжки и бутылки, и как он смог их сохранить, когда другие младшие сотрудники перепахивали тут все в округе в поисках спиртного на вечеринке по поводу начала раскопок, я не знал. К концу вечера, а точнее к середине или даже к концу ночи, я знал уже совсем мало: как меня зовут, откуда я родом, и что я здесь делаю. Хотя на последний вопрос я не мог себе ответить даже на трезвую голову.
Остаток ночи прошел в беготне от тети Джинджер и ее кухонного ножа по салону падающего в бесконечность вертолета.
Глава шестая
Утро не внесло ясности в систему координат «кто я – где я». Человеком я себя точно не ощущал, скорее черепахой, плавающей по еще не застывшему цементному раствору. Я ползал на брюхе, пытаясь найти хоть что-нибудь их жидкостей, чтобы пропихнуть, набившийся в рот песок. Голова моя была в трещинах, причем изнутри, потому, что тактильно они не ощущались. А еще у меня есть одна поганая привычка. Нет! Да! У меня есть одна ужасная привычка и одно не менее ужасное следствие. Про привычку вы видели сами. Нет – это не привычка напиваться каждый день, это просто привычка напиваться. А следствие – это, не умирающий по утрам организм, такое у всех, а то, что с похмелья я просыпаюсь очень рано и мой организм начинает умирать раньше других! Видеть как другие спят, а тебе так… так… не хорошо. От этого становится совсем не хорошо. Ой!
Я сделал нехорошо прямо на свою кровать, которой оказался вчерашний стол, который до этого, еще раньше, был просто ящиком, пока его не заставили консервными банками, и пополз в какую-то тень. Воды я там не нашел, но мне стало немного легче и я начал внушать себе, что я сплю. Мне снились обычные кошмары, в которых я то кого-то убегал изо всех сил, то наоборот пытался догнать с теми же затратами энергии. Но так как во сне обычно не бегают, а медленно плавают как в вате, перебирая на месте ногами, то я просто плавал и перебирал. Потом мне снилось, что я в Африке и нас ищут как незаконных расхитителей гробниц, и мы голые с Елен вдвоем бежим от кого-то — кого не видно, но очень страшно! Потом мне снилось, как шумят кукурузные поля за нашим городом, затем мне приснилось, что я проснулся. Я открыл глаза и увидел, что лежу под днищем вагона и понял, что все еще сплю: мне двенадцать лет, мы с Джимми в третий раз сбегаем из дома, полштата протряслись в щелях между колесами, скоро будет станция – снимут, затем полицейский участок, ожидание родственников и неотвратимое ощущение, что скоро будут бить, потому что предыдущие два раза заканчивались именно так. Мне сразу не понравился этот старый сон и я решил окончательно проснуться. Но проснуться не получалось, потому что я по-прежнему лежал под вагоном. Поезд почему-то не ехал, вагон не трясло, колеса не стучали, а кукурузные поля шумели очень усердно, хотя их не должно было здесь быть – это звуки и картинки из разных воспоминаний. Чтобы точно убедиться в том, что я все еще сплю, я повернул голову и сфокусировался на колыхающихся зеленых портьерах. Так и есть. Стоят и шумят. Поезд стоит и не шумит, а кукурузные поля тоже стоят и шумят, хотя шуметь должен поезд, а поля молчать и мелькать. А я, похоже, уже не сплю и проснулся явно где-то не там, где засыпал. Я выкарабкался из-под вагона остатками своего организма и окончательно понял, что я где-то в другом месте – вокруг росла сплошная стена кукурузы, посредине была поляна посыпанная песком, на ней стоял одинокий товарный вагон без всего остального поезда, а рядом валялись какие-то полуголые люди, лежащие вперемежку с ящиками в самых безобразных позах. По их положению, состоянию и степени оголенности было трудно понять, закончился ли вчерашний вечер хоть для кого-нибудь из них сексом, но сейчас мне было не до них.
Первой моей мыслю было, что что-то здесь не так. Первой идеей было залезть на вагон и оглядеться. Первым действием был подъем организма вверх – особенно плохо на это отреагировала голова. Первым ощущением был горячий металл под ладонями и ступнями. Вагон оказывается набит каким-то стеклом. Мы медленно оглядываемся вокруг, далеко, почти у самого горизонта тоненькая желтая полоска, аккуратненько по кругу. Посмотрели. Подумали. Присели на краешек вагона. Железо обожгло задницу, а заодно и мозг! Все! Это не кукуруза, здесь не стекло, а тут кругом Африка – сработала эта хрень значит! Какой я дурак, боже ты мой! Я спустился на землю и охватил руками далеко не умную голову. В хаосе старого разбитого кинескопа от телевизора, которым являлся тогда моя голова, бились разные мысли, но даже такой заядлый матерщинник как я не осмелюсь их сейчас повторить.
Мой поток лингвистических испражнений прервал то ли предсмертных вопль, то ли боевой клич. Наверно, кто-то кричит, не успел подумать я, как послышалось продолжение, сказанное, скорее всего голосом Джеббса: «Ты проверял? Он полный?» Я очень медленно поднял голову-телевизор, было ясно слышно, как мелкие кусочки битого стекла пересыпаются внутри деревянного ящика. Я долго искал фокусом Джеббса и нашел его, в конце концов, на вершине вагона, кричащего, прыгающего и делающего безуспешные попытки нырнуть в его содержимое – в нем сразу было узнаваемо порочное дитя американской детской индустрии, такой себе дядюшка Скрудж местного пошиба в алмазном варианте.
На крики сумасшедшего начали медленно и тягуче подавать признаки жизни две женщины-андроида, научившись сгибать и разгибать свои конечности, они по очереди спрашивали друг у друга зеркальце. Ангел в земном воплощении Джима Гаррисона, также открыл глаза и начал их протирать вперемежку с очками – полуслепое дитя южных прерий также не понимал, что происходит. Эту пантомиму с ксерокопиями на людей завершал я, сидящий в позе тибетского монаха, в следующую минуту после того как тот собственноручно разрушил картину из разноцветного песка, которую он выкладывал двадцать лет. Нас всех можно было показывать в маленьком цирке за небольшие деньги.
Вернул нас к жизни человек-инициатива, Джеббс-жеребец, который спрыгнул со своего вагона с небольшим прозрачным камешком в руке. Камень был средний, я бы даже сказал мелкий, особенно в сравнении с вагоном.
— Все один в один! – кричал кто-то мне в ухо.
Но в ответ из моего рта доносилось лишь гулкое «Ом-м-м…»
Джеббс поднял камешек с помощью руки вверх и попытался закрыть им солнце. Его глаза, в сговоре с нервной системой и мозгом, уверили своего хозяина, что солнце все-таки меньше этой стекляшечки.
— Надо взвесить, — не унимался голос победителя всех чемпионатов мира. – Интересно, сколько в нем карат? У кого-нибудь есть рис, чтобы точно измерить?
Мой мозг, где-то глубоко внутри моего организма принялся за обсуждение этой задачи, причем чисто автоматически – по крайней мере, я его об этом не просил – наверное, чтобы хоть как-то отвлечься от обезвоживания. Многочисленные мысли и выводы выдавались на табло, расположенного где-то позади моих глазных яблок, примерно в следующего содержания: «Нахрена ему знать сколько весит один алмаз, если их тут скорее всего (краткое включение очаговой памяти) таки шестьдесят тонн!», «Зачем менять драгоценные камни на рис? Это точно не выгодный бизнес!» Хотя, я как-то раз слышал про одного парня из Индии, который так ловко составил контракт с одним раджой на патент по изобретению шахмат, что когда пришел день оплаты, то оказалось, что там на первую клеточку надо было положить одно зернышко риса, на вторую две, на третью – четыре и так далее, постоянно умножая число риса на два. Раджа поначалу подумал, что это халява, но когда счет пошел на мешки, а потом на рисовые караваны и главный визирь шепнул ему на ухо, что до конца шестой линии не хватит и всего урожая штата, даже если займем у соседей, раджа понял, что кто-то над кем-то издевается и принял решение, что пусть лучше имя изобретателя шахмат останется неизвестным. Бедолагу положили на дно рисохранилища и засыпали наградой с тридцатой клетки, причем возможности сказать «Довольно!» никто не предоставил. И теперь мы не знаем, кто изобрел шахматы, но зато точно знаем, что жадным быть нехорошо.
Да… не нужно быть жадным — это я от шахматного риса к моему полю. И желания лучше иметь компактные, это я уже от поля к джеббсовому вагону. Пока я развлекал себя старинными байками и современными выводами, женщины-андроиды, бросив и разбив в сердцах так и не найденное зеркальце, уже оценили ситуацию и принялись делить добычу, споря кто же все-таки из них двоих давал-недавал, что-то сегодня ночью Джеббсу и посему имеет законное право променять свою совесть и свободу на половину вагона с дорогими стекляшками. Джеббс предложил им не ссориться, а попробовать провести ряд экспериментов, в ходе которых он возможно и сможет вспомнить, ну или хотя бы определить свою избранницу. Хотя даже мельком взглянув на его кошачью ухмылку, можно было догадаться, что следующим его предложением будет жить пока втроем – местными обычаями это не запрещалось, а еще примерно через неделю, когда он перетащит свой драгоценный, в прямом смысле этого слова, груз поближе к транспортным магистралям, прозвучит его последняя фраза, которую услышат эти дамочки: «Я схожу за билетами, а вы пока посторожите свой багаж. Вам взять места у окошка?» Но теперь меня это мало волновало. Мои чувства к Елен брызнули резко и с пеной как жидкость из омывателя стекол в автомобиле — черт побери, а все-таки у нее ангельское личико — но теперь щетки дворника протерли мой затуманенный взгляд и я могу смотреть на нее спокойно через чистое окно, видя все как есть, в том числе и грязь по его краям. А все ее вчерашние пострелялки глазками в Джима, сегодня не имели ничего общего с циничным и цепким взглядом, кидающего свой прицел то на Джеббса, то на его вагон. Но ее можно понять, во-первых, она женщина и ей на роду написано всю жизнь только тем и заниматься, что устраивать и обустраивать свою судьбу. Во-вторых, вагон с бриллиантами, кого хочешь собьет с пути истинного — не знаю как вел бы я себя сам, если бы вчера, Эльза, например, загадала бы себе пароход с долларами, а сегодня он швартовался бы к нашему лагерю. Очень может быть, что я дрался бы с Джеббсом на веслах, кто первым понесет ее на руках к трапу!
А тем временем Джеббс уже начал озвучивать свои соображения по этому поводу и две женские головки, повернутые к нему, замерли в ожидании, так что было слышно, как внутри их очень-очень быстро щелкают счетные машинки. Меня снова начало подташнивать, и я отошел в первые ряды свои посевов, нагнулся и начал их удобрять. Ко мне подошел Джим, чувствовал он себя тоже паршиво, потому что, несмотря на свою святую сущность и судьбу вундеркинда, он иногда выпивал со мной, а похмелье оно не выбирает святой ты или не святой, оно приходит ко всем, кто не умеет себя вовремя сдерживать. Так, секундочку, извините…
— И что ты собираешься делать со своим богатством? – Джим мог иногда так поддержать, что жить совсем не хотелось. А хотелось только его ударить, а этого я сделать пока никак не мог.
— Ничего! – я закончил свои дела и начал отплевывался, — Я просто буду смотреть как Джеббс, вместе с монашками толкают по пустыне свой вагон счастья, и буду при этом посыпать себе голову засушенным канабисом, а потом покончу с собой, обкурившись в тряпки. Ты будешь скручивать для меня новые папироски? Меня, наверное, после этого внесут в книгу рекордов Гиннесса. Дважды и посмертно! Самое идиотское желание на свете и точно такое же самоубийство! – но слишком долго горевать я не привык, а как говорится, нет ничего лучше, чем отвлечься от своих проблем, переключившись на чужие: – Хей, Джеббс, а как ты собираешься доставлять свое богатство в мир, или хотя бы до ближайшего ломбарда?
Джеббс привычно стрельнул взглядом в небо и выдал, такое, что кто-то там наверху подавился утренним кофе с крендельком: «Я построю железную дорогу!»
— Началось… — потянул я.
Хотя мне уже представлялась картина, как Джеббс впрягает в упряжку к вагону тысячу рабов и вместе с монашками, одетыми в нацистко-садисткий латекс, кнутами заставляет его тащить. Знаете, такая длинная вереница согнутых полуголых людей-спин, запряженных попарно, а в голове упряжки как всегда мы с Джимми!
– Как-то слабовато – железная дорога! – я продолжил задирать Джеббса, но на всякий случай не стал озвучивать свои фантазии. – Может создашь организацию по борьбе с голодом, ну или с торговлей людьми. Нагонишь тысяч сто волонтеров, пусть встанут в цепочку – отсюда до Порта и пусть передают из рук в руки символические камешки мира. За пару месяцев, я думаю, передадут весь вагон! – попробовал посмеяться, но получилось только покаркать.
— Нет. Каждый из них может прихватить на память по одному символическому камешку, и я останусь с носом, или с пустым вагоном, но все равно это будет больше чем поле дури и голова полная дурости! – Джеббс засмеялся своим обычным дурацким одиночным смехом.
Снаружи он был герой, аполлошечка, внутри же был – полное дерьмо в миксере, но смех выдавал его сущность. У меня уже давно развилась теория о том, что кем бы человек ни хотел казаться внешне, его смех всегда покажет всю сущность человека. Джеббс был отвратителен и смеялся он также. Мне же всегда говорили, что я смеюсь по-идиотски и теперь я начал понимать почему!
Мы разговаривали на расстоянии, почти кричали друг другу, стоя по разные стороны поляны и баррикады из ящиков. Резкий раскол, образовавшийся в нашей маленькой компании, обозначился теперь физически: Джеббс со своими девками и вагоном в центре, мы с Джимом на опушке конопляного леса, по-прежнему имея одни трусы и майку на двоих и рискуя остаться с таким богатством до конца своих горьких дней, если конечно не начать что-то немедленно предпринимать. И я начал.
— А все-таки как? – не знаю, зачем я спрашивал, видимо просто хотел нарваться.
— Я уже ответил на твой вопрос Билл Джонсон, — судя по ноткам в голосе моего, теперь уже точно бывшего босса, я понял уже окончательно, что с белоснежной бригантины, с красной надписью на носу «Djebbs» нас скидывают как балласт на этой якорной стоянке, временно принимая на борт двух женщин. Хотя это было даже не приметой, а скорее всего гарантией, того что пираты не только не закопают своих сокровищ, но и порубают друг друга еще на рейде.
Обида и накопленная злоба, на себя, но больше на персонажей всех моих детских кошмаров, сосредоточенных в одном, не могу назвать это существо человеком — Джеббсе, толкнула меня вперед, и я решил перетасовать колоду. Я сделал свой отчаянный шаг, затем второй, по пути подобрав доску потяжелее. Джеббс, в первую секунду немного дрогнувший, прищурил один глаз, вторым нашел кирку и взял ее и себя в руки. Дамочки за нарядами, сумочками, украшениями, вечеринками, машинами и курортами не замечали вообще ничего, а Джимми сказал:
— Не надо, Билли, надо играть честно.
Я бросил доску и сел на песок в позу буддийского монаха, который уже начал осознавать на какую ерунду он потратил последние двадцать лет.
— Я тоже такого мнения, Джим Гаррисон – каждый сам выбирает свою судьбу, — Джеббс просто излучал благородство в своем костюме супермена с киркой в руках, но вы уже все прекрасно слышали, как он смеется.
Эта перекличка как в школе, не нашла должного отзвука в моей душе ребенка американских фермеров, сидевшей на первой ступеньке познания дзен-буддизма под названием: «Да пошло оно все!» Джимми снова подошел ко мне и положил руку на плечо. Говорят, что я немного плакал при этом, но это все неправда.
— Жаль только, что машину ждать долго придется еще две недели, — Джеббс умел очень быстро переключаться с одной темы на другую.
— Да, жалко, — протянула Елен.
— Ой, да нет же! – кто-то явно клюнул Эльзу в зад, но мне тяжело было рассмотреть этого кото-то затылком. – Машина вчера не уехала, шофер сказал, что в ней что-то с зажиганием, он сегодня только к вечеру надеялся ее починить.
— Отлично! Значит все не зря, — я и не знал, что Джеббс был филателистом, ну, или как там их, зовут, короче, те, кто считают, что на небесах уже все посчитано и записано наперед.
Я тоже придерживался таких же взглядов, но оглядываясь назад, с моего теперешнего места, я понимаю, что когда писали мою судьбу, по-видимому, просто расписывали шариковую ручку.
— Ок, джентльмены, предлагаю перемирие, — Джеббс подошел к нам, я поднял голову, Джим убрал руку с моего плеча и мы перестали с ним напоминать скульптурную композицию из гипса: «мальчика укравшего и потерявшего потом деньги, успокаивает мальчик, который эти деньги нашел и перепрятал, но успевший при этом нашептать маме про поступок первого». – Каждый получил свое и передела не будет, ведь так Джим? – Джеббс обращался сейчас практически к одному Джиму, зная, что наша одна на двоих совесть была сосредоточена в нем одном, и исчадье ада знало к кому, надо было обращаться.
— Да, передела не будет, — подтвердил Джим Гаррисон, провалиться ему в эту секунду на месте.
— Вот и хорошо, — Джеббс, наконец, опустил кирку и отбросил ее в сторону. – Мне нужно смотаться в город на пару-тройку недель, и надо, чтобы кто-нибудь присмотрел за моим вагончиком, а в основном за его содержимым. Кандидатур лучше вас не сыскать, хотя тут вообще никого не сыскать. Люди вы проверенные, честные – особенно ты Джимми, хотя и Билл при желании тоже сможет сделать над собой усилие. Ведь сможешь, Билли? – Джеббс по очереди потрепал своих коней по гривам. – Да не горюй ты так, о твоем поле еще напишут в колонке юмора! – на этот раз он не стал смеяться, дабы не тревожить и без того сильно натянутые нити отношений. – Ну, вот и хорошо, вот и договорились.
Джеббс залез на свой вагон и начал набивать свои карманы алмазами, которые, как я очень надеялся, могли хотя бы ради приличия и ли в шутку, оказаться фальшивыми. В то время пока мы вели свои переговоры, женщины провели свои и Эльза начала знакомить общественность с итогами их небольшой гендерной конференции.
— Милый, я думаю, что мне надо поехать с тобой, — объявила она Джеббсу, спокойно, как Белый Дом сообщает об еще более выросшем внешнем долге страны, считая и уверяя всех, что это так и должно быть.
— Зачем это?
— Помочь, только помочь, ты ведь совсем не знаешь местные уклады и расклады.
— Я думал, что со мной поедет Елен, а ты останешься присмотреть за этими, — Джеббс кивнул в нашу сторону, как служительница музея последние сорок лет кивает тупым туристам на зал с Джокондой, которые те с выпученными глазами и потными рожами не могут обнаружить уже битый час и десять напуганных минут.
— Совершенно верно, милый, ты как всегда прав, но только Елен присмотрит за ними, — снова кивок в нашу сторону, но уже как вторая служительница показывает первой на все тех же туристов, к физическим недостаткам которых еще прибавились раскрытые рты, после открытия ими для себя настоящего размера Моны Лизы. – А я поеду с тобой. Тем более шофер все равно никого не возьмет с собой без моего разрешения.
Джеббсу ничего не оставалось, как спуститься вниз и согласиться, но затем залезть вновь, чтобы посмотреть в какой стороне находится поселок, потому что конопляные заросли, очень сильно дезориентировали. Пока он крутил головой в разные стороны и пытался соорудить из пальцев бинокль, я подумал, что когда он попытается сквозануть в Порту за билетами, Эльза пойдет с ним, а Елен будет сторожить багаж, а заодно и драгоценный груз и эта схема может работать очень долго, пока не покажется дно вагона. Видимо Джеббс начал о чем-то таком догадываться, потому что спустился он с более кислой миной, чем поднимался. Но я не стал поднимать эту тему, а поднял другую:
— А что нам заплатят за нашу честность? Или ты думаешь, что она даровая?
Джеббс взглянул на Джима, ища его поддержки и в этом вопросе, но тот только пожал плечами – материальными вопросами, в отличие от моральных, в нашем дуэте заведовал я. Приободрившись, приподнявшись, и развернувшись, я смело шагнул к Джеббсу.
— Когда я сторожил дровяные склады в Портмунде… — начал он обходной маневр.
— Здесь не Портмунд, а тут не дрова, — сразу прервал его я и аргументировано хлопнул ладонью по стенке вагона, ища его поддержки, но тот вместо одобрительного гула, смиренно промолчал – видимо он тоже был не на нашей стороне. – Поэтому полтора доллара в час здесь не пройдут!
— И что же ты хочешь?
— Половину вагона!
— Ок, ты получишь свою так необходимую тебе половину вагона, но только после того, как я выгружу из него свой груз.
— Но я и имел ввиду половину груза!
— Не знаю, что ты там имел ввиду, но ты просил за эту работу половину вагона и я согласился. Правда, дамочки?
— Совершеннейшее так, дорогой! – пропела боцманским голосом Эльза и чмокнула Джеббса в щеку.
Елен невинно опустила глаза, а Джим снова неопределенно пожал плечами. Черт его дери! Это уже второе предательство за сегодняшнее утро! Я всю жизнь считал, что мы поем дуэтом, а тут оказывается, что я солист, а кто-то просто умеет цитировать книжки и пожимать плечами в ответственные моменты! И я очень сильно пожалел тогда, что я не двухметровая рыжая дылда без двух передних зубов, и что меня не зовут Эльза. Я бы даже согласился в тот момент целовать в засос Джеббса, одной рукой щупая свои сиськи, а второй – пустоту между сомкнутых ног как бывает в дурацких фильмах, когда мужик резко превращается в бабу.
Джеббс и мое несостоявшееся земное воплощение, быстренько собрали два чемодана джеббсовых пожиток, сделали нам ручкой и вскоре исчезли в зеленой стене побегов, окружавшей поляну. Я снова сел на землю, в позу все того же буддийского монаха, который уже начал обдумывать на какую новую картину из песка убить следующие двадцать лет своей жизни. Я явственно понимал, что выхода нет, отсюда не на чем было выбраться – пешком отсюда никуда не уйдешь, точнее уйдешь, но никуда особо не дойдешь и еще меньше с собою унесешь. Местным эти алмазы были до одного места, да и если бы они знали, сколько все это стоит, то нас наверняка сварили бы уже к ужину. Да и Джим не даст мне нарушить слово. Крайне неудачное утро…
Елен спокойно уселась в тень и начала чистить свои перышки и клювик, ей в этом пригодился наш общий гребешок и осколок зеркала в который мы все брились. Все это богатство принес ей верный пес Джимми, который уселся рядом с ней и начал преданно смотреть ей в глаза, при этом периодически помахивая хвостом. Сегодня видимо они решили поменяться ролями, правда, Джимми смотрелся куда более жалостливее, чем Елен вчера. До полноты картины ему не хватало только коробочки с бигудями, которые бы он клал в мисочку с горячей водой и подавал затем по одному своей хозяйке. Прояви он вчера, таким образом свои чувства, утренний расклад мог бы быть немного иным – нет ничего хуже отвергнутой женщины у которой приходится просить, что-либо взаймы, хотя бы даже и ответного чувства. Но, я думаю, что даже ответь вчера Джим на призывы Елен, ее поведение сегодня мало бы чем отличалось – травма у Джимми была бы сильнее, а в остальном было бы тоже самое. Женщина всегда выберет себе более сильного самца — это природа. В нашу эру не надо бегать за мамонтами, поэтому мужская сила зачастую измеряется деньгами. А когда на кону стоит вагон с алмазами, то тут не до шуток с чувствами, тут все уже серьезно и вчерашние флюиды и сегодняшние заискивания никак не могут на них повлиять.
Джим иногда меня спрашивал, как молодые и красивые часто выходят замуж за старых, но богатых, за что их можно любить? Они же притворяются все! Я всегда отвечал, что ничуть – их чувства очень искренни, они очень любят своих мужей, у них очень длинный перечень достоинств: деньги, машины, дома, драгоценности, яхты – там много есть, за что любить своих суженных! Ну и что, что старый и некрасивый, зато они обычно интересные люди, пусть не все, пусть в основном это старые пердуны и мудаки, но все же. Ведь папу своего ты тоже любишь, а ведь он тоже далеко не молод, не особо красив и совсем не интересен. А эти чем хуже? Заботятся лучше любого папы! А пять минут в неделю можно и потолок поразглядывать, тем более что для таких мужей часто более важен внешний статус, а не какие-то другие, пододеяльные отношения. Есть, конечно, в горькой женской судьбе и запасной вариант, когда из трех необходимых условий: богатый, красивый, мужчина – первые два как-то не вытанцовываются и остается только последнее – просто мужчина, то берут и его. Пусть не прынц, зато мое! А слово «мое» в женском словаре ижет впереди всех других слов, и даже аиста с арбузом. Но в сегодняшнем пасьянсе Елен, Джим был совсем не тот вариант, поэтому она делала вид, что изо всех сил занята своими роскошными волосами, вовсе не замечая большей частью уже подтаявшего снеговичка по прозвищу Джимми-простачок. Потом ей все-таки это надоело, она отложила в сторону предметы гигиены каменного века, сложила руки перед собой, повернула свою милую головку к Джиму, улыбнулась и начала играть в любимую женскую игру: «Делай из этого дурака что хочешь»: веревки с разнообразными узорами плетения, животных разной степени дрессировки и преданности, домашней утвари различных областей применения, ну и наконец, тряпок разной степени загрязнения. Джим при виде таких резких изменений в поведении Елен засверкал всеми бликами на капоте, ну а я испытал очередную порцию разочарования, как во всем женском поле, так и в отдельном, рассматриваемом тут экземпляре.
Понимая, что жить, как минимум ближайшую неделю, нам придется вместе – на большее Джеббса не хватит, железная дорога это долго, а терпение у него слишком короткое, так что вскоре он заявится хоть на верблюдах и освободит меня от муки охранять годовое ВВП этого государства, но смотреть как моего лучшего друга все это время будут методично превращать в овощ, я не собирался. Поэтому я пошел в наступление, а точнее поковылял.
— Эй, дамочка! Вы можете сколько угодно выписывать ваши авансы, но сегодня утром вы достаточно ясно себя показали, и поэтому попрошу не пудрить голову моему приятелю, а вашу маску милой дурочки можете спрятать до…
— Джимми, почему Билли такой злой на меня сегодня? — Елен надула губки, подсела ближе к Джиму, взяла его под руку, и я понял, что противник уже в окопах, а я иду по заминированному и пристрелянному пути. – Вчера он был совсем не такой! Трогал меня за коленки и весь вечер прижимался, – и Елен сделала такое невинное лицо, так что по сравнению с ней Артемиду можно было считать просто уличной девкой.
Джимми вопросительно посмотрел на подошедшего Билла, то есть меня. И подошедший Билл, то есть я, окончательно поняли, что Билл и я остались на этой планете совершенно одни. И пить им теперь вдвоем одним в одном человеке до скончания их безрадостных дней. Я уже явственно видел эту картинку: лунная африканская ночь над нашим лагерем, Джимми не смело и не умело, как все истинные девственники пристает к Елен, та как все настоящие погремушки петляет кругами по подстилке не хуже любой принцессы, а я на другом конце полянки сижу попеременно на разных концах одного ящика и разрываю себе мозг беседами самим с собой.
— Это правда? – спросил Джим, и я перенесся из ночи и маразма в день и похмелье.
— Конечно! Правда, не очень удачно выходило, потому, что она весь вечер пялилась только на тебя и меня это ужасно бесило, — я понял что сказал, не совсем то, что собирался ответить, ну да ладно.
— Это правда? – теперь Джим интересовался у Елен.
— Севершеннейшая, — она в ответ так блеснула изо рта чем-то белым, оттененным чем-то красным, что у меня начал сводить снизу живот.
— Но ты все равно уедешь с Джеббсом, когда он вернется? – вопрос был поистине на миллион долларов!
— Конечно же, что мне здесь ловить? Или ты предлагаешь, дать этой рыжей суке присосаться к такой бездонной бочке с деньгами одной?
— Ок. То есть у нас с тобой есть примерно три недели? – Джимми на глазах становился миллионером за его вопросы.
— Ну, наверное, — не совсем уверенно ответила Елен и совсем другими глазами посмотрела на Джима.
И я понял, что все в порядке и в нашей сегодняшней троице, самым умным по-прежнему остается Джимми.
Если у читателей, этой (с трудом поворачивается язык) книги, возникло ощущение, что Джим Гаррисон святой и никчема, то это не совсем верное впечатление. Просто ему были важны совсем другие вещи, нежели остальному человечеству. Какие? Этого я и сам разобрать толком не мог – кто их там святых разберет.
Глава седьмая
Дни зашлепали незаметно. Мы жили втроем, точнее они вдвоем и я. Все быстро к этому привыкли, как будто такая кривая система мира существовала с начала веков. Джим со своей Еленой Прекрасной мурлыкали целыми днями, я немного занимался по хозяйству, Елен иногда по кухне, Джим в это время думал – короче, идеальная семья, прямо вырезай и клей в альбомчик, или снимай в рекламе зубной пасты для шведского ТВ. Правда общество женщины пошло нам на пользу: у нас появилась хоть какая-то одежда, мы стали чаще бриться, кое-кто снова начал чистить зубы.
В голове своей я довольно быстро, хотя и не безболезненно свыкся с мыслью о похеренном желании и большую часть времени проводил в размышлениях о том, куда применить в местных условиях, то, что выросло в нашем огороде, периодически возвращаясь к тому вечеру и тому парню в балахоне. В первый день чуда – будем называть вещи своими именами – о нем даже никто особо и не вспомнил, все были заняты своей головной болью и дележом подарков. Зато в остальные дни, когда пыль немного улеглась, а трава немного подросла, мысли о ночном визитере меня уже не отпускали. Кто он был? Откуда? Оттуда? Как ему это удалось? Я вновь и вновь прокручивал тот разговор, но ответить на свои вопросы не мог. Однажды я попробовал заговорить об этом с Джимом, но тот неопределенно пожал плечами в своей излюбленной манере и сказал, что не знает. Но по его лицу, я понял, что Джим тоже думает про него, но даже если его голова, состоящая сплошь из маленьких книжных полочек, не может ответить на этот вопрос, то мне лучше вообще позабыть думать о незнакомце. С Елен говорить о человеке в балахоне было вообще бесполезно. В лучшем случае она бы фыркнула и посоветовала думать о том, что есть, а не о том, о чем ни имеешь, ни малейшего понятия. Например, о моей карьере земледельца с криминальным уклоном. Я всегда поражался этому весьма полезному умению женщин отсекать от себя целые области возможных познаний, в которых они не нуждались в своей повседневной жизни и сосредотачиваться на проблемах сегодняшних и ближайших перспективах, обычно обозначавшихся в календаре конкретным словом завтра. Елен вообще заняла крайне мудрую позицию – старалась побольше молчать с Джимом, это ему безумно нравилось, а все темы разговоров сводить к ней самой, к ее чувствам и переживаниям, ну или к их совместным чувствам и переживаниям. О, тут можно было мусолить до бесконечности, поэтому я понимаю, почему на все остальные области познаний у женщин обычно не остается времени!
Единственная размолвка между ними произошла где-то между вторым и третьим днем. Я не слышал слов, подслушивать нехорошо, да и туговат я на правое ухо, и судил по позам разыгравшейся пантомимы. Елен очень элегантно и ненавязчиво, предложила Джиму по-тихому меня прирезать и начать переправлять алмазы самостоятельно в надежное место. Джимми также красиво сделал вид, что не понял, о чем она говорит. Елен повторила, на что Джим ответил, что шутка повторена дважды перестает быть смешной, и белокурая электродрель ненадолго отступила. Как я узнал уже потом, Елен еще дважды делала подходы к этой штанге, но одолеть ее ей уже не удалось.
Однажды, в одно прекрасное утро, примерно в середине второй недели нашей счастливой семейной жизни, во время очередной тихой задумчивости, Джим Гаррисон выдал фразу, с которой можно было начинать новый отсчет времен, новой эры: «Это все было не зря!» Я, слегка задремавший, очнулся, кивнул, икнул и зевнул. Елен, отвлекшись от напильника нулевого размера и маникюра, прощебетала: «Что ты сказал, милый?» Милый! Милый. Меня уже начало слегка раздражать это слово. Через недельку другую, мы услышим это слово из этого очаровательного ротика в последний раз в комбинациях со словами: «открытка», «Мальдивы», «напишу», «не забывай», ну и, конечно же, прощальный чмок и слезинка в глазу, сползающая затем трагично по щеке — как же без нее!
— Не зря он приходил и не зря все исполнил. Все не зря, — у Джима начали заканчиваться слова, поэтому некоторые из них он уже начал повторять по три раза.
И все-таки моя догадка оказалась верна, о том, что Джимми, все это время постоянно думал о незнакомце, а не страдал своим обычным одним из пустых развлечений, в виде вычисления в уме массы, скорости и угла вхождения в атмосферу Земли астероида, такого, чтобы люди уже точно не выжили, и у крокодилов снова появилась возможность бегать друг за дружкой на двух ногах, постепенно заселяя всю планету. Хотя для этого вывода о не случайности визита незнакомца Джиму понадобилось почти десять дней, а Джеббс выдал то же самое практически сразу. Но я не стал сомневаться в соотношении умственных способностей их обоих, потому что хоть что-то в этом шатком мире должно оставаться стабильным.
— Я должен что-то сделать, что-то важное, — продолжал выдавать Джим.
Ну, это было ни для кого не секрет – я всегда знал, что как только ему надоест шляться по городским помойкам и он решит вернуться домой, то он с легкостью сможет выбрать любую карьеру, которая рано или поздно приведет его сначала к губернаторскому, ну или к сенаторскому, а затем уже к президентскому престолу. Моя вселенская миссия в это деле состояла в том, чтобы не потеряться самому и не потерять Джима по дороге. И хотя пустой деревянный ящик из-под тушенки, на котором в данную минуту сидел Джим и кресло Президента Соединенных Штатов, стояли друг от друга на некотором расстоянии, я точно знал, что в один прекрасных солнечный день, оно сократится до одного шага и этот шаг будет сделать. В крайнем случае, я его слегка подтолкну, и первый скажу: «Осторожнее, господин президент!»
Еще через час размышлений и томительных ожиданий, Джим встал и выдал следующую заповедь: «Я начну отсюда…» Я встал следом за ним. Елен отдыхала после готовки яичницы и пропустила начало этой значительной главы в истории человечества, поддержав наши начинания лишь легким, но уверенным посапыванием. Но я явственно ощутил, что первый шаг был сделан! А как говорят у нас в Канзасе – длинный путь начинается с маленького шага к железнодорожной станции, и лишь бы хватило денег на билет! Следующие шаги были сделаны Джимом вдоль нашей полянки сначала на север, потом на юг, потом снова на север. После того как поляна была несколько раз измерена в поперечнике, начались измерения ее периметра – три раза по часовой стрелке и один раз против. Несколько раз Джим останавливался и менял направление. Первое время я бегал рядом с ним в надежде нахлебаться новых откровений, но поняв, что маневры Джима носят абсолютно хаотичный порядок и не имеют прямого отношения к дороге в Белый Дом, я вернулся на свою исходную позицию и начал ждать, пока мой названый братец выдохнется. Сил, однако, ему хватило почти до вечера, затем он сел, отказался от ужина и сказал, что будет думать. Блин, а на что были потрачены предыдущие восемь часов его метаний и моих за ним наблюдений? Я реально чувствовал себя зрителем на теннисном матче на котором мячик не разу не вылетел в аут. Но Джим был непроницаем, повторив, что ему надо очень серьезно подумать. А до этого он что ли, анекдоты в журнал для кролиководов сочинял? Елен, увидев, что это все всерьез и надолго, ретировалась, сказав, что сегодня она ночует у мамы, тьфу, то есть дома, тьфу еще раз, то есть в миссии и вообще: «До завтра, мальчики!» Я всегда поражался умению женщин ничего не понимать в серьезных вещах, но быть очень чувствительными к ситуациям, как гупии перед землетрясением, и всегда выбирать нужную модель поведения, а иногда просто отмораживаться, ну или плакать.
Ночь настала быстро, текла спокойно, пока какой-то монстр, вселившийся в тело Джима не начал трясти меня за плечи и плеваться мне в лицо слюной вперемежку со словами.
— Ты не представляешь! Я все понял! Я теперь знаю! Я всегда знал! Знал! Лучше! Конечно же лучше! Именно! – создавалось впечатление, что он говорит просто любые слова наугад, часть из них я не расслышал, остальные он сплевывал, но общий смысл, что Джимми тронулся, до меня дошел. Единственное, что я мог вставить в этот поток междометий и восклицательных знаков, учитывая, что при этом меня постоянно трясли и свою нижнюю челюсть я практически не контролировал, было два довольно длинных слова: «Ты-ы-ыы прр-иии-нн-я-л?»
— Нет, я, наконец, прозрел, — с этими словами он бросил мое бренное тело на одноименную землю и сказал фразу, которая отодвинула ящик из-под тушенки от президентского кресла на несколько световых лет: «Я хочу сделать людей лучше!»
Отлично! Я так и знал, в нашей «кукурузе» завелись полевые мыши и выгрызли Джиму рассудок.
— Всех? – единственное, что я смог вымолвить, пытаясь хоть как-то поддержать беседу, как поддерживают ее с буйно помешанным во время обострений, пока ждут приезда санитаров.
— Всех, или скольких получится.
Все. Это конец. У меня в голове сразу же родилась картинка как из школьного задачника по математике: нарисован ящичек, от него пунктирная линия к креслицу по ней идут двое человечков – один в трусах, другой в майке, по пути делая всех лучше. Вопрос, когда они доберутся до конечного пункта? Ответ: никогда. Никогда! Никогда, человек, ставящий перед собой такие бредовые цели, не станет президентом США!
Вот если бы Джим предложил подговорить население местной деревушки пойти с копьями к населению какой-нибудь другой, более мелкой деревушки, и сказать, что мы пришли с миром, а самим навалить им на порог демократии и забрать у них все пластиковые ведра. То это было бы да! Или нарезать из цветной бумаги квадратиков и пройтись с ними по всем соседним мелким деревушкам и сказать, что это новые мировые деньги и скупить на них уже все пластиковые ведра в округе. А кому не нравится, пожалуйста – для вас первый вариант, парни с копьями, ваш выход!
Будь у Джима подобные цели, то это было бы похоже на некий старт и перспективу, там только меняй уровни — прыгай со ступеньки на ступеньку и, глядишь, до заветного креслица уже и недалеко. Но нет, в тот день Джим повернул совсем в противоположную сторону. Я не стал тогда спорить, а сказал лишь: «Изыди, демон!» и вскоре забылся в чутком и тревожном сне, периодически поскуливая и суча задней лапой.
Утром пришла Елен и принесла немного еды и спросила, не лучше ли Джиму. Я ответил, что намного и что очень скоро мы устраиваемся в их миссию на работу. Она сказала, что это отличная идея, тем более там вскоре освобождается как раз два места. Под конец она предложила две местные газетенки, те самые ежедвухнедельники. На первой полосе красовался, конечно же Джеббс – президент Первой Занзибарской Трансафриканской железнодорожной компании, которая взялась за постройку железной дороги от Порта до океана с другой стороны континента через весь юг Африки. В статье долго рассказывалось, как долго нуждалась наша страна в этой магистрали, как долго мы все ждали появления такого человека как мистер Джеббс, который как мессия пришел, чтобы вывести нашу страну из колониального прошлого в светлое будущее на своем паровозе. В конце это пропагандистской листовки сообщалось, что первый отрезок будет проложен между Портом и населенным пунктом с труднопроизносимым названием, состоящим из шестнадцати согласных и одной гласной на конце. Я догадался, что это и есть та захудалая деревенька, в которой расположена миссия, начинающаяся теперь аккурат с другой стороны моего поля.
В следующем выпуске была уже развернутая статья на развороте, в которой описывался этот проект более подробно, как и биография героя-спасителя – три полосы, четыре тысячи знаков, ни слова правды. Я прочел на одном дыхании, как в детстве первую книжку про индейцев и Вальтера Скотта. Хотя, я думаю, что это был весьма сокращенный вариант и вскоре можно будет оформить подписку на многотомное издание с золотым срезом: «Земное житие Святого Джеббса». В статье также сообщалось, что г-н Джеббс хотя и является президентом компании, но далеко не единственный ее владелец, и что свои паи в строительство дороги уже внесли большинство влиятельных людей нашего государства. Ага, старик Джеббс решил не только впервые в жизни проявить хоть какую-то принципиальность и приехать все-таки за своим вагоном, как обещался — на поезде, так он также решил подписать на это дело всех местных простачков и построить дорогу за их деньги! Не знаю, рассказывали ли ему, как тут по местным обычаям поступают с мошенниками и должниками? Что их список висит перед мэрией на заборе в виде голов провинившихся, так сказать для наглядности. Головы правда находятся в нефункциональном состоянии, так как без остального тела плохо работают, но нужный эффект достигается.
Хотя, думаю, даже знай Джеббс об этом заборе, его бы это не остановило. Имея такую поддержку в драгоценных камнях, помноженную на количество и безумие его идей, то с легкостью можно предположить, что когда мы кончим заниматься ерундой и сделаем первую вылазку в соседнюю деревню с попыткой распространить новые квадратненькие деньги, то с каждой хибары на нас будет смотреть со своего портрета Джеббс с подписью снизу: «Большой Брат приглядывает за тобой».
Джим, не читая газету, сказал Елен, что хочет поговорить с руководителем ее миссии и мы все втроем направились в деревню. Хотя мне и до этого приходилось бывать в этом поселке, но каждый раз впечатление он все равно производил довольно печальное. Состоял он из трех дюжин довольно жалких домишек, слепленных их соломы, слез и дерьма, с обязательной дыркой в крыше. Своей шаткостью и разбросанностью очень напоминал летний лагерь скаутов. Поэтому если бы между домиками сновали не полуголые тетки с отвислыми грудями и некормлеными детьми, а подростки в защитной форме в галстуках, то я мог вполне подумать, что снова перенесся в детство – скоро будут дуть в горн и кормить кашей, а вечером можно будет тискать девчонок и играть в душе со своим малышом. Но, к сожалению это все-таки был поселок неандертальцев — причем к моему небольшому, я бы сказал стандартному несчастью, и к очень большому несчастью местных жителей — потому, что у меня был хоть небольшой шанс выбраться из этого забытого места, они же были обречены жить здесь вечно. Хотя на вид они держались молодцом, улыбались и удачно притворялись счастливыми, но я был уверен, что по ночам они сидят дома и воют от тоски на луну через дырки в крышах своих домов. Поводов для рыданий у них было предостаточно: такой нищеты как тут я не видел никогда, а к тому времени я уже видел предостаточно. Большей части мужчин вечно не было дома – они батрачили на белых фермеров, рабство хоть и было официально отменено, но за те деньги, которые они получали, считайте, что их работодатели передают большой привет Линкольну. Весь женский энтертеймент заключался только в ежедневных походах к ручью с пластиковыми ведрами на головах и малолетними детьми под мышками – прямым доказательством того, что мужчины, как я уже сказал, все-таки периодически домой наведывались. Но, по-видимому, местным жительницам просто было не с чем сравнивать, либо они так искусно притворялись, но вид у них всегда был веселый и жизнерадостный.
Как я уже сказал, наши контакты с местным населением были органичны в своей ограниченности. Они не трогали нам – мы за это были живы и благодарны, трогать их самим нам никогда не приходило в голову. Единственной возможной зоной конфликта могло стать мое поле, доходившее почти до края деревни. После его неожиданного появления местные жители не высказали к нему практически никакого интереса, они вообще жили в согласии с самими собой, а заодно и с окружающей природой, особо себя от нее не отделяя и не выделяя – выросло, значит выросло. Просто они начали заготовлять на свои подстилки не ту траву, что росла у ручья, а эту, что росла практически на околице. Увлекались они этим делом недолго, пока кто-то в один прекрасный солнечный день случайно не бросил подстилку из «новой» травы в костер. Что тут началось! Нет, они, конечно, очень любят танцевать, но не целый же день и не с таким нездоровым безумием в глазах. Местные старосты провели короткое расследование и запретили женщинам использовать на подстилки новую траву, которую приказано было называть с того дня дурной! Барышни, конечно же, немного возмутились такому решению судей, покричали и поразмахивали руками, но это уже больше для порядку – они хоть и афроафриканки, но все же ничего женское им тоже не чуждо.
Мы шли через поселок; он был хоть и маленький, но довольно разбросанный, об улицах и заборах речь не шла: тут и там стояли хибары для жизни и загончики для мелкого скота, иногда трудно отличимые друг от друга, и груды хлама перед ними, хотя Джимми утверждал, что это их утварь. Понять чем живут и что едят местные жители, было невозможно. Единственной постройкой, которую можно было бы без преувеличения назвать домом, в общечеловеческом понимании этого слова была большущая хижина посредине деревни, с открытой террасой по всему периметру, покатой крышей и крестом на ней – это и была миссия. Позади нее виднелось достаточное количество сарайчиков и по частому хрюканью и кудахтанью, доносившихся от них, они не пустовали. По террасе передвигалось с полдюжины девиц, более одетых, чем все остальное население деревни, которые при более близком рассмотрении, далеко не все оказались туземками, минимум половина из них была европейской расфасовки. Судя по тому, как они все весело начали махать нам вениками, которыми до этого мели свою огромную веранду, и улыбаться — нам были тут рады. Елен в ответ поприветствовала своих подруг более сдержанно, сразу стало ясно, что она считает себя по статусу выше их, ну а после того как она стала знать, что лежит в большой тележке на восьми колесах по середине большого поля, то из-за слишком высокого воротника мантии и постоянно съезжающей на нос короны, практически перестала замечать своих бывших соратниц.
Хотя Елен и просила меня неоднократно не называть работниц миссии монашками, я не удержался и крикнул: «Хай, девы монастырские!» Мне начали кланяться и креститься, и я понял, что ступаю, возможно, на святую землю и захотел снять шляпу, но получилось просто провести рукой по засаленным волосам и приступил к знакомству.
Джим шел сегодня с чересчур уж серьезным видом даже для него, а на веранде его лицо приобрело уже совсем нехорошее выражение, поэтому все приветствия очаровательных служительниц культа достались мне. Елен зашла в глубины хижины-дворца (все познается в сравнении), нас попросив подождать здесь. Через несколько минут наружу вынырнул главный карась этого водоема, и для меня все встало на свои места. Чтобы все понять, мне хватило всего одного короткого взгляда, который на меня метнули маленькие хищные глазки, вмонтированные в крупную лысую голову, которая в свою очередь крепилась напрямую без шеи к жирному туловищу в просторном одеянии, которое выкатилось на веранду вместе со всеми остальными частями тела предводителя местных монахинь. В этот чудный миг я как раз сжимал и легонько тряс руку очаровательной африканочке, пытаясь выговорить имя «Эола» и щелкнуть в конце языком и хвостом. Просто перед этим я уже услышал от нее довольно четкое «Билли» и не хотел проштрафиться, да и улыбка на лице напротив, была просто очаровательна, а рука хоть и твердой, но приятной на ощупь. Видимо в это миг, я что-то такое особенное собой выражал, что поворачивая голову, смог всего на миг уловить выстрел злобных глазок в нас с Эолой, а окончательно повернув голову, я уже любовался самой любящей улыбкой на свете, сложившейся из складок жира на лысой голове. Орган, излучавший улыбку, обладал к тому же дополнительной функцией речи, с помощью которой он произнес:
— Чем могу вам помочь, дети мои?
Из-под складок его одежды выросли руки и развернулись в отработанную позицию. На меня он по-прежнему смотрел как на человека, залезшего в его дом, съевшего всю еду в холодильнике и застуканного за попыткой в этот самый холодильник нагадить. Мне он тоже не понравился. Я опустил руку прелестной подметательницы, развернулся во фронт и уже открыл рот, чтобы сказать что-то очень невоспитанное, как тут с фланга ударил со всех орудий флагманский крейсер «Джим Гаррисон»:
— Я хотел бы с вами поговорить, милейший.
Фигура в одеждах медленно, повторяя боевой разворот линкора, повернулась к подавшему на него голос и изрекла:
— Вообще-то меня все здесь называют, святой отец.
— Мы приезжие, — скромно ответил Джим. – Это займет немного времени, — и жестом пригласил пройти вовнутрь.
Святой отец, на не менее святом престоле (действительно создавалось впечатление, что он не ходит, а катается на какой-то тележке, настолько плавно он передвигался), проехал в святое помещение, Джим шагнул за ним и я явственно услышал, как будто за ними лязгнула, опустившись, тяжелая решетка средневекового замка. Я был совершенно уверен, что это звук прозвучал исключительно в моей голове. Это был второй шаг, в каком-то новом пути, на который ступил Джим. Первый был, когда вчера он сказал, что будет делать людей лучше, а второй был поддержан непонятным звуковым эффектом только что. Хотя Джим мог бы сказать что-нибудь в духе: «Я начну с этого!» или «Этого я прикончу первым!» — эффект был бы не меньший.
Девушки продолжили уборку, Елен зашла в дом, но с другой стороны — то ли подслушивать, то ли паковать чемоданы, хотя зная многофункциональность женщин, совмещать эти два занятия для нее не составило бы особого труда.
Уже потом Джимми мне рассказал, почему первой своей жертвой он выбрал главу миссии. Во время разговоров с Елен, когда та еще не выработала до конца тактику поведения с Джимом, то есть незадолго до или сразу после того как она предложила им стать самой алмазной парой мира, она, для поддержки разговора, либо просто для заполнения эфира, пустота которого самым разрушительным образом действует на женскую психику и поэтому стоит воспринимать женскую болтовню исключительно как защитную реакцию по сохранению репродуктивных способностей особей противоположного пола. Так вот, говоря проще, Елен просто трепалась, а Джим думал о своем – все были счастливы и Елен возьми и расскажи ему историю вождя местной религиозной организации. Услышь я ее тогда, то она бы меня бы позабавила, но не более. Джим же на нее никак не отреагировал, но все запомнил, а когда сожаление о том, что он так же как и я потратил свое желание на всякую ерунду, достигло в нем апогея и он начал сначала днем перемерять шагами нашу песочную лужайку, а ночью пугать меня своими возгласами, то первый о ком он вспомнил и до кого он мог дотянуться, чтобы сделать его лучше, был этот несчастный толстяк. Посоветуйся он со мной, я бы смог указать ему цель и поближе, но у влюбленных всегда есть проблемы с адекватной оценкой предмета своей любви. А гении, как известно, могут тоже любить, правда, любят они как-то по обыкновенному. Хотя, напротив, люди обыкновенные, способны иногда на самую сумасшедшую любовь, сами об этом не подозревая, пока в один прекрасный солнечный день не столкнутся с ней, а столкнувшись, покатятся уже вместе под откос горки под названием жизнь согласно указателям «сумасшедшая любовь» по направлению к куче тел под названием «несчастная любовь». Да, и пока я не забыл! Меня очень бесит это словосочетание «предмет любви». Пахнет оно секс-шопом: пожилая пресытившаяся пара в магазине выбирает себе новый предмет любви… Ладно, надоели мне эта лирика, слушайте историю о мальчике.
Жил себе и маме мальчик, не тужил. Детство провел нормальное, особо никто его не обижал, он в свою очередь тоже – максимум любил отрывать лапатости и махатости у жучков. Но кто из нас этого не любил? Поэтому обвинять его в какой-то особой жестокости не стоит. В школе плохим поведением не отличался, отметки приносил хорошие, благо сосед по парте — отличник, был тому хорошей гарантией. Из школьного курса наш герой вынес отлично развитое боковое зрение, а также красивый каллиграфический почерк и отработанный стиль анонимных посланий, как на учителей, так и на учеников. Его ждала блестящая карьера в любом чиновничьем аппарате – ветку развития он могу выбрать сам, какую не важно, все равно все пути наверх ведут в одно место. Мальчик, конечно, не обладал столь обязывающими амбициями на свой счет, какими я обладал до вчерашнего дня в отношении Джима Гаррисона, но все равно, в обыкновенных клерках он долго засиживаться не собирался.
Первые два года службы в рядах госчиновников не принесли ощутимых результатов – оказалось, что у Дяди Сэма на службе целая армия бездарных канцелярских муравьев со среднестатистическими амбициями и карьера мальчика заглохла, особо даже не начавшись. Толчком к развитию в другом, более перспективным, по мнению мамы, направлении, послужило ее письмо к своему дяде – довольно влиятельному епископу. Если при слове «епископ» вы сразу представляете себе старика в старинном красном одеянии, срывающим сургучные печати со свитков, сидя за столом со свечами, то вы безнадежно отстали от прогресса. Современные епископы, по крайней мере, у нас в Штатах носят приличные костюмы, в конюшнях у них стоят современные безлошадные кареты и вообще они все достаточно прогрессивные люди. Нужный нам епископ в то утро был в тапочках, халате и в хорошем настроении. Письмо было короткое, но четкое, с правильно расставленными хвалебными акцентами в сторону адресата. Адресат, не снимая халата, сразу же ответил письмом на гербовой бумаге, что с радостью примет участие в судьбе своего внучатого племянника, тем более что он до этого ни разу о нем не слышал, но всегда жаждал обнять. Племянник с чемоданом через неделю предстал перед светлейшим ликом, а еще через две уже просиживал штаны в семинарии. Пять лет прошли не зря, мальчик научился, наконец, самостоятельно бриться и вдевать одеяло в пододеяльник, не повреждая фатально последний. Кроме этого он умножил себя на два, правда, не по внутренним качествам, а по внешним объемам. По окончании высшего духовного заведения мальчика ждала блестящая карьера, тем более, что горячо любимый дядя, стал к тому времени кардиналом и оставалось только выбрать себе приход побогаче. Но тут снова случилась очередная беда, подстерегающая нашего героического мальчика на каждом большом повороте его жизни — в один прекрасный солнечный день дядю-кардинала в срочном порядке вызвали на самый верх с докладом о его земных деяниях. А, как известно обратно оттуда уже не возвращаются, то жизнь нашего мальчика потекла уже без «святейшей» поддержки и потекла хреново. Бывшие дядины друзья знать ничего не хотели про его племянника, у них своих родственников было хоть пруд пруди и в нем же их и топи. Так что блистательная карьера нашего мальчика на святом поприще как всегда заглохла, не успев как следует и начаться. Кое-как закончив семинарию и так же получив сан, мальчик понял, что ему не светит не то, что богатого, вообще никакого прихода. План распределения мест уже утвержден на пять лет вперед, а в нем его фамилии и в помине нет. И даже если кто из святых отцов и представится все расписания, то не стоит забывать про племянников бывших дядиных друзей и соратников. Единственное, что могли предложить мальчику, это зарубежная поездка в один конец, для руководства одной из далеких миссий. Глаза мальчика аж увеличились немного в размерах, при словах «руководитель миссии», тем более предоставлялась возможность выбрать между Азией и Африкой. Пока мальчик ходил смотреть на глобус, более ушлые соискатели порасхватали горячие путевки и мальчику, когда он вернулся, досталось последнее распределение в наверно самую последнюю страну не только всей Африки, но и всего мира. По приезду на место, глаза у мальчика вернулись в свое первоначально состояние и даже немного сузились. Такого он не видел даже по каналу «Дискавери» в самых неинтересных выпусках. Поняв, что он, похоже нащупал место под названием задница мира, и что, потрогав его немного, можно выбираться и обратно в мир людей. И он начал строчить письма своему руководству и маме, чтобы его забрали отсюда, ибо он хочет домой. Мама отвечала часто, но однообразно, мол, дяди-кардиналы в нашей семье временно закончились и пока надо потерпеть, мой хороший, может все как-то уладится. Руководство писало реже, но строже, мол, истинная христианская церковь уже давно просрала эту страну и все держат в ней проклятые отступники, давно и крепко, поэтому с божьего благословения, лучшие представители римской церкви брошены сюда для срочного исправления ситуации. Наш мальчик отвечал тут же, осторожно подмечая точность использования слова «брошены». На что недовольное, но пока еще сдерживающее себя милостью божьей руководство, настоятельно рекомендовало не придираться к словам, и обещало, в случае дальнейшего проявления слабоволия в несении своего креста на конкретно обозначенном участке, прислать мальчику замену, но самого мальчика все равно оставить в данной миссии, цитирую: «хоть дрова колоть». Последний отметил, уже про себя безграничную мудрость своего руководящего органа, который, без сомнения, даже близко себе не представляет, из какой части света к нему взывает, посланный брат их. И то, что в той части света, куда он был послан, дрова в явном дефиците, и что перед тем как их колоть, надо сначала найти, у кого они есть, а потом отобрать, если сможешь, потому что они здесь уже давно все найдены и поделены.
Но мальчик на это раз не стал унывать – жизнь его хоть немного, но научила, хоть какой-то самостоятельности и он сменил тактику отношений с ненавистным руководством. Он очень быстро усвоил систему выклянчивания средств сверху, якобы на развитие миссии, и его буйная, но несколько однообразная фантазия и недюжий эпистолярный талант, заложенный еще в школе и развитый в семинарии, помогли ему достичь впечатляющих результатов, но пока только в отчетах. За тринадцать лет мальчик смог обзавестись большой фермой по разведению каракулевых овец, двумя магазинами в Порту и одним в Столице, а также завести небольшой гарем из монашек, в основном местных, обращенных в истинную веру девиц, а также нескольких отъявленных грешниц, выписанных с «Большой Земли» наподобие Эльзы и Елен — за время обучения в семинарии святые отцы так и не смогли отбить у нашего мальчика здорового интереса к противоположному полу и привить нездоровый к своему. Ну и, конечно же, он сумел превратиться в передвижную статую на колесиках самому себе. Проверяющие с «Большой Земли» всегда неожиданно, так что он знал об их появлении минимум за месяц, но зато крайне редко десантировавшиеся на этот оплот истинной веры всегда оставались довольны – ради них устраивался грандиозный праздник, сгонялось все население окрестных деревень, всем вешали большие деревянные кресты прямо поверх бус и начиналось буйное веселье с танцами. Проверяющие сквозь пальцы смотрели на не совсем каноническое соблюдение некоторых (они не могли точно для себя определить каких именно) обрядов и уезжали, всегда довольными, с новыми каракулевыми шубами подмышкой.
Так, статуя нашему мальчику, чувствовала себя уверенно и комфортно, жила примерно также, пока к нему не пришел боевым шагом всадник апокалипсиса в обличии Джима Гаррисона. Их разговор длился не очень долго – максимум через четверть часа они вышли в том же самом порядке, что и вошли. Джим – с тем же выражением лица, что и уходил, статуя же выползла, потеряв килограмм двадцать веса и сорок лет возраста, но за это приобретя полведра пота на лице. Джим не оборачиваясь, и обращаясь, скорее к побеленному столбу, что держал крышу над крыльцом, нежели к руководителю миссии, хотя в данную минуту отличить их друг от друга не смогли бы ни мама, ни плотник, сказал:
— До свидания, святой отец. И помните, до заката.
Джим спустился со ступенек и зашагал в сторону нашего лагеря, я пустился за ним, напоследок успев мельком взглянуть в маленькие свиные глазки и увидел, что их кто-то заменил на стеклянные протезы. Елен не вышла нас провожать, скорее всего, просто не смогла после того, что он могла услышать, зато монашки махали нам всем, чем только машется. Я шел вперед спиной и отмахивался за двоих. Когда мы отошли достаточно далеко, чтодаже самые яркие платки уже было не видать, я развернулся и спросил у своего задумчивого спутника, что он такого наговорил этому блудливому пастуху и что должно случиться до заката? Я надеялся, что какая-нибудь казнь, причем особенно мерзким способом. Но ведь обычно казнят на рассвете или в южном полушарии все наоборот?
— Я просто с ним поговорил, — немного улыбнулся Джим и с него начала спадать маска обличителя пороков. – И предложил ему покинуть поселок до заката и больше никогда в него не возвращаться. Также я попросил его больше не заниматься всем тем, чем он занимался до этого.
— И что? – я был удивлен и разочарован. – Я, конечно, видел эффект, который ты на него произвел, но ты уверен, что он тебя послушает?
В ответ я увидел уже давно требующее быть запатентованным фирменное джимовое пожимание плечами:
— Завтра увидим.
— А что ты обещал с ним сделать, если он откажется?
— Я ничего ему не обещал и ничем не угрожал, если ты это имеешь ввиду. Человека нельзя заставить стать лучше, он должен сам этого захотеть, моя задача лишь помочь ему в этом. Я думаю, что я помог этому человеку и он примет правильное решение.
Исчерпывающий ответ. Я понял, что запас слов на сегодня Джим уже потратил и что поговорить с ним можно будет только завтра. Мы подошли к краю моего, кажущегося бескрайним поля и начали продираться сквозь зеленую листву уже молча.
Глава восьмая
Утром Джим начал собираться. На мой резонный вопрос: «Куда ты?» Он ответил, что переселяется в миссию, там он видел много книг и ему необходимо кое-что изучить. Я никак такого не ожидал от своей судьбы, а тем долее от Джимми, что был готов расплакаться, как молоденькая барышня, после первого школьного бала, когда «ни одна скотина не пригласила танцевать», и начать гневно топать копытцем. Но Джим быстро меня успокоил и сказал, что мы расстаемся не надолго и как только вернется Джеббс и я буду свободен от своего обязательства, то смогу присоединиться к его радости и с моим удовольствием в то нескромное жилище. Тем более Елен, скорее всего все-таки уедет и все станет на свои места. Меня это устраивало, и я вытер слезы со своих конопушек и поправил растрепавшиеся банты. Любым, даже очень близким людям необходимо периодически отдыхать друг от друга, а мы четыре последних года провели вообще, не разлучаясь, так что, почему бы и не отдохнуть поодиночке, если предоставляется такая возможность?
Я проводил Джима до края поля, мы обнялись, как будто прощаемся навек, хотя я пообещал прийти завтра же проведать его, а заодно и монастырское меню. Дальше, я решил, его не провожать, то ли мне не хотелось видеть во второй раз эту откормленную рожу местного духовного предводителя, в том случае, если он решил все-таки не спрыгивать с насиженного насеста, то ли не хотел видеть его курочек или ужимки Елен, то ли слегка сердился на Джима за его решение и хотел посмотреть сможет ли он прожить хоть какое-то время без меня, не знаю. Решение не провожать Джима дальше окраины деревни я принял мгновенно, а теперь стоял и смотрел на его удаляющуюся тонкую фигуру, ковыряясь сам в себе в поисках причин своего решения. Их оказалось довольно много, и повлияла, скорее всего, не одна, а все вместе, утешал я сам себя.
Человек часто думает, что он принимает то или иное решение, основываясь не на одной единственной причиной, а на сразу нескольких. Причем мы всегда пытаемся себя оправдать, выставить в лучшем свете в своих и чужих глазах, а наши недостатки запрятать в хорошую тень. Мы часто руководствуемся какими-то явными, правильными и логичными причинами, именно ими, пытаясь объяснить себе и окружающим свой поступок либо решение. Но это все вывеска, дипломатия отношений и формальностей, даже в отношении себя самого. Истинная же причина любого поступка и действия всегда одна, и обычно является неприглядной, очень простой, но сидящей настолько глубоко, где-то в районе кишечника и животных инстинктов, но именно она одна, а не эта гирлянда красивых отговорок, определяет в какую сторону направить действия человека. Открыть, докопаться до этой истинной причины нелегко. Надо забыть о многих вещах, например о старой библейской истине: «Путь каждого человека прям в глазах его». Нужно не только отбросить субъективный взгляд на самого себя и перестать считать свою личность неким центром, вокруг которой вертится весь мир, отбросить какие-либо понятия о добре и зле, убрать весь сумбур мыслей и цветастые холсты воспитанности и дипломатии, придется разгрести самую старую кучу хлама на чердаке своих чувств, и возможно там, под слоем трухи промелькнет с противным писком мерзкая крыса. Вы не поймаете ее — она тут же укроется за ближайшим убежищем, какой-нибудь коробкой с вашими детскими игрушками, но знайте, что это была она. Она и есть истинная причина вашего конкретного поступка, она всегда разная – некоторых крыс на чердаке слишком много – как бывает много различных ситуаций и поступков, но она всегда одна, главная и единственная, неприглядная и бессердечная. Не стоит искать ее всегда, но стоит всегда о ней помнить и не утешать, и не прикрывать свои поступки красивыми разноцветными покрывалами с плюшевыми медвежатами, кувыркающимися на травке.
Так говорил Джим. И мне сейчас вспомнились эти слова, пока их автор уже был готов скрыться за первыми хижинами. Не помню, к чему и когда выдал он эту тираду – как вы уже поняли, что Джим молчит, молчит, а потом как даст по мозгам, что потом начинают молчать уже все окружающие. Сейчас я не хотел гонять крыс по подвалам или чердакам моего сознания, стараясь забыть мелькнувшую всего на мгновенье картину жаркой сексуальной оргии с участием Джима, всех монашек, а также некоторой домашней утвари и скотины.
Я вернулся обратно в лагерь, сел в тени вагона и как ни пытался не думать, не смог себя побороть. Мозг все-таки сильнее человеческой личности и воли и если ему взбредет в голову думать о чем-то, то человек уже ничего не в силах с этим поделать. Не подумайте ничего плохого, я не такой умный, как Джим и не могу целыми днями сидеть погруженный в свои мысли, но бегать все время с выпученными глазами и красным носом клоуна, одетого в рубаху парня, мне тоже иногда надоедает.
Каждый человек думает. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то в правильном направлении, кто-то в любом. Никто не считает себя глупым – все жалуются на свое положение, но никто на свой разум! В общем, думают почти все, в том числе и я. На людях человек всегда ведет себя так, как хочет, чтобы о нем думали, либо так, как от него ждут, либо сообразно ситуации, либо по настроению, своему или окружающих людей, а в основном, в комплексе – согласно канве ситуации. Но оставшись один, человек становится совсем иным, оставшись сам с собой, он, наконец, становится самим собой, простите за тавтологию – я не читал столько умных книжек как Джим, скажите спасибо, что хоть пишу без ошибок. Думать и иметь мысли могут все, высказывать их вслух, может большинство, но не у всех это получается достаточно грамотно и интересно, записывать свои мысли в письменно виде может еще меньшее число людей (правда их было бы намного больше, если бы при этом можно было всегда прикладывать картинки, как они машут руками), но излагать свои мысли письменно и интересно могут лишь единицы.
Не знаю, где в этих градациях затерялся я, но пишу, как умею, а как умею, вы, к сожалению уже читали, но стараюсь делать это, по крайней мере, хотя бы честно. Но и на сколько правдиво пишу, тоже судить мне одному очень трудно. Правда, как когда-то сказал Джим, очень объемна и многогранна как кристалл и если прикладывать ее только одной гранью в какой-то плоскости, то увидишь только часть, не всю правду. О любом событии, даже самом простом, у двух его участников будет разное впечатление, разные выводы и разная правда. Потому что, мало того, что каждый рассматривает мир через узкое окошко своей колокольни, или бойницу своей крепости, но происходит это еще через разные фильтры своих эмоций и мировосприятий. Если бы все смотрели на вещи с одной точки зрения и с одинаковым восприятием, то конфликтов бы, наверно вообще не существовало, войн бы не было, адвокаты бы все померли с голодухи, а в судах рассматривали исключительно апелляции к результатам футбольных матчей…
Тут поток моих сумбурных мыслей прервал, точнее остановил, а затем отмотал немного назад, до ключевого слова «кристалл», какой-то второстепенный отдел моего мозга, отвечающий за функцию карьерно-финансового благополучия. К счастью он занимает у меня нормальный объем и не требует дополнительного хранения в портмоне или портфелях, как это делают некоторые ребята с Уолл-стрит, да и не только. К слову «кристалл» начали подтягиваться другие слова синонимы из моего небогатого лексикона, такие как «алмаз», «вагон», «с него и так хватит», «парочка мешков», «никто не узнает» и т.п. Затем вышеназванный отдел, поставив их в нужном порядке, отправил прошение на рассмотрение в головную контору, чтобы та дала распоряжение некоторым конечностям выполнить ряд действий. Пока в главном офисе руководство колебалось и вертело карандаш, принимая решение, выслушивая при этом нудные нотации от начальника крошечного, но вечно лезущего как «Гринпис» во все китовые дыры, отдела по морали, организм начал, руководствуясь советами независимого комитета под названием «интуиция» бродить по лагерю в поисках мешковатых емкостей. Отдел внешних глазных наблюдений, в рабочем порядке, автоматически подал рапорт наверх о фиксации совершения организмом обозначенных действий, как всегда, находясь на периферии внутренней политики и ничего не зная о закручивающейся интриге. Большой босс, сидящий за главным пультом, так треснул кулаком по кнопкам: «Какого хрена! Я еще ничего не разрешал!», что по чердаку конторы кроме «Я», забегали «Сверх Я», «Оно» и Фрейд вместе с какими-то голыми девками в кляксах. Передние конечности организма судорожно вцепились в третий мешок, а остальное тело вытянулось во фрунт. Но все в нашем офисе были уже давно в курсе, что шеф у нас вспыльчивый, но отходчивый. Поэтому, чуть погодя руководитель финансового отдела вновь заглянул к главному, на этот раз, уже принеся с собой проектор и разноцветные слайдики с красивыми машинами, домами и женскими купальниками, натянутыми на несоответствующие своим размерам пышные тела. Периодически, конечно, подсовывая черно-белые картинки мерзкого разврата, творящегося в это время в хижине миссии, удовлетворенно косясь на морщившегося при этом босса, заметно заколебавшегося. Организму пока дали нейтральную команду поискать в мешках дыры и побродить немного вокруг вагона, а когда дыры не были обнаружены, было разрешено тереть себе лоб и чесать затылок в ожидании принятия окончательного решения. Плюгавенький начальник отдела морали, нервно протирал очочки и мариновался почти все заседание в приемной, сдерживаемый, подкупленной горой шоколада секретаршей и только под конец смог пробиться к запертой двери, забарабанить в нее и истошно крикнуть: «Джим все равно все узнает!» Шеф, услышав этот обреченный крик, одним взглядом отпасовал его начальнику финансово-карьерного, на что тот не моргнув (хотя чем, там эти нейроны могут моргать), вывалил на стол папку под названием «Три мешка». В это плане было все: от схем захоронений, планов прикрытий и стратегий двойных уловок, до перечня масок невинностей и списка симптомов возможных заболеваний. Шеф читал вслух и громко. Начальник по морали, послушав немного под дверью, окончательно пал духом и поплелся к себе в кабинет поправлять и без того идеально расставленные чучела бабочек. Большой босс, в конце концов, вывел: «Ну, что ж…», секретарша стукнула печатью по столу и машина бюрократии завертелась. Через девять миллисекунд организм, задрав голову вверх, пополз на вагон, держа в одной руке символ операции – три холщевых мешка.
К закату дело было сделано. Я не стал утруждать себя составлением карты сокровищ с тремя палевными крестами и скелетом в углу, а просто зарыл мешки наобум. Пусть теперь меня режут, пытают и скальпируют с одним вопросом: «Где?» И я с совершеннейшее чистой совестью отвечу: «Не знаю!» Кстати, если вы когда-нибудь захотите отсыпать три мешка алмазов из полного вагона, отсыпайте смело – абсолютно не заметно! Устав как гибрит собаки с кротом, я лег спать и сразу заснул как младенец.
Утром поняв, что плохо спят все-таки только люди с совестью, а без нее, но с тремя полными, вкусными мешками, спится значительно лучше. Но приятные вещи в это прекрасное солнечное утро на этом не заканчивались, у меня появилась идея! Я нашел кусок бумаги, наточил зубами карандаш, придал слюнами яркости своим словам и быстренько написал письмо. Теперь его надо было отправить — у меня был адрес, но не было конверта. Надеясь найти его в миссии, и даже не позавтракав, потому что особо нечем, я поскакал проведывать Джимми в несравнимо лучшем настроении, чем провожал его вчера.
Изменения, произошедшие за последние сутки в миссии, не были особо заметны, но что-то такое в воздухе витало, то ли предчувствие чего-то хорошего, то ли запах жареной свинины. Подойдя к крыльцу хижины-дворца и думая чем бы обо что постучать, чтобы дать о себе знать, как по волшебству из глубин дома вынырнула моя вчерашняя знакомая, прекрасная Эола. Она узнала меня и широко улыбнулась самой прелестной улыбкой на свете. Я, стараясь не отстать в ширине растянутых губ и искренности открывшихся чувств и зубов, смог, тем не менее, попросить у нее конверт, сразу после того как она вы выдернула у меня из лап, свою руку. Девушка кивнула, дав понять, что понимает меня и мою просьбу, снова улыбнулась и повела меня вовнутрь. Там, в огромной комнате, в центре, в позе Будды сидел Джим, а вокруг застыла сидячая групповая композиция из монашек разной степени отвердевания и восхищения. Я взглянул на них лишь мельком, потому, что смог лишь на секунду оторваться от обмера на глазок ягодичных мышц, идущей впереди Эолы. О чем в тот миг говорил Джим, я также не слышал, потому, что в ушах в это время у меня, что-то постоянно стучало. Я успел лишь походя махнуть ему рукой, он мне не ответил, но ничто не могло испортить мне сегодняшнего прекрасного солнечного утра. Моя проводница завела меня в небольшую комнату, подвела к письменному столу и достала конверт из ящика.
Я написал адрес, куда доставить письмо и под диктовку Эолы написал обратный адрес миссии, положил письмо в конверт и попросил ее заклеить его, так как у меня пересохло во рту, да и вообще я не специалист. Ее прелестный ротик с радостью сделал это так, что давление в моей кровеносной системе начало совсем зашкаливать. Я сделал шаг ближе и попросил ее отправить это письмо как можно скорее с их почтой, но пусть это будет нашим маленьким, но, надеюсь не последним секретом. Эола ответила, что с радостью сделает это для меня, но вот только машина будет только на следующей неделе. На что я ответил очередным шагом к ней, попутно распахивая плащ Дон Жуана, клянясь при этом, что готов ждать вечно, лишь бы она исполнила свое обещание. Я уже весь вспотел в этом старинном одеянии, ни для этого южного климата, и, звеня шпагой и буцаясь коленом о пол, признался, что Эола – это самое прекраснейшее имя на земле. После этого улыбки закончились и мне совершенно официально объявили, что Эола сидит в зале, а Наоми — имя намного красивее, затем сверкнули не самые приветливые глаза, в последний раз мелькнули ягодицы, и хлопнула дверь. Я вернулся в общий зал уже не в таком счастливом настроении как выходил из него, сел позади всех и попробовал послушать. Среди них оказалось с десяток Эол и пару-тройку Елен, одна из которых пыталась выстрелить в меня молнией из глаз, и я сразу же определил какая из них настоящая. Она же переводила некоторые слова Джима на африкаанс – это малограмотный голладский язык на котором изъяснялась большая часть местного населения. Джим начал его изучать полторы недели назад под руководством Елен и достиг уже определенного прогресса, но до совершенства ему было еще далеко. Но, я думаю, что говори Джим хоть на финском, эффект был точно таким же, если не большим. Я же был поражен не столько что или как говорил Джим, а тем, что он вообще говорил, много и с людьми! Вы наверняка, слышали о человеке, дожившего до двадцатитрехлетнего возраста, практически не разговаривая, а потом начал говорить, так что его было не остановить! И как говорить! Слышали, да? Впечатляет? А вот мне довелось все это наблюдать воочию. Каково мне? Теперь понимаете, почему я так часто поддергиваю правым глазом?
Джимова лекция вскоре кончилась, все кто не отсидел ноги, начали вставать. Я подошел к нему, мы обнялись и двенадцать пар внимательных глаз оглядело меня, как положено, сверху до низу, и на третьей секунде над каждой из них зажглась зеленая лампочка, которая всегда либо зажигается, либо нет над каждой свободной женщиной, после осмотра каждого нового самца на предмет соответствия его должности отца ее детей. Единственным персонажем, над которым, естественно, не зажглась никакая лампочка, была Елен. Это немного подпортило идеалистическую картину моего появления, но ничего, даже холодный блеск этих чертовых зеленых глаз, не могло испортить этого прекрасного солнечного утра. Зато в толпе своих поклонниц, я без труда отыскал с четвертой попытки настоящую Эолу, когда та сама подошла ко мне и так же как тогда на террасе пожала мне руку и щелкнула: «Эола». Стоп! Вот, вот он день, час и миг, когда я был абсолютно счастлив! Давайте немного помолчим… Спасибо, друзья! Я тем временем продолжу.
Мы все вышли через задние двери на затененную террасу, где уже накрывали обед. Джим сказал, что он голоден, но чувствует себя прекрасно. Для меня это был самый счастливейший день в моей жизни, ну а счастье моего друга в тот момент нельзя было уместить ни в одну кастрюлю мира. Последний раз я встречал такого счастливого человека в коридоре своего дома, он выходил из сортира и это был Дядя, сошедший с картинок… (америк. Худ. 50-х годов) прямо на нашу бренную землю и объявивший всем ее жителям тоном нового месии, что сегодня в 10.45 утра среднеамериканского времени, он, наконец разрешился от мучавшего его последние две недели запора. И что теперь он абсолютно счастливый человек, и готов позволить целовать себя не за двадцать пять центов как прежде, а всего за гривенник! Неслыханные до сих пор щедроты были обусловлены тем особым вниманием, которое Дядя уделял своему организму и его функционированию. Все дело в том, что Дядя не верил, ни гороскопам, ни предсказаниям, ни видам на урожай и прогнозу погоды, ни даже объявлениям в репродуктор. Он доверял только своему организму и дело тут не ограничивалось только предвидением дождя, снега или жары, то есть всем тем, чем и так занимаются большинство стариков. Потому что если всю зиму твердить, что скоро пойдет снег, и хромать при этом на обе ноги, то он рано или поздно пойдет, то ли от безысходности, то ли от того, что уже давно январь. Тут главное не напутать с календарем, а в этой таблице, в отличие от таблицы умножения, мой Дядя ориентировался свободно. Так вот, его тело не ограничивалось только прогнозами погоды, оно ими не заканчивалось — оно ими только начинало. Если Дядя просыпался с утра не в духе, то он до обеда стонал о дожде, а после обеда о засухе. И не важно, что его прогнозы практически никогда не сбывались – Дядю это не останавливало, а тем более его больную фантазию, полностью парализовавшую волю, этого без сомнения более хорошего человека, чем о нем говорила вся округа. После дядиного прогноза погоды, шел обычно его же прогноз результатов спортивных матчей. Если кто сегодня с кем играет, Дядя обычно еще мог припомнить, выдавая это за интуицию, в которой многие признавали просто начинающийся склероз, то с результатами, а тем более с их прогнозами было намного хуже. Дело в том, что Дядя абсолютно ничего не смыслил в спорте, но всегда яростно и страстно за кого-нибудь болел. И если некоторым было не важно, за какую команду болеть, то Дяде было абсолютно все равно за какой болеть спорт. И если к шестидесяти годам, он, наконец, научился в сорока случаях из ста стабильно отличать футбол от соккера, бейсбол от баскетбола, а биатлон от документальных фильмов об альпинистах, то с новыми видами спорта, а новыми они переставали становиться только после второй сотни просмотров, была просто беда. А этот его бешенный крик: Я всегда знал, что в НХЛ сидят одни ворюги и что они рано или поздно доиграются – пойдите, гляньте, у них отключили свет за неуплату, растаял весь лед и парни теперь ныряют и пытаются достать шайбу» — так Дядя познакомился с водным поло. Теперь вы понимаете, почему в нашей семье просмотр спортивных трансляций был национальной трагедией местного масштаба, а для отражения дядиных прогнозов на матч требовалась бегущая строка, как на нью-йоркской фондовой бирже, да и там котировки менялись медленнее, чем заявки Дяди на окончательный счет.
Главной же точкой приложения предсказательного дядиного организма являлась политика. Тут было точно также как со спортом, но только совсем наоборот. Спорт Дядя просто любил, как любят женщин – до беспамятства, до упора, ничего толком в них не понимая и особо не отличая их одну от другой. Политика же была его судьбой. Он прожил изумительную жизнь, полную самых горячих политических событий, баталий и интриг, на старом вельветовом диване бежевого цвета в гостиной тетушки Джинджер. О политике он знал все! Внешней, внутренней, национальной, региональной, политике любого государства. Он знал всех политических лидеров, почивших и потчующих, или тех, которые еще не выдвинулись в первые ряды, но Дядя уже знал, что в скором будущем их подхватит стремительных поток событий и понесет на гребне, в пене, окурках, мусоре и дерьме канализационных стоков, именуемых одним емким словом – политика! Правда, Дядя не мог правильно запомнить, ни тем паче написать, ни одного имени из всей этой когорты общественных пиявок, но это не мешало быть ему очень крупным политическим консультантом нашего города. Дядя знал всех политических деятелей Соединенных Штатов и не только с крупных банкнот, как некоторые. Он мог сразу, на вскидку ответить, кто из сенаторов голосовал против принятия билля о… , но благородно, никогда не применял этого смертельные знания в борьбе со своими оппонентами в его бесчисленных пари.
Дядя знал о политике все, благодаря двум вещам: прошлое и настоящее он изучал по пожизненной подписке и подшивке на «Вашингтон пост», а политическое будущее планеты он познавал, прислушиваясь к своему предсказательному организму. И тот он его ни разу не подвел. Если бы на политические события принимали ставки букмекерские конторы, желательно на ближайшем ипподроме, то я писал бы эти строчки не только золотым пером, но и золотой ручкой, а помогал водить мне ее Хэмингуэй, или хотя бы Селинджер – это уже на мой выбор. Дядя в своих политических прогнозах, был настолько точен, как будто, по его собственным словам, бил воробьев прямо в глаз! (сноска* Принимая во внимание тот факт, что эту книгу может случайно прочесть какой-нибудь маленький мальчик, которого мама попросила растопить ею печь, то я намеренно, особенно учитывая тот факт, что Дядя был отменным матерщинником, слегка изменил в тексте, то место, через которое, по его же собственным словам, он бил воробьев.) Дело все в том, что, то ли опытным путем, то ли пользуясь знаниями, полученными свыше или просто с помощью своей трансцендентной интуиции Дядя мог, прислушиваясь к жизнедеятельности своего организма выдавать стопроцентно точное политическое предречение. Сам Дядя утверждал, что этот дар ему был заложен инопланетянами, когда они выкрадывали его в детстве и проводили над ним опыты.
По версии же тетушки Джинджер, покойный батюшка Дяди (будем звать его Папа, раз уж он произвел нам на свет Дядю), чтобы как-то вталдычить своему непутевому сынку хоть какие-то знания, старался совмещать предметы обучения для более краткого, но в тоже время достаточного образного образования, плоды которого весь Бриджтаун пожинает до сих пор. Так вот однажды Папа написал Дяде, на плакате изображающего внутреннее устройство человека, название основных стран на всех органах, чтобы было легче запомнить. Как продолжает свидетельствовать миссис Джонсон, это единственное знание, крепко усвоенное ее мужем за весь период его пустопорожней жизни, не считая конечно умения поднимать обруч на унитазе перед оправлением малой нужды, но это уже была целиком ее заслуга. Дядя категорически отрицал эту версию, что-то талдыча о разбитых скрижалях и ветхих заветах, неизменно получая скалкой от тетушки Джинджер по своим различным странам, не разбираясь, ни в географии, ни в геополитике.
Я теперь уже не помню точное соответствие стран дядиным органам, тем более, что у меня есть подозрение, что некоторые из них периодически мигрировали с места на место, но это их внутренне политическое дело, главное, что это никак не отличалось на качество прогнозов моего обожаемого родственника. Вот очень краткий и примерный список:
Голова – ну это, естественно США. Мозг – это Канзас, причем левая доля досталась целиком Бриджтауну.
Сердце – это Великобритания. Без комментариев. Венозная система, опутывавшая когда-то весь организм, и не только дядин, сейчас работает крайне плохо – у Дяди из-за этих «чертовых англичан», развился тромбофлебит.
Печень – Германия и ее гусиный паштет.
Почки – это Франция. Я сначала думал, что все дело тут в каких-то особых французских кулинарных рецептах их приготовления, но оказалось, что нет, потому что, когда в 1964-м году у Дяди выходил здоровенный камень из почки, он кричал из своей спальни: «Когда же эта сволочь, де Голль отдаст им, наконец, Алжир?»
Желудок, а затем живот, и еще позже пузо – Китай. «Потому что жрут много» — (с) Дядя. Хотя если бы он отказывался хотя бы от половины того что он сам сжирает (извините за бранное слово, но другого – точнее, не подобрать, тем более вы не видели Дядю за столом во время обеда), то как минимум в одной из китайских провинций многие могли бы позволить себе завести второго ребенка.
Дальше. Дяде почему-то взбрело в голову, что рядом с островом Родос, обязательно есть остров Фаллос, поэтому, где у него болтается Греция, вы и так можете догадаться.
СССР – система пищеварения, кишечник, граничащая с Китаем с одной стороны, очень длинная по протяженности и заканчивающаяся соответствующим местом. Поэтому когда у Дяди начался Великий Запор, а потом Великий Незапор, то он долго не мог понять к чему бы это? Это случилось как раз после нашей знаменательной встречи в коридоре недалеко от уборной. А когда через несколько дней по телеку передали, что из СССР стали выпускать эмигрантов, Дядя хлопнул себя по голове, целясь в Алабаму, потому что это было, наверное, единственное послание Космоса человечеству, которое он не смог вовремя и правильно расшифровать.
А сегодня я во второй раз встретил человека с почти таким же счастливым лицом, как тогда было у Дяди. Это был Джим. Я хотел, конечно же, у него спросить, не шалил ли сегодня у него кишечник, но понял, про проведение параллелей между Джимом и Дядей было бы несколько натянуто даже для мистера Дарвина с его обезьянками – мастера, надо признать, на различного рода притягивания да уши. Джимми, кстати, любил подтрунивать над стариком Чарльзом, и над его шестью костями, на которых зиждется вся теория о переходных моделях от «уже не обезьяны» до «пока еще не люди». Хотя и в красивую сказку про образа, подобия и ребра, как вы уже поняли, Джим тоже верил довольно мало. Больше всего он склонялся к теории о внеземном происхождении жизни. Он считал, что в ней достаточно места и для части двух других основных точек зрения, и истина, как зачастую бывает, покоится где-то там, посередине, но где находится эта самая середина, никто толком не знает. Мне джимова теория тоже нравилась больше всего, я всегда себе живо представлял, как спускаются инопланетяне в скафандрах, быстренько отстреливают самцов горилл из бластеров, а затем начинают гоняться за самками, чтобы умерить свою похоть, взращенную за долгие годы межзвездных путешествий, а заодно и утолить жажду научных экспериментов. Ничего нового — стандартное поведение завоевателей как после штурма какой-нибудь средневековой крепостенки. Правда, в кино подобные сцены ограничиваются визгами и беготней по узким, засыпанными трупами защитников, улицам, всего женского населения павшей крепости от кровожадных захватчиков. Мальчик, если ты еще не растопил печку и все еще читаешь эту вредную книгу, знай – дело беготней не ограничивалось, они их там постоянно догоняли и что-то с ними делали. А что они делали, мы может рассказать тебе в отдельном письме с картинками, если ты десять раз от руки перепишешь эту книгу, раздашь ее десяти своим друзьям, и попросишь их сделать то же самое, распространяя тем самым наш культ дальше. Ну, а потом итальянцы считают, что римляне все наперебой были смуглыми брюнетами, а обезьяны хранят тайну нашего с вами происхождения и ехидно улыбаются с той стороны решетки.
Но сегодня, обычно флегматичный до нижнего допустимого деления Джим, лично произошедший, как мы с вами выяснили, от благословенного союза обезьяны и пришельца, излучал, соответствующее его положению блаженство, радость и любовь. Вокруг нас принимали пищу и внимали всеми фибрами души эту благодать двенадцать прелестных монашек, будущих последовательниц культа Джима – это уже было написано на их очаровательных рожицах, естественно кроме Елен командовавшей раздачей. Я не стал ему пересказывать китайскую сказку про дракона, только спросил, куда делся предыдущий пастух этой прелестной паствы и не попал ли он частями в сегодняшнее жаркое? Джим по достоинству оценил мои намеки на шутки и, как обычно смиренно информировал, тоном пятиклассницы, пересказывающей лекцию о путях передачи венерических заболеваний, что бывший властелин этой маленькой вселенной убрался прочь отсюда, собираясь крайне второпях. К закату позавчерашнего дня, он только успел собрать вещи первой необходимости, еле уместившиеся в пятнадцати мешках, организовать всех местных мужчин, в качестве носильщиков и отбыть в направлении ближайшего городка, от которого можно было организовать более современный транспорт для дальнейшего путешествия, которое я с удовольствием назвал бы бегством. Елен он поручил упаковать вещи второй и третьей необходимостей и отправить их ближайшим грузовиком. Но Джимми, попросил ничего не паковать, а все вещи, не представляющие необходимости для работы миссии раздать местным.
— Сколько же дней ему, бедолаге, придется топать? – поинтересовался я очень осторожно, задними отделами мозга аккуратно подумав, о своих трех мешках, зарытых, я не знаю где.
— Говорят, что три перехода, три дня то есть. Правда мистер Самюэль Кленский (я наконец, в первый и в последний раз услышал имя несчастного), не стал себя особо утруждать – у него оказался в запасе паланкин, в которым он и отбыл.
Было видно, что Джиму эта новость про носилки не пришлась по душе. Он явно не представлял себе срочное отступление своего предшественника как воскресную прогулку китайского императора. Джим, наверняка, в своем идеализированном сознании, рисовал картину маслом о бредущем в одиночестве и кающемся грешнике с сумой, который будет сорок дней бродить по пустыне, и окончательно заблудившись, похудевший и раскаявшийся вернется обратно совсем другим человеком, чтобы преклонить колена перед своим спасителем. Но Джимми, сказал, чтобы я не переживал, ни за него, ни за мистера Кленского, потому что он не собирается становиться на путь вершителя судеб местного пошиба:
— Я просто буду пока тут жить, мне здесь нравится. А миссию я распустил, как постараюсь распустить и все остальные…
— А потом примешься за церкви? – спросил я, сугубо для поддержания разговора и чтобы заполнить паузу, пока Джим ковырялся в зубах.
— Надеюсь.
— Боже ты мой, — застонал я и закрыл глаза. И тут же в своем белом балахоне тетушка Джинджер приветственно замахала факелом с той стороны Атлантики. Я осторожно открыл глаза и не менее осторожно продолжил расспросы, потому что опасность, как оказалось, подстерегала меня с обоих сторон реальности:
— Ну а эти? – я обвел рукой соседние столики. – Я видел, как они сегодня пытались рассмотреть твои гланды.
— Я их отпустил, но они не уходят. Большинству просто некуда идти, остальные не хотят. Я начал рассказывать им, что я думаю о мире вокруг и внутри нас, они с удовольствием слушают вот и все.
— Вот и все…
Потрапезничав, мы поблагодарили вслух девушек за обед, которые в ответ так горячо отвечали Джиму, что сложилось впечатление, что еду готовил он, а не они. Затем Джим сказал, что он был очень рад меня видеть, но теперь ему надо поработать в библиотеке, и я могу приходить в следующий раз, когда захочу, прямо хоть завтра. В ответ я тоже сказал, что уже собирался уходить – долгие визиты это не по мне. Прощение ограничилось скромным рукопожатием – терпеть не могу этих дурацких объятий. День, очень постепенно, превратился из самого хорошего, в самый обычный жаркий день с мухами.
Следующие две недели были сложены из абсолютно одинаковых дней, в течение которых, я, чтобы не сойти с ума, прорабатывал два плана: первый – Генеральный, связанный с полем и с отправленным письмом и второй – запасной, под уже известным названием «Три мешка». Последний, очень легко трансформировался в планы: «Десять мешков», «Пятнадцать» и «Грузовик алмазов». Он был надежнее, я теперь знал, что из этого пупа земли, можно выбраться не только машиной, контролировавшейся миссией, а соответственно конкурентной корпорацией «Елен-Эльза», но и пешим караваном, тем более я видел через неделю людей вернувшихся с транспортировки статуи и ее шмоток, живыми и здоровыми. Они даже принесли обратно паланкин, видимо его бывший владелец, понимая к чему приводит даже небольшая власть над людьми, передавал таким образом знак, или привет, или хотите – эстафетную палочку новому дракону. Но Джим соорудил из него кукольный театр и теперь, после уроков, которые он организовал для местных детей, иногда давал представления. Монашки хлопали, дети в основном боялись, некоторые, особенно маленькие, плакали, но уйти было нельзя, потому что мамам потом могли не дать еду, раздачу которой из закромов миссии организовывала Елен, по просьбе все того же Джима.
Так вот, второй, то есть запасной план, был надежен, но он был малопривлекателен. Во-первых, он походил больше на бегство или воровство, во-вторых, я бы вел себя в таком случае как настоящий джеббс, но только более мелкого пошиба, а я хотел бы избегать такого сравнения, и, наконец, в-третьих, и в главных – я не хотел, чтобы Джим считал меня мелким лгуном. Поэтому этот план и стоял вторым в приоритетах, назывался запасным и писался с маленькой буквы. Первый же план, Генеральный, привлекал широтой, размахом и перспективой, при нем я сохранял лицо и посему писал его с большой буквы «Г». Да, и при первом плане я оставался близко к своему другу. Правда наши отношения за последний месяц довольно сильно обветрились и пообветшали. Хотя любой, даже начинающий психолог сказал бы, выслушав меня, что я сам виноват в сложившейся ситуации. Просто я привык, быть ведущим в нашей паре, ну или мне упорно казалось, что я ведущий. Тут еще можно было бы порассуждать о «сером кардинальстве» Джимми, но дело все в том, что я не был готов принять и смириться с его новым, независимым от меня положением. И если бы я принял это как данность, то все сразу же наладилось, тем более, что сам Джим отношение ко мне не менял – причина этого тихого конфликта, только во мне. Я бы, конечно тут же наговорил такому психологу грубостей, макнул его в аквариум с расслабляющими рыбками и постарался так хлопнуть дверью, чтобы табличку с именем врача долго еще не смогли бы повесить на место. Но подходящего специалиста, готового пожертвовать своим здоровьем, ради того, чтобы я заглянул в некрасивые глаза правде, под рукой тогда не оказалось. Поэтому прошло еще довольно много времени до тех пор, пока я сам смог принять новый статус Джима, смириться со своим изменившимся положением и понять, что ничего плохого в этом нет, а наоборот, принесет нам обоим, еще довольно много хорошего и интересного.
Глава девятая
Томительное ожидание, которое, казалось, что уже никогда не закончится, кончается всегда резко и неожиданно. К исходу второго месяца отсутствия Джеббса и Эльзы, когда в пустой лагерь к полудикому Биллу в очередной раз с молчаливым аудиторским визитом пришла Елен, то она, убедившись во все еще имеющимся в наличии ценном грузе, бросила в пустоту: «Уже видно». Я сразу же побежал за ней и еще некоторое время шел параллельным курсом, смотря на ее живот и готовя похабные шуточки из серии незапланированных зачатий. Елен спокойно посмотрела на меня, как вы смотрите на кенгуру в зоопарке, которое, скачет рядом с вами вдоль своей клетки, когда вы спокойно идете к вольеру с попугайчиками. К тому времени с нее окончательно слетел лак «дурочка-блондинка», сквозь который стал уже хорошо виден матовый блеск железной леди у которой просто все в роду рождаются со светлыми волосами. Поняв сначала, что в этой позиции пристяжной лошади я выгляжу дефективным особенно ярко и, сообразив, что видно что-то с верха вагона, с которого только что слезла Елен, я махнул на удаляющуюся блондинку и рванул назад. Я взметнулся наверх, как марсовый матрос по свистку боцмана, застыв в соответствующей позе с козырьком из ладони над бескозыркой. По правому борту у самой линии горизонта, со стороны поселка был виден маленький столбик дыма. «Вижу один дым. Направление норд-норд-вест. Предположительно тяжелый немецкий линкор типа «Бисмарк», — крикнул я вниз на мостик, поняв, что, все-таки не смотря на ряд прочитанных в детстве книжек про корабли, мореходное училище перестало по мне плакать, но зато с интересом наблюдает медицина. Я спрыгнул вниз и зашагал в деревню, к Джиму, людям, новостям и обеду, широко расставляя ноги в клешах.
При встрече мы снова скромно поздоровались с Джимом за руку – я потом назову этот период в нашей жизни, периодом «холодных рук». Когда же он закончился, то мы никогда с Джимом его не обсуждали, впрочем, как и другие, более теплые периоды нашего общения. Как постоянные члены мужского клуба, мы не опускались до обсуждения собственных отношений: парни или дружат или нет – и нечего тут обсуждать. Мы снова сели обедать всей общиной, единственным отличием от прошлых застолий и соответственно самым большим огорчением было отсутствие Эолы. Ее отец, прознав, что сэр Самюэль покинул нас и скорее всего навсегда, забрал свою дочь обратно в свой дом, который рос где-то в кустах на другом конце пустыни, чтобы заново устроить ее судьбу, потому что, по его разумению, ее первый брак не сложился. Это же самое разумение никак не могло вместить в себя и тем более правильно обработать информацию, том, что его дочь была работником миссии, а не шестнадцатой женой сэра, как там его… забыл уже. Отец Эолы был крайне расстроен бегством своего крайне выгодного зятя, а еще более расстроен, впечатлением, произведенным, точнее не произведенным на него Джимом Гаррисоном, и особенно его категоричным отказом признать в Эоле свою новую супругу. По словам Джима, он полдня потратил на попытки растолковать коренному и крайне консервативному африканцу, как на самом деле обстоят дела. Тот в ответ улыбался, кивал головой, но своего мнения в ней не менял. В конце концов, Джимми плюнул. В сердцах и на пол. Как говорится, и у святых гениев клубок нервов может размотаться в нить, накопиться слюна и кончится терпение. Затем произошло изъятие родителем Эолы, ее самой, также некоторых ее вещей из данного общежития при некотором физическом воздействии первого и истошных воплях и царапках второй. Как я узнал позже, отец Эолы взял в свое время за свою дочь у предводителя монашек, одну корову и шестерых свиней, что учитывая тогдашнее положение на рынке, инфляцию и даже возможную эпидемию свиного гриппа, было очень даже хорошей ценой! Обратно, он скотину естественно не привел, ввиду отсутствия второго участника договора, да и Джим, публично отказавшийся от должности приемника и нового мужа Эолы, не мог претендовать даже на парочку отбивных. Единственное, чего я опасался, это как бы старику не понравился такой вид бизнеса, и он не поставил его на поток, пока я буду перерывать всю Калахари в поисках моей прекрасной Эолы! Я сказал «моя», потому что в моих мыслях она уже давно была моей, хотя она уже несколько раз отказывалась пройтись вечерком в лагерь, чтобы взглянуть на мою коллекцию барабанов.
Не успел я, как следует освоиться со своим новым горем и доесть суп (к слову сказать, про Эолу я больше так ни разу и не вспомнил), как появился Он. Сначала, конечно же, появилась, а затем припарковалась прямо перед крыльцом, машина, легковая, с ручной гориллой за рулем. Из задних дверок вышли Он и Она, Ромео и Джульетта, дожившие до средних лет, Бонни и Клайд в адаптированном детском издании, Адам и Ева, после того как продали первую партию молодильных яблочек, или просто Джебб и Эльза. Елен, только завидев машину, обрадовалась, как радуется женщина только раз в жизни, когда к ее дому подъезжает свадебный кортеж. Джим встал и встретил прибывших, как папа, противник абортов и ранних браков, встречает жениха в панковском прикиде, то есть достаточно дружелюбно. Я же смотрел на все происходящее глазами собаки, сидящей под столом и понимающей, что в такой день гулять уже точно не поведут.
На Эльзе был надет полный набор женского счастья, не хватало только шубы до пят, но она наверняка ждала своего часа в багажнике. Джеббс на восемьдесят процентов состоял из виски, остальное – улыбка и шляпа. За отчетные два месяца он довел себя до той блаженной формы существования, которой пытается достичь любой нормальный пьющий мужчина, когда, ты что пьешь, что ты не пьешь – твое внутренне и внешнее состояние не изменяется. Первые же его фразы вернули мне подзабытое ощущение собственной ущербности:
— Привет парни! Как урожай, Билли?
Рукопожатия, попытка обнять, мое удачное уклонение от телотискательств и поцелуев. Я пожалел, что у меня не было под рукой спичек, а то я бы всем показал, какой к нам залетел огнедышащий дракон!
— А ты Джимми? Я слышал, ты ударился в религию? Тоже полезное дело!
Развязная попытка положить Джиму руку на плечо, в ответ – интеллигентное отстранение чуждой конечности.
— Ну, чего вы такие хмурые!? Я привез вам выпивки. Эй, Мак!
Окаменевшая обезьяна на водительском сидении ожила и с не первой попытки вылезла из довольно сильно качнувшейся при этом машины.
— Достань ящик, дружище!
Дружище, с лицом, не приспособленным к речи, покорно принес из багажника булькающий ящик. Наши ответы: «Я не буду» и «Что-то не хочется» никак не повлияли на дальнейшие действия и поступки Джеббса. Он и раньше мало обращал внимание на других людей, а после известных событий, и вовсе начал жить в мире картонных манекенов. Джеббс разделив виски между тремя стаканами и столом, сразу поднял и выпил сначала свой, затем разыграв коротенькую сценку между двумя оставшимися и толкающими друг друга стаканами, выпил их по очереди, приговаривая скрипящими голосами: «Только после Вас! Ну, что Вы, что Вы…» Стало сразу понятно, что Джеббсу стало в целом значительно хуже, а его паранойе намного лучше. Все недолгие пять минут, пока Джеббс развлекал нас с Джимми демонстрацией возможностей своего робота-обезьяны и ставил на скатерти пятна и драматическую постановку о трех стаканах, Эльза с Елен рвали в клочья рекорды по обниманию, лобызанию, а также скорости и объему произносимых звуков в секунду. Затем Елен, как настоящая хозяйка сегодняшнего, да всех последующих дней, пригласила гостей отобедать. Джеббс, стул, сел. Эльза, величественно откинув воображаемую фату и воссадила свои чресла на кресла. Чудовище Франкенштейна, гудком внутри своей черепной коробки, возвестил мир о том, что он есть не будет. По видимому, ему просто раз в день вливают кастрюлю с супом в какое-нибудь отверстие в спине. Из водопада реплик, прерываемый только смехом Джеббса, который низвергала на нас Эльза, как прошли их последние два месяца, понять было совершенно невозможно. Только когда, наконец, потоки ее речи начали разделяться ложками с супом на какие-то более удобоваримые куски, удалось понять, что завтра прибывают гости, практически все важные шишки из Столицы, все те, кто принял долевое участие в концессии. Далее речь еще замедлилась – сказались более частые взмахи ложки – и можно было уже с уверенностью сказать, что Эльза от всего без ума: от Джеббса, от всего того что было, короче, от всего. Единственное только чего она не может понять и принять, зачем он уперся в эту железную дорогу, если вывести все на грузовиках было бы гораздо быстрее и проще (слово «дешевле» или «дороже» Эльза, как бесконечно обеспеченная содержанка очень быстро отучилась употреблять). Ее клиент, услышав кодовое слово про дорогу, начал бить кулаком по столу и кричать что-то о пользе, памяти, глупости, непонимании, узости – короче, начал наугад доставать существительные из своего словарного запаса и разбрасывать их по столу. Дойдя до слова «бутылка», Джеббс немного успокоился, а киборг, стоящий за его спиной, достал из ящика и поставил на стол продолжение дня для своего шефа.
— Он стал совсем странным, — сказала очень громким шепотом Эльза и в упор покосилась на Джеббса. Для полноты соблюдения тайны о ком она говорит, оставалось только ткнуть в него пальцем или посветить фонариком в лицо.
Через час Джеббс уже мирно спал в углу террасы, его падаван сидел рядом и развлекал себя ловлей мух. Эльза и Елен удалились в покои, обсудить вкратце свою общую дальнейшую судьбу. Готов поспорить, что Эльза хотела бы внести некоторые изменения в первоначальных контракт, но насколько я мог узнать Елен – с ней такие штуки не проходят. Мы с Джимом уселись на другом конце террасы, подальше от перегара и храпа. Джимми изучал подробный атлас страны, а я с интересом наблюдал за поведением переходной модели «от обезьяны к человеку», о которой бедолага Дарвин твердил всю свою жизнь, и которая сидела прямо перед нами и в очередной раз слушала, жужжит ли у нее кулак.
— Ты как будто рад им? – начал я наступать в аккуратном женском стиле.
Джим неопределенно пожал тем, чем он обычно там жмет, прибавив самую недвусмысленную фразу на земле: «Да нет, наверное». Как меня бесят такие ответы, еще одна запятая, могла бы свести меня с ума окончательно. Но взяв ручки от кресел в руки, я спокойно продолжил:
— Ты видел, они приехали, как к себе домой?!
— Но для Эльзы это почти дом, не забывай – она прожила тут больше двух лет.
— Да, но теперь ты здесь главный!
Брови, губы, руки. Атлас, поняв, что ему не дадут спокойно полистаться, хлопнул своими половинками и улегся на стол.
— Я здесь вовсе не главный, — уже спокойнее сказал Джим. – И меньше всего хочу им быть. Я просто здесь живу. И все имеют право здесь жить и вообще где угодно. Я очень отрицательно отношусь к частной собственности, но очень щепетильно к частной жизни.
Атлас перестал сердиться и, улучив момент, снова прыгнул Джиму на руки. Я выдержал паузу и, дождавшись, когда по страницам снова зашуршит песок Намиба, спросил:
— Ты так бесишься, потому что твоя частная жизнь укатывает не сегодня – завтра подносить этому хлыщу виски?
— Это ее дело, — на этот раз Джимми даже не поднял головы.
Складывалось впечатление, что данные по среднегодовым осадкам на странице шестьдесят восемь интересовали его больше, чем то, что его первая женщина вскоре, как было предсказано, разбирающимися в жизни людьми, укатит отсюда навсегда со своим призовым, сто первым мужиком!
— Ну, ее, значит – ее, — я потянулся и понял, что теперь, по крайней мере, мы будем с Джимом в равном положении, и не стоит мне истерить из-за всякой ерунды. Джеббс заберет свое барахло, которое больше не будет сводить меня с ума, заодно и Елен, я переберусь к Джиму, письмо отправлено, мешки закопаны – да и нежарко вовсе сегодня!
Ужин, состоявшийся на той же веранде, отличался от обеда только отсутствием солнца с мухами и наличием звезд со свечами. Джеббс, быстро выполнив свою обязательную часть программы, лег спать в том же самом месте что и днем, правда Эльза распорядилась вынести ему кровать. Его горилла с водительскими правами сел есть и делал это настолько долго, обстоятельно и молча, что я начал бояться хватит ли на него в миссии продовольствия. После ужина, закончившегося для всех, кроме этого ненасытного животного, Эльза устраивала показ мод в большом зале, Джимми сидел в своем обычном углу с новым атласом, Елен заняла мое место и тихим дятлом начала стучаться в его мозг. Все были при деле, кроме меня, превратившегося в это вечер в свободного радикала. Я, в свою очередь, чтобы не чувствовать себя ненужным и брошенным решил немного прокатиться, а заодно и поразвлечься. Машина была не заперта, ключи – в замке, дрыыынь и я поехал. Для начала, я решил немного покататься вокруг дома, сигналя для пущего азарта, а за мной должен был бегать, громко и смешно топая ногами, ненасытный джеббсов монстр и орать. Я читал в журнале в одной парикмахерской о шоковой терапии для немых. После третьего круга с фарами, вжихами и бибикой, я понял, что за мной никто не бежит и даже никто особо не следит. Я заглушил мотор и вернулся на веранду. Водитель машины, все еще продолжающий свой ужин, поднял на меня глаза и сделал мне замечание:
— Еще раз возьмешь машину без спроса – я тебе откушу голову.
— Приятного аппетита, — я в душе приподнял свою воображаемую шляпу.
Не важно как, но я своей благородной цели достиг и немые заговорили. Впрочем, для себя я в очередной раз отметил, некую однообразность и безфантазность угроз, тех, кто выглядит намного сильнее окружающих. А в противоположном вольере нашего зоопарка, в это время предпринимались отчаянные попытки разыграть драму из репертуара про несчастных влюбленных, которых злые и непреодолимые обстоятельства вынуждают разлучиться, и скорее всего навсегда. Слов не было слышно, но в этом театре одной актрисы, все можно было прочесть с помощью одной азбуки мимики и жестов. Я всегда поражался и восхищался этой многогранности и разносторонности женской натуры, проявляемой правда не в широте интересов или взглядов, а в разнообразии принимаемых образов и обличий, в зависимости от предлагаемых обстоятельств и от того кем жизнь окружает, или, что чаще, уединяет.
Наступивший на завтра день парада начался очень бодро, с криками и беготней. Эльза, надев с утра сержантские нашивки, отдавала распоряжения кавалергардам – это такие специально обученные лошади с ездоками, для торжеств и прочих специальных случаев, когда кто-нибудь из царственных особ снимает или одевает корону. В кавалергардов сегодня играли бывшие монашки, они же бывшие работницы миссии, они же, до недавнего времени, последовательницы Джима. Им в усиление были приданы местные жители, изображавшие рабов. Джим на террасе с книжкой постепенно превращался в Будду, явно игнорируя весь бедлам происходивший вокруг. Джеббс изображал короля Вест-Индии незадолго до своего второго плавания и был на удивление подтянут и бодр. Елен тоже гарцевала по лужайке, напоминая грациозную Клеопатру перед ее знаменитым четвертым заездом в Канзас-Сити в 1972 году, в тот самый день, когда Дядя спустил папин пароход. Еще затемно начали прибывать грузовики с шатрами и столами, выпивкой и закусками, гирляндами и салютом. К обеду это только все прибыло и выгрузилось, а к вечеру надо было уже все расставить, натянуть и развесить, до того как прибудут люди которые все остальное нальют, выпьют и съедят. Я бродил вокруг этого вавилонятника и делал вид, что потерял ключи. Эльза только один раз, в горячке боя, машинально скомандовала мне что-то, но я не отреагировал, потому что был уверен, что ищу маленькие ключики в огромной пустыне в совершеннейшем одиночестве, и меня больше не трогали.
В своих поисках я вышел за околицу и увидел уже невдалеке чудо-машину: поезд на рельсах, который сам себе эти же рельсы и прокладывал. Очень удобная штука. Только успевай подвозить рельсы со шпалами, которые тем более шли в секциях. Кран на поезде брал такую секцию, клал ее перед собой, бодрые ребята в кепках и трусах скрепляли их друг к другу и к земле и поезд ехал дальше. Продвигались они довольно быстро. По движущимся картинкам в памяти в виде старой хроники, мне всегда казалось, что дорогу строят несколько сотен, если не тысяч человек – все бегают с тачками и лопатами как муравьи, а рельсы возят на верблюдах. Судя по тому, что я увидел, эта информация слегка устарела. Я так же заметил, что вскоре эта чудо-бригада, минуя деревню, начнет прорубать просеку в моем чудо-лесу и у меня возник небольшой план. Я поспешил обратно в деревню, тем более что для нескольких парней, с винтовками наперевес, охранявшим строительство, я показался довольно подозрительным, особенно в перекрестье прицела. Я шагал обратно, твердо себя настраивая быть осторожным на слова, тем более, что теперь у Джеббса есть заводная горилла, а я для переговоров не выдрессировал даже попугайчика.
— Джеббс, — начал я издалека, когда подошел к нему, сидящему на барабане Наполеона и наблюдающему за готовящимся поле жратвы. – Сколько ты мне заплатишь за то, что твоя дорога пройдет по моему полю?
— Нисколько, — ответил он, довольно уклончиво и неоднозначно.
Я взял паузу в переговорах и, сделав кружок вокруг дома, лег на повторный боевой курс.
— А точнее? – продолжил я, не теряя надежды на мирное решение этого вопроса.
— Точнее некуда. Это не твоя земля, а у меня есть разрешение правительства на строительство, показать? Или лучше показать сразу министра транспорта и трех трамваев этой страны? Он, кстати скоро будет.
Перерыв после второго раунда переговоров я использовал, как и первый, с единственной лишь короткой остановкой в кустах и то по малой нужде. Третий акт я начал в жалостливых тонах:
— Но ведь там мои насаждения, я требую компенсации!
— Ок. Вместе со всеми прибудет и министр юстиции, проконсультируемся у него, сколько тебе положено лет компенсации за хранение, распространение и главное – производство!
Переговоры были закончены. Счет 0:0. Взяв по нолю в каждую руку, я побрел к Джиму на веранду.
— Но зато ты можешь поприсутствовать на сегодняшнем фуршете. Бесплатно! Это все, что я могу для тебя сделать! – смех в спину всегда выглядит идиотским.
Я не пошел смотреть, как уродуют мой девственный парк, туда направился Джеббс со своей полуторацентерной рыбкой-лоцманом, непосредственно руководить последним этапом работ. К вечеру дело было сделано, и они вернулись обратно к миссии вместе со всей потной рабочей братией. Вскоре и прибыл свадебный паровоз, с двумя вагонами, украшенными гирляндами, лентами, воздушными шарами и пьяными пассажирами. Паровоз, к которому были прицеплены этих два развеселых вагона, был оставлен еще немцами во время их отступления еще в первую мировую, он был на угле, с высокой трубой, небольшим тендером и умел делать ту-ту!
Но это было пока не важно, главное, что цвет и свет нации теперь был с нами, наливай! Прибывшие радовались, праздновали и поздравляли всех подряд, как будто они запустили человека в космос. Но они и понятия не имели, что проект, за который было уже выпито и планировалось еще выпить неприличное количество спиртного, заглох несколько часов назад, когда рабочие подцепили чудо-вагон к чудо-поезду и кто-то рукой в грязной перчатке махнул машинисту, мол, есть. Вот когда этот парень вот так взмахнул – все проект строительства дальнейшей дороги очень быстро заглох и практически также умер. Никто из вновь прибывших, пока об этом не догадывался, включая и самого Джеббса, но я уже прекрасно понимал, что точка во всем этом строительстве уже поставлена.
Ну, а дальше начался беспробудный праздник, музыка из живых музыкантов, еда, питье, налитье и выпитье, а также фейерверки из всего этого, потому что куда засунули салют в начале праздника, не знали, а потом его уже было некому искать. В середине вечера культуры без отдыха, Джеббс неожиданно даже для самого себя решил сказать речь, видимо вспомнив, что ее обычно говорят в начале. Но в начале вечера он так долго со всеми обнимался, а потом так крепко целовался взасос, что все решили наливать, пока дело не зашло еще дальше. Речь была потрясающая, состояла преимущественно из гласных, восклицательных знаков и выпученных глаз! Вот таких! Народ был поражен окончательно, так что некоторые выпили по два раза.
Затем начались народные танцы неизвестных народов. Барабаны, бубны, крики, плавно перетекающие в визги и обратно. Понять, что происходит, было трудно, но всем было очень весело, мне в том числе – я решил не отставать от всех, жизнь одна, коротка и скучна и прожить ее надо так, чтобы заработать призовую игру. Джеббс, не смотря ни на что, был отличным парнем, который умел веселиться и я его люблю! Дай, я тебя поцелую! И-ик.
Утро следующего дня было хмурым в тучах, для большинства вчерашних людей. Просто опознать людей в тех, кого я встречал в то утро, было крайне тяжело, крайне. Все-таки Джеббс окончательный поддонок и скряга, не умеет культурно отдыхать, зато умеет экономить на качественной выпивке для других и я его ненавижу! Люди-тени бродили между шатров и хижин, некоторые лежали и мало кто из них напоминал цвет нации, скорее ее пожухлые листья, валяющиеся, где попало в ожидании метлы дворника. Первой, но главной новостью, которая пыталась облететь всех вчерашних пирунов, но так и не смогла этого полностью сделать, заключалась в том, что Джеббс уехал, причем на всех видах транспорта сразу. С ним отбыло оба поезда и все вагоны. Автомобиль, транспортирующий излеченного от немоты человека-обезьяну, тоже исчез. Грузовики уехали еще вчера. Пропали также не пившие, таинственные парни с винтовками, Эльза и Елен, устраивавшие вчера, судя по их диких танцах на самых больших в округе барабанах, последнюю вечеринку в их жизни, также отсутствовали. Пропали еще несколько маловажных персон, но практически всех их нашли в самых различных, в том числе и не совсем приличных местах, но новость об их пропаже, как и о находке, мало кого взволновала. Но самой главной, самой душераздирающей подробностью, моей личной трагедии в этой массовой пропаже людей и предметов, стала кража брезента из нашего лагеря! Он столько времени выполнял, то роль тента, то роль крыши, а в основном молчаливого собеседника в моих долгих ночных разговорах в одиночку когда я лежа на спине рассуждал вслух, а он терпеливо слушал, став мне настолько близким предметом, что дороже его мне был только Джим, но его почему-то они не украли! Пропажа брезента обнаружилась, конечно, не сразу, а много позже, и никак не повлияла на мою дальнейшую многострадальную судьбу, но мысль о том, что Джеббс отправился отсюда победителем, лежа на своем бриллиантовом вагоне, кутаясь в Мой брезент, Эльзу и Елен, не давала мне еще долго впоследствии спать по ночам.
Постепенно мысль об отсутствии поездов и главного организатора вчерашнего банкета, начала проникать в иссушенные мозги его участников, но не позволяла пока сделать правильного вывода. К полудню, когда народ начал немного отходить и больше волноваться, потому что сегодня воскресенье и завтра почти всем пусть и на руководящую, но все-таки работу, да и дома ждут жены и у многих не по одной, а скалки в этой стране пока никто не отменял, неожиданно в куче скатертей был обнаружен министр транспорта и салют. Последний ничего не смог добавить к уже происходящему, а министр довольно четко отрапортовал, что мистер Джеббс и он решили проверить безопасность отстроенного участка и проехать по нему на полной скорости двумя сцепленными поездами, усиленными дополнительно одним товарным вагоном. И что в данный момент проводятся эти самые дорожно-полевые испытания, и он самолично руководит ими прямо из этой кучи. Народ выдохнул и успокоился, уложив министра транспорта обратно, и продолжил добивать остатки спиртного и воскресенья. Подхватив дрогнувшее знамя праздника, цвет нации открыл второй день фестиваля, правда без прежнего размаха и задора – сказывалось отсутствие заводил и годы.
Первым опомнился министр науки. Он был единственным из собравшихся, кто умел считать без калькулятора, пил мало, а в остальное время прикидывал расстояние до Порта и обратно. Сначала министр делил его на максимальную скорость поезда, затем на среднестатистическую, потом уже на какую-нибудь, прибавлял время на туалеты, на пивные ларьки, если таковые можно встретить в пустыне, на кофешопы и на девочек, но когда оправдания в его математике закончились, он забил тревогу. Главный по науке подошел ко мне решительным шагом, он безошибочно увидел во мне человека, могущего решить любые проблемы, и спросил где тут можно позвонить. Я ответил, что везде, надо просто выбрать место и повыше подвесить рельсу. Мы не сразу поняли, что оба не шутим. Но затем, решив, что из нас двоих на идиота я похож все же больше, он отдалился от меня и начал консультации с коллегами. Коллеги, которые к этому времени еще могли мотать головой, мотали ею, которые не могли, соответственно не мотали. Остальные лежали там, куда их раскидала судьба и выпивка. Постепенно научному министру, которому, больше всех надо, удалось сколотить вокруг себя средненаполненную, не остающуюся в стабильном состоянии и числе группу, и проследовать во главе ее к близлежащей железнодорожной станции, за которую они приняли здание миссии. Не обнаружив в нем ни касс, ни билетов, ни хоть чего-нибудь, что можно было бы даже с перепоя принять за расписание поездов, группа волнующихся и сомневающихся, очень быстро превратилась в толпу негодующих, жаждущих объяснений, расправы, ну или хотя бы еще виски. Тут пронесся слух, что виски кончается, все поднажали из последних сил, и виски кончилось уже окончательно. В самый кульминационный момент, наступивший после этого, по законам драматургии, когда солнце начало уже близиться к земле и раскрашивать все в золото, на крыльцо вышел Джим.
Глава десятая
Я не был на нагорной проповеди Христа, хотя тетушка Джинджер и говорила мне, что это было самым интересным и важным событием в жизни всего независимого человечества. Не помню точно до ее или сразу после, были все эти фокусы с водой и вином, но то что я увидел в тот день у входа в миссию, я просто обязан был записать: «И трезвели пьяные и превращалось вино в крови ихней в воду. И обмякали они телом и разумом. И падали они перед ним наземь». Где-то примерно так. (Из шестого тома откровенных показания от Билла).
Джим начал говорить сверху, затем спустился на землю по ступенькам и «… Ходил он меж людей и разговаривал с ними, со всеми и с каждым, с каждым и со всеми. И проникала любовь в души заблудшие и уходили оттуда ярость и ложь. Головы ихние прояснялись и переставали болеть…» (оттуда же).
Я смотрел, что делал Джим своими словами с обесцвеченным светом общества, как признавались и каялись они в своих прегрешениях, тех, что могли вспомнить и о тех, что не могли, как падали они на колени и как мало их, потом, вставало обратно. И я увидел воочию, что имел ввиду Джим когда говорил: «Делать людей лучше». Я не понимал, как такое возможно, а теперь прозрел и увидел: «Ходил он по земле, аки по суху, и делал то, что сам себе предначертал». И видел я радость и слезы на лицах прозревших, и простирали свои руки к нему и вторили ему сами не знамо что.
Но тут раздался сигнал клаксона и все это представление закончилось. Через толпу, окружившую Джима, пытался проехать грузовик. Водитель высунулся из окна и спросил, туда ли он попал? Вчера у него спустило колесо, он отстал от колонны и долго не мог найти дорогу, пока не наткнулся на свежую железнодорожную ветку и не поехал вдоль нее и пока не попал сюда и похоже, не очень опоздал. Пока он все это говорил, очищенные души министров-капиталистов вселились обратно в свои обрюзгшие тела, которые начали довольно дружно залазить в кузов автомобиля, выкидывая из него какие-то ящики, противно дзэнькающие при приземлении на теперь уже точно святую землю. К тому времени как шофер закончил свою не очень длинную историю, из кузова уже стучали по крыше кабины – это означало, что все, в том числе и министр транспорта и скатертей погружены и можно ехать. Человек в парадном мундире Майкла Джексона, важно усевшийся на почетное кресло переднего пассажира, сказал командным голосом народное африканское напутствие: «Трогай!» А чтобы у водителя не оставалось сомнений в правильности этого действия, добавил, как ставят ногу на плацу: «Рядовой!» Шофер грузовика нажал на акселератор, крутанул руля, и теперь уже точно правительственный автомобиль отбыл, оставив меня, Джима, бывших рабочих и монашек, любоваться длинным шлейфом, потянувшимся за ним. Когда пыль понемногу улеглась, монашки, к слову сказать, принимавшие активнейшее участие во вчерашних торжествах, в отличие от Джима, для которого вчерашний вечер прошел также как любой другой, начали, чтобы быстренько загладить свою вину, оказывать последнюю помощь самим себе и рабочим, страдающим от последствий суточной попойки. Мы с Джимом пошли на веранду.
— Ну и что, ты думаешь, что теперь все эти упыри завтра кинутся по своим кабинетам делать добрые дела? – я сел в кресло и решил рубать Буратино с плеча.
— Не знаю, — подозрительно спокойно ответил Джим, как будто его совсем не беспокоил результат его речи. Хотя первый эффект, конечно, был просто ошеломляющий! До меня хотя и не дошла очередь, но я был готов поведать миру о трех закопанных мешках! Но сейчас, спустя всего несколько минут, я уже никому ничего рассказывать не собирался. Наоборот, пришло какое-то чувство стыда и неловкости за свою слабость, так как будто ты вышел к гостям со спущенными штанами. И хорошо, что если только штанами! Всего на миг. Затем, ты, конечно же, спохватился, натянул брюки и теперь все вокруг делают вид, что ничего и не случилось. Но они-то знают, что случилось! И тебе, и гостям неловко, и это ожидание, когда можно будет расходиться, а ведь еще даже не подавали горячего. Так вот, когда я спросил Джима, то имел ввиду дальнейшие последствия от его выступления, а не краткий мгновенный эффект. Но видя, с какой спешкой собирались сильные сего небольшого мира, я предполагаю, что у них были абсолютно те же чувства, что и у меня. С тем лишь отличием, что, судя по их признаниям, они не только выходили к гостям без всего, но и делали при этом неприличные круговые жесты рукой и другими органами. И каково же им там теперь трястись в тесном грузовичке, всем вместе, но каждому наедине со своим позором и похмельем? Они ведь могут и потребовать сатисфакции за пережитое – завтра можно было с повышенной вероятностью ожидать небольшого расстрельного взводика. Единственное, что вселяло надежду и оптимизм, что гнев этих вершителей судеб повернется не против нас, а все-таки против мерзкого похитителя брезентов Джеббса. Еще немного пораскинув остатками простокваши в голове, я окончательно пришел к выводу, что нам ничего не угрожает, а все беды мира обрушатся на нашего бывшего, но по-прежнему сумасшедшего предводителя и его шайки в лейке. Надо быть окончательно свихнувшимся психопатом, чтобы выстроить эту дорогу ради одного вагона, а потом тут же кинуть всех ее акционеров. Я, конечно, предполагал, что он может так поступить, но… как говорится, всегда найдутся люди способные поступить более по сумасшедшему, чем другие боялись себе даже подумать. Он ведь мог спокойно уехать сегодня вместе со всеми и его наверняка еще выносили бы с вокзала на руках. Но размеры вавки в голове Джеббса, помноженной на бесконечное в интервале одной человеческой жизни богатство, уже не позволяли ему принимать сколь либо адекватные решения.
Что касается Джима, то ему явно было не по себе от понимания того, что его старания, по крайней мере, в этот раз пошли насмарку. Да и Елен, все равно, в конце концов, укатила на драгоценном поезде. Хотя Джим и говорил, что морально готов и даже уверен в ее будущем отъезде, но в глубине души он все равно надеялся, что она останется. Говорить с ним о ней было сейчас абсолютно бесполезно – он все равно принял бы безразличный вид, пожал своими узкими плечами и сказал, что это не его дело, каждый человек сам кузнец своего несчастья и так далее… Людям свойственно впадать в крайности и отрицать явное, когда оно, а чаще всего она, причиняет боль. Даже если ты стоишь первым в списке поборников справедливости, очень трудно оставаться до конца объективным по отношению к самому себе. Поговорю с ним об этом после, ну или он сам со мной заговорит, если захочет. А пока я пошел спать, потому что те два часа, что я спал стоя на банкете, в позе боевого коня, слишком близко рассматривавшего тарелку с салатом, было маловато даже для такой тренированной лошади как я.
На следующий день, в полдень прибыл поезд и полвагона. Мои обещанные полвагона были аккуратно отрезаны автогеном и благороднейше присланы мне вместе с тем самым старым паровозом на угле, почти пустым тендером и огромным сердитым негром-машинистом. Последний ругался на всех наречиях, которых он нахватался за сорок лет работы в порту, потому что вчера его подняли не свет не заря и скомандовали возвращаться в Порт, хорошо еще что вперед его толкал поезд-путеукладчик, а вот обратно сюда, уголек пришлось кидать самостоятельно, потому что его кочегар где-то запропастился на этом чертовом шабаше. Машинист и его комбинезон пошли искать и, по всей видимости, бить до средней степени увечий своего помощника, а я в очередной раз подивился стойкости слова и стабильности шизофрении Джеббса. Затем я залез в будку паровоза, застопорил паровой котел, как это однажды делали в одном интересном фильме и зашагал обратно в деревню. Поезд сегодня никуда не поедет — он поедет только тогда, когда я и мой Генеральный план, дадим ему зеленый семафор.
Машиниста звали Барнс, голова его была в седых кучеряшках, лицо — в бакенбардах, впрочем, как и видимая часть груди, и он гонял палкой вокруг миссии какого-то человека. Судя по одинаковым с Барнсом комбинезонам, несчастный был как минимум его двоюродным братом, а судя по походке, кочегаром. Не успел я к ним приблизиться, как на их крики и беготню из дома вышел Джим и взял их в свой оборот, сначала машиниста, а потом и его визави. Из разных щелей, на запах готовящегося на веранде обеда, стали выползать вчерашние пировальщики, они же позавчерашние чернорабочие и становились в очередь к общему котлу, в спины к ним пристроились, немного утихомирившиеся человек-свисток и человек-совок – эти титаны угля и топки. Но перед обедом, все они сначала попали на лекцию на открытом воздухе о вреде пьянства и смысле жизни, докладчик – Джим Гаррисон. Он явно отошел от вчерашних поражений и принялся с удесятеренной силой за своих будущих адептов. На это раз Джим был более краток и обошлось без коленопреклонений со стороны страждущих. Начавшийся сразу после этого обед практически никто есть не мог – жевать еще жевали, а вот глотать не получалось — голова никак не могла подать нужной команды, она был занята перевариванием духовной пищи. Видя всеобщее замешательство с приемом еды вовнутрь, Джим призвал всех к трапезе, и к народу как по волшебству вернулись глотательные рефлексы. Посмотрев, как лихо он все-таки обращается со своими подопечными, я несколько приободрился, и в моей голове снова возникли картинки из старой сказки о заветном креслице, что стоит в круглой комнатке. Если дело пойдет так и дальше, то насобирав такую армию зомби, мы с легкостью отожмем все пластиковые ведра в округе без единого выстрела!
После обеда, в приподнятом настроении, я пошел прогуляться в бывший лагерь, проведать свое поле, и поделиться с брезентом всей той кучей событий, которая навалилась на меня за последние два дня. Я пошел по железнодорожным путям, по просеке, которую прорубили в моем чудесном травяном лесу эти злые, черствые людишки. И все было вроде хорошо, но какое же горе меня ждало тут, притаившись — я обнаружил, что Джеббс похитил у меня мой брезент! Сначала я звал его, затем заглядывал за каждый ящик и вскоре начав их раскидывать, доделав до конца то, что начали строители – превратил лагерь в свалку. Потом я сидел на земле и плакал, и обещал жестоко отомстить и спрашивал у жестокой судьбы: «За что? Ну, за что?»
Не знаю, сколько времени храбрый индеец Билл Белое-Перо-В-Одном-Месте, провел на месте своего разоренного стойбища, но когда он вышел к деревне, Великий Маниту уже начал клонить солнце к закату. Я брел, опустив голову, чувствуя себя никчемным человечком, и грандиозным неудачником, как вдруг меня озарило. Джим всегда говорил, что мы живем на весах, и что как только нам жизнь навешает чего-нибудь плохого, как практически сразу, но не больше чем через пару лет, подкинет что-нибудь хорошее, ну или хотя бы привяжет к противоположной чашке весов воздушный шарик надежды, который потянет ее чуть вверх. Убитый кражей брезента человек, заметил, что охапки скошенной вчера дурь-травы, валяющаяся вдоль рельс, на такой жаре просохли до удобокурительного состояния, а сама просека уже начала зарастать, и новые ростки приятно щекочут ноги доставая уже до… до кобуры. Я попытался вспомнить, на каком уровне мне щекотало ноги, когда я шел вперед, но не мог этого припомнить, да это было и не важно, потому что позавчера эту траву скосили под корень, а сегодня она отросла почти на метр, значит максимум через два дня, она вернется в свое первоначально состояние! Занеся свои ботанические сведения в журнал наблюдений, я запрыгал к деревне как пятиклассник, который бежит в школу, точно зная, что только он правильно сделал домашнее задание. Прыгая попеременно на разных ногах, я все же успел подумать о том, что я вовсе позабыл о чудесное появление своего поля, привык к нему как к чему-то обыденному и самим собой разумеющемуся. Так, как будто я его сам сеял, поливал и ухаживал. Тут меня поразило второе наблюдение за моим полем, которое я мог сделать еще месяц назад, но не сделал ввиду природного отсутствия сообразительности и дефектных глаз, смотрящих вечно не туда. Поле, мало того вымахавшее в первый же день сразу до человеческого роста – вот тебе и третье наблюдение, Бестолковый Билл! Поле – не сохло! Конечно, его никому и в голову не приходило поливать, тем более этого было просто невозможно сделать в местных условиях, когда все моются только во время дождя, а дождь бывает раз в год и то не всегда. Но это было не важно, главное – поле не сохло и очень быстро росло! Я не очень силен в математике, но даже мне было понятно, что алмазы, сколько бы они не стоили, могут рано или поздно кончиться, достаточно будет только одного проектика – начать Джеббсу строить для себя пирамиду или башню до орбиты, чтобы запускать спутники руками, как бумажные самолетики, и все – волшебные камешки кончатся! А мое поле… И я поскакал дальше, даже уже и не отталкиваясь от земли ногами, лишь изредка взмахивая крыльями
Вернувшись в дом (мне это слово больше нравится, пора уже бороться с пережитками прошлого и отжившее свое словами и понятиями, такими как «миссия»), первое, на что я наткнулся, были свежие газеты, лежавшие посредине большой комнаты. Я начал просматривать их жадно и на бегу, как ищут свой поезд на табло, когда прибегают на вокзал за пять минут до отправления. Конечно же, я искал сообщение о дате и месте публичной казни Джеббса. Ради этого знаменательного события в биографии моего бывшего тирана, я был готов сегодня же отправиться пешком, а если надо то бегом (вдруг не буду успевать по срокам) к его плахе! Но, к сожалению, про Джеббса, впрочем, как и про стройку века, местная пресса молчала. Скорее всего, Джеббс от них таки улизнул – ведь должен был быть у этого безумца хоть какой-то план бегства, либо его уже поймали и пытают, а расправы здесь проходят тихо, по-домашнему, и приглашения на такие мероприятия приходят с инсайдерской рассылкой. Отбросив, никчемные бумажки в сторону, я только сейчас заметил сидевшего в углу в кресле Джима, уткнувшегося в очередной глянцевый альманах местной жизни. Только я набрал побольше воздуха в легкие, чтобы его хватило на самое большое предложение, которое я собирался сказать в своей жизни, как он не поднимая головы, коротко кивнул мне на дверь в библиотеку, сказав кому-то в разворот журнала: «Там тебе письмо». Я тут же забыл обо всем, впорхнул в раскрытые двери книгохранилища и мы сразу же увидели друг друга. Конверт лежал на письменном столе, поглядывая на всех входящих своим оттопыренным уголком. Завидев меня, он затрепетал. Я подхватил его на руки, закачал, закружил как женщину, покрывая поцелуями. Затем вскрыл, вынул из него все, что мне было нужно, отбросил, уже не нужный в сторону и направился к двери, раскрывая на ходу само письмо. Конверт остался лежать ничком на ковре. Когда я вышел и закрыл за собой дверь, он разрыдался.
Письмо было от моего двоюродного брата Майка из Нью-Йорка. Это был ответ на мое послание, которого я так долго ждал, и от которого зависело дальнейшее продвижение моего Гениального Генерального Плана в жизнь. Майк был паршивой овцой в стаде Джонсонов, давно и надежно вычеркнутый из его списков. После четвертой его судимости, на всех семейных фотографиях в доме тетушки Джинждер, появился человек с черным чернильным пятном вместо лица. Все знали, что он теперь в Нью-Йорке и занимается темными делишками в ожидании пятой отсидки. Но у меня совершенно случайно был его адрес — он писал как-то тетушке, что остепенился и всеми силами пытался возобновить отношения с семьей, периодически присылая открытки с поздравлениями с Рождеством и Пасхой, но, правда почему-то обе сразу и всегда летом. Но, тем не менее, мне повезло, и одна из таких открыток была вложена в ту самую библию, которую мне дала на дорожку любимая тетушка и я смог ему написать. Поэтому я с таким трепетом ждал ответа – не было никаких гарантий, что мое письмо дошло. Но сейчас я держал в руках бумагу, которая грела мое сердце: Майк, конечно в двусмысленной форме – десять лет тюрьмы кого хочешь научат быть осторожным – сообщал, что он завязал не до конца, кое-кого знает и готов участвовать в деле – короче, шли свою наркоту! И я принялся за работу.
Ух, люблю это ощущение, когда долго-долго чего-нибудь ждешь, а оно все не наступает и не наступает, все откладывается и откладывается. И ты уже тысячу раз все передумаешь, пообсасываешь с разных сторон, придумаешь себе сотни пустых дел, а оно Главное, все никак не начнется. Потом, бац, и как будто кто-то стреляет из стартового пистолета, все начинает вертеться, двигаться и получаться само собой, как будто к старому конвейеру подключили ток. И ты как радостная борзая выскакиваешь из своей клетки и начинаешь стелить за механическим зайцем, веря в то, что он живой. Так и я выбежал на крыльцо и не мог ничего сообразить пока не дал кружок по веранде. На второй заход я не пошел, остановился, выдохнул и приступил к организации митинга среди рабочих, застрявших у нас и не знавших ничего о своей дальнейшей судьбе. Зато я знал уже все, что с ними будет, и кто, и что будет делать. Я знал, что это наступил мой звездный час, заметьте, последним из нашей троицы, а бог он, что? Правильно — любит третичные системы исчисления и тех, кто смеется последним!
Рабочие, намного спокойнее, чем выступающий перед ними оратор, отнеслись к перспективам их сельскохозяйственного труда – они за два дня уже тут такого насмотрелись и наслушались, что удивить их было крайне тяжело. В процессе моего обращения к братьям-пролетариям, я элегантно привлек за талию, проходившую по веранде, бывшую служительницу культа и шепнул ей на ухо краткое, но довольно четкое указание. Женская часть нашего общежития, относилась ко мне довольно благосклонно, учитывая мои личностные данные, а также выпирающий интеллект, кроме того в их глазах я был самой приближенной особой к Нему, и поэтому, я не сомневался, что мое поручение выполнится быстро и в срок, то есть быстрооооо!!! Через пять минут уже сразу несколько очаровательных экс-монашек принесли нам целую охапку различных инструментов, не все, конечно подходившие для уборки травяных, но это все равно лучше, чем работать руками. Еще через пять минут я окончательно почувствовал себя плантатором и повел своих будущих рабов на свое поле. Очень загорелые парни с мелкой завивкой на головах работали не спеша, но обстоятельно и до темноты мы успели собрать небольшой стог. Все устали совсем немного, практически лишь размялись и поэтому довольные, с песнями пошли к дому. Я был самый довольный, меня легко было узнать по дурацкой прыгающей походке, улыбке Гуинплена и тем, что я орал громче всех, считая, что тоже пою. Это был наверняка, самый счастливый день в моей жизни, ну максимум второй по счету, после того, как «Канзасские кроты» в первый и, как потом выяснилось, в последний раз выиграли кубок, правда, уже не помню во что! Помню только, как мы с Дядей после этого недолго прыгали по дивану: мне было шесть лет, а в Дяде под триста добрых фунтов веса. Поэтому я успел прыгнуть раз десять, а он только один. Диван, к сожалению, не выдержал ту массу радости, переполнявшего Дядю, сообщив об этом противным хрустом. Оставив умирать диван в одиночестве, мы с чувством выполненного долга пошли в одну ресторацию, в которой подавали чудный бананово-клубничный торт, но правда только в нагрузку с неразбавленным виски и кутили там уже до упора. Дядю после упора вели домой семеро, а я ехал рядом на полицейской лошади, потому что без вызова полиции, Дядины выходы в свет обычно не заканчивались. Было лето, воскресенье, вечер, но было еще не темно и все, все, буквально все были на центральной улице и смотрели на нас. Я был уверен, что весь город смотрит не на Дядю, облепленного людьми, а на меня. И перешептываются, и обсуждают, и кивают головами. Это был самый счастливый день в моей жизни, и вот он снова повторился!
День прошел удачнейше, вечер был удивителен, ужин был великолепен – мясо было такое свежее, что бегало от меня по тарелке, демонстрируя частично оставшиеся инстинкты самосохранения. И тут Джим, тихим голосом, каким всегда сообщают только самые плохие новости, сказал, что завтра он уходит. Мой вопрос с куском в горле: «Куда?» прозвучал крайне хрипло и неразборчиво. «И насколько?» — добавил, сглотнув, более внятно, чей-то незнакомый мне голос. Куда и насколько он уходит, Джим, естественно, не знал. Знал, он лишь наверняка, что ему надо уйти, ему надо побыть одному, надо подумать. Но главное – ему надо идти, это он точно знает! Очень резонные аргументы, что ни говори, основательные и логичные, тут уж не поспоришь!
— Ты меня бросаешь? – произнес я сакраментальную фразу, которую произносят миллионы женщин, примерно такому же количеству мужчин, завязывающих ботинки с суровым лицом в прихожей.
— Нет. Просто мне нужно в путь. И это отрезок я должен пройти сам. Извини. Но ты ведь никуда, пока не собираешься съезжать? Ты вроде всерьез решил заняться сельскохозяйственной деятельностью? – Джим даже улыбнулся и я понял, что все в порядке и что он вернется. Я всхлипнул и прижался к нему, стараясь не испачкать его поплывшем макияжем, а свободною рукой начал снимать бигуди.
Почти весь вечер мы провели вместе, практически не разговаривая – это и ни к чему, ведь мы хорошо знали друг друга, но не знали, сколько продлится разлука, поэтому не тратили время на слова – просто молча сидели рядом. Утром Джим, не прощаясь, ушел. Пешком, через пустыню, один. Я знал, что он поступит именно так – по-другому и быть не могло. Он не хотел, чтобы кто-то догадался о его намерениях, но уже к обеду весть об его исходе облетела нашу маленькую коммуну и тут же, в меру стихийно, начала образовываться первая партия последователей-преследователей, которая уже к вечеру, в составе нескольких десятков человек, выдвинулась в след Джиму. Ушли большинство монашек и часть рабочих. Из местных, которые также, вкраплено и периферийно участвовали в торжествах, лекциях и митингах, не ушел никто. Их было не сдвинуть с места ничем. Наверное, прилети завтра добрые инопланетяне, чтобы эвакуировать нас всех с Земли в связи с каким-нибудь вселенским катаклизмом, о котором мы, естественно, ни сном, ни духом, эти в бусах держались бы за свои домики из навоза до последнего дротика. А я тем временем приготовился к вечерней поездке – она правда была совершенно в другом направлении, очень приземленной и корыстной, в отличие от возможно бесконечных и бесцельных скитаний Джима. Но, как говаривали римские повара: «Цезарю — салат, а нам уже что останется…»
Я побрился, впервые за много недель, попросил одну из оставшихся сестер остричь мне волосы, надел кое-что из запасов, что Елен натаскала для Джимми, ходившим теперь, замотанный в какие-то простынки, и стал отдаленно напоминать человека! Барнс был готов ехать обратно с радостью, кочегар не высказал каких либо внятных пожеланий, и я отправил их прогревать паровоз. На хозяйстве оставалась Наоми, та самая которую я спутал с Эолой, но в последний раз я ее уже ни с кем не спутал… но эти подробности только в письме с гадкими картинками для хороших мальчиков, которые вручную перепишут эту книжку. Так вот, Наоми, считая, что теперь с очередной сменой власти в доме, настала ее очередь покомандовать, слишком круто начала – не успел я ступить за порог, как поднялся ее визг, в который она вложила все свои организаторские способности, и мне пришлось вернуться. Я очень быстро охладил ее командирскую прыть, попросив при всех принести мне стакан воды, затем его же и выпить, успокоиться и никогда впредь так не кричать. Все засмеялись, Наоми, конечно же, зашипела как кошка на сковородке, но, тем не менее, я продемонстрировал, кто здесь главный, даже если он ненадолго отлучится. Уладив домашние проблемы, хотя до конца их уладить можно, лишь доделав оградку вокруг камешка с надписью: «Покойся с миром, Мэри», я, захватив нескольких одомашненных чернорабочих (если бы видели их, то поняли, насколько это слово было двусмысленно по отношению к ним) поспешил к уже попыхивающему в сумерках паровозу. Барнс подогнал его поближе к полю, парни перекидали стог в оставшиеся от Джеббса полвагона, мы заглушили отрезанный борт прочной сеткой, я залез сверху на сеновал и приказал кучеру трогать. Машинист дал обязательный гудок, без которого, как известно, ни один паровоз или пароход не в состоянии сдвинуться с места и мы застучали в сторону побережья.
Так как паровоз развернуть было негде, то он ехал задним ходом, не спеша — нам не надо было особо торопиться, мы рассчитывали прибыть в Порт к утру. Я лежал на спине и смотрел вверх на звезды. Бывает так, что живешь, живешь, погруженный в какие-то свои дела, считая их очень важными, и мир как бы сужается вокруг тебя и твоих проблем и кажется что ничего главнее их уже нет, и что вообще больше ничего нет, а мир только из вас и состоит. А потом поднимаешь случайно голову вверх, в безлунную звездную ночь. И стоишь. И смотришь. И очень быстро начинаешь понимать, что ты такая пылинка, а все твои проблемы и дела еще меньше, и что есть на свете где-то там вещи, и поважнее, и помасштабнее, чем весь мир, который ты можешь себе представить. И вот так стоишь и смотришь. Минут пять-десять. На большее не хватает – я проверял. Все равно ничего не понятно, что там и где там, и как оно все там устроено. Идешь дальше и думаешь. Даже не думаешь – ощущаешь, послевкусие, как после мартини, от сравнения себе с Этим! Правда на завтра снова наступает утро, и ты снова погружаешься в свои заботы, вовсе не вспоминая о звездном небе, до следующего раза, когда снова случайно не остановишься и не поднимешь голову вверх.
Вот и сегодня я лежал и думал. Обо всем. Этим меня заразил, кстати, Джим – раньше, я жил проще. А сегодня я начал вспоминать как я жил, правильно ли собираюсь поступать. Стоило ли сказать Джиму всю правду? Ведь он мог спросить, но не спросил… Правда штука очень неоднозначная. Стоит ли человеку вообще человеку знать всю правду? Вот, например, живешь ты, совсем еще молодой, мальчик, который стал уже парнем и рано или поздно станет мужчиной. И вот тебе всю жизнь говорят, что твой папа был военным летчиком и был на войне. У вас дома есть его летная форма, и фуражка с кокардой, и модельки самолетов и фотография, где папа в этой самой форме, вместе со своими друзьями стоит на фоне огромного бомбардировщика. А потом ты дорастаешь до определенного возраста и вдруг узнаешь, что твой папа, правда, служил в военной авиации, и действительно был во Вьетнаме, но, сам не летал, а только обслуживал самолеты. Форму он одевал только в увольнительные, чтобы клеить местных девчонок, а по аэродрому в основном бегал с канистрами в синем замасленном комбинезоне. Правда, папа сумел наладить небольшой бизнес по продаже этих самых канистр с горючкой и маслом местным барыгам. Зарабатывал немного, но стабильно, ни разу не попался и когда через три года вернулся домой, то смог сам открыть маленькую автомастерскую. А еще через некоторое время, немного поухаживав, женился на твоей маме, затем открыл опять же небольшой магазин автозапчастей, затем родил тебя и пытался воспитывать, оболтуса, как мог, потом еще магазин, на это раз уже продуктовый, мама за кассой, затем вы переехали в другой дом, побольше, и так далее…
А герой-летчик, самый, что ни на есть настоящий – командир экипажа, весь в орденах, любимец девушек и их мамаш, теперь валяется в лохмотьях между бензозаправкой и автомагазином твоего папаши и просит милостыню, когда не спит пьяный, уткнувшись в тротуар. Потому что тогда, в 70-м, он смог, в отличие от своего напарника, выпрыгнуть из горящего самолета. Правда, его на земле потом поймали гуки и провели небольшую экскурсию под дулами автоматов по местам падения его бомб с напалмом. Обгоревшие женщины, выли, кричали и протягивали ему что-то похожее на поломанных черных кукол. Он не сразу понял, что это не куклы. И ему надавали их целую охапку, так, что он не смог больше нести и свалился с ними на дорогу. Через два года его обменяли, и он тоже вернулся домой, героем. А еще через несколько лет он спился и теперь аэродром базирования у него справа от крыльца магазина и твой папа с ним уже не здоровается, когда приезжает на работу на новом бьюике.
И теперь ты хочешь сказать, что твой отец не вправе говорить, что он бывший летчик? А ты не хочешь быть сыном такого «летчика», а предпочел бы быть потомком этого, настоящего? Но, к сожалению, ты бы не смог им стать, даже если бы мог выбирать. Во-первых, этот бывший капитан с тех пор боялся физически прикасаться к детям. Но он какое-то время еще мог прикасаться к женщинам, точнее они разрешали к себе прикасаться, и поэтому, чисто теоретически, ты мог бы быть зачат. Но твой возможный папаша, сбежал бы сразу, как только услышал бы новость о твоем скором появлении на свет. Либо твоя возможная мамаша выгнала бы этого горе-летчика за постоянные пьяные дебоши. А так как твой, опять-таки возможный, отец, настоящий летчик и герой войны, был только героем войны, но никак не героем тыла, то предпочитал он женщин легких и быстрых. Любая из которых, поняв вскоре, что этот пасьянс не раскладывается, скинула бы карты, даже не сказав «пас»: капитана, если еще не сбежал сам – за дверь, тебя заведшегося где-то внутри – выскоблить, если вдруг поздно, то отписаться еще в роддоме и вперед, покорять новые города, забыть старое и встретить, наконец, свое, так долго ожидаемое и выбарываемое женское счастье.
Так что у тебя не было ни единого шанса стать сыном настоящего летчика, а была единственная возможность стать сыном своего отца и ты ее не упустил! Поэтому не надо сердиться на папу, если он не всегда говорит правильную правду — возможно, он ее заслужил, такую. Ну, а если ты говоришь правду, то это вовсе не означает что ты прав, кроме правды, ведь есть еще и справедливость, подумай об этом.
Я поймал себя на мысли, что снова начал разговаривать сам с собой, причем делая это уже практически во сне. Я повернулся на бок, как бы сменив граммофонную пластинку в автомате с мыслями-снами, закрыл глаза и почти сразу заснул.
Глава одиннадцатая
Прошел год. Я сидел на веранде нового трехэтажного особняка, которые некоторые впечатлительные личности могли бы даже назвать дворцом, и пил латте. Внизу жила, сильно разбухшая деревня, которую все те же восприимчивые натуры могли смело именовать небольшим городком. Все мужское население, прознав, что теперь здесь есть постоянная работа, за которую не только кормят, но и платят — вернулось к своим глиняным гнездам. Но рабочих рук все равно не хватало, поэтому со всей округи понаехало еще семей. Налепить новых домиков им оказалось раз плюнуть, растереть и сверху перу веток. Рабочих же, оставшиеся здесь еще со строительства железной дороги размещали поначалу в палатках, а затем выстроили для них просторнейший барак, с нарами, кадкой с водой и всеми прочими удобствами во дворе.
В поле хоть и работало безустанно три комбайна, ручной работы все равно хватало. Тем более, что железные лошади из-за жары часто ломались и тогда приходилось выгонять в поле всю имеющуюся в наличии рабсилу – жать урожай. А иногда я просто давал возможность комбайнам отдохнуть, а людям поработать, чтобы они не чувствовали за собой вины, что получают зря зарплату и паек. Для безопасности работ и поддержания необходимого порядка на производстве пришлось завести свою небольшую армию – в этих местах это модно. Численность была небольшой, всего пару десятков штыков, зато все отборные – в основном белые, в основном из бывших военных и главное, что не все в розыске.
Поле по периметру было огорожено колючей проволокой, на въезде — ворота и вышки, патрули по внешнему периметру, получился такой себе натуральный концлагерь с ботаническим уклоном. В России, правда, такие штуки называли почему-то колхозами. Впритык к полю был выстроен небольшой навес для упаковки просушенной продукции в тюки, и паровозик Барнса исправно возил туда-сюда пять закрытых вагонов. Наоми в Порту рулила небольшим офисом по оптовой продаже «табака сырца» в Штаты. Командир таможенников получал раз в месяц коробку из-под обуви, но со штиблетами, а с тугими хрустящими пачками и не задавал лишних вопросов. Начальник порта получал точно такую же коробку с идентичным содержанием по тому же расписанию и был ровно в той же степени нелюбопытен к нашим делам. Шефы полиции и погранслужбы Порта получали по половине такой коробки каждый, просто как знаки внимания и уважения с нашей стороны. Груз уплывал по назначению, вовремя и всегда без проблем. Как там его, на той стороне океана встречал Майки – это было уже не мой заботой. А через месяц прилетал курьер с двумя объевшимися чемоданами. Но очень быстро мы смогли наладить отправку партий каждую неделю, так что скоро и чемоданы стали прибывать обратно более часто. После того как я платил по всем счетам и раздавал зарплату – кому в коробках, а кому в жменьках, то оставалось еще очень много, очень. Практически сразу стала проблема, где хранить чемоданы. Я самостоятельно (в таком деле нельзя было доверять никому) вырыл погреб под полом свой комнаты, в бывшей миссии, для хранения уже не таких полных, после всех расходов чемоданов. Рыл по ночам, а днем приказал высаживать цветы в больших кадках, причем землю в них я засыпал самостоятельно. Конспирация была не хуже чем в «Побеге из Шоушенка», и вскоре подвальчик был готов, чемоданы плотненько, но радостно разместились в нем, а я начал спать спокойно на своей кровати, зная, что незаметный лаз в сокровищницу был аккурат под ней и без моего ведома в него не проникнут даже кроты в поисках Дюймовочек. Меньше повезло цветам в кадках, засохшим через неделю, но это были запланированные потери, главное, что они выполнили свою отвлекающую миссию. Довольно скоро моим чемоданчикам стало становиться тесно в их убежище и я, поняв, что большая часть из них недостаточно просто плотно набита, потратил полночи и две свечки на то, чтобы уплотнить одни и освободить полностью другие. В результате у меня получилось шесть полностью пустых чемоданом и некоторое свободное место в погребе. Но тут же возникла проблема, куда деть пустые чемоданы, чтобы эти подозрительные и любопытные людишки ничего не заметили. На следующий день был объявлен выходной и праздник, в честь моего прошедшего уже давно дня рождения. Барнс быстренько смотался в магазин за полторы сотни миль и вечером начался небольшой банкетно-фуршетный сабантуй с применением салюта – того самого, который слишком поздно нашли на предыдущем празднике. Вот только беда – от фейерверка загорелся небольшой сарайчик, и как в него могла попасть ракета? Я не мог этого объяснить, знал только, что в том сарае сгорело еще шесть пустых кожаных чемоданов и что все следы были заметены.
Вскоре оказалось, что мой бизнес пошел слишком хорошо и еще немного и мой подвальчик имеющий конечный объем в отличие от постоянно прибывающих чемоданов, закончится. Да и дом, который до этого был религиозной миссией, и некоторое, крайне короткое время железнодорожной станцией, перестал меня устраивать. К тому же мои бравые солдаты начали жаловаться, что таскать туземок в палатки уже как-то не солидно, и я решил построить себе новый дом. Очень пригодился фундамент начатой, но так и не достроенной прошлым руководством церквушки. Единственное, что я попросил добавить в проект своей небольшой трехэтажной виллы – это чтобы внутри, по всей высоте дома вылили бетонную шахту с лестницей, небольшими комнатками и сейфовой дверью на входе. А вход сделать с третьего этажа, из моей будущей спальни. Столичный архитектор, сильно мне кого-то напоминающий в своих маленьких очочках, слегка удивился и даже их поправил, показав в этом жесте предел своей эмоциональности:
— Вас кто-то собирается бомбить?
— Нет, что Вы, откуда у врагов простых фермеров возьмется самолет? Это будут комнаты раздумий для непослушных рабочих…
— Ага, — кивнул, все понимая, повелитель смет и проектов. – Значит еще кольца вмуровывать?
— Естественно, — кивнул уже я в ответ, поняв, что он мне напомнил старину Генриха, принявшего когда-то самое деятельное участие в окончательном решении какого-то там вопроса.
Домишко вышел на славу – я точно утер нос всяким там царям Отухадоносам, не говоря уже про проживавших в каких-то ямах всяческим Тутанхамонам! На первом этаже у меня располагался офис, на втором кухня, столовая и жилые помещения для работниц офиса, обслуги и просто хороших женщин с близлежащей округи и не только. Я же скромно отвел для себя всего один этаж – третий. На нем было все, что нужно было для счастья человеку со средним размером скромности в этом пыльном углу мира. Между вторым и третьим этажом кроме лестницы, которую круглосуточно охраняли двое парней с ружьями, был также сделан микролифт для того чтобы доставлять по вечерам со второго этажа сладенькое и сладенькую. Можно было бы конечно пользоваться общей лестницей – все и так были в курсе этого лифта, но с ним было как-то пикантнее, сохранялась некая интрига – кого он сегодня привезет! У девочек там было свое расписание, соотнесенное с их лунным календарем и планом общей выработки, в общем, все были счастливы.
Так же в новом доме я установил современные чудеса цивилизации, а именно спутниковые телефон и телевидение. Хотя я был уверен, что все вывезенные после войны из Европы ученые уже давно отдали концы, и прогресс на этом остановится, он, не смотря ни на что, продолжался. Как все эти приборы работали через спутники, я понятия не имел, но знал, что один спутник запустили как-то случайно русские, а на другом мы летали на Луну. Теперь понятно, что теперь, чтобы это добро не пропадало зря — приспособили один из них под телефонную, а второй под телевизионную связь. Электричества в этих краях не было со времен сотворения мира, так что добывать его приходилось самостоятельно: была приобретена небольшая ветровая электростанция, обеспечивающая наш поселок, а в основном новый дом, энергией. Правда вот ветер был в этих края не всегда, поэтому пришлось дополнительно закупить десяток велосипедов и приспособить их для ножной выработки электричества в штильную погоду. Иногда в тихую безветренную ночь я выходил на свой балкон, слушать треск цикад и монотонных шелест велосипедных педалей, которые крутила ночная смена рабочих. Чтобы им крутилось повеселее, я часто открывал настежь дверь на балкон, чтобы они внизу могли слушать музыку, что играла у меня в спальной. И затем, не смотря на работающий внутри на всю мощность кондиционер, я мог подолгу стоять у раскрытого окна, слушая шелест и трели, обдуваемый спереди теплым ветерком, а сзади прохладным и ясно ощущая, что там, где-то внизу я кого-то делаю хоть немного счастливее…
Спутниковое телевидение в свою очередь передавало иногда интересные новости. Как-то под вечер, диктор моей Большой Родины как всегда с выражением лица человека знающего больше других и понимающего, что ничего хорошего он нам сейчас не расскажет, глотая паузы, взахлеб, набубнил мне, что Америку захлестывает и скоро совсем захлестнет с макушкой, так что у статуи Свободы будут торчать только фак и факел, волна курения марихуаны. Особенно это новое старое горе обрушилось на нашу молодую, но уже много вытерпевшую страну, в городе Нью-Йорк, где за последний год, количество регулярно употребляющих «травку» выросло в несколько раз. Город и страна терпят многомиллиардные убытки, а власти ничего не могут с этим поделать. Тут лицо диктора замолчало, и сменилось лицом начальника полиции Нью-Йорка, которое, поведало, что у них есть несколько версий причин сложившейся ситуации: во-первых, по непонятным причинам в городе упали в несколько раз оптовые цены на марихуану, во-вторых, по все тем же неизвестным причинам, точнее неизвестным каналам в город налажены поставки этой дряни в нереально огромных количествах. Все попытки мордатого лица и синего мундира по пресечению этого канала, даже при яром содействии федеральных властей не дали пока никакого результата. Я сразу вспомнил, как Майки звонил мне полгода назад и говорил, что меняется схема поставки, и начал мне что-то объяснять, но я ничего не понял и сказал лишь:
— Ок, Майки, делай как знаешь.
С моей стороны все осталось по-прежнему, просто парень с чемоданами стал прилетать на неделю позже.
Передача на этом не заканчивалась, не смотря на то, что я к тому моменту уже достаточно сильно хотел помочиться. Но видно было, что моих земляков проблема легких наркотиков заботит всерьез, и я своей пятиточечной интуицией чувствовал, что эта проблема как-то касается и меня, хотя, ни обо мне, ни о Майки еще не было сказано ни слова! Диктор снова, с лицом понимающим, что мы все очень скоро умрем в самых разнообразных мучениях, сообщил будущим жертвам, что эта нью-йоркская проблема стала уже проблемой общегосударственного уровня и скоро начнется широкомасштабная операция по выявлению источника поступления такой дешевой марихуаны в страну. Я никак не воспринял эту новость, потому что уже начал танцевать джигу, чтобы как-то запутать моче пути выхода из создавшейся у нее там внутри меня тяжелой ситуации. Хорошей же новостью, которую диктор сопроводил улыбкой сожаления, что умрут, видимо не все телезрители, или, по крайней мере, не в тех мучениях, на которые он рассчитывал, оказалось то, что под давлением захлестнувшей город и его окрестности волны слабых наркотиков, заметно сдали свои позиции тяжелые и их доля в незаконном обороте заметно снизилась. Кортели терпят многомиллионные убытки. Это слово – многомиллионные, вызывало какие-то внутренние сексуальные нотки в голосе диктора, могущего достичь полного экстаза лишь тогда когда речь пошла бы о многомиллионных погибших. Когда я переместился уже в коридор и перешел на румбу, то начали показывать какого-то торчка, который оказался по совместительству лидером какой-то продвинутой всеамериканской общественной организации, давно и безуспешно борющейся за легализацию легких наркотиков и в основном марихуаны. Его показали очень ненадолго, потому что глядя на него хотелось не только бросить курить чтобы то ни было, а даже заваривать чересчур крепкий чай. Затем тоже ненадолго вновь показали главного полицейского, его мундир и все золотые пуговицы и все они вместе подтвердили, что тюрьмы переполнены, суды не справляются, а полиция только тем и занята, что ловит людишек с папиросками, но ни тех, ни других уже складировать некуда и что делать непонятно. Хотя ему понятно, что делать, но у него нет столько пулеметов и не дают нужной команды. Потом снова на экран вернулся продвинутый торчок, сообщивший о повышении уровня преступности в городе, но не из-за повышенного количества любителей «травки», а из-за того, что полиция бегает за его собратьями высунув языки, а до других дел у них руки не доходят. Я не очень ему поверил, потому что прошлый кадр с полицейской шишкой, показал мне, судя по его комплекции, он никуда не бегает, а лишь ходит и то с трудом и крайне редко. Тут мой мочевой пузырь дал последний предупредительный гудок, уже не удовлетворявшийся движениями ламбады и я начал просто прыгать в сторону туалета и смог уже лишь краем уха услышать о возможном внесении в Конгресс законопроекта о легализации марихуаны на территории всей страны или хотя бы одного штата в качестве эксперимента… Тут слова диктора были заглушены журчащим ручейком и моим вздохом облегчения. Все!
Когда я неторопливым шагом вернулся к телевизору, сюжет про марихуану уже закончился и диктор с не меньшим запалом рассказывал скольких китайцев смыло последним наводнением сравнивая его не в лучшую сторону с предпоследним, явно удрученный тем, что не пришлось вновь использовать свое любимое слово «многомиллионные», явно пеняя китайцам: мол, вас там и так много, так что могли бы тонуть и помасштабнее. Сразу же позвонил Майки и сказал, что у нас проблемы. То есть у меня. Ну как бы у нас обоих, но больше все-таки у меня. Я спросил у него, что он тоже смотрел телевизор? Тут он перестал мямлить, и начал материться, что я сижу там, со своими папуасами и понятия не имею, что тут у них происходит, что федералы сбились с ног пытаясь найти источник поступления нашей «травы», мелкие партии им иногда удается перехватить, но основной поток они перекрыть не могут – нагнали агентов со всей страны, но они уже городом практически не управляют и все ждут, что вот-вот введут войска. Хотя сам Майки думает, что все-таки до этого не дойдет и что Они (это страшное слово «Они») подключили уже ЦРУ и Пентагон, чтобы найти место, откуда везут «товар» в город и разгромить его к херам. Но это только полбеды. Вторые полбеды – это парни с южноамериканского континента у которых, начал чахнуть их кокаиновый бизнес в городе и их очень интересует тот, кто это все устроил. Они (снова это страшное слово) бомбить не станут, они просто приедут и перестреляют всех к херам, ну кого успеют, то конечно прирежут. В какой-то момент мне показалось, что Майки мне какое-то кино пытается пересказать, но где-то ближе к концу его рассказа, я понял, что сам снимаюсь в этом фильме в главной роли. Ощущение холодной спины и холодных рук вернули меня в настоящее, я явственно ощутил, что жизнь – вот она, реальна, моя, одна и, судя по всему, подходит к концу. Мыши могут долго танцевать на носу у спящего тигра, но рано или поздно он может сказать: «Ам!» Майки сказал под конец, столбу по имени Билл Джонсон, что первую часть проблемы он попробует решить самостоятельно, единственное, что для этого придется серьезно скинуться деньгами. А вот со второй частью будет труднее, потому что, первым по большому счету все равно – это для них мелкое развлечение между очередными войнами, а вот вторым парням, мы, точнее я, явно мешаю жить и они очень скоро начнут действовать.
— Как будут новости, я непременно перезвоню, — закончил Майки. Он положил со своей стороны трубку, я же прижимая свою к груди, простоял до заката. Очнулся я лишь от звонка, возвещавшего о прибытии вечернего лифта с ужином и сладеньким. На сладенькое сегодня была Сьюзи – ее мы выписали из Порта, она там танцевала в каком-то центровом кабаке и хоть числилась уже у нас с полгода машинисткой, сцена никак не могла ее отпустить и она вечно пугала меня, выскакивая из лифта в своих экстравагантных нарядах. Сегодня все было достаточно скромно – он нарядилась барабанщицей с парадов, но прихватила с собой кроме барабана еще и тромбон, естественно застряв со всем этим барахлом в не очень крупном в отличие от самой Сьюзи лифте и пытаясь сейчас пусть и по частям из него выползти, выкидывая часть реквизита и инструментов в коридор. Ее появление вывело меня из ступора. Я засунул частично вылезшую Сьюзи обратно в лифт, закидал туда же ее музыкальное барахло и нажал кнопку вниз. Пока он ехал назад, мне чудилось, что кто-то там внизу пытается носоглоткой пропеть «Марсельезу», но крайне неудачно.
Я тем временем оперативно и делово принялся решать появившуюся проблему. Было созвано экстренное совещание, на котором кроме меня присутствовали: Джек Дениэльз, Вили Волкер, Битвайзер и другие официальные лица. Я внимательно выслушал по кругу каждого из собравшихся. Но вскоре их предложения смешались во мне и я начал хуже соображать. Еще через пятнадцать минут проблема была решена, так как решают все сложные проблемы мужчины нашего семейства – я напился и вырубился. Всю ночь мне снились страшные федералы – которые оказались огромными роботами-чудищами, они ходили на длиннющих ногах и шарили по земле глазами-прожекторами в поисках меня. Я соответственно убегал, истошно орал и прятался в различных уголках своего сна. Последнее место, в котором меня нашла моя охрана с фонариками, вынужденная выбить дверь после моих криков, было под кроватью, где я судорожно пытался открыть дверь в хранилище. Хорошо, что мне так и не удалось этого сделать, а перепуганная стража не догадалась, что дверь может быть в полу и что может быть за ней, а то, не смотря на их преданность, а как известно все честным людям у любой преданности есть свои пределы, быстренько придушила бы меня подушкой. Тогда некому было бы писать эти строчки, а те два парня купили бы себе по очень большому острову в океане и им бы до конца их счастливых дней присылали чартерами с материка всяких мисс месяца с обложек «Плейбоя».
Но тогда моя преданная охрана ничего не заметила, перепугалась и вызвала ко мне нашего доктора. Врач у нас был один, начавший свою головокружительную медицинскую карьеру год назад с санитара в морге припортовой больницы, затем став медбратом в каком-то маленьком городке недалеко от побережья, затем повысив себя до фельдшера в соседнем поселке, к нам он попал уже сразу на должность главврача нашего медпункта. За период его продвижения вглубь материка и вытекшего из этого карьерного роста, из всех средств современной медицины он освоил и доверял лишь промыванию желудка и клизме. Назначая их попеременно в зависимости от поставленного им же диагноза, иногда, в особо тяжелых случаях совмещая оба препарата. Мне он прописал тройную дозу этих процедур – на всякий случай, опасаясь за мою жизнь. Я действительно начал опасаться за свою жизнь, когда со мной начали проделывать это в третий раз подряд. Но когда все было позади, я стал как маринованный огурчик – эластичен, свеж, и достаточно водянист.
Когда я снова стал в состоянии более менее соображать, поняв, что избранный мною универсальный мужской способ решения проблем не помогает, хотя у меня и были мысли зайти на второй круг, но я решил не грызть одни и те же грабли дважды и начал готовиться к вторжению. Если Майки не сможет прикрыть нас от первой проблемы – парней с северного континента, то там в любом случае хана: найдут, подгонят авианосец, один боевой заход эскадрильи – а там бомбы, ракеты, напалм, можете выбирать сами, главное успеть закрыться с самой симпатичной блондинкой в своем бункере, чтобы первое время было нескучно, а потом, если войнушка затянется, с питанием не было перебоев. Со вторыми парнями с южного континента придется в любом случае разбираться мне лично, тут на Майки можно было даже и не надеяться. Знать бы вот только, сколько их приплывет, и когда…
Единственное, что я знал о парнях из кортеля, это то что они довольно крутые, их очень много, они давно в этой теме и вскоре они приедут вышибать меня из этого бизнеса, и приедет их, скорее всего больше чем один. Но я не стал унывать. Для начала требовалось договориться с военными на предмет совместной обороны. У нас не было с ними постоянных отношений. Самого главного из них я видел лишь один раз, когда он очень сердитый уезжал в кабине грузовика с вечеринки по поводу открытия железнодорожного сообщения между нашей дырой и остальным не менее дырявым миром. Он тогда был очень, очень зол. Его красное лицо, точнее еще более красные глаза, когда разворачивался грузовик, очень внимательно смотрели на одного человека, подозревая, причем абсолютно беспочвенно, что именно он и является причиной произошедшего позора, видимо, потому что этот идиот, совершенно по-идиотски махал генералу рукой вслед и соответствующе улыбался. И этим идиотом был тогда я. Несомненно, что Человек-Большие-Погоны меня тогда очень хорошо запомнил и идти сейчас просить у него помощи, даже с далеко не пустым чемоданом, было крайне самонадеянно. Смелый начальник пограничной службы, заслышав о вторжении, тут же бы сдал меня вместе с потрохами, гребнем и шпорами. Были еще ребята на джипах, в форме и с автоматами, которые патрулировали пустыню и периодически заглядывали к нам пару раз в месяц со стандартным вопросом: «А что это вы тут делаете, покажите ваши документы?» и получавшие не менее стандартный ответ: «Вот – возьмите, пересчитайте». На них надежды вообще не было никакой, максимум на что можно было рассчитывать, что они понаблюдают издалека в бинокль, как будет полыхать наше ранчо.
В размышлениях прошли два достаточно трезвых и скучных дня. На ночь я принимал слоновью дозу снотворного, так что меня клонило в сон и в течение дня, пить мне после моего последнего совещания не хотелось вовсе, курить нашу «кукурузу» меня не тянуло, с того самого дня как она появилась – меня как отрезало и я относился к ней как к сельхозкультуре, которую мы достаточно выгодно пристраивали до недавнего времени…
Майки, который бросил меня одного одинешеньку, наконец, позвонил. Я вытер слюни одной рукой, сопли – другой, поднял трубку оставшимися сухими тремя пальцами и сказал наш тайный пароль: «Алло». В ответ Майки быстренько рассказал мне коротенькую историю, разделившую все мои проблемы на два.
Человек никогда не сталкивавшийся с работой больших организаций, либо никогда в них не работавший и не понимающий их структуру, считает их неким нерушимым монолитом, обладающим коллективным разумом, всевидящим и всезнающим. А на самом деле все совсем наоборот, чем больше механизм, тем он сложнее, запутанней и малоэффективней. Понятно, что во главе каждой такой конторы стоит Большой Босс, он говорит куда и кому бежать, так сказать глобально, но сам ничего не делает, впрочем, как и его замы и начальники отделов, а делает всю работу всегда один специалист, максимум два – причем второй должен проверять работу первого. Зачем начальству напрягаться и делать дурную работу, когда с утра еще ни разу не сложился пасьянс «Паук» на четыре масти? И что там себе понапридумывал этот единственный специалист, что ему в голову пришло – никто не знает, главное выполнить в срок и крикнуть наверх: «Готово!» И вот по цепочке наверх, по которой до этого вниз спускалось указание, спешит назад, прыгая через три ступеньки отчет о том, что задание выполнено, а за ним, не поспевая и спотыкаясь, осознавая свою вторичность, само выполнение. И вот уже Большой Босс с вершины своего кресла, вещает о том, над чем корпел вчера всего один маленький мелкий клерк, и мы обыватели, задрав головы вверх, верим каждому его слову – ведь за ним стоит такая большая и мощная организация, они наверняка все там трудились над этим вопросом, они не могли ошибиться. Смотрим мы конечно, не задрав головы, а с помощью телевизионных технологий, кстати, со слов Дяди, подкинутых нам подлыми инопланетянами, чтобы постепенно превращать нас в массу послушных зомби, для дальнейшего бескровного порабощения. Но это не важно, главное, что таким образом работают все без исключения большие организации, и в первую очередь государственные, в которых окопались легионы чиновников еще со времен римской империи.
Так вот, история – однажды, да президента самой демократичной, а заодно и самой республиканской страны мира дошла весть о марихуанном лихе, происходящем в городе Нью-Йорке, находящимся как назло на территории подотчетной ему страны, пусть даже с самого ее края. Тогда он поднял трубку одного телефонного аппарата и сказал: «Что за фигня?» На том конце провода мэр Нью-Йорка, под которым кресло уже даже не шаталось, а скакало как бык на родео, ответил: «Ну, ептить» и кивнул на самое большое лицо в синем мундире и золотых пуговицах. Президент поднял трубку от другого аппарата и повторил свой вопрос: «Че за фигня?» Человек, с самым большим лицом, самым синим мундиром и самыми золотыми пуговицами, пошел пятнами от темечка до пят, сказал: «Ну, ептить» и кивнул на бюро с агентами. Президент уже начал терять терпение, но, тем не менее, нашел в себе силы и поднят трубку с третьего аппарата, и уже не так дружелюбно рявкнул: «Да что за фигня, в конце-то концов?!» Босс агентов всея Америки, забегал по потолку своего бюро, что-то промычал совсем невнятное и кивнул на последнем витке на улей со шпионами и разведчиками. Президент зашипел и покрылся испариной, как банка пива перед футболом, но порывшись в себе и найдя там остатки сил, он снова поднял трубку, уже четвертого аппарата и, стараясь не орать, спросил: «Что за фигня?! Я уже исчерпал весь свой месячный запас ценных указаний и звонков и мне уже давно пора ехать на дачу отдохнуть от вас от всех… Вы-то можете сделать хоть что-нибудь?» На том конце провода конспиративным шепотом возвестили, что они уже давно в курсе и вскроют этот орешек за неделю и сами позвонят по пятому аппарату в пятиугольное здание и скажут куда бомбить, в надежде, что на этот раз они там все правильно запишут, а не как в прошлый раз… И что господин президент может ехать преспокойно на свое ранчо, крутить коровам и лошадям то что он обычно им крутит. Господин Президент облегченно вздохнул и с осознанием того, что он в очередной раз спас свою страну, а заодно и весь остальной мир, приказал седлать вертолет.
Начальник всех шпионов и командир всех разведчиков, тоже облегченно вздохнул и вернулся к своей «косынке», а к вечеру забегался и забыл про свое обещание, данное гаранту благ и свобод. Только в пятницу, грузя снасти и консервированных червей, он подумал, не забыл ли он чего на рыбалку – потому что, однажды, когда он вернулся с одной из таких поездок особенно счастливый, то его на пороге встречала законная и достаточно раздраконенная супруга, держащая в одной руке банку с червями, а во второй спиннинги, в спешке сборов, забытые удачным рыболовом. Она долго гоняла любителя форелек вокруг дома, периодически огревая его по спине неломающимися удочками, когда у нее заканчивались аргументы и матюки. С тех пор, начальник собирался на рыбалку особенно тщательно, и в этот раз он прошерстил всю свою память на предмет незаконченных дел. И тут он вспомнил резко о главном – молния пронзило его мозг, он резко выпрямился, треснулся головой о крышку багажника и искры посыпались уже из глаз, и он, освещая ими дорогу побежал звонить, потираю при этом быстро растущую шишку на его белобрысой голове. Так как начальник всех шпионов, ушел сегодня с работы сразу после обеда, то вслед за ним посворачивали свои пасьянсы, повыходили из социальных сетей и потянулись пораньше домой сначала его замы, затем начальники отделов, а потом и вся остальная шпионская офисная братия. Задержавшаяся в конторе последняя секретарша, приняла звонок своего шефа, которого ни разу не видела и до этого не разговаривала с ним по телефону, без четверти пять и сказала, что уже никого нет и пусть перезвонят в понедельник… На той стороне провода, на белобрысом лице веснушки начали меняться между собой местами, а их повелитель, вздохнув поглубже, начал орать в трубку все нехорошие слова, которые знал, некоторые изобретая на месте. Все всем после этого начали резко звонить, кое-кто начал бегать, изображая, бурную деятельность, кто-то начал изображать по сотовому, что стоит в пробке, кто-то гудел изображая поезд, двое притворились пьяными, шестерым уже не надо было притворяться, первый зам успел только сказать, что у него садится батарея и отключился – вообщем собраться в кулак и добиться хоть чего-нибудь от работников шпионского ведомства было уже невозможно – пятница забрала их души и тела. Шеф, покипел еще немного на той стороне провода, затем выпустил пар, заварился и начал настаиваться до понедельника, ясно ощутив, что на выходных безопасность страны обеспечивает кто-то другой, но только не его ведомство.
В понедельник в десять, на совещании он уже оторвался по полной: кто не спал с открытыми глазами записывали, все записываемое затем тщательно сворачивали и кидали в урну за углом коридора, многие упражнялись в графических рисунках. Босс, всласть наплевавшись желчью, накопленной за выходные, вкратце обрисовал проблему, раздал задачи, начертал магический круг проблем и сказал напоследок, что на нашу контору возложена ответственная миссия, так что давайте хоть раз в жизни сделаем что-то по-людски, а не как обычно по …
Как у нас все делается «по …» — взрослые и так знают, им это регулярно повторяют на каждом заседании, а дети еще успеют узнать как надо и не надо работать, поэтому мы не будем раскрывать окончания фразы «по …», не теряя надежды, что нас все-таки прочтут хотя бы дети, если издатель снабдит эту книжку красивыми картинками и мы хоть из детского отдела книжного магазина порасшатываем малеха отстои этого общества.
В конце заседания у шефа шпионов, после фразы «по …» все сначала негодующе загудели, постепенно переводя тембр своего горлового пения в одобрительно-подчиненный диапазон, в конце хлипко захлопали, задвигали стульями и направились на передовую борьбы с мировым злом, достаточно четко проведенную перед ними за последние полтора часа. Шеф остался один, достаточно довольным, и начал загружать странички из избранного. Его подопечные разбежались по коридорам и кабинетам, работа закипела вместе с электрочайниками секретарш. Основная нагрузка легла на отдел спутниковых наблюдений – надо было из космоса обнаружить это злобное место, откуда марихуанная осень засыпает город Нью-Йорк и кое-кому дошедшая уже до горла. Тут-то об этом смог вовремя пронюхать Майки. Хотя нюхал не он, а один из помощников, одного из замов белобрысого шефа всех тайных шпионов и храбрых разведчиков, и так к этому делу пристрастившийся, что все остальное, в том числе и служебные тайны отошли для него на второй план. Мой двоюродный братец в свою очередь делал так, что бы дорожка этого помощника всегда была кристально белой, в меру широкой и никогда не заканчивалась. Тот в свою очередь держал Майки в курсе дел в своей конторе и вовремя сообщил о начавшейся операции, а так же помог выйти на непосредственных исполнителей – двух парней, отвечающих за наблюдение за интересующим нас сектором. Парни долго ломались, говорили, что у них все неподкупные, а особенно они. Но Майки в конце концов их уговорил — на этой неделе чемодан не прилетел, но зато на снимках спутников-шпионов, на месте поля, поселка и железнодорожной ветки была девственная пустыня без единого признака жизни.
Все это, конечно же, не так подробно, более законспирировано и почему-то шепотом, мне поведал Майки. Наверно для того, что если нас будут судить, то раз мы разговаривали шепотом, то дадут меньший срок. Только я успел выдохнуть эти проблемы, как Майки заговорил о менее приятных вещах, но зато кратко: «Они плывут!» Все! Опять это слово «Они». Я перестал дышать и сел прямо на пол, на подкосившиеся ноги. Майки сказал, что завтра позвонит и уточнит когда и на чем они приплывают и положил трубку, забыв сказать, как мне дожить до завтра и что делать завтра, впрочем, и во все последующие за ним дни. К счастью я знал, что делать в подобных ситуациях и пополз с отнявшимися ногами к барному шкафчику.
Глава двенадцатая
Ребята из кортеля высадились ночью. У них с собой было все, кроме бронетехники, но е они надеялись захватить уже на месте. Танков они к счастью не обнаружили, потому что их было не так уж и много этой стране, а те, что были, неси боевое дежурство на неспокойной северной границе. Жгучие латиноамериканские парни не стали распаковывать чемоданы со своими инструментами, а наняли с десяток автомобилей и двинули вдоль железки к зарвавшимся конкурентам, к рассаднику зла и порока, то есть к нам. Мы к такой встрече подготовились как смогли: купили за недорого железнодорожную платформу, еще более за недорого – два семидесятипятимиллиметровых орудия, закрепили их, обварили платформу железными щитами и вот, у нас появился свой маленький бронепоезд. Мы закамуфлировали его разлапистыми ветками нашей сельхозкультуры и загнали за ворота в поле, в засаду. Проходы между крайними жилищами поселка, мы заставили мешками с песком, хорошо, что в этой стране перебоев с ним не было, поставили несколько пулеметов, всем кто мог показать справку от врача – раздали по винтовке, местным приказали доставать с антресолей и наточить свои копья. Так что теперь, все, кто когда-нибудь в детстве листал учебник истории средних веков, мог с легкостью назвать наше поселение вагенбургом. Другие же умные люди, любители кинематографа, нашли бы много общего с сюжетом из «Семи самураев». Но так как, ни одной умный человек, ни за что не станет читать эту книгу, то я могу легко претендовать на оригинальность.
Нападение без предупреждения началось в полдень. Я не буду здесь смаковать и тем более превозносить военные действия, тем более в таком мелком для этого неспокойного региона масштабе. Война – это всегда мерзко. Война – это всегда грязь, смерть и боль. Нас били, по нам стреляли – мы отвечали. Кто-то кричал и падал, а кто-то падал и уже ничего не кричал. В кино, во время перестрелки стреляют много, и проходит она быстро. В жизни она очень растянута по времени, и стреляют постоянно, но по чуть-чуть и при этом ты практически не видишь противника.
Картелевцы растянулись на своих машинах в линию, прятались за ними, стреляли, иногда даже из гранатометов и постепенно приближались. Мы отстреливались, у нас были еще гранаты, но много их достать не удалось, и расстояние для броска было еще велико. Кругом поднимались столбики пыли и вскоре, было мало что видно вообще. Я залез на крышу своей виллы, чтобы оглядеться и хоть примерно понять, что происходит на нашем Ватерлоо. Огляделся я быстро, и понял практически сразу, что нам «пи…». «Пи…» — это еще одно слово, которое знают все взрослые и даже некоторая часть детей, но мы не можем брать на себя такую ответственность по распространению этого слова среди оставшейся пока в неведении детской аудитории. Будем считать, что «пи…» — это просто писк, который ставят в некоторых фильмах, чтобы заглушить некоторые слова, вырывавшиеся из уст актеров, когда они начинали думать вслух, в какой «пи…» фильме они снимаются. Так, вот, там на крыше я понял, что для всех нас, деревенских, если «пи…» еще не настал, то до него было уже рукой подать. Линия наступавших уже давно превратилась в полукруг, который в некоторых местах уже был довольно близок к деревне, и из этих мест сближения с нашей стороны уже никто не отстреливался. Хотя казалось, что стреляли отовсюду – такой кругом стоял грохот, но ориентироваться надо было по облачкам пыли, а с нашей стороны их было крайне мало. Я понял, что наступил решающий момент и попытался дать знак Барнсу, что теперь его выход, точнее выезд. На крыше был установлен флаг – Веселый Роджер, он конечно немного подвыгорел на солнце, но узнать в нем трепещущий символ пиратов еще можно было не прибегая к углеродному анализу. Мы условились, что помашу Барнсу с крыши этой черно-белой тряпкой, когда ему пора будет выезжать из засады. Стоя на крыше и видя, что дальше тянуть уже некуда, я попытался сначала отломить флаг, когда у меня это не получилось – оторвать, затем отгрызть и так далее, можете подставлять любой из любимых глаголов, заканчивающийся на «-ять». «Что за «-ять!» — сказал я сам себе через две минуты конвульсивных попыток разлучить эту тряпку с этой палкой – назвать их гордо флаг и флагшток у меня уже не поворачивался язык, сыпались только одни «пи…» и «-яти». Барнс же в это время, по его собственному потом рассказу, крайне внимательно изучал в бинокль мои телодвижения, пытаясь не пропустить за ними условленный сигнал. У него было несколько удивительнейше полезнейших черт, например: запасливость — вы знаете многих машинистов паровозов, имеющих в своих кабинах цейсовские бинокли? Ответственность – он не заснул, он усиленно ждал отмашки, точность – он ждал именно условленного сигнала, а никакого другого – мои судорожные попытки оторвать флаг, а также конвульсивные прыжки на крыше никак не могли быть им истолкованы как призывы к началу атаки. И тут мы вплотную подошли к главной и достаточно печальной черте характера Барнса – полному отсутствию какой-либо сообразительности, а заодно и инициативы. Но к счастью ситуация разрешилась, благодаря одному сообразительному человеку из таких, которые всегда оказываются рядом в противовес таким тугодумам как Барнс. Этим человеком оказался кочегар Барнса, тот самый, которого он потерял на той исторической вечеринке по поводу открытия нашего железнодорожного сообщения. К сожалению, ни я, ни история не сохранили имени этого героического парня, который из любопытства залез на крышу паровоза и крикнул вниз машинисту, неотрывно наблюдавший за моими пируэтами и менуэтами с восьмикратным увеличением:
— Эгей! Они уже близко! Эй, толстяк, самое время ударить, враг уже перешел железку! — Этот безымянный малый был колок на язык, особенно если объект уколов находился на некотором расстоянии. — Да и шеф, смотри, как нехорошо танцует – явно что-то случилось!
— Вижу без тебя! – недовольно ответил Барнс, тоном человека, который всегда все знает, что и как, но признает это лишь после того как его ткнут носом. Он нажал на рычаг и наш бронепоезд начал медленно выползать из чащи, вяло смял ворота, ведущие наружу и, пыхтя и отдуваясь, почухал ударять во фланг наступавшим со всем ожесточением дикой черепашьей дивизии.
Правофланговые наступающие, в свою очередь, не все и не сразу заметили наше оружие победы на колесиках, но, в конце концов, почти все остановились – видимо посмеяться. Уверен, что многие в тот момент фотографировались на фоне паровоза, чтобы посмеяться уже как следует дома с женами, в узком так сказать кругу семьи. Эта заминка была нам на руку и поэтому первые два выстрела с бронепоезда были достаточно точны. В кино, когда в машину попадает снаряд – она взрывается вся, включая воздух в колесах, в которых наверняка некоторые хранят бензин. У картелевцев одна машина была почти такая, она как следует ухнула, присела на зад и почти сразу загорелась. Вторая оказалась некондиционной, она лишь испуганно подпрыгнула на месте и не придумала ничего оригинальнее, чем задымить. Нападающие, судя по всему, тоже были крайне возмущены увиденным, потому что начали абсолютно бессовестно и бесполезно палить в сторону паровоза из всего, что у них было под рукой. Второй залп нашего линкора по имени «Вотвам» под командованием адмирала Барнса, был менее эффективен, побросав лишь вверх немного земли, потому что состав набрал уже приличную скорость и заехал далеко за спины атакующих. Затем бронепоезд дал задний ход и третьим залпом подбил еще одну машину, после чего противник дрогнул и начал резко дифференцироваться. Часть машин начала разворачиваться, выполняя маневр и выбирая направление, наверняка до конца не понятное даже самим их водителям, главной движущей силой которых было: «Главное подальше отсюда!» Назовем их экспрессивными временными владельцами транспортных средств. Другая часть – назовем ее импрессивной, побросала свои машины и побежала в сторону деревни, не забывая при этом стрелять, видимо для сохранения в себе остатков воинского духа. Остальные, будем их звать их авангардистами – не будем стесняться этого слова, впрочем, как и слова неадекватные, в которое мы их очень скоро переименуем, побежали прямо на бронепоезд. Во что их превратил 75-й калибр, когда в него зарядили картечь, вы можете сами себе нафантазировать. Также небольшая часть бывших наступавших, а теперь уже непонятно кого – назовем их постмодернистами, стояла, взявшись одной ругой за ступор, а второй за штопор, которым их прикрутило к земле, периодически стреляя в неизведанном направлении, пытаясь погасить в этом свою нервозность и создавшуюся неопределенность положения.
Короче на правом фланге в атакующих действиях кортеля стал появляться хаос. Через какое-то время хаос остался, а атакующие действия прекратились. Чего нельзя было сказать о левом фланге, он, либо видя, либо чувствуя, что он остался в одиночестве решил сражаться за двоих и предпринял стремительную атаку на деревню, в которой ему были не страшны барнсовы пушки. Кстати, не поторопись они использовать еще в начале боя практически все заряды для гранатометов, то паровозик Барни, не успел бы даже погудеть на прощание. А теперь автоматы не наносили ему значительного вреда, а последний выстрел из РПГ пришелся значительно выше. Левый фланг нападавших, протаранив на своих авто ряд хижин и баррикад с песком, ввалился в поселок с противоположной от железнодорожной ветки стороны. Полсотни, уцелевших и очень недовольных парней, довольно лихо перезарядили свои автоматы, оставили транспорт и двинулись вглубь поселка с явными карательными намерениями. Я к тому времени уже вдоволь насмотревшись батальных сцен, тихонечко лежал на крыше, потому что это было намного умнее, чем высовываться с нее в попытках поймать лбом пулю. Я терпеливо ждал боевого клича индейцев, ну или еще чего-нибудь подобного, потому что последний этап обороны бедных фермеров и одного богатого плантатора была возложена на местное ополчение. Я втянул голову, ждал неизвестно чего и слушал. Редкие очереди постепенно сникли, бронепоезд больше не стрелял, потому что число снарядов – сорок, конечно, и наступила тишина, в которой остался висеть лишь густой испанский матерок где-то внизу. Неожиданно затрещало множество автоматов, разом смешавшись в клубок с какими-то странными криками, воплями и чавкающими звуками. Затем все это развалилось на отдельные шумы, каждый из которых стих уже сам по себе довольно скоро. Я приподнял голову и, увидел сотню местных в боевой раскраске, продолжавших тыкать своими копьями уже бездыханные тела неудавшихся завоевателей, а затем дружно испустивших командный клич. Я тут же спрятался обратно, поняв, что выходить к ним меня вовсе не тянет. Когда местные после получаса истошных криков, начали постепенно успокаиваться, я спустился таки вниз, чтобы немного покомандовать и показать всем, благодаря чьим стратегическим способностям была выиграна битва.
Потом еще с час была небольшая стрельба и беготня по всей деревне, мои уцелевшие бойцы в кооперации с местными зачищали от затаившихся по разным щелям остатков бандформирований. Несколько машин с проницательными водителями из экспрессивной группы, в переломный момент боя стратегически отступившие, продолжили свое отступление, которое некоторые неуважительно относящиеся к своему противнику авторы, с удовольствием назвали бы бегством. Разгоряченный старина Барнс, вместе со своей железной командой возмездия предпринял недолгое преследование этих трусов. Но так как отступавшие представляли собой лучшие умы бывших наступавших, то они не стали гоняться наперегонки с сумасшедшим стреляющим паровозом, а сразу взяли резко в сторону, где и были успешно выловлены военными патрулями, которые, в свою очередь, вдоволь насмотрелись на нашу небольшую войнушку в бинокли с холма, решили тоже принять участие в ее завершающей стадии на стороне победителей. Проведя ночь в гонках по пустыне за остатками картелевцев, военные на утро заявились к нам за своими спортивными призами с вопросом: «Что у вас тут происходит?» Оценив их количество и охотничий азарт в глазах сквозь прицелы, я молча вынес им непустую коробку из-под обуви. Полковник, взвесив ее в руках, решил задать заодно и свой стандартный вопрос про документы, и я сходит еще за одной коробкой, после чего эскорт из десяти джипов отправился восвояси, не сделав на прощание даже ни одного торжественного выстрела в воздух. Еще до приезда военных мы успели нарыть с десяток могил для наших ребят. Своих немногочисленных погибших местные должны были по традиции хоронить на закате, устроив при этом пир из нападавших. Мне не очень нравилась эта затея с их торжественным ужином, но я не стал спорить с вождями в столь принципиальном для них вопросе, тем более я видел на что они способны в боевом запале, который даже к утру еще не до конца выветрился. От предложения снабдить нас двумя тазиками с материалом для холодца мне тоже пришлось категорически отказаться.
После обеда я дал телефонограмму в Порт, своим продажным друзьям, что не надо ждать обратно гастролеров и начальник всех причалов с удовольствием отдал приказ распилить пароход, на котором те прибыли, на металл.
Руководство картеля в свою очередь было слегка удивлено невозвращением своей исследовательской экспедиции, не успокоилось и снарядило вторую – узнать, что сталось с первой и если что, то закончить их миссию. На этот раз Майки смог узнать об этом заранее. Мало того – он смог разузнать кроме точной даты отплытия еще и название корабля, на котором должна была плыть вторая группа киллеров. Майки, поклонился килограммовым белым пакетом своему приятелю в ЦРУ и тот, потряс остатками студня в своей голове и кое-что придумал.
В то время правительство моей страны только и жило мыслью, кому еще помочь скинуть оковы диктатуры и вместо них надеть элегантные наручники демократии, с розовыми мягкими накладками, как для сексуальных игр средней жесткости. Претендентов было несколько, выбрали, в конце концов, не того, что пострашнее, а у кого много лишней нефти и мало влиятельных друзей. Уже запустилась машина пропаганды на ТВ и новости про обкуренный Нью-Йорк отошли на второй план перед лицом новой мировой угрозы, которую раскрашивали страшными цветами прямо у нас на глазах. Под этот начавшийся шум, наш человек подготовил для своего шефа — начальника отдела, доклад о якобы планирующейся переброске партии оружия для наших будущих врагов, но из которых мы будем в дальнейшем, прикладами делать себе друзей. А этим ребятам из ЦРУ только дай повод что-нибудь рвануть или кого-нибудь пристрелить тайком, а потом со строгими лицами все отрицать или ссылаться на государственную тайну и соображения безопасности. Хотя я уверен, что после этих всех пресс-конференций они прямо у себя в офисе устраивают вечеринку по поводу очередного обмишуривания всего населения: скачут на стульях по кругу в клоунских колпачках, дуют в дудки и травят анекдоты из своих секретных операций. Так вот, начальник нашего друга тут же ухватился за эту возможность получить хозяйское поглаживание между ушей, а также шанс стрельнуть из дорогущей большой ракеты хоть в кого-нибудь. В свою очередь главный, тот самый плюгавенький белобрысик из предыдущей главы про рыбалку, сам был не прочь пострелять и, глянув в даты отплытия парохода, тут же дал команду готовиться к проведению тайной операции. Что-то забегало, затрещало, зазвонило и уже назавтра, на столе главного лежала твердая папочка с его любимым грифом «секретно». Он наверняка другие бумаги без этой надписи даже не читает! Скорее всего, даже когда шеф с женой ходят в рыбный ресторан, то возле официанта, который готовится их рассчитать, вырастает товарищ в штатском и протягивает пустой бланк для счета с грифом «секретно» и просит утешить старика…
В результате всех дальнейших действий отлаженного механизма смерти и вранья, на одну подводную лодку пришла шифровка с цифрами. Капитан дождался назначенного часа, ввел циферки, нажал красную кнопочку и два миллиона долларов в металлической оболочке взмыли вверх с перископной глубины и направились искать себе друзей. Их встреча на середине Атлантики была быстрой, но яркой. Головорезы, сидевшие большей частью по каютам, ничего особо не поняли, запомнив лишь, что козыри были пики и даже в райском накопителе продолжавшие спорить, кто, сколько бы взял взяток, если бы все не разлетелось к чертям. Но завидев грозного дядьку с мечом и весами у входа, присмирели и привычно перекрестились, поцеловав большой палец. Дядька, завидев это несоответствие в ритуале, перестал что-то там взвешивать, плюнул на пол и вся сотня прибывших, провалилась вниз, в горячие цеха.
Картель, после того, как не дождался первой экспедицию назад, а вторая не доехала даже вперед, и ни от одной из них не осталось следов, заметно присмирел и задумался, прекратив на время осуществлять свои изыскательно-карательные действия в нашу сторону. А события тем временем стали развиваться все стремительнее и стремительнее…
Новость о пропащей второй экспедиции я воспринял как всегда по телефону от Майки. Дослушав ее до последней буквы, я бросил трубку и начал танцевать с первым, попавшимся под руку плюшевым мишкой, благо, что теперь у меня было достаточно места, времени и денег, чтобы я мог без забот отдаваться этой маленькой слабости, как коллекционирование плюшевых монстров в половину человеческого роста. Когда же по вечерам приезжал лифт, то я их уводил за руки в соседнюю комнату – подальше от чужих глаз и болтливых языков, и запирал там до утра. Некоторые из них, правда потом обижались и по несколько дней со мной не разговаривали.
Следующий день прошел просто замечательно – все люди на удивление были милы и прекрасны. Вечером же хороших новостей лишь прибавилось. Говорящая голова в телевизоре отбомбила меня новостями, сколько сегодня ракет выпустили на головы проклятым террористам. Это вселенское зло нашей планеты пришло в свое время на смену другому мировому злу – проклятым коммунистам, угроза от которых мерещилась, чуть ли не в каждой второй стране. Но тогда их если их и бомбили, то с оглядкой на Главного Коммуниста, разлегшегося на 1/6 части всей суши. Теперь же можно было бомбить никого особо не спрашивая, что мы и делали со знанием и рвением, но как всегда, без особого понимания последствий. На этот раз не повезло одной из ближневосточных стран и мы с помощью авиаударов корректировали ее политический курс, посылая массово ее граждан в иные, возможно более лучшие миры, дабы они и там рассказали о чудесных проявлениях американской дипломатии и демократии. Это как в вестернах, когда хороший парень с ружьем, гонит плохого парня без ружья к какому-нибудь месту стреляя, то справа, то слева от него, чтобы тот не вильнул в сторону. Так вот моя страна и была этим самым хорошим парнем, у которого ружье. После очередной новости о количестве сброшенных и пойманных бомб, шел раздел внутренностей, точнее внутренних новостей. В нем сообщалось, что часть конгрессменов, которые поддержали другую часть конгрессменов, в определении очередного внешнего врага (хотя я уверен, что он определялся даже не голосованием или жеребьевкой и тут наверняка снова не обошлось без крутящегося глобуса и пальца). И так как эти поддержали тех в том вопросе, то теперь те должны поддержать этих в этом, а именно в том, о чем мечтал гламурный торчок из той передачи – разрешить в городе Нью-Йорк, в качестве эксперимента легальную продажу и употребление марихуаны. После этого я на радостях выбросил пульт с балкона и начал водить со своими медвежатами хороводы до утра, пить все что горит и не только, а также петь переделанные похабные детские песенки. Буфет не успевал выплевывать новые бутылки и иногда подпевал басом, пустая же посуда отвечала за верхние ноты, а иногда просто качалась из стороны в сторону в такт, когда мы с медведями пускались в скач.
Майки позвонил только ближе к вечеру и судя по голосу был тоже пьян, но тем не менее в отличие от меня он смог за минуту собрать и вылепить из засохших букв в своем рту фразу: «Поздравляю, Билли!» Я же был в состоянии только кивнуть. Затем я заснул сидя с трубкой в руке, Майки судя по всему, тоже, потому что в следующий раз он жаловался на сильно подорожавшую международную связь.
Через месяц мой любимый канал сообщил, что ввиду успешных тенденций, эксперимент решено расширить с города Нью-Йорк до всего штата Нью-Йорк. Стали появляться специализированные магазины, а затем отделы в табачных лавках и супермаркетах. Майки все это время звонил каждый день и был краток как никогда: «Давай еще!» Мы давали к тому времени уже сколько могли. Поставили по всему полю прожектора, для этого пришлось прикупить еще один локомотив – который жрал цистернами солярку и по ночам вырабатывал электричество. Поэтому в ночи мое поле стало напоминать футбольную арену, где шла круглосуточная битва за урожай. Освободившиеся парни с велосипедов и еще две сотни к ним в придачу, работали в три смены, парк комбайнов увеличился вчетверо и уже никогда не отдыхал. Поезд Барнса каждый день мотался в порт, каждый день отплывал пароход и через два дня на третий, прилетало два чемодана. Я спал мало, еще меньше понимал в математике, но, в конце концов, спросил у Майки, мол, я никого не хочу обидеть, но как же так — мы стали оправлять примерно в десять раз больше товара, а чемодан начал прилетать чаще только в два раза? Может быть, где-то кто-то кого-то хочет обмануть или уже это делает? На что Майки мне ответил:
— Математика это конечно хорошая наука, но есть еще и экономика, а она говорит, что как вывели «травку» из тени на солнце погреться, то цена упала почти в пять раз и продолжает падать. У нас тут теперь оптовый склад и офис прямо в порту и мы платим налоги! И никто меня не спрашивает. Где я и что беру. Но цена продолжает падать, и если ты поднажмешь, то можешь пока рассчитывать на свои два чемодана в три дня, но помни, Билли, конкуренты не спят, — и положил трубку.
Ему было наверняка легко говорить в большом неповоротливом кожаном кресле, которое стоит столько, что наверняка само смогло бы руководить средним налаженным бизнесом. Но я то знал, что поджимать было уже некуда – трава еле успевала отрастать, люди и комбайны вперемешку падали от усталости и мы вышли уже на максимальный объем. Сам я толком не спал уже второй или третий месяц, и как можно было заснуть, если твоим красным глазам становится больно, когда их пытаются закрыть.
Во время этой безумной страды мне совсем не оставалось времени подумать, зачем они там это с собой сделали? Неужели их там так прижало, что они решили легализовать марихуану? В моих глазах теперь Нью-Йорк представлялся теперь каким-то растаманским раем: из окон домов свешиваются флаги Ямайки, все ходят особой походкой вразвалочку с дредами на голове, повсюду звучит Боб Марли. Хиппи, прямо их шестидесятых, приехали на своих разрисованных в цветочки автобусиках и устроили огромную коммуну в Центральном парке. В Гоа народ массово начал строить тропические лодки и плоты, и погреб через два океана. Оставшееся умеренное большинство ньюйоркцев просто подстриглись под битников. И все при этом курят без перерыва! Жизнь в городе постепенно замирает. Улицы зарастают мусором и травой. Зеленые ввели в городе, который перестали называть Большим Яблоком, а начали величать Спокойным Лесом, натуральное хозяйство, и теперь борются за повышенные удои. Последним оплотом, наверняка оставался Уолл-стрит. Там все еще с полгода кто-то что-то пытался считать, постепенно отдавая природе этаж за этажом, сдавая отдел за отделом. Последним всеобщая гармония и вселенская любовь захватила и верхние этажи пентхаусов, с которых горохом посыпались бывшие бонзы разоренных корпораций и над бывшей финансовой цитаделью взошло пятилистное, разлапистое, зеленое солнышко. Но все мои видения развеял, как всегда зомбо-ящик, из которого передали, что ничего критичного в городе не происходит – все как сидели на своих местах, так и сидят, и бонзы с балконов своих пенхаусов на Уолл-стрит также преспокойно лузгают семечки на суетящийся внизу офисный мусор. Трамваи, поезда ходят по расписанию. Первый восторг и эйфория проходят: кто курил так и курят, кто не курил, так особо и не начали, зато многих, кто кололся, нюхал или глотал, стало меньше. Кто перешел в более легкую, уже официальную лигу, а с заядлыми начали сильнее бороться высвободившиеся силы полиции. Выбив экономическую основу у части наркобизнеса, казна прибавила как за счет налогов, так и за счет туристов со всей страны потянувшиеся в так называемые «ганджатуры». Их, конечно, провожали пикетами и стучали транспарантами в окна, активисты не пойми чего с той стороны границы штата, зато с этой их встречали как астронавтов. Общий уровень преступности снизился, конечно не так как в сказках, книжках и кино в таких случаях, но заметно и тенденция на улучшение обстановки в самом криминогенном городе Америки была на лице у всех инициаторов марихуанного законопроекта. Люди стали вежливее, нью-йоркские таксисты выучили слова «спасибо» и «пожалуйста» и позабывали кучу других нехороших слов. Но про таксистов, я бы не стал связывать это с законом, человечеству это было просто не под силу – тут наверняка не обошлось без влияния подлетающей к Земле планеты Нубиру…
Не дождавшись отведенных полгода на эксперимент, конгрессмены практически единогласно, особенно учитывая тот факт, что того кого мы бомбили уже полгода никак не сдается и наш тамошний военный контингент только тем и занимается, что шлет на родину завернутые во флаги ящики, а национальное комьюнити надо чем-то развлекать, то расширили «марихуанный» закон на всю страну. Я уже был не в состоянии радоваться такому событию, потому что мне оставалось лишь бегать по пустыне в поисках того таинственного незнакомца и просить внести поправку в мое желание расширить конопляное поле до океана. На что он почти наверняка, учитывая его сарказм, посоветовал бы мне закидывать в океан невод, чтобы поймать золотую рыбку и просить ее растить поле с берега сюда, потому что ему самому надо подзарядиться маной. Во время моей этой смутной радости, сидении на ступеньках лестницы и внимательного изучения трещинок в цементе через трещинки в глазах, неожиданно вернулся Джим.
— Ты плохо выглядишь, — бросил он мне мимоходом, входя в мои хоромы и усаживаясь в кресло с таким видом, будто бы он не пропадал где-то целый год, а он только что выходил в туалет пописать, да то передумал и вернулся с полдороги. Я прошел за Джимом в комнату и застыл, как был – в мятых трусах и особенно мятой рубашке, с пустым стаканом в руке, который оказался очень кстати и помогавший мне балансировать на месте, не падая. Я не мог ровным счетом ничего вымолвить. Пытался кривым – у меня тоже ничего не получилось. Не получилось бы и у вас! Представьте, что к вам сейчас бы зашел Элвис в костюме от Далай-Ламы и спросил «Как дела?» Но за ним еще бы тащился при этом хвост ящерицы. А? Каково? Представляете, как было мне? Но вы на своем месте и ничего не представляете, а просто читаете эту книгу, сидя в сортире, и ржете, а мне тут за всех приходится отдуваться.
Джим отряхнул свои лохмотья от песка и пыли и мне показалось, что вместе с ними отлетают и куски истлевшей ткани. Сказать вам определенно, во что он был одет и можно ли это назвать одеждой, я вам не могу – так как не специалист. Джим попросил меня садиться и я повиновался, сев прямо на пол. Джим, видя, что я в ступоре, спросил у стен разрешения принять душ, получил их немое согласие и поплелся в ванную. Я тихонечко пошел за ним, проверить, не привидение ли пришло меня проведать. Клянусь вам, что никогда до этого и никогда после, я не подглядывал за голым моющимся мужчиной в душе. Только за молоденькими женщинами и достаточно зрелыми девочками. Но тогда, в тот день, я испытал от этого процесса какие-то неоднозначные чувства, как от вида голой мамы, например. Но когда Джим, наконец, вышел, отфыркивающийся и завернутый в полотенце, я не выдержал, обнял его и захлюпал: «Джим, Джимми… ты вернулся… я так рад…»
Глава тринадцатая
Ближе к ужину я уже перестал щупать Джима и мы снова превратились в старых друзей, без этой скользкой и липкой приставки «близкие». Признаюсь, что за последний год я довольно редко думал о Джиме. Я вообще довольно редко думаю, предпочитая действовать, а в отсутствие Джима мне это удавалось особенно хорошо. Я знал, что он где-то там путешествует и до меня доходила кое-какая молва, но я мало верил в нее, точнее никак не мог совместить моего Джима с легендами о том человеке, которого многие называли Набии. И вот Джим сидел передо мной, пил чай и рассказывал потихоньку о своем путешествии, и постепенно, очень постепенно эти два человека для меня соединялись в одном и под конец разговора, они окончательно соединились, но я к тому времени уже не понимал кто сидит передо мной…
«Повесть о Джиме»
Записана Биллом Джонсоном и рассказанная самим Джимом Гаррисоном
Биллу Джонсону и записанная им по памяти со всеми соответствующими
пробелами, слабыми проблесками на правду, собственными домыслами
и фантазиями.
Будет печататься в полном объему в следующем издании,
если поднимут тариф за печатный символ для бедствующего автора.
В двух словах: «Ходил, я ходил. Говорил, я говорил. А они слушали.
Кто-то падал на колени, остальные ходили за мной. Насилу вот оторвался,
Износил рубаху, у тебя есть новая, у нас ведь вроде раньше был один размер?»
С этими словами Джим похлопал меня по незаметно выросшему для меня самого за год пузу. Я начал рыться в своем гардеробе, пытаясь нарядить Джима. Он кое-что примерил, но потом от всего отказался, сказав, что в здешнем климате намного удобнее свободная одежда – нашел самую широкую мою простыню, белую, всю в мелких розовых поросятах, завернулся в нее и стал мне очень сильно кого-то напоминать…
За ужином мы с Джимом выпили, немного, и вина. Я давно уже отвык от таких детсадовских порций и градусов, так что с легкостью могу отнести тот вечер к безалкогольным. К концу трапезы, Джим озвучил свою просьбу, от которой все резко стало пресным. Нет, не то чтобы я был чересчур жадным, или был против экономического подъема и криминального спада моего любимейшего города Нью-Йорк, ни разу до этого мною не посещенного, гори он в авиационном топливе. Просто я не был готов менять свою жизнь. Она мне как-то по своему, нравилась. Она устаканилась, оббутылилась и накроватилась. В этот момент я остро понял, что очень люблю Джима, но у всякой любви есть свои пределы и я свой, кажется, нащупал. Я сказал, что уже поздно и надо подумать – надеясь тянуть время, а потом либо приобщить Джима к своему делу, либо подкинуть ему мысль о втором путешествии, тем более, что первое было таким увлекательным, что за время его пересказа я засыпал трижды.
Джиму я постелил на диване, сам лег на свою кровать смотреть в потолок, пытаясь в трещинках на отделке прочесть свою дальнейшую судьбу. Мои поиски и разглядывания прерывал звук дважды подъезжавшего лифта, который после шушуканий и хихиканий уезжал восвояси. К утру по всему зданию слышался веселый перезвон и стопятидесятый пересказ из уст в уши и так далее, полный скользкими намеками и обросший подробностями туристского путеводителя. Я же бросив малоинформативный потолок, всю ночь определял, какой же я бок меньше всего отлежал, но, так и не определившись, встал с пустой и одновременно больной головой и все думал о словах Джима. Он просил меня ни много, ни мало перестать заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Джимми не объяснял причин своей несколько странной просьбы, впрочем, он открыто и не осудил моего бизнеса, но и не одобрял его, это уж точно. Я спросил тогда Джима, зачем ему нужно, чтобы я так поступил, а он ответил, что это нужно не ему, а мне самому. И на свой вопрос: «А что же я буду потом делать?» я смогу ответить и сам.
За завтраком Джим в несвойственной для себя и становящейся уже раздражительной новой для меня манере спросил, решился ли я. Нет, он не спрашивал, что я решил! Он интересовался, решился ли я! Типа того, что ответ и так ясен, осталось установить лишь для него срок исполнения. Наверняка так вызывали по утрам на вылет камикадзе из казарм, в которых невыносимо чадили печи. Заходил главный в противогазе в дым и спрашивал, решился ли кто тут? Кто решался – тех по самолетам и, алга – пихаться с авианосцами. Остальных снова запирали до утра, подкинув уголька в топки. Вроде и выбор есть, но все же какая-то обреченность присутствует. Внимательный читатель наверняка упрекнет меня в неправдивости рассказа, как это главный мог что-то спрашивать в противогазе – ничего же не будет понятно? Поясняем, что даже без противогаза внимательному читателю ничего не будет понятно, потому командир – японец и спрашивал бы он соответственно на японском. А внимательные люди, да к тому же со знанием японского языка вряд ли принялись бы за чтение написанной тут белиберды.
Я же на повторный вопрос Джима про решимость, потупил голову как провинившийся самурай и школьник в одном лице, забывший хокку, которую никогда не учил и начал бубнить что-то невнятное под нос. Меня спас, как и тогда в школе – звонок. Тот был с урока, а этот из Нью-Йорка. Я подбежал к телефону и начал радостно: «Приветствую тебя, о, брат мой, Майки!» И вскоре закончил совсем в другой тональности с криком: «Чтоб ты сдох, жадная скотина!» А затем так прокомпостировал трубкой телефонный аппарат, что тот очень удивленно сказал: «Дзынь» и замолчал уже до конца своей недолгой пластмассовой жизни. Между моим приветственным и прощальным словами я услышал от Майки небольшую, но крайне познавательную заметочку из курса политэкономии, о том что «товар» (Майки продолжал по привычке конспирироваться) теперь очень сильно подешевел, потому что многие фермеры южных штатов, в том числе и любимого всеми Джонсонами Канзаса, перешли на промышленное выращивание конопли и она по себестоимости уже почти сравнилась с табаком. Так что если я хочу, то могу еще продолжать присылать ему товар в прежних, смешных, по его словам объемах, и он готов как и раньше сам оплачивать его доставку, но в таком случае чемодан не будет прилетать уже никогда. Чем я ответил на его предложение, и вы и телефон уже в курсе.
Я вернулся к Джиму и к завтраку, с кирпичом в желудке, поэтому есть уже не хотелось вообще никогда. Джим молча посмотрел на меня, как смотрят лишь люди все знающие наперед, а также мамы смотрящие сверху вниз на своих пятилетних детей, которые не разбивали вазу – она сама… Я поначалу не замечал этого взгляда, потому что у меня перед глазами стояла, точнее ползала на карачках и просила прощения вся Америка, полыхающая адским пламенем. Джимми подлил еще масла в огонь, саркастически спросив: «Ну, что, ковбой, вышибли тебя из седла?» На что я закричал: «Да, да! Вышибли!» На что он своим уже обычным спокойным голосом, которым, я уверен, он убил за этот год многих, попросил не нервничать, и что он всего лишь попросил передать соль. Я как-то сразу смяк на выдохе, как воздушный шарик после близкого знакомства с розовым кустом, и просвистел:
— Я согласен…
Тут же почувствовав, как остатки жадности вместе с амбициями прячутся куда-то глубоко внутри меня за маленькой дверцей с надписью «душонка» и добавил уже более умиротворенно:
— Конечно же я согласен Джимми, куда ты – туда и я. Вот тебе соль, дружище, — и заплакал.
— Вот и славно, — ответил Джимми-дружище. – Мне нужна твоя помощь, единственно, что могут понадобиться деньги возможно много. У тебя есть?
Я сказал, что это не проблема и услышал, как кто-то тут же закряхтел внутри меня за маленькой дверцей.
— Дело все в том, — продолжал Джим, — что я хочу изменить мир и начать хочу вот с этой страны. Одними разговорами тут дело не сдвинешь – нужны действия!
Мы часто в жизни слышим не то, что нам говорят, а то, что мы сами хотим услышать, но только не в этом случае! Здесь я четко услышал «захватить», «мир», «сначала эта страна» и «действовать». В моей голове тут же развернулась детская книжка-карусель с объемными картинками пластиковых ведер, заветного креслица и даже кое-чего побольше! За маленькой дверцей начали хлопать шампанским и играть на губной гармошке. Мое сердце забилось так сильно, как не билось с тех пор, как я однажды в пятнадцать лет заперся в сарае с Бетти Тетчер, что бы впервые предаться изучению друг друга.
Не успел Джим после произнесенного «А», после уже произнесенного «Б», как дверь отворилась и на пороге появилась Елен, в короткой белой блузке, тугой длинной черной юбке и с одним чемоданом, свидетельствующим о том, что объем вагона все-таки конечен, в отличие от бессмертного фермерства! По Елен было видно, что жизнь ее до этого момента была как в сказке, так что и поплакать ни разу не находилось повода, поэтому она решила выплеснуть весь свой запас накопившихся за этот год слез разом. Она попеременно целовала и обнимала, то Джима, то меня – вероятно не в состоянии вспомнить, кто был ее любовником в этой группе самцов. К сожалению или к счастью – это смотря с какой точки и куда смотреть — я не успел достаточно быстро высчитать и вымолвить сумму накопленного мною за год состояния, а считалочка Елен подошла видимо к концу и она остановила свой выбор на Джиме – задержавшись с ним на долгий поцелуй, быстро перешедший из дружеского в черти какой! Я пошел в ванну утирать лицо от чужих для меня слез, слюней и косметики. Выйдя из ванны я услышал, как Елен очень громко и эмоционально реагирует на вероятные рассказы Джима о его путешествии, и при этом умудряется прыгать на моей кровати, вероятно в запале слушки. Я не стал их отвлекать, а понуро поплелся вниз, возвещать людям, что они теперь все безработные. По дороге я расплатился с таксистом, который уже начал искать белокурую клиентку с чемоданом. Я сказал, что ему не стоит ее ждать, она, судя по крикам, доносившимся сверху, летает сейчас достаточно высоко и отпустил его с миром и двумястами долларами впридачу. Близнецы Франклины улыбнулись мне на прощанье своими загадочными улыбками, как будто они знали наперед все, чем это закончится. Я же пожелал им удачи, и чтобы они встречали на своем пути только хороших людей, они кивнули мне, залезая в бумажник, и отбыли на такси в сторону Порта. Мне же навстречу уже спешил один хороший человек по имени Барнс, на этот раз без паровоза, но пыхтя при этом за них обоих, с перепуганным лицом наперевес и, по-видимому, с такими же новостями. При более близком контакте у Барнса обнаружились глаза, находящиеся в крайних положениях орбит и частично утративший свою мягкость язык. Барнс много махал руками куда-то назад, что-то мычал, на знаках препинания топал, но понять его было совершенно не возможно. Я спросил:
-Оно, что, перестало расти?
Барнс на секунду замер, а потом кивнул раз сто. Я был готов к такому удару, и поэтому спокойно сел на землю и засмеялся. Барнс увидев, что шеф сбрендил, сам тут же успокоился, подхватил меня на руки и понес в медпункт. Там меня положили на кушеточку и медсестра… Медсестра! А кто это у нас такой новенький, подумал я, одновременно отметив, что главный прогресс медицины лично для меня заключается в постоянном уменьшении длины халатиков у медперсонала. Я быстренько пришел в себя и скомандовал Барнсу собрать всех на площади. Он переспросил:
— Всех, всех?
Я ответил:
— Да, да.
И старина Барнс побежал, побежал.
Когда мы, наконец, остались наедине с халатом – я спросил у него, как зовут его прелестную хозяйку и кто-то рядышком в ответ мило промяукал: «Марли». Я сказал, что отлично и попросил передать ей, что сейчас со мной уже все в порядке, но поздно вечером мне явно станет хуже и мне может понадобится экстренная и очень профессиональная медицинская и не только помощь, поэтому пусть Марли прихватит с собой побольше марли и прочих интересных медицинских прибабахов – будем играть в больничку. Ну и самого халата я тоже не мог не пригласить, иначе без него все теряло смысл!
А тем временем пролетариат собрался на площади в большую живую кучу, я поднялся на балкон второго этажа чтобы со всей решительностью сказать ему самую пренеприятную правду. Правда я очень быстро испугался их числа и количества, не кстати вспомнив как в старину недовольные рабы жгли плантации вместе со своими плантаторами, и не менее решительно соврал, объявив всем отпуск за мой счет: полю нужно отдохнуть, да и вам… и так в том же духе еще минут на пятнадцать, успев ввернуть пару умных слов которых я узнал, листая однажды журнал «Юный американский агроном» — такие как, «пар» и «севооборот». Как только интерес народа начал сякнуть – это стало заметно по количеству севших на землю и закуривших, я начал закругляться и объявил, что отпускные начнут выдавать в бухгалтерии и очень скоро. Затем последовал короткий и достаточно мирный штурм первого этажа – такой я наблюдал в детстве по CNN, когда передавали, как в Советском Союзе покупают водку. Американцем это так понравилось, что они стали устраивать рождественские распродажи с сумасшедшими скидками, чтобы хоть раз в году посмотреть, что такое очереди и толкучка. Правда рыночная экономика и здравый смысл не позволяли растягивать это удовольствие на целый год – надо было зарабатывать деньги. Но в России об этом, похоже, особо не задумывались, потому что для них главное – это веселье. Поэтому там всегда очереди, веселье и алкоголики.
После получения отпускных, желающих уехать прокутить их в город оказалось столько, что пришлось организовать несколько поездок паровоза Барнса, а также задействовать весь автотранспорт, чтобы увести всех желающих на Большую Землю и к вечеру поселок практически опустел. Затем, чтобы как-то развлечь Джима и Елен, я попросил местных разжечь костры и устроить какие-нибудь ритуальные танцы по любому поводу. На что хитрый вождь ответил мне, что у них на ближайшее время никаких культурно-массовых мероприятий не запланировано. Зная его эти штучки, я сказал, что дух самого Джека Дэниэлса просит оказать ему милость и шлет дары вождям в виде двух поллитров. После недолгих торгов, в ходе которых дух Джека расщедрился до четырех бутылок, консенсус по поводу энтертеймента был достигнут. Затем я сделал распоряжения по кухне на счет торжественного ужина и когда господь наш Тсуи-Гоаб рассыпал по всему небу звезды, мы сели под ними на моем огромном балконе за шикарным столом, а внизу на площади мерно били в барабаны и, взбивая пыль, начали ритмично двигаться среди костров красно-черные тела. Я был на удивление доволен, больше пил, чем ел, Джим в основном смотрел вниз, а не в свою тарелку, Елен же ела так, будто она собирается завтра садиться на диету, минимум на год, и устраивала последний праздник живота. Как только Елен перестала глотать такими крупными кусками, и я мог с некоторой уверенностью сказать, что она может меня не только слышать, но и что-то произнести в ответ, я с той нарочитой пренебрежительностью, с которой задают только самые мучащие вопрошаемого вопросы, спросил:
— А как там старина Джеббс?
Елен прожевала последний кусок, хлебнула полбокала Кьянти долларов так на пятьдесят сразу, открыла свой милый ротик и началась:
«Печальная и трагичная история жизни Елен Смердяковой, а точнее та ее часть, которая проведена рядом с очередным уродом по фамилии Джеббс,
потому что имен у таких как он нет и быть не может»
(расшифрована и переведена на человеческий язык летописцем всех горестных историй, безработным и пока еще миллионером на тот короткий период, Биллом Джонсоном)
* печатается с очень сильными сокращениями, убраны постоянно повторяющиеся слова, бесконечные круговые пересказы, закольцованные обсуждения, существенно расширен словарный запас, а также произведена чистка текста от словесных хламид и прочих литературно-филологических паразитов. Местами сохранен текст оригинала (вам ведь тоже хочется иногда посмеяться, не все мне одному) с комментариями и разъяснениями летописца.
«Пароход был просто чудо!» В этой фразе уже много всего! Это и совершенно искреннее удивление, что эта огромная железная штука, да еще к тому набитая вещами и людьми, не только не тонет, но и держится на воде, и в придачу еще умеет плавать, не смотря на качку – это кого угодно может навести на мысль о божественном вмешательстве. Также не может не поставить в тупик тот факт, что пароход сам знает куда плыть, как будто подглядывает в твой билет, который ты потеряла, но который, оказывается, просто лежал на дне самого большого чемодана вперемешку с открытками котят и писем от них же. Ха-ха! Кто мог их туда положить, ты не знаешь, дорогой? Самые неустойчивые товарищи в этом месте обычно стреляются.
«Все кругом были просто душки!» Фраза антагонист другой, не менее распространенной аксиомы: «Все кругом были просто сволочи!» Обе не требуют доказательств и доводов, лишь бесконечных, объемных как дирижабли подробностей.
«Джеббс был так мил, просто душка!» Это просто опечатки и оговорки – не обращаете внимания, редакторский брак.
«Эльза, эта рыжая…» Тут подставляется любое существительное, которое при вставке в предложение с характеристикой одной женщины другой, неизменно приобретает издевательски-унизительное значение, начиная от личинок стрекозы и заканчивая изощренными медицинскими названиями человеческих органов.
«Ну, там, в одном месте, короче не важно…» Далее мог последовать рассказ о сломанном ногте и описанием отчаянной, но безнадежной операции по его спасению, на фоне поломанного автомобиля, сошедшего с рельс поезда, терпящего бедствие парохода и тонущих в различных позах и стилях пассажиров, рушащихся домов, надежд и логических цепочек. Но фону, как и месту где случилось Большое Женское Горе, не уделялось в рассказе особое значение.
«Я там видела одно такое, красное с…» Дальше можно было как в телевикторине при выборе категории: «Одежда или украшение?», и называть любое слово оттуда наугад и получать баллы.
Этот список можно было продолжать бесконечно, но не хочу тут развенчивать миф о загадочности женской души, логичности подборки собранных в ее сумке предметов и о броуновском движении мыслей под различными прическами. Я лучше попробую вкратце изложить основные пункты программы гастролей алмазного цирка, одного из представителей которого мы только что спасли от голодной смерти.
Поначалу все развивалось по классическим законам жанра — в разных портах Джеббс представлялся по-разному: магнат, продюсер, принц, президент, человек, отсудивший Майкрософт и т.п. В мэрии в честь высокого гостя устраивался прием, заканчивающийся пренепременнейшим дебошем со ставшим традиционным раскидыванием мелких алмазов в присутствующих дам, а затем наслаждение зрелищем мгновенной мутации приличного общества в свору дерущихся сук и кобелей. Но Джеббсу это довольно быстро надоело уже после пятого порта. Попросив высадить его со своей свитой и вагоном на южноамериканском берегу, он приказал капитану уже своего парохода (сделку на покупку он оформил в первом же порту, высадив всех неинтересных попутчиков) двигаться вдоль 37-й параллели и при нахождении следов капитана Гранта или хотя бы Жюля Верна, сделать запись в бортовом журнале и четырежды выстрелить из всех пушек. Следы первого следовало зарыть, а второго попросить не писать больше ста романов. Если же Верн не согласится после третьего выстрела, то четвертым сделать из него восставшего сипая.
В Южной Америке Джеббс купил себе поезд, погрузил в него свой ценный, в прямом смысле этого слова груз, украсил вагоны как на карнавал, набрал сотню музыкантов и отправился на гастроли. Отдельно и заранее выезжал специальный человек, который приезжал в город за сутки, снимал самый большой зал, клеил афиши, возвещающие, то о приезде Майкла Джексона, то Принца, или вот – «С единственным концертом по дороге из Парижа прямиком в ад – Джеббси Моррисон! Вход Бесплатный!» Обыватели валом валили на выступавшего под фонограмму Джеббса, тем более, что перед концертом часто раздавали еду, а после бросались мутноватыми стекляшками – их с удовольствием несли домой детям и ни разу к ювелиру. Так старина Джеббс и его музыкальные воплощения брали города. Но вскоре и эта развлекуха ему надоела — Джеббс явно хотел славы, но как ее достичь он не знал. Денег больше ему уже не надо было, и он все старался сделать так, чтобы их у него стало меньше, но это ему тоже не удавалось. Он прикинул, что если даже он планирует прожить еще сто лет, то ему надо как минимум тратить по двадцать миллионов в день, а у него как он не старался, больше одного потратить никак не получалось. Иногда выдавались совсем уж неудачные дни, когда он тратил всего тысяч сто-двести, тогда он от сознания того, что зря потратил целый день, начинал пить больше обычного, хотя казалось что своего предела он достиг еще в Африке. Его ручная горилла носила тогда бесчувственного Джеббса на руках, а на концертах конферансье быстренько объявляли, что вместо обещанного Элтона Джона будет выступать Мадонна, но зато сразу две – и тут наступали звездные часы уже Елен и Эльзы. Никогда бы не подумал, что люди, которые не могут набрать на караоке больше пятидесяти баллов, могут собирать стадионы!
Джеббс явно метался не зная куда себя приложить. Рассказать всему миру правду о происхождении его богатств он не мог, да никто бы и не поверил, максимум, на который он мог рассчитывать — это беседы с психотерапевтами, да и то за значительные гонорары. Денег заработать много он мечтал всегда, но чтобы столько, он даже не планировал и теперь явно растерялся, не зная, чем заняться. В конце концов, они вчетвером перебрались в Европу, поместили алмазы в надежное хранилище и прикупили недостроенный замок на большом обрыве Лазурного Берега – все достроенные к тому времени уже подраскупили русские олигархи, поэтому пришлось брать неликвид, чтобы было место, где можно было успокоиться и подумать, а заодно подлечиться кое-кому от алкогольной зависимости. Там уже Джеббс запил по-серьезному и активную жизнедеятельность практически прекратил. Елен же с Эльзой не покладая рук потрошили бутики и ювелирные лавки как заправские грабители, единственно, что их встречали, не поднимая руки вверх, и широко их распахивая. Когда в замке начали заканчиваться комнаты, куда можно было бы складывать покупки, начались обычные женские склоки за свободное пространство. Камнем преткновения стала последняя самая маленькая кладовочка во флигеле. Я слушал Елен и не мог поверить, что они вовсе не делили Джеббса, его сокровища, а война между ними развернулась за десять пустых квадратных метров, забитого уже к тому времени под завязку дорогим шмотьем, замка. Все началось с того, что в той комнатке уже давно лежала пара коробок Эльзы со шляпками для легких летних поездок в красном ландо. Елен увидев пустующее помещение, и с ее слов не заметив, а скорее всего все заметив, но не придав чужим коробкам какого-либо значения, забила комнату под завязку своей новой коллекцией зимней обуви. Шляпки, оказавшись внизу, очень плохо пережили такое соседство, в чем убедилась Эльза на следующий день, когда они ей срочно понадобились и она, тщательно разметав коробки Елен извлекла из-под них трупы своих двух теперь уже бывших головных уборов. Они теперь годились лишь для гардероба дрессированных обезьянок с которыми фотографируются туристы на набережной. О чем Елен с удовольствием и абсолютно искренне и вовсе не со зла, сообщила подруге. Эльза не без удовольствия двинула по последней, оставшейся стоять после поиска резко понадобившихся шляп, колоды из коробок ногой, а потом уже по коленной чашечке Елен. Та упала, завизжав, но зато смогла удобно вцепиться зубами в эльзину голень. Та тоже начала визжать и не менее удобно вцепилась Елен в кудри и схватка началась. Жестокая женская борьба в коробках продолжалась недолго, снизу на крики притопал Мак. Он растянул двух дерущихся кошек на расстояние вытянутых рук и понес обеих окунать в бассейн, но по дороге они обе извивались так, будто их несут за хвост. Обе сушили и вылизывали себя до полуночи. Эльза, в силу своего темперамента, ругалась вслух, да так, что итальянская прислуга на кухне крестилась через слово. Елен, тоже в соответствии со своим характером, зализывала раны молча, вынашивая план мести.
План был многоступенчатым и был готов к утру. Для начала Елен взялась за здоровье Джеббса, которому к тому времени стало совсем худо. Она позвала лучших наркологов города и ввела в замке сухой закон. Мак оказался на редкость преданным своему шефу существом и с радостью, на которое только была способна его угрюмая физиономия, принялся кидать годовой запас виски с обрыва в море. Но до этого на тонкие, а за тем на толстые намеки Елен, прислащенные некоторыми движениями из восточных танцев, которые она успела разучить возле шеста за свою короткую и крайне неудачную карьеру танцовщицы, Мак никак не отреагировал, сказав, что он не будет душить подушкой своего патрона, потому что он ему нравится и что каждый месяц Мак отправляет своей маме щедрый чек и она может расстроиться, если ее сын променяет эту благодарность на пожизненное заключение, поэтому Мак лучше сбросит одну белобрысую кошку со скалы и дело с концом. Елен, вытянула перед собой ладонь и сказала, что не надо, тут же перейдя ко второму варианту, а чтобы дать возможность Маку что-нибудь покидать, озвучила идею с виски. Приехавшие на следующий день доктора, осмотрев Джеббса, высказали опасения, что возможно уже поражен головной мозг и возможны некоторые потери личности, памяти и расстройства психики. Елен, провожая гостей до машины, сказала, что нас это устраивает, но будут ли гарантии, что все три эффекта сработают наверняка? Доктора после этого переглянулись, сказали, что позвонят и ретировались на своем мерседесе. Елен позвонила другим докторам, которые приехали на другом мерседесе и сказали, что возможно и даже очень, полное восстановление больного. На этот раз Елен сказала, что сама им перезвонит, они хлопнули мягкими дверками и укатили восвояси, а Елен набрала первых докторов. Те начали что-то мямлить про врачебную этику, но она сразу поинтересовалась, хотят ли они купить новый мерседес, при этом не продавая старый и после небольшой паузы, согласие было достигнуто.
Лечение началось в тот же день: процедуры, капли, массажи, дежурная медсестра, доктора приезжали вдвоем почти каждый день – короче, алиби готовилось серьезное. Джеббсу вроде бы становилось лучше, он снова начал узнавать себя в зеркале, но физически он все больше раскисал и слабел – оно и понятно, мышьяк он еще никому не шел на пользу. Эльза оставаясь, все эти дни в тени и лишь изредка вставляя язвительные замечания, понимала, что первой леди станет та, которая вылечит Джеббса от алкоголизма и это явно будет не она, а ей светит должность секретарши максимум, а после той истории с кладовкой, возможно, получение лишь билета домой, да и то в плацкарте. Но перейти в наступление она не успела, потому что начала чувствовать себя нездоровой и слабой, стала проводить большую часть, а затем и все время в постели, где от нечего делать даже начала читать, так втянувшись в это дело, что болезнь текла для нее незаметно. Бывший владелец царских, но недостроенных помещений всей прочей литературе предпочитал детективы, но и их видать не шибко жаловал, потому что, после продажи замка, оставил всю свою небольшую коллекцию прямо на полу на съедение пыли. Оттуда Эльза и выуживала то Кристи, то Дойла и кувыркалась с ними в кровати. Джеббс, не смотря на интенсивное лечение, все никак не вставал, слабел, но некоторое просветление рассудка у него все же произошло и он просил читать ему вслух газеты, тщетно пытаясь услышать в них, хоть полслова про чудаковатого миллиардера, купившего этот огромный недострой с еще более огромным куском скалы. Но ничего такого не было, ни близко, ни далеко, ни рядом, ни высоко — всем было все равно на славу Джеббса, точнее на ее отсутствие – от корректоров до разносчиков газет и на Мистера Алмаза напала хандра. Доктора тут же сказали, что это депрессия и это нормально после столь длинного и безумного запоя. Но, то что он до сих пор не мог встать на ноги, начало навевать на них нехорошие мысли. Эльзе тоже становилось день ото дня, все хуже и хуже и она уже не вставала с постели. Мак не пил кофе по утрам, поэтому чувствовал себя прекрасно. Елен же была самим материализовавшимся словом «забота», правой рукой Матери Терезы и стояла на переднем краю борьбы с милосердием. Все шло хорошо к двум неспешным похоронам, но тут как всегда это бывает в книжках (и эта не стала исключением), случилась досадная мелочь, из-за которой все пошло не так. Эльза совершенно случайно, с некоторым усилием и сопротивлением со стороны интеллекта, дочитала детективный роман, где кого-то там травили и таки дотравили мышьяком. Эльза сложила один плюс один, потом еще прибавила два. Затем удивительно хладнокровно для своего темперамента, но главное из последних сил, спустилась на кухню и, вырвав у кухарки из рук огромный нож, начала подробно спрашивать, что именно подают мистеру Джеббсу. Кухарка в страхе позабыла имена всех своих знакомых святых, но зато смогла быстро перечислить меню за последние две недели, пока не уперлась спиной в стену. Оказалось, что хозяин есть всегда разное, так как аппетит плохой и его постоянно тошнит, то пробуют каждый раз разные блюда. Но есть одна маленькая деталь – оказалось, что по утрам он всегда пьет кофе, варит его кухарка, но носит сама мисс Елен, так как это входит в обязанности святых жертвенниц, так что спрашивать лучше у нее. Эльза покарабкалась к себе наверх и посмотрела внимательно в глаза кофейнику с которым к ней в комнату по утрам, проведав перед эти Джеббса, входила Елен, чтобы напоить подругу утренним кофейком, болтать и поделать вид что они помирились. Эльза схватила кофейник за нос, затрясла его и сказала, что знает все! И только чистосердечное признание сможет сгладить вину! Тогда он снова сможет занять свое почетное место в буфете в окружении расписных крутобердых кружечек-подружечек, а не закончить свою пустую керамическую жизнь на свалке с оторванным носиком или проломленной в двух местах крышкой! Кофейник испуганно закивал и дребезжащим голосом во все сознался. Беря силы в долг у космоса, Эльза подкараулила у выхода сменившуюся медсестру и сунула ей в одну руку подозреваемый кофейник, а в другую плотный конверт, в котором обычно любят лежать деньги. Медсестра быстро пропела: «О, спасибо, мисс!» И готова была уже бежать впереди автобуса по маршруту магазинов, который был уж давно и не раз размечен у нее в голове на такой вот случай. Но Эльза задержала ее малеха, проверив на прочность воротник ее плаща и сказала, не разжимая зубов в которых держала ухо несчастной, что она получит еще столько же, если завтра принесет результаты лабораторного анализа содержимого кофейника. Медсестра быстренько сложив один плюс один (к слову сказать в ее ситуации практически все люди начинают очень быстро складывать), пришла к выводу, что, во-первых, все рыжие американки – суки, во-вторых, что маршрут по магазинам можно пройти и завтра, но только он будет ровно в два раза длиннее и во столько же раз приятнее. Медсестра пискнула в виде ответа: «Хорошо, мисс», и мышью юркнула в дверь навстречу автобусу с кофейником наперевес, а Эльза выплюнув ее сережку, поползла наверх штудировать старушку Агату, что бы точно знать как там Пуаро всех рассаживает в конце, что бы рассказать кто убийца.
Утром все прошло как по нотам: Эльза собрала всех в комнате Джеббса, больше напоминавшей тронный зал, и, меряя комнату ногами, а присутствующих взглядами, рассказывала с полчаса обо всех подробностях несостоявшегося преступления, постоянно подкручивая несостоявшиеся усы. И когда в конце все доводы и особенно главный из них – красный наманикюренный палец Эльзы указал на преступницу, а Джеббс самолично дочитал последнюю страницу экспертизы кофейника и повернул к Елен голову, та вскочила как пантера, готовая парировать все до одного доводы обвинения, так много набрав воздуха в грудь, будто собиралась произнести самое длинное предложение в своей жизни. Но тут в игру вступил Мак, одной фразой подстрелив хищницу перед прыжком:
— А еще она предлагала Вас, босс задушить подушкой.
Елен выдохнула уже за оградой, ее выставили в чем была, единственное, что она успела прихватить – этот первый попавшийся под руку чемодан. Доктора, которые божились костьми Гиппократа, что их самих хотели подставить, поехали вместе с медсестрой домой на автобусе, потому что их мерседес перед этим поехал с обрыва. Мак предлагал покидать вслед и этих людей в белом, а также эту белобрысую Макбет. Но Джеббс явно стал добрее, когда понял, что он уже не умрет, и все виновники были прощены и отпущены пинками под зад.
На этом заканчивается печальный рассказ из жизни богатых и знаменитых отравительниц. Естественно, что история, рассказанная нам Елен, рачительно отличалась от той, что пересказал я. Еще тогда, на балконе мне закрались сомнения в правдивости елениной версии произошедшего, которые подтвердились более правдивым рассказом другого участника тех событий, но это будет лишь через главу… Вам, же я поведал уже окончательный, максимально правдивый вариант. Пока же Елен, поднакопив за день слезы, снова рыдала на плече у Джима, я про себя отметил, что хорошо, что я не пью кофе, а ребятам на кухне я передам, чтобы этого бесеныша в юбке не подпускали к еде на прицельный выстрел из двустволки.
Мы все немного притомились и засобирались спать. Я постелил себе на балконе, молодым отдав свою спальню, но сам долго не мог заснуть. Я смотрел на звезды, вспомнив, что последний раз смотрел на них в первый день своего конопляного бизнеса и теперь вновь смотрю вверх — в последний. Все это было явно не просто так, и я это очень отчетливо понял, как будто услышал какой-то щелчок. Но никто не щелкал. Я еще долго не мог заснуть — только внизу по-прежнему негромко били в барабаны, да Джимми рассказывал пару раз Елен какие-то страшные истории из своего путешествия, от которых она иногда вскрикивала, но все равно просила еще.
А я никак не мог заснуть и чтобы как-то развлечься, встал, облокотился на перила и начал швырять с балкона местным мелкие монеты, чтобы они прекратили играть и танцевать. Играть действительно прекратили и быстренько растащили догорающие костры на головешки, чтобы освещать шарящие в пыли руки. У меня еще оставалось пара монет, но я прекратил эту игру в бога, вдруг поймав себя на мысли, что поступаю в точности как и Джеббс. Я сжал кулаки и отдернул руки. Местные стояли внизу, задрав головы, но я больше не подавал и лег снова на свое ложе – я был слишком огорчен тем, что поступал так же как мой бывший ненавистный босс. Хотя я был им слегка разочарован: при отсутствии денег, его фантазия бурлила как черепаховый суп на большом огне, а когда о деньгах не надо было уже думать, то он скис, сдулся и начал банальнейше спиваться. Я хоть и ненавидел его всей душой, но и любил, точнее завидовал всем сердцем, его настойчивости, харизме и изворотливости. А теперь я был разочарован – я ожидал услышать более веселые истории от Елен о приключениях Джеббса, захватах мира, ну или хотя бы о таких тщетных попытках. А услышал дешевую детективную историю о странствующем алкоголике. Правда, судя по всему, Елен таки излечила его от алкогольной зависимости, а заодно и от кофейной. Так что я был совершенно уверен, что мы еще о нем услышим и не раз! Хотя, как показали дальнейшие события, лучше бы Джеббс продолжил пить для собственного же благополучия…
Глава четырнадцатая
За завтраком, между яичницей и чаем (кофе, я сказал, что кончился) Джимми объявил нам, хочет поиграть в революционеров, а если точнее, то освободить народ этой страны не только от ненужных церковно-религиозных рамок, но и от кандалов правящего режима. Мы тут окопались на периферии и не видим, что вокруг происходит, в других городах, в Столице, во всей стране! За Джимом, оказывается, уже полгода как находящемся в розыске как государственный преступник, подрывающий основы свобод вероисповеданий и государственного устройства, велась настоящая охота местной охранкой. Джим сразу мне напомнил Буратино, на которого спустили всех полицейских собак, за то, что он обманом выманил у маразматичной черепахи золотой ключик, не хотел возвращать его законному владельцу, а готовился открыть им свой бизнес, уверяя всех, доверчивых тряпичных кукол из своего окружения, что это будет некоммерческий театр.
— За что же тебя ищут, милый? – пропела свою короткую арию птичка Еленка, намазывая хлеб маслом своему герою.
— За правду. Я ничего нового не говорю, но люди меня слушают, а правительство видит во мне угрозу… — отвечал, будто писал на граните будущая легенда народного эпоса. – И поэтому я здесь и мне нужна ваша помощь.
Говорят, что женщины говорят быстрее мужчин, не знаю. Но пока я выговаривал, как оказалось слишком медленно длинное слово: «Да». Елен успела вкинуть передо мной фразку: «Конечно же, дорогой!», передавая Джиму бутерброд и успев спросить у меня: «А тебе сделать, Билли?» И только потом все, и в том числе и я сам, услышали от меня ответ: «Да». И получилось, что я отвечаю на ее вопрос, а не на его. Но Джима, похоже, это не особо волновало – он принялся жевать свой хлеб и смотреть вдаль, как минимум пытаясь рассмотреть какой счет сейчас у янки, играющих по ту сторону океана в нападении. Когда уже унесли посуду и начали вытирать стол, Джим очнулся и ответил нам:
— Хорошо.
Хотя я уже успел придремать, а Елен два раза покурила.
— Елен, нам необходимо написать несколько писем. А ты, Билл, сможешь обеспечишь их доставку? – спросил Джимми.
Лично мне совсем не нравилась эта идея с революцией. За этот год произошло много чего – повоевав с картелем, уйдя от карающей лапы ЦРУ, наладив и потеряв бизнес всей своей жизни, я думал, что с меня достаточно впечатлений и теперь в любой пивнушке мне запросто обеспечен бокальчик за мои байки, поэтому в новый бой я вовсе не рвался. Поднявшись и потянувшись, думая при этом как начать бойкотировать процесс — наверное, для начала сослаться на отсутствие транспорта, я заметил, что как назло, начали возвращаться автомобили, на которых возили в Порт отпускников. Вдобавок ко всему с ближайшего из них, крикнули:
— Все сделано, шеф, еще будут распоряжения?
Я застыл в высшей точке потягушек и подумал, что мне трудно будет в таком положении отказать Джиму. Точнее не трудно, а как-то сложно и я произнес, становящееся уже чересчур популярным в это утро слово: «Хорошо».
Ребята, которые давно и прочно державшие эту страну одной крепкой рукой за рога, а второй, не менее твердой доя ее в свое большое пластиковое ведро, как могли, вряд ли будут рады каким либо изменениям не в их сторону. О нас ведь даже не будет некролога в воскресной газете, о нас не скажут в новостях – пропали, мол, без вести. Они даже в деревню войска вводить не будут, сохгут все к херам из танков или вертолетов. И парни из картеля покажутся детьми. И вот с этими взрослыми мальчиками Джимми решил поиграть в опасную игру. Он устроил свой штаб прямо на моем балконе, благо он мог вместить человек сто с тарелками и бокалами и народ начал потихоньку стекаться к нам со всей страны.
Может, конечно, у меня неправильно представление о революциях, но за тот месяц, в течение которого наша деревня превращалась в центр сопротивления – я не заметил ни одного ящика с оружием. Прибыло уже множество людей и с каждым днем их число все увеличивалось, но у нас не было даже саперных лопат, чтобы попытаться переквалифицировать всех этих рекрутов в хотя бы подобие легендарного советского спецназа – stroybat.
Наше поселение теперь больше напоминал лагерь беженцев, и старику Барнсу приходилось каждый день гонять на своем паровозике в Порт за гуманитарной помощью, покупаемой во славу революции, но, правда, за мой счет. Еду раздавали прямо с вагонов, поэтому всегда образовывалась небольшая давка, хотя продукты привозили с излишком. Излишки, правда, догрызали уже к утру и Барнс, кряхтя и матерясь, раздувал пары и после обеда, когда поезд возвращался обратно забитый продуктами, снова происходила раздача с давкой и толкотней. Народ был наверняка сыт, просто ему явно не хватало развлечений, хотя Джим и пылесосил им мозги утром и вечером массово, и некоторым еще и в течение дня. Но как по мне, то многие сползались к нам не за сокровенными знаниями и просвещением, а тупо пожрать. Иногда мне казалось, что мы уже содержим полстраны, и стоит совсем немного подождать и к нам присоединится и вторая часть, и тогда революция уж точно будет бескровной. Меня даже больше раздражало не то, что все они кормятся на мои деньги, а то что я не получаю за это никакого морального удовлетворения – они даже не приседают передо мной, когда я спускаюсь со своего третьего этажа в народ. Работницы офиса ко мне уже не ездили, да и лифт в сейф, куда я перебрался жить со своими медвежатами, не ездил. В основном девочки занимались тем, что бегали по распоряжениям Елен и смотрели в рот Джиму, а в свободное время ходили по рукам и травили анекдоты из нашей прошлой совместной жизни. Наоми, которая уже почти год жила в Порту и занималась отправкой нашего «товара» Майки, теперь переключилась на закупки продуктов для нашей «армии», и по слухам открыла уже третий собственный магазин на главной улице города. Но даже она интересовалась, что там у нас происходит? А у нас ничего не происходит! Просто Джимми с ума сходит и сводит туда же всех окружающих.
Елен окончательно перевоплотилась в Деву Марию, сошедшую с небес к нам на землю для утоления, утомления и управления страждущих и других, попадающихся на ее пути людей. Не смотря, на все мои старания, она в два дня все тут захватила: сначала мою кровать, потом комнату, потом весь этаж, бухгалтерию, кухню, мозг кухарок и сердца секретарш. К концу недели уже все плясали под ее дудку, и если бы она была маленьким маньяком Нильсом, то могла бы уже смело всех вести за собой топиться в ближайшее луже. Я же отступил на последний рубеж – в свой сейф, который взять ей не удалось, так как я его покидал его достаточно редко, дверей не отпирал, а дел у Елен к тому времени было слишком много и она оставила меня в покое. В просторном, хорошо вентилируемом сейфе-бомбоубежище мне было хорошо и комфортно с моими маленькими друзьями. Медвежатам было со мной не страшно, а мне с ними не скучно – мы играли с ними разные игры, иногда начинали считать все вместе деньги, но быстро утомлялись примерно на десятом миллионе. В другие помещения я выходил редко, с тех пор как в них закончились даже стоячие места, на улицу тоже – весь поселок был окружен морем палаток и копошащихся между ними людей. Вечером, стоя на своем бывшем балконе, на который меня иногда любезно звала ужинать Елен, можно было стойбище Чингисхана — костры до самого горизонта. К концу месяца начали постепенно возвращаться мои работники с побережья, кто раньше, кто позже, в зависимости от того, кто и как прокутил свою получку за полгода. Их привозил маленькими грустными кучками верхом на мешках с провизией Барнс, и они сразу же куда-то девались в этом вавилонском сборище, ассимилировали и растворялись бесследно как лед в теплом виски. Охрану Джимми разоружил и распустил еще на второй день после своего прибытия, поэтому из оружия у нас остались лишь копья местных, но те их надежно хранили в своих хижинах в несгораемых шкафах, под замком со снятыми наконечниками. Местные на улицу выходили чаще меня, улыбались, исправно ходили получать вместе со всеми еду, но отнюдь не спешили сливаться с многотысячным ежедневно все прибывающим и прибывающим сбродом. Хотя на первый взгляд они отличались друг от друга лишь одеждой, точнее практически полным отсутствием ее у одних и частичным присутствием у других. К слову будет сказано, что кроме чернокожих, в рядах будущих революционеров и участников нового крестового похода детей, были и белые собратья, в основном молодежь, дети колонистов, двое были в очках, одного из них я даже однажды застал с книгой.
Самая большая беда была с водой — ручей очень быстро перестал справляться со своими обязанностями и взял таймаут до сезона дождей. Пришлось дать задание Барнсу прикупить в Порту цистерну и возить каждый день еще и воду. Естественно за водой тоже была давка, толкалка и разливалка. Дров также не было и тут не обошлось одной платформой – прицепили сразу три, но бревна с них к вечеру куда-то растаскивались и приходилось на утро вести новые. Постепенно поезд Барнса превратился в состав, я бы даже сказал — эшелон.
К исходу первого чемодана я спросил у Джима, что происходит и чего мы все ждем? В ответ он одарил меня лучезарной улыбкой умалишенного средней степени тяжести человека-цветочка и сказал, что осталось еще недолго и скоро прибудет основная группа.
— Это что еще не все? – и я махнул горизонту рукой и тот ответил мне отблесками огоньков на дальних барханах. Джимми снова улыбнулся и отправился на вечерний обход своих последователей, неся им в подоле благодать.
В следующие два дня население нашего, не могу сказать уже поселка, а скорее всего города, страждущих, вечно едящих, пьющих и поющих, увеличилось еще раза в два. Продолжая биологическую цепочку жизнедеятельности этих людей, а также учитывая их количество, вы можете представить себе, сколько было построено сортиров! Хорошо еще, что в этой части планеты было не модно мыться, поэтому душевые, слава богу, возводить не пришлось. Каждую из прибывших групп возглавлял кто-то из приближенных Джима, многих среди них я узнал, правда, с некоторым трудом, когда нас пригласили всех вместе на Большой Совет — некоторые из них были те, кто ушел за своим светочем год назад, но были и новые. Старых я еле признал – все они выглядели несколько странновато, смотрели как бы сквозь тебя, вероятно сразу в Истину, говорили подвывая и моргали своими выпученными глазами не чаще одного раза в четверть часа. Я однажды, довольно давно видел такого человека, его везли по больничному коридору в колясочке – он был после лоботомии и ничего путного уже не говорил, впрочем, как и эти.
Так вот, нас созвали на Большой Совет, хотя как по мне, он больше напоминал Большой Обед, потому что проходил на том самом балконе, под звон посуды и единственным его отличием от простого обеда, было наличие большего числа едоков и карты страны постеленной вместо скатерти. Предыдущие обеды я часто пропускал и мне приносили еду в мою темницу, но этот пропустить никак было нельзя, так как обещали вкусный десерт. По этому случаю я даже решил одеть, наконец, свежую рубашку, распахнул свой шкаф, но увидал там только платья, юбки и блузки, и, причем, все не моего размера. Пока я вспоминал, когда и в каком угаре я мог себе прикупить все это барахлишко, Елен подошла ко мне сбоку с такой силой захлопнула дверку, сделав все, чтобы прищемить мне палец, но ей удалось лишь ущемить мое самолюбие.
— Билли, — начала она тоном, каким женщины в первом классе начинают понукать своим соседом по парте и потом за многие годы доводят обращение к тебе по имени до разряда ругательства. – Твоя мама разве не говорила тебе, что неприлично ковыряться в чужих вещах?
Я внутри себя вспылил, и мне резко захотелось перестать быть новичком в делах по битью женщин и стать экспертом по их расчленению, но произнести вслух я смог лишь:
— Но я же в своем шкафу?
На мое оправдание Елен удосужилась лишь ответить мне универсальным жестом всех женщин, используемый, когда они натыкаются на очередную непроходимую мужскую тупость: повести плечами, повернуть от тебя голову в бок и поднять вверх глаза, поискать ими брови, брови в ответ ползут по складкам лба знакомиться с линией волос, мол, мы ваши родственники, здрасьте! Женщины делают это за секунду, затем демонстрируют, как они умеют шумно дышать носом. Показав, что умеют хорошо, возвращают себя в исходное положение и пристально смотрят на тебя как на вражеский подбитый танк. И вот, теперь, после этого, чтобы ты не сказал – ты будешь не прав! В споре с женщиной, как с задержанием полицией – все, что вы скажете, будет использовано против вас. Правда в суде, у тебя, по крайней мере, есть надежда, что против тебя используют именно твои слова, их не перекрутят через мясорубку или не выжмут в стиральной машинке и не бросят обратно с таким финтом и смыслом, что ты ни увернуться, ни приготовиться не успеешь. Бац, и ты уже обтекаешь! Спорить с женщиной, то же самое, что драться с боксерской грушей, ты рано или поздно выдохнешься, а она будет продолжать, мелькать перед тобой, дразниться и скрипеть, называя тебя при этом слабаком. Ты можешь, правда, переусердствовать и в сердцах порваться грушу, но тогда все в спортзале остановятся, и будут смотреть на тебя с укоризной, и сами боксеры, и их груши, которые будут вдалеке раскачиваться и негодующе поскрипывать. А твоя будет плеваться наполнителем, через рваную рану и кричать: «Гад, козел, смотрите – он меня бьет!» Причем замена старой, надоевшей, и уже в трещинках покрытия груши, на более новую, ничего не дает, заканчивается все всегда одним и тем же. Понимая все это, я втянул голову в плечи и побрел в раздевалку, на ходу зубами развязывая перчатки и размазывая по ним свои слезы.
Но это все было перед советом. На нем самом я успокоился, уселся на угловое место, и карта, постеленная под приборы, оказалась ко мне боком и Атлантическим океаном. В перерывах между первым блюдом и последовавшей за ней длительной борьбой с бифштексом, я пытался, сильно вывернув голову, прочесть название одного портового города, но расширить свои географические знания никак не мог, так как оно было от меня и боком и далеко, а потом вообще, кто-то закрыл последние две буквы своим стаканом. В конце концов, я понял, что не готов менять чересчур тяжело получаемые мною данные об этом населенном пункте, на искривление шейных позвонков, и полностью погрузился в трапезу, а зубы в бифштекс. Слушая на выбор, примерно одну произносимую на совете фразу из пяти, я, тем не менее, понял, что Джим сотоварищи, уже практически парализовали работу нескольких отраслей хозяйства страны, в том числе и тем, собрав тут множество ключевых специалистов, без которых машина экономики, если и не перестала еще работать, то ей осталось недолго мучатся. Но это было только начало — все остальное население страны, состоящее в основном из сочувствующих, колеблющихся, а также живущих по принципу: «Куда все – туда и я», уже стояло в нижней беговой стойке, и только и ждала активных действий от восставших – это от нас типа, чтобы как после выстрела из стартового пистолета, лечь на свои колодки и сказать, что дальше они так жить не могут. Страну хоть и освободили лет десять назад от колониального прошлого, но партия, под знаменами которой, это было сделано, решила что теперь может творить все что угодно – за все заплачено, в том числе и их собственной кровью. Лидер революции, был как бы до сих пор популярен в народе, но пообщавшись с этим самым народом по забегаловкам и рабочим столовкам, можно было однозначно прийти к выводу, что многие бы снова хотели стать колонией, лишь бы платили как раньше и было что кушать. Но партия и правительство уверяли всех, что надо еще немного потерпеть – осталось немного. Это было верно, от страны действительно осталось уже немного, так как у кого все забрали во время революции (в основном иностранные компании), им же обратно и продали, а если бывший владелец был чересчур горд или жаден, то их конкурентам. Люди в этой стране жили прекрасно, правда, людей этих было немного, процентов пять, не больше, многих из них я видел на одной железнодорожной вечеринке. Как жили остальные негры – эти пять процентов особо не волновало. Эта тема тоже долго обмусоливалась на собрании, которое начался за ранним завтраком, плавно перетекшего в поздний ужин, где-то по пути сглотнув обед. Очень редко выпускали до ветру. Потом долго решали, ждать ли еще одну, задерживающуюся партию, голосовали, тянули бумажки, ставили какие-то крестики – короче, играли в какую-то настольную игру в демократию для детей от двенадцати лет и старше. Я тоже решил однажды внести свой вклад в дело революции и спросил когда будет торт с черносливом. На что Елен недовольно фыркнула и сказала, что мы находимся практически на военном положении, так что теперь не до чернослива – торт будет с простым безе. Больше у меня вопросов не было. Затем Джим быстренько уговорил всех, что выдвигаться надо завтра с утра и на этом все разошлись паковать чемоданы. Елен осталась мыть посуду.
Оказывается у безумных утро наступает тогда, когда у нормальных людей лишь едва успела наступить ночь. Я успел только закрыть глаза, как в дверь сейфа постучали, судя по звуку – минимум гантелей на сорок фунтов, и сказали, что уже все выдвигаются. Пока я искал свои трусы, было дополнительно сообщено, что благороднейшей Елен для меня был любезно выделен один грузовик и двое сопровождающих к нему. Я быстренько запер сейф и поскакал, мимо сновавших всюду приближенных Джима, сначала в ванную, глянуть в зеркало над умывальником, что за монстр сегодня там живет, а затем, вдоволь наплескавшись и наухавшись, на балкон – копошиться по чужим тарелкам, так как завтрак был уже завершен без меня. Жуя чей-то недоеденный бутерброд с семгой, я взглянул сверху на то, что творилось внизу — впечатлило очень сильно: весь мир пришел в движение. Народ, находясь до этого статично не создавал такого эффекта массовости происходящего, но сейчас, когда все покатилось и задвигалось, я понял, что нас очень много, мы сила и мы способны дойти хоть до Китая, всех побеждая на своем пути! На бутерброд этот вид произвел не меньшее впечатление, и он прыгнул прямо с балкона к отправляющимся гражданам. Скатившись вниз по лестнице в бурном потоке жаждущих революционного путешествия, я увидел стоящий у входа грузовик набитый людишками, сидящего в кабине на месте пассажира Барнса, а на кабине его помощника, того самого кочегара, будем звать его Тони, потому что я все равно не помню как его зовут, а писать постоянно «помощник Барнса» после самого «Барнса», будет как-то совсем не по-американски. Барнс сидел с видом человека эвакуирующегося из Дюнкерка, а Клаусу, так вроде звали его помощника, было все равно, он сидел на крыше — у него была привычка во время отдыха сидеть на крыше паровоза и тут он тоже себе не изменял. Я сказал Барнсу, чтобы он не расстраивался и что у его паровоза даже не успеют сгнить все колеса, как мы уже все вернемся обратно после каторжного заключения. Чтобы старый машинист не хандрил, я приказал ему для начала повышвыривать всех желающих поехать на революционную борьбу с комфортом из кузова автомобиля, а Мартину – так звали его помощника, пойти со мной за вещичками. Чемоданы были тяжелые, и таскать их можно было лишь по одному, и нам постоянно мешали люди, лезущие по головам к светлому будущему и часто мешавшие нам, особенно, когда мы пытались подняться обратно на третий этаж. Сейф было тоже очень долго открывать и закрывать, но бросить его незапертым я тоже не мог. Внутри меня тоже подстерегали трудности личного характера – за мою одежду постоянно хватались медвежата и умоляли взять их с собой или хотя бы оторвать у них по лапке или по ушку на память. Я был слегка шокирован таким предложением, долго колебался и выбрал, в конце концов, их плюшевые уши – и возни меньше и хранить удобнее. Некоторое время ушло на создание памятного ожерелья из мишкиных внешних слуховых органов, да и чемоданов оказалось немного больше, чем я думал, короче управились мы лишь к полудню. Хорошо еще, что у меня к тому времени не было уже личных вещей, ибо все мои наряды раздались особо страждущим и практически голым революционерам, поэтому я отчаливал из своего чертога налегке. Мы были уже готовы примкнуть к хвосту маршевых колонн, как оказалось, что никто из нас троих: меня, Барнса и Мишеля (помощник Барнса), не умеют водить грузовик. Я мог бы конечно признаться, что несколько раз ездил на велосипеде, а также в состоянии профессионально сигналить практически на любой модели автомобиля, но думаю, что моих знаний может оказаться недостаточно, да и в кузове на своих чемоданах, в тени брезента я буду чувствовать себя намного спокойнее, чем за рулем. Барнс сам вызвался вести грузовик, уверяя, что его знаний и опыта в вождении паровоза будет достаточно для управления грузовиком, но ему следует лишь слегка подучиться. Его помощник – Трофим (согласитесь довольно странное для темнокожего парня имя, это меня еще тогда удивило) сказал, что с удовольствием станет штурманом нашего экипажа, тем более, что он два раза смотрел репортажи с гонок Париж-Даккар и у него даже есть фирменная наклейка, но сейчас он не может нам ее показать. Я разрешил ему занять эту должность, хотя на нее мог претендовать и любой однорукий шизофреник, который показывал бы дорогу, махая рукой вперед, в облако пыли от медленно двигающего вперед нашего племени. Мы расселись по местам, и я почти сразу уснул, полдня проведенных в беготне и бессонная ночь пришли за сдачей.
Проснулся я уже ближе к вечеру от отсутствия тряски и подумал, что сейчас привал. Это был действительно он, правда, на том же самом месте, что и старт поездки – в полностью теперь опустевшем поселке, из которого ушли даже местные, так как решили, что эвакуация с этой планеты все-таки началась. Грузовик стоял посередине площади, рядом бродила последняя оставшаяся в живых курица, а предпоследнюю спокойно дожаривали на костре Барнс и его помощник, я не помню все-таки, как звали этого недомерка, но собственного имени он точно не заслуживает. Водитель паровоза, а теперь заодно и грузовика сказал, что он прошел за сегодня небольшой тренировочный курс по вождению автомобиля, состоявшего из теоретической и практической части и даже сдал зачет. При этом его помощник – не могу их больше называть идиотами, болит язык и опускаются руки – кивнул, чтобы я наверняка понял, кто принимал зачет у Барнса, который добавил, что как только курица достаточно прожарится, ее можно будет съесть и тронуться в путь, но вот только не понятно куда, потому что исходящий народ ушел достаточно далеко, да и темнеет… Я почувствовал, что уже тронулся вместе с ними двумя, но смог собрать себя в кучку и применить все свои организаторские способности, состоящие из пяти матюков и двух затрещин, запихнул всех троих вместе с недожаренной курицей в кабину и мы, пусть не с первого рывка, но все же поехали. Ехать нам пришлось по пустыне, так как тут везде пустыня. Направление мы примерно знали, и на земле остались следы от прошедшего здесь недавно полчища. Да, вы не ослышались, мы ехали по земле, а не по песку, потому что пустыня, это не только там где песок, пустыня, это там где ни хрена не растет. Ехали мы долго, много плутали, теряя след и только глубокой ночью, когда в свете фар начали вскакивать с земли и разбегаться в разные стороны люди, я понял, что мы догнали своих.
Утром была снова ранняя побудка. Выступали, не завтракая, так как особо было нечем. Кто-то совершил намаз, кто-то быстренько помолился, Джим совершил свой ставший впоследствии обязательным, утренний обход своих больных. С кем-то он заговаривал, к кому-то прикасался, мимо кого-то просто проходил, но всех заряжал какой-то особой энергией, так что даже если не проходил мимо тебя, то есть не хотелось до самого вечера. Вечером, вдоволь нашагавшись на солнцепеке, ты хотел только лечь спать, но так, чтобы проснуться утром у себя дома. А следующее утро было точно таким, как предыдущее – ты вставал голодный и с испорченным настроением. Но как только пробегал как легкий ветерок перешептывание: «Идет, идет», ты сразу начинал искать Его глазами и даже пытаться подпрыгивать, чтобы хоть на миг увидеть Его фигуру. К сожалению даже в самые удачные прыжки, ты не видишь ни Его, ни его лица, только по позам и колыханию людей вдалеке ты понимаешь, что Он где-то рядом, рядом с тобой. И вот на миг головы расступились и, подпрыгнув, ты на миг увидел его спину, Его Спину, и ты не мог перепутать, это точно был Он. Сразу нахлынула волна воспоминаний чужих рассказов о Нем, и голода как не бывало, и ноги не болят, и хочется идти, а поначалу даже бежать – лишь бы за Ним! На таком вот энтузиазме мы протопали, а кто и проехал пять дней, затем запал начал заканчиваться, впрочем, как и еда, и бензин. Вода закончилась за день до этого. Кое-кого положили в грузовики, кое-кого из них, потом пришлось прикопать. Не успел начаться голодный бунт среди самих революционеров, как одному городишку вдруг не повезло – мы до него добрались. Я видел в детстве, что делает саранча с кукурузными полями, но тут и ей было чему поучиться. Городок мирно подремывал в послеобеденном сне, когда в него вторглись революционные массы и начали творить то, что обычно творят в таких случаях революционные массы, за исключением разве что зарегистрированных случаев сексуального насилия. Джим и другие члены реввоенсовета, только к вечеру успокоили своих соратников по борьбе, но к тому времени было уже поздно — количество разгневанных жителей уж достигло очень критической температуры кипения терпения и было готово выпустить свой пар негодования на головы восставших. Кое-где в проулках начались репетиции гражданской войны. В конце концов, после того как борцы за свободу утолили свою жажду и голод, появилась возможность их усмирить и снова направить в нужное место. Сложнее было с местным населением, у многих оказалось на руках оружие, достаточное количество патронов, но недостаточный уровень толерантности по отношению к революционерам. Мы же, как я уже говорил, шли свергать власть с голыми руками, не взяв с собой даже достаточного количества шапок, надеясь похоже на то, что правители настолько зажрались, что их тугие жирные животы полопаются от смеха, когда они увидят наш легион бомжей под своими стенами. Но сейчас надо как-то было успокоить местное население, и кто-то вспомнил про доброго дядю Билла. Меня разыскали, привели поговорить, хотя до этого в упор не хотели замечать. А до Джима мне так вообще было нереально добраться первое время. Я приехал на своем грузовичке на центральную площадь и устроил повальную компенсацию для всех пострадавших от набега. Когда чемодан показал мне свое дно, а в очереди потерпевших, я стал все чаще замечать пыльные революционные лица – я свернул свой офис, а всем недополучившим моей любви, предложил прийти завтра в десять утра на это же место, но уже с полным перечнем ущерба и требуемой суммой компенсации. Многие поверили и разошлись. И тут ко мне подошел Джим, мы обнялись и, судя по выражениям тех лиц, что я успел рассмотреть краем глаза, стало понятно, что у меня вырос нимб и обулись сандалии. Пока ночью все население от мала до велика, считало и пересчитывало сметы убытков, наше войско тихонечко снялось с места и покинуло город еще до рассвета. Днем, на привале, я предложил Джиму, что для того чтобы в следующий раз не пришлось так сорить деньгами, надо отправлять вперед интендантов, которые заранее, к прибытию основной массы, успеют заготовить еды, воды и место для ночлега — так будет и удобнее и денег меньше потратится. Джим как-то очень странно на меня посмотрел, будто взвешивая мой мозг, прикидывая процентное соотношение во мне доброты к скабрезности и судя по всему, остался не очень доволен полученным результатом, но, тем не менее, посоветовал мне поговорить по этому поводу с Елен. Мне не хотелось знаться с этой особой, но милая Елен обставила все как нельзя лучше. Она вынырнула откуда-то из толпы ближайших последователей, вечно гурьбой везде следовавшей за Джимом, так что ему было очень удобно в пустыне справлять естественные надобности – они просто окружали его плотным кольцом и поворачивались к нему спиной. Остальная же часть путешествующих в некомфортных условиях восставших, была вынуждена приобщить к этому делу картонные коробки без дна. Едешь ты или идешь в колонне, глядь – кто-то сидит наполовину в коробке, думаешь, зачем он это делает? А потом как приспичит самому, так начинаешь бегать, занимать. Скоро все обзавелись персональными, или общими коробками, их можно было складывать и носить с собой в походном положении, особо умные и ловкие в процессе умудрялись еще и читать. Так вот, Елен, отодвинула штакетину в этой живой ограде окружавшей Джима и бросилась мне на шею с криком: «Билли!», так, что несведущие люди, а они тут были почти все такие, могли подумать, что у нас с ней как минимум несколько общих детей и годы разлуки. Знаете, я вообще по природе не обидчив и меня легко уговорить, а еще легче послать. В общем, уже через десять минут я на своем грузовичке с сами знаете каким экипажем, усиленный еще двумя джипами с такими же сообразительными парнями, что и мои, выдвинулись в авангарде нашего воинства света на поиски следующего города или поселка. На другой день мы его обнаружили – в пустынях тоже есть иногда дороги, по ним ездить намного удобнее и они всегда выводят к тому месту, где массово и давно живут люди – это я сам для себя отмечаю, вы можете за мной не записывать. Затем я занялся закупкой фуража и организации загона для нашего стада, а джипы вернулись в пустыню ловить его и загонять на меня. Уставшие путники получили все что им было нужно, город остался не разоренным и в тоже время с достаточным финансовым вливанием, Джим смог спокойно проповедовать (среди сытых это обычно получается намного эффективнее), короче, все были счастливы, как всегда не понимая, чьим деньгам и заботам они должны быть благодарны. Чтобы хоть как-то выделяться, я завел себе коробку, обшитую золотой фольгой, но это не могло полностью компенсировать мое самолюбие, и мы продолжали перебираться так от одного городка к другому. В каждом из них часть революционеров обычно выбывала из строя, понимая, что спокойная жизнь в этом захудалом уголке цивилизации будет намного лучше, чем бесцельное хождение по пустыне, даже вместе с сомнительным удовольствием редкого лицезрения Егошной спины. Но зато на их место приходили новые адепты, из числа жителей этого городка, готовых променять эту захолустную бесцельную жизнь на интересное путешествие с великой целью, да еще при возможности увидеть Его, хоть даже и со спины.
Если бы в этой стране кто-то, когда-нибудь составил нормальный рейтинг популярности, и не взглянув утром на градусник и с него списав показания популярности действующего президента по Фаренгейту, а спросил бы людей, то Джимми уделал бы нынешнего главу по всем правилам. Людям нужно верить в чудо и в чудо-людей, в то, что они есть, в то, что они лучше обыкновенного человека и даже тебя самого. Они все знают, они все могут, за ними надо идти, куда – не важно, они знают куда надо! Человек, который хоть раз в жизни слышал Джима, был готов идти сдавать за него кровь, всю до последней капли и если надо, то выпить ее сколько нужно и у его врагов. Если Джим сам заговаривал с таким человеком, то он автоматически записывался в кандидаты в лоно святых, нашей церквушки. Правда лоно святых, окружавших Джима, особенно во время справления им нужд, было уже давно сформировано довольно плотным кольцом и пробиться туда не представлялось возможным. Кстати, самого Джима к тому времени уже никто не называл Джимом. Кроме меня все к нему обращались на ТЫ, но на именно такое ТЫ с больших букв, и произносилось это так же величественно как и писалось. За глаза Джима все, соответственно называли Он, с одной заглавной буквы – все-таки третье лицо, как ни крути. Местные же Джима называли Набии, в любых случаях. Я не знал, что означало это слово, но мне кажется, я уже где-то его слыхал.
Вообщем где-то примерно так, потихоньку, помаленьку мы с нашими набиизятами или лучше набиизявцами добрались до пригородов Столицы. Меня удивляло, почему правительство никак не реагирует на перемещение такой огромной массы народа, нас было, по меньшей мере, тысяч сто. Во всех, городках, которые мы проходили, наличие какой-либо власти, а тем более военного присутствия не наблюдалось, лишь, когда наше путешествие стало подходить к концу, над нами стали иногда пролетать военные вертолеты, да и то высоко. А то, что наше путешествие, впрочем, как и весь путь земной подходят к концу практически одновременно, я понял, когда увидел через щелку в брезенте оборонительную линию, аккурат перед началом первых кварталов – траншеи, колючая проволока, мешки с песком, пулеметные гнезда, танки, пушки и много, много касок и автоматов. Мы уверенно подошли на расстояние полета стрелы и так же уверенно встали. Джим со своим политбюро, ушли в свой штаб на совещание – в одном из городов, благодарные фанаты подарили Джиму огромный красный шатер, расшитый золотыми попугайчиками. Я почему-то был уверен, что первый залп из пушек будет именно по нему. В шатре наверняка снова нарезали бумажки с крестами и скоро приступят к гаданию на кофейной гуще, но тут из динамиков прозвучал голос самого Зевса, от том, что всем надо расходиться – нам тут и без вас тошно и жрать нечо, зато есть разрешение правительства на округление населения страны, которое как раз выпирает тысяч так на сто, таких вот голодранцев. Затем нам дали три минуты до начала розыгрыша подачи противником, а наш тренерский состав все никак не мог объявить комбинацию, хотя таймаут уже подходил к концу. Тут меня прострелила мысль, о том, что у меня практически на передовой стоит грузовик набитый чемоданами с деньгами! Меня начало тошнить и скручивать. Я начал ползать по своим баулам и ощупывать их как слепой. Почему, вы спросите, я не оставил большую часть в сейфе, а все взял с собой? В этот момент я и сам себя пытал этим вопросом и не находил ответа в пустой голове.
Прошло две минуты. Голос с Олимпа громко объявил, что у нас осталось минута, чтобы разойтись или помолиться и начал обратный отсчет. Вертолеты начали делать боевой разворот, а танки совсем нехорошо загудели. Тут из шатра вышел улыбающийся Джим, за ним вся его братия с такими лицами, будто у них у всех кто-то резко умер. Елен осталась внутри, видимо ей срочно понадобилось прилечь. Джим, молча, зашагал к линии обороны военных, и лишь проходя мимо меня, на секунду положил мне руку на плечо. Мужчины недовольно загудели, женщины схватились, кто за сердце, кто за рот и начали тихонечко подвывать, родившиеся к тому времени дети заплакали, не родившиеся – недовольно забили ножками в утробах. Затем все враз стихло и стало слышно, как пули чешутся в стволах и затворах, как им тесно в рожках и обоймах, как им хочется напиться человеческой крови, нарваться мяса и наломаться костей. Наступил критический момент. Джим подошел уже вплотную к траншее. Голос Вершителя Судеб прокашлялся в динамике и спросил, явно пытаясь напускной сердитостью заглушить волнение:
— Ты Джим Гаррисон?
— Да, это я, генерал Франко Баптисто, — спокойно, но почему-то громче самого генерала ответил Джим. – Но это не единственное, что я знаю. Я знаю, например, что когда ты был полковником, то ты уговорил своего любовника застрелить тогдашнего главнокомандующего. Бедный Энрике, он сделал все, как ты просил. Потом ты лично руководил его пытками и расстрелом, но он тебя не выдал. Это ведь было тебе не впервой, помнишь, когда ты был капитаном, еще при колонии, то еще тогда расстреливал демонстрантов? А молодым лейтенантом, куда делись Лючия с ребенком? Ты был уверен, что их никто не найдет в том болоте и ты спокойно сможешь жениться на дочери своего полковника. А помнишь, Анголу, Франко?
Динамики, все это время, молча сопевшие (хотя это они может быть просто очень громко фонили), прервали свое молчание, видимо обладатель небесного голоса не пожелал слушать о том, что происходило в Анголе, и послышался сиплый крик: «Огонь!» Ничего не произошло и после небольшой паузы, голос застрочил как из так и не выстреливших пулеметов: «Огонь! Огонь! Огонь…» постепенно захлебываясь, он перешел на хрип и затих. К тому времени Джим уже был на гребне траншеи и кто-то из ближайших к нему солдат, стоя на одном колене, уже пытался поцеловать край его простыни, той самой в мелких розовых поросятах. Проведенный нами через пустыню народ, что-то такое почувствовал и с радостными криками бросился на уже бывшую линию обороны, где началось массовое и неорганизованное братание с военными. Выстрелы в воздух, обнимания, целования и чепчики ввысь. Я вылез из своего инкассаторского грузовика и попытался протиснуться к Джиму, но это было не под силу человеку. Лишь змея, могла прошмыгнуть между ног, что и сделала Елен, подоспев к Джиму с каким-то графином воды, принялась поить триумфатора и утирать ему эфемерный пот со лба, сосредоточенно при этом сдвинув брови. А тем временем Джим сказал, что-то в духе: «А теперь айда во дворец». И все двинулись в центр, к президентской резиденции. Где-то по городу уже шли небольшие столкновения между полицией и восставшими, которые восстали, как только мы приблизились к городу. Но мы как огромная волна шли по улицам города, в которой гасло любое пламя конфликта и все становилось частью этой водной массы. Нас стало так много, что когда мы вышли на центральную площадь и застопорились из-за человеческой пробки, то ходить можно было уже лишь по головам. Джима практически вынесли на руках к входу во дворец, охрана которого тут же покидала свое оружие на землю. Джимми вручил их начальнику в обмен на его шпагу, первые, что попалось под руку – апельсин. Джим зашел ненадолго вовнутрь сам, попросив свих сопровождающих обождать немного у входа. Я залез на уличный фонарь и мог все хорошо с него рассмотреть. Какой разговор происходит сейчас внутри дворца я себе примерно представлял, так как наблюдал уже один раз свержение Джимом диктатора, правда калибром помельче, и не при таком скоплении народа. Через десять минут от задних ворот отъехал бронированный автомобиль с темными стеклами и не менее темным президентом внутри и начал осторожно пробираться сквозь толпу, которая уже не столь осторожно проверяла данный транспорт всеми подручными средствами на предмет его крепости. Но в это время на балкон вышел Джим и машину оставили в покое, начав протискиваться поближе, чтобы услышать что-то наверняка очень важное. Пока помощники бывшего президента, а ныне пламенные борцы за очередную свободу своего народа, суетливо устанавливали микрофоны и усилительную аппаратуру, а также попутно скидывали вниз знамена и гербы теперь уже бывшего режима, Джимми просто махал рукой, как машут пароходу который, отплывает слишком долго. Толпа ревела, как на финале премьер лиги, и будто бы голы забивались каждую минуту. Воспользовавшись паузой, к Джиму на балкон тихонечко просочились его опостыли и чуть позже Елен, которая к тому времени уже успела переодеться в блестящее оранжевое платье. Видимо она быстренько обнаружила, по следам отступления президентской супруги в виде разбросанных манто и рассыпанного жемчуга, ее гардеробную и нашла в ней кое-то по своему размеру. Толпа продолжала гудеть и раскачиваться, патроны к тому времени уже у всех позаканчивались и военные просто трясли автоматами над головами. Когда, наконец, после волшебных слов: «Раз, два, три», появился звук, Джим поднял вверх какую-то бумагу и сказал, что нет у них теперь больше президента. Все вокруг радостно заорали, как будто Джимми объявил, что каждый из них выиграл по автомобилю.
— Вам не нужен больше президент, — продолжал Джим. – Вам не нужен больше никакой другой правитель, ни надсмотрщик, никто! Вам нужны лишь люди, которые вас окружают, но они у вас уже есть. Обернитесь вокруг. Посмотрите вовнутрь себя, посмотрите, кого вы видите там? Нравится ли вам этот человек? Хорошо, если не нравится! Хорошо, если вы захотите, чтобы этот человек стал лучше! Но я вас всех люблю такими, как вы есть, потому, что не бывает плохих людей, не бывает!
Далее продолжилась небольшая, но очень проникновенная речь в том же духе, ее я дослушивал, уже соскользнув со столба, так как мои потные руки мне были нужны, чтобы утирать себе слезы. Эту речь теперь начинают учить отрывками еще в пятом классе, и к выпускному ты должен знать ее уже назубок, потому что иначе диплома о среднем образовании в этой стране получить невозможно. К тому времени как Джим закончил свое историческое выступление, уже все соседние фруктовые лавочки и магазинчики были разграблены доблестными революционерами на предмет апельсинов и почти у каждого из митингующих он был в руке. Чтобы не аплодировать Джиму в конце его спитча одной рукой, а хлопать с соответствующим ситуации фанатизмом, все начали подкидывать апельсины вверх, яростно бить в ладоши и кричать. Тут революция и победила.
Глава пятнадцатая – последняя, но зато длинная
Еще ни после одной революции, ни в одной стране не становилось жить лучше, и эта не стала исключением. До революции существовать тут всем было как-то не очень, в процессе Джим совосставшие сделали все, чтобы парализовать страну, ну, а сразу после первого апельсинового митинга на теперь уже бывшей президентской площади, ныне площади Свободы, все вообще остановилось. Причем удивительно, что главными ревнителями революции оказались бывшие парламентарии бывшего карманного парламента, а также члены свергнутого правительства. Они вешали себе на шею самые большие апельсины – символ революции, и наперебой устраивали митинги и собрания, на которых старались переплюнуть друг друга в уверениях в толерантности к новой власти и в открещивании от старой, выходя их этих словесных баталий в собственной пене и слюне оппонентов. Отдельно, уже в развернутых интервью, они рассказывали об упорной многолетней подпольной борьбе, я бы даже сказал – пододеяльной борьбе, которую они вели с прошлым, и как теперь выяснилось окончательно ненавистным режимом.
Не менее популярными были собрания и митинги, устраиваемые ближайшими приближенными Джима, которые, кто в Столице, кто в регионах, кто, не побоюсь этого слова в забитых деревнях – все зависело от степени приближенности и постреволюционного рвения последыша – наперебой твердили джимовы проповеди и откровения. Все эти выступающие постоянно колесили по стране с довольно высоким уровнем ротации, так что местному населению было вовсе не до работы – все митинговали, чему последние безмерно радовались, так как ленивы и любопытны оные были без меры, в чем я мог убедиться еще в начале своего проживания в деревне, по объемам ежедневно исчезающего в никуда сахара. Народ слушал, открыв рот, иногда даже забывая хлопать и откусывать апельсины, висевшие у каждого на шее, для того чтобы рассказы о революции приправлять еще и ее вкусом. Докладчики на этих митингах очень сильно разнились в показаниях относительно произошедших революционных событий, а так же чудес, совершенных Джимом или точнее уже почти святым Набии, сходившись лишь в одном – в роли каждого выступавшего в великом деле очередного освобождения народа от очередных диктаторских пут, претендуя при этом как минимум на вторую после великого вождя роль. Выступления же самого вождя происходили на все той же площади, на все том же балкончике. Джим по привычке поселился в гнезде, очередного выселенного павлина, вместе с ним жила и вся его челядь, включая основных приближенных, Елен, меня, а также Барнса со своим помощником, благо президентский дворец был огромен, и места хватало всем. Я жил в отдельной, хорошо запираемой комнате с чемоданами, Барнс со своим неразлучным кочегаром заняли соседнее по коридору купе, тоскуя и регулярно спрашивая разрешения прогуляться к железнодорожному депо – понюхать воздух, как он сам выражался. Выйти из нашего нового дома в первое время было довольно проблематично даже ночью, потому что самые ярые фанаты джимового ораторского искусства, а их было не счесть, ночевали прямо на земле, днем же к ним присоединялись еще и те, кому было, где ночевать и тогда выход из дворца блокировался полностью. Как я сказал, митинги происходили не только на главной площади, но и на всех остальных, работать было некогда, и зараза революции очень быстро парализовала остатки страны, в которой очень быстро закончился порядок, деньги и еда. Остались лишь люди, соответственно без порядка, денег и еды.
Старик Барнс мучился отсутствием своих паровозов, а молодой Билли – остатком денег, которых с каждым днем становилось все меньше и меньше. Джима мало интересовала экономика, впрочем, как и его эпигонов – все они как один призывали народ к равенству, братству, отказу от каких любо общественных институтов, как минимум государственности, и грезили идеей перебросить эти идеи через пока еще существующие границы в соседние страны, чтобы, и границы, и страны исчезли, и наступило всеобщее благо. Елен, все что делала, это просила, точнее, требовала постоянно денег на расходы революции, хотя я удивлялся, зачем революции столько вечерних платьев и туфель на шпильках? Кормить людей на центральной площади мне тоже приходилось из своего кармана, ко мне каждое утро заходили из самоорганизовавшегося комитета по кормежке митингующих за очередной порцией денег на еду. Каждый раз я порывался спросить их, против чего они все митингуют, если революция уже победила? Идите, тогда и работайте, а то вы уже третий месяц разойтись никак не можете.
Вскоре из бывших государственных и не только учреждений начал подтягиваться народ с вопросом: «А что дальше-то делать?» — школы, институты, заводы с пароходами – все стояло и даже уже не мычало. Народ попривык к этой бесконечной говорильне, но кушать уже давно нечего, а купить не за что, да и не у кого. Всех этих паникеров во время какой-нибудь приличной революции давно бы уже расстреляли за отклонение от выбранного раз и навсегда курса, но так как наше восстание продолжало оставаться бескровным, то их всех отфутболивали ко мне и у меня с девяти до шести работал офис по приему жалоб на жизнь и выдачи в обмен на них наличных денег. Но долго так продолжаться не могло. Когда на утоление нужд населения начал уходить примерно один чемодан в день, а очередь ко мне начали занимать с ночи, записывая на руке номера и каждый час устраивая переклички, я не выдержал и постучал Джиму в дверь, и когда меня через час впустили, попытался достучаться до его здравого смысла.
— Джимми, братишка, — сказал я, думая как начать разговор, так чтобы не нарушить циркуляцию гормонов счастья в его щепетильном организме, от которых он весь так и светился. – По-моему вы тут все херней занимаетесь! – думаю, что таким началом я никого не обидел, но зато очень четко высказал свою позицию и очертил круг тем будущего разговора.
Хорошо, что перед моим выступлением все его приближенные вышли из залы, ну а Елен тогда вообще не было дома, она где-то на побережье утоляла нужды революции в морском загаре, иначе кто-то из них пренепременнейше вцепился бы мне в горло после таких слов. Но мне выдался удачным момент, чтобы добиться максимального результата без человеческих жертв с моей стороны.
— Что ты имеешь ввиду? – очки Джима спрыгнули с его носа и недоуменно уставились на меня с тумбочки опершись для солидности на телефонный справочник.
— Как по мне ты поспешил – ответил я им обоим.
— С чем? – в упор не мог понять, о чем я, Джим.
— С тем, чтобы все разрушить! Ты начал с их души, а надо было сначала порядок в стране навести, накормить всех, а потом уже им проповеди читать…
— Ты не понимаешь, Билли, — начал было Джим, но я не стал давать ему возможности включить свой режим святоши и рассказал ему анекдот про художника-абстракциониста, которого назначили руководить птицефермой. Назначили, значит его, первую неделю все хорошо, а потом приходят к нему подчиненные и говорят: у нас проблема де — куры дохнуть начали. Он подумал, почесал свою бороденку и говорит: «А нарисуйте-ка на каждом курятнике по большому красному кругу.» Ну, подчиненные пожали плечами, пошли исполнять. Еще через неделю приходят: «Снова дохнут, начальник!». «Ну, тогда вы в красный круг впишите зеленый квадрат.» Тем делать нечего – пошли, вписали. Снова неделя проходит: «Опять дохнут, уже совсем немного осталось!» Художник снова подумал, потом говорит: «А сейчас в середине квадрата нарисуйте небольшой желтый треугольник.» Работники пошли, нарисовали, через неделю приходят, все, говорят, конец – подохли все куры. «Жаль,» — отвечает художник: «А у меня еще столько идей было…»
Джим задумался, а я добавил:
— Но ведь там не куры, Джимми и они очень скоро начнут тоже дохнуть, — я махнул рукою ближайшему окну, которое в знак солидарности со мной, одобрительно заскрипело форточкой. — Мне не жалко денег, тем более для тебя, братишка, но деньги скоро кончатся. А есть все равно будет нечего. Одной духовной пищей сыт не будешь…
— Что ты предлагаешь, — прервал меня Джим, явно морщась где-то в середине себя от того, что я в очередной раз разрушаю какую-то его внутреннюю, а теперь еще и внешнюю идиллию.
— Надо запустить страну – спокойно ответил я. – Не распустить, а запустить – в работу! Ты освободил их в очередной раз – ОК. Пока они тебе за это благодарны, ты пытаешься сделать их лучше – тебе от этого хорошо, но скоро они доедят, то, что награбили в продуктовых лавках, а новой жрачки брать будет негде – торговля закрылась, производство стоит. И потом они все начнут просить очередного избавления, но уже от тебя, приведшего страну к катастрофе. Джимми, ты был рассудительным парнем, хватит играть в мессию! У демократии и рыночной экономики есть, конечно, куча недостатков, но лучше них еще пока ничего не придумали. Люди не станут лучше за один день, месяц или даже год. И пока ты их исправляешь вручную, за ними надо присматривать, и никто лучше полиции с этим не справится. Но у нас и полиции теперь нет. Слава богу, что до армии у тебя руки не дошли, и их просто распустили по отпускам. Но враги по ту сторону границы не дремлют, они смотрят в свои дальномеры и только и ждут, когда мы тут окончательно просветлеем, что бы взять нас тепленьких, замотанных в простыни. Ты же читал справочник по этой стране – сюда почти все завозится импортом, а продаются на экспорт ископаемые. Но и за них теперь не платят, потому что теперь правительства у нас как бы и нет, поэтому не понятно – подтверждаем ли мы обязательства, выданные до нас или мы тут все полные отморозки и снова начнем все перекраивать. Хорошо еще, что наша Большая Родина нашла пока себе мальчика для битья и пока особо не в курсе, что у нас тут происходит. А если бы они знали, какой тут у нас тут на самом деле бардак творится, то давно бы уже подогнали авианосец или посмотрели бы сверху, через бомболюк, как у нас тут дела с законной демократией обстоят? Если плохо, то они нам ее сейчас сбросят. Вам сколько мегатонн? Ты пойди, пройдись по бедным кварталам, ты там давненько не был – они стали жить намного хуже, чем до твоей революции. И они не ходят уже на твои митинги, они заняты только тем, что пытаются достать еды, чтобы прокормить своих детей.
Джим молча слушал, все ниже опуская голову. Наверняка он чуть ли не впервые в жизни почувствовал себя неправым. Особенно это трудно признать после того вознесения, что пришлось ему пережить за последний год – тут и у подготовленных диктаторов голова пойдет кругом, а что говорить о гениальных пророках. Мне почему-то стало неловко от того, что я отчитывал Джима. Хорошо, что мы все-таки разговаривали наедине, иначе ушат воды, вылитой на его голову, мог оказаться еще ледянее. Помолчав теперь уже вдвоем с полчала, голосовые связки Джимми решили проверить свою профпригодность и, правда, не с первого раза, прохрипели:
— Что ты предлагаешь?
Мой стул, почувствовав благоприятность обстановки, как лихой жеребец, подскакал к Джиму поближе, стуча всеми четырьмя ногами. Крутой ковбой Билли, не вылезая из седла, продолжил:
— Я тут поговорил с парочкой парней из прошлого правительства – как оказалось, они там не все были законченными сволочами. Для начала они предлагают вернуть кое-то из наработок цивилизации по управлению государством, например…
Джим так пал духом, что со всем согласился. Я довольный, слез со своего коня, похлопал его и Джима по гривам, и отправился спасать страну.
На следующее утро состоялось такое эмоциональное собрание с участием всех ближайших приспешников Джима, которые подняли такой хай и визг об отступлении от идеалов революции и возврата к старым порядкам, что пришлось вмешаться самому главному идеалу, чтобы закрыть им рты. В самый пик обсуждения, если можно было назвать этим словом тот базар на вокзале, что устроили устроители революций, я не выдержал и поступил так, как поступал в ситуациях, когда меня не слушали, еще со времен детского сада – заткнул уши руками и начал орать непристойную песню. Но это не помогло, пока Джим не поднялся со своего места и сказал, фразу, которая до сих пор греет мое сердце в прохладные ночи и особо неудачные дни: «Билли прав». Обсуждение тут же смолкло, как-то скомкалось, и собравшиеся начали медленно расходиться. Некоторых, особо чувствительных повели под руки.
Митинги быстренько запретили, временно. Быстренько сформировали временный совет по спасению страны от последствий революции и свободы, что-то начало происходить, но очень быстро стало понятно, что без законного главы государства с нами никто иметь дело не хочет. Посему, опять же быстренько решили назначить внеочередные президентские выборы на конец следующего месяца, а регистрацию претендентов на конец недели. Этот вопрос казался мне чисто техническим — никто не сомневался в победе Джима Гаррисона, ну или хотя бы Набии. Я уже спал и видел как мы, потренировавшись в этом захолустье, применим свои знания и опыт у себя Дома, в высшей лиге! На что Джим, как всегда спокойным голосом, каким кондуктор объявляет следующую, после уже пропущенной вами остановки, что баллотироваться он не будет. Происходило это как раз за обедом, на котором кроме нас с Джимом присутствовали практически все его пособники, которые временно хоть выпали из прокламационной деятельности, но съезжать из дворца не собирались и кормились исправно по три раза на дню.. Джимми продолжил спокойно есть свои макароны, я же очень крепко задумался. Очнувшись, я понял, что уже догрызаю ложку, выдернул ее черенок себе изо рта и понял, что не знаю, что делать дальше. Строй, начавших было падать костяшек, казавшийся бесконечным и уходящим красиво за далекий горизонт, резко прервался в самом неожиданном месте, и зрители уже смотрят, то на тебя, то в цену билета и хлопать никто не собирается — максимум по твоему лицу.
— И что же нам теперь делать? – наконец вымолвил я.
— Вы выберете себе кого-то другого. Я никогда не стремился стать президентом.
Притихший шок, вырвался наружу в виде неконтролируемого кудахтанья джимовых спутников, которые, повскакивали со своих мест и начали наперебой отговаривать своего светилу не принимать таких поспешных решений и передумать. Джим улыбаясь, отвечал, что это невозможно, тем более он даже не является гражданином этой страны. После этих слов я заметил, как Елен, незадолго да этого возвратившаяся с курорта свежая и отдохнувшая, весь разговор долго и тщательно рассматривавшая свой и без того идеальный маникюр, так закусила губу, что будь эта нижняя припухлость искусственной, то непременно бы брызнул силикон. Я так и увидел картинки, промелькнувшие в ее голове, между информацией, что Джим не будет баллотироваться и тем, что местного гражданства нет и у нее самой. За эти полсекунды она наверняка увидела с сотню кадров, где она пьет чай с английской королевой, чуть поджав ноги под стул, или под прицелом сотни объективов мило шутит с американскими сенаторами, далее шла главная страница «Лайф» с ее изображением, кутающемся в леопардовом манто и подписью: «Африканская львица покоряет мир», и под конец бесконечная череда выходов и маханий на трапе возле личного самолета, каждый раз в разных костюмах и шляпках. Но по истечении полсекунды счастья, все эти картинки перевернулись назад и захлопнулись со звуком закрываемой двери в небольшую синюю книжечку с красивым золотым орлом на обложке – Елен впервые в жизни пожалела, что у нее американский паспорт.
Джим тем временем доел и вышел. Я, пристально осмотрев оставшуюся цирковую труппу, которой объявили, что зарплату и в этом месяце снова выдадут опилками и тем, что когда-то ел слон, постучал стаканом о графин, который попросил всех собравшихся пособников революции успокоиться и предложил вместе подумать, кто, по их мнению, достоин стать кандидатом взамен Джима. И, учитывая популярность в народе товарища Набии, мое финансирование, а также практически полное отсутствие конкуренции, практически сразу стать президентом нашей песочницы. Каждый замер в такой позе, в какой его настигли мои слова, хотя некоторые продолжили дышать.
— Письменные заявления прошу приносить завтра ко мне, — после этих слов жизнь снова вселилась в подвисшие тела, и все начали пусть не в сильной спешке, но достаточно по-деловому расходиться.
— Я ты не такой уж и дурачок, Билл, каким хочешь казаться, — подвела итог встречи Елен, когда остальные вышли, и мы остались вдвоем.
Я ответил, что поумнел, лишь благодаря общению в последнее время со столь милой и развитой леди как она.
— Ну, ну, — ответила, вставая и поправляя юбку, которая была практически ей по самую ватерлинию, бывшая нью-йоркская припортовая леди. – Посмотрим, что у тебя получится, — подытожила она наше совещание и вышла, элегантно работая кормой.
Я понимал, что ночью Елен проведет свою предвыборную работу с Джимом, но не знал в каком направлении. А жить, работать и бороться рядом с внутренним врагом, ничего не зная об его планах, было не совсем удобно, особенно понимая, что он обладает по сравнению с тобой рядом конкурентных преимуществ, а именно: парой тугих титек и еще более тугих ягодиц. Это меня несколько огорчало, когда я помогал взглядом Елен покинуть обеденную залу и подумал, что для будущего процветания страны, хорошо бы лучше, если мы с Джимми были гомосексуалистами, но как говорится: «Ах и увы» и поэтому стабильность страны была постоянно в опасности и особенно в ночное время.
На следующее утро, как по звонку в конце урока, когда послушные ученики сдают свои сочинения, все как один последователи Джима поднесли мне свои заявления с просьбой именно сего подателя сделать кандидатом. «В столь тяжкий для своей отчизны час, я чувствую, что могу взять на себя всю ответственность…» — и все примерно в таком вот духе. Сдавали они мне свои витиеватости не все сразу, а по одному скребясь в дверь моей комнаты. Я поначалу открывал ее и даже разговаривал с каждым из них, а потом просто стал кричать, не отворяя, чтобы совали в шелку под низ. Приходили они каждую минуту-две, и пока я лежал и наблюдал как из-под двери в комнату пропихиваются белые листочки, мне подумалось, что податели наверняка по очереди следят друг за другом, выглядывая из-за угла коридора, чтобы не сталкиваться нос к носу с соседом. Но, даже видя, кто-то сдавал заявление до тебя, и, понимая, что кто-то наверняка выглядывает сзади чтобы сдать после — все равно несли, каждый с безграничной верой в собственную исключительность. Я дождался последнего, сложил аккуратненько все эти листочки в папочку под названием «Гордыня» и понес их с докладом Джиму – еще шире открывать ему глаза на людишек.
Джим прочел несколько заявлений из моей папки, остальные просто пересчитал и поднял на меня глаза собаки у которой только что утопили всех ее щенков, а ты стоишь и не знаешь, что ей ответить.
— И что теперь делать? – в очередной раз спросил Джимми, и мне показалось, что я его целенаправленно уничтожаю.
— Надо выбирать кого-то из достойных и преданных, но еще не предавших, — ответил я, хотя и не видел даже близко никого из таких в ближайшей перспективе.
Чтобы как-то спастись от тоскливых глаз Джима, я начал искать поддержку в окружающей обстановке и нашел ее в чугунной модели паровоза, занимавшей целую полку шкафа.
– Есть такой человек! – воскликнул Билл и его ноги понесли меня вон из комнаты, прогромыхали по лестнице и начали таскать по всем коридорам в поисках Барнса. Я нашел его и суп вместе, в столовой, в процессе поглощения одного другим. Я тут же сходу плюхнул ему в тарелку предложение, о том, не хочет ли он стать президентом этой, если можно так сказать еще страны? Старина Барнс подумал немного, отхлебнул еще две ложки супа и на третьей отказался. Любой бы на моем месте пал духом, потому что поверить в честность кого-либо кроме него и Джима на ближайшем расстоянии полета ракеты «Томагавк» я не мог, поэтому пока подавали второе и компот, я в танцах, песнях, пантомимах и стихах, рисовал широкими мазками жизнь будущего пусть номинального, но все же лидера нации. Под конец моих аргументов и еды на столе, взяв с меня обещание, что делать особо ничего не надо будет, но при этом гарантируется собственный новый локомотив, Барнс согласился, для подтверждения стукнув пустым стаканом о стол. Я тут же метнулся обратно наверх, с докладом, но выяснилось, что Джимми заперся вместе со своими всеми двадцатью четырьмя последователями в конференц-зале и, судя по доносившимся оттуда подвываниям, делает им нехорошо. Через четверть часа двадцать четыре недожеванных человеко-отбивных, замотанных, как полагается по последней моде в оранжевые простыни, начала по одному выплевывать дверь зала заседаний. Некоторые начали рыдать и припадать на колени прямо в коридоре, но большинству все же удалось самостоятельно донести свои слезы до подушек. Джим вышел последним, с немного бледным лицом, по которому я сразу понял, что сегодня, максимум завтра, он снова пойдет бродить по пустыне и на этот раз уже точно в одиночку. Не дав ему вымолвить свое фирменное: «Билли, мне скоро придется уйти», я сразу же начал просить его остаться. Говорил что без него ничего не получится, что не надо отчаиваться, и не все получается с первого раза — я вспомнил все одобрения своей тетушки для таких случаев. Но все причитания были тщетны – Джим ушел той же ночью, не попрощавшись.
На площади по-прежнему еще ночевали люди, их было уже не так много как раньше, но все же. И я представил, как Джим выходит ночью из дворца и идет, переступая через тех, кого под него привел. Представить, как он идет я еще мог, а вот, что он чувствует – уже нет. Я не хотел бы в это время оказаться на его месте.
Я, конечно, очень надеялся на помощь Джима в деле выборов Барнса, но видать ему самому порядком поднадоели все эти митинги, выступления и собрания и он решил пойти проветрить свою голову и заполнить освободившееся место новыми мыслями. Но все же я очень надеялся, что, по крайней мере, к инаугурации он вернется. Нам, скорее всего, придется туговато без его раскрученного бренда, хотя у меня уже возникли идеи плакатов с портретами Барнса и подписью: «Набии рекомендует».
Толпу на площади попросили не расходиться и сказали, что перед обедом будет важное предвыборное сообщение – нам нужны были первые волонтеры. Не знаю, что их больше обрадовало, что будут снова говорить или что будут, наконец, обедать. Бывшие последователи Джима, лишенные своего сана, а заодно и сна, кто заперся в своей комнате, кто собрал свой узелок и подевался в неизвестном направлении, остальные же ходили за мной и молча, предлагали себя. Потихоньку заработали учреждения и все бегали ко мне за советом, но в основном за деньгами. В миллионе дел, навалившихся в эти дни, я совсем позабыл о Барнсе, точнее о его виде. Представив, как я веду его в избирательную комиссию в его любимом замасленном комбинезоне, а нас на проходной не пускает охрана, я содрогнулся и тут же бросился в его комнату, но в дверях столкнулся с Елен, шедшую под руку с каким-то хорошо одетым темнокожим джентльменом, в котором я с трудом и то лишь на ощупь смог опознать старину Барнса.
— Я подумала, что тебе, возможно, понадобится моя помощь и решила немного привести нашего кандидата в порядок.
Ну, как можно было после такого сердиться на эту прекрасную женщину! Мы втроем сели в один из роскошных каддилаков, что остались от прежнего хозяина. Причем Барнс настоял, чтобы он сам вел машину – раз он скоро станет президентом, то ему будет не положено сидеть за рулем, а водить ему понравилось, поэтому надо использовать, теперь малейшую возможность. Раз так, то я предложил ему заодно потренироваться в махании людям из окошка и улыбаться так, будто у тебя с детства менингит. Так мы и приехали.
В комиссии нас ждало нечто неожиданное. Совсем неожиданное, но не сразу, и не у дверей. Журналисты все были тут, как и те, которых не успели расстрелять еще до революции, так и другая их часть – проплаченные правительственные попугаи, но которые теперь, по их же собственным словам, до корки пропитались апельсиновым вкусом свободы. Были и иностранные послы и тутошние, вернувшиеся срочно домой и умевшие лишь улыбаться и красиво пить халявное шампанское. Среди десятка других кандидатов никто не представлял реальной опасности: были тут, и некоторые из бывшей свиты Джима, правда, уже одетые в деловые костюмы, и представители старой клики – но эти пришли больше пофотографироваться. Они все были не важны, важен был тот, кого я заметил стоящим в углу, что впрочем не означало, что он находится на переферии происходящего действия. Знаете, кто это был? В ослепительном белом костюме с красной розой в петлице и с обязательной сигарой в зубах, кобылицей рядом и обезьяной за спиной? Конечно же Джеббс, а с ним Эльза и Мак! Обалдели? А представьте, каково мне было его встретить? Я два раза потер глаза, а заодно и лицо, один раз попросил Барнса меня ущипнуть, ойкнул, но даже после всех предпринятых мною мер, делегация из ада так и не растворилась. Эльза первая прервала неловкость, подскочила ко мне и начала чмокать практически холодный труп с отвисшей челюстью. Вскоре она бросила это пустое занятие и принялась целовать с Елен воздух возле щек. Затем подружки встали друг напротив друга, взявшись за руки, улыбались и очень внимательно смотрели каждая в глаза своей сопернице, вероятно, чтобы достаточно точно запомнить их расположение на ненавистном лице, и выцарапать их даже в темноте, если вдруг погаснет свет. Джеббс попыхивая сигарой, как ледокол, начал свое движение ко мне через людские потоки, не забыв по пути обнять и поцеловать Елен, не вынимая сигару изо рта и не сводя с меня своего взгляда, так, что мне захотелось загородиться от него Барнсом. По тому, как он подошел и как поздоровался, я сразу смекнул, что он решил заделаться политиком, что это у него получается, что он будет баллотироваться, и что без Джима мы, считай уже, проиграли. Тем более, что считать особо было уже нечего – после финансовой поддержки страны в кризисное время, остались какие-то несчастные десять чемоданов.
— Билли, — начал на мягких лапах Джеббс, взял меня под руку и повел в сторонку, потому что передвигаться самостоятельно на ватных ногах мне было весьма затруднительно. – Зачем тебе все это? Я слышал, ты достаточно заработал денег на своем поле, так возвращайся домой, в Штаты, бери Джима с собой, забирай Елен – она, кстати, готовит просто умопомрачительный кофе. Гориллу свою тоже прихвати в качестве сувенира, — Джеббс кивнул в сторону Барнса, который встал рядом с Маком.
Они оба были очень похожи по комплекции, сразу не понравились друг другу и уже явно подыскивали столик для армрестлинга, чтобы померяться на нем своими IQ.
— Ты знаешь, — продолжил доверительно Джеббс, — мне как-то стало скучновато в своем замке, я пробовал и то и это, но ни к чему не лежит душа. А тут, бах, читаю в газетке про вашу революцию! Ну, думаю, молодцы мои ребятки, сейчас устроят себе тихую диктатурку и будут себе править, пусть не больно большая страна, но все же… Потом смотрю, ан нет – решили все-таки в демократию поиграть. Прилетаю сюда, посмотреть поближе, так сказать, а дела то тут у вас совсем плохи. Тут не то, что бы конь не валялся, тут как бы его совсем пристрелить не пришлось, до чего страну довели. Так что я решил сам тут все наладить, раз вы не справились. Кстати, где ваш мессия? Я-то думал, что мне с ним тягаться придется, а не с тобой. Где же он прячется? Неужели боится? Не верю… Джимми, утю-тю… вылезай… Куда ты его мог спрятать? — Джеббс начал заглядывать в мой нагрудный карман за полу пиджака.
Я сглотнул виртуальную слюну, хотя сделать это с пересохшим горлом было крайне трудно и попытался ответить:
— У нас нет гражданства… — (местоимение «нас» чувствовало себя в этой фразе явно неуверенно, впрочем, как и я сам). – И мы выставляем на выборы… — я кивнул в сторону Барнса, который вместе с Маком уже переместились к камину (интересно кому пришла в голову идея в Африке делать камин?) и упражнялись в том, у кого красивее выйдут завитки из кочерги. – А ты кого? – практически по инерции спросил я, заранее зная об ответе.
— Мне не кого выставлять, я один у себя… Но зато я знаю, что делать с этой страной, в отличие от вас. Вы с Джимми, как два неопытных любовника – запудрили этой стране, как девушке мозги, затащили в постель, раздели и теперь не знаете, что с ней делать дальше. А она уже вся дрожит, но не от страсти, а от холода и неловкости. Я же, как опытный мужчина, знаю, что ей дать и как… — тут пошли совсем уже пошлые ассоциации и образы нездоровой фантазии Джеббса, который предстал передо мной в новой личине политика с широким сексуальным опытом, который он хочет применить к населению всей страны. Он минут десять повозил меня по кругу своих пороков, и когда Барнс с Маком погнули все, гнулось в этом помещении, я был уже готов отдать голос за Джеббса прямо сейчас, лишь бы он замолчал. Наконец вышел какой-то человек и сказал, что начинается регистрация кандидатов, все засуетились и забегали, защелкали затворы камер, Джеббс бросил меня и первым направился к столику приемной комиссии в президенты. Я остался стоять один посредине зала, с глупой улыбкой, руками, мнущими мнимый бюллетень и глазами, ищущими ближайшую избирательную урну. Елен подошла ко мне и с такой силой дернула за руку, что я всю следующую неделю тренировался есть левой рукой.
— Подберись, тряпка, — зашипела она. – А то стоишь, как индеец на Манхэттене, впервые увидевший бусы, — она взяла меня под здоровую руку и повела искать нашего кандидата, источая нескончаемый запас улыбок в окружающее пространство.
Пока мы шли, я просто физически чувствовал, как отхожу от влияния Джеббса, и тут же попадаю под чары Елен. И в тот короткий миг перехода, когда мой разум был на несколько секунд свободен, я удивился с какой легкостью и непринужденностью, Елен меняет вокруг себя второстепенных мужских персонажей, лавируя, но, не сбиваясь с главного пути к женскому счастью. Сначала Джим, потом Джеббс, затем снова Джим, и вот теперь меня ведут как на заклание. Осознав это, я попытался вырваться, но уйти из этих цепких лапок гарпии с красными коготками, было не легко, тем более, что кто-то рядом пропел таким чудным голоском: «А вот и он, смотри, милый!» Я обернулся, чтобы посмотреть, кто это там воркует и как раз с той стороны, откуда впивались довольно больно в руку, но увидел там такой взгляд, что второй раз за утро не смог сглотнуть и приготовился повторять как мантру: «Да, дорогая» до конца своих нелегких, но безусловно счастливейших дней.
Мы заняли с Елен и Барнсом очередь в президенты. Елен отлучалась на минуточку, выяснить, как там обстоят дела у Джеббса с местной пропиской, но оказалось, что все в порядке. Его одарили гражданством страны, когда он еще занимал, правда не очень долго, пост главы Первой Занзибарской Трансафриканской железнодорожной компании. Хотя сегодня, почему-то Джеббсу никто этого не припоминал. Впоследствии я видел нескольких обиженных им тогда чиновников в составе его избирательного штаба, но и они никогда не упоминали о том бездарном проекте, напротив, вели достаточно активную агитационную работу в поддержку своего кандидата. У каждого, кто собирается стать политиком, не должно быть ни комплексов, ни принципов, ни памяти, он должен уметь дружить со всеми и всегда улыбаться. В принципе этого было достаточно, даже чтобы стать президентом и тем более в этой стране. Всеми этими качествами Джеббс обладал с солидным излишком, чего нельзя было сказать о Барнсе – пока он тренировал лишь улыбку, но смотреть на нее и не думать о том, что у него в семье все поголовно были олигофренами было нельзя.
Но, не смотря на все это, отступать было некуда – схватка быков и тюленей началась. На стороне врага была наглость, вранье и бесконечное бабло. С нашей стороны, кроме десяти чемоданов, мы могли выставить лишь честность Джима, его имя, но не его самого. Поэтому, если бы голосование проходило в первый день предвыборной гонки, то мы получили бы процентов девяносто голосов, с учетом того, что кто-то бы обязательно промазал мимо урн. К концу гонки мы не надеялись уже даже на половину, а рейтинги и опросы не давали нам и половину от половины. Джеббс, в своей новой ипостаси расцвел как кактус — раз в сто лет, благоухая соответствующе. Свой запас алмазов, он расфасовал по сейфам различных банков, и периодически летал в Европу его обналичивать, а обналиченостью посыпал головы электората в прямом смысле этого слова. Джеббс не прибегал к стандартной схеме предвыборной компании: деньги – реклама – голоса, выкинув ненужный по его мнению, срединный элемент, он после митинга просто раздавал каждому по хрустящей бумажке, а под конец уже просто вскрывал банковские пачки и швырял их в толпу.
Наш штаб не мог себе позволить проводить столь эффективную предвыборную кампанию, поэтому пошел по стандартной схеме – выписав из Европы парочку политтехнологов, которые все красиво оформили, поставив во главу угла тот факт, что Барнс является приемником Джима Гаррисона, а точнее самого Набии и так далее, но все это не работало. Во-первых, еще несколько кандидатов из числа бывших приближенных Джима тоже объявили себя его приемниками и разговоры, кто же из них из всех наиболее преемственен быстро завели нас в топкое болото бесконечных дискуссий. Во-вторых, Барнс был не ахти какой оратор. Ему хоть и нравилось читать речи с бумажки, почти без запинок, если конечно не попадались шипящие, букву «р» он растягивал примерно до середины предложения, «ц» — пропускал вовсе, длинные слова обычно проговаривал лишь до середины, а как он однажды прочел слово «империалистический» вам лучше и не знать вовсе.
Джеббс же напротив был краток, особенно на финишной прямой гонки, его речи становились все проще и короче. Последние митинги с его участие состояли из одной фразы: «Голосуйте за меня!», и потом сразу раздавали деньги. Затем советники посоветовали ему все-таки быть более конкретным в своих воззваниях, чтобы электорат знал, напротив какой фамилии надо будет ставить крест, и в следующий раз Джеббс уже орал: «Голосуйте за Джеббса! То есть за меня!»
Я даже выписал из своего старого дворца всех своих медвежат и поселил их в комнаты, освободившихся от части съехавших джимовых последователей. Мы проводили с ними чуть ли не еженощные совещания, но плюшевые, лишь чесали каждый свое уцелевшее ухо, и ничего путного не могли сказать, кроме тех случаев, когда кто-нибудь из них на заваливался на бок и тогда внутри его что-то начинало урчать. Все уверенно и стабильно шло к нашему краху.
Когда до выборов, точнее до дня, когда мы добровольно подарим эту страну Джеббсу, оставалось три дня, я понял, что единственный наш шанс на спасение – это предъявить народу его истинного кумира – Джима Гаррисона. Полиция, которую восстановили частично в ее правах, и которая нас еще чуточку слушалась, все сильнее присматриваясь к возможно новому хозяину, было озабочена заданием срочно разыскать Джима, где бы он ни был и привести хоть в силках. Вечером того же дня они отзвонились и сказали: «Где он мы не знаем – ищите сами». Я начал орать в трубку, что всех поувольняю к такой-то матери, на что мне ответили с той стороны, что вас самих тут скоро всех поувольняют, а некоторых, скорее всего и расстреляют и положили трубку. Елен, к чести ее сказать, хоть и сгрызла под корень за это месяц весь маникюр, но ни разу не высказала пораженческих настроений. Утром она разбудила меня пораньше, спихнув с кровати, и укутавшись в одеяло, которое так стягивала с меня всю ночь, сказала, чтобы без Джима я к ужину не возвращался. Я нехотя засобирался, особо не понимая, где я могу его разыскать, и даже если найду, то, как смогу уговорить, а если и уговорю, то, что он сможет сделать за один день, когда уже на кухне прислуга грубит и говорит, что из еды есть только вчерашний омлет, а хлеба нет вообще никакого и захлопывает у тебя перед носом раздаточное окно? Я ел холодный омлет и смотрел на сидящего за соседним столиком Барнса – он единственный из всех нас излучал оптимизм и позитив, и пытался прочесть очередную бесполезную речь, искренне дивясь новым непонятным словам и даже некоторым сочетаниям букв. Запятые, к слову сказать, он вообще воспринимал, как помарки печатной машинки, поэтому расстановка акцентов и пауз в его выступлениях всегда доводило нашего спичрайтера до мыслей о суициде.
Не понимая где мне надо искать Джима, я решил побриться и пока выскребывал, вечно прячущиеся за скулы маленькие волоски, то неожиданно вспомнил, как он говорил однажды, что главной целью его жизни, к которой он хочет прийти – это жить на берегу океана, сидеть там и смотреть на волны. Я тут же оставил волоски в покое, бросил бритву в раковину и скомандовал свистать все наверх — всех кто еще остались, прыгнул в раскрученный вертолет, который меня в сторону Порта со всей спешкой, железной птицы, оставившей в своем гнезде не выключенную духовку. Старые связи и остатки моего теперешнего, не совсем понятного даже мне самому статуса, помогли мне собрать и поставить на крыло и на волну немногочисленные силы ВМС и пограничников для поисков пропавшего Набии. К сожалению, Джим не выступал в этом городе со своими гастролями, поэтому о нем тут судили лишь по рассказам, ставшими уже состарившимися легендами, которые к тому же отошли теперь на второй план, уступив место обсуждениям последнего полета Джеббса из страны Оз на воздушном шаре с надписью: «Голосуй за Джеббса, то есть за меня!» над улицами города, сопровождавшегося неизменным раскидыванием денег на головы сограждан. Я вывел пилотов и моряков из этих сладких воспоминаний на плац и обрисовал им задачу: найти одинокого чудака, живущего на берегу моря, вдалеке от человеческих поселений, выполнить задачу до темна, иначе, иначе… И я не придумал ничего лучшего, чем сказать, что иначе воздушный шар больше не прилетит! Я хоть и не медленный парень, но после команды: «Разойтись!» я покидал плац последним.
Лучшие и последние силы этой страны шерстили побережье, разбитое на участки, несколько часов. Я лично на самом быстром катере курсировал вдоль всего берега с намертво приросшим к глазам биноклем, но дорогая пропажа никак не находилась. Лишь когда солнце начало красить океан в багровый цвет, осторожно коснувшись его своим краешком, мы нашли Джима.
Глава последняя, но зато длинная
Мы нашли Джима, лишь, когда солнце осторожно коснулось своим краешком океана и начало красить его в багровый цвет. Джим сидел спокойно на большом камне, вдающемся немного в воду, абсолютно голый, очень загорелый и, казалось, созерцал всю вселенную сразу, не сходя с этого места. Он не реагировал, ни на катера, ни на вертолеты, кружащие, шумящие и поднимающие вокруг столбы брызг. Мне стоило некоторых усилий и достаточного количества горстей воды, чтобы привести Джима в чувства. Как только я понял по его лицу, что он узнал меня, ну или, по крайней мере, идентифицирует во мне человека, я выпалил первое, что пришло мне в голову:
— Джим, Елен умирает! – кто-то внутри меня от удивления подавился кофе с плюшечкой, но хорошо, что наружу это не пошло.
— Кто? – спросил Джим, голосом человека, разговаривающего с кошкой.
Мне пришлось сразу немного скорректировать тактику:
— Елен! Она любит тебя! И только тебя. Ее пытали, но она все время повторяет только твое имя… Она наверняка помешалась… — я принял самое траурное выражение лица из имеющихся на балансе.
— Да, кто же, брат мой? – удивление Джима было таким искренним, что я не понимал, кто из нас валяет большего дурака или кто больше помешался.
Вдруг Джим не выдержал и прыснул, за ним засмеялся и я, мы начали толкаться, ржать и обниматься и, в конце концов, оба свалились в воду. После того как мы выбрались на берег и отряхнулись, Джим пригласил меня в свое скромное жилище – ржавую рубку парохода, давным-давно выброшенного на берег и зарывшегося в песок уже по самые леера. Уже темнело, Джимми развел костер и поставил воду в кастрюльке греться. Джим за этот месяц не то чтобы тут особо обжился, но зато смог перейти на замкнутый цикл жизнеобеспечения. Дрова он собирал, те, что выкинет океан, питался в основном мидиями и другими морскими ракушками, иногда ел птичьи яйца, воду добывал из построенного самим в песке большого опреснителя и, похоже, что собирался прожить тут если не всю жизнь, то какую-то значительную ее часть. Вода на огне закипела, катера легли в дрейф, вертолеты перестали крутить свои лопасти, а мы с Джимом сели спокойно пить чай и разговаривать.
— Так зачем ты приехал? – промолвил, после необходимой по драматургии паузы, наш прибрежный гуру.
— Потому, что я люблю тебя, Джим! – я все никак не мог сказать главного, и продолжал изображать парня-веселуна.
Тем не менее, Джим засмеялся и обжег губы о края горячей кружки.
— Хорошо. Раз ты мне не веришь, то тогда так – Джимми, мне не хватало тебя!
На этот раз в ответ я увидел лишь чеширскую улыбку и то, родившаяся между чайными сербаньями.
-Ты нам нужен, Джим! – я вскочил на ноги, как делал всегда в тех случаях, когда хотел придать своим словам хоть какое-то значение!
Меня остудила очередная улыбка, но на этот раз поддержанная словами:
— Что, Джеббс… вернулся?
— Да… — я как-то враз сник, сел и готов был заплакать, но не подучалось выдавить из себя слезу, поэтому получилось лишь пукнуть.
— И теперь ваш парень проиграет ему выборы?
Я кивнул и начал рассматривать пол рубки.
— Так я здесь причем? Это ведь была твоя идея, – Джимми говорил как мама, которая знает про проступок сына, все уже решила, но продолжает его добивать в воспитательных целях.
— Я ведь думал, что ты захочешь стать президентом…
— Почему? То, что я хотел сделать – я сделал, но это не помогло никому, даже мне…
— Не говори так, Джимми, все не так! У тебя было много идей, но надо было все не так круто менять! Вот послушай…
И в таком вот примерно духе, обсуждения, упреки и обиды носил ветер по старой рубке до самого рассвета. Ближе к нему мне все-таки удалось уговорить Джима на то, что Барнс станет формальным президентом, я буду помогать ему рулить страной, а Джимми будет заниматься спокойно, тем, чем ему вздумается, а именно ходить по улицам и вещать. И мы все вместе будем пытаться проводить в жизнь все те реформы, о которых он так мечтал! В крайнем случае Джим всегда сможет вернуться в свою будку и смотреть на свое море сколько вздумается, думаю что на некоторое время он спокойно мог оставить и то и другое без присмотра. На том и порешили, и вертолеты вновь начали раскручивать свои винты, катера взбивать морскую пену, и мы отправились на финальную битву вместе.
В студии, где должны были проходить финальные теледебаты в прямом эфире, уже с видом хозяина, ожидающим порки любимого, но очень наглого слуги, развалившись в кресле, нас ожидал мистер Джеббс. Барнс в кресле напротив старательно мял в руках бумажку и кривил губы, повторяя свою речь. Елен стояла позади его и терзала подголовник кресла, заметно колеблясь, и прикидывая в голове варианты переметнуться в лагерь противника хоть на должность наложницы-полотерки на первых порах. Но все они никак не могли предположить, что вслед за мною из коридора войдет с лицом изрядно исхудавшего Джона Леннона, сам Джим Гаррисон. Кто-то из присутствующих сразу бухнулся на колени, кто-то просто замер, остальные просто метался между первым и вторым вариантами действий. Что творилось с людьми у телевизоров я сказать не мог, но скорее всего то же самое. Джеббс просто не имел физической возможности встать, он так и остался сидеть там, где его застал эфир и припечатало появление Джима, а именно в коричневом и что немаловажно, кожаном кресле. Джимми, выйдя на середину студии практически сразу сказал: «Включай». Не понятно к кому он конкретно обратился, но видимо такой человек был, и он понял, что обращаются именно к нему, и, что самое главное, он был в состоянии, что-то там нажать, чтобы передача началась. Презентовать дебатантов было некому, так как ведущий еще в самом начале пополз к буфетной стойке в углу и там, не вынимая изо рта бутылку с коньяком, режиссировал в голове собственные похороны. Увидев того, о ком они только слышали и уже успели подзабыть, но как оказалось не очень сильно, люди у телевизоров сыпали попкорн себе за вороты жменями, открывали уже открытые бутылки с пивом и спрашивали, не отрывая взгляда от экрана, чем это несет таким горелым из кухни. Несло преимущественно пропаленными передниками и их хозяйками. В грязном и нечесаном бородаче с обветренным лицом, они без подсказок узнали того, о ком лишь слышали. Мир застыл, мир внимал, и ждал указаний. Это чувствовалось даже из студии, сидя под столом.
Для разминки Джимми спросил всех, зачем они живут. Точнее он спросил не всех сразу, а как бы каждого по отдельности, обведя взглядом собравшихся в студии, а напоследок посмотрев в камеру. После этого взгляда и вопроса, количество несчастных, переживающих бедствие в шкафах, резко возросло.
— А я зачем живу? – был следующий вопрос, абсолютно логично, по крайней мере, для Джима, вытекающий из первого. После этих двух, подвешенных в воздухе и погруженных в паузы соответствующей длины, вопросов, когда все уже были готовы внимать всеми фибрами и жабрами, а у сидящих по ту сторону экрана к нему потянулись даже волоски на руках, Джим начал свою речь. Он говорил много. Много и часто. Он общался с каждой клеткой слушающих. Он натягивал им мембраны и выжимал жиры из пор, расширял зрачки, раскрывал рты и шевелил волосы. Он спрашивал и отвечал. Он снова спрашивал и снова отвечал. Он спорил сам с собою и сам себя разбивал своими же аргументами. Он боролся и побеждал. Он падал в темные расселины человеческой сущности и тут же вздымал к сверкающим вершинам ее же чистоты. Он гонял по студии бесов и вешал их на лопастях ветреных мельниц. Он менял геномы и закручивал ДНК в обратную сторону. Он взрывал и уничтожал, созидал и растил. Он сказал все, что думает людях хорошего и слишком даже хорошего. Он сказал обо всем, что знал или только догадывался. Единственное, чего он не знал, это то, чего же он хочет от обессиленных к концу этого выступления людей и как ему его закончить. Все остальные несчастные граждане этого государства, и я в том числе, не знали уже, зачем мы все собрались, и не только в этой студии, но и на этой планете. Но тут Джим посмотрел на Джеббса, что-то такое вспомнил, указал на него и произнес:
— Нехороший человек.
Затем он повернулся к Барнсу, единственному человеку, которого никак не торкнуло выступление Джима, и присевшего в кресло напротив, чтобы прочесть, потом и свой стишок, когда настанет его очередь. Но Джим закончил свое выступление и все дебаты на сегодня повесив на Барнса ярлык с той же интонацией, что и на Джеббса:
— Хороший человек, — и слегка поклонившись, легко вышуршал из помещения.
Первой опомнилась Елен, она бросила уже доведенный ею до исступления подголовник кресла, и метнулась вслед за Джимом. Ей наверняка крайне серьезно надо было поговорить с ним на излюбленную женскую тему: «Как сильно ты меня любишь». Телекамера, потеряв Джима из вида, навелась на Барнса, тот улыбнулся народу и сделал ручкой, затем оператор перевел кадр на Джеббса, но тот явно растерялся, чертыхался и не очень удачно пытался раскурить спичку сигаретами. На следующий день мы выиграли выборы.
Утром, после того как был закончен подсчет и оказалось, что Джеббс набрал двадцать голосов (это было на двадцать процентов голосов, а просто двадцать голосов), он собрал свои двести галстуков в чемодан, взял Мака и Эльзу, и улетел восвояси. Последние, кстати никак не проявили себя в этой избирательной истории – они были слишком часто заняты друг другом в одном их дальних кабинетов своего штаба, пока Джеббс практически в одиночку раздавал свои двадцатидолларовые листовки. И как обычно бывает в таких ситуациях, об этом знали все, кроме самого — главного лесничего.
В протест на их отъезд, мы зажили счастливо. Барнс целыми днями сидел у себя в кабинете – до обеда он подписывал, то, что ему приносила Елен, а после обеда запирался в соседней зале для проведения закрытых встреч, как сообщал официальный регламент. На самом деле там Барнс встречался со своей слабостью и отдавался ей со всей страстью, на которое было способно его огромное тело! Страстью этой, как не трудно было догадаться, были паровозы, но на этот раз игрушечные. Барнс буквально заболел моделями локомотивов и практически все свободное время проводил за конструированием миниатюрной железной дороги гигантских размеров. Итогом первого года его президентствования стали: восемь километров железнодорожного полотна, двенадцать практически полностью функционирующих станций и два больших вокзала, сорок два подвижных состава различных сортов и моделей, несчетное количество мостов, тоннелей и переездов – все это дребезжало, свистело и лязгало практически безостановочно. Также производились бесконечные доделки и реконструкции – как говорится, ни совершенству, ни маразму предела нет. Главное, чего ни в коем случае не надо было делать, попав случайно в эту заветную комнату, это что-то спрашивать, надо просто наблюдать! Если же вы по своей неосторожности случайно бы спросили у Барнса, что это за такая интересная блестящая штучка, то это все. Остаток дня для вас потерян. Этот высокопоставленный машинист будет три часа бегать за вами по всему огромному залу, и рассказывать, и показывать, как эта и многие другие распрекрасные штучки работают и для чего они нужны, а главное как они все совершенны, особенно работая в сопряжении друг с другом. Вы будете колотить во все двери и окна с мольбами выпустить вас из этого сумасшедшего дома, но мы не выпустим, будем держать дверь с той стороны обеими руками и хихикать!
Елен по официальному статусу числилась у нас теперь госсекретарем, ее мечтам попить чайку с королевой пока не удалось осуществиться, но она всерьез увлеклась политикой, быстренько оформила себе местное гражданство и интересовалась у меня, когда у нас следующие выборы и любит ли Барнс кофе? А то она присмотрела уже для своей инаугурации хорошенькую кофточку. Она еще с революционных времен полюбила все эти заседания, но теперь не только на них присутствовала и заведовала буфетом, а и внимательно слушала, стараясь вникнуть, о чем идет речь, а поняв или не поняв, неизменно вносила свои, пусть зачастую лишь декларированные предложения. Мне большую часть заседания приходилось бороться с сорняками зачастую вредоносных елениных предложений, чем культивировать разумные ростки собственных идей. Но бороться с Елен в одиночку мне было тяжело – Джим стал большой редкостью на таких сабантуйчиках, а все остальные присутствующие министры с портфелями, а главное сам Барнс, явно симпатизировали этой тигрице, находя, что она очень разбавляет и украшает наше общество, как виски сгущенное молоко, всегда хотелось добавить мне. Я был серым кардиналом, министром без портфеля, советником президента по всем вопросам, бывшим любовником госсекретаря и лучшим другом национального героя и мессии-освободителя. Последний, как я уже сказал, перестал любить эти заседания, предпочитая ходить в народ, с народ и для народ. Он уходил куда-то на неделю и возвращался домой с кипой новых народных проблем и своими новыми идеями по их разрешению. Идей иногда было так много и все они настолько отличались друг от друга, что я начал подозревать, что Дядя его родственник, а не мой. После того как я внимательно выслушивал Джима, я ему говорил, что нам отсюда, из дворца видно лучше, что да как, но мы попытаемся учесть и эту проблему народа, а также предложенные пути ее разрешения на следующем же пленарном заседании, всесторонне на нее посмотрим, поищем консенсус, подберем кворум, втиснем в регламент, окажем… Вы еще не спите? Джим тоже обычно переставал слушать мой ответ до того как засыпал. А спал он теперь в отдельной спаленке и как-то избегал Елен. Она же, как большинство женщин, насоздавав себе проблем в личной жизни, теперь металась, крутилась, но никак не могла вывернуть так как ей было нужно, хоть и думала об этом целый день, вечер и часть ночи. Листание на ночь журналов, завивка разноцветных бигудей и подпилка ногтей тоже не помогали.
Мой же довольно короткий и несуразный романчик предвыборный романчик с Елен закончился ничем. Как вернулся Джим, она сказала, что я был ошибкой и надо остаться друзьями. То, что я был ошибкой, тетушка Джинджер твердила мне с самого детства и я уже мало-помалу к этому привык, ну а чтобы остаться друзьями, то для этого надо было для начала ими быть. Но друзьями с Елен мы никогда не были. Взаимная ненависть не всегда заставляет вспыхнуть любовные чувства, даже когда бросает непримиримых врагов в общую постель. Минус на минус дает плюс только в математике, но в жизни это правило срабатывает не всегда, и у нас с Елен был как раз тот случай, когда не сработало. Я несколько раз видел, как она безрезультатно скреблась в комнату Джима поздно вечером, видимо по безотлагательному делу национальной безопасности, когда я, выйдя из общей уборной в конце коридора, шоркал в старых тапочках и трениках к себе в комнату. Елен видя меня, тут же куталась в свой легкий халатик, под которым угадывался еще более легкий пеньюар, и отпархивала от двери Джима как бабочка, севшая не на тот цветок. Джим занял по отношению к Елен платоническую позицию, ее это обескураживало и ставило в непонятное положение, но она все равно вела с ним себя расковано и приветливо как раньше, со мною оставаясь такой же шипастой и шипястой.
Мы втроем стали представлять собой образчик идеальной семьи, такое себе идеалистическое трио. У меня даже родилась теория о том, что конкретно этот мир создан для матриархата. Сейчас я вам ее расскажу. Ну, может не так, прям, чтобы совсем – прекратите в меня кидать сухарики и чипсы, пейте свое пиво и смотрите футбол! Свора заек и котиков, которых по телефону между собой женщины почему-то зовут козлами и кобелями… Хорошо, хорошо, отпусти руку, больно! Не для матриархата, не для матриархата – для премьер-лиги! Довольны? Мужланы! Пойдемте, девочки на кухню, ставьте чайник, доставайте конфеты и я вам расскажу, почему, по моему мнению, Джим с Елен, не смотря на всю святость первого и сучность второй, жили как дельфины с лебедями. Да потому что у них был я! Да я! Который брал на себя весь удар, весь тот негатив, который просто необходимо на физиологическом уровне выбрасывать ежедневно каждой женщине на голову кого угодно, главное чтобы сделать побольнее. И вот этим неважно-которому-побольнее как раз и был я. Елен интуитивно разделила свои эмоции – положительные Джиму, какушки мне. С ним она ворковала голубкой, со мной браналась окошком справочной. Джим и Елен были счастливы, а я вынужден был каждый вечер брать сеансы психотерапии у известного во всем мире мистера Джеймсона, ну или рыдать на шерстяных плечах своих медвежат. Ну, а чаще и то и другое. И вот сейчас мне кажется, что имей возможность завести себе такого вот второго, отрицательного мужа – темную половину, на которую можно сбрасывать весь негатив, и даже не надо с ним спать: «Эта сволочь меня не достойна», а просто для сброса отходов работы женской психики, то многие, очень многие семьи, были бы, наконец, счастливы.
Тем временем приходили новости из-за рубежа. Наша старая, но по-прежнему любимая, как бабушка, живущая далеко в деревне, родина, давала периодически о себе знать. На этот раз она опять проиграла очередную быструю и победоносную войну, естественно сделав вид и протрубив на весь мир через телевизор, что она свои задачи в этом регионе выполнила и теперь: «наши ребята могут спокойно вернуться домой к рождеству».
— Просто патронов на всех вас, сволочей, жалко! – я прямо отсюда вижу как Дядя, подпрыгивая на своем диване, комментирует это геополитическое сообщение.
А без войны, как известно, люди тоскуют, и начинают со скуки занижать рейтинг действующего президента, в надежде на нового, которому уже точно удастся их развеселить. Затем голова в волшебном ящике возвестила, что на грядущих выборах, на которых по состоянию здоровья нынешний президент не сможет принять участие – хотя мне кажется, что с таким рейтингом, как у него, президенты вообще не живут, кроме двух красавцев скакунов их старых и элитных конюшен, на старт выйдет темная лошадка для всех завсегдатаев политического ипподрома. Конечно же этим конем оказался никто иной, как наш непотопляемый Джеббс и когда его впервые вывели чуть ли не под уздцы и он начал так резво бить копытом еще на первых интервью, я понял, что он украл у меня вторую мою идею – посадить Джима в кресло американского президента, и это второй подлейший случай воровства Джеббса, после того чудного, немного выгоревшего на солнце брезента. Выходит, это не мы, а он тренировался тут на школьном стадиончике, на котором мы, еле-еле его заплюхав, до сих пор радостно хлопаем в ладоши и бегаем к мамочкам за конфетами и поцелуями. А дядька Джеббс, особо не расстроившись, двинул прямиком в высшую лигу, даже не просушив кроссовки! Моя рука инстиктивно потянулась к телефону, чтобы сказать кое-кому в трубочку, тихим вкрадчивым голосом: «Довожу до Вашего сведения, что независимый кандидат г-н Джеббс, имеет двойное гражданство. В подтверждение моих слов…». Но я отдернул свою руку, а скабрезная мысль шмыгнула в грязную коробку с одноименным названием. «Надо играть честно» — сказал однажды Джим, и я, как и тогда, так и сейчас, послушался его. Да Джим и сам собственно, как оказалось вовсе не рвется в президенты, а жизнь у нас тут, вроде бы как налаживается, поэтому я отдернул и вторую руку, которая уже успела начать набирать номер. Я превратился в болельщика этого чемпионата. Встретив как-то в коридоре, вернувшегося после очередного трипа Джима, я бросил ему, походя:
— Слышал, наш Джеббс баллотируется в президенты Соединенных Штатов?
— Он скоро к нам вернется, — немного подумав, ответил Джим, будто бы заглянув Нострадамусу за плечо в его мутную кружку.
— Ага! На одномиллионной купюре… — и мы разошлись дальше, каждый по своим делам.
А тем временем лидирующие североамериканские партии упражнялись в выборе наиболее политкорректного и максимально широкоэлекторатного персонажа, которого будут двигать вперед. Мне это напомнило выбор кто какой фигуркой будет играть в «Монополию»… «Чур, я машинкой, тогда я паровозиком!» Партия «А» выставила на лайнап парня с латиноамериканским папой, прекрасными карими глазами и такой же улыбкой. Он рассказывал, как в детстве батрачил на ферме и демонстрировал в прямом эфире мозоли, которые с той поры до сих пор не сошли. Голоса всех посудомойщиков, таким образом, были подобраны практически с пола. Партия «Б» выставила на беговую дорожку впервые в истории заездов женщину, одним махом получив сразу пятьдесят процентов голосов всех избирателей, это при том, что она еще не начала готовить свое фирменное печенье во время теледебатов и какой бы она ни оказалась хозяйкой, голос одного мужика они как-то да надеялись заработать. Такие вкратце были ставки обоих лидирующих группировок, но тут в игру вмешался Джеббс. Против них он выставил свое дворянское происхождение, папу полярника и шпионское прошлое. Благородную родословную показывали только один раз мельком и то в его руках, но зато много о ней говорили. Чуть позже возник и папа, в меховом капюшоне и заиндевевшим лицом, он стоял среди дюжины таких же снеговичков. Папу показывали чаще, но иногда Джеббс промазывал на пару человек вправо или влево. Также много обсуждалось его участие в секретных операциях во Вьетнаме, но в каких именно раскрывать не позволялось, потому что: «… пока еще живы, те, кто хотел бы, чтобы я замолчал об этом навсегда…» произносил он перед следовавшей затем глубокомысленной и в то же время опасной паузой, во время которой многие начинали оглядываться. Наиболее трезвые критичные умы прикидывали, что, судя по возрасту Джеббса, в то время он мог лишь сдавать мочу для уринотерапии раненых, и то ее пришлось бы выкручивать из его пеленок. На что Джеббс спокойно отвечал, что ему было сделано несколько операций по изменению внешности, потому что: «пока еще живы те, кто…» в ходе которых он согласился на экспериментальный курс омоложения, который и дал соответствующий результат. В какой именно клинике это происходило, он скажет в следующий раз и как мне показалось, даже подмигнул своим будущим рекламодателям. На кокетливый вопрос, не изменял ли он при этом пол, Джеббс не менее кокетливо улыбнулся и промолчал. И вот эта загадочная улыбка приплюсовала ему одним махом несколько миллионов транссексуалов и трансвеститов, а еще с десяток миллионов геев и лесбиянок замерли в недолгом раздумье. Что-то явно зашаталось в избирательной и политической системе Америки и обе до этого противоборствующие партии решили объединиться до второго тура в стремлении уничтожить нового общего врага, ну а потом как обычно – орел или решка, ну или как на детском утреннике, когда двое бегают вокруг стула и кто быстрей сядет, когда закончится музыка. Для начала прилежно сравнили рассказы Джеббса о своих приключениях в Африке с рассказами Хемингуэя, получилась масса совпадений, правда у последнего получилась как всегда немного блекленько. На провокационный вопрос продавшегося по сходной, как для выборов цене, ведущего, о том, на какие средства ведется избирательная компания, Джеббс так привычно для меня вскинул глаза вверх, что я вжался в кресло, сидя от него даже на другом краю Земли.
— Я занимаюсь алмазным бизнесом, — впервые наверно за всю свою политическую карьеру Джеббс сказал хоть полправды.
— О, как интересно, — запел поэт микрофона, кавычек и шестизначных гонораров.
Джеббс уже научился победно улыбаться, но он еще не понимал до конца, кому он собрался перейти дорогу. Не думаю также, что ему так уж нужно было это кресло. Не думаю, что он прямо так все спланировал – он был человек порыва, человек идеи, он заражался ею и заражал остальных, шел к ней, а чаще бежал, и всегда из спортивного интереса. Деньги были для него не целью сами по себе, так и должность президента манила его не своим содержанием, а трудностью достижения. Джеббс был спортсмен, игрок. Но те с кем он решил потягаться были не игроки и не спортсмены, они были охотники и хищники одновременно и вокруг Джеббса начала затягиваться петля. Большому бизнесу, различным фондам и организациям, на поддержку которых рассчитывал Джеббс и его пока еще не очень высокий рейтинг, было приказано в довольно ультимативной форме, ее не оказывать. За его королевским номером в гостинице следили и когда выследили, как туда входила одна бывшая нью-йорская проститутка скандинавского происхождения, то тут же выбили двери и запустили вовнутрь журналистов, папарацци и полицию. Проституткой естественно оказалась Эльза. Пришлось Джеббсу со спущенными штанами долго объяснять собравшейся публике, что это его… невеста. На следующий день было достаточно срочно объявлено об их скорой свадьбе. В тот день все викинги в Валгалле напились с особой тщательностью. Отработанная с годами спецслужбами подсечка на этот раз не сработала и рейтинг Джеббса практически не пошатнулся. Зато очень серьезно начал расшатываться рынок необработанных алмазов. Джеббс и до этого своими большими сливами камней, раскачивал лодку стабильности ювелирного рынка, ну а в разгар президентской гонки, он начал такими партиями скидывать алмазы по бросовым ценам, что та начала черпать своими бортами воду из океана хаоса и цены на алмазы стремительно пошли вниз. Кто-то там что-то еще пытался удержать и контролировать, но не долго – дня два. Затем Джеббс увидел, что беднеет практически на глазах и решил одним махом избавиться от становящихся неликвидными активов и начал сдавать все сразу. Стеклышек к тому времени уменьшилось в вагоне максимум на лопатный штык, так что Джебб сбывал практически годовой объем добычи за один день. Рынок естественно такого издевательства не выдержал и рухнул в полчаса. Торги закрыли, начали расследование, паника началась сама собой, пошли слухи, что все алмазы теперь фальшивые и добывают их теперь где-то экскаваторами как соль. Из котировок товарных бирж убрали алмазную номинацию, в ювелирных мастерских, бриллианты стали стоить дешевле оправ, добычу и обработку прекратили. Многие застрелились, но большинству пострадавших хотелось просто повесить виновного, предварительно выцарапав ему глаза. Его быстро нашли, и на этот раз не ошиблись. ЮАР потребовало его выдачи. Затем Ботсвана, Ангола, Россия и даже соседняя Канада просила прислать ей хоть несколько кусочков Джеббса. Американская общественность, наигравшись диковинкой, отвернулась от человека, пошатнувшего экономические устои. Фемида быстренько завела дело, и кто надо шепнул доверительно Джеббсу, что до ареста осталось не долго, и он, успев лишь упаковать в чемодан свои знаменитые к тому времени уже триста галстуков, в срочном порядке отбыл в Европу. Его естественно тут же вызвали в Штатах на допрос, а его и нет – скандал, тут же заявление в международный розыск. И как по нотам разыгранного Джеббса, не успевшего даже еще приземлиться на Лазурном Берегу, опять показывали по всем каналам, но уже не как кандидата, а как «разыскивается Интерполом…». Джеббс о чем-то подобном догадывался, поэтому первое такси с Эльзой и Маком пустил вперед, в замок, а сам с чемоданом обещал приехать чуть позже. Через два часа он позвонил в замок и попросил мистера или миссис Джеббс к телефону, ему ответили, что мистер Джеббс слушает. Первый мистер Джеббс тут же повесил трубку, сжег в туалете свой американский паспорт, достал другой, одной маленькой, бедной, но очень гордой африканской страны и купил билет в один конец. Уже через двенадцать часов он появился на пороге моего кабинета без усов и шляпы, бледный, без улыбки, но с чемоданом и заявленными еще раньше тремястами галстуками.
После первой бутылки виски он сказал, что ни о чем не жалеет. После второй, что, будучи даже одним из самых богатых людей на земле, он не был счастлив. После третьей, он наверняка что-то еще говорил, но я уже не помню, потому что не мог позволить живому человеку напиваться в одиночестве. Четвертую бутылку я тоже уже не помню, но она наверняка была. В наступившей примерно в это время темноте, я всю ночь падал на дно алмазной шахты, но так до него и не долетел. Утром я проснулся лежа на полу и ощутил, что моя голова не вмещается в комнату. Джеббс был бодрее, выбрит, но по-прежнему бледен. Он взял свой чемодан, спросил: «А как здоровье Джима?» и вышел. Больше я его никогда не видел. Уверен, что он, начав с этого чемодана с уцелевшей коллекцией галстуков и пути коммивояжера, добьется многого, но сделает этог сам и будет счастлив.
Ближе к обеду, когда моя голова уменьшилась, чтобы помещаться в дверной проем и я начал хоть боком и на цыпочках, но перемещаться по помещениям, прибыло новое горе в виде бесподобной Эльзы. Ее отпустили под подписку о не выезде, и она сразу же сбежала к нам, тем не менее соврав мне, что у них с Джеббсом все прекрасно, и она просто приехала нас проведать. Когда я сказал, что все знаю, она разрыдалась, бросилась, мне на шею, чуть не свернув ее, и надолбила сотню мелких отверстий в голове, так что сквозняк мог насвистывать через них какие-то простые мелодии. У Елен в тот день так сильно разболелась голова, причем намного сильнее, чем до этого, когда приезжал Джеббс, так что она просила передать, что не только не сможет спуститься вниз, но и будет не в состоянии никого принять как минимум неделю. Диагноз, который, услышав состояние Елен, поставила ей Эльза, я не могу дословно привести на страницах этой не до конца еще пошлой книги, но там было очень много слов по латыни, хотя некоторые из них были мне знакомы, и означали преимущественно различные части мужского и женского тела.
Послонявшись пару дней по дворцу, и поняв, что до нее здесь мало кому есть дело, не дождавшись сдвигов в сторону улучшения здоровья, запершейся в своей комнате Елен, Эльза, пособирав у женской половины сотрудников немного одежды в долг, отчалила в Порт, то ли на поиски Наоми, то ли подзабытого уже всеми мистера Клеменса, бывшего руководителя миссии. Не знаю, кого она встретила первым или не встретила никого, но вскоре, говорят, ее видели там, пустившей корни, и занимавшейся привычным, правда немного подзабытым последними карьерными всплесками, ремеслом. Перед уходом, она заглянула ко мне, чмокнула в гульку, улыбнулась и почему-то тоже спросила: «А как здоровье Джима?» Зачем им всем вдруг так далось его здоровье, я не мог понять. Мне тут принесли как раз счет за воду, так что мне стало не до них. Когда враг перестает быть врагом, ты начинаешь видеть, что это тоже человек.
К вечеру заметно полегчало Елен, и она смогла самостоятельно спуститься вниз и улыбнуться еще на лестнице такой улыбкой, за которую в давнишние времена, легко можно было отдать и коня, и полцарства и свою голову. Первое что она спросила, перестав скалить зубы, не вернулся ли Джим, она о нем начала беспокоиться. Не успел я ответить, как мне принесли счет за электричество и я совсем перестал думать, о чем-либо другом.
Джима принесли через два дня, очень горячего и сильно кашляющего. Он не нашел ничего лучшего, как помочь каким-то крестьянам чистить оросительный канал, стоя целый день по колено в воде, получив за это в награду простуду, а затем и пневмонию. Его уложили в постель, врач сказал, что положение больного неприятное (я после этого поправил Джиму подушку), но ничего опасного нет и что в наше время, пневмония редко заканчивается летальным исходом. Джим полностью с ним согласился и на следующее утро умер. Он лежал в кровати с таким умиротворенным видом, будто спал, женщины кругом голосили, а я не мог понять, в чем дело, считая, что Джимми надо попросту хорошенько растолкать. Елен, первая нарядившаяся в траур, суетилась, поспешно отдавая распоряжения о похоронах и о снятии посмертной маски: «Это для памятника, уточнила она». Я выглянул в окно и увидел пустующий второй год постамент в центре дворцовой площади Свободы, где до этого стояло каменное воплощение бывшего хозяина этой страны, которое тогда свалили с помощью тросов и бульдозера на второй день апельсинового путча… А Джима не повезли даже в больницу – ведь от пневмонии в наше время умирают редко … Я представил, как на этом месте стоит огромный и белый Джим Гаррисон, в своем обычном балахоне и тянет руки то ли к собравшимся внизу людям, то ли к восходящему солнцу, и мне стало смешно, и я захотел поделиться этой шуткой с самим Джимом. Я обернулся с улыбкой и увидел его лежащего на кровати. Елен, хлопотавшая над ним глянула на меня исподлобья и моя улыбка сползла в карман. Я вышел.
Многие требовали вскрытия и расследования такой скоропалительной смерти всеми любимого Набии, но Елен сказала, что не даст разрешения осквернять, ни скальпелем, ни следствием тело ее мужа – но все-таки как иногда легко женщины приписывают себе, ожидавшиеся лишь ими, но так и не состоявшиеся замужества. Джима довольно быстро, но зато очень пышно и с соответствующей помпой, сожгли на площади при огромном скоплении народа в прямом эфире. Цветами была завалена вся площадь по третью ступеньку дворца. Вечером пошел дождь и шел неделю, пока люди шли и несли цветы, пока нижние не начали гнить и вонять, тогда Елен распорядилась все убрать и приготовиться к следующему торжеству – закладыванию капсулы с прахом Джима в основание постамента будущего памятника. Как и предполагалось, решили для экономии использовать старый постамент, который ничего уже общего не имел со старым режимом и за два года окончательно проникся революционными идеалами. Был уже объявлен конкурс на проект главного монумента народному герою и во все города и городки также были разосланы капсулы, но меньшего размера, чтобы они тоже могли их прикопать, а потом на том месте возвести свои памятники, калибром поменьше, но утверждаемых все равно центром. По всей стране началась истерия, мало похожая на траур – все наперебой клялись в искренней любви и вечной памяти, уже заказывались в печать книги и монографии, мемуары и воспоминания, отдельно оформлялись оды и госзаказ на народные песни о Джиме.
Елен с Барнсом попеременно выступали на траурных митингах – горе сближает людей и плебеям демонстрировалась очередная политическая спайка. После одного из таких митингов Барнс звал меня показать, как он будет вводить в эксплуатацию третье транспортное кольцо своей железной дороги, но я отказался. Я делал свою повседневную работу, придумывал новую, старался при этом не думать, но не мог не думать. Бродил по дворцу и мне часто казалось, что вот-вот, из-за угла выйдет снова весь в пыли Джимми, после своего очередного пешего турне, и я его начну его журить за отпечатки грязных босых ног на ковре, рассказывать ему о тяжелом труде уборщиц и пылесосов, а он мне… а я ему… Но за очередным углом никого не было, лишь иногда какая-нибудь не очень расторопная уборщица лениво пылесосила ковровую дорожку.
Я не верил, что такой человек как Джим Гаррисон мог умереть от какой-то там пневмонии! Не поверили этому и остальные, и когда первое горе понемногу улеглось, тут же начали искать виновного и естественно нашли, и естественно им оказался я. Конечно первым виновным был назначен доктор, но тот заблаговременно покинул страну и народный гнев был очень умело, направлен против меня. Я понимал, чья тяжелая длань указала на меня, как и понимал, что президенту не нужны два советника и что с уходом Джима, баланс нашего карточного домика начинает рушиться, и после того как из игры вышел главный туз, начнут сливать и королей, а затем, на всякий случай, еще и вальтов, чтобы в козыри вышла, наконец, червоная дама.
Когда ко мне в то утро зашел начальник охраны сразу с тремя сотрудниками, и вместо обычного: «Привет, Билли», произнес: «Вы признаете, что вы мистер Джонсон?», я все понял. Понял также, что в лучшем случае меня расстреляют красиво перед строем, в высоких ботфортах, белой рубахе, расстегнутой на груди с маленьким серебряным крестиком на бечевочке. А в худшем, выведут прямо сейчас на улицу, где меня забьет камнями толпа. Уже на следующий день я был во всех СМИ, как враг государства номер один: «незаконно проникший», «втершийся в доверие», «все это время», «подло и гнусно», «наше справедливый гнев», «сурово и беспощадно» и все примерно в таких словосочетаниях. В моей одиночной вип-камере мне регулярно поставляли прессу и даже работал телевизор, правда показывающий лишь один национальный канал, на котором только и было разговоров, что о предстоящем суде. Обвинение было одно, оно же служило и главным доказательством: подло и беспощадно лишил жизни всеми безгранично почитаемого святого человека, которые рождаются один раз в пару тысяч лет, нашего горячо любимого Набии. Вопросы, как и зачем я это сделал, не возникли ни разу, видно сгорев еще в самом начале в пламени народной ненависти. За пару дней до суда ко мне пришел первый и единственный посетитель за все это время. Я был готов увидеть кого угодно: папу римского, или даже Джеббса, одетого в женское платье, но только не его. Я его и признал-то не сразу, пол лица у него было замотано повязкой — это был кочегар Барнса, парень которого я теперь буду вспоминать до конца своих дней, но я так и не смог запомнить его имени! Он сказал:
— Мистер Билли, мистер Джимми просил меня передать Вам вот это, — и он протянул мне мятый конверт.
— Кто-кто просил? – удивленно переспросил я.
— Мистер Джимми, Набии… — шепотом добавил он, хотя и до этого говорил достаточно тихо.
— Когда, когда ты его видел? Так он все-таки жив?! Вот сукин сын! Передай ему…
— Нет, нет, что вы мистер Билли, — торопливо перебил меня бывший кочегар. – Мистер Джимми умер месяц назад и его тело сожгли на площади! Разве Вы не знали?
— А… Да, да… Знал. Конечно знал… Так что тебя просил передать мистер… Набиии? – я тоже перешел на шепот после криков.
— Только это, — он указал на конверт, который я все еще мял в руках. – Он позвал меня в тот вечер к себе, когда его принесли совсем больного – я же работаю теперь на кухне, и я подумал, что он хочет чего-то особенного, но он отдал мне письмо и просил пообещать передать его Вам, но не сразу, а лишь тогда, когда Вам понадобится помощь. Я тогда конечно пообещал, но сначала спросил, почему мистеру Джимми самому не отдать письмо мистеру Билли, то есть Вам, когда ему, то есть опять Вам, мистер Билли понадобится помощь. Мистер Джимми тогда вот так вот улыбнулся и ответил, чтобы я шел и ни о чем не думал. И я ушел. А на следующее утро он умер.
— И что… — вымолвил я после некоторого замешательства.
— Я ждал, ждал, когда Вам понадобится помощь. А вчера на кухне сказали, что Вас не сегодня-завтра повесят, и я тогда не смогу выполнить свое обещание. И вот я тут. А теперь снимайте свою одежду, у нас мало времени.
— Зачем, — спросил я, не до конца понимая, что он хочет, но, тем не менее, начал расстегивать рубашку рукой, которой до этого гладил шею, на которую Елен собиралась приладить мне новый галстук. – И как ты ко мне прошел? Сюда же никого не пускают?
— Я упросил мистера Барнса разрешить мне сходить к Вам проститься, и он разрешил, пока мисс Елен нет дома — она уехала в аэропорт, встречать гостей, прилетающих на Вашу казнь?
— На мою? – я уже стоял с расстегнутыми штанами. – Но ведь суд будет лишь завтра? А я еще в глаза не видел, ни следователя, ни дела, ни обвинения.
— У нас это не обязательно, — помощник Барнса тоже начал раздеваться. И мы вдвоем со стороны наверняка наблюдали двух старых гомосексуалистов, обыденно готовящихся к вечернему сексу. – Суд назначен на утро, казнь на обед, вечером фуршет – меню уже утвердили.
— А фаршированный перец будет?
— Да, как Вы любите. Но Вы на этот фуршет не ходите, Вам туда нельзя. Сейчас Вы наденете мою одежду и пойдете на выход из тюрьмы, а потом из города. Главное не останавливайтесь, но и не бежите, и главное, ни с кем не заговаривайте. А я лягу спать вместо Вас, но надеюсь, что завтра меня не вздернут вместо мистера Билли — виселицу уже устанавливают на площади, — и бывший кочегар засмеялся, а у меня почему-то пошли круги перед глазами.
Парень удержал меня и затряс, приводя в сознание. Я быстро оклемался, оделся в его спецовочку, а он в мою арестантскую робу. Мы с ним были одного роста и комплекции, но, даже не смотря на мой загар, изрядно отличались по цвету кожи.
— А как же это, — и я ткнул в его повязку. – У тебя же флюс.
— Это не флюс – это фэйк, — и он снял с себя повязку, быстренько помазал чем-то черным по моему лицу, повязал мне повязку, а сверху надел свою засаленную кепочку.
В этот момент в двери начал проворачиваться ключ, и мой спаситель быстренько прыгнул в кровать, отвернулся к стенке, накрывшись одеялом и очень натурально, даже для меня, зарыдал. Я едва успел спрятать письмо Джима в нагрудный карман и шагнул из камеры, наклонив голову, в открывшуюся дверь. Надзиратель слишком долго закрывал сначала камеру, потом шел не спеша по коридору, потом открывал сначала одну решетчатую дверь, потом закрывал ее, потом снова шел, а я весь дергался сзади, стараясь не наступить ему на пятки. Потом была еще одна дверь, потом снова коридор и снова дверь. Мне начало казаться, что прежде чем я выйду за пределы тюрьмы, у меня закончится отведенное время на побег. Но все в жизни, в том числе и самая длинная тюрьма рано или поздно заканчивается, и я вышел на залитый солнцем двор. От ворот до ближайшего угла, я еще шел, сдерживая себя и свое сердце, бившееся уже где-то в районе кадыка, но едва завернув, побежал. Через три квартала я запыхался и снова перешел на шаг, но все равно достаточно быстрый. Отдышавшись, снова побежал. Через час я выбрался из города и начал углубляться в пустыню, держа примерно направление в сторону Порта. С собой у меня была лишь украденная мимоходом с уличного лотка бутылка воды. Я не знал, где и как буду добывать еще воду и еду, и что я буду говорить, если меня встретит в пути патруль, но я знал лишь одно, что я дойду. Дойду и уеду из этой страны навсегда, домой, что меня больше здесь ничего не держит. И я действительно хочу домой, очень сильно и поэтому обязательно дойду.
Я шел до темноты, а потом свалился без сил спать прямо на землю. На следующее утро я проснулся от ломоты во всем теле – мышцы отвыкли от даже таких нагрузок, и молочная кислота вытворяла в них черти что. Но, тем не менее, я поднялся и шел целый день, не сделав ни одного привала. Ближе к вечеру, я увидел первое встретившееся мне на пути большое дерево, и понял, что если хоть немного не отдохну, то сил идти дальше у меня уже не будет. Я сел в его жиденькую тень, оперся спиной на ствол и вытянул гудящие ноги. Я не знал, как называет эта полувысохшая большая палка, торчащая посреди пустыни, но мне было хорошо сидеть под ней. Джимми, наверняка знает ее название, но его рядом не было, чтобы спросить. И тут я вспомнил о письме. Неуверенными и слегка подрагивающими руками я вскрыл ставший еще более мятым и слегка мокрым от пота, конверт и принялся читать:
«Дорогой, Билли! Не знаю, получишь ли ты это письмо, но мне просто необходимо его написать, потому что это последнее, что я могу сделать в этой жизни, а так как сделал я и так слишком мало всего, и то не до конца, так допишу хоть это письмо.
Я завтра умру. Говорят, что люди иногда чувствуют приближение своей смерти. Не знаю, по-моему это все ерунда, по крайней мере я ничего такого не чувствую, просто знаю, что завтра умру.
Я знаю, что после моей смерти меня назовут мессией, пророком и еще черт знает кем. Обязательно поставят памятник или даже несколько. Ерунда только все это. Никем таким особенным я себя не ощущаю. Просто мне открылась истина. Или я ее сам открыл? Но, все-таки, скорее всего – мне ее открыли…
Зачем ты живешь? Для чего? Помнишь, я одно время донимал тебя постоянно этими вопросами? Так вот, это я не тебя спрашивал, а себя! Потом перестал, потому что понял, что в этом наверно и заключается часть смысла жизни, постоянно ставить перед собой этот вопрос и пробовать находить на него ответ, и как только ответ начинает проявляться и укрепляться в тебе – спрашивать вновь! Только так. Да, только так можно прожить жизнь хоть с каким-то смыслом и каким-то ростом и стремлением хоть куда-то…
Человек рожден, чтобы быть свободным – это главное. Никто и ничто не вправе лишать его свободы. Она дороже всего и, естественно дороже жизни. Но это не значит, что человек не может пожертвовать своей свободой во имя чего-то или кого-то, и имя этой жертвы – любовь…
Извини, что пишу так сумбурно и неразборчиво, хочу сказать что-то важное, но мысли путаются, а руки дрожат. Мысль, ее ведь вообще невозможно выразить словами, ее можно только понять, а вот точно записать, увы. Тонны бумаги перевели, чтобы описать любовь, а точно до сих пор еще никто не смог. Но мысль, чувство любви, стреляет в голове мгновенно и оно знакомо всем, все его понимают и чувствовали хотя бы раз в жизни, но вот описать никто не может, веками пишут, а до сих пор не могут описать точно…
Так, что еще… Я против всяких религий, я за свободу веры. Религия это клетка для птицы, для души, для свободы. Религия – это любовь с оговорками и неприятием тех, кто думает иначе. А вера – это безграничное небо, где можно свободно парить, любя, не втискивая себя ни в какие рамки и догматы. Вера – это прямое общение человека с богом, это поиск человеком бога, вокруг себя и внутри себя. Религию придумали люди, пытаясь объяснить, то чего они не в состоянии понять. Раньше, когда люди не могли объяснить явлений, которые они видели вокруг себя, то они все приписывали богу или богам и религия властвовала безраздельно, везде за пределами человеческого, недалекого тогда еще понимания. Но люди начали бурить землю, пускать ракеты и в ранее предполагаемых местах, ни рая, ни ада обнаружено не было, и религия отступила, что-то невнятно бормоча про метафизику и другие измерения. Когда папуасы увидели Кука, не вписывающегося со своим кораблем в их представление о мире, то ему сразу же приписали божественное происхождение. А он смотрел на них и не мог ничего объяснить, и крутил пальцем у виска. Но они его не понимали, а даже если бы и понимали, то не поверили бы и наверняка съели. Хотя они вроде его и так съели. У муравьев тоже возникает свое представление о сапоге, которым вы случайно наступили на их дом в лесу. И почти наверняка они впишут этот сапог в свое мировоззрение, приняв его за божественное проявление. И мы вот как те папуасы, ползаем по крылу самолета, не понимая, кто это, думая, что это, наверное, и есть наш бог. А летчики стучат нам в иллюминатор и грозят штатным оружием, потому что мы мешаем им взлететь. Человек в силу ограниченности своего познания, никогда не сможет до конца охватить и осознать понятие бога, творца. Он может лишь понять какую-то маленькую толику, вписать ее в свою пирамидальную иерархическую модель мировоздания, причем водрузив эту часть на самый верх, таращась на нее в страхе и бухаясь на колени. А Он смотрит на все это — на нас, муравьев, ползающих по его подошве и почитающих ее за бога, и понимает, что ничего нам объяснить не сможет никогда. Хотя Он сам нас и породил, но если мы не в состоянии понять, что не надо жрать и гробить самих себя и себе подобных, то тратить время на другие объяснения нет никакого смысла. Поэтому Он вот так и стоит на одной ноге и просто наблюдает, но когда-нибудь Ему ведь может и надоесть, и он захочет опустить свой сапог на землю.
И вообще не надо думать, что мы такие уж особенные и исключительные. Это я тебе, человеческая цивилизация! Кто я? Я – Джим Гаррисон, со страниц этого письма заявляю – перестаньте считать себя эксклюзивными: это типа наша Вселенная, это наш персональный Творец и мы у него единственные! Если мы такие у него единственные и любимые, то почему тогда он нас поселил не в центре вселенной, а задвинул подальше, на задворки, заштатную галактику? Птолемей и все Папы веками били себя и друг друга в грудь, что мир геоцентричен, а потом раз и дудки – он оказывается хренокакцентричен, а Земля находится в далекой задницеокружности. Судя по нашему расположению, мы максимум Его внучатые племянники, и то наверняка, незаконнорожденные птенцы, вот нас и убрали с глаз долой подальше и даже особо не приглядывают, потому-то у нас и такой бардак.
Вообщем, сказать я могу много еще чего, вот написать – сил уже нет. Прощай, Билли! Поцелуй за меня, если сможешь моих папу и маму и попроси их не сердиться на своего непутевого сына. Дяде и тетушке Джинждер…
Дорогой, Билли!»
Письмо почему-то заканчивалось, так же как и начиналось, а затем шла подпись: «Твой Джим». И все, дальше только белая бумага и пустота. И в этот самый момент Джим Гаррисон для меня умер. Нет, я знал, что он умер еще месяц назад, но дочитав письмо до конца, я отчетливо ощутил, что его больше нет и никогда уже не будет. И защипало глаза.
Я положил письмо очень глубоко в карман, поднялся и пошел в сторону дома. Идти мне еще далеко и надо торопиться: ночь в Африке наступает очень быстро.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




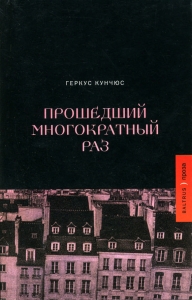





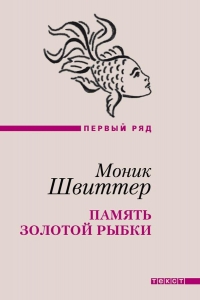
Комментарии к книге «Купите книгу, она смешная», Олег Геннадьевич Сенцов
Всего 0 комментариев