Мариша Пессл Некоторые вопросы теории катастроф
Marisha Pessl
SPECIAL TOPICS IN CALAMITY PHYSICS
Copyright © 2006 by Marisha Pessl
All rights reserved
© М. Лахути, перевод, примечания, 2016
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство ИНОСТРАНКА®
* * *
Под пышной шапкой пены в этом дебютном романе скрывается темный и очень крепкий напиток.
Джонатан ФранзенОторваться невозможно; читаешь всю ночь напролет, а утром чувствуешь себя, как будто оказался в компании, где все вокруг слишком хороши – куда тебе до них, а познакомиться все равно отчаянно хочется. Я в восторге от этой книги.
Одри НиффенеггерЭтот дивный роман мог написать Владимир Набоков, если бы задумал создать Холдена Колфилда в женском образе.
The Dallas Morning NewsБлистающее, ураганное, многогранное чудо. Сюжет держит и не отпускает, а развязка подобна комнате, полной зеркал. Голос рассказчицы искрится неукротимым остроумием и бьющей через край экспрессией. Читать обязательно!
The New York TimesЭксцентричная и остроумная книга, отчасти – роман взросления, отчасти – «дорожная повесть», отчасти – своего рода обзор классической литературы, приправленный щепоткой детектива и романтической комедии.
VogueОбворожительно смешная и веселая книга… Как только дочитаешь до конца, сразу хочется еще.
New York Times Book ReviewДвадцативосьмилетняя Мариша Пессл – ни в коем случае не кроткая миниатюристка. Она самозабвенно резвится и плещется в волнах английского языка… Несомненно, Мариша Пессл талантлива. Ее объемистая первая книга уверенно заняла свое место в списке бестселлеров благодаря остроумию автора, ее неистощимой фантазии и беспощадной наблюдательности.
The Philadelphia EnquirerЭтот эклектично-интеллектуальный роман с детективным уклоном напоминает творчество Донны Тартт, внезапно обратившейся к постмодернизму. Умная, тонкая и едкая книга доставит массу удовольствия литературным ценителям.
Kirkus ReviewЭтот блестящий дебют, несомненно, войдет в число тех редких книг, что становятся классикой сразу после публикации.
The Sunday TelegraphСмешной, умный и невероятно трогательный роман.
Scotland on SundayФинал книги берет за душу… Стиль почти нестерпимо оригинальный. Строчки взмывают ввысь, словно лосось, плывущий против течения.
The Boston GlobeНеожиданно чарующий триллер… Потрясающе органичный стиль и блистательная разгадка тайны.
The Village VoiceУдивительно искренняя, ироничная и мелодраматичная книга… и захватывающая тайна в центре повествования. Мариша Пессл искусно сочетает школьные выходки с увлекательным криминальным сюжетом. Невозможно оторваться, так и глотаешь страницу за страницей.
L.A. WeeklyЭскапистская буффонада, насыщенная аллюзиями из области литературы и поп-культуры, лукавыми эпиграммами, эротической интригой, убийствами и безудержной изобретательностью рассказчицы.
Entertainment WeeklyНечасто дебютный роман производит настолько сильное впечатление… Блистательный стиль Мариши Пессл в сочетании с невероятными поворотами сюжета не позволяют оторваться от чтения. Великолепный автор!
The Independent on SundayТалант Мариши Пессл не вызывает сомнений. Этот яркий дебют наверняка станет началом долгой и успешной писательской карьеры.
Bookpage…очень стильный дебют… умная книга, одновременно веселая и мрачная… история убийства с потрясающе неожиданным финалом.
BooksellerВеликолепно… загадочное убийство в основе настолько хитроумного сюжета, что читатель, едва дойдя до разгадки, наверняка захочет перечитать книгу еще раз, чтобы заново оценить разбросанные там и сям авторские подсказки.
Publishers WeeklyБолее пятисот страниц остроумных аллюзий из области литературы и поп-культуры, с иллюстрациями автора. Этот блистательный дебют ни в коем случае нельзя оставить без внимания.
PeopleНевероятно оригинально, смешно и увлекательно… Этот блестящий дебютный роман убедительно доказывает, что его создательница достойна занять место наравне с самыми известными писателями современности.
Cleveland Plain DealerЗвезды явно благоприятствуют начинающему автору.
Time.comРяды литературных вундеркиндов пополнила Мариша Пессл со своим безумным, шутовским, суперинтеллектуальным остросюжетным дебютным романом… Здесь вы найдете отголоски Сэлинджера, провокационный нуар Патриции Хайсмит, сдержанную манерность Набокова и магические хитросплетения Пинчона… Что касается самой Мариши Пессл – вы о ней еще услышите.
Daily CandyИстория Мариши Пессл – не совсем типичная для американской литературы история Золушки. Выпускница колледжа по специальности «английская литература», Пессл два года работала финансовым консультантом в компании Pricewaterhouse Coopers, а потом бросила работу и села писать роман. Начала она его в 2001 году, а закончила в 2004-м и долго искала, где бы его опубликовать. В частности, послала письмо агенту своего кумира Джонатана Франзена Сьюзен Голомб, приложив первые главы романа и охарактеризовав его следующим образом: «Эта книга не будет похожа ни на что, что вы читали в этом году: забавная, энциклопедическая и безумно амбициозная история о любви и потере, молодости и старении, ужасе и предательстве». Что-то в этом описании зацепило агента, и она потребовала прислать ей заключительные главы, а затем оперативно продала роман издательству Viking. Книга 28-летней писательницы вызвала дикий ажиотаж, через месяц издательство уже допечатывало роман в пятый раз, он твердо держался где-то в середине списка бестселлеров, а когда оказалось, что автор – кареглазая красавица с локонами, то уже ни одно издание не отказалось от того, чтобы написать свою пару строк о Марише Пессл. Издательство даже стало использовать ее внешность как козырь, поместив портрет писательницы на обложку книги и существенно повысив этим продажи.
КоммерсантПосвящается Энн и Нику
Введение
Папа всегда говорил: человеку нужна очень веская причина, чтобы написать историю своей жизни, да еще и ожидать, что ее прочтут.
«Разве что тебя зовут, допустим, Моцарт, Матисс, Черчилль, Че Гевара или Бонд – Джеймс Бонд, – а иначе лучше не трать время даром. Если заняться нечем, лепи куличики из песка или играй в тихие настольные игры, потому что никто, кроме умиленно взирающей на тебя располневшей матушки, не заинтересуется подробностями твоего никчемного существования, которое, несомненно, закончится так же, как и началось, – придушенным писком».
При таких строго заданных условиях я всегда считала, что у меня веская причина появится хорошо если годам к семидесяти, вместе со старческой пигментацией, ревматизмом, блестящим остроумием и виллой в Авиньоне (где я смогу перепробовать 365 различных сыров). Еще у меня будет любовник, лет на двадцать младше, работающий в полях (не знаю в каких – главное, что в кудрявых и золотистых), и – если повезет – небольшая, но заслуженная слава в науке или философии. А вот поди ж ты: решение – да нет, необходимость сесть за стол и написать о своем детстве, а точнее, о том, как оно за один год расползлось по швам, словно старый свитер, обрушилась на меня значительно раньше, чем я предполагала.
Началось все с банальной бессонницы. Почти год прошел с тех пор, как я обнаружила мертвое тело Ханны. Думала, уже сумела стереть все следы той ночи в своем сознании – примерно как Генри Хиггинс упорными изнурительными тренировками истребил у Элизы Дулитл простонародный акцент.[1]
Я ошибалась.
Конец января – а я снова просыпаюсь посреди ночи. В общаге тихо, на потолке по углам притаились колючие тени. У меня нет никого и ничего, только стопка толстых самодовольных учебников вроде «Введения в астрофизику» и грустный черно-белый Джеймс Дин[2] молча смотрит на меня, приклеенный к двери скотчем. А я смотрю на него сквозь кляксы темноты и вижу в мельчайших подробностях мертвую Ханну Шнайдер.
Она висела в метре над землей, на ярко-оранжевом проводе. Язык вывалился изо рта – распухший, вишневого оттенка посудной мочалки. Глаза, похожие на два желудя, или две потускневшие монетки, или черные пуговицы от пальто, какие дети прилепляют на лицо снеговику, ничего не видели. А может, видели все – в том-то и ужас. Дж. Б. Тауэр написал, что в предсмертный миг человек «видит сразу все, что только существовало на свете» (непонятно, правда, откуда он это знал, ведь его «Бренность» написана в расцвете лет). А ее шнурки для ботинок… Про шнурки можно бы написать целый трактат. Они были карминно-красные и завязаны идеально симметрично, двойным узлом.
И все-таки я как неисправимая оптимистка (папа говорил: «Ван Мееры по природе своей идеалисты и приверженцы конструктивного свободомыслия») упрямо надеялась, что бессонница – явление преходящее, как увлечение «камушками-лапушками»[3] или мода на юбки-«солнце». И вот как-то вечером, уже в начале февраля, сижу я, читаю «Энеиду», и вдруг Су-джин, моя соседка по комнате, заявляет, не отрываясь от учебника по неорганической химии, что компания первокурсников с нашего этажа собирается завалиться в гости к преподу по философии, а меня не пригласили, потому что я, мол, «какая-то смурная».
– Особенно по утрам, когда плетешься на вводный курс по контркультуре шестидесятых и «новым левым». Вид у тебя прямо-таки горестный.
Конечно, кто бы говорил! Су-джин, у которой одно и то же выражение лица на все случаи жизни. Я отмахнулась от ее слов, как разгоняют рукой неприятный запах из пробирки во время эксперимента, но с тех пор невольно стала замечать за собой разные, бесспорно угнетающие, мелочи. Например, в пятницу вечером наши девчонки собрались в комнате Бетани смотреть фильмы с Одри Хепбёрн[4], и под конец «Завтрака у Тиффани»[5] я вдруг поймала себя на мысли: пусть Холли не найдет Кота. Если совсем честно, мне хотелось, чтобы Кот так и остался, покинутый, дрожать и мяучить за поломанными ящиками в том кошмарном переулке, который в ближайший час наверняка затопит, если дождь будет и дальше хлестать с тем же голливудским размахом. (Конечно, я не подала виду и радостно улыбалась, когда Джордж Пеппард пылко сжал в объятиях Одри, которая пылко сжимала в объятиях Кота, похожего уже не на кота, а на утонувшую белку. Я даже взвизгнула совсем по-девчачьи, в тон растроганным вздохам Бетани.)
И если бы этим дело ограничилось… Пару дней спустя сижу я на семинаре «Жизнеописания великих американцев» – его у нас ведет аспирант Гленн Оукли, с мучнисто-бледным лицом и привычкой сглатывать посередине слова. Обсуждали смерть Гертруды Стайн[6].
– «В чем же ответ, Гертруда?» – пафосно процитировал Гленн, вскинув левую руку с оттопыренным мизинчиком, словно держал в ней невидимый зонт. С тенью усиков над верхней губой он напоминал Алису Б. Токлас. – «А в чем вопрос, Алиса?»
Я с трудом удержала зевок, случайно глянула в тетрадь и застыла от ужаса. Оказывается, я в рассеянности какими-то странными каракулями выводила на странице довольно пугающее слово: «прощай». Само по себе слово, конечно, звучное и вполне безобидное, но я, как последний психованный страдалец, изобразила его на полях, наверное, раз сорок… И на предыдущей странице тоже.
– Кто может нам объяснить, что подразумевала Гертруда? Синь? Молчите? Где вы витаете? А вы что скажете, Шилла?
– Это очевидно. Она говорила о невыносимой пустоте и бессмысленности существования.
– Очень хорошо!
Выходит, несмотря на все старания (я носила пушистые розовые и желтые свитера, а волосы завязывала в жизнерадостный хвостик), со мной случилось то, чего я так боялась с тех самых пор. Я как-то незаметно стала Одеревенелой и Искореженной – а отсюда прямая дорога к Полному Психозу. Такие страдальцы в более зрелом возрасте морщатся при виде мелких детишек и нарочно разгоняют голубей, которые мирно клюют себе крошки и никому не мешают. У меня каждый раз мурашки бежали по коже, если случайно попадется на глаза броский заголовок или объявление в газете: «Стальной магнат пятидесяти лет внезапно скончался от сердечного приступа» или «РАСПРОДАЖА ПОДЕРЖАННОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ». Но я говорила себе – ничего страшного, у каждого есть свои шрамы. По крайней мере, у всех обаятельных людей. А если у человека шрамы, это еще не мешает быть в целом похожей скорее на Кэтрин Хепбёрн, а не на капитана Квига, на Сандру Ди, а не на Скруджа[7].
Так бы я и погружалась все глубже в пучину мрачности, если бы не удивительный телефонный звонок однажды холодным мартовским днем. Почти год прошел со смерти Ханны.
– Тебя, – сказала Су-джин и протянула мне телефонную трубку, не отрываясь от диаграммы 2114.74 «Аминокислоты и пептиды».
– Алло?
– Привет, это я. Твое прошлое.
У меня дыхание остановилось. Невозможно не узнать ее низкий голос, полный отзвуков секса и дальней дороги, – наполовину Мэрилин Монро, наполовину Чарльз Куролт[8], хотя что-то все-таки изменилось. Раньше сахарно-хрусткий, голос ее словно перемололи в кашу.
– Не волнуйся, я не рвусь возобновить знакомство! – Джейд рассмеялась: короткое «Ха!», словно подброшенный ногой камушек. – Я бросила курить, – сообщила она, явно гордясь собой, и немедленно пустилась в объяснения.
После «Сент-Голуэя» она так и не поступила в университет. Вместо этого, по случаю своих «проблем», добровольно отправилась «в одно такое место, совсем как Нарния»[9], где люди рассказывают о своих чувствах и рисуют фрукты акварелью. Джейд намекнула, что прямо на ее этаже жил «один очень известный рок-музыкант» – на третьем этаже, где находились относительно адекватные (не то что самоубийцы с четвертого и маньяки со второго). Они стали «очень близки», но Джейд не может раскрыть его имя – это значило бы напрочь отринуть все, чему она научилась за десять месяцев «роста и развития» в Хетридж-Парке (похоже, она себя представляла чем-то вроде виноградной лозы или другого ползучего растения). Одним из необходимых условий для «выпуска» (видимо, это слово казалось ей более привлекательным, чем «выписка») было требование избавиться от недосказанностей в своей жизни.
Я для нее – недосказанность.
– Ну и как ты? – спросила Джейд. – Как жизнь? Как папа?
– Папа – словами не описать.
– А Гарвард?
– Нормально.
– Я зачем звоню-то… Хочу извиниться, прямо и без всяких уверток, – официальным тоном сообщила она.
Мне стало грустно. Это звучало совсем непохоже на настоящую Джейд. Та Джейд, которую я знала, никогда не извинялась прямо, а если ее все-таки заставят, пускалась на всевозможные увертки. Но сейчас со мной говорила Джейд-лиана (Strongylodon macrobotrys), представитель семейства Leguminosae, дальний родич обыкновенного гороха.
– Я сожалею о том, как себя вела. Я понимаю, все случилось не из-за тебя. Она просто слетела с катушек. Такое бывает, у каждого свои причины. Пожалуйста, прими мои искренние извинения.
Я хотела было ее огорошить своим маленьким сюрпризом, своей оплеухой, своим мелким шрифтом: «Вообще-то, коли на то пошло…» И не смогла. Не только потому, что струсила. Просто не видела смысла рассказывать ей правду – не сейчас. Джейд расцвела, получая в нужном количестве солнечный свет и воду, обещая дорасти до двадцатиметровой высоты, увить собой каменную стену и в конечном итоге размножаться семенами, черенками летом и отводками весной. А мои слова подействуют на нее как трехмесячная засуха.
Дальше мы пылко обменивались репликами в духе «ну, ты дашь мне свой мейл?» и «надо бы обязательно как-нибудь собраться всем вместе!» – картонные любезности, плохо скрывающие простой факт: мы, скорее всего, больше никогда не встретимся и почти не будем перезваниваться. Время от времени ветер будет приносить ко мне Джейд, как и других приятельниц, точно пыльцу отцветшего одуванчика, с новостями о приторно-сладких свадьбах, затяжных разводах, переездах во Флориду и новой работе в риелторском агентстве, но надолго их возле меня ничто не задержит. Они разлетятся так же просто и бесцельно, как прилетели.
По прихоти судьбы в тот же день у меня была лекция по греко-римскому эпосу. Читал ее заслуженный профессор гуманитарных наук Золо Кидд. Студенты прозвали его Роло, потому что фигурой и цветом лица он напоминал эту тягучую карамель с шоколадным вкусом. Коротенький, кругленький и смуглый, он в любое время года носил клетчатые брюки рождественских цветов, а густые желтовато-седые волосы липли у него к блестящему веснушчатому лбу, словно профессора обляпали майонезом. Обычно к концу его лекции на тему «Боги и безбожие» или «Начало и конец»[10] большинство студентов начинали клевать носом. Профессор, в отличие от моего папы, действовал на слушателей как анестетик – наверное, потому, что говорил бесконечно длинными фразами да еще имел манеру повторять по нескольку раз какое-нибудь слово – чаще всего наречие или предлог, – так что невольно представлялось, будто зелененькая лягушечка скачет по листьям кувшинки.
Однако в тот день я слушала его затаив дыхание.
– Мне тут… тут на днях попалась занятная статейка о Гомере, – говорил Золо, глядя себе под ноги, строго сдвигая брови и шмыгая носом (профессор всегда шмыгал, когда нервничал, рискнув покинуть надежное русло конспекта и позволить себе вольное отступление). – Малоизвестный… малоизвестный журнал, рекомендую всем посмотреть в библиотеке, «Античный эпос и современная Америка». Зимний выпуск, если не ошибаюсь. Оказывается, в прошлом году пара одержимых греко-латинистов вроде меня решили провести эксперимент – проверить силу воздействия эпоса. Они раздали сто экземпляров «Одиссеи» закоренелым преступникам в тюрьме особого режима… Ривербенд[11], если я правильно помню. И что бы вы думали? Двадцать заключенных прочли книгу от корки до корки, а трое из них засели за сочинение собственного эпоса. Один в будущем году опубликуют в издательстве «Оксфорд Юниверсити Пресс». В статье высказывалось предположение, что эпическая поэзия – действенное средство перевоспитания самых… самых ужасных злодеев. Чем-то… чем-то она снижает уровень злости, стресса, агрессии и дает даже самым пропащим ощущение надежды. Не хватает нашему веку истинного героизма, вот в чем причина. Где они, благородные герои? Где великие подвиги? Где боги, музы, воители? Где Древний Рим? Должны же… должны они где-то быть, правда? Если верить Плутарху, история повторяется. Хватило бы только смелости заглянуть… заглянуть в самих себя. Вполне… вполне возможно…
Не знаю, что на меня нашло. То ли так подействовал вид потной физиономии Золо, празднично поблескивающей в свете флуоресцентных ламп, словно отражения карнавальных огней в реке, то ли как он ухватился за край кафедры, будто иначе рухнет на пол грудой разноцветного тряпья… Совсем не так держался папа на преподавательском возвышении, да и на любом помосте. Он никогда не горбился, рассказывая о реформах в развивающихся странах (и вообще о чем вздумается; папа не боялся пускаться в отступления). Он говорил: «Во время лекции я воображаю себя дорической колонной в Парфеноне».
Не дав себе времени задуматься, я встала. Сердце гулко колотилось о ребра. Золо запнулся посреди фразы и вместе с тремя сотнями полусонных студентов ошарашенно наблюдал, как я, не поднимая головы, пробираюсь через нагромождение рюкзаков, курток, вытянутых ног, кроссовок и учебников. По ближайшему проходу я кинулась к двери с надписью «ВЫХОД».
– Ахилл удаляется, – пошутил Золо в микрофон.
В аудитории послышались вялые смешки.
Я прибежала в общагу, села за письменный стол, выложила перед собой толстую стопку чистых листов и начала торопливо корябать вот это предисловие. Сперва в нем шла речь о том, что было с Чарльзом после тройного перелома ноги, когда его спасла национальная гвардия. Говорят, он от боли кричал не переставая: «Господи, помоги!» Голос у Чарльза, когда расстроится, был такой, что кровь стыла в жилах. Невольно представляешь, как эти слова, словно воздушные шарики, надутые гелием, летели по стерильным коридорам окружной больницы аж до родильного отделения и каждый ребенок, пришедший в наш мир в то утро, слышал Чарльзовы вопли.
Конечно, вступление «жил-был на свете прекрасный и несчастный мальчик Чарльз» не совсем справедливо. Чарльз был мечтой школы «Сент-Голуэй», ее доктором Живаго, ее «Дестри снова в седле»[12]. Наш золотой мальчик; Скотт Фицджеральд выбрал бы его из всех одноклассников на выпускной фотографии и описал напоенными солнцем словами вроде «патрицианский» и «всеодобряющая улыбка»[13]. Чарльз наверняка возмутился бы, начни я свой рассказ с такого неприглядного эпизода в его жизни.
Я зашла в тупик (интересно, каким образом пресловутые закоренелые преступники ухитряются лихо преодолевать такое ужасное препятствие, как «чистая страница»). Выбросила смятые листки в мусорную корзину под Эйнштейном (страдающим в заложниках на стене рядом с доской для записок с напоминаниями, которую Су-джин не слишком остроумно окрестила «Делать или не делать»), и тут вдруг я вспомнила папины слова, сказанные когда-то в городе Инид, штат Оклахома. Папа листал на редкость симпатично оформленный буклет, изданный Университетом штата Юта, куда его, если память мне не изменяет, как раз пригласили преподавать, и вдруг произнес:
– Нет ничего более захватывающего, чем хорошо продуманная учебная программа.
Я, наверное, поморщилась или еще какую гримасу состроила, а он покачал головой и сунул довольно-таки увесистую книжицу мне в руки.
– Я серьезно! Что может сравниться с величием преподавателя? Не потому, что он формирует умы и определяет будущее нации, – это весьма сомнительно. Не очень реально повлиять на поколение, еще в утробе матери предназначенное для компьютерной игры «Grand Theft Auto: Vice City». Нет, я о другом. Преподаватель – человек, наделенный властью заключить жизнь в стройные логичные рамки. Не всю жизнь вообще, боже упаси! Всего лишь кусочек, малюсенькую дольку. Он упорядочивает неупорядочиваемое. Ловко раскладывает по полочкам: тут модерн, тут постмодерн, ренессанс, барокко, примитивизм, империализм и так далее. Размечает все это дело контрольными, курсовыми, каникулами, экзаменами. Красотища! Божественная симметрия полугодового курса. Одними названиями заслушаешься: семинар, факультатив, интенсив только для старшекурсников, аспирантура, практикум… Какое потрясающее слово – «практикум»! Вот ты на меня смотришь как на полного психа, но возьмем, например, Кандинского. На первый взгляд – совершеннейшая мазня, а поместить в красивую рамку – и можно смело вешать над камином. Точно так же и учебная программа. Неземной красоты здание венчает чудесный и ужасный итоговый экзамен! А что есть итоговый экзамен? Проверка, насколько глубоко ты проник в самую суть исполинских понятий. Неудивительно, что многие взрослые люди мечтают вернуться в студенчество, – ах, эти жесткие сроки, эта четкая структура! Каркас, за который можно ухватиться. Пусть он выбран произвольно – без него мы бы совсем пропали. Не смогли бы отделить романтизма от викторианства в нашей горестной запутанной жизни…
Я сказала, что он заговаривается, а папа только рассмеялся и подмигнул:
– Когда-нибудь ты поймешь! И запомни: все, что ты имеешь сказать, всегда снабжай подробными комментариями и по возможности наглядными иллюстрациями. Можешь мне поверить, всегда найдется клоун в заднем ряду, где-нибудь поближе к батарее, который поднимет жирную, вялую руку, словно ласт у тюленя, и начнет возмущаться: «Нет, все совсем не так, вы все неправильно рассказываете!»
Я стиснула зубы, глядя на чистую страницу. Авторучка у меня в пальцах крутила тройные аксели, а взгляд упал за окно, где торопились на занятия серьезные гарвардские студенты, по зимнему времени обмотав шеи теплыми шарфами. «Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои – роком ведóмый беглец…»[14] – пару недель назад пропел Золо, отбивая такт ногой, так что клетчатая штанина задралась, показывая тощую лодыжку в беленьком нарядном носочке. Глубоко вздохнув, я вывела вверху страницы самым аккуратным почерком, на какой была способна: «Учебная программа», и ниже: «Обязательное чтение».
Так папа всегда начинал учебный курс.
Часть первая
Глава 1. «Отелло», Вильям Шекспир
Я расскажу вам о смерти Ханны Шнайдер, но сначала – о том, как умерла моя мама.
В три часа пополудни семнадцатого сентября тысяча девятьсот девяносто второго года, за два дня до того, как получить в оксфордском автосалоне «„Вольво“ и „инфинити“ от Дина Кинга» новенький универсал, моя мать, Наташа Алисия Бриджес Ван Меер на своем белом «плимуте-горизонт» (папа его прозвал «верная смерть») проломила ограждение на обочине автострады Миссисипи-Стейт-7 и врезалась в дерево.
Смерть наступила мгновенно. Так же мгновенно наступила бы и моя смерть, если бы по очередной необъяснимой прихоти судьбы папа утром не сообщил маме по телефону, что сегодня ей не нужно забирать меня из детского сада. Папа решил удрать от студентов, которые вечно караулят его после семинара по политологии (тема: «Урегулирование конфликтов») и донимают глупыми вопросами. Он заберет меня из детского садика мисс Джетти и повезет в заповедник Уотер-Вэлли, штат Миссисипи, знакомиться с дикой природой.
Пока нам с папой рассказывали, что в штате Миссисипи действует одна из лучших в стране программ по охране популяции оленей, достигающей 1 750 000 особей (больше только в Техасе), спасатели пытались при помощи автогена извлечь мамино мертвое тело из покореженной машины.
Папа говорил: «Твоя мама была арабеска».
Он любил описывать ее при помощи балетных терминов (сравнивал с такими элементами, как «аттитюда», «плие» и «балансе») – отчасти потому, что она в детстве семь лет занималась в знаменитом нью-йоркском хореографическом училище Ларсона и только по требованию родителей перевелась в школу Айви на Восточной Восемьдесят первой улице), но еще и потому, что вся ее жизнь была подчинена строгой красоте и дисциплине. «Получив классическое образование, Наташа уже в ранней молодости выработала собственный стиль, который ее родные и друзья считали весьма радикальным для своего времени», – говорил папа, имея в виду, что мамины родители, Джордж и Женева Бриджес, как и ее ровесники, не понимали, почему Наташа предпочитает жить не в родительском пятиэтажном таунхаусе близ Мэдисон-авеню, а в крохотной квартирке в Астории, почему работает не в «Америкэн-экспресс» и не в «Кока-Коле», а в некоммерческой организации помощи молодым матерям, почему влюбилась в папу – человека на тринадцать лет себя старше.
После третьей порции бурбона папа начинал рассказывать о том, как они познакомились в Стилмановском музее древнеегипетского искусства на Восточной Восемьдесят шестой улице, в зале фараонов. Папа углядел ее через весь зал, переполненный мумифицированными останками древнеегипетских царей и посетителями, поедающими утку за тысячу долларов с носа; вся прибыль должна была пойти благотворительным организациям для помощи детям третьего мира (папе совершенно случайно отдал два билета коллега-преподаватель, который в тот день не смог прийти, так что за свое присутствие на этом свете я должна благодарить преподавателя политологии Колумбийского университета Арнольда Б. Леви и диабет его супруги).
Наташино платье в папиных воспоминаниях постоянно меняло цвет. Иногда «ткань оттенка слоновой кости облегала ее идеальную фигуру, так что мама привлекала все взгляды, словно Лана Тернер в фильме „Почтальон всегда звонит дважды“». То вдруг оказывалось, что она была «с головы до ног в красном». Папа пришел на выставку с дамой – некой мисс Люси Мари Миллер из города Итаки, недавно поступившей на должность младшего преподавателя на отделение английской литературы. Какого цвета было на ней платье, папа не помнил вообще. Забыл даже, как они встретились и как простились, – быть может, после краткой дискуссии о замечательной сохранности тазобедренной кости царя Таа Второго. Забыл – потому что всего пару мгновений спустя увидел возле голеностопного сустава Яхмоса Четвертого блондинку с аристократическим профилем – Наташу Бриджес, рассеянно беседующую со своим спутником, Нельсоном Л. Эймсом (из тех, сан-францисских Эймсов).
– Парень обладал харизмой ковровой дорожки, – говорил о нем папа, хотя в более добродушные минуты несчастный мистер Эймс оказывался повинен всего лишь в «безвольной осанке» и «какой-то щетине на голове».
Мамин с папой роман развивался бурно, точно в волшебной сказке. Все у них было как полагается – и злая королева, и бестолковый король, и потрясающая принцесса, и обедневший принц, и неземная любовь (полюбоваться ею слетались на подоконник птички и прочие лесные создания). Было и Страшное проклятие напоследок.
– С ним ты умрешь несчастной! – будто бы сказала маме Женева Бриджес во время их последнего разговора по телефону.
Папа никогда не мог внятно объяснить, почему Джордж и Женева Бриджес не пришли от него в восторг, – прочие же все приходили! Гарет Ван Меер родился в городе Биль, в Швейцарии, двадцать пятого июля 1947 года. Родителей своих не знал (хотя подозревал, что его отец – скрывающийся немецкий солдат). Вырос он в Цюрихе, в приюте для мальчиков-сирот, где встретить Любовь (Liebe) и Понимание (Verständnis) так же маловероятно, как актеров «Крысиной стаи»[15] (Der Ratte-Satz). За душой у папы не было ничего – одна только «железная воля» толкала его к «величию». Успехами в учебе папа заслужил стипендию в Университете Лозанны, прошел курс экономики, два года преподавал обществоведение в Международной школе Джефферсона в Кампале (Уганда), работал завучем в школе Диаса-Гонсалеса в Манагуа (Никарагуа) и в 1972 году впервые приехал в Америку. В 1978-м защитил диссертацию в Гарвардской школе государственного управления имени Кеннеди. Тема его высоко оцененной диссертационной работы звучала так: «Проклятие борца за свободу: заблуждения партизанской войны и революций третьего мира». Следующие четыре года папа преподавал в Колумбии (в городе Кали), а потом в Каире. В свободное время занимался исследовательской работой на Гаити, на Кубе и в странах Африки, в том числе Замбии, Судане и ЮАР, собирая данные для книги о территориальных конфликтах и международной помощи. Вернувшись в Соединенные Штаты, он занял в Университете Брауна (Провиденс, Род-Айленд) должность профессора политологии, спонсируемую Гарольдом Г. Кларксоном, а в 1986 году – должность преподавателя по теме «Мировой правопорядок», спонсируемую Айрой Ф. Розенблюмом, в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Тогда же вышла его первая книга – «Власти предержащие» («Гарвард Юниверсити Пресс», 1987). В том году отец получил шесть разных наград, в том числе премию имени Нельсона Манделы от Американского института политологии и престижную премию Макнили.
А вот когда Джордж и Женева Бриджес из дома номер 16 по Восточной Шестьдесят четвертой улице познакомились с Гаретом Ван Меером, они его не удостоили ни премии, ни даже почетной грамоты.
– Женева еврейка, она не переносила моего немецкого акцента. Хотя и сама говорила с акцентом – их семья была из Санкт-Петербурга. Жаловалась, что моя речь ей напоминает о Дахау. Сколько я сил положил на борьбу с акцентом – благодаря этому сейчас у меня идеально чистый выговор. Эх, да что там… – Папа сокрушенно махал рукой. – Видимо, они считали, что я для их дочки недостаточно хорош, и все тут. Собирались выдать ее за приличного мальчика с дурацкой прической и солидной недвижимостью. Из тех, кто мир видит исключительно через окна президентского номера в отеле «Ритц». Родители ее совсем не понимали.
И вот мама, «связав свой долг, судьбу, красу и ум / С бродячим иноземцем, колесящим / То здесь, то там»[16], влюбилась в папины рассказы о разных случаях в морях и в поле[17]. Они зарегистрировали брак в городе Питтс, штат Нью-Джерси, завербовав двух свидетелей в придорожной забегаловке: водителя-дальнобойщика и официантку по имени Персик – она уже четыре дня не спала и за время церемонии зевнула тридцать два раза (папа считал). Примерно в это время у папы возникли разногласия с консервативно настроенным главой отделения политологии Колумбийского университета. Закончилось все грандиозным скандалом по поводу папиной статьи под заглавием «Стилет в рукаве: причуды американской гуманитарной помощи» («Федеральный журнал международных отношений», т. 45, № 2, 1987). Папа уволился, не дожидаясь конца семестра. Они переехали в Оксфорд (штат Миссисипи). Папа вел курс «Урегулирование конфликтов» в Университете Миссисипи, а мама пошла работать в Красный Крест и увлеклась коллекционированием бабочек.
Пять месяцев спустя родилась я. Мама решила назвать меня Синь, потому что за первый год изучения чешуекрылых в ассоциации любителей бабочек «Южные красавицы» (вечерние занятия по вторникам в Первой баптистской церкви, лекции на темы «Среда обитания, хранение и симметричное расположение задних крылышек», а также «Как следует красиво располагать экспонаты в коллекции») смогла поймать всего одну бабочку – синего кассиуса (см. статью «Leptotes cassius» в кн. «Словарь бабочек», Мелд, 2001). Наташа перепробовала разные виды сачков (полотняный, муслиновый, сетчатый), разные ароматы для приманки (жимолость, пачули), разные методики подкрадывания (с наветренной стороны, с подветренной стороны, с траверза) и всевозможные типы замаха (замах сверху, укороченный выпад, прием Лоуселл – Пита). Беатриса Лоуселл по прозвищу Пчелка – председатель «Южных красавиц» – даже давала маме частные уроки по воскресеньям, обучая приемам охоты на бабочек («зигзаг», «подход по касательной», «скоростной рывок», «поимка на взлете»), а также искусству скрывать свою тень. Ничто не помогало. Белянка, адмирал и вице-король отскакивали от маминого сачка, словно магниты с одноименными полюсами.
– Мама решила, это знак, и целиком посвятила себя ловле исключительно синих кассиусов, – рассказывал папа. – Каждый раз, как соберется в поля, приносила домой штук по полсотни. Стала настоящим знатоком. Однажды ей позвонил сам сэр Чарльз Эрвин, главный специалист по чешуекрылым в Саррейском энтомологическом музее в Англии, – его целых четыре раза показывали по телевидению в передаче о насекомых. Они с мамой побеседовали об особенностях кормления Leptotes cassius на зрелых цветках лунной фасоли.
Когда я начинала слишком громко выражать ненависть к своему имени, папа всегда говорил одно и то же:
– Радуйся, что она не ловила перламутровку зеленоватую или шмелевидку скабиозовую!
Сотрудники полиции округа Лафайетт рассказали, что Наташа, видимо, средь бела дня заснула за рулем. Папа признался, что месяцев за четыре-пять до аварии у Наташи появилась привычка засиживаться до утра со своей коллекцией. Она засыпала в самых неожиданных местах: то помешивая овсянку на плите, то во врачебном кабинете на смотровом столе, когда доктор Моффет прослушивал ее сердце, и даже на эскалаторе между первым и вторым этажами универмага «Риджленд».
– Я ей говорил: не уродуйся ты так над этими козявками, – рассказывал папа. – В конце концов, это всего лишь хобби. А она ночи напролет возилась со своими сушилками и распрямилками. Такая упрямая бывала иногда… Если что в голову вобьет – ее не сдвинешь. И в то же время хрупкая, как эти ее бабочки. Как всякий художник, глубоко чувствовала. Чувствительность – это хорошо, но таким людям, наверное, повседневная жизнь тяжело дается. Я еще шутил: мол, ей, наверное, больно всякий раз, как где-нибудь в Бразилии срубят дерево, или на муравья наступят, или там воробей в оконное стекло врежется.
Я бы, наверное, маму почти и не помнила, если бы не папины рассказы и замечания (всякие там па-де-де и аттитюды). Мне было пять, когда она умерла, и в отличие от тех гениальных людей, что отчетливо помнят даже собственное рождение («Ужасающе: словно землетрясение под водой», – сказал об этом событии известный врач Иоганн Швейцер), моя память о жизни в штате Миссисипи, к сожалению, работает с перебоями.
Папина любимая фотография, черно-белая, сделана еще до их встречи. На ней Наташе двадцать один год и она наряжена в викторианское платье для какого-то маскарада (нагл. пос. 1.0). Сам снимок не сохранился – я при необходимости рисовала иллюстрации по памяти. Хоть мама и на переднем плане, она словно теряется в интерьере, переполненном, как говорил, вздыхая, папа, «буржуазными цацками» (вообще-то, это подлинники Пикассо).
[НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ 1.0]
И хотя Наташа смотрит прямо в камеру, изысканная и неприступная, у меня не возникает и проблеска узнавания, когда гляжу на эту белокурую красавицу с четко очерченными скулами и великолепными волосами. Ну никак не сочетается она с тем, что все-таки запомнилось, хотя и в моих воспоминаниях осталось общее впечатление спокойной уверенности в себе. Гладкое, словно полированное дерево, запястье у меня под рукой; мама ведет меня в классную комнату с оранжевым ковром, пахнущую клеем, или везет в машине – молочно-белые волосы почти скрывают правое ухо, и только краешек мочки выглядывает, словно плавничок из-под воды.
День, когда она умерла, тоже вспоминается смутно и расплывчато. Кажется, я помню, как папа сидит в белой спальне, закрыв лицо руками, из-за ладоней слышатся странные глухие звуки, в комнате пахнет пыльцой и влажными листьями. Может, эти воспоминания я сама себе придумала, под давлением необходимости и «железной воли»?
Что я точно помню – как смотрю на то место у сарая, где всегда стоял ее «плимут», а там ничего нет, только лужица машинного масла. Еще помню, несколько дней, пока папа не перестроил свое расписание, меня забирала из садика соседка – красивая девушка в джинсах, с коротким ярко-рыжим ежиком волос. От нее пахло мылом, и, подъехав к дому, она не выходила сразу из машины, а какое-то время сидела, вцепившись в руль, и что-то шептала еле слышно – как будто просила прощения, но обращалась не ко мне, а к гаражной двери. Потом закуривала сигарету и тогда сидела молча, глядя, как дым вьется вокруг зеркальца заднего вида.
Помню еще, что наш дом, обычно скрипучий и сипящий, как страдающая ревматизмом старая тетушка, без мамы весь словно подобрался – ждал, когда она вернется и можно будет снова расслабиться и скрипеть, сколько душа пожелает, гримасничая половицами от наших торопливых шагов, хлопая входной дверью ровно по два раза с четвертью, икая карнизами, когда невоспитанный ветерок врывается в окно. Без мамы дом упорно отказывался жаловаться на жизнь. До нашего с папой отъезда в Оксфорд в 1993 году он тщательно строил благопристойную мину, как на нудной проповеди преподобного Монти Говарда в Новой пресвитерианской церкви, куда папа возил меня с утра пораньше каждое воскресенье, а сам ждал на автостоянке у «Макдональдса» через улицу – ел картофельные оладьи и читал «Нью Рипаблик».
При всей обрывочности воспоминаний читатель может себе представить, что дата семнадцатое сентября 1992 года невольно приходит на ум, когда, к примеру, учитель, забыв твое имя, называет тебя Зеленкой. Я вспоминала семнадцатое сентября в начальной школе «По-Ричардс», когда забивалась в самый темный угол за стеллажами в библиотеке, жевала принесенные из дома бутерброды и читала «Войну и мир» (Лев Толстой, напис. 1865–1869) или когда мы с папой ехали ночью по шоссе, папа хранил строгое молчание и его профиль был словно маска, вырезанная на тотемном столбе. Я смотрела в окно, на пролетающие мимо кружевные силуэты деревьев, и страдала от очередного приступа болезни под названием «что, если…». Что, если папа не надумал бы вдруг за мной приехать и меня из детского садика забрала бы она и зная, что я сижу на заднем сиденье, очень сильно старалась бы не заснуть? Опустила бы стекло в окне, чтобы ветер трепал ее белокурые волосы (открывая целиком правое ухо), распевала во все горло свою любимую песню – «Революцию» Битлов? Или: что, если она совсем и не спала? Что, если она нарочно свернула прямо на ограждение на скорости сто двадцать километров в час, проломила металлические планки и врезалась в стену тополей за девять метров до поворота?
Папа не любил о таком говорить.
– Ты эти мысли брось! Еще с утра мама увлеченно рассказывала, что хочет записаться на вечерние курсы – «Знакомство с мотыльками Северной Америки». Просто она перестаралась со своими ночными бдениями. Лунное безумие, как у мотыльков, – прибавил он тихо, глядя в пол.
Потом с улыбкой посмотрел на меня, стоящую в дверях, но взгляд был тяжелый, словно требовалось усилие, чтобы его удержать.
– И хватит об этом, – сказал папа.
Глава 2. «Портрет художника в юности», Джеймс Джойс
Книга о «Властях предержащих» продавалась неожиданно успешно (по сравнению с другими бестселлерами «Гарвард Юниверсити Пресс» за тот же год, такими как «Валюта за рубежом» [Тони, 1987] и «Франклин Делано Рузвельт и его Новый курс: первые сто дней» [Робб, 1987]). Благодаря успеху книги, а также безупречному двадцатистраничному резюме, частому появлению статей в уважаемых (но редко читаемых) специализированных журналах, таких как «Международные отношения и внешняя политика США» и «Федеральный форум» Дэниела Хьюитта (не говоря уж о номинации в 1990 г. на прославленную премию Иоганна Д. Стюарта за исследования в области политологии) папа сумел создать себе имя, и теперь его постоянно приглашали в разные университеты Америки читать лекции по политологии.
Впрочем, папа уже не стремился в престижные университеты, где преподавательские должности спонсируют меценаты-благотворители со звучными именами: изучение теории управления в Принстоне финансирует Элиза Грей Пестоун-Паркинсон, исследования международных отношений в Массачусетском технологическом – Луиза Мей Холмо-Гилзенданнер и так далее. (Думаю, в престижных университетах о нем не заплакали; наверняка нашлись еще желающие поучаствовать в «перекрестном опылении» – так папа называл академическую деятельность высоколобых интеллектуалов.)
Теперь папа предпочитал дарить свои знания, опыт и эрудицию нижнему ярусу образовательной пирамиды («нижним звеньям пищевой цепи», говорил папа в настроении «бурбон»). Выбирал учебные заведения, о которых никто никогда не слышал – порой даже зачисленные в них студенты. Чезвикский университет, Додсон-Майнер, Геттисбергская школа наук и искусств, Хиксбергский колледж, университеты Айдахо, Оклахомы и Алабамы в Рунике, в Стенли, в Монтерее, во Флитче, в Паркленде, в Пикаюне, в Петале.
– Зачем я буду тратить свое драгоценное время, обучая богатеньких деток, чьи мозги давно в простоквашу превратились от самодовольства и потребительства? Нет уж, лучше я буду просвещать простую, непритязательную молодежь Америки. «Величья нет ни в ком, в простом лишь только люде».
На вопросы коллег, почему он больше не преподает в университетах Лиги плюща[18], папа сыпал пафосными цитатами насчет «простого люда». А между тем в семейном кругу, за проверкой особо идиотской экзаменационной работы или косноязычного реферата светлый и неиспорченный «простой люд» легко превращался в «недоумков», «кретинов» и «чудовищную ошибку природы».
Вот кусочек папиной интернет-странички на сайте Арканзасского университета в Вильсонвилле ():
Доктор Гарет Ван Меер (Гарвардский ун-т, 1978) читает курс политологии в 1997/1998 учебном году. Основное место работы – Университет Миссисипи, завкафедрой отделения политологии и директор центра исследований Соединенных Штатов. Круг его интересов включает такие вопросы, как восстановление экономики и оживление политической жизни в странах Третьего мира, ликвидация последствий вооруженных конфликтов, а также военное вмешательство и гуманитарная помощь развивающимся странам. В настоящее время доктор Ван Меер работает над книгой «Железная хватка» – об этнической политике и гражданских войнах в странах Африки и Южной Америки.
Папа обычно указывал Университет Миссисипи в качестве основного места работы, хотя за десять лет странствий мы ни разу туда не возвращались. И всегда он «в настоящее время работал» над книгой «Железная хватка», хотя я не хуже его знала, что никто над ней не работает вот уже лет пятнадцать, ни в настоящее время, ни в ненастоящее, и книга – пятьдесят пять блокнотов, исписанных неразборчивым почерком, – просто хранится в большой картонной коробке с надписью черным маркером: «ХВАТКА».
– Америка! – вздохнул папа, сжимая руль.
Наш голубой «вольво» – универсал пересек границу очередного штата. «Добро пожаловать во Флориду! Солнечный штат приветствует вас!» Я опустила солнцезащитный щиток, чтобы не так слепило глаза.
– Ничто не сравнится с этой страной! Нет, правда, земля обетованная, да и только. Страна свободных и смелых! Так, ты не докончила сонет номер тридцать. «Когда на суд безмолвных, тайных дум я вызываю голоса былого…»[19]. Давай, я же знаю, что ты знаешь. Едем дальше: «И старой болью я болею снова…»
Начиная со второго класса в начальной школе «Уодсворт Элементари» города Уодсворт (штат Кентукки) и до выпускного класса средней школы «Сент-Голуэй» в городе Стоктоне (Северная Каролина) я проводила в голубом «вольво» не меньше времени, чем в классной комнате. И хоть папа всегда умел убедительно объяснить наш бродячий образ жизни (см. ниже), я втайне воображала, будто мы странствуем, потому что папа убегает от маминого призрака – а может, наоборот, ищет его в каждом снятом на время домике с двумя спальнями и скрипучими качелями на крылечке, в каждом придорожном кафе, где подают бисквит, по вкусу не отличающийся от губки, в каждом мотеле с плоскими, как блин, подушками, лысым ковром и сломанной кнопкой «КОНТРАСТ» у телевизора, так что дикторы похожи на разноцветных человечков из «Шоколадной фабрики»[20].
Папа о воспитании детей:
– Ничто так не расширяет кругозор, как путешествия! Взять хотя бы «Дневники мотоциклиста»[21]. Монроз Сен-Милле пишет в своей книге «Возраст открытий»: «Сидеть на месте – значит быть глупым. Быть глупым – значит умереть». А мы будем жить! Какая-нибудь дуреха за соседней партой только и знает, что свою Кленовую улицу и свой аккуратненький беленький домик с аккуратными белыми родителями внутри. А ты после своих странствий будешь, конечно, знать и Кленовую улицу, а кроме нее – еще бесконечные пустыни и заброшенные дома, карнавалы и луну. Человека, сидящего на ящике из-под яблок возле автозаправки в городке Безрадостный, штат Техас, потерявшего обе ноги во Вьетнаме, женщину в будке у въезда в городок Забубенный, штат Делавэр, у которой шестеро детей и муж без зубов, зато с прокуренными легкими. Когда учитель предложит разобрать мильтоновский «Потерянный рай», одноклассникам за тобой не угнаться – ты их оставишь далеко за кормой. Далекой искоркой мелькнешь у горизонта! А уж когда ты наконец-то вступишь в большую жизнь… – Отец повел плечом, и улыбка его была ленивой, точно старый пес. – Войдешь в историю, куда деваться!
Обычно за год мы успевали пожить в трех городах: в одном с сентября по декабрь, в другом с января по июнь, в третьем с июля по август. Пару раз мы охватили целых пять городов. В конце концов я пригрозила, что начну дико подводить глаза черным карандашом и носить мешковатую одежду. Отец решил, что лучше уж вернуться к традиционному числу три.
Езда с отцом не дарила чувство просветления и освобождения души (см. Дж. Керуак, «В дороге»[22], 1957). Она напрягала разум. Сонетные марафоны. «Сто миль одиночества: выучи наизусть „Бесплодную землю“»[23]. Папа мерил дорогу от одного края штата до другого не отрезками расстояния, а строго выверенными получасовыми тренингами на выбранную тему. «Словарные карточки: минимальный лексикон будущего гения». «Авторские аналогии» («Аналогия есть цитадель мысли: самый трудный способ управлять неуправляемыми отношениями»). «Устное сочинение» (с последующим двадцатиминутным проверочным опросом). «Война слов» (на ринге Кольридж против Вордсворта). «Шестьдесят минут солидного романа» (среди охваченных произведений: «Великий Гэтсби» [Фрэнсис Скотт Фицджеральд, 1925] и «Шум и ярость» [Уильям Фолкнер, 1929]). И наконец – «Радиотеатр ученицы Ван Меер» с такими постановками, как «Профессия миссис Уоррен» (Дж. Б. Шоу, 1894), «Как важно быть серьезным» (Оскар Уайльд, 1895) и отрывки произведений Шекспира, включая поздние пьесы.
– Синь, я не могу отличить рафинированный светский выговор Гвендолен от произношения выросшей в деревне Сесили. Постарайся четче показать их различие, и кстати, если позволишь небольшую режиссерскую подсказку в духе Орсона Уэллса, тут понимать надо: обе девушки в этой сцене жутко злятся. Нельзя показывать мирное благодушное чаепитие! Для них многое поставлено на карту. Обе уверены, что влюблены в одного и того же человека – в Эрнеста!
Несколько штатов спустя, в вечнозеленых дорожных сумерках, охрипший и со слезящимися глазами, папа включал не радио, а свой любимый компакт-диск «А. Э. Хаусман. Стихи на обрыве Уэнлок-Эдж»[24], и мы молча слушали стальной баритон сэра Брэди Хеливика из Королевского Шекспировского театра (среди недавних ролей – Ричард в «Ричарде III», Тит в «Тите Андронике», Лир в «Короле Лире»). Под томные звуки скрипки он читал «Когда мне был двадцать один» и «На смерть молодого атлета», а папа то и дело подхватывал текст, стараясь перещеголять запись.
Стар и мал, «ура» крича, Тебя носили на плечах.– А что, из меня получился бы актер, – сказал папа, откашливаясь.
Мы с папой отмечали красными кнопками на карте Соединенных Штатов все города, в которых останавливались хотя бы совсем ненадолго («Наполеон таким же образом отмечал продвижение своих войск», – говорил папа). Судя по этой карте, с моих шести до шестнадцати лет мы успели пожить в тридцати девяти городах тридцати трех штатов, не считая Оксфорда, а я успела поучиться примерно в двадцати четырех школах, включая начальные, средние и старшие классы.
Папа шутил, что меня, мол, среди ночи разбуди, отбарабаню книгу «В поисках Годо[25]: как отыскать в Америке приличную школу», но это он был чрезмерно суров. Сам преподавал в университетах, где «студенческим клубом» называлась пустая комната, в которой стояли только аппарат для игры в настольный футбол да торговый автомат с парой шоколадок. А я, между прочим, училась в просторных, пахнущих свежей краской классах и монументальных спортзалах. В школах Тысячи команд (футбольная, баскетбольная, бального танца); школах Тысячи списков (прогульщиков, отличников, наказанных); школах, Исполненных новизны (новая автостоянка, новое меню, новый кабинет изобразительного искусства); школах, Овеянных стариной (там очень любят употреблять в рекламных брошюрках слова «классический» и «традиционный»); школах Блистательных библиотек (где книги пахнут клеем и «Мистером Проктором»); школах Отвратных библиотек (где книги пахнут пóтом и мышиными какашками); в школах со Слезливыми учителями, Сопливыми учителями, Учителями, которые не расстаются с кружкой остывшего кофе, Учителями, которым не наплевать на детей, Учителями, которые втайне люто ненавидят всех этих мелких поганцев.
Нельзя сказать, что, вступая в очередное высокоорганизованное сообщество с устоявшимися правилами и поведенческой иерархией, я немедленно обретала статус Истерички С Бегающими Глазами или Нудной Зубрилки В Тщательно Отглаженной Клетчатой Юбочке. Я не получала даже титула Новенькой – его у меня мигом отбирала какая-нибудь другая девочка, у которой губы пухлее и смех звонче.
Я бы рада считать, что была наблюдателем в дикой природе, подобно Джейн Гудолл[26], и совершала потрясающие открытия, не нарушая естественного баланса вселенной. Но папа говорит, по результатам его исследований, среди племен Замбии титул что-то значит только в том случае, если его подтверждают другие. А спроси какую-нибудь Загорелую Спортсменку С Гладко Выбритыми Ногами, она наверняка скажет, что если я и Джейн, то уж никак не Джейн Гудолл и не Простушка Джейн, не Бедовая Джейн[27], не «Что случилось с малышкой Джейн?»[28] и, уж конечно, не Джейн Мэнсфилд[29].[30] Скорее что-то вроде Джейн Эйр дорочестеровской эпохи, известной под псевдонимами Не Поняла, О Ком Речь, и А-а, Эта.
Наверное, здесь следует поместить краткое описание внешности (нагл. пос. 2.0). Очевидно, полускрытая в толпе темноволосая девочка в очках, похожая на застенчивую сову, – это я и есть (см. статью «Сплюшка» в кн. «Энциклопедия живых существ», 4-е изд.). Вокруг меня по часовой стрелке, начиная с правого нижнего угла: Льюис Полк по прозвищу Альбинос (его вскоре временно отстранили от занятий за то, что принес револьвер на урок алгебры); Джош Стетмайер (его старшего брата Бита посадили за продажу ЛСД восьмиклассникам); Хоуи Истон (он перебирал девчонок, как охотник на оленей, способный в один день расстрелять сотню обойм; поговаривали, что в списке его побед числилась и наша учительница ИЗО, миссис Эпплтон); Джон Сато, у которого изо рта воняло, точно из нефтяной скважины; и наконец, всеобщее посмешище Сара Маршалл ростом шесть футов три дюйма[31] – всего через несколько дней после того, как нас фотографировали, она уехала из Клирвуд-Дэй в Берлин, по общему мнению – совершить переворот в немецком женском баскетболе.
«Ты – вылитая мама, – высказался папа, увидев снимок. – У тебя та же балетная грация и осанка. Все уродины мира за такое убить готовы».
У меня голубые глаза, веснушки и рост примерно пять футов три дюйма[32], если встать на цыпочки.
О чем еще надо упомянуть: хоть папа и получил у Джорджа и Женевы Бриджесов позорно низкие оценки за обязательную и произвольную программу, внешность у него была того типа, что выигрышней всего раскрывается в зрелом возрасте. Как видите на снимке, сделанном в университете Лозанны, папа неуверенно щурится в объектив, у него слишком агрессивно-светлые волосы, слишком аскетично-бледная кожа, и вся его крупная фигура как-то нерешительно скособочена (нагл. пос. 2.1). Считается, что глаза у папы карие, но в тот период их цвет скорее можно было назвать невнятным. Зато с годами (хорошенько прожарившись в африканском климате) папа стал жестче и приобрел потрепанно-грубоватый вид (нагл. пос. 2.2). Благодаря этому он сделался мишенью, маяком, влекущей электрической лампочкой, на которую слетались женщины по всей стране. Данное явление особенно затронуло возрастную группу около тридцати пяти лет.
Женщины цеплялись к папе, как пух липнет к шерстяным брюкам. Я давным-давно придумала для них специальное прозвище, хотя сейчас мне за него немного совестно: июньские букашки (см., например, ст. «Зеленый фруктовый жук – Cotinis mutabilis» в кн. «Обыкновенные насекомые», т. 24).
Была такая Мона Летровски, актриса из Чикаго, с широко посаженными глазами и темными волосками на руках, – она любила орать, повернувшись к нему спиной: «Дурак ты, Гарет!» Предполагалось, что тогда папа подбежит к ней, развернет к себе за плечи и увидит выражение горькой нежности на ее лице. Только папа ни разу к ней не подошел и никакой горькой нежности не увидел. Он просто смотрел на ее спину, словно это было произведение абстрактной живописи, а потом уходил на кухню и наливал себе стаканчик бурбона. Была еще Конни Медисон Паркер – аромат ее духов висел в воздухе, точно потрепанная пиньята[33]. Была Зула Пирс из города Окуш (штат Нью-Мексико) – темнокожая, выше папы ростом, так что когда они целовались, ей приходилось наклоняться, будто подсматривая в замочную скважину: кто это там пришел? Вначале она меня звала «Синь, лапушка», а потом, по мере того как разладились их с папой отношения, «Синьлпшка», затем «Синюшка» и в конце концов «Синюха». («Синюха меня с самого начала невзлюбила!» – визжала она.)
[НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ 2.0]
[НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ 2.1]
Продолжительность папиных романов колебалась от срока высиживания яиц утконоса (19–21 день) до срока беременности белки (24–45 дней). Если честно, многих его приятельниц я ненавидела – особенно тех, что пытались меня воспитывать в духе истинной женственности, вроде Конни Медисон Паркер, которая врывалась в ванную и отчитывала меня за то, что не выставляю напоказ свое «богатство» (см. ст. «Моллюски» в кн. «Энциклопедия живых существ», 4-е изд.).
Конни Медисон Паркер (36 лет) по поводу «богатства»:
– Детка, надо уметь показать товар лицом! Иначе мальчишки не будут обращать на тебя внимания. Я-то знаю, о чем говорю, – у меня сестра такая же плоская, как ты. Прямо техасские Великие равнины! Не на чем глаз остановить. Вот однажды глядь – а у тебя совсем никакого богатства не осталось. Что тогда делать будешь?
[НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ 2.2]
Не все июньские букашки были такие ужасные. Попадались среди них и безобидные экземпляры вроде Талли Мейерсон с печальными глазами. Мне ее даже было немного жаль. Хоть папа всегда откровенно давал понять, что они в его жизни недолговечны, как моток скотча, большинство июньских букашек упорно не замечали его равнодушия (см. ст. «Бассет» в кн. «Энциклопедия собачьих пород», т. 1).
Наверное, каждая июньская букашка понимала, что на прочих букашек папе наплевать, но была уверена, что с ней-то все будет иначе – ведь она вооружена, помимо личного опыта разрыва отношений, многолетним опытом чтения статей в дамских журналах и подобных печатных изданиях, например: «Как привести его к алтарю» («Траск», 1990) и «Немного прохладцы: не показывайте ему своих чувств (чтобы его тянуло к вам сильнее)» («Марс», 2000). Два-три незабываемых свидания, и папа быстро поймет и прочувствует, как неотразима она у плиты на кухне, как раскованна в спальне, как мила и общительна в поездках на автомобиле. И как искренне они удивлялись, когда папа выключал свет, безжалостно смахивал несчастную букашку с притолоки и щедро поливал крыльцо средством от насекомых.
Мы с папой проносились через очередной городок подобно пассату, оставляя после себя бесплодную пустыню.
Иногда июньские букашки пытались нас остановить. Дурочки, они воображали, будто могут поймать вечный ветер и поменять всю климатическую систему земного шара. За два дня до нашего с папой отъезда в Харпсберг (штат Коннектикут) Джесси Роуз Рубимен из города Ньютон (штат Техас), наследница франшизы «Ковры Рубимен», объявила, что беременна от папы, и со слезами потребовала, чтобы мы взяли ее с собой – или пусть папа внесет первоначальный взнос в сто тысяч долларов на воспитание ребенка, с последующими еженедельными выплатами по десять тысяч в течение восемнадцати лет. Папа не дрогнул. В подобных случаях он, как сам хвастался, держал себя с достоинством метрдотеля из хорошего ресторана, где подают первоклассные вина, мясное суфле по предварительному заказу и богатый выбор сыров подвозят к столику на тележке по первому требованию. Не теряя спокойствия, папа потребовал от будущей матери сделать анализ крови.
Оказалось, Джесси совсем и не была беременна. Она просто приняла желаемое за действительное: желудочный грипп за утреннюю тошноту. Пока мы готовились к переезду в Харпсберг, на неделю позже, чем планировалось, Джесси заполняла наш автоответчик скорбными монологами. В день отъезда папа обнаружил на крыльце конверт и попытался скрыть его от меня.
– Последний счет за коммунальные услуги, – сказал он, считая, что лучше умереть, чем показать мне «бред бушующих гормонов психопатки», который сам же и пробудил. Шесть часов спустя, уже в штате Миссури, я выкрала письмо из бардачка, пока папа покупал на автозаправке «Тамс», жевательные таблетки от изжоги.
Любовные письма от июньских букашек папа приравнивал к добыче алюминия, а для меня это было – словно в толще кварца наткнуться на вкрапления золота. Нигде больше не найдешь слиток эмоций в таком чистом, беспримесном виде.
Я до сих пор храню свою коллекцию. В ней семнадцать экземпляров. Приведу здесь отрывок из четырнадцатистраничной оды Гарету авторства Джесси.
Ты для меня – весь мир! Я за тобой пойду хоть на край света, только позови. Но ты не позвал, и я готова остаться тебе просто другом. Я буду по тебе скучать. Прости, что насчет ребенка так получилось. Надеюсь, мы все-таки будем общаться. На будущее считай меня хорошим другом, на кого можно положиться и в счастье, и в несчастье. По поводу вчерашнего звонка: извини, что назвала тебя свиньей. Гарет, я немногого прошу, только помни меня не такой, как в последние пару дней, а той счастливой безоблачной девушкой, которую ты повстречал на парковке около «Кей-марта»[34].
Мир тебе на вечные времена!
Впрочем, не считая эпизодического жужжания, нарушающего вечернюю тишину, по большей части мы с папой были вдвоем – как Джордж и Марта, Бутч и Сандэнс[35], Фред и Джинджер[36], Мэри и Перси Биши[37].[38]
В среднестатистический вечер пятницы в городе Ромэн, штат Нью-Джерси, вы не застали бы меня в темном углу автостоянки возле кинотеатра «Сансет», где мы вместе с Загорелой Спортсменкой С Гладко Выбритыми Ногами покуривали бы «Америкэн Спирит» в ожидании, пока за нами явится Избалованный Поклонник на папашиной машине, чтобы промчаться на бешеной скорости по Атлантик-авеню, перелезть через железную сетку, ограждающую заброшенное поле для мини-гольфа «Африканское сафари», и пить теплое пиво «Будвайзер», сидя на искусственном травяном покрытии возле десятой лунки.
Не найти вам меня и за дальним столиком в закусочной «Бургер Кинг», где я держалась бы за руки с Мальчиком, Похожим На Обезьяну Из-за Жутких Брекетов, ни в гостях с ночевкой у Примерной Ученицы, Чьи Не В Меру Заботливые Родители, Тед и Сью, Оберегают Ее От Взросления, Точно От Кори, Равно Как От Общения С Раскованными И Стильными Сверстниками.
Вы нашли бы меня с папой в съемном домике на ничем не примечательной улице, обсаженной дубами и почтовыми ящиками в виде скворечников. Мы едим переваренные спагетти, посыпанные опилками пармезана, читаем книги, проверяем студенческие контрольные или смотрим по телевизору какую-нибудь киноклассику вроде «На север через северо-запад» или «Мистер Смит едет в Вашингтон»[39].[40] А потом, когда я закончу с посудой – и только если у папы настроение «бурбон», – он может изобразить Марлона Брандо в роли Вито Корлеоне[41]. А если особо вдохновится, даже напихает себе салфеток за щеки, чтобы в точности воспроизвести бульдожье выражение дона Корлеоне. (Мне в этих случаях отводилась роль Майкла.)
Барзини снова выступит против тебя первым. Он устроит встречу с кем-нибудь, кому ты абсолютно доверяешь… гарантирует твою безопасность. И на этой встрече тебя предательски убьют… Это старая привычка. Я провел свою жизнь, стараясь не быть легкомысленным.
Слово «легкомысленным» папа произносил с сожалением, уставившись себе под ноги.
Женщины и дети могут быть легкомысленными, но не мужчины… Слушай.
Тут папа смотрел на меня, изогнув бровь.
Кто бы ни позвал тебя на эту встречу с Барзини… он предатель. Не забудь это.
И тогда наступало время моей единственной реплики:
Grazie[42], папа.
Кивнув, он закрывал глаза:
Prego[43].
Помню, однажды я не засмеялась, когда папа изображал, как Брандо изображает Вито. Мне было одиннадцать, мы жили тогда в городе Фатток (штат Небраска). Мы были в гостиной, папа случайно встал прямо против настольной лампы с красным абажуром, и лицо его вдруг озарилось багровым потусторонним светом, как на Хеллоуин. Глаза ввалились, в точности как у призрака, рот искривился по-ведьмински, щеки будто покрылись древесной корой, на которой какой-нибудь мальчишка мог бы вырезать свои инициалы. Это был уже не папа, а кто-то другой… нечто другое. Страшный чужак с багровым лицом и темной, затхлой душой на фоне бархатного кресла, покосившейся книжной полки, на фоне маминой фотографии с буржуазными цацками.
– Солнышко?
Глаза у нее были живыми. Она смотрела ему в спину так скорбно, словно дряхлая старуха в богадельне, успевшая обдумать все великие вопросы бытия и, наверное, найти на них ответы, вот только никто не принимает ее всерьез среди этих безликих комнат, вечерних телевикторин, терапии с помощью домашних животных и «сеансов макияжа для дам». А папа смотрел на меня, и плечи у него вздрагивали. Он растерялся, как будто я только что вошла в комнату и застала его за воровством.
– Что такое? – Он шагнул ко мне, в полосу безобидного желтого света.
– Живот болит, – буркнула я, бросилась к себе в комнату и схватила с полки потрепанную книгу в бумажной обложке: «Душа на продажу. Разоблачение социопата обыкновенного» (Бёрн, 1991).
Папа мне сам ее купил на гаражной распродаже у одного выходящего на пенсию преподавателя психологии. Я успела пролистать всю вторую главу, «Особенности характера: отсутствие личностных связей в романтических отношениях», и частично третью, «Два недостающих фрагмента: моральные принципы и совесть», пока сообразила, какая я дуреха и истеричка. Хотя папа в самом деле «не считался с чувствами других людей» (стр. 24), умел «очаровать, пользуясь этим в своих целях» (стр. 29) и нисколько не заботился о «принятых в обществе морально-этических нормах» (стр. 5), но все-таки он «любил что-то еще, кроме себя самого» (стр. 81) и «мудрого красавца, которого видел в зеркале» (стр. 109), а именно мою маму. Ну и меня, конечно.
Глава 3. «Грозовой перевал», Эмили Бронте
Профессор Принстонского университета, ведущий социолог доктор Феллини Лоджиа в своей книге «Неотвратимое будущее» (1978) высказывает довольно мрачную мысль: по его мнению, ничто в этой жизни не может удивить по-настоящему, «даже смерть от удара молнии» (стр. 12). «Жизнь каждого человека, – пишет он, – это всего лишь череда подсказок о том, что нам предстоит. Хватило бы только ума, чтобы замечать эти подсказки, и мы могли бы изменить будущее».
Если и была в моей жизни подсказка – намек, пророческий шепот, – то случилось это в мои тринадцать лет, когда мы с папой переехали в город Говард (штат Луизиана).
Со стороны наша бродячая жизнь может показаться очень смелой и бунтарской, а на самом деле все было совсем не так. Существует немного пугающий (и никем официально не отмеченный) закон движения, применимый к объекту, который перемещается по американской автостраде: хотя несешься вперед с безумной скоростью, ощущение такое, будто с тобой ничего не происходит. Прибываешь в пункт Б и с разочарованием убеждаешься, что все твои физические характеристики – энергия и прочее – остались без изменений. Иногда, уже засыпая, я смотрела в потолок и молилась: хоть бы что-нибудь настоящее произошло и преобразило меня. При этом Бог представлялся мне таким, как потолок, на который я в данный момент глядела. Если лунный свет и тени от листьев за окном рисовали на потолке узоры, Он был прекрасен и поэтичен. Если потолок был наклонный, Он склонялся к тому, чтобы услышать мои мольбы. Если в углу виднелось пятно от протечки, это значило, что Он претерпел много бурь и моя для Него – пустяк. Если в центре потолка, около люстры, красовалось неровное пятно от прихлопнутой газетой или ботинком шестиногой или восьминогой тварюшки, Он был мстителен.
В Говарде Бог ответил на мои молитвы (оказался Он белым и гладким, а в остальном ничем не примечательным). Во время долгой поездки через пустыню Андамо (штат Невада), слушая магнитофонную запись – кавалерственная дама Элизабет Глиблетт с пафосными интонациями читает «Таинственный сад» (Ф. Бернетт, 1909), – я между делом сказала папе: мол, ни у одного из наших многочисленных съемных домов не было приличного сада. И вот в сентябре, приехав в Говард, папа выбрал для нас номер 120 по Гилдейкр-стрит: светло-голубой дом среди тропической биосферы. По всей улице выращивали благопристойные пионы, обязательные розы, благостные клумбочки, кое-где перемежающиеся редкими ростками ползучих сорняков, а мы с папой изнемогали в борьбе с растительным миром бассейна Амазонки.
Три недели каждую субботу и воскресенье, вооружившись кожаными перчатками, секаторами и средством от вредителей, мы с папой с утра пораньше углублялись в тропическую чащу и героически пытались усмирить буйные заросли. Редко нам удавалось продержаться дольше двух часов, а иногда и двадцати минут не выдерживали, если папа замечал пробегающего под листьями пальмы корифа золотоносная так называемого жука-оленя размером с мужскую ступню.
Ну, папа не тот человек, чтобы признать поражение. Он упорно продолжал борьбу, воодушевляя соратников воинственным кличем: «Ван Мееры непобедимы!» и «Думаешь, если бы Паттон жил здесь, он бы выбросил полотенце на ринг?»[44] – пока в одно судьбоносное утро его не цапнула какая-то тварь (я услышала папин отчаянный вопль с переднего крыльца, где пыталась обрезать разросшуюся лиану). У папы левую руку раздуло, как футбольный мяч, и вечером папа ответил на объявление опытного садовника в «Говард сентинел».
В объявлении говорилось: «Работа в саду. Любая. Сделаю».
Звали его Андрео Вердуга, и был он прекрасен, как рассвет (см. ст. «Пантера» в кн. «Великолепные хищники мира природы», Гудвин, 1987). Загорелый, черноволосый, с цыганскими глазами и гладким торсом, словно обкатанная морем галька, насколько я могла судить из окна второго этажа. Родом он был из Перу, щедро поливал себя одеколоном, а изъяснялся языком старинных телеграмм:
– КАК САМОЧУВСТВИЕ ТЧК ХОРОШАЯ ПОГОДКА ТЧК ГДЕ ШЛАНГ ТЧК
Каждый понедельник и четверг в четыре часа пополудни я откладывала на потом французское сочинение и задачи по алгебре и подсматривала, как он работает. Правда, по большей части Андрео не столько работал, сколько прохлаждался, расслаблялся и радовался жизни, лениво покуривая сигаретку на солнечной полянке среди густой чащобы. Окурок всегда выкидывал в какое-нибудь незаметное место – за кустиком бромелии или в плотную заросль бамбука, не проверив даже, полностью ли затушена сигарета. По-настоящему к работе Андрео приступал часа через два-три, к папиному приходу. Сопровождая свои действия выразительными жестами (тяжело дыша, утирая пот со лба), он вхолостую возил газонокосилку среди кустов или прислонял к стене дома деревянную лестницу в безуспешной попытке укоротить нависающие ветки. Больше всего мне нравилось наблюдать, как Андрео что-то бурчит себе под нос по-испански после того, как папа поставит вопрос ребром: почему лианы до сих пор создают парниковый эффект на крыльце и откуда на заднем дворе взялась новая поросль фикусов-душителей?
Однажды я подкараулила Андрео в кухне, когда он хотел незаметно стянуть из холодильника мое апельсиновое мороженое. Он застенчиво мне улыбнулся, показывая кривоватые зубы.
– ВЫ НЕ ПРОТИВ ТЧК ЕСЛИ Я ВОЗЬМУ ТЧК СПИНА БОЛИТ ТЧК
Я всю большую перемену просидела в школьной библиотеке со словарем и учебником испанского. Подготовилась, как могла.
Me llamo Azul.
Меня зовут Синь.
El jardinero, Mellors, es una persona muy curiosa.
Егерь Меллорс[45] – очень необычный человек.
¿Quiere usted seducirme? ¿Es eso que usted quiere decirme?
Хотите соблазнить меня? Вы это пытаетесь мне сказать?
¡Nelly, soy Heathcliff!
Нелли, я Хитклиф![46]
Напрасно я ждала, когда в библиотеку вернут книгу Пабло Неруды «Двадцать стихотворений о любви и одна песня отчаяния» (ее взяла Подружка, Которая Носит Облегающие Топики, а потом ухитрилась потерять в доме у Поклонника, Который Хоть Бы Сбрил Эти Гадкие Волосишки На Подбородке). Пришлось мне спереть экземпляр из кабинета испанского языка и вызубрить наизусть стихотворение XVII, гадая, отважусь ли я когда-нибудь, подобно Ромео, произнести вслух слова любви – выкрикнуть их так громко, чтобы они обрели крылья и достигли самых высоких балконов. Да что там, вряд ли я осилила бы и Сирано изобразить – настрочить стихи на карточке, подписавшись чужим именем[47], и тайно подбросить в разбитое окно его грузовичка, пока Андрео бездельничает в саду, почитывая журнальчик в тени каучуковых деревьев.
В итоге мне пришлось изобразить не Ромео и не Сирано, а Геракла.
Как-то в среду, прохладным ноябрьским вечерком, примерно в восемь пятнадцать, я сидела у себя в комнате, готовилась к контрольной по французскому. Папа был на торжественном обеде в честь нового декана. В дверь позвонили. Я немедленно перепугалась, вообразив зловещего продавца Библий и прочих кровожадных отщепенцев (см. О’Коннор, «Полное собрание рассказов»[48], 1971). Побежала в папину комнату, осторожно выглянула в угловое окошко и очень удивилась, когда разглядела в лиловой темноте красный грузовичок Андрео, хоть он и съехал с дорожки в самую гущу папоротников.
Не знаю, что было жутче: представлять у дверей отщепенца или знать, что это он. Мой первый порыв был – запереться у себя в комнате и спрятаться под одеяло, но Андрео все звонил и звонил. Наверное, заметил свет в моем окне. Я на цыпочках спустилась по лестнице. Простояла у двери минуты три, не меньше, кусая ногти и репетируя свою первую реплику (¡Buenas Noches! ¡Qué sorpresa!)[49]. Ладони вспотели, а во рту словно скопился полузастывший клей «Суперцемент». Наконец я открыла дверь.
Передо мной стоял Хитклиф.
Он – и в то же время не он. Замер в нескольких шагах от меня, словно дикий зверь, который боится подойти ближе. В слабом вечернем свете, пробивающемся сквозь ветви, исчертившие небо, лицо казалось искаженным, словно в крике, но звука не было, только еле слышное мычание – так электричество гудит в проводах. Одежда была чем-то заляпана. Я сперва подумала – он стены красил, а потом ошеломленно поняла, что это кровь, повсюду, и на руках тоже, густая, словно чернила. От нее пахло железом, как от трубы под раковиной. Он стоял прямо в крови – вокруг не до конца зашнурованных армейских ботинок натекла лужа. Он моргнул, так и не закрывая рта, шагнул ко мне – то ли обнять, то ли убить – и рухнул у моих ног.
Я бросилась на кухню, набрала девять-один-один. Ответила какая-то девушка-полуавтомат. Мне пришлось дважды повторить адрес. Наконец она сказала, что «скорая» уже едет, и я опять выскочила на крыльцо. Опустилась возле Андрео на колени. Попробовала стащить с него куртку, но он застонал и схватился за левый бок, пониже ребер. Я поняла, что там огнестрельная рана.
– Yo telefoneé una ambulancia, – сказала я («Я вызвала „скорую“»).
Я поехала с ним в больницу.
– НЕТ ТЧК ПЛОХО ТЧК ПАПА ТЧК
– Usted va a estar bien, – сказала я («С вами все будет хорошо»).
Санитары помчали каталку куда-то за белые двери, а дежурная – миниатюрная бойкая медсестра по фамилии Марвин дала мне кусок мыла, больничную пижаму и указала на туалет в конце коридора: у меня джинсы внизу испачкались в крови.
Переодевшись, я оставила папе сообщение на автоответчике и уселась ждать на светленьком пластмассовом стуле. Вообще-то, я боялась того, что будет, когда приедет папа. Он, конечно, мой родной папочка, но как-то не похож на других отцов – я их наблюдала в дни родительских собраний в начальной школе «Вальхалла». Те были застенчивые и разговаривали мягкими ватными голосами, а мой папа был шумный и непосредственный, действовал всегда решительно, терпением и спокойствием не отличался. Может, из-за тяжелого детства папа всю жизнь вольно обращался с глаголами «брать» и «рубить». Он постоянно что-нибудь рубил: ладонью воздух, правду-матку, сплеча, сук, на котором сидит. А также брал – на себя ответственность, быка за рога, кого-нибудь на понт, смелостью города и так далее. Что касается взгляда на жизнь в целом, тут папа напоминал микроскоп, в котором с помощью винта можно настраивать резкость и любые объекты видеть всегда в фокусе. Он не терпел никакой расплывчатости, мутности и нечеткости.
Папа ворвался в отделение травматологии с криком:
– Что, черт подери, здесь происходит? Где моя дочь?!!
Сестру Марвин точно ветром сдуло.
Убедившись, что я жива-здорова, не страдаю от огнестрельного ранения и вообще на мне нет ни царапинки, через которую могла бы проникнуть зараза от «этого хренова латиноса», папа вломился в захватанные белые двери с надписью громадными красными буквами «ПОСТОРОННИМ ВХОД СТРОГО ВОСПРЕЩЕН» (папа никогда и нигде не считал себя посторонним) и потребовал немедленно ему объяснить, что случилось.
Другого бы выгнали с позором, а может, даже арестовали, но это был мой папа, ходячий «Першинг», он же народный любимец. Через две минуты вокруг него уже забегали впечатлительные медсестры, и какая-нибудь рыженькая стажерка нет-нет да и проявит интерес, напрочь позабыв о пациенте с ожогами третьей степени и о мальчишке, перебравшем ибупрофена и тихонько всхлипывающем в уголке.
– Он сейчас наверху, в хирургии, состояние стабильное, – сообщила рыженькая стажерка, подобравшись к папе почти вплотную и с улыбкой заглядывая в лицо (см. ст. «Муравей-бульдог» в кн. «Знакомьтесь: насекомые», Бадди, 1985).
– Свежая информация будет, как только доктор выйдет после операции. Давайте молиться, чтобы все обошлось благополучно! – воскликнула медсестричка (см. ст. «Рыжий лесной муравей» в кн. «Знакомьтесь: насекомые»).
Вскоре с третьего этажа, из хирургии, спустился доктор Майкл Фидс и сказал, что у Андрео пулевое ранение брюшной полости, но он выживет.
– Вы не знаете, чем он сегодня занимался? – спросил доктор. – Судя по ране, стреляли с близкого расстояния, то есть это мог быть несчастный случай. Например, чистил пистолет, а он вдруг выстрелил. С полуавтоматическим оружием такое бывает…
Папа взглядом препарировал несчастного доктора, сделал срез, поместил на безупречно чистый предметный столик микроскопа и намертво прикрепил зажимами.
– Мы с дочерью ничего не знаем об этом человеке.
– Но я так понял…
– Он дважды в неделю подстригал у нас газон, и притом некачественно. С какого перепугу он вдруг явился заливать кровищей именно наше крыльцо – это вне моего понимания. Конечно, случай трагический, – продолжил папа, косясь на меня. – Моя дочь была рада спасти ему жизнь, обеспечить бедняге квалифицированную медицинскую помощь, или как там это называется, но я вам прямо скажу, доктор…
– Доктор Фидс, – подсказал доктор Фидс. – Майк.
– Я вам скажу, доктор Мидс, мы с этим типом никак не связаны, и я не позволю втягивать мою дочь в его темные делишки – азартные игры, мафиозные разборки или еще какую-нибудь уголовщину. Больше мы к этой истории никакого касательства не имеем!
– Понимаю, – тихо ответил доктор Фидс.
Папа, коротко кивнув, положил мне руку на плечо и вывел за белые, сильно захватанные двери.
Ночью я долго лежала без сна, представляя себе трогательную встречу с Андрео в зарослях филиппинских фиг и маранты Макоя. Его кожа будет пахнуть какао и ванилью, моя – страстоцветом. И застенчивость больше не будет меня сковывать. После того как человек пришел к тебе с огнестрельным ранением и его кровь залила тебе руки, носки и джинсы, вас связывают прочные узы, которые никакому папе не дано постичь. ¡No puedo vivir sin mi vida! ¡No puedo vivir sin mi alma! (Жить не могу без моей жизни! Жить не могу без моей души!)
Он проводит рукой по своим густым волосам, черным и блестящим.
– ТЫ СПАСЛА МНЕ ЖИЗНЬ ТЧК КОГДА-НИБУДЬ Я УГОЩУ ТЕБЯ ПУЭРТОРИКАНСКОЙ ЕДОЙ ТЧК
Но разговору этому не суждено было состояться.
На следующее утро нас посетила полиция, мы с папой дали показания, а потом я потребовала, чтобы мы поехали в больницу Святого Матфея. Я везла с собой дюжину розовых роз («Дарить этому парню красные розы я тебе не позволю! Должны быть какие-то границы!» – орал папа в цветочном отделе супермаркета, где на нас обернулись две покупательницы с мелкими детьми). Еще я везла согревшийся молочный коктейль с шоколадным вкусом.
Андрео в больнице не оказалось.
– Часов в пять утра ушел из палаты, – сообщила медсестра Джоанна Коун (см. ст. «Гигантский цепкохвостый сцинк» в кн. «Энциклопедия живых существ», 4-е изд.). – Мы проверили его полис. Он предъявил поддельную карточку. Врачи считают, он потому и сбежал, но тут такое дело… – Сестра Коун подалась вперед, выпятив круглый розовый подбородок, и зашептала многозначительно (вот так же, наверное, она шептала мистеру Коуну, чтоб не спал во время церковной службы): – Он по-английски ни слова сказать не мог. Доктор Фидс так и не добился, кто в него стрелял. И полицейские тоже не знают. Я что подумала… Так, просто по интуиции, вдруг он из этих, нелегалов, которые сюда приезжают ради хорошей работы с больничными и пенсией? В нашем районе и раньше такие попадались. Моя сестра Шейенн видела целую толпу в очереди у кассы в магазине «Мир электроники». Знаете, как они пробираются? Ночью, на надувных плотах. Из самой Кубы плывут, сбегают от Фиделя. Вы меня понимаете?
– Ходят такие слухи, – уклончиво ответил папа.
Он велел сестре Коун позвонить в Американскую автомобильную ассоциацию, и когда мы вернулись домой, эвакуаторы уже увозили грузовичок Андрео. Под раскидистым баньяном стоял большой белый фургон со скромной надписью «Промышленная очистка и Ко». Фирма специализировалась по уборке на месте преступления. По папиной просьбе они подъехали к нам от Батон-Руж (полчаса езды) и отчистили кровь Андрео с асфальта, парадного крыльца и близрастущих папоротников.
– Пусть этот печальный случай останется в прошлом, облачко мое, – сказал папа, сжимая мне плечо и махая рукой суровой сотруднице «Промышленной очистки» по имени Сьюзен, лет сорока – сорока пяти, в ослепительно-белом комбинезоне и зеленых резиновых перчатках выше локтя. Она вступила на наше крыльцо, как космонавт ступает на Луну.
В местной газете поместили заметку об Андрео («ИНОСТРАНЕЦ С ПУЛЕВЫМ РАНЕНИЕМ ИСЧЕЗ ИЗ БОЛЬНИЦЫ»). На том и закончился, как выразился папа, инцидент «Вердуга» (небольшой скандальчик, мимолетно омрачивший безупречно организованную жизнь города).
Прошло три месяца. Мирты и маниоки окружили дом плотной стеной, лианы окончательно заплели столбики крыльца и водосточные трубы и уже подумывали штурмовать крышу, когда лучи солнца даже к полудню не решались сунуться в подлесок, а от Андрео по-прежнему не было никаких вестей. В феврале мы с папой переехали в город Роско, расположенный в штате Мичиган, на официальной родине белки бурундуковой. Я не произносила вслух имени Андрео и молчала, якобы от безразличия, когда папа его вспоминал («Интересно, что стало с тем латиноамериканским бандитом»), но думала о нем постоянно. Мой немногословный егерь, мой Хитлиф, мое «что-то настоящее».
Был еще один случай.
Мы с папой жили в городе Несселз, штат Миссури. Мое пятнадцатилетие отметили в закусочной «Картофельные драники», а потом пошли бродить по «Уол-Марту»[50] – выбирать мне подарки. («Воскресенье в „Уол-Марте“! – сказал папа. – Массовый пикник на футбольном поле с небывалыми скидками, чтобы Уолтоны могли купить себе лишний замок на юге Франции»). Он пошел в ювелирный отдел, а я пока изучала отдел электроники и вдруг, подняв глаза, увидела человека с косматой гривой черных, как бильярдный шар «восьмерка», волос. Человек стоял ко мне спиной, разглядывая цифровые видеокамеры. На нем были выцветшие джинсы, серая футболка и бейсбольная кепка камуфляжной расцветки, низко надвинутая на лоб.
Лица почти не видно – только краешек небритой загорелой щеки, – но тут он двинулся к полкам с телевизорами, и сердце у меня отчаянно заколотилось. Я мгновенно узнала эту манеру сутулиться, этот вздох напоказ и замедленные, словно под водой, движения. Сразу повеяло Таити. Такие люди в любое время суток, сколько бы работы ни предстояло сделать, умеют закрыть глаза – и тотчас отступает реальность с клочковатыми газонами, рычащими газонокосилками и угрозами нанимателя немедленно уволить к чертям собачьим. Просто он уже на Таити, совершенно обнаженный, пьет коктейль из скорлупы кокосового ореха, и такая кругом тишина, только ветер шуршит щеточками перкуссии и чуть слышно доносятся девичьи вздохи океана. (Очень немногие рождаются со способностью к Таити, хотя естественная предрасположенность наблюдается у греков, турок и южноамериканцев. В Северной Америке одаренные особи встречаются преимущественно среди канадцев, особенно в районе Юкона, а в США их можно отыскать только среди хиппи и нудистов первого-второго поколения.)
Я пошла следом – убедиться, что это на самом деле не он, просто кто-то очень похожий, но с приплюснутым носом или с отметиной на лбу, как у Горбачева. А он уже миновал телевизоры и направлялся к отделу аудиотехники, словно в полусне (временами на него находило такое настроение, оттого он и не ухаживал как следует за орхидеями фаленопсис). Я метнулась в другую сторону, проскочила мимо стеллажей с компакт-дисками, мимо стойки с альбомом Бо Кейт Бэдли «Свидание в стиле хонки-тонк» и картонным плакатиком «РАСПРОДАЖА», но когда заглянула за надпись «Музыкант месяца», тот человек уже скрылся в фотоцентре.
– Есть приличные скидки? – неожиданно раздался над ухом папин голос.
– Ой… Не-а.
– Тогда пошли со мной в отдел «Сад и патио». Я, кажется, нашел то, что нужно! Джакузи «Пляжная симфония» со встроенной стереосистемой и особым режимом массажа спины и шеи. Цена значительно снижена. Скорей, а то не успеем!
Я кое-как отвертелась под неубедительным предлогом, будто хочу заглянуть в отдел одежды. Папа бодро двинулся к «Домашним любимцам», а я шмыгнула в фотоцентр. Того человека уже не было. Я проверила «Аптеку», «Подарки», «Цветы». В «Игрушках» краснолицая тетка шлепала своих детишек, в ювелирном парочка латиноамериканцев, видимо муж с женой, рассматривали наручные часы, в отделе оптики какая-то старушка лихо примеряла громадные очки с тонированными стеклами. Я пробежала мимо толпы ненормальных мамашек в отделе для грудничков, очумелых новобрачных в отделе ванн, проскочила отдел домашних животных – там папа беседовал с золотой рыбкой о свободе («Плохо живется в кутузке, а, старичок?») – и отдел товаров для шитья, где лысый дядька вдумчиво оценивал достоинства бело-розового ситца. Я подвергла строгому досмотру кафе и очереди у касс и даже отдел жалоб и предложений, возле которого раскормленный ребеночек с визгом поддавал ногой конфету.
Но и здесь того человека не было. Не выйдет смущенной радости узнавания, и никакого тебе «ЛЮБОВЬ ЗАГОВОРИТ ТЧК И НЕБЕСА ТЧК БАЮКАЕТ СОГЛАСНЫЙ ХОР БОГОВ ТЧК»[51].
Уныло вернулась я в фотоцентр и тут обратила внимание на проволочную тележку, брошенную посреди прохода. Пустую, – и у того человека была пустая, поклясться могу! – только на дне лежал маленький пакетик с надписью «ШелестТМ, осенний набор».
Я озадаченно пощупала пакетик. Внутри хрустели синтетические листья. На обороте я прочла: «ШелестТМ, осенний набор, объемные листья деревьев разных пород, из искусственных материалов. Наклейте их на камуфляж, и даже самый чуткий зверь не различит вас среди лесной зелени. ШелестТМ – мечта охотника!»
– Ты что, на оленей охотиться собралась? – поинтересовался папа, неожиданно возникнув у меня за спиной. Потом он принюхался. – Что за кошмарная вонь – мужской одеколон, синтетический хвойный запах… Я везде тебя искал. Думал уже, ты сгинула в черной дыре под названием «общественный туалет».
Я бросила пакетик обратно в тележку.
– Показалось, что увидела знакомых.
– Да? А скажи-ка мне, какую интуитивную реакцию вызывают у тебя следующие слова: «колониальный стиль», «натуральное дерево», «патио», «защита от солнца», «защита от ветра», «защита от черта-дьявола»? Потрясающая цена – всего двести девяносто девять долларов. И симпатичный такой ярлычок с девизом фирмы: «Мебель для патио – не просто мебель. Это состояние души». – Папа усмехнулся и обнял меня за плечи, мягко подталкивая к соседнему отделу. – Плачу десять тысяч долларов, если кто сможет мне объяснить смысл этой фразы!
Мы покинули «Уол-Март» с мебелью для патио, кофемашиной и золотой рыбкой, выпущенной на поруки (бедняжка не пережила свободы и на второй день вольного житья всплыла брюхом кверху). Я убедила себя, что «вряд ли» и «очень маловероятно», а все-таки еще не один месяц не могла выбросить из головы мысль, что это на самом деле был он – беспокойный и переменчивый Хитклиф. День за днем он бродил по всем «Уол-Мартам» Америки, разыскивая меня среди безлюдных торговых залов.
Глава 4. «Дом о семи фронтонах», Натаниэль Готорн
Естественно, идея Постоянного дома (то есть любого жилища, где мы с папой прожили бы дольше девяноста дней – именно столько времени американский таракан способен просуществовать без еды) – так вот, идея эта была для меня несбыточной мечтой, воздушным замком, все равно что для советского человека тоскливой зимой 1985 года – грезы о новеньком кадиллаке «купе-де-вилль» с голубыми кожаными сиденьями.
Не сосчитать, сколько раз я показывала папе на карте автомобильных дорог Нью-Йорк или Майами.
– Или Чарльстон! Почему нельзя преподавать «Урегулирование конфликтов» в цивилизованном месте, в Университете Южной Каролины?
Прислонившись головой к окну, полузадушенная ремнем безопасности, одуревшая от мелькающих перед глазами бесконечных полей, я мечтала, как мы с папой когда-нибудь где-нибудь осядем… словно пыль. Не важно где, лишь бы осесть.
Папа неизменно высмеивал меня за сентиментальность («Как можно отказаться от путешествий? Не понимаю! Неужели моя дочь хочет стать глупой и скучной, словно сувенирная пепельница, словно обои в цветочек или вон та вывеска… Да-да, вон та, „Большой фруктовый десерт, девяносто девять центов“. Так и буду теперь тебя звать: Большой Фруктовый Десерт»). В результате я уже и не пыталась прерывать наши дорожные обсуждения «Одиссеи» (Гомер, античность) или «Гроздьев гнева» (Стейнбек, 1939) любыми намеками на такие литературные темы, как «Родина», «Почва», «Отчий дом». И вдруг папа с неимоверным пафосом объявил, когда мы ели пирог с ревенем в придорожном кафе «Быстрый перекус» на окраине Ломейна, штат Канзас («Дин-дон, злой ведьмы больше нет!»[52] – пропел он, пугая официантку), что весь выпускной учебный год, все семь месяцев и девятнадцать дней, мы с ним будем жить в одном и том же месте: в городе Стоктоне, штат Северная Каролина.
Как ни странно, название города было мне знакомо, и не только потому, что я пару лет назад прочла на обложке журнала «Венчурс» статью «Пятьдесят городов, где лучше всего поселиться, выйдя на пенсию» – тридцать девятое место в списке занимал как раз Стоктон (население 53 339 чел.) где-то в Аппалачах, весьма гордый своим прозвищем (Флоренция американского Юга). Этот город в горах фигурировал еще и в увлекательном отчете ФБР о беглецах из Джексонвилля, в основанной на реальных событиях книге «Беглецы» (Пилларс, 2004) о том, как трое преступников сбежали из флоридской тюрьмы и двадцать два года скрывались от правосудия в заповеднике Грейт-Смоки-Маунтинс. Питались оленями, кроликами, скунсами и объедками, оставшимися от туристов. Так бы их и не поймали («Заповедник настолько огромен, что в нем легко могло бы спрятаться стадо розовых слонов», по выражению автора, отставной сотрудницы-спецагента Джанет Пилларс), да только один из троих не смог побороть навязчивого желания посетить местный универмаг. В пятницу осенним вечером 2002 года Билл Пайкс по кличке Котлован явился в Стоктон, в торговый центр «Аркада Динглбрук», где купил несколько белых рубашек и съел пирожок с ветчиной и сыром. Тут его и опознал кассир закусочной «Синнабон». Двоих из преступной троицы поймали, а третий, известный только по прозвищу (Эд Неряха), остался на свободе и затерялся в горах.
Папа о Стоктоне:
– Обыкновенный занудный городишко, как и любой другой, где я могу заработать жалкие гроши в Университете Северной Каролины, а ты – обеспечить себе место в Гарварде на следующий год.
– Круто-круто, – сказала я.
Август перед учебным годом мы провели в Портсмуте, штат Мейн, в кондотеле «Волны Атлантики», и там папа довольно близко познакомился с некой миз Дайаной Л. Сизонс – старшим юристом риелторского агентства «Шервиг Риэлти» с головным офисом в Стоктоне. Дайана специализировалась по долгосрочной аренде недвижимости и могла похвастаться внушительным послужным списком. Раз в неделю она присылала папе глянцевые фотографии сдающихся внаем домов, скрепками прикалывая к ним записочки от руки, на фирменных бланках: «Дивный оазис в горах!»; «Южное очарование!»; «Изысканно и нестандартно, прямо в любимчиках у меня!».
Папа, известный своей привычкой играть с влюбленными продавщицами, как хищники саванны играют с раненой антилопой гну, все откладывал окончательное решение насчет дома, а на вечерние звонки Дайаны («Просто хотела поинтересоваться, как вам понравился номер 52 по улице Первоцвета!») отвечал с меланхолической неуверенностью и протяжными вздохами. В записочках Дайаны начали прорываться истерические нотки («До конца лета ждать не будет!»; «Улетит как горячие пирожки!»).
В конце концов папа прекратил мучения риелторши, выбрав один из самых эксклюзивных вариантов – полностью обставленный дом 24 по Армор-стрит, номер первый в списке «Лучших предложений».
Меня это поразило. Папа, уж конечно, не зарабатывал золотых гор лекциями в Государственном колледже города Хиксбурга или Университете Канзаса в Петале («Федеральный форум» платил смешные деньги – 150 долларов за статью). Почти все наши временные пристанища были крохотными и совсем не запоминающимися – всякие там Уилсон-стрит, д. 19, и Кловер-Серкл, д. 4. И вдруг папа выбирает «Просторный дом в тюдоровском стиле, обставленный с поистине королевской роскошью». На глянцевой фотографии дом был похож на лежащего двугорбого верблюда-бактриана исполинских размеров (как выяснилось позже, фотограф постарался всячески скрыть тот факт, что верблюд находится в процессе линьки. Водопроводные трубы держались на честном слове, а украшавшие фасад косые деревянные балки отвалились уже в осеннем полугодии).
Не успели мы въехать в дом номер 24 по Армор-стрит, как папа в первую же минуту, по своему обычаю, начал изображать Леонарда Бернстайна[53], дирижируя грузчиками транспортной компании «Перышко», словно это не просто Ларри, Родж, Стью и Грег, мечтающие поскорее отделаться от работы и пойти пить пиво, а симфонический оркестр, составленный из струнных, медных и деревянных духовых, а также ударных инструментов.
Я потихоньку удрала и пошла в одиночестве осматривать дом и сад. В доме оказались не только «ПЯТЬ СПАЛЕН, КУХОННЫЙ РАЙ С ОТДЕЛКОЙ ИЗ ГРАНИТА И ДРЕВЕСИНЫ ТВЕРДЫХ ПОРОД, ВСТРОЕННЫМ ХОЛОДИЛЬНИКОМ И СДЕЛАННЫМИ НА ЗАКАЗ СОСНОВЫМИ ШКАФЧИКАМИ», но еще и «ХОЗЯЙСКИЕ АПАРТАМЕНТЫ С МРАМОРНОЙ ВАННОЙ, ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ПРУД С РЫБКАМИ И БИБЛИОТЕКА – МЕЧТА КНИГОЧЕЯ».
– Пап, а как мы за все это будем платить?!
– М-м? А, об этом не волнуйся… Извините, эту коробку обязательно нести боком? Видите вот тут стрелочку и надпись «Не кантовать»? Да-да, это значит – не кантовать!
– Дорого же!
– Ничего не дорого. Я вам уже говорил, могу повторить: это нужно отнести в гостиную. Не сюда, а в гостиную, и, пожалуйста, не уроните! Так вот, моя радость, я за последний год кое-что скопил. Не сюда! Видите ли, у нас с дочерью есть определенная система. Да-да, если потрудитесь взглянуть, на коробках имеются надписи несмываемым маркером, и эти надписи обозначают те или иные комнаты в доме. Верно! Золотую медаль вам!
Струнные с громадной коробкой в руках протиснулись мимо нас в «КУХОННЫЙ РАЙ».
– Пап, давай уедем! Поживем лучше в доме 52 по улице Первоцвета.
– Не смеши! Мы с мисс Сизонс договорились о вполне разумной цене. Да, это несите в подвальный этаж, в кабинет, и обратите внимание – в этой коробке действительно бабочки, так что ее не надо тащить волоком. Вы что, читать не умеете? Полегче там!
Медные Духовые неуклюже затопали вниз по лестнице, унося здоровенную коробку с надписью «БАБОЧКИ. ХРУПКОЕ».
– А, что? Ну-ну, давай-ка расслабься и получай удовольствие…
– Пап, у нас нет таких денег!
– Э-э… Я понимаю твою мысль, солнышко, ты, наверное, по-своему права… – Папа поднял взгляд к лепному потолку, с которого на высоте трех с половиной метров свисала громадная бронзовая люстра, словно перевернутая модель извержения вулкана Тамбора в 1815 году («Индонезия и Огненное кольцо»[54], Прист, 1978). – Чуточку затейливей, чем мы с тобой привыкли, но почему бы нет? Нам здесь целый год жить все-таки. Так сказать, последняя глава перед твоим выходом в широкий мир. По крайней мере, будет что вспомнить.
Поправив очки, папа вновь склонился над распечатанной коробкой с надписью «ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ», словно Джин Питерс, раздумывающая, стоит ли бросить монетку в фонтан Треви и загадать желание.[55]
Я вздохнула. Давно уже стало ясно, что папа намерен устроить из моего последнего школьного года нечто грандиозное (отсюда и бактриан, и прочие излишества в духе тетушки Мэйм[56]; о них я расскажу чуть позже). И в то же время он страшился предстоящего года – потому и смотрел так уныло в коробку с постельным бельем. Одна из причин – ему даже думать не хотелось о том, что в конце концов нам придется расстаться. Мне тоже тяжело было думать о расставании. Покинуть папу – все равно что разодрать на клочки старые американские мюзиклы: разлучить Роджерса с Хаммерстайном, Лоу[57] с Лернером[58], Комден[59] с Грином.[60]
Мне кажется, была еще и другая причина папиной грусти, и даже более важная. Целый год на одном месте, безусловно, скучный абзац в его захватывающей воображаемой биографии, в главе двенадцатой, «Америка: путешествия и преподавательская деятельность».
– Всегда представляй себе, что о твоей жизни напишут книгу, – повторял папа. – Само собой, ее не напечатают, пока не обзаведешься Веской Причиной, зато жить будешь с размахом.
Мне было ясно до боли, что в папиных мечтах его посмертная биография будет не в духе таких жизнеописаний, как «Генри Киссинджер: человек и власть» (Джонс, 1982) или даже «Доктор Ритм. Жизнь Бинга Кросби[61]»[62] (Грант, 1981), а скорее сравнима с Новым Заветом или Кораном.
Совершенно ясно, что папа, хоть никогда этого не говорил, обожал быть в движении, в дороге, в гуще событий. Любые остановки, вокзалы, пункты прибытия вгоняли его в тоску. И ничего, что он не успевал даже выучить имена студентов в очередном университете, придумывая взамен прозвища, например: Очень Много Вопросов, Очки Как У Лемура, Улыбка До Ушей и Сидит Слева.
Иногда мне становилось страшно: вдруг для папы дочь – это последняя остановка? Финишная черта? Когда на него находило настроение «бурбон», я боялась: может, ему хочется бросить меня и Америку и уехать в бывший Заир, ныне Демократическую Республику Конго (в Африке «демократический» – сленговое словечко, употребляется просто для красоты, примерно как «обалденно» или «ошизел»). Возглавить там борьбу местных угнетенных за свободу, словно Че, Троцкий и Спартак в одном флаконе. Когда папа рассказывал о четырех незабвенных месяцах в бассейне реки Конго в 1985 году и как он там общался «с самыми душевными, трудолюбивыми, самыми настоящими» людьми, вид у него становился какой-то эфемерный, точно у постаревшей кинозвезды эпохи немого кино, сфотографированной слегка не в фокусе.
В такие минуты я подозревала, что он втайне мечтает вернуться в Африку и устроить там революцию, единолично стабилизировать обстановку в ДРК (разгромив вооруженные силы хуту), а затем обратиться к другим странам, дожидающимся освобождения, словно прекрасные девы, прикованные к железнодорожным рельсам (Ангола, Камерун, Чад). Когда я высказывала свои опасения вслух, папа, конечно, смеялся, но смеялся недостаточно весело. Какой-то неубедительный был у него смех, и невольно приходила мысль – неужели я, забросив удочку наугад, нечаянно выловила громадную, самую невероятную рыбину? Глубоководный папин секрет, никем еще не наблюдавшийся и не подвергавшийся научной классификации: папа мечтал быть героем, великим борцом за свободу, из тех, кого рисуют на плакатах и печатают на сотнях тысяч футболок в марксистском берете, со взором мученика и жиденькими усиками (см. «Портреты замечательных людей», М. Горький, 1978)[63].
И еще эта несвойственная ему мальчишеская манера, с которой папа втыкал очередную кнопку в карту, объявляя новое место назначения выпендрежным речитативом (папина версия рэпа):
– Следующая остановка – город Спирс, штат Южная Дакота, символ штата – фазан обыкновенный, прочие достопримечательности: черноногий хорек, национальные парки Бэдлендс, Блэк-Хиллс, Мемориал Неистового Коня[64], столица – Пирр, крупнейший город – Су-Фолс, реки: Моро, Шейен, Уайт-Ривер, Джеймс…
А сейчас он смотрел, как Ударные и Деревянные Духовые тащат тяжеленный ящик к отдельному крыльцу с навесом, ведущему в «ПРОСТОРНЫЕ ХОЗЯЙСКИЕ АПАРТАМЕНТЫ».
– Ты можешь занять большую спальню на втором этаже, – сказал папа. – Да хоть весь второй этаж забирай, если хочешь. Чем плохо? Почему нам для разнообразия не пожить как Кубла-хан в волшебной стране Ксанад?[65] Поднимись наверх, там тебя ждет сюрприз. Я думаю, тебе понравится. Мне пришлось подкупить одну домохозяйку, одну риелторшу, двух продавцов мебели, распорядителя аукциона… Так, послушайте! Да-да, я к вам обращаюсь! Будьте добры, соизвольте спуститься и помочь своему соотечественнику распаковать вещи для моего кабинета. А то он, кажется, провалился в кроличью нору.
Обычно папины сюрпризы, и большие, и маленькие, носили просветительский характер: полный комплект «Энциклопедии физического мира» Ламюр-Франса 1999 года, перевод с французского, в Соединенных Штатах не продается («У всех нобелевских лауреатов такая есть», – сказал папа).
Но на этот раз, войдя в огромную комнату, оклеенную голубыми обоями, с пасторальными картинами на стенах и громадными полукруглыми окнами в пупырчатых шторах из стеклянных бусин, я обнаружила не редкое подпольное издание Wie schafft man ein Meisterwerk, то бишь «Как создать шедевр: пошаговое руководство» (Линт, Штеггерт, Кью, 1993). У окна в углу стоял мой старый письменный стол в стиле «Гражданина Кейна»[66]. Титанических размеров, из древесины грецкого ореха, могучий письменный стол в стиле нового Возрождения – тот самый, за которым я делала уроки восемь лет назад в доме 142 по Телвуд-стрит, в городе Уэйн, штат Оклахома.
Папа купил этот стол неподалеку от Талсы, на распродаже имущества лорда и леди Хиллиер. На распродажу его жарким воскресным днем затащила очередная июньская букашка, торгующая антиквариатом, Парти Люпин по прозвищу Купите Недорого. Едва увидев этот стол (который впятером еле затащили на возвышение), папа уже никого, кроме меня, за ним не представлял (хотя у меня в мои тогдашние восемь лет размах крыла не достигал и половины ширины столешницы). Папа заплатил за это чудо какую-то невероятную сумму – сколько именно, так и не признался – и торжественно объявил, что это «письменный стол для Синь», стол, «достойный моей маленькой овечки, за которым она сможет открыть миру свои Великие Мысли». Неделю спустя у папы не приняли к оплате два чека – один в продуктовом, другой в университетской книжной лавке. Я не сомневалась, что виной тому «запредельная цена, которую он выложил на аукционе», по словам «Купите недорого». Хотя папа уверял, что просто напутал в бухгалтерских подсчетах:
– Десятичную запятую не там поставил.
А потом – какое разочарование! – оказалось, что открывать миру Великие Мысли я могла только в Уэйне. Забрать стол с собой во Флориду, в город Слудер, не получилось. Транспортная фирма не оправдала свой рекламный слоган: «Все берем с собой». Попросту стол не вместился в грузовой фургон. Я бурно рыдала и обозвала папу рептилией, словно мы покинули без присмотра любимого черного пони в пустой конюшне, а не всего лишь здоровенный стол с резными ножками в виде птичьих лап и семью выдвижными ящиками, запирающимися на семь разных ключей.
Сейчас, в Стоктоне, я вихрем слетела по «ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ДУБОВОЙ ЛЕСТНИЦЕ». Папа отыскался в подвале – он бережно вскрывал коробку с надписью «БАБОЧКИ. ХРУПКОЕ», где лежала мамина коллекция – шесть застекленных витрин, над которыми мама работала перед смертью. В каждом новом доме папа, не жалея времени, развешивал их на стене, всегда на одном и том же месте – напротив своего рабочего стола. Тридцать две красотки, навеки застывшие в заколдованном конкурсе красоты. Потому папа и не любил, когда июньские букашки – и вообще кто угодно посторонний – хозяйничали у него в кабинете. Ведь самое душераздирающее в чешуекрылых – не расцветка, и не внезапная мохнатость усиков бабочки павлиний глаз, и даже не то щемящее чувство, которое появляется, когда смотришь на существо, еще вчера порхавшее в воздухе, а сейчас пришпиленное на булавке под стеклом, с нелепо расправленными крылышками. Главное – что в них живет моя мама. Как сказал однажды папа, в них можно увидеть ее лицо крупным планом, отчетливей, чем на любой фотографии (нагл. пос. 4.0). Мне тоже всегда казалось, что эти бабочки обладают какой-то странной притягательностью – смотришь на них и как будто залипаешь, трудно отвести взгляд.
[НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ 4.0]
– Ну как, понравилось? – бодро поинтересовался папа, взяв в руки застекленную рамку и сосредоточенно осматривая уголки.
– Идеально! – ответила я.
– Правда ведь? На этой идеальной поверхности можно начертать такую вступительную работу, чтобы гарвардские седобородые затрепетали в своих парадных панталонах!
– Только… Сколько же это стоило, выкупить его снова? Да еще и доставка…
Папа глянул на меня:
– Тебе не говорили, что цену подарка не спрашивают?
– Сколько?! За все в целом?
Папа долго смотрел на меня в упор, потом сказал со вздохом:
– Шестьсот долларов.
Положил рамку с бабочками в коробку, коротко сжал мое плечо и отправился на первый этаж, крича, чтобы Медные и Деревянные прибавили темп.
Он врал. Я знала наверняка – не только потому, что, произнеся «шестьсот», он отвел глаза в сторону, а доктор Фриц Рудольф Шейцер в своей работе «Поведение разумных существ» (1998) утверждает, что расхожее мнение, будто при вранье человек невольно отводит глаза, «в точности соответствует истине», но еще и потому, что, разглядывая стол со всех сторон, я нашла привязанный к ножке красненький ярлычок с ценой: 17 000.
Я взбежала по лестнице. Папа в коридоре изучал содержимое очередной коробки: «КНИГИ. БИБЛИОТЕКА». Я ужасно растерялась и даже немножко расстроилась. Мы с папой давным-давно заключили Соглашение путешественников: всегда говорить друг другу Правду, «даже если она зверообразна, страшна и мерзко-вонюча». Не сосчитать, сколько в нашей жизни было случаев, когда обычный средний папа сочинил бы правдоподобную историю, лишь бы соблюсти видимость Образцового родителя, бесполого и морально устойчивого, как пряничные человечки, – взять хотя бы тот раз, когда папа пропал куда-то на сутки, а потом вернулся усталый, но довольный, точно ковбой, который только что успешно объездил норовистую лошадку. Когда я требовала Правду (а иногда я предпочитала не требовать), папа ни разу меня не подвел – даже если это позволяло, словно рентгеном, просветить его репутацию и обнаружить в ней энное количество дыр и шероховатостей.
Теперь я чувствовала, что просто обязана выяснить все до конца, иначе эта ложь проест меня насквозь (см. «Воздействие кислотных дождей на каменные горгульи», «Условия хранения», Элиот, 1999, стр. 513). Я отцепила ценник от ножки стола и весь день таскала в кармане, дожидаясь удобного момента, чтобы объявить папе шах и мат.
А потом, когда мы уже собирались ехать обедать в «Захолустный стейк-хаус», я застала папу у меня в комнате: он любовался чудо-столом, до смешного гордый и счастливый.
– Молодец я, правда? – сказал папа, потирая руки, как Дик Ван Дайк[67]. – За таким столом хоть святому Петру сидеть, скажи, а?
Ну не могла я его позорить и тыкать ему в нос непозволительными расходами. Это была бы просто ненужная жестокость – все равно как если сообщить Бланш Дюбуа[68], что у нее руки дряблые, волосы секутся и вообще зря она танцует польку так близко к огням рампы.
Лучше промолчать.
Глава 5. «Женщина в белом», Уилки Коллинз
На третий день после приезда в Стоктон мы с папой пошли за продуктами в магазин «Толстый кот», и там в секции замороженных товаров я впервые увидела Ханну Шнайдер. Я стояла около тележки с покупками, а папа выбирал мороженое.
– Величайшее открытие Америки не атомная бомба, не фундаментализм, не здоровое питание, не Элвис Пресли и даже не тонкое наблюдение, что джентльмены предпочитают блондинок[69], а то, на какую недостижимую высоту Америка вознесла мороженое. – Папа обожал выдавать такие комментарии, открыв настежь дверцу холодильника и вдумчиво изучая разные сорта «Бен энд Джерриз», при этом совершенно не замечая, что перегородил дорогу всем остальным покупателям.
Пока он рассматривал упаковки с мороженым, словно ученый, проводящий анализ ДНК по фрагменту человеческого волоса, я заметила женщину в дальнем конце прохода.
Темноволосая, тонкая, как хлыст, в траурно-черном костюме и черных туфлях на шпильке в стиле восьмидесятых (кинжалы, а не туфли). Она казалась неуместной, словно бы выцветшей в неоновом свете, под сентиментальную фоновую музычку. Однако, судя по тому, как хладнокровно она изучала пачку замороженного горошка, ей нравилось быть неуместной, словно страус в стаде буйволов. Она буквально излучала смесь удовлетворенности и легкого смущения, характерную для красивых женщин, привыкших, что на них смотрят, и поэтому я ее сразу возненавидела.
Я давно уже решила: заслуживают презрения люди, которые постоянно воображают себя объектом съемки – общим ли, средним, крупным планом или наплывом. Наверное, дело в том, что я сама абсолютно не могла себя представить участницей киносценария, хотя бы даже своего собственного. В то же время я (вместе с еще каким-то покупателем, застывшим, приоткрыв рот, с книгой о диетической кухне в руках) не могла не воскликнуть: «Тишина на съемочной площадке!» и «Внимание! Мотор!». Такая она была невероятно потрясающая и необычная, даже на большом расстоянии. Как говаривал папа в настроении «бурбон»:
– «В прекрасном – правда, в правде – красота; / Вот все, что нужно помнить на земле»[70].
Она положила горошек на место и двинулась в нашу сторону.
– «Нью-Йоркское-супер» со сливочной помадкой или то, которое с шоколадными рыбками? – спросил папа.
Каблучки-стилеты вонзались в пол при каждом шаге. Чтобы не пялиться, я неубедительно уставилась в описание пищевой ценности каких-то леденцов.
Папа незнакомку не замечал.
– Можно еще, конечно, взять вот это, с кусочками шоколадного печенья… О, смотри, «Сладкая фантазия». Кажется, это что-то новое, хотя даже не знаю… Зефир и… что там еще? Шоколадный бисквит? По-моему, это перебор.
Проходя мимо, незнакомка взглянула на папу, сосредоточенно исследующего холодильник, потом на меня и улыбнулась.
У нее было романтически-изысканное, безупречной лепки лицо – из тех, на которые красиво ложатся свет и тени. И еще она была старше, чем сперва показалось, – хорошо за тридцать, я думаю. А главное, ее окутывала атмосфера классического голливудского шика, в духе «Шато-Мармон»[71] и РКО[72]. Никогда такого человека не видела, кроме того раза, когда мы с папой как-то под утро смотрели «Иезавель»[73]. Ее осанка и размеренная, словно метроном, поступь (уже в отдалении, за витриной с картофельными чипсами) отдавали «Парамаунтом», крохотными стаканчиками виски и воздушными поцелуями «У Сиро»[74]. А если она откроет рот, наверняка послышится не рассыпчатый современный говорок, а красивые влажные слова вроде «поклонник», «трельяж» и «мелодия» (ну, может иногда, «трель»). И людей она наверняка оценивает практически вымершими категориями: Честность, Репутация, Достоинство.
И ведь не скажешь, что она была ненастоящая. Очень даже настоящая! Выбившаяся из прически прядь… Пушинка, прилипшая к юбке… Просто очень отчетливо чувствовалось, что где-то и когда-то она была в центре внимания. И судя по уверенному, даже агрессивному выражению глаз, твердо намеревалась вернуть это прекрасное время.
– Я вот думаю, может, взять вот это, с хрустящей карамелью… Что скажешь? Синь?
Если бы участие этой женщины в моей жизни ограничилось единственным мимолетным эпизодом, словно из фильмов Хичкока, я бы и тогда, наверное, ее запомнила – может, не настолько живо, как ту жаркую летнюю ночь, когда мы впервые смотрели «Унесенных ветром» в открытом кинотеатре, причем папа непрерывно комментировал, какие в небе видны созвездия («Смотри, вон Андромеда!»), и когда Скарлетт не испугалась генерала Шермана, и когда ее стошнило от морковки, и даже тогда, когда Ретт сказал, что ему плевать.
Между тем по странной прихоти судьбы всего лишь через двадцать четыре часа видение явилось мне вновь, да еще на сей раз в роли со словами.
До начала учебного года оставалось три дня. Папа, продолжая изумлять непривычными поступками, повел меня в торговый центр «Синие горы», в отдел одежды для подростков, и там заставил перемерить кучу вещей из серии «Снова в школу», обращаясь за советами по части моды и стиля к продавщице, миз Камилле Лютерс (см. ст. «Курчавошерстный ретривер» в кн. «Энциклопедия собак», т. 1). Камилла была старшим продавцом, восемь лет проработала в отделе подростковой одежды и мало того – была в курсе новейших веяний, поскольку имела горячо любимую дочь, мою ровесницу, по имени Синнамон.
По поводу зеленых штанов, напоминающих форменную одежду китайской Народно-освободительной армии, миз Лютерс высказалась так: «Словно специально для тебя сшиты!» Она азартно приложила вешалку с брюками к моей пояснице и уставилась в зеркало, наклонив голову набок, будто к чему-то прислушивалась.
– И Синнамон тоже идеально подходят. Я ей такие же купила, она их носит не снимая!
Мнение миз Лютерс о бесформенной белой блузке на пуговицах – в таких большевики штурмовали Зимний дворец:
– И это тоже как раз для тебя! У Синнамон такие всех цветов есть. Она тоже худышка, совсем как ты. Птичьи косточки! Все думают, у нее анорексия, а на самом деле ничего подобного. Одноклассницы ей завидуют – они-то на диете сидят, лишь бы в двенадцатый размер втиснуться!
Мы вышли из подросткового отдела, унося с собой чуть ли не весь революционный гардероб Синнамон, и по совету миз Лютерс отправились в обувной магазин «Волшебный башмачок» в Северном Стоктоне, на Мерси-авеню.
– Вот эти, по-моему, как раз в стиле Синнамон. – Папа взял в руки черную туфлю на здоровенной платформе.
– Нет, – ответила я.
– Ну и слава богу! Наверняка Шанель переворачивается в гробу.
– На съемках «Касабланки» Хамфри Богарт постоянно ходил в ботинках на платформе, – произнес кто-то.
Я обернулась, ожидая увидеть, что вокруг папы кружит очередная мамашка, словно гриф над падалью, но оказалось – нет.
Это была она – женщина из «Толстого кота».
Высокая, в облегающих, словно вторая кожа, джинсах, идеально скроенном твидовом жакете и больших темных очках, сдвинутых на макушку. Темно-русые волосы безмятежно покачивались, обрамляя лицо.
– Он, конечно, не Эйнштейн и не Трумен, – продолжала незнакомка, – и все-таки без него история человечества была бы иной. Особенно если на словах: «За твои глаза, детка» – ему пришлось бы смотреть на Ингрид Бергман снизу вверх.
У нее был потрясающий голос – с этакой гриппозной хрипотцой.
– Вы ведь не здешние? – спросила она, прямо обращаясь к папе.
А он уставился на нее, словно в стену.
Папино общение с красивыми женщинами – всегда своеобразный химический опыт. Чаще всего никакой реакции не наблюдается. Изредка бывает видимость бурной реакции, с выделением жара, света и газа, при полном отсутствии конечного продукта – скажем, стекла или пластмассы. Только вонища.
– Не здешние, – сказал папа.
– Недавно приехали?
– Да. – Папина улыбка, вроде фигового листка, почти не прикрывала явного желания закончить разговор.
– И как вам здесь?
– Замечательно.
Я понять не могла, почему он такой неприветливый. Обычного папа не возражает, когда очередная июньская букашка выписывает над ним круги. Еще и приманивает их – открывает занавески и включает лампочку, устраивая импровизированные лекции на тему Горбачева, гонки вооружений и закономерных этапов гражданской войны (июньские букашки, впрочем, основную суть пропускают мимо ушей). Порой еще роняет намеки на будущую эпохальную книгу, над которой работает, – «Железная хватка».
Может, эта была слишком красивая для него или слишком высокая (почти с папу ростом)? А может, ее непрошеные пояснения насчет Богарта пришлись против шерсти. Папа всегда злится, если его просвещают о чем-нибудь, что ему и так известно. О подробностях актерской жизни мы с папой знали все. По дороге от Литтл-Рока до Портленда я успела прочесть вслух от корки до корки «Громилы, коротышки, лопоухость и вставные челюсти: истинный портрет ведущих голливудских актеров» (Риветт, 1981) и «Другие голоса, тридцать две комнаты. Как я работала горничной у Л. Б. Майера»[75] (Харт, 1961). Между Сан-Диего и Солт-Лейк-Сити я зачитывала вслух бесчисленные биографии различных знаменитостей, авторизованные и нет, в том числе Говарда Хьюза[76], Бетт Дэвис, Фрэнка Синатры и Кэри Гранта, а также приснопамятную «Боже, все это уже было: образ Иисуса в кинематографе, 1912–1988, или Хватит Голливуду тащить Сына Божия на экран» (Хетчер, 1989).
– А ваша дочка, – незнакомка мне улыбнулась, – в какой школе будет учиться?
Я раскрыла рот, но папа ответил раньше:
– В «Сент-Голуэе».
Он смотрел на меня с выражением, означающим «Надо сматывать удочки», которое тут же сменилось выражением «Позвольте выйти из самолета», а затем «Будьте так добры, стукните ее по затылку». Обычно эти гримасы применялись, если папу слишком активно донимала июньская букашка с каким-нибудь бросающимся в глаза физическим недостатком вроде нарушений ориентации в пространстве (сильная близорукость) или недоразвитого крылышка (нервный тик).
– Я там работаю учительницей. – Она протянула мне руку. – Ханна Шнайдер.
– Синь Ван Меер.
– Какое чудесное имя!
Она вопросительно посмотрела на папу.
– Гарет, – помедлив, представился он.
– Рада знакомству.
С апломбом девушки, которая в школе считалась дурнушкой в безобразном свитере, а потом неожиданно стала яркой и талантливой драматической актрисой (горячо любимой зрителями), Ханна Шнайдер сообщила нам с папой, что вот уже три года преподает ученикам старших классов факультатив «Введение в киноискусство». Также она уверенно объявила, что «Сент-Голуэй» – «совершенно необычная школа».
Папа обернулся ко мне:
– Нам, наверное, пора. Тебе ведь на музыку надо?
(Я никогда в жизни не брала уроков музыки.)
Однако Ханна Шнайдер нисколько не смутилась и продолжала вещать, словно мы с папой – корреспонденты журнала «Конфиденшл» и уже полгода всеми средствами добивались разрешения взять у нее интервью. Впрочем, никакого высокомерия и тем более наглости в этом не было; просто Ханна ни на минуту не сомневалась, что все сказанное ею вам ужасно интересно. И вам действительно было интересно.
Она спросила, откуда мы приехали («Из Огайо», – процедил папа), в каком я классе («В выпускном», – прошипел папа), как нам нравится наш новый дом («Сплошной восторг!» – рявкнул папа), а потом рассказала, что сама три года назад перебралась сюда из Сан-Франциско («Поразительно!» – вызверился папа). Пришлось ему все-таки расщедриться на ответную любезность.
– Возможно, мы с вами увидимся на школьном футбольном матче, – сказал он, махнув на прощанье рукой (жест, который может с равным успехом означать «Пока» или «Отстаньте»), и немедленно поволок меня к выходу.
Папа никогда не ходил на школьные футбольные матчи и даже не собирался. Все контактные виды спорта, а заодно и азартно вопящих болельщиков он сурово осуждал, считая «глубоко неправильными» и «жалости достойными проявлениями нашего внутреннего австралопитека». «Вероятно, в каждом из нас живет внутренний австралопитек, но я предпочитаю, чтобы мой сидел себе в пещере и расчленял убитого мамонта примитивными каменными орудиями, а наружу не высовывался».
– Уф, хорошо хоть живыми ушли, – буркнул папа, заводя мотор.
– Что это такое было?
– Кто ж ее знает. Я тебе говорил когда-то: эти стареющие американские феминистки, похваляющиеся тем, что сами за себя платят и сами открывают себе двери, на самом деле вовсе не очаровательные современные женщины, какими себя считают. Не-ет, это космические зонды из галактики Большое Магелланово Облако в поисках мужчины, возле которого можно пристроиться на стационарную орбиту.
– Вообще-то, я о тебе. Ты ей нахамил.
– Я нахамил?
– Ага. А она симпатичная. Мне понравилась.
– Нельзя назвать симпатичным человека, который вламывается в твое личное пространство, приземляется, не спрашивая разрешения на посадку, и позволяет себе исследовать твой ландшафт при помощи радара, да еще и транслировать полученные результаты на все космическое пространство.
– А как же Вера Штраусс?
– Кто-кто?
– Вера П. Штраусс.
– А-а, которая ветеринар?
– Кассирша в магазине здорового питания.
– Да, конечно. Мечтала стать ветеринаром. Я помню.
– Она к нам полезла с разговорами, когда мы…
– Отмечали мой день рождения. Я все помню, в стейк-хаусе Уилбура.
– Уилсона. Стейк-хаус Уилсона, в округе Мид.
– Ну да, я просто…
– Ты пригласил ее подсесть к нам, и мы три часа выслушивали ее кошмарные истории.
– Как ее бедному брату сделали лоботомию, помню-помню. Я же тогда признал, что был не прав, и попросил у тебя прощения. Откуда мне было знать, что она сама – готовый пациент для шоковой терапии и надо было сразу вызывать тех милых заботливых людей, что появляются в финальной сцене «Трамвая „Желание“»?[77]
– Что-то ты тогда не жаловался на ее радар.
– Уела. Но все-таки Вера была необычной женщиной. Не моя вина, что ее необычность оказалась в духе Сильвии Платт[78]. По крайней мере, что-то экстраординарное в ней было. А эта, сегодня… Я даже имя ее уже забыл.
– Ханна Шнайдер.
– Да, так вот, она…
– Что «она»?
– Банальная.
– У тебя крыша поехала?
– Я не для того шесть часов экзаменовал тебя по дидактическому пособию «Выходя за рамки школьной программы», чтобы ты в повседневной жизни употребляла такие выражения, как «поехала крыша»!
– Ты несколько повредился в уме, – отрезала я, скрестив руки на груди и глядя в окно на проезжающие автомобили. – А Ханна Шнайдер… – Я постаралась вспомнить какие-нибудь внушительные слова, чтобы утереть папе нос. – Обворожительна и непостижима!
– Э-э?
– Знаешь, она ведь прошла мимо нас вчера в «Толстом коте».
– Кто?
– Ханна.
– Она была в «Толстом коте»? – удивился папа.
Я кивнула:
– Прошла вплотную к нам.
Папа задумался, потом вздохнул:
– Надеюсь, она не вроде погибшего зонда «Галилей»[79]. Еще одной аварийной посадки я не переживу. Как бишь ее звали – ту, из Кокорро?
– Бетина Мендехо.
– Да, Бетина, у нее еще был чудный четырехлетний сынишка-астматик.
– Дочь девятнадцати лет, училась на диетолога.
– Ну конечно, – кивнул папа. – Теперь я вспомнил.
Глава 6. «О дивный новый мир», Олдос Хаксли
О школе «Сент-Голуэй» папе рассказал коллега – преподаватель Хиксбургского государственного колледжа, и вот уже около года глянцевая брошюрка 2001–2004 г. под волнующим названием «Лучше учимся – выше летаем» странствовала в большой коробке на заднем сиденье нашего «вольво» (вместе с пятью экземплярами научного журнала «Федеральный форум», т. 10, № 5, 1998, где была напечатана папина статья «Nächtlich[80]: распространенные мифы о борьбе за свободу»).
Брошюрка была набита стандартной демагогией с массой восторженных прилагательных и солнечных фотографий деревьев в осеннем уборе, учителей с добрыми мышиными лицами и радостных школьников, шагающих по дорожкам, держа учебники, словно букеты цветов. На заднем плане скучали тускло-лиловые горы и уныло-синее небо. «Школа оснащена всеми необходимыми удобствами», – томно стонала стр. 14. И действительно, фотографии являли читателю футбольное поле, такое ровненькое, словно оно было застелено линолеумом, столовую с окнами-эркерами и коваными чугунными люстрами, а также монструозный спорткомплекс, масштабами не уступающий Пентагону. Крошечная каменная часовенка изо всех сил старалась спрятаться от рассевшихся среди газонов мощных зданий в тюдоровском стиле, с пышными названиями вроде Ганновер-Холл, Элтон-Хаус, Барроу и Воксхолл. Фасады их напоминали американских президентов: седая маковка, насупленный лоб, деревянные зубы и упрямое выражение.
Еще в брошюрке имелось очаровательно эксцентрическое жизнеописание Горацио Миллса Голуэя: некогда оборванец, затем крупный промышленник, разбогатевший на бумажном производстве и в 1910 году основавший школу, не из альтруизма, не ради гражданского долга и преданности науке, а из маниакального желания видеть перед своей фамилией приставку «Сент» – «Святой». Оказывается, самый легкий путь к достижению этой цели – создать школу.
Мой любимый раздел, «Куда уходят наши выпускники?», начинался с горделивого вступления, написанного лично директором Биллом Хавермайером (постаревший Роберт Митчем[81]), а далее шло перечисление невиданных высот, на которые поднялись выпускники «Сент-Голуэя». Причем хвасталась школа не общепринятыми параметрами успеха – заоблачные оценки в аттестате, огромный процент поступивших в престижные университеты, – а свершениями более нестандартными: «У нас самый большой в стране процент выпускников, которые стали художниками-новаторами… 7,27 % выпускников за последние 50 лет зарегистрировали свои изобретения в Патентном бюро США; один из десяти выпускников „Сент-Голуэя“ совершает научные открытия… 24,3 % стали публикующимися поэтами; 10 % изучают искусство сценического макияжа; 1,2 % – искусство театра марионеток; 17,2 % живут во Флоренции; 1,8 % – в Москве; 0,2 % – в Тайбэе». «Один из 2031 выпускников школы попадает в Книгу рекордов Гиннесса. Ван Яну, выпуск 1982 г., принадлежит рекорд за самую долгую выдержанную ноту в вокале…»
Когда мы с папой впервые ехали в «Сент-Голуэй», дорожка петляла среди чахлых сосенок, а потом внезапно выбросила нас прямо на середину кампуса – а называлась она очень уместно: Тропа Горацио. У меня даже дыхание перехватило. Слева раскинулась ренуаровская лужайка, такая радостно-зеленая, что кажется, раз – и улетит, если бы ее не придавили по краям могучие дубы. («Общинный луг, – выводила рулады брошюрка, – находится под неусыпной заботой талантливого садовника Квазимодо; говорят, он работает здесь со времен основания школы». Справа нависал огромный и суровый Ганновер-Холл, словно собрался форсировать реку Делавэр в рождественскую ночь[82]. По другую сторону квадратной каменной площадки, окаймленной березками, высился колоссальный и в то же время стильный лекционный корпус из стекла и металла: Аудитория Любви.
Поездка была сугубо деловая: мы явились не просто на экскурсию. По кампусу нас водила Мирта Грейзли, пожилая дама в шелковом костюме цвета фуксии, гуру поступающих в школу. Передвигалась она зигзагами, словно обезумевшая моль.
– Кажется, мы еще не осмотрели художественную галерею? Ах боже мой, про столовую совсем забыла! Обратите внимание на лошадку-флюгер над корпусом Элтон! Может быть, вы вспомните: ее фотографию в прошлом году опубликовали в архитектурном ежемесячном журнале.
Однако главная наша цель была – уговорить начальство «Сент-Голуэя», чтобы при моем поступлении учли оценки из предыдущей школы. К этой задаче папа подошел со всей серьезностью, словно Рейган, обсуждающий с Горбачевым договор о ядерном разоружении.
– Если позволите, говорить буду я, а вы просто сидите и демонстрируйте свою ученость.
Наша собеседница, миз Лейси Ронин-Смит, обитала в часовой башне Ганноверского корпуса, подобно Рапунцель. Лет под семьдесят, жилистая, с голосом бывалого моряка и унылой прической, она уже тридцать один год занимала в «Сент-Голуэе» должность завуча, а в свободное время, судя по фотографиям на стенах, увлекалась рукоделием в технике лоскутного шитья и туристическими походами в обществе подруг и маленькой собачки, черной и косматой, словно какое-нибудь стареющее рок-светило.
– У вас в руках нотариально заверенная копия школьного табеля Синь, – втолковывал ей папа.
– Да, – отозвалась миз Ронин-Смит.
Уголки ее губ, постоянно искривленных, будто она жевала лимон, чуть дрогнули, выдавая легкое недовольство.
– До переезда Синь училась в школе «Ламего-Хай» в городе Ламего, штат Огайо, – это одно из самых динамичных учебных заведений в стране. Я хотел бы убедиться, что затраченные ею усилия здесь оценят по достоинству.
– Не сомневаюсь, что хотели бы, – согласилась Ронин-Смит.
– Естественно, другие ученики, особенно лучшие, могут увидеть в ней угрозу. Мы никого не хотим расстраивать, однако справедливость требует поместить ее в списке успеваемости приблизительно на то же место, которое она занимала, когда нам пришлось сменить место жительства в связи с моей работой. Она была первой ученицей…
Миз Лейси устремила на папу особый бюрократический взор – сожаление с чуть заметной ноткой злорадства.
– Жаль вас разочаровывать, мистер Ван Меер, но не стану скрывать: на этот счет в нашей школе существуют четкие правила. Только что поступившие ученики, независимо от своих выдающихся оценок, не могут оказаться в списке выше, чем…
– Боже правый! – неожиданно воскликнул папа.
Изогнув бровь и восхищенно приоткрыв рот, он подался вперед, в точности повторяя угол наклона Пизанской башни. Я с ужасом поняла: сейчас он выдаст свой излюбленный номер под названием «Да, Вирджиния, Санта-Клаус существует». Мне захотелось спрятаться под стул.
– Какой, однако, внушительный диплом у вас тут висит! Можно поинтересоваться, что это?
– Э-э… Что-что? – пискнула Ронин-Смит (словно папа указал ей на ползущую по стене мокрицу).
Развернув кресло, завуч окинула взглядом громадный, каллиграфическим почерком заполненный диплом на кремовой бумаге с золотыми печатями, вывешенный рядом с фотографией хеви-металлической собачки в цилиндре и галстуке-бабочке.
– А-а, это мой диплом Университета Северной Каролины за выдающиеся успехи в области учебно-воспитательной деятельности и разрешения конфликтных ситуаций.
Папа так и ахнул:
– Да вам бы в ООН работать!
– Ну что вы! – Миз Ронин-Смит покачала головой, нехотя приоткрывая в улыбке желтоватый неровный ряд зубов. Шея у нее порозовела от смущения. – Какое там!
Полчаса спустя крепость была успешно покорена (папа трудился отчаянно, как евангелист во имя спасения души). Мы спустились из башни по винтовой лестнице.
– Всего один стрекулист впереди остался, – ликующе шепнул папа. – Мелкий тарантул по имени Рэдли Клифтон. Видали мы таких! Недельки через три забацаешь рефератик по теории относительности, он мигом сдуется.
* * *
На следующее утро в без четверти восемь папа высадил меня из машины у корпуса Ганновер-Холл. Я почему-то нервничала. С чего бы, в сущности? Для меня первый день в новой школе – явление настолько же знакомое и привычное, как для Джейн Гудолл – танзанийские шимпанзе после пяти лет в джунглях. А вот поди ж ты! Новая блузка словно сделалась мне велика на два размера (короткие рукавчики топорщились на плечах, как накрахмаленные льняные салфетки), юбка в красно-белую клетку липла к ногам, а волосы (обычно единственное, за что мне не бывает стыдно) торчали во все стороны, словно пух у одуванчика. В общем, столик в бистро-барбекю, да и только.
– «Она идет во всей красе![83] – крикнул вслед папа, опустив стекло. – Светла, как ночь ее страны! / Вся глубь небес и звезды все / В ее очах заключены!» Дай им по мозгам, детка! Покажи им, что такое настоящая образованность!
Слабо кивнув, я захлопнула за собой дверцу машины (и старательно проигнорировала женщину с волосами цвета фанты, обернувшуюся послушать папины прощальные наставления в духе Мартина Лютера Кинга). Общее собрание было назначено на 8:45. Я отыскала свой шкафчик в гардеробе на третьем этаже Ганновера, забрала учебники и дружески улыбнулась учительнице, которая бегала взад-вперед с какими-то распечатками (словно солдат, внезапно обнаруживший, что не продумал как следует предстоящие военные действия). Потом я отправилась в лекционный корпус. Как истинная заучка, я пришла ужасно рано. В аудитории было пусто, и только какой-то совсем мелкий школьник в первом ряду вдумчиво изучал явно еще чистую тетрадь на пружинке.
Для старших классов были отведены задние ряды амфитеатра. Я села на указанное завучем место и стала считать минуты до того, как в аудиторию с грохотом ворвется толпа, неся с собой оглушительные «Как дела?» и «Чем занимался летом?», запахи шампуня, зубной пасты и новых туфель и всю ту страшную кинетическую энергию, какую излучают дети в большом количестве, – так что пол дрожит, стены трясутся и невольно думаешь: если обуздать эту безумную силу и перенаправить по проводам на мощную электростанцию, можно было бы осветить все Восточное побережье.
Открою свой давний, испытанный прием, как сохранить нерушимое самообладание. Этого не достигнешь притворной углубленностью в пустую тетрадку и попытками внушить себе, что ты на самом деле будущая рок-звезда, топ-модель, миллионер, Джеймс Бонд, девушка Бонда, королева Елизавета, Элизабет Беннет[84] или Элиза Дулитл на балу. Бесполезно также вздергивать подбородок под углом от пятнадцати до сорока пяти градусов и воображать, будто ты потерянный отпрыск семейства Вандербильт или Грейс Келли[85] в расцвете таланта и славы. Все эти методы работают только в теории. На практике притворство быстро соскальзывает – и ты остаешься голышом при всем честном народе, а твое чувство собственного достоинства смятой простыней валяется у ног.
На самом деле сохранить величавое спокойствие можно двумя способами:
– отвлечься какой-нибудь книгой или пьесой;
– мысленно читать наизусть Китса.
Я эту методику открыла для себя довольно рано – во втором классе начальной школы «Спарта». Когда невольно услышала в подробностях, как Элеонора Слагг пригласила в гости с ночевкой особо приближенных подружек и что потом было. Я вытащила из рюкзака похищенную наугад из папиной библиотеки книгу – «Mein Kampf»[86] (Гитлер, 1925) – и с сугубо нордической стойкостью заставила себя читать, пока напечатанные слова не вытеснили слова Элеоноры и не принудили их к капитуляции.
– Добро пожаловать! – сказал в микрофон директор Хавермайер.
Фигурой он был похож на кактус сагуаро, слишком долго обходившийся без воды, и одежда была такая же выцветшая, пыльная – темно-синий пиджак, голубая сорочка, кожаный пояс с громадной серебряной пряжкой, на которой изображена не то осада Аламо, не то битва при Литтл-Бигхорн[87]. Директор неторопливо расхаживал по сцене, как бы наслаждаясь звяканьем воображаемых шпор, а беспроводной микрофон сжимал в руке так нежно, словно любимую стетсоновскую шляпу.
– Ну, поехали, – шепнул рядом со мной гиперактивный Моцарт, непрерывно отстукивающий по сиденью, между широко расставленных ног, ритм из «Женитьбы Фигаро»[88] (1786).
Я сидела между Амадеем и каким-то унылым пацаном, в точности похожим на Сола Минео (см. худ. фильм «Бунтарь без причины»[89]).
– Я обращаюсь к тем, кто еще ни разу не слышал Диксоновское Слово мудрости, – продолжал Билл Хавермайер. – Вам повезло – сейчас вы его услышите впервые. Диксон – это мой покойный дедушка, Папаша Хавермайер. Он любил, когда молодежь слушает и учится у старших. Когда я был маленьким, он часто отводил меня в сторонку и говорил: «Сынок, не бойся меняться». Лучше не скажешь! Не бойтесь меняться. Вот так.
Билл – не первый директор школы, страдающий синдромом Голубого глаза. Многие директора, а особенно мужчины, принимают полутемную школьную столовку или учебную аудиторию со скверной акустикой за обитую алым бархатом «Копа-рум»[90], школьников – за восторженную публику, раскупившую билеты на месяц вперед, а себя самого – за Фрэнка Синатру, которому все простится, и фальшивая нота, и пропущенная строчка.
Само собой, на самом деле слушатели над ним потешаются, хихикают и передразнивают.
– Привет, что читаешь? – спросил какой-то парень у меня за спиной.
Я и не думала, что это ко мне обращаются, пока вопрос не прозвучал снова, на этот раз прямо над моим плечом. Я уставилась в потрепанную пьесу, которую держала в руках. Страница 18: «Брик счастлив с тобой?»
– Ау? Мисс? Мэм? – Парень наклонился еще ниже, горячо дыша мне в шею. – Вы говорите по-английски?
Девчонка рядом с ним захихикала:
– Парлей ву франсей? Шпрехен зи дёйчи?
Папа говорит, в любой ситуации, когда невежливо просто встать и уйти, обязательно найдется такой Оскар Шейпли[91] – отвратный тип, непонятно с чего вообразивший, будто он очарователен в плане общения, а в плане секса вообще неотразим.
– Парлате итальяно? Ау?
Строчки диалога из «Кошки на раскаленной крыше» (Теннесси Уильямс, 1955) расплывались у меня перед глазами. «Один из этих недоделанных уродов запустил в меня масляным бисквитом… У них нет шеи… Жирные головки налеплены на жирные тушки без малейшего промежутка»[92]. Мегги-кошка не стала бы такое терпеть. Она бы закинула ногу на ногу, одернула свою коротенькую комбинацию и сказала что-нибудь страстно-пронзительное, так что все присутствующие, включая Большого Па, подавились бы кубиками льда из коктейля.
– Что ж еще такого придумать, чтобы на меня обратили внимание?
Делать нечего, пришлось оглянуться.
– Что?
Парень одарил меня улыбкой. Я думала, что увижу недоделанного урода без шеи, а он неожиданно оказался в стиле «Спокойной ночи, луна»[93] (Маргарет Браун, 1947). У таких глаза как перина, веки-занавески и улыбка в виде гамака и все лицо подернуто сном, точно амальгамой, – у обычных людей такое выражение бывает всего пару минут, когда уже засыпаешь, а люди типа «Спокойной ночи, луна» так ходят весь день, до позднего вечера. Люди «Спокойной ночи, луна» бывают как мужского пола, так и женского, и окружающие, даже учителя, в них души не чают. Задав на уроке вопрос, учитель первым делом смотрит на учеников «Спокойной ночи, луна». Те отвечают, не проснувшись до конца и совершенно мимо темы, а учитель все равно радуется: «Ах, замечательно!» – и как-нибудь да исхитрится перекрутить ответ, будто тоненькую проволочку, чтобы получилось хоть на что-то похоже.
– Извини, – сказал мне парень. – Не хотел тебя беспокоить.
Он был блондин, но не из тех белобрысых, скандинавского склада, которых так и хочется немедленно перекрасить или просто макнуть головой во что-нибудь цветное. Белоснежная рубашка, темно-синий пиджак, небрежно повязанный галстук в красно-синюю полоску чуть-чуть сбился на сторону.
– Ты, наверное, знаменитая актриса? Заехала к нам по дороге на Бродвей?
– Да нет…
– Я – Чарльз Лорен, – сообщил он, словно открывая важную тайну.
Папа у меня большой сторонник прямого взгляда, глаза в глаза, но он не учитывает, что на близком расстоянии это практически невозможно. Приходится выбирать – правый глаз или левый, или все время переводить взгляд туда-сюда, или просто уставиться в точку между глаз. Только очень уж это уязвимое место, бровьми осененное и над носом причудливо нависающее. Именно сюда метил Давид, когда убил Голиафа камнем из пращи.
– Я твое имя знаю, – сказал Чарльз Лорен. – Синь как-то там. Только не говори…
– Что там за гвалт в задних рядах?
Чарльз резко отодвинулся. Я обернулась к сцене.
Место Хавермайера заняла низенькая плотная женщина с кислотно-оранжевыми волосами – та самая, что косилась на папу, когда он выкрикивал мне вслед Байрона. Ее розовый костюм оттенка брюквы весь напружинился в усилии не расстегнуться. Тетка уставилась на меня, скрестив руки на груди и решительно расставив ноги, как на рисунке 11.23 «Классический турецкий воин времен Второго крестового похода» в одной из папиных любимых книжек: «Именем Божьим: история войн и преследований на религиозной почве» (Мургг, 1981). И не только тетка на меня смотрела. В аудитории повисла тишина, все повернули головы в едином порыве, словно отряд турок-сельджуков, к которым нечаянно забрел одинокий путник-христианин по пути в Святую землю.
– Ты, видимо, новенькая, – сказала тетка в микрофон – словно каблуком проскребла по асфальту. – Позволь тебе открыть маленький секрет… Как тебя зовут?
Я надеялась, что вопрос риторический, но тетка молчала и ждала ответа.
– Синь, – сказала я.
Тетка скорчила гримасу:
– Как? Что она сказала?
– Она сказала «синь», – откликнулся кто-то.
– Синь? Так вот, Синь, у нас в школе принято уважать выступающего. Когда человек на трибуне что-то говорит, принято слушать.
Наверное, можно не объяснять, что я не привыкла, чтобы на меня таращился полный зал народу. Джейн Гудолл всегда наблюдала из укрытия, практически невидимая среди бамбуковых зарослей в своей льняной рубашке и шортах цвета хаки. Чужие взгляды стекали с меня, словно сырое яйцо, брошенное в стену. Сердце сделало перебой.
– Итак, продолжим. Как я говорила, мы изменили сроки выбора элективного курса. Исключений не будет делаться ни для кого, и шоколадки мне притаскивать бесполезно – Максвелл, это я к тебе обращаюсь. Будь добр вовремя определиться с программой обучения.
– Извини, – шепнул мне в спину Чарльз. – Надо было тебя предупредить. С Эвой Брюстер лучше не заедаться. У нас ее зовут Эвита[94]. Она вроде диктатора, хотя формально всего лишь секретарь.
Тетка… то есть Эва Брюстер, объявила, что все могут расходиться по классам.
– Слушай, я спросить хотел… Эй, постой!
Проскочив мимо Моцарта, я выбралась в проход. Чарльз не отставал.
– Да не беги ты! Во учиться торопишься, сразу видно, что первая группа крови, – улыбнулся он. – Просто, понимаешь, ты же новенькая, вот мы с друзьями и подумали…
Он говорил, а взгляд уже уплыл куда-то вверх, где на верхушке лестницы виднелась дверь с надписью «ВЫХОД». У этих, которые «Спокойной ночи, луна», глаза – как воздушные шарики, накачанные гелием. Невозможно долго их удержать на привязи.
– Мы надеялись, ты согласишься с нами пойти перекусить на большой перемене. Добыли пропуск с территории кампуса. Так что в столовую не ходи. Встретимся в «Скрэтче» в четверть первого. – Он близко-близко наклонился ко мне. – И не опаздывай, а то хуже будет. Понятно?
Подмигнул и умчался.
А я так и стояла столбом. Меня толкали со всех сторон, и в конце концов пришлось вместе со всеми двинуться к лестнице. Я понять не могла, откуда Чарльз узнал мое имя. Зато я точно знала, почему он так передо мной стелется: они с друзьями рассчитывают вместе со мной готовиться к урокам. Все это я уже проходила много раз. Кто только меня не приглашал вместе готовиться: от Героя-Футболиста С Миндалевидными Глазами, У Которого В Выпускном Классе Сын Родился, до Красотки-Фотомодели, Уцененный Вариант. Поначалу я прыгала от восторга, получив приглашение. Прибегала по назначенному адресу с охапкой карандашей, маркеров и дополнительных учебников, счастливая, словно девушка из массовки, которой вдруг предложили на пару спектаклей заменить исполнительницу главной роли. И папа тоже радовался. Вез меня к дому Брэда, или Джеба, или Шины и разглагольствовал, какая это чудесная возможность расправить крылышки, показать всем, что остроумием я не уступаю Дороти Паркер, и организовать современный «Алгонкинский круглый стол»[95].
Только очень скоро становилось ясно, что меня пригласили вовсе не за небывалую остроту моего ума. Если принять гостиную очередной Карлы за Порочный круг, то мне отводилась роль официанта – его замечают, только если с едой что-нибудь не так или кому-то понадобилась новая порция виски. Просто одноклассникам стало известно, что я «ботан» (в «Академии Ковентри» таких называли «кардиганами»), и мне поручали готовить половину вопросов из списка заданий, а иногда и весь список целиком.
– Пусть она и это сделает! Ты же не против, правда, Синька?
Переломный момент настал, когда мы сидели у Лероя. Я вдруг разревелась прямо посреди гостиной, уставленной фарфоровыми далматинцами. Сама не знаю, с чего я вздумала рыдать именно в тот день; Лерой, Джессика и Скайлер поручили мне всего лишь четверть списка. Они все заахали сладенькими сиропными голосами:
– Господи, что такое, что случилось?
На их вопли в комнату прискакали три настоящих живых далматинца, стали носиться кругами и лаять, а из кухни выглянула мама Лероя в розовых резиновых перчатках – она мыла посуду – и как крикнет:
– Лерой, я кому говорила, не смей их дразнить!
Я кинулась вон и бежала до самого дома, целых шесть миль. Дополнительные учебники Лерой так и не вернул.
– Слушай, откуда ты знаешь Чарльза? – спросил Сол Минео по дороге к стеклянным дверям.
– Я его не знаю, – ответила я.
– Повезло тебе – с ним все мечтают познакомиться!
– Почему?
Сол озадачился, потом сказал со вздохом:
– Он – король.
Не успела я спросить, что это значит, Сол уже спустился вприпрыжку по бетонным ступеням и растворился в толпе. У таких, как Сол Минео, в голосе неизменно звучит затаенная печаль, а смысл их речей расплывчат, словно очертания ангорского свитера. И глаза у них не как у всех – большие и всегда будто бы на мокром месте. Хотелось догнать его и сказать, что к концу фильма он проявит себя как глубоко чувствующий персонаж, символизирующий все потери и боль своего поколения, но если не остережется и не обретет себя, его пристрелит чересчур агрессивный полицейский.
Догонять я не побежала, зато углядела в толпе его королевское высочество, принца Чарльза: с рюкзаком на плече и с игривой улыбкой на устах, он шел через двор к высокой брюнетке в длинном коричневом кашемировом пальто. Подкрался сзади, обхватил за шею и заорал:
– Ага-а-а!
Девушка взвизгнула, а увидев, кто это, засмеялась. Ее смех звонким колокольчиком прорезал утренний воздух, отсекая вялое бормотание других школьников. Сразу ясно: та, кто так смеется, не ведает ни застенчивости, ни неловкости, а если у нее и случится какое-нибудь огорчение, даже горе ее будет роскошно. Очевидно, это была его ослепительная подружка, и вдвоем они составляли этакую загорелую беспечную парочку а-ля «Голубая лагуна»[96] – в каждой школе такая бывает, причем ровно одна, своими знойными переглядываниями способная обрушить всю незыблемую твердыню высоконравственного воспитания.
Другие ученики наблюдают за ними с пристальным интересом, как за быстрорастущей фасолью пинто в стеклянном ящике. Учителя – не все, но некоторые – спать не могут по ночам, так ненавидят этих двоих за странную, слишком взрослую молодость, словно гардения расцвела в январе, и красоту, такую ошеломляющую и вместе с тем печальную, и за их любовь, которая так мимолетна, и всем вокруг это ясно, кроме них самих. Я не стала на них таращиться (кто видел один вариант «Голубой лагуны», тот видел их все). Только уже потянув на себя боковую дверь корпуса Ганновер, я невзначай обернулась и была потрясена до глубины души: оказывается, я крупно ошиблась.
Чарльз уже стоял на приличном расстоянии от девушки, а она что-то ему втолковывала, учительски хмурясь (все порядочные учителя умеют так хмуриться; у папы, например, лоб собирается складками, точно рифленые чипсы). И совсем она была не школьница – как я могла ее принять за школьницу, с такой-то осанкой? Уперев руку в бедро, она вздернула подбородок, словно разглядывала сокола, кружащего над школой. Каблучок явно итальянского коричневого сапога вдавился в асфальт, растирая невидимую сигарету.
Это была Ханна Шнайдер.
В настроении «бурбон» папа часто провозглашал тост в память Бенно Онезорга, застреленного берлинскими полицейскими во время студенческих волнений 1967 года[97]. Папа в свои девятнадцать лет стоял на митинге рядом с ним.
– Я наступил ему на шнурок от ботинка, а потом он упал. И когда я заглянул в его мертвые глаза, вся моя жизнь, все глупости, которые я считал важными, – оценки, положение в обществе, моя девушка, – все это словно застыло одним куском льда.
Тут папа замолкал и тяжело вздыхал (вернее, это был даже не вздох, а выдох эпических масштабов, словно папа собирался играть на волынке). От него пахло алкоголем – странно-горячий запах. В детстве я думала, что так пахли поэты-романтики и те латиноамериканские генералы девятнадцатого века, о ком папа любил говорить, что они «то ныряли, то взмывали ввысь на волнах революционной борьбы».
– Тогда и произошел, так сказать, мой поворот к большевизму, – рассказывал он. – В ту минуту я решил идти на штурм Зимнего. В твоей жизни тоже такая будет, если повезет.
А после Бенно папа иногда принимался излагать один из любимейших своих принципов под названием «История жизни». Но только если ему не надо было сочинять на завтра лекцию или дочитывать главу в новой книге о войне, написанной его знакомым по Гарварду (подвергая ее скрупулезному анатомическому исследованию, словно коронер в поисках доказательств преступного умысла): «Вот оно! Сразу видно, что Лу Суонн – шарлатан! Жулик навозный! Послушай только эту бредятину: „Для успеха революции необходимо, чтобы вооруженные боевики сеяли панику среди населения; насилие впоследствии набирает обороты и переходит в полномасштабную гражданскую войну“. Да этот кретин знать не знает, что такое гражданская война!»)
– Человек сам в ответе за то, быстро или медленно листаются страницы его жизни, – говорил папа, задумчиво почесывая подбородок и поправляя обмякший воротничок сорочки из ткани шамбре[98]. – Даже если у тебя имеется Веская Причина, все равно история твоей жизни может оказаться скучнее штата Небраска, и виновата в этом будешь только ты. Так вот, если почувствуешь, что за окном машины тянутся бескрайние поля, ищи, во что верить помимо себя самой, – желательно нечто такое, к чему не примешивается запашок лицемерия. И в бой! Не зря Че Гевару до сих пор печатают на футболках, не зря до сих пор шепчутся о Ночных Дозорных, притом что о них уже двадцать лет ни слуху ни духу… А главное, солнышко, ни в коем случае не пытайся изменить чужой сюжет, как бы сильно этого ни хотелось, когда разные бедолаги рядом с тобой – в школе, вообще в жизни – летят очертя голову прямо в пропасть, откуда вряд ли смогут выбраться. Отринь соблазн. Трать силы на свою историю. Улучшай ее как можешь. Пусть ее размах будет шире, содержание – глубже, тема – всеохватней. Какая именно тема – не важно, ты откроешь ее сама. Борись за нее! В основе всего – мужество. Отвага. Mut по-немецки. Другие пусть разыгрывают свои короткие рассказы, штампованные, случайные, изредка приправленные банальным до боли гротеском. Кое-кто состряпает прямо-таки греческую трагедию – страдальцы от рождения, страдальцами и умрут. А ты, моя строгая весталка тишины[99], – твоя жизнь сложится в настоящий эпос, не меньше. Уж чья-чья, а твоя история – на века.
– Откуда ты знаешь? – каждый раз спрашивала я.
По контрасту с папиной убежденностью вопрос всегда казался жалким и неуверенным.
– Просто знаю, и все. – Папа закрывал глаза, показывая, что не хочет продолжать разговор.
В тишине чуть слышно позвякивал тающий лед в его стакане.
Глава 7. «Опасные связи», Пьер Шодерло де Лакло
Открытие, что Чарльз запросто общается с Ханной Шнайдер, отозвалось для меня сильнейшим искушением, но в конце концов я все-таки не пошла встречаться с ним в «Скрэтч».
Я знать не знала, что такое «Скрэтч», да и не до того мне было. Все-таки углубленное изучение по шести предметам – немаленький груз («Хватит, чтобы утопить целый флот Ее Величества», – прокомментировал папа), а свободный урок, отведенный для самостоятельных занятий, всего один. Преподаватели вроде подобрались знающие, дотошные – в общем, вполне на уровне (а не «канализационный отстойник», как выразился папа о миссис Роупер из средней школы Мидоубрука – та бодро спрашивала: «Куда это ты ложишь „Энеиду“?»). У них был довольно приличный словарный запас (после звонка пятнадцати минут не прошло, как миз Симпсон, которая ведет углубленный курс физики, употребила слово «эрзац»). А миз Мартина Филобек, преподавательница углубленного французского, вечно ходила с поджатыми губами, и это грозило серьезными трудностями в будущем.
– Постоянно поджатые губы – специфическая черта женщины-преподавателя, свидетельствует о склонности неожиданно впадать в академическую ярость, – говорил папа. – Очень тебе советую, подумай о цветах, конфетах… Что угодно, лишь бы ты для нее ассоциировалась не с мрачными сторонами жизни, а с ее приятностями.
Другие ученики тоже были не совсем балбесы («непропеченное тесто», так папа называл моих одноклассников в школе «Сейдж-Дэй»). Представьте себе, миз Симпсон задает вопрос по основным темам «Человека-невидимки»[100] (Эллисон, 1952) (эта книга встречается в списках летнего дополнительного чтения так же часто, как коррупция в Камеруне), я поднимаю руку – и вдруг оказывается, что я опоздала: пухлый Рэдли Клифтон с ущербным подбородком уже задрал кверху свою жирную ручонку. Его ответ, хоть не блестящий, не был, однако, ни тупым, ни косноязычным, как Калибан[101]. Пока миз Симпсон раздавала нам учебный план на девятнадцати страницах – и это только на первое полугодие, – меня вдруг поразила мысль: а ведь, пожалуй, учиться в «Сент-Голуэе» будет не так-то легко и просто. И если я в самом деле хочу закончить с самыми лучшими результатами (правда, иногда папино «хочу» нахально забегает на территорию моего «хочу», минуя таможню), то, наверное, надо переходить в наступление со всей свирепостью Аттилы и его гуннов. Между прочим, лучший выпускник еще и речь прощальную произносит перед всей школой – папа говорит, «такое раз в жизни бывает, как одно тело, одна жизнь и, соответственно, один шанс на бессмертие».
Я также не ответила на письмо, полученное на следующий день, хотя перечитала его раз двадцать, не меньше. Читала даже на вводной лекции миз Гершон по физике: «История физики. От пушечного ядра к световым волнам». Я думаю, палеоантрополог Дональд Йохансон, обнаружив в 1974 году останки первобытного гоминида, получившего прозвище «Люси», испытал примерно те же чувства, что и я, когда открыла дверцу шкафчика, а оттуда выпал кремовый конверт.
Я понять не могла, что же такое передо мной: чудо (которое навсегда изменит ход истории) или наглый розыгрыш.
Синь!
Что случилось? Ты лишилась вкуснющей печеной картошки с чеддером и брокколи в закусочной «У Венди». Цену себе набиваешь? Готов пойти навстречу.
Попробуем еще разок? Я сгораю от желания! (Шучу.)
На том же месте, в тот же час.
ЧарльзТочно так же я проигнорировала еще два письма, оказавшихся в моем шкафчике на следующий день, то есть в среду. Одно в кремовом конверте, второе – написанное беглым почерком на салатно-зеленой бумаге с отпечатанным вверху вензелем: Дж. Ч. У.
Синь!
Я ранен в самое сердце. Ну ладно, сегодня снова буду ждать. И каждый день, до конца времен. Пожалей уже человека!
ЧарльзДорогая Синь!
Видно, Чарльз напортачил, так что придется вмешаться. Ты, наверное, думаешь, он гнусный приставала. Я тебя не виню. На самом деле нам о тебе рассказала наша хорошая знакомая Ханна и посоветовала познакомиться. Общих с тобой уроков у нас нет, вот мы и решили назначить встречу после школы. Приходи в пятницу, без четверти четыре, на второй этаж корпуса Барроу, в комнату 208, и жди нас там. Смотри не опаздывай!
Мы прямо умираем, так хотим с тобой познакомиться и чтобы ты нам рассказала о жизни в Огайо!!!
Нежно целую,
Джейд Черчилль УайтстоунДругую новенькую такие письма мигом очаровали бы. Она бы поотнекивалась для приличия, а через пару дней, как какая-нибудь глупенькая девица в восемнадцатом веке, отправилась бы в сумерках в этот самый «Скрэтч», взволнованно покусывая вишнево-алые губки, дожидаться Чарльза, легкомысленного аристократа в пудреном парике, а он (залихватски подтянув кюлоты) тотчас бы ее сгубил.
Ну а я-то несгибаемая монашка – осталась холодна как лед.
Конечно, я преувеличиваю. До сих пор я не получала писем от незнакомцев (точнее, вообще ни от кого, кроме папы). Что скрывать – взяв в руки загадочный конверт, невольно испытываешь трепет. Папа как-то заметил, что личные письма (явление из разряда вымирающих видов, как большой гребенчатый тритон) – один из немногих физических объектов нашего мира, содержащий в себе магию: «Даже скучные зануды, невыносимые в реальной жизни, в переписке становятся вполне терпимы, а порой и забавны».
И все-таки мне эти письма показались какими-то искусственными, неискренними. Слишком какими-то «От маркизы де Мартей к виконту де Вальмону в замок ***», слишком «Париж, 4 августа 17…».
Конечно, я не вообразила, будто мне прочат роль пешки в некой игре в соблазнение. Просто я знаю все о том, что такое «люди, которых знаешь» и «люди, которых не знаешь». Когда вступаешь в сложившийся узкий кружок, этакий «малый салон», есть в этом своя рутина и своя опасность. Количество мест ограниченно, значит с появлением новенькой кому-то придется пересесть, а это зловещий знак – знак, что ты теряешь свой придворный статус и превращаешься в une grande dame manqué[102].
Поэтому на всякий случай новенькую не замечают, а то и шарахаются от нее (всячески намекая на незаконное происхождение), если только у той не найдется знатной маменьки или влиятельной тетки (которую все нежно зовут «мадам Тюрлюрлю») и эта могущественная родственница не соизволит представить новенькую – впихнет ее в тесный кружок, не боясь, что помнутся пышные парики, и притом исхитрится остальных усадить с удобством или по меньшей мере сносно, до новых потрясений.
Еще больше меня удивило упоминание Ханны Шнайдер. Вот уж у кого нет никаких оснований сыграть для меня роль «мадам Тюрлюрлю»!
Неужели при той нашей встрече в обувном магазине я произвела впечатление жалкой, унылой особы? Мне-то казалось, что мой облик выражает «настороженный интеллект» – именно так сказал обо мне однажды папин коллега, глуховатый доктор Ординот. Как-то под вечер в городе Арчере, штат Миссури, он зашел к нам на ужин с бараньими котлетками и восхитился, какую папа воспитал дочку – «редкой силы ума и характера».
– Каждому бы такую, Гарет! – говорил доктор Ординот, выгибая бровь и подкручивая регулятор слухового аппарата. – Земля быстрее завертелась бы!
Возможно, за десять минут беседы с папой Ханна Шнайдер успела на него нацелиться и решила использовать меня, тихую, молчаливую дочку, в качестве ступеньки?
Так строила свои расчеты Шейла Крейн из Притчардсвилля, штат Джорджия. Она беседовала с папой всего двадцать секунд (пока отрывала корешок его билета на выставку детского творчества в местной начальной школе) и тем не менее решила, что он – ее суженый. Работая на полставки в школьном медкабинете, мисс Крейн завела привычку возникать на переменке около качелей и громко выкликать меня по имени, держа в руках коробку мятного печенья в шоколаде. Завидев меня, она протягивала печеньице, словно приманивая бездомную собачонку.
– А расскажи что-нибудь про своего папу? – спрашивала она как бы невзначай, хотя сверлила меня глазами, как буравчиками. – Например, что он любит?
Обычно я молча хватала печенье и убегала, а один раз ляпнула:
– Карла Маркса.
– Он гомосексуалист? – ужаснулась мисс Крейн.
Революция разгорается медленно, десятилетиями тлеет под спудом нищеты и угнетения, и часто какой-нибудь роковой случай определяет, когда именно произойдет взрыв.
У папы была книжка о малоизвестных моментах истории – «Les Faits Perdu»[103] (Маннер, 1952), и в этой книжке я прочла, что штурм Бастилии мог бы и не состояться, если бы во время демонстрации за ее стенами простой фермер по имени Пьер Фроман не заметил, как некий тюремный стражник ткнул в него пальцем и обозвал un bricon (болваном).
Утром четырнадцатого июля 1789 года Пьер был сильно раздражен. Он только что вдрызг разругался со своей женой, красавицей Мари-Шанталь, из-за того, что она бессовестно заигрывала с Луи-Бежем, работником на их ферме. Ко всему прочему, стражник рыхлым телосложением в стиле сыра рокфор был схож с тем самым работником. Пьер, вконец обозлившись, ринулся на него с криком: «C’est tout fini!» («Ну, всё!») Обезумевшая толпа бросилась за ним, вообразив, что Пьер имеет в виду царствование Людовика XVI, хотя на самом деле в ту минуту ему представлялась Мари-Шанталь, повизгивающая от удовольствия в полях ячменя и в объятиях размякшего Луи-Бежа. Самое любопытное, что Пьер неправильно расслышал: стражник, указывая пальцем, всего лишь крикнул: «Votre bouton» («Ваша пуговица») – одеваясь утром, Пьер не застегнул третью пуговицу на рубашке.
Если верить Маннеру, примерно так совершались почти все исторические события, в том числе Война за независимость (Бостонское чаепитие[104] было делом рук развеселых студентов образца 1777 г.) и Первая мировая (Гаврило Принцип целый день выпивал со своими друзьями из организации «Черная рука» и, разгулявшись, пальнул несколько раз в воздух, чтобы покрасоваться, а тут как раз мимо проезжал кортеж эрцгерцога Фердинанда) (стр. 199, стр. 243). Хиросима тоже результат нелепой случайности. Когда Трумэн объявил кабинету министров: «Что ж, приступим к намеченной процедуре!» – он вовсе не имел в виду бомбардировку Японии, а всего лишь выражал свое намерение окунуться в бассейн при Белом доме.
Точно так же случайно произошла и моя революция.
В ту пятницу на обеденной перемене устроили общее угощение для учителей и учеников, чтобы все могли лучше познакомиться друг с другом. Все толклись на открытой террасе, наслаждаясь лучшими сортами фруктового мороженого – его раздавал школьный повар Кристиан Гордон. Особо рьяные ученики (в их числе Рэдли Клифтон с выглядывающим из-под расстегнутой рубашки животиком) отирались поближе к начальству (от которого, как видно, зависели почетные грамоты и прочие награды; а папа всегда говорит, мол, в наше время подхалимаж не в моде: «Лизоблюдство, личные связи – все это безнадежно устарело»).
Я скромненько поздоровалась кое с кем из учителей, улыбнулась миз Филобек, одиноко грустившей под канадской елью; в ответ, правда, учительница только поджала губы. В конце концов я отправилась в корпус Элтон-Хаус, где предполагался следующий урок (история искусств по углубленной программе), и села ждать в пустом классе.
Минут через десять появился мистер Арчер (см. статью «Красноглазая квакша», «Мир земноводных, семейство Ranidae: от царевны-лягушки к головастику», Сёва, 1998). В руках он держал стаканчик мороженого со вкусом манго и экологически безвредный бумажный пакет с надписью «Друг Земли». Блестевшие на лбу капельки пота придавали ему сходство с запотевшим стаканом охлажденного чая.
– Не поможешь мне подготовить к уроку слайд-проектор? – спросил мистер Арчер (он, хоть и «Друг Земли», был зато «Враг всяческой техники»).
Когда я уже заканчивала вставлять в аппарат сто двенадцать слайдов, стали появляться другие ученики – с мороженым в руках и блаженными улыбками на лицах.
– Спасибо за помощь, Птичка-Синичка! – Мистер Арчер улыбнулся, опираясь на столешницу длинными пальцами, как лягушка присосками. – Сегодня мы закончим с наскальной живописью в пещере Ласко и обратимся к богатейшей художественной традиции той местности, которую в наши дни занимает южная часть Ирака.
Я, в отличие от Пьера Фромана, расслышала совершенно правильно. И в отличие от министров Трумэна верно поняла смысл сказанного. Учителя и раньше придумывали мне разные клички, от Синди и Синтии до Вон Там, В Углу, и Красная Шапочка – Шучу-Шучу. С двенадцати до четырнадцати лет я свято верила, что на моем имени лежит проклятие и преподаватели боятся – если произнести его вслух, оно взорвется, словно шариковая ручка в высокогорных условиях, и навеки забрызгает их несмываемой синевой.
Лотти Бергони, учительница второго класса в Покусе, штат Индиана, прямо-таки позвонила папе и всерьез потребовала, чтобы он дал мне другое имя.
– Ты не поверишь! – восхитился папа шепотом, прикрыв трубку ладонью и показывая мне знаками, чтобы послушала с другого телефона.
– Мистер Ван Меер, я вам скажу откровенно: это нездоровое имя. Дети в школе над ним смеются. Называют девочку Фиолетовой. А кто пообразованнее – Кобальтовой. Может быть, вы подумаете, подберете какие-то другие варианты?
– А вы, мисс Берги, что посоветуете?
– Ну, не знаю, как вам, а мне всегда нравилось имя Дафна…
Может, на меня особенно сильно подействовало конкретное имя, выбранное мистером Арчером. Или то, с какой уверенностью он его произнес, – ни секунды колебания.
Вдруг стало трудно дышать. Ужасно захотелось вскочить со стула и рявкнуть:
– Синь меня зовут, уроды поганые!
Вместо этого я вытащила из рюкзака три письма, запрятанные под обложку дневника. Перечитала их одно за другим и вдруг поняла, как поступлю. Такая же ясность снизошла на Робеспьера, когда он лежал в ванне и вдруг к нему, будто три торговых галеона в порт, приплыли три слова: liberté, égalité, fraternité[105].
* * *
После уроков я позвонила папе в университет с платного телефона-автомата в корпусе Ганновер. Попросила передать, чтобы он приехал за мной попозже, в четыре сорок пять, – якобы я задержусь у преподавательницы углубленного курса литературы, миз Симпсон, обсудить ее «Большие надежды»[106] по поводу моего доклада. Потом забежала в женский туалет – проверить, не застряло ли у меня что-нибудь в зубах, не присела ли я случайно на жвачку или кусок шоколада и нет ли у меня на лице синих пятен от испачканных в чернилах пальцев (такое уже случалось). Затем, старательно делая вид, будто мне все нипочем, я отправилась к корпусу Барроу. Постучалась в дверь комнаты номер 208. Из-за двери ответили будничным голосом:
– Открыто!
Я осторожно заглянула в комнату. В центре комнаты сидели за столом четверо неулыбчивых мучнисто-бледных школьников. Другие столы были сдвинуты к стенам.
– Привет, – сказала я.
На меня смотрели без восторга.
– Я – Синь.
– Здесь собирается гильдия демонологии для игры в «Подземелья и драконы», – объявил один парень таким пискливым голосом, будто воздух выходит из велосипедной шины. – Вон там лежат руководства для игроков. Мы сейчас распределяем роли на год.
– Я – мастер подземелья, – поспешно уточнил другой мальчик.
– Ты – Джейд? – спросила я с надеждой одну из девочек.
Гипотеза не совсем беспочвенная: у девочки в длинном черном платье, с узкими рукавами и разрезами у плеч на средневековый манер, волосы были зеленые, как сушеный шпинат.[107]
– Лиззи, – ответила она, подозрительно прищурившись.
– Ты знаешь Ханну Шнайдер? – спросила я.
– Которая историю кино ведет?
– О чем это она? – спросила другая девчонка.
– Извините, – сказала я и выскочила из комнаты.
Сбежала по лестнице, намертво вцепившись в свою улыбку, словно какая-нибудь безумная католичка – в свои четки.
Всегда трудно признать, что тебя обдурили и облапошили. Особенно если всю жизнь гордилась своей могучей интуицией. Дожидаясь папу на ступенях Ганновера, я пятнадцать раз перечитала письмо Джейд Уайтстоун – ведь наверняка я что-то перепутала: то ли день, то ли время, то ли место встречи. А может, это она ошиблась? Может, она, пока писала письмо, смотрела классический фильм «В порту»[108] – вот и отвлеклась на бесконечно трогательную сцену, когда Марлон Брандо поднимает оброненную Эвой Мари Сент крошечную белую перчатку и натягивает на свою мощную лапу? Конечно, скоро мне стало ясно, что буквально в каждой строчке письма проглядывает издевка – особенно в конце, а я и не заметила.
Меня попросту разыграли.
Еще ни один бунт не заканчивался таким грандиозным пшиком – разве что «Восстание в кабаре „Гран Горизонтес“ отеля „Тропикоко“» в Гаване, – папа говорит, это был мятеж безработного биг-бенда и кордебалета «Эль Лоро Бонито» и длился он ровно три минуты («Четырнадцатилетний любовник и то продержался бы дольше», – заметил папа). Я сидела на ступеньках, и было мне тошно. Я притворялась, что не смотрю завистливо на радостных детишек с громадными портфелями, залезающих в родительские машины, и на долговязых мальчишек в не заправленных в брюки рубашках, бегающих и орущих на лугу, – шиповки, перекинутые за тощие плечи, болтались, будто старые кеды на проводах.
Пошел уже шестой час. Я делала на коленке домашку по углубленной физике, а папа до сих пор не появился. В тускнеющем предвечернем свете газоны, корпуса и дорожки поблекли и выцвели, как на фотоснимках времен Великой депрессии. Несколько учителей брели к автостоянке для сотрудников (шахтеры возвращаются из забоя), а в остальном было пусто и тихо, только дубы обмахивались ветками, словно скучающие южане, да где-то вдали раздавался свисток спортивного тренера.
– Синь?
Я оглянулась назад и застыла от ужаса – по ступенькам спускалась Ханна Шнайдер.
– Что ты здесь делаешь так поздно?
– А-а! – Я улыбнулась как могла бодрее. – Папа задержался на работе.
Главное – всеми средствами показать, что меня в семье любят и обо мне заботятся. А то учителя смотрят на детей, за которыми не приехали родители, как на подозрительный багаж, оставленный без присмотра в аэропорту.
Ханна Шнайдер остановилась возле меня:
– Ты сама не водишь машину?
– Нет пока. То есть я умею, просто еще права не получила.
Папа считал, что незачем: «Какой смысл? Хочешь за год до колледжа гонять по городу, словно акула в поисках мелкой рыбешки? Нет уж! Я оглянуться не успею, а ты уже напялишь на себя байкерскую косуху… Разве не лучше, когда тебя возит преданный шофер?»
Ханна кивнула. На ней была длинная черная юбка и желтая вязаная кофта на пуговицах. Обычно учительская прическа к концу дня напоминает засохшее комнатное растение, а у Ханны волосы маняще ложились на плечи темной, чуть рыжеватой в лучах заходящего солнца – как у Лорен Бэколл[109], эффектно замершей в дверях. Очень странно видеть училку такой греховно-привлекательной. Она буквально притягивала взгляд. Словно в мыльной опере – так и чувствуешь, сейчас будет какая-то феерическая жесть.
– Значит, Джейд за тобой заедет, – как ни в чем не бывало объявила она. – Тем лучше, а то мой дом нелегко найти. В это воскресенье, часа в два, в половине третьего. Ты любишь тайскую кухню? Я готовлю для них что-нибудь каждое воскресенье, а ты будешь почетной гостьей до конца года. Ты к ним привыкнешь, узнаешь получше. Постепенно. Они чудесные дети. Чарльз – само очарование, а вот с другими иногда бывает трудно. Как и все, они ненавидят перемены, но ведь все хорошее в жизни поначалу принимаешь в штыки. Если будут тебя тиранить, помни – дело не в тебе, а в них. Просто им надо научиться обуздывать себя. – Ханна вздохнула, как домохозяйка в рекламе (непослушный ребенок, пятно на ковре), и махнула рукой, словно отгоняя невидимую муху. – Как тебе в школе? Осваиваешься понемногу?
Она говорила очень быстро, а у меня почему-то сердце кувыркалось в груди, словно я – сиротка Энни, а она – та потрясающая женщина, которую играет Энн Райнкинг[110]; папа еще говорил, что у нее невероятные ноги.
– Да, – сказала я и встала.
– Замечательно! – Ханна сложила вместе ладони, словно модельер, любующийся своей осенней коллекцией. – Я возьму твой адрес в учительской и передам Джейд.
Тут я заметила стоящий неподалеку папин «вольво». Наверное, папа смотрел на нас, но я видела только неясный силуэт за рулем. В ветровом стекле отражались дубы и желтеющее небо.
– Это, наверное, за тобой приехали, – сказала Ханна, проследив мой взгляд. – Так до воскресенья?
Я кивнула. Ее рука невесомо легла на мое плечо. От Ханны пахло грифелем, и мылом, и – внезапно – магазином винтажной одежды. Она проводила меня до машины и, помахав папе рукой, отправилась дальше, к автостоянке для сотрудников.
– Что ты так поздно? – спросила я, усаживаясь.
– Прости, – сказал папа. – Я уже собрался выходить, и тут явился совершенно кошмарный студент с кучей дурацких вопросов и взял меня в заложники…
– А ты понимаешь, как это выглядит? Как будто я – заброшенный нелюбимый ребенок с ключом на шее. Знаешь, о них такие душераздирающие передачи показывают…
– Не надо себя недооценивать. Если ты – передача, то скорее уж «Театральные шедевры». – Папа завел мотор, косясь в зеркальце заднего вида. – А это, надо понимать, та надоедливая дамочка из обувного?
Я кивнула.
– И что ей нужно на сей раз?
– Ничего. Просто подошла поздороваться.
Я хотела рассказать папе правду – в воскресенье все равно придется отпрашиваться в гости «к какой-нибудь безмозглой Сюзи с вечно раззявленным ртом», «беспросветной девице, которая воображает, будто красные кхмеры – это сорт губной помады, а партизанская война как-то связана со школьными партами»; но мы уже мчались мимо спортивного центра «Бартлби» и футбольного поля, где толпа голых до пояса мальчишек подпрыгивала, словно форель, стукая головой по мячу. А как только объехали часовню, прямо перед нами возникла Ханна Шнайдер – она отпирала дверцу старенькой красной «субару». Заднюю дверцу, помятую, точно банка из-под кока-колы. Заметив нашу машину, Ханна отбросила волосы со лба и улыбнулась характерной потаенной улыбкой изменяющих мужу домохозяек, блефующих игроков в покер и жуликов высшего полета на фотографиях анфас и в профиль. В эту минуту я решила оставить ее слова при себе – держать и не выпускать как можно дольше.
Папа говорил:
– Ничего нет более упоительного для человеческого разума, чем хорошо продуманный тайный план.
Глава 8. «Мадам Бовари», Гюстав Флобер
Есть одно стихотворение, называется «Mein Liebling» – «Любимая»; папа его очень любил и знал наизусть. Автор – поздненемецкий поэт Шуберт Кёниг Бонхоффер[111] (1862–1937). Бонхоффер был калека, глухой и слепой на один глаз, но, по мнению папы, он лучше понимал суть вещей, чем люди, полностью владеющие всеми органами чувств. Почему-то – может, и несправедливо – это стихотворение всегда напоминало мне Ханну.
Возлюбленного существа Я душу стал искать когда-то, Но не в обетах, не в словах, Изменчивых, подобно злату. В глазах, поэты говорят, В глазах. О, эта сила взгляда! Чему в ответ глаза горят? Призыву Рая или Ада? О, алость губ! Я в них алкал Следов души нежнее пуха. И вдруг – насмешливый оскал Навстречу страждущему духу! О, руки, – вот души приют! Спят на коленях чуткой птицей. Ледышки-пальцы выдают Тот жар, что мне порою мнится. Но вот – руки прощальный взмах. Спешу ей вслед, не поспевая. Бреду обратно, как впотьмах, Свой дом пустой не узнавая. Когда бы я умел читать (Как лоцманы читают море) Ее походку, облик, стать, Я смог бы наконец понять Мечту, живущую во взоре. О, просвещенной жизни путь! Сам Бог не знал бы в ней сомнений! Я тщусь постичь любимой суть. Вокруг нее таятся тени.Воскресные обеды для избранной компании Ханна устраивала практически каждую неделю; традиция держалась уже три года. Чарльз и другие ждали этих сборищ (даже адрес немножко колдовской: номер 100 по Ивовой улице), ждали с нетерпением, как в 1943 году нью-йоркская богатая наследница, стройная, словно стебелек сельдерея, и похожий на свеклу богатенький папик ждали жарких субботних вечеров в клубе «Аист»[112] (см. «Забыть „Эль Морокко“[113]: клуб „Аист“, Ксанаду нью-йоркской элиты, 1929–1965», Райзер, 1981).
– Я уже не помню, как все началось. Просто мы все пятеро замечательно с ней поладили, – рассказывала Джейд. – Она потрясающая, это каждому видно. Мы только-только перешли в старшую школу, все записались на ее курс истории кино, а после уроков часами просиживали у нее в классе. Трепались обо всем на свете – о жизни, о сексе, о «Форресте Гампе». А потом стали вместе ходить куда-нибудь поесть и так далее. Однажды она пригласила нас к себе, приготовила что-то из кубинской кухни. Мы засиделись до утра, хохотали как ненормальные. Не помню, над чем смеялись, но весело было – словами не передать. Конечно, мы об этом никому и до сих пор помалкиваем. Хавермейер не любит, чтобы учителя и ученики общались во внеучебное время. Боится разных там оттенков серого – ты меня понимаешь? А Ханна, она как раз такая. Оттенок серого.
Конечно, в тот первый день я ничего этого не знала. Я даже собственное имя не смогла бы с уверенностью назвать, сидя в машине рядом с Джейд – довольно-таки пугающей личностью. Той самой, что два дня назад коварно отправила меня в гильдию демонологии.
Я уже думала, что и в этот раз меня продинамят: в половине четвертого Ханны еще не было и в помине и никто другой тоже не появился. Я с утра намекнула папе, что, возможно, во второй половине дня поеду готовиться к урокам вместе с одноклассниками (папа нахмурился, удивляясь, как я опять согласилась на это издевательство). Впрочем, ничего объяснять не пришлось – папа умчался в университет, вспомнив, что забыл на кафедре нужную книгу о Хо Ши Мине. Потом он позвонил и сказал, что прямо там и закончит очередную статью для «Форума» – «Рюшечки бронированной идеологии» или что-то в этом роде, – а домой приедет к обеду. Я сделала себе сэндвич с курицей и салатом и устроилась на кухне, решив посвятить остаток дня книге «„Авессалом, Авессалом!“ – исправленное издание» (Фолкнер, 1990), как вдруг около дома взвыл автомобильный гудок.
– Прошу прощенья, я кошмарно опоздала! – крикнула девушка за рулем, приоткрыв на дюйм тонированное стекло в окне черничного цвета «мерседеса».
Сквозь щель были видны только прищуренные глаза и светлые, словно выгоревшие на солнце, волосы.
– Ты готова? А то без тебя уеду, пробки нечеловеческие.
Я поскорее схватила ключи и первую попавшуюся книжку – одну из папиных любимых, «Эндшпили гражданских войн» (Агнер, 1955). Вырвав последнюю страницу, наспех нацарапала записку («Поехала делать домашнее задание по „Улиссу“») и оставила на круглом столике в прихожей. Даже не потрудилась подписаться, как обычно: «С любовью, Кристабель»[114].
И вот мы уже мчимся в ее «мерседесе», похожем на кита-убийцу. Меня обуревают Недоверие, Смущение и Откровенная паника – стрелка спидометра дрожит возле отметки 80 миль в час, рука с наманикюренными пальчиками праздно возлежит на баранке, белокурые волосы зверски стянуты в узел на затылке, ремешки босоножек перекрещиваются до самых колен. Серьги, похожие на хрустальную люстру, покачиваются каждый раз, как Джейд отрывает взгляд от дороги, чтобы оглядеть меня с выражением «терпения, близкого к истощению» (так выразился папа, рассказывая о том, как дожидался, пока июньская букашка по имени Шелби Холлоу пребывала в салоне «Голова-ноги, высший шик», где ей наводили красоту на светофорного оттенка ногти, креативно выбеленные на полголовы кудри и вдобавок делали педикюр – а ноги-то с шишками на косточках, ядовито прибавил папа).
– Да, так вот, это… – Джейд потрогала ворот попугайно-зеленого платья в стиле кимоно, думая, видимо, что я онемела от восторга. – Это моей мамуле Джефферсон подарил богатенький японский бизнесмен Хирофуми Кодака – она его три жутких вечера подряд развлекала в «Ритце» в восемьдесят втором. Он страдал от бессонницы после перелета и ни слова не говорил по-английски, так что ей пришлось быть ему круглосуточной переводчицей, если ты меня понимаешь… Да уйди ты с дороги, сволочь!
Джейд надавила на гудок. Мы ловко подрезали скромный серенький «олдсмобиль», за рулем которого сидела старушка – божий одуванчик. Джейд еще и обернулась и показала ей средний палец.
– Ехала бы лучше на кладбище, старая кошелка!
Мы свернули с шоссе на съезд номер 19.
– Кстати! – Джейд снова глянула на меня. – Почему ты не явилась?
– Что? – еле выговорила я.
– Мы ждали, ждали, а ты не пришла.
– А-а… Да я приходила, заглянула в двести восьмую…
– Двести восьмую? – скривилась Джейд. – Написано же было – в триста восьмую.
Кого она пыталась обмануть?
– Написано было «двести восемь», – тихо ответила я.
– Нет, я точно помню, я написала «триста». Между прочим, ты много потеряла. Мы приготовили торт с глазурью и свечами и вообще, – добавила она рассеянно.
Я уже приготовилась выслушать сказочку о приглашенной танцовщице живота, катании на слонах и пляске дервишей, но тут, к счастью, Джейд воскликнула:
– Обожаю Дару и «Баунсинг Чекс»![115] – и включила радио на полную громкость.
Тяжелый металл гремел вовсю, а вокалист орал так, словно его топчут быки в Памплоне[116]. Мы с Джейд молчали. Она от меня попросту отмахнулась, как отряхивают ушибленную руку. Глянула на часы, поморщилась, полюбовалась на свои голубые глаза в зеркальце заднего вида, смахнула крупинки туши, осыпавшиеся с ресниц на щеки, намазала губы розовой блестящей помадой, потом еще и еще, так что помада потекла в уголке рта. У меня не хватило духу сообщить об этом Джейд. Какая-то она была нервная и неспокойная. Мне вдруг представилось, что в конце дороги, после бесконечных до одурения лесов, полей, безымянных грунтовых дорог и сараев, похожих на обувные коробки, возле которых скучали терпеливые худые лошади, нас ждет не обычный дом, а черная дверь, перегороженная бархатным шнуром. Охранник смерит меня взглядом, убедится, что я не знакома лично с Фрэнком, Эрролом или Сэмми[117] (и вообще ни с одним титаном из мира шоу-бизнеса), и объявит, что я недостойна войти внутрь – то есть, попросту говоря, недостойна жить.
Но дом наконец-то, после долгого петляния по щебенке, все-таки появился: прильнувшая к холму неуклюжая любовница с деревянной физиономией и дурацкими пристройками по бокам наподобие фижм. У крыльца уже стояло несколько машин. Едва мы позвонили, Ханна распахнула дверь, обдав нас волной Нины Симон[118], восточных пряностей и каких-то французских духов. Лицо ее сияло, сияла и люстра в гостиной. Рядом нервно теснились штук семь-восемь собак разных пород.
– Это Синь, – равнодушно обронила Джейд, проходя в дом.
– Конечно! – воскликнула, улыбаясь, Ханна. – Главная наша гостья сегодня!
Она была босая, в тяжелых золотых браслетах и оранжево-желтом одеянии – батик в африканском стиле. Темные волосы стянуты в безупречный конский хвост.
Я очень удивилась, когда она меня обняла. Объятие потянуло бы на эпическую сцену стоимостью в миллионы долларов, с десятью тысячами человек массовки (не какой-нибудь невнятный эпизодик на зернистой пленке). Отпустив меня наконец, Ханна стиснула мою руку – так встречающие в аэропорту сжимают руки близких, с кем сто лет не виделись, и спрашивают, как прошел перелет. Она притянула меня к себе, неожиданно худенькая, обвив меня рукой за талию.
– Синь, познакомься: это Фугатий[119], это Броди – у него только три ноги, что не мешает ему рыться в мусоре. Клык, Пибоди, Артур, Сталлоне, Чихуахуа – он у нас куцый, дверцей в машине хвост прищемило. И Старый Хрыч, в глаза ему не смотри.
Старый Хрыч был тощий – кожа да кости – грейхаунд с красными глазами пожилого ночного дежурного в будке сбора оплаты за проезд. Прочие собаки косились на Ханну с сомнением, как будто она представляла их какому-нибудь потустороннему духу.
– Кошки тоже где-то здесь, – продолжала Ханна. – Персы Лана и Тернер[120], а в кабинете обитает неразлучник Леннон. Срочно требуется Йоко ему в пару. Жаль, в приюте для бездомных животных не часто появляются птицы. Чай улун будешь?
– Конечно, спасибо, – сказала я.
– Ах да, ты ведь еще с остальными не познакомилась?
Я отвлеклась от черно-рыжего Чихуахуа, подобравшегося поближе исследовать мои туфли, и тут увидела их – в том числе и Джейд. Плюхнувшись на обмякший шоколадный диван, та нацелила на меня сигарету, точно дротик. Все они смотрели на меня застывшими взглядами, и от этого возникало ощущение, как будто я снова с папой в музее неподалеку от Атланты рассматриваю картины в зале живописи девятнадцатого века. Тощая девчонка – темные волосы висят травою морскою – устроилась на скамье у фортепьяно, обхватив колени руками («Портрет крестьянской девочки», бумага, пастель); мелкий пацан в очках, как у Бена Франклина, сидит по-турецки рядом с облезлой псиной по имени Клык («Мальчик с собакой», Брит., холст, масло). Другой – здоровый, плечистый – прислонился к книжному шкафу, скрестив руки и лодыжки, черная прядка свисает на лоб («Старая мельница», неизвестный художник). Только одного из всех я узнала – Чарльза в кожаном кресле («Веселый пастух», в позолоченной раме). Чарльз ободряюще улыбнулся, но вряд ли это что-то значило – он раздавал улыбки, как сотрудник кафе, в костюме курицы, раздает талончики на бесплатный завтрак.
– Ну давайте представьтесь! – бодро предложила Ханна.
Они по очереди назвали свои имена – вежливо, но совершенно не творчески. Что называется, без огонька.
– Джейд.
– Мы уже знакомы, – сказал Чарльз.
– Лула, – промолвила Девочка-крестьянка.
– Мильтон, – сказал Старая мельница.
– Найджел Крич, очень приятно познакомиться, – сказал Мальчик с собакой.
Его улыбка сверкнула и погасла, как искра зажигалки, когда в ней кончился бензин.
Если считать, что в каждой истории имеется свой золотой век, то воскресные обеды у Ханны в ту осень как раз и были таким золотым веком. Если процитировать одну из папиных любимых киногероинь, блистательную Норму Десмонд[121], в сцене, где она вспоминает ушедшую эпоху немого кино: «Нам не нужен был диалог. У нас были лица».
Нечто похожее было, мне кажется, в тех вечерах у Ханны (нагл. пос. 8.0). Простите за убогое изображение Чарльза – да и Джейд, наверное, тоже. В жизни они гораздо красивее.
Чарльз – красавец (причем полная противоположность Андрео). Золотые кудри, взрывной темперамент – он был не только звездой «Сент-Голуэя» по легкой атлетике, кому одинаково легко давались прыжки в высоту и бег с препятствиями, но еще и школьным Траволтой. Он запросто мог на перемене отхватить беззвучную чечетку, причем в партнерши выбирал не только известных школьных красавиц, не обходил вниманием и менее физически одаренных. Только что вальсировал возле учительской с одной девчонкой, и уже к нему в ритме румбы подлетает другая, и вот они лихо исполняют пачангу в дальнем конце коридора. Чудо, что ни разу никому ноги не отдавили.
А Джейд – роковая красавица (см. «Степной орел» в кн. «Пернатые хищники», Джордж, 1993). Когда она влетала в класс, девчонки порскали в стороны, как белки и бурундуки (мальчишки, пугаясь не меньше, притворялись мертвыми). Бескомпромиссно-блондинистая («Волосы выбелены по самое не могу», – выразилась как-то Бет Прайс на уроке углубленной литературы), пяти футов восьми дюймов росту[122], «поджарая», она расхаживала по школе в мини-юбке, носила учебники в черной кожаной сумке («Спорим, от Донны, чтоб ее, Каран») и сохраняла неизменно строгое и печальное выражение лица – то есть это я так воспринимала, а большинство считали, что она просто нос задирает. К Джейд, как ко всякой хорошей крепости, было не подступиться, и потому девчонки видели в ней не просто угрозу, а прямо-таки нарушение всех законов добра и порядка. Напрасно спортивный центр «Бартлби» тратил столько сил на рекламную кампанию, пропагандируя здоровое отношение к женской фигуре (фотографии с обложек журналов «Вог» и «Максим», а поперек надпись: «С такими ногами невозможно нормально ходить» и «Все дело в фотообработке»). Стоило Джейд лебедушкой проплыть мимо, жуя «сникерс», как становилась очевидной пугающая истина: с такими ногами ходить очень даже можно. Самим своим существованием она постоянно подчеркивала раздражающий многих факт: некоторые люди побеждают в викторине по теме «Божественная внешность», и ничего тут не поделаешь, остается только смириться с тем, что ты сама участвуешь исключительно в категории «Серая посредственность», да и то не поднимаешься выше третьего места.
Найджел – ноль без палочки (см. «Негативное пространство» в кн. «Уроки рисования», Трей, 1973, стр. 29). На первый взгляд он был совершенно обыкновенный (на второй и на третий – тоже). Лицом и вообще всем собой напоминал петличку для пуговицы: маленький, узенький, никакой. Росточком не больше пяти футов пяти дюймов[123], русые волосы, лицо круглое, невнятное и розовое, как пяточки младенца. Круглые очки его не красили… хотя и не портили. В школе он всегда носил узкие ярко-оранжевые галстуки – подозреваю, это было у него как проблесковый маячок у автомобиля, чтобы привлечь внимание. Однако при ближайшем рассмотрении в его обыкновенности обнаруживались разные интересные особенности. Он обгрызал ногти до мяса; говорил очень тихо, выпаливая слова короткими очередями (словно стайка бесцветных гуппи мечется по аквариуму); в больших компаниях его улыбка, будто неисправная лампочка, нехотя вспыхивала и мгновенно гасла; а если поднести к свету волосок с его головы (я как-то сидела рядом с ним и волос прицепился к юбке), то он мерцал и переливался всеми цветами радуги, включая фиолетовый.
[НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ 8.0]
Затем еще Мильтон – угрюмый, крупный, бугристый, как чье-нибудь любимое кресло, в котором так уютно сидеть с книжкой, вот только обивку давно пора обновить (см. «Барибал, или американский черный медведь» в кн. «Наземные хищники», Ричардс, 1982). В свои восемнадцать он выглядел на тридцатник. Лицо с карими глазами, курчавыми темными волосами и припухлым ртом по-своему почти привлекательно, словно бы отголоском былой красоты. Чем-то он напоминал Орсона Уэллса или, скажем, Жерара Депардье: чудилось, что в его большом тяжеловесном теле заточен некий мрачный гений и что от него даже после двадцати минут под душем несет застарелым сигаретным дымом. Большую часть своей жизни он прожил в штате Алабама, в городе под названием Мятеж, и говорил с таким густым южным акцентом – хоть на хлеб намазывай. Как у всех загадочных героев, у него была ахиллесова пята: большущая татуировка на правой руке, повыше локтя. Мильтон всячески ее скрывал – носил рубашки с длинными рукавами, никогда не раздевался до пояса, – а если какой-нибудь комик на физкультуре спрашивал, что у него там, то или смотрел на дебила не мигая, как на старый выпуск викторины «Угадай цену», или отвечал со своим тягучим акцентом:
– Не твое собачье дело.
И конечно, хрупкое создание (см. «Джульетта», Дж. У. Уотерхаус, 1898)[124]. Лула Малони с жемчужно-бледной кожей, по-птичьи тоненькими руками и длинными темными волосами, вечно заплетенными в косу, вроде тех шнуров, за которые в девятнадцатом веке дергали аристократы, призывая слуг. Она была хороша удивительной старинной красотой – такие лица встречаешь на камеях и каких-нибудь амулетах. О такой вот романтической внешности я мечтала, когда мы с папой читали о Глориане в «Королеве фей» (Спенсер, 1596) или обсуждали любовь Данте к Беатриче Портинари («Знаешь, как трудно в наше время найти женщину, похожую на Беатриче? – говорил папа. – Наверное, проще было бы пробежаться со скоростью света»).
В начале осени я пару раз видела, как Лула в длинном платье (белом или прозрачно-голубом) прогуливалась по территории кампуса под бешеным ливнем, подставив лицо водяным струям, когда все вокруг с визгом мчались в укрытие, прикрывая голову учебниками или распадающимися на ходу экземплярами «Голуэй газетт». Могла она замереть на корточках, зачарованно рассматривая кусочек коры или луковицу тюльпана. Мне, конечно, казалось, что все это просто игра на публику. В городе Окуше, штат Нью-Мексико, у папы как-то случился нудный пятидневный роман с женщиной по имени Березка Петерсен. Эта Березка все уговаривала нас с папой беспечно танцевать под дождем, любить комаров и есть соевый творог тофу. За обедом, перед тем как «поглощать пищу», она произносила молитву минут на пятнадцать – просила «Богове» благословить каждую порцию съедобной плесени и каждого моллюска.
Ей не нравилось, что слово «Бог» мужского рода, и она придумала новое обращение, неопределенного рода.
– Высшая сила не принадлежит к тому или иному полу, это и выражает слово «Богове», – говорила Березка.
Я была уверена, что Лула (в компании ее называли Лу) со своими платьями-паутинками, волосами-водорослями и привычкой разгуливать, пританцовывая, где угодно, только не по предназначенным для этого дорожкам – всего лишь очередной экземпляр Березки, фанатичной сторонницы бобового творога и сине-зеленых водорослей, но вскоре мне стало ясно: девочку попросту сглазили. Навели на нее мощные чары, и потому все ее странности – реально спонтанные, а не по сценарию. Ее нисколько не волнует, что о ней думают и как она выглядит со стороны, а жестокие слова жителей королевства («Какая-то она прокисшая, срок годности давно вышел», – отзывалась о ней Люсиль Хантер на уроке углубленной литературы) волшебным образом растворяются в воздухе, не дойдя до ее ушей.
О внешности Ханны, вызывающей в памяти лучшие образцы киноклассики, я больше говорить не буду, уже и так сказано достаточно. Одно только добавлю: в отличие от прочих Елен Троянских, что никак не могут успокоиться насчет собственного совершенства и вечно ходят как бы на высоченных шпильках (застенчиво сутулясь или, наоборот, гордо возвышаясь над всеми), Ханна умела словно и не замечать, что на ней туфли. Глядя на нее, начинаешь понимать, как это на самом деле утомительно – быть красивой. Наверное, жутко выматывает, когда на тебя целый день оборачиваются, чуть ли шеи себе не вывихивают, стараясь рассмотреть, как ты добавляешь в кофе подсластитель или выбираешь на полке баночку не очень заплесневелого черничного варенья.
Однажды на воскресном обеде Чарльз высказался – как, мол, она замечательно выглядит в черной футболке и камуфляжных штанах.
– Да ладно, – без капли кокетства отмахнулась Ханна. – Я просто усталая старушка.
Еще имя это дурацкое…
Правда, с языка оно слетает легко – по крайней мере, изящней, чем, например, Хуан Сан-Себастьян Орильос-Марипон (языколомное имечко папиного помощника в Университете Додсон – Майнер). И все-таки что-то в нем было неприемлемое. Не знаю, кто уж выбирал для нее имя – мама, папа? – но человек этот был напрочь оторван от реальности. Ведь Ханна даже в младенчестве не могла быть детенышем-троллем, а только таких нарекают Ханнами.
Хотя у меня по этой части предубеждение. Как-то в торговом центре папа заглянул в коляску, где сидел вполне довольный жизнью, но чрезвычайно старообразный ребенок.
– Счастье, что это существо надежно пристегнуто, – прокомментировал папа. – А то еще подумают, что началось вторжение марсиан, может случиться паника.
Тут подоспела мамочка:
– Ах, я смотрю, вы уже познакомились с Ханной!
Если уж обязательно надо было выбрать для нее простецкое имя, назвали бы Эдит, или Надя, или Ингрид, в крайнем случае – Элизабет или Кэтрин. А по-настоящему годное имя, такое, что подошло бы ей, как Золушке – хрустальная туфелька, – это, скажем, графиня Саския Лепиньска или Анна-Мария д’Обержетт, ну хоть Агнесса Сезамская или Урсула Польская («Безобразные имена при красивых женщинах производят весьма специфический эффект Румпельштильцхена», – говорил папа).
Имя Ханна Шнайдер сидело на ней, как выбеленные джинсы «Джордаш» на шесть размеров больше, чем нужно. А один раз, когда Найджел за обедом назвал ее по имени, она ответила с крошечной задержкой – будто не сразу поняла, что это к ней обращаются.
Невольно задумаешься: может, подсознательно ей и самой не нравится быть Ханной Шнайдер? Может, она лучше была бы Анжеликой фон Гейзенштагг.
Принято рассуждать о том, как хорошо быть «мухой на стене»: никто тебя не замечает, а ты присутствуешь при разговорах избранной компании и все их секреты можешь узнать. Такой мухой на стене я и была первые шесть-семь воскресений у Ханны и могу заявить со знанием дела: такая незаметность очень быстро надоедает. Я бы даже сказала, мухам больше внимания уделяют – кто-нибудь обязательно свернет в трубку газету и будет упорно гоняться за мухой по комнате, а я и того не дождусь. Разве только Ханна изредка пыталась втянуть меня в беседу, но от этого мне только становилось неловко. Еще хуже, чем от пренебрежения остальных.
Первое воскресенье, конечно, не принесло ничего, кроме чудовищного унижения, в чем-то даже страшнее подготовки к урокам у Лероя – там, по крайней мере, я была нужна. Пусть в качестве вьючного осла, чтобы дотащить всю шайку-лейку до восьмого класса. А эти – Чарльз, Джейд и прочие – откровенно давали понять, что мое участие в воскресных сборищах навязано им Ханной.
– Знаешь, что я терпеть не могу? – мило поинтересовался Найджел, пока мы с ним убирали со стола тарелки.
– Что? – спросила я, счастливая, что со мной заговорили.
– Когда стесняются.
Ясно было, кого он имеет в виду: я весь обед промолчала, а когда Ханна один-единственный раз задала мне вопрос («Ты сюда приехала из Огайо?»), я так растерялась, что голос зацепился за зубы да так и застрял.
Потом я притворялась, будто увлеченно рассматриваю кулинарную книгу, лежавшую возле CD-плеера, – «Готовим только из натуральных продуктов» (Кьоби, 1984) – и нечаянно услышала, как Мильтон в кухне со всей серьезностью спрашивал Джейд, говорю ли я по-английски.
Джейд засмеялась:
– Наверное, она из тех русских невест, которых заказывают по почте! Но при такой внешности Ханна ее не скоро пристроит. Интересно, можно ее отправить обратно наложенным платежом?
Через несколько минут после этого Джейд уже везла меня домой на безумной скорости (видно, Ханна маловато ей заплатила за услугу). Я смотрела в окно и думала, что это был самый ужасный вечер в моей жизни. Самой собой, я в жизни больше слова им не скажу, сдались мне эти дебилы недоразвитые («Банальные, бездарные подростки», – прибавил бы папа). И с этой садисткой Ханной Шнайдер тоже разговаривать не стану ни за что на свете. Заманила меня в свой гадюшник и спокойно смотрела, как я там барахтаюсь, а сама пока с загадочной улыбкой обсуждала с ними домашнее задание и всякие третьеразрядные университеты, куда надеются пролезть эти недоумки, а после обеда непростительно хладнокровно закурила сигарету, изящно изгибая руку, словно носик чайника, будто все в этом мире сказочно прекрасно.
А потом… Сама не знаю, как это получилось. Во вторник в кишащем школьниками коридоре корпуса Ганновер Ханна как ни в чем не бывало крикнула мне издалека:
– В воскресенье увидимся?
Естественно, первая моя реакция была – замереть, как олень в свете автомобильных фар. А в воскресенье Джейд снова подъехала к нашему дому, на этот раз в четверть третьего, и стекло опустила до отказа.
– Идешь? – крикнула она.
Против этого зова я была бессильна, будто дева, укушенная вампиром. Как во сне сказала папе, что совсем забыла его предупредить, мы сегодня снова собираемся готовиться к урокам, чмокнула его в щеку, не давая возразить, заверила, что мероприятие одобрено школой, и удрала.
Постепенно я смирилась с назначенной мне ролью мухи. Сперва смущалась, потом – примерно через месяц – привыкла, потому что, если честно (хоть я ни за что не призналась бы в этом папе), быть у Ханны десятой спицей в колеснице в сто раз интереснее, чем пупом земли дома.
Завернутая, словно дорогой подарок, в изумрудно-зеленый африканский батик, лиловое с золотом сари или пшеничного цвета домашнее платье, прямиком из «Пейтон-Плейс»[125] (если не замечать прожога от сигареты на бедре), по воскресеньям Ханна принимала, в старинном европейском значении этого слова. До сих пор не представляю, как она умудрялась готовить такие изысканные яства в своей крохотной горчично-желтой кухоньке. Бараньи котлетки по-турецки («с мятным соусом»), бифштекс по-тайски («с картошкой, пропитанной имбирем»), вьетнамский суп с лапшой и говядиной («настоящий фо бо»). Менее удачным оказался гусь («с клюквой, шалфеем и морковкой»).
Когда Ханна готовила, даже воздух, подобно хорошему жаркому, пропитывался ароматами – свечей, вина, дерева, ее духов и влажного звериного меха. Мы кое-как доделывали домашнее задание, и тут распахивалась дверь и перед нами, словно Венера из пены, возникала Ханна в красном фартуке, заляпанном мятной приправой, мягко ступала босыми ногами с легкой, стремительной грацией Трейси Лорд в фильме «Филадельфийская история»[126]. По сравнению с пальчиками ее ног свои уже нельзя было называть пальцами – так, какие-то отростки. Мерцали серьги в ушах, мерцал голос, чуть вздрагивая на окончаниях некоторых слов (у меня те же слова звучали вяло и дрябло).
– Ну как? Закончили, я надеюсь? – говорила она своим неизменно чуть хрипловатым голосом.
Ставила серебряный поднос на колченогий столик, смахнув на пол книгу с наполовину оборванной бумажной обложкой («Освобожденная женщина», Ари Со). Ломтики грюйера и чеддера лежали на блюде веером, словно девушки из кордебалета Басби Беркли[127]. Рядом – чайничек с улуном. При появлении Ханны кошки и собаки вылезали из темных углов и сбивались в стаю рядом с ней, а когда она, взметнув подол длинного платья, вновь уходила на кухню (туда зверей не пускали во время готовки), они шатались по комнате, словно растерянные ковбои, не знающие, куда себя девать, раз перестрелки не случилось.
Дом Ханны (Чарльз его прозвал Ноевым ковчегом) совершенно меня покорил своим шизофреническим очарованием. Базовая личность – обаятельно-старомодная, хоть и слегка одеревенелая (бревенчатый дом конца сороковых с камином и низко нависающими потолочными балками), а завернешь за угол – и вдруг выскакивает совсем другой персонаж, банальный и даже грубоватый (обшитые алюминием квадратные пристройки по бокам; Ханна их добавила всего лишь год назад).
В комнатах теснилась потертая разномастная мебель (полоски рядышком с клетками, оранжевое в обнимку с розовым, тут же из чулана лезет нечто пестренькое, узорчатое). Взять поляроид да сфотографировать любой уголок дома – получится похоже на картину Пикассо «Авиньонские девицы», только вместо бесформенных кубистских девушек угловатые фигуры на холсте будут обозначать покосившийся книжный шкаф (где стоят не книги, а растения в горшках, восточные пепельницы и коллекция палочек для еды; а книг всего ничего: «В дороге» [Керуак, 1957], «Измени свой мозг» [Лири, 1988]; «Воины современности» [Шют, 1989], сборник текстов Боба Дилана и «Квини» [1985] Майкла Корды)[128], а также облезлое кресло, самовар возле вешалки для шляп (без шляп) и журнальный столик без журналов.
Не только мебель в этом доме была пожившая и бедноватая. С удивлением я замечала, что при безупречно ухоженной внешности одежда у Ханны иногда бывала несколько утомленная жизнью – хотя заметить это можно, только сидя рядом и если Ханна повернется определенным образом. Хоп – и вдруг свет настольной лампы «блинчиками» по воде отскакивает от крошечных катышков на шерстяной юбке или среди утонченной беседы, пока Ханна громко, по-мужски смеется с бокалом вина в руке, от нее недвусмысленно повеет нафталином.
Некоторые ее вещи выглядели так, словно страдали бессонницей или ехали ночным поездом, – например, желто-кремовый костюм в стиле Шанель с обвисшим подолом или белый кашемировый свитер с огрубелыми локтями и бесформенной талией. А у серебристой блузки с приколотой у горла обмякшей розой вид был такой, словно она уже третий день участвует в танцевальном марафоне времен Великой депрессии (см. фильм «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?»)[129].
Я сто раз слышала, как остальные говорили о «тайном капитале» Ханны, только думала – они ошибаются и Ханна от безденежья покупает вещи на блошином рынке. Помню, как-то я смотрела на Ханну, занятую приготовлением бараньей ноги «с чайными листьями и вишней в розовой воде», и вдруг мне представилось, что она, как мультяшный персонаж, балансирует на краю пропасти под названием «Банкротство и разорение». (Даже папа в настроении «бурбон» печалился о маленькой зарплате учителей: «А потом еще удивляются, почему американцы не в состоянии найти на карте Шри-Ланку! Вынужден их огорчить: механизму образования в Америке не хватает смазки! Non dinero! Kein Geld!»[130])
Оказалось, дело не в деньгах. Однажды Ханна вышла погулять с собаками, а Джейд и Найджел стали смеяться над громадным обшарпанным колесом от фургона, прислонившимся к стене сарая, словно толстяк во время перекура. Колесо появилось в тот же самый день, и Ханна сказала, что хочет сделать из него кофейный столик.
– Видно, мало ей платят в «Сент-Голуэе», – заметила я вполголоса.
– Что? – вскинулась Джейд, словно я ее лично оскорбила.
Я поперхнулась:
– Ну, наверное, ей надо бы попросить надбавку.
Найджел еле сдержал смех. Остальные вообще меня проигнорировали, и тут неожиданно Мильтон оторвался от учебника химии.
– Вот уж нет, – усмехнулся Мильтон, и у меня вся кровь бросилась в лицо. – Ханна просто обожает всякие помойки и свалки. Все это барахло она в самых безумных местах находит – на автостоянках и так далее. Был случай, она затормозила посреди шоссе – дикая пробка образовалась, машины гудели как ненормальные, – а ей лишь бы подобрать стул на обочине. И кошки с собаками у нее все из приютов. В прошлом году мы с ней ехали на машине, так она согласилась подвезти какого-то жуткого типа: мускулы, бритая голова, ну как есть скинхед. Загривок у него так прямо и намекал: «Или ты убьешь, или тебя убьют». Я ее спросил зачем, а она говорит: может, он за всю свою жизнь ни от кого доброты не видел. И ведь правда, он как ребенок улыбался всю дорогу. Мы его высадили у «Красного омара»[131]. Он нам крикнул: «Благослови вас Бог!» Ханна его на целый год счастливым сделала. – Мильтон пожал плечами и закончил, снова уткнувшись в книгу: – Она такая.
Такая она и была, а еще – на редкость отважная, никогда не ныла и не хныкала. И мастерица на все руки – в два счета могла починить любую поломку, протечку, короткое замыкание, бачок в туалете, затор в трубах, заедающую дверь в гараже. По сравнению с ней папа выглядел беспомощной бабулей. Я потрясенно наблюдала, как Ханна сама чинит встроенный дверной звонок при помощи резиновых перчаток, отвертки и вольтметра – не самая простая операция, если вы читали «Руководство мистера Чини-Сам по электропроводке» (Тербер, 2002). В другой раз она сразу после обеда отправилась в подвал чинить закапризничавшую лампочку-индикатор водонагревателя.
– Воздуха много скопилось в трубке, – сказала она со вздохом.
Еще она была опытным походником, причем по горным маршрутам, хотя никогда не хвасталась. Просто говорила: «Хожу в горы». Каждый мог сам сделать выводы, глядя на разбросанное по дому снаряжение, достойное Пола Баньяна[132]: фляги для воды, карабины, швейцарские складные ножи, сваленные в ящик вместе с рекламными буклетами и старыми батарейками. А в гараже – суровые туристические ботинки (немало дорог истоптавшие, судя по подошвам), побитые молью спальники, мотки альпинистских веревок, снегоступы, колышки для палатки, подсохший солнцезащитный крем, аптечка первой помощи (пустая, если не считать тупых ножниц и куска пожелтевшей марли).
На поленнице валялись два странных предмета, похожих на медвежьи капканы.
– Что это? – спросил Найджел.
– «Кошки», – ответила Ханна. – Чтобы с горы не упасть.
Однажды за обедом она мимоходом призналась, что еще подростком в походе спасла человеку жизнь.
– Где? – спросила Джейд.
Ханна вроде как заколебалась, а потом сказала:
– В Адирондаках.
Я чуть было не похвасталась: «Я тоже спасла человека! Нашего садовника, его подстрелили!» К счастью, кое-какой такт у меня имеется. Мы с папой презираем людей, которые вечно лезут и перебивают интересный разговор своими нудными рассказами (папа таких называет «А я! А я!», причем каждый раз медленно моргает – это у него верный признак глубочайшего отвращения).
– Он упал, повредил бедро.
Ханна говорила медленно, чуть ли не по складам, словно играла в «Скрэббл»[133] и перебирала фишки с буквами, прикидывая, как бы составить слово подлиннее.
– Мы были одни, кругом – ни души. Я перепугалась, не знала, что делать. Бежала, бежала… К счастью, наткнулась на других походников, у них было радио, и они вызвали помощь. После этого я дала себе слово, что никогда больше не окажусь настолько беспомощной.
– А тот человек поправился? – спросила Лула.
Ханна кивнула:
– Пришлось делать операцию. Но он поправился.
Конечно, выяснять подробности («А кто он был?» – спросил Чарльз) – все равно что пытаться поцарапать бриллиант зубочисткой.
– Ну, хватит на сегодня! – рассмеялась Ханна, забирая у Лулы тарелку.
Пинком отворила дверь в кухню (как мне показалось, чуточку слишком агрессивно) и скрылась за нею.
Обычно мы садились за стол около половины шестого. Ханна выключала верхний свет и музыку (Нат Кинг Коул, требующий, чтобы его перенесли на луну, Пегги Ли, поучающая, что ты никто, пока тебя не полюбят)[134] и зажигала тоненькие красные свечи.
Застольную беседу папа бы не оценил (никаких споров о Фиделе Кастро, Пол Поте и красных кхмерах; правда, иногда Ханна поминала материализм: «В Америке трудно не мерить счастье вещами»). Зато Ханна великолепно умела слушать, опершись подбородком на руку и обратив к говорящему темные бездонные глаза. Поэтому обед мог затянуться на два, на три часа – может, и дольше, только мне надо было к восьми быть дома как штык («Слишком много Джойса – вредно для пищеварения», – говорил папа).
И вот это свойство, по-моему, лучше всего высвечивает окутанный тенями профиль Ханны. Увы, объяснить ее невозможно, потому что дело тут не в словах.
Просто она была такая.
И ведь не нарочно она это делала, не притворялась и не заигрывала с нами (см. главу 9, «Как добиться, чтобы ваш ребенок-подросток принял вас за своего», в кн. «Подружитесь со своими детьми», Говардс, 2000).
Видимо, в западном мире недооценивают умение слушать. Как любил говорить папа, в Америке любые победители, кроме разве что выигравших в лотерею, обладают мощным голосом, успешно заглушающим голоса конкурентов, – потому-то наша страна такая громкая. До того громкая, что смысл расслышать невозможно – сплошной «белый шум в общегосударственном масштабе». И потому, если встретишь человека, который умеет по-настоящему слушать, ошеломляет внезапное озарение: оказывается, все, абсолютно все, с кем ты общалась начиная с самого рождения, на самом деле тебя не слышали и даже не пытались. Потихоньку смотрелись в зеркало, висящее у тебя за спиной, раздумывая, какие у них дела намечены на вечер, или предвкушая, что как только ты наконец заткнешься, они расскажут свою классическую историю о дизентерии на курорте в Бангладеше и тем самым покажут, какая у них богатая, интересная (и достойная жуткой зависти) жизнь.
Конечно, Ханна не все время молчала, но если уж заговаривала, так не о том, что нужно сделать, или о своем мнении по такому-то и такому-то поводу – нет, она задавала вопросы по существу, порой до смешного простые (помню, однажды она спросила: «И что ты об этом думаешь?»).
После еды Чарльз убирал тарелки, Лана и Тернер запрыгивали Ханне на колени, обвивая хвостами ее запястья, словно браслетами, а Джейд включала музыку. Мел Торме сообщал слушателям, что ты входишь у него в привычку[135][136], и сразу начинало казаться, что ты не совсем одинока в этом мире, как ни глупо это звучит.
Может, именно поэтому Ханна приобрела такое влияние на нашу компанию. Например, благодаря ей Джейд, иногда рассуждавшая о том, что хорошо бы стать журналистом, начала работать фрилансером в «Голуэй газетт», хотя терпеть не могла главного редактора, Хилари Лич (эта Хилари перед каждым уроком разворачивала свежий экземпляр «Нью-Йоркера» и читала, временами противно хихикая над какой-нибудь новостью из раздела сплетен). А Чарльз таскал с собой книжечку «Как стать Хичкоком» (Лернер, 1999) – в одно из воскресений я тайком ее полистала и увидела надпись на первой странице: «Моему мастеру саспенса. С любовью, Ханна». Лула после уроков по вторникам вела у четвероклашек начальной школы «Элмвью» дополнительные занятия по природоведению, Найджел читал пособие по подготовке к вступительным экзаменам на дипломатическую службу (изд. 2001 г.), а Мильтон прошлым летом поступил на курсы актерского мастерства при Университете Северной Каролины – «Знакомство с Шекспиром: искусство пластики». Я не сомневалась, что все эти подвиги самосовершенствования подсказаны Ханной, хотя все наши наверняка уверены, что сами додумались.
Я тоже не оказалась неуязвима для своеобразного воздействия Ханны. В начале октября она договорилась с Эвитой, чтобы мне уйти из класса по углубленному изучению французского, где занятия вела нудная миз Филобек, и записаться на ИЗО для начинающих, к декадентствующему мистеру Виктору Моутсу. Папе я о своем переводе ни словом не обмолвилась.
Моутс был у Ханны любимым учителем в «Голуэе».
– Обожаю Виктора! – говорила она, покусывая нижнюю губу. – Он чудесный! Найджел у него занимается. Нет, правда, скажите, он чудесный? По-моему, да.
Виктор был и правда чудесный. Он носил рубашки из искусственной замши цвета «фиолетовый кобальт» или «жженая охра», а волосы его под лампами дневного света сверкали, словно улицы в фильмах-нуар, лаковые ботинки Хамфри Богарта, софиты оперной сцены и гудрон – и все это одновременно.
Еще Ханна купила мне альбом для рисования и пять чернильных перьев – завернула все это в старомодную оберточную бумагу и отправила на школьный почтовый ящик (она никогда не говорила о подарках – просто дарила). На обертке изнутри она написала: «Для твоего синего или голубого периода. Ханна». Почерк в точности выражал ее всю: изящный, с загадочным волнующим изгибом в хвостике букв «n» и «h».
Иногда я вытаскивала альбом прямо на уроке и пробовала что-нибудь нарисовать – например, лягушачьи лапки мистера Арчера. Непохоже, чтобы во мне таился Эль Греко, зато мне нравилось представлять, что я ревматический художник, какой-нибудь там Тулуз-Лотрек, сосредоточенно рисую костлявую руку девицы, танцующей канкан, а не просто никому не интересная Синь Ван Меер, обладательница единственного таланта: судорожно записывать каждое слово учителя (включая «э-э» и «гм»); мало ли, вдруг именно это попадется на итоговой контрольной.
Флоренс Франкенберг по прозвищу Фредди-фурия[137], «актриса на подхвате» эпохи 1940-х (претендующая на всемирную славу на том основании, что выступала на Бродвее вместе с Элом Джолсоном[138] в спектакле «Никому не отдавайте своих платочков носовых», а также запросто общалась с Близнецами Червенка[139] и Уной О’Нил[140]), пишет в первой главе своих увлекательных мемуаров «Грядет великий день, Марианна» (1973), что субботние сборища в клубе «Аист», в знаменитом «Логове»[141], на первый взгляд являли собой «оазис для избранных» и, несмотря на тревожные вести о начале Второй мировой, долетавшие из-за океана, подобно скорбной телеграмме, когда «сидишь в новом вечернем платье на удобном диванчике», кажется, «ничего плохого просто не может случиться», потому что тебя защищают «огромные деньги и норковая шубка» (стр. 22–23).
Однако со второго взгляда, сообщает нам Фредди-фурия в главе 2, роскошный клуб «Аист» оказывается, в сущности, «жестоким, как Рудольф Валентино[142] к женщине, которая не спешит бросаться ему на шею» (стр. 41). По ее словам, буквально все, от Гейбла[143] и Грейбл[144] до Хемингуэя и Хейворт[145], так переживали по поводу того, за какой столик их усадит владелец клуба Шерман Биллингсли, и так рвались в зал для избранных-среди-избранных, что «между плечами теснящихся можно было колоть орехи» (стр. 49). Далее в главе 7 Фредди рассказывает, как важные шишки с киностудий признавались, что не задумываясь «влепили бы пулю в лоб какой-нибудь расфуфыренной бабенке», если бы такой ценой могли навечно закрепить за собой вожделенный диванчик в углу, за царским столиком номер 25, откуда видны и клубный бар, и входная дверь» (стр. 91).
Вот и я не могу не отметить, что за обедами у Ханны обстановка была довольно напряженная – хотя, возможно, только я одна это замечала, как Фредди-фурия. Иногда возникало ощущение, что Ханна – это Дж. Дж. Хансекер, а каждый в компании, как Сидни Фалько, из кожи вон лезет, лишь бы стать ее приближенным подручным и любимой игрушкой[146].
Я помню, как Чарльз трудился над заданиями по углубленному курсу европейской истории. То и дело он швырял карандаш через всю комнату:
– Не могу больше! Нахер Гитлера! Нахер Черчилля, Сталина и Красную, чтоб ее, армию!
Ханна бросалась бегом на второй этаж, притаскивала книгу по истории или том Британской энциклопедии, и на ближайший час темноволосая и золотистая головы склонялись близко друг к другу, точно озябшие голубки, под настольной лампой, выискивая по возможности точную дату вторжения Германии в Польшу или падения Берлинской стены (сентябрь 1939, 9 ноября 1989). Однажды я сунулась им помочь – подсказала фундаментальный труд в тысячу двести страниц, который папа всегда ставит в начало списка литературы для обязательного чтения: Гермин-Льюишон, «История – это власть» (1990). Чарльз посмотрел сквозь меня, а Ханна продолжала листать энциклопедию; видно, она была из тех, кто, зачитавшись, не заметит и целую гражданскую войну между сандинистами и пользующимися поддержкой США контрас[147]. Между тем я видела, что во время этих интерлюдий Джейд, Лу, Найджел и Мильтон бросали работу и то и дело косились на Ханну с Чарльзом – похоже, немножко завидовали, вроде как прайд голодных львов в зоопарке, когда посетители выберут одного из них и кормят с рук.
Честно говоря, меня такая их реакция несколько раздражала. Со мной-то они всегда держались надменно, а вот малейший знак внимания со стороны Ханны воспринимали так, словно Сесил Блаунт Демилль пригласил их сниматься в фильме «Величайшее шоу мира»[148]. Стоит Ханне спросить Мильтона о чем-нибудь или похвалить за четверку с плюсом по испанскому – и он тут же забывает свой лениво-протяжный алабамский акцент и не хуже маленького Микки Руни[149] давай выводить рулады, будто шестилетний ветеран мюзик-холла.
– Всю ночь учил… Сроду так не трудился… – выпаливал он, заглядывая Ханне в лицо – так спаниель притащит подстреленную утку и ждет похвалы.
Лула и Джейд тоже при случае могли изобразить чудо-малышку с кудряшками (особенно противно, если Ханна выскажется насчет красоты Джейд, – тут уж такие сюси-пуси пойдут, просто маленькая мисс Бродвей, да и только).
Но даже и такие пляски с бубнами еще ничего по сравнению с тем ужасом, который начинался, если Ханна вдруг направит свет прожектора на меня. Например, однажды она вдруг обронила, что у меня в школе самые высокие оценки и поэтому, скорее всего, мне поручат произносить речь по случаю окончания школы. (Великую новость в то самое утро на собрании перед занятиями объявила Лейси Ронин-Смит. Я потеснила с первого места Рэдли Клифтона, который занимал его неоспоримо в течение трех лет и, как видно, считал, что раз его братья, Байрон и Роберт, произносили речь на окончании школы, то и ему, Рэдли Зануде, сие право дано от Бога. Когда мы с ним столкнулись в коридоре, он сузил глаза и поджал губы – небось, молился, чтобы меня застукали на списывании и с позором выгнали из школы.)
– Представляю, как папа тобой гордится! – сказала Ханна. – И я тобой горжусь! Послушай, что я скажу. Ты в своей жизни можешь достичь всего, чего захочешь. Всего. Я серьезно! Можешь стать хоть физиком-ядерщиком. Потому что у тебя есть очень редкое качество. Ты умная, но при этом тонко чувствуешь. Не бойся этого. Господи, не вспомню, кто сказал: «Счастье – собака, что греется на солнышке. Мы рождаемся на свет не для того, чтобы быть счастливыми, а чтобы пережить невероятный опыт».
Между прочим, это одна из папиных любимых цитат (из Кольриджа, и папа обязательно указал бы Ханне на то, что она ее исказила: «Пересказ своими словами – это не цитата, верно?»). Ханна говорила без улыбки, даже торжественно, словно речь шла о смерти (см. «Я подумаю об этом завтра», Пеппер, 2000). (Также ее речь напомнила мне историческое радиообращение Франклина Делано Рузвельта, когда он объявил войну Японии, – запись 21 в папином собрании из трех компакт-дисков: «Новейшая история. Выступления мировых лидеров».)
Я и в обычные-то дни была для компании обузой, их bête noire[150]. Вспомним третий закон Ньютона: действие равно противодействию. Уж если мои дорогие соученики время от времени являли собой «Нельсона Детское Личико» и «Ямочки на щечках»[151], они просто обязаны были хоть иногда воплощать «Потерянный уик-энд»[152] и «Дракулу»[153][154] – именно это, судя по выражению лиц, и произошло при том сообщении Ханны. По большей части, правда, я старалась не привлекать к себе особого внимания. Царский столик номер 25 меня совсем не манил. Счастье, что хоть в общий зал впустили! Мне довольно просидеть один вечер, а не то что целое блистательное десятилетие за никому не нужным столиком номер 2, где входную дверь совсем не видно и оркестр гремит над самым ухом.
Ханна наблюдала их песни и пляски, сохраняя бесстрастное спокойствие. Дипломатично улыбалась, ласково приговаривала:
– Да-да, мои хорошие, это замечательно.
В такие минуты у меня закрадывалась мысль – не слишком ли я наивна, что восхищаюсь ею затаив дыхание? Иными словами, как выражался папа, насупленно глядя в пол, в тех редких случаях, когда признавал свою неправоту: «Я был слепым ослом».
Ханна ведь никогда ничего не рассказывала о себе. И все попытки хоть что-нибудь раскопать, в лоб или косвенно, тоже заканчивались ничем. Казалось бы, разве можно не ответить на прямой вопрос? Даже если ответ уклончивый, хоть чем-нибудь да выдашь себя. Слишком резкий вдох, бегающий взгляд – из таких деталей легко можно вывести Мрачную Тайну Ее Детства, пользуясь трудами Зигмунда Фрейда «Психопатология обыденной жизни» (1901) или «Эго и Ид» (1923). Но Ханна всегда отвечала что-нибудь очень простое:
– Я жила в окрестностях Чикаго, потом два года в Сан-Франциско. Не такой уж я интересный человек, ребята.
Или пожимала плечами:
– Я учительница. Увы, не могу сказать о себе ничего более интересного.
– Вы же работаете на полставки, – сказал однажды Найджел. – А что вы делаете в остальное время?
– Сама не знаю! Понять бы, куда время уходит, – засмеялась Ханна и больше ничего не добавила.
Было еще слово-загадка: «Валерио». Шуточное выдуманное прозвище неведомого Сирано Ханны, ее таинственного Дарси[155] или «О капитан! Мой капитан!»[156]. Я часто слышала в компании это слово, а когда наконец собралась с духом и спросила, кого или что оно обозначает, от меня в кои-то веки не отмахнулись. Наоборот, с большим жаром рассказали мне любопытный случай. Два года назад Лула как-то забыла у Ханны учебник по алгебре. На следующий день родители подвезли Лулу забрать книгу. Ханна пошла за ней наверх, а Лула пока что заглянула в кухню выпить воды и обратила внимание на стопку желтой бумаги для заметок около телефона.
– Верхний листок был сплошь исписан одним и тем же словом: «Валерио», – азартно рассказывала Лула, смешно морща нос, так что он становился похож на смятый носок. – Миллион раз, наверное! Как будто она говорила по телефону и машинально черкала на листочке. Знаешь, как в кино полицейский застает маньяка-убийцу, когда тот что-нибудь этакое пишет, сам того не замечая. Я сначала ничего и не подумала, я сама часто так делаю. А она, как вошла в кухню, сразу схватила эту стопку и держала лицом к себе, чтобы я не могла прочесть. По-моему, так и не выпустила ее из рук, пока я не уехала. Никогда не видела, чтобы Ханна так странно себя вела.
Действительно странно. Я полезла в книгу кембриджского этимолога Луи Бертмана «Слова, их происхождение и значение» (1921). Оказалось, Валерио – это распространенное итальянское имя, означающее «храбрый и сильный», образовано от римского имени Валериус, а оно, в свою очередь, происходит от латинского глагола «valere» – «находиться в добром здравии, быть крепким и жизнеспособным». Это имя носят несколько малоизвестных святых четвертого-пятого веков.
Я спросила, почему бы просто не спросить Ханну, кто он такой.
– Нельзя, – сказал Мильтон.
– Почему?
– Спрашивали уже, – с досадой ответила Джейд, выдыхая сигаретный дым. – В том году. Она стала вся красная. Прямо фиолетовая.
– Как будто ее стукнули по голове бейсбольной битой, – прибавил Найджел.
– Ага, непонятно было, злится она или расстроилась, – продолжала Джейд. – Так и стояла, открыв рот, а потом ушла на кухню. Минут через пять вернулась, Найджел извинился, а она сказала фальшивым таким официальным голосом: нет-нет, все в порядке, просто ей не нравится, что мы ее обсуждаем за глаза. Это больно, мол.
– Чушь сплошная, – сказал Найджел.
– Нет, не чушь, – резко возразил Чарльз.
– В общем, нельзя нам снова эту тему поднимать, – сказала Джейд. – Не то у нее опять сердечный приступ случится.
– Может, это ее «Розовый бутон»? – спросила я, подумав.
Обычно на мои слова никто не реагировал, а тут все разом обернулись ко мне.
– Чего? – спросила Джейд.
– Вы что, не смотрели «Гражданина Кейна»?
– Смотрели, конечно, – с внезапным интересом откликнулся Найджел.
– Помните, Кейн, главный герой, всю жизнь тосковал о чем-то под названием «Розовый бутон». Мечтал вернуть. Это была его тоска по прежней, простой и счастливой, жизни. И последнее, что он произносит перед смертью.
– Пошел бы в цветочный магазин, да и все тут, – с отвращением заметила Джейд.
С ней такое случалось – она иногда воспринимала сказанное чересчур буквально. При этом обожала всяческие драмы. Стоило Ханне выйти из комнаты, Джейд начинала строить всевозможные догадки по поводу ее таинственных умолчаний. То она заявляла, что Ханна Шнайдер – вымышленное имя. То утверждала, что Ханна скрывается в рамках Федеральной программы по защите свидетелей, потому что дала показания против царя преступного мира, Дмитрия Молотова по кличке Икорник – из тех Молотовых, что с Говард-Бич. Именно благодаря ей Икорника признали виновным в мошенничестве по шестнадцати эпизодам. А может, Ханна – из семьи бен Ладен:
– У них же огромная семья, все равно что у Копполы.
А однажды, посмотрев ночью по каналу TNT фильм «В постели с врагом»[157], Джейд стала уверять, что Ханна прячется в Стоктоне от бывшего мужа, психически ненормального семейного тирана (разумеется, волосы у Ханны перекрашены, а в глазах – контактные линзы).
– Она почти нигде не бывает и всегда расплачивается наличными. Боится, что он выследит ее по кредитной карте.
– Она не всегда расплачивается наличными, – возразил Чарльз.
– Ну, иногда.
– Каждый человек на Земле хоть когда-нибудь расплачивается наличными.
Я внимательно слушала все эти дикие предположения и даже придумала пару-тройку своих, довольно живописных, хотя на самом деле, конечно, во всю эту ерунду не верила.
Папа о людях, живущих двойной жизнью:
– Очень увлекательно воображать, будто это настолько же распространенное явление, как неграмотность, или синдром хронической усталости, или еще какой-нибудь культурный недуг, украшающий обложки журналов «Тайм» и «Ньюсуик», но увы! Первый попавшийся Боб Джонс с улицы чаще всего и есть просто-напросто Боб Джонс, без всяких темных секретов, темных лошадок, темного прошлого и темной стороны Луны. Бодлер сильно преувеличивал… Заметь, я не учитываю случаи супружеской неверности – в них ничего темного нет, сплошная банальщина.
Про себя я построила теорию, что Ханна Шнайдер – опечатка судьбы. (Наверное, судьба просто перетрудилась, вот и оплошала. Кисмет и Карма – ненадежные ребята, слишком уж легкомысленные, а Року вообще ничего доверить нельзя.) И вот нечаянно так вышло, что неординарная личность ошеломительной красоты живет в медвежьем углу, где выдающегося человека и не заметит никто, как пресловутое дерево в лесу. А где-нибудь в Париже или Гонконге типчик по имени Чейз Х. Нидерханн с лицом вроде печеной картофелины и сиплым голосом проживет ее жизнь, полную солнца, озер, и оперных театров, и туристических поездок в Кению по уик-эндам, и платьев, которые шуршат подолом по полу: «Ш-ш-ш-ш-ш».
Тогда я решила взять дело в свои руки[158] (см. роман «Эмма», Остен, 1816).
Был октябрь. Папа встречался с некой Китти (я еще не имела удовольствия отогнать ее от наших окон). Да это не имело никакого значения. Почему папа должен обходиться обычной американской жесткошерстной, если можно получить персидскую? (Я считаю, в моих завиральных идеях виновата постоянно звучавшая в доме Ханны томно-лирическая музыка – старушка Пегги Ли со своим вечным нытьем о сумасшедшей луне и Сара Воан[159], тоскующая о любимом человеке.)
В ту дождливую среду я с нехарактерным для меня энтузиазмом приступила к выполнению задуманного в духе трогательных диснеевских фильмов. Сказала папе, чтобы не приезжал за мной в школу – меня, мол, подбросят до дома, а подвезти попросила Ханну. Заставила ее подождать в машине под идиотским предлогом («Секундочку, у меня для вас такая замечательная книга есть!»), убежала в дом и оторвала папу от очередного труда Патрика Клейнмана, только что опубликованного «Йель Юниверсити Пресс», – «Хроники коллективизма» (2004), – чтобы он вышел и поговорил с моей учительницей.
Он вышел.
Мир не перевернулся, не было волшебной луны и вообще никакого колдовства. Папа с Ханной обменялись парой вежливых слов. Папа, кажется, даже сказал, только бы разбавить молчание:
– Да-да, я все собираюсь сходить на школьный матч. Надеюсь, мы с Синь вас там увидим.
– Ах да, – сказала Ханна. – Вы любите футбол.
– Да, – сказал папа.
– Синь, ты хотела мне дать какую-то книгу? – напомнила Ханна.
И через минуту уже ехала прочь, увозя с собой мой единственный экземпляр «Любви во время чумы» (Гарсиа Маркес, 1985).
– Радость моя, я, конечно, очень тронут твоими стараниями изобразить Купидона, но на будущее, пожалуйста, дозволь мне самому выбирать, с кем умчаться в закат, – сказал папа, вернувшись в дом.
Ночью я не могла заснуть. До тех пор в голове моей носилась гипотеза, что единственная причина Ханне приглашать меня на свои воскресные обеды и настойчиво пихать в явно не желающую меня компанию (с усердием домохозяйки, пытающейся вскрыть упрямую консервную банку), – единственная возможная цель: добраться через меня к папе. Ну не могла я ошибиться! Во всяком случае, тогда, в обувном магазине, взгляд Ханны все время возвращался к папиному лицу – так бабочки-парусники (семейство Papilionidae) порхают над цветком. И в «Толстом коте» улыбнулась она, конечно, мне, но поразить хотела папу. Хотела, чтобы он обратил на нее внимание.
Выходит, я все-таки ошиблась.
Я вертелась и ворочалась, мысленно анализируя каждый взгляд Ханны, обращенный ко мне, каждое слово, улыбку, кашель, иканье и отчетливо различимый вздох. Окончательно запутавшись, я лежала на левом боку и смотрела, как ветерок раздувает бело-синие занавески, а за ними до боли неспешно таяла ночь. (Мендельшон Пит написал в книге «Остолопы» [1932]: «Слабый человеческий разум не приспособлен для того, чтобы нести на себе груз великой неизвестности».)
В конце концов я заснула.
– Мало кто понимает, что бессмысленно гоняться за ответами на главные вопросы бытия, – сказал как-то папа в настроении «бурбон». – У них есть собственный разум, капризный и переменчивый. А вот если быть терпеливым и не торопить их, то, когда они будут готовы, сами к тебе примчатся и врежутся с размаху. Только не удивляйся, если потом окажется, что ты сидишь на земле в полном обалдении, а вокруг порхают и чирикают нарисованные птички.
Как он был прав!
Глава 9. «Пигмалион», Джордж Бернард Шоу
Легендарный испанский конкистадор Эрнандо Нуньес де Вальвида (La Serpiente Negra[160]) записал в своем дневнике 20 апреля 1521 года (в этот день он, по мнению историков, убил двести ацтеков): «La gloria es un millôn ojos asustados», в приблизительном переводе: «Слава – это миллион испуганных глаз». Я не понимала этой фразы, пока не подружилась с компанией, собиравшейся у Ханны по воскресеньям. Если ацтеки смотрели на Эрнандо и его подручных со страхом, то весь «Сент-Голуэй», включая часть преподавательского состава, смотрел на Чарльза, Джейд, Лу, Мильтона и Найджела со священным трепетом и неприкрытым ужасом.
Как у всякого избранного общества, у них было свое название: «Аристократы».
Ежедневно, ежечасно (а может, и ежеминутно) это пафосное словечко повторяли шепотом, с волнением и завистью, в каждом классе и в каждом коридоре, в каждой лаборатории и раздевалке.
– Аристократы сегодня заявились в «Скрэтч», – рассказывала Доннамара Чейз на углубленной литературе. – Встали в уголке и кривились на каждого, кто пройдет мимо. До того довели Сэм Кристенсон – знаете, такая мужиковатая девчонка, в прошлом году поступила? Так вот, на химии у нее случился нервный срыв, истерика, ее увели в медкабинет, а она только одно повторяет – что они насмеялись над ее обувью. На ней были розовые замшевые мокасины от «Аэросоулс», размер девять с половиной. Ничего такого уж страшного!
В школах, где я раньше училась, – в «Академии Ковентри», в гринсайдской средней школе – тоже бывали компании шибко популярных личностей, они курсировали по коридорам, словно вереница лимузинов, и разговаривали на своем особом языке, чтобы пугать непосвященных, совсем как свирепые туземцы племени заксото из Кот-д’Ивуара (в «Брейден-кантри», например, я была «мондо нугло» – не знаю уж, что это значит). Но куда им всем тягаться с Аристократами! В этих было что-то мистическое. Так уж они действовали на людей, что аж в зобу дыхание спирало. Мне кажется, отчасти это объяснялось их кинематографически яркими личностями (Чарльз и Джейд – это же Гэри Купер и Грейс Келли наших дней), их общей нестандартностью (Найджел настолько миниатюрен, что выглядит модным, а Мильтон такой слоноподобный, что это уже стильно), их безграничной самоуверенностью (вот Лу гордо шествует через школьный двор в платье, надетом наизнанку), а главное – ходившими о них сенсационными слухами и Ханной Шнайдер. При этом Ханна ни в коем случае не выставляла себя напоказ. Она преподавала свой курс «Введение в историю кино» всего лишь в одной группе. Занимались они в корпусе Лумис – приземистом здании на отшибе. Здесь проходили занятия «для галочки», лишь бы в аттестате значились, вроде «моделирования одежды» и «столярного мастерства». А если вспомнить высказывание Мэй Уэст, приведенное в книге «Или вы просто рады меня видеть»[161] (Паулсон, 1962): «Ты никто, пока не стал центром секс-скандала».
Через две недели после своего первого обеда у Ханны я случайно услышала, как две девчонки из выпускного класса сплетничали о ней на свободном уроке в читальном зале библиотеки имени Дональда Э. Краша, под присмотром лысого любителя кроссвордов мистера Франка Флетчера – он преподавал у нас вождение. Разговаривали двойняшки, Элиайя и Джорджия Хэтчетт. Коренастые, в каштановых кудряшках, с упитанными пузцами и пивным цветом лица, они были похожи на два портрета короля Генриха Восьмого, написанные разными художниками (см. «Лики тирании», Клер, 1922, стр. 322).
– Не понимаю, как это ее взяли на работу в нашу школу, – сказала Элиайя. – У нее же винтиков в голове не хватает.
– Это ты о ком? – рассеянно спросила Джорджия.
Высунув кончик языка, она разглядывала цветные фотографии в журнале.
– Да ну тебя! Ханна Шнайдер. – Элиайя качнулась на стуле и побарабанила толстыми пальцами по обложке учебника, лежавшего у нее на коленях, – «Иллюстрированная история кино» (Дженоа, изд. 2002 г.).
– Сегодня явилась вообще не готовая к уроку. На пятнадцать минут куда-то пропала – не могла найти DVD для просмотра. По плану мы должны были смотреть «Бродягу», а она приволокла «Апокалипсис сегодня»[162]. Мама с папой в обморок бы упали – три часа сплошного разврата. А эта Ханна словно с другой планеты, вообще не думает, какой там рейтинг. В общем, двадцать минут мы отсмотрели, потом звонок. Джейми Сенчери спрашивает, когда будем дальше смотреть, а она говорит – завтра. Ничего себе изменения в программе! К концу года, небось, будем смотреть «Дебби покоряет Даллас»[163].
– Это ты к чему?
– Странная она, Ханна эта. В один прекрасный день возьмет и нас всех перестреляет, как Клеболд[164].
Джорджия вздохнула:
– Всем известно, она до сих пор трахается с Чарльзом.
– А то! Как заведенная.
Джорджия наклонилась ближе к сестре (я даже дышать перестала, чтобы ничего не упустить).
– Думаешь, Аристократы правда по выходным групповушку устраивают? Что-то я не очень верю Синди Уиллард.
– Само собой! – воскликнула Элиайя. – Мама говорит: знать только со знатью в постель ложится.
– А, ну конечно, – закивала Джорджия и вдруг зашлась хохотом – словно деревянный стул прогрохотал по полу. – Чтобы породу не испортить!
К сожалению, папа прав – и на помойке может отыскаться зерно истины (он и сам не прочь, дожидаясь где-нибудь в очереди, полистать таблоид: «„Пластическая операция звезды прошла неудачно“ – есть что-то влекущее в таком заголовке»). Если честно, я еще в первый день учебного года как увидела Ханну с Чарльзом на школьном дворе, так и подумала – между ними что-то есть. Правда, после пары воскресных обедов я решила, что Чарльз в нее, конечно, влюблен, а вот она к нему относится чисто платонически. И хотя я знать не знала, чем занимаются Аристократы в выходные (и не узнала до середины октября), зато у меня не было ни малейшего сомнения, что они и в самом деле тщательно блюдут чистоту породы.
А подпортила им породу, естественно, я.
Мое появление в их тесном кругу прошло так же безболезненно, как высадка союзников в Нормандии. Конечно, мы узнавали друг друга в лицо, но первый месяц или чуть больше – сентябрь, самое начало октября – общались только у Ханны. Я, как тайный свидетель, испуганно помалкивала, наблюдая, как на них реагируют окружающие («Если я когда-нибудь увижу Джейд, лежащую посреди улицы, раненую, бездомную, больную проказой, – я проявлю милосердие и перееду ее, чтоб не мучилась», – посулила Бетти Прайс на углубленной литературе).
Общение наше в первое время происходило по весьма унизительному сценарию. Естественно, я чувствовала себя одинокой толстушкой в любовном реалити-шоу – той, которую никто не приглашает на романтическое свидание и уж тем более на полноценный ужин в ресторане. Устроившись в потертом Ханнином кресле с одной из ее собак, я делала вид, будто невероятно увлечена домашним заданием по углубленной истории искусства, а они тем временем обсуждали вполголоса, как «круто погуляли» в пятницу в таинственных увеселительных заведениях под кодовыми названиями «Фиолетовая» и «Слепая». Если Ханна выглядывала из кухни, мне сейчас же бросали гаденькие огрызки-улыбки. Мильтон, моргнув, хлопал себя по колену и спрашивал:
– Синь, как дела? Что ты там притихла?
– Она стесняется, – серьезно говорил Найджел.
Или Джейд, неизменно одетая как на красной дорожке в Каннах:
– У тебя чудесная блузка! Хочу себе такую! Расскажешь потом, где ты ее раздобыла.
Чарльз улыбался, будто ведущий непопулярного ток-шоу, а Лула при звуке моего имени утыкалась взглядом в пол.
Ханна, как видно, сообразила, что ситуация патовая, и попробовала иной подход.
– Джейд, а не взять ли тебе Синь с собой в «Консьянс»? Ей, наверное, будет интересно. Когда ты снова туда поедешь?
– Не знаю, – протянула Джейд.
Она лежала на животе посреди ковра и читала «Нортоновскую антологию поэзии» (Фергюсон, Солтер, Столуорти, изд. 1996 г.)
– По-моему, ты собиралась на следующей неделе, – не отставала Ханна. – Может, ее как-нибудь смогут принять без записи?
– Может, – буркнула Джейд, не отрываясь от книги.
Я и забыла об этом разговоре, а в пятницу, безрадостным серым днем, после последнего урока – углубленная всемирная история, преподаватель мистер Карлос Сандборн (который так густо мазал волосы гелем, что всегда казалось, будто он только что вылез из плавательного бассейна) – я увидела около своего шкафчика Джейд и Лулу: на Джейд черное платье в стиле Холли Голайтли[165], Лула в белой блузке и юбке. Лула стояла терпеливо, руки по швам, как на репетиции хора, а у Джейд вид был такой, словно она пришла в дом престарелых и дожидается, пока наконец привезут назначенного ей старичка, чтобы скороговоркой почитать ему вслух «Обитателей холмов»[166], заработать очки за общественную работу и благодаря этому вовремя получить аттестат.
– В общем, мы едем привести в порядок ногти, брови и волосы, и ты с нами, – подбоченясь, объявила Джейд.
– О, – сказала я, набирая код цифрового замка от шкафчика, хотя на самом деле я, кажется, просто крутила диск то в одну, то в другую сторону.
– Готова?
– Что, прямо сейчас?
– Конечно.
– Сейчас не могу. Я занята.
– Занята? Чем это?
– За мной папа заедет.
Проходившие мимо четыре девчонки застряли у доски с объявлениями по немецкому языку, словно мусор в реке зацепился за берег, и, не скрываясь, подслушивали.
– Бо-оже! Опять твой чудо-папочка! – протянула Джейд. – Хоть бы сказала, как его зовут в обычной жизни и как он выглядит без плаща и маски!
(Я имела неосторожность упомянуть о папе за обедом у Ханны. Да еще и употребила такие выражения, как «невероятный человек» и «один из самых выдающихся на сегодняшний день исследователей американской культуры» – строчка, взятая дословно из двухстраничной статьи о папе в ежеквартальном журнале Американского института политологии [см. «Доктор Да», весна 1987, т. XXIV, № 9].)
– Да она шутит, – сказала Лу. – Пошли, будет весело.
Я собрала рюкзак и пошла за ними. Предупредила папу, что сегодня у нас внеочередная встреча группы по изучению «Улисса», но к ужину я буду дома. Папа нахмурился, глядя издали на Джейд и Лу.
– Эти барышни считают, что они способны читать Джойса? Хех! Желаю им удачи… Нет, поправка: буду надеяться на чудо.
Конечно, будь его воля, он бы меня не пустил, просто не хотел скандала.
– Очень хорошо, – вздохнул папа, глядя на меня с жалостью, и завел мотор. – Пока-пока, радость моя!
Мы пошли к автостоянке для учеников. По дороге мне пришлось выслушивать восторженные отзывы.
– Ни хрена себе! – Джейд смотрела на меня с уважительным изумлением. – Папа у тебя просто неотразим! Ты говорила, что он невероятный, но я не думала, что это значит «невероятный» в стиле Джорджа Клуни! Не будь он твоим папой, я бы тебя попросила нас познакомить.
Лу ее поддержала:
– Он похож на этого, как его… Отца из «Звуков музыки»[167].
Честно говоря, мне уже здорово надоело, что папино появление безотказно вызывает всеобщий восторг. Я первая готова была аплодировать стоя и швырять на сцену цветы с криками «Браво!», но иногда папа мне напоминал оперную примадонну, которая получает хвалебные рецензии, даже если поленилась взять высокую ноту, забыла переодеться и моргнула, уже лежа трупом в последнем акте. Например, когда я сталкивалась в коридоре с завучем Ронин-Смит, впечатление было такое, что она до сих пор не опомнилась после двухминутного разговора с папой у себя в кабинете. Она не спрашивала «как учеба?», а всегда: «Как папа?» И только Ханна Шнайдер после встречи с моим папой не донимала меня расспросами.
– Точно… Господин фон Трапп, – задумчиво откликнулась Джейд. – Он мне всегда нравился. Так, а мама у тебя кто и что?
– Она умерла, – ответила я глухим трагическим голосом и впервые смогла насладиться их ошарашенным молчанием.
Салон «Консьянс» располагался в центре Стоктона, наискосок от публичной библиотеки. Среди фиолетовых стен и окрашенных под зебру диванчиков некто Джейре в сапогах из кожи аллигатора расцветил мне волосы медными бликами и подстриг так, чтобы больше не казалось, «будто она сама их обкорнала маникюрными ножницами». Неожиданно Джейд настояла на том, что вся эта красота мне достанется даром – за все платит мама Джейд, пресловутая Джефферсон, – она оставила Джейд черную карту «Америкэн экспресс», на всякий случай, а сама укатила на полтора месяца в Аспен[168] со своим новым «красавчиком», лыжным инструктором «по имени Таннер, у него еще губы вечно обветрены».
– Если сможете сделать что-нибудь с этим помелом, заплачу тысячу долларов, – сказала Джейд парикмахеру.
В следующие две недели, также на деньги Джефферсон, мне приобрели полугодовой запас контактных линз у офтальмолога Стивена Дж. Хеншо с глазами как у песца и вечным насморком. Лу и Джейд самолично выбрали мне одежду, обувь и нижнее белье – не в подростковом отделе универмага «Стикли», а в «Ярмарке тщеславия» на Мейн-стрит, в бутике «Руж» на улице Вязов, «У Натальи» на Вишневой и даже «У Фредерика» на Голливудской («Если вдруг захочешь порезвиться, рекомендую вот это» – с такими словами Джейд сунула мне в руки нечто вроде сбруи, какую надевают для дайвинга, только розового цвета). Контрольным выстрелом стали увлажняющий крем для лица, блеск для губ с ароматом мирта и тимьяна, дневные (блестящие) и вечерние (матовые) тени для глаз, специально подобранные в косметическом отделе «Стикли» под мой цвет кожи, и пятнадцатиминутный краткий курс по их нанесению, который провела для меня, жуя жвачку, продавщица Миллисент с напудренным лбом и в белоснежном форменном халатике. Она ухитрилась уместить на моих веках все цвета спектра.
– Да ты богиня! – объявила Лу.
Ее отражение улыбалось мне в ручном зеркальце Миллисент.
– Кто бы подумать мог, – хмыкнула Джейд.
Я больше не была похожа на смущенную сову – скорее на разудалое пирожное (нагл. пос. 9.0).
Разумеется, папа, увидев такое превращение, испытал примерно те же чувства, как если бы Ван Гог забрел однажды жарким полднем в сувенирный магазинчик в Сарасоте и рядом с картонными бейсболками и статуэтками из ракушек обнаружил свои любимые подсолнухи, отпечатанные на пляжных полотенцах, которые еще и продаются со скидкой, всего за девять долларов девяносто девять центов.
– Радость моя, у тебя в волосах сполохи. Волосы не должны полыхать! Полыхает костер, маяк, подсвеченная башня с часами… Может быть, преисподняя. А человеческие волосы – нет.
Однако вскоре, как ни странно, папа возмущаться перестал – так, буркнет что-нибудь иногда себе под нос. Я предположила, что он слишком увлечен Китти, или, как она себя называла на автоответчике, «Котенком Китти» (я сама ее никогда не видела, доходили только заголовки новостей: «Китти падает в обморок в итальянском ресторане, услышав папины рассуждения о человеческой природе», «Китти умоляет папу простить ее за то, что пролила „Белый русский“[169] коктейль на рукав его твидового пиджака», «Китти собирается отметить свое сорокалетие и не прочь услышать свадебные колокола»).
Удивительное дело – папа как будто смирился с тем, что его дочку, дивное произведение искусства, бессовестно коммерциализируют. Он вроде даже и не сердился.
– Ты довольна? Ты делаешь это осознанно? Ты уважаешь своих соучеников в этой вашей группе по изучению «Улисса», хотя они – как и следовало ожидать – проводят больше времени в магазинах и парикмахерских, чем в поисках Стивена Дедала?
(Да, папа до сих пор верил, что я по воскресеньям занимаюсь изучением этого непомерного тома, и я его не разубеждала. К счастью, папа не особенно любил Джойса – его утомляла постоянная игра словами, да и латынь тоже. На всякий случай я время от времени отчитывалась, что моим одноклассникам книга дается с трудом и потому мы все еще не продвинулись дальше первой главы – «Телемак»).
– Вообще-то, они неплохо соображают, – сказала я. – На днях один употребил в разговоре слово «подобострастный».
– Не хами! Они умеют мыслить?
– Ага.
– Они не лемминги? Не тупые недоразвитые неонацисты? Не анархисты и не антихристы? Не средние заурядные юнцы, воображающие себя непонятыми? Увы, американские тинейджеры по сравнению с вакуумом – как диванные подушки по сравнению с полиуретановой пеной…
– Пап, они неплохие.
– Ты уверена? Никогда не полагайся в суждениях на завлекательную видимость.
– Уверена.
– Тогда вперед.
Он нахмурился, а я, поднявшись на цыпочки, чмокнула его в шершавую щеку и направилась к двери. Было воскресенье. Джейд уже вовсю давила локтем на гудок.
– Приятного тебе времяпрепровождения с твоими чуваками и чувихами, – несколько театрально пожелал папа, но я не стала цепляться к словам.
Случалось, мы с Джейд и Лу хохотали над чем-нибудь как ненормальные. Например, в тот раз, когда они позвали меня с собой «шататься по магазинам», а в торговом центре за нами увязалась компания остолопов с идиотскими улыбками и выглядывающими из-за пояса джинсов трусами.
– Полнейшие уроды, – вынесла приговор Джейд, разглядывая их сквозь стойку с резинками для волос.
Или в другой раз, когда мы с Джейд показали средний палец гнойному струпу (так Джейд называла «уродливых мужиков старше сорока»), который нахально подрезал ее «вольво» на своем «фольксвагене» (подражая Джейд, я высунула руку в открытое окно, и ветер трепал мои волосы, ныне бесподобного цвета меди, атомный номер 29).
В такие минуты я думала: может, они и в самом деле мои друзья и когда-нибудь я смогу доверительно обсуждать с ними вопросы секса за пирогом с ревенем в уютной кафешке, а еще когда-нибудь мы будем перезваниваться, обсуждая боли в спине и лысых, как черепахи, мужей и где бы поселиться, выйдя на пенсию… А потом улыбки вдруг слетали с их лиц, как плохо прикнопленный листок с доски объявлений, и они смотрели на меня с досадой, словно я их в чем-то обманула.
Они отвозили меня домой, а я на заднем сиденье пыталась читать их разговор по губам, ничего не слыша за ревом тяжелого металла из динамиков (разбирала дразняще-обрывочные фразы: «встретимся позже», «обалденное свидание»). Я думала о том, что так и не сказала ничего впечатляющего (крутизны во мне не больше, чем в паре пляжных шорт) и сейчас меня сдадут, словно тюк грязного белья в прачечную, и умчатся в манящую шепчущую ночь с лиловыми небесами и черными силуэтами гор над макушками сосен. Где-то там, в секретном месте, они встретятся с Чарльзом, Найджелом и Блэком (почему-то Мильтона они называли по фамилии). Будут сидеть и целоваться в машинах и устраивать гонки на шоссе, сталкивая противников с обрыва (в кожаных куртках с надписями «ТИ-БЁРД» и «РОЗОВАЯ ЛЕДИ»[170])[171].
– Аста ла виста, пока-пока, – говорила Джейд, подкрашивая губы красной помадой и глядясь в зеркальце заднего вида.
Я захлопывала дверцу и взваливала рюкзак на плечо.
Лула приветливо махала рукой:
– Встретимся в воскресенье!
И я плелась в дом, как ветеран возвращается с войны, жалея, что мир наступил слишком скоро.
– Что такого необходимого можно купить в магазине под названием «Загар Прямо-Как-На-Багамах»? – крикнул папа из кухни, когда приехал домой после очередного свидания с Китти.
Он заглянул в гостиную, держа в руке, словно дохлого ежа, оранжевый пластиковый пакет, который я оставила в прихожей.
– Тональный крем «Прямо-Как-На-Бали», – мрачно ответила я, не отрываясь от книжки – схватила с полки первую попавшуюся, «Молодежный бунт в Южной Америке» (Гонсалес, 1989).
Папа кивнул и благоразумно решил больше не расспрашивать.
А потом случился поворот (и я уверена, причиной тому опять-таки Ханна, хотя я до сих пор не знаю, что она такое им сказала: может, объявила ультиматум или предложила взятку, а может, как всегда, незаметно подвела их к нужной мысли).
Дело было в первую неделю октября, в пятницу, на шестом уроке. Солнце светило не по-осеннему беспощадно ярко, и все вокруг блестело, словно только что вымытая машина, и мистер Моутс, преподаватель ИЗО для начинающих, призвал нас выйти на улицу с карандашами и набросать этюд.
– Найдите свои текучие часы[172]! – приказал он, распахивая двери, словно выпускал на волю стадо диких мустангов, и красиво вскидывая руку, как будто на миг превратился в танцовщика фламенко в тесных штанах цвета кадмий зеленый.
Ученики с громадными альбомами для эскизов медленно и лениво расползлись по кампусу. Я никак не могла выбрать сюжет для рисунка. Минут пятнадцать бродила и в конце концов решила нарисовать полузасыпанный сухими сосновыми иголками пакетик из-под «M&Ms» позади корпуса Элтон. Я устроилась на приступочке и только-только провела первые штрихи, когда на дорожке послышались шаги. И шаги эти не прошли мимо, а затихли возле меня.
Кто-то сказал:
– Привет!
Это был Мильтон – руки в карманах, клок волос падает на лоб.
– Привет, – сказала я.
Он не ответил и даже не улыбнулся. Только подошел ближе и, наклонив голову набок, стал рассматривать мой неуверенный набросок, словно учитель, бесцеремонно заглядывающий в твою тетрадь на контрольной.
Я спросила:
– Почему не на уроке?
– Да я заболел, – усмехнулся Мильтон. – Гриппом. Иду в медкабинет, потом домой, лечиться.
Забыла упомянуть: если Чарльз был в школе очевидным Казановой, его обожали и девочки, и мальчики, и группа поддержки, то Мильтон являл собой воплощение всего интеллектуального и непонятного. У нас в группе углубленной литературы была одна девчонка, Мейкон Кэмпинс, которая рисовала у себя на руках татуировки в виде закручивающихся спиралей, – так вот, она уверяла, что влюблена в Мильтона без памяти. Перед тем как прозвенит звонок на урок и в класс войдет миз Симпсон, громким шепотом бормоча себе под нос: «Ни заправки для принтера, ни бумаги нормальной, ни скрепок, школа катится в пропасть, нет, вся страна, нет, весь мир…» – всем было слышно, как Мейкон и ее лучшая подруга Анджела Гранд обсуждают загадочную татуировку Мильтона:
– По-моему, он ее сам сделал. Помнишь, на биологии он засучил рукава? Я все разглядывала его руку. Мне кажется, у него там татуировка всех цветов радуги. Это та-ак сексуально!
Мне тоже чудилось в Мильтоне что-то подспудно сексуальное. Если нам случалось оказаться наедине, я становилась как будто пьяная. Однажды я на кухне у Ханны споласкивала тарелки, прежде чем загрузить их в посудомоечную машину, и тут вошел Мильтон, держа своими громадными лапами сразу семь стаканов. Он наклонился надо мной, чтобы поставить стаканы в раковину, и я подбородком нечаянно задела его плечо. Оно было влажное, словно в оранжерее, и я подумала, что сейчас упаду.
– Синь, извини, – сказал он и отошел.
Он часто произносил мое имя (так часто, что я невольно подозревала иронию) и всегда растягивал его, словно это не имя, а мячик на резинке: «Сиииииинь».
Сейчас он спросил:
– Синь, ты сегодня вечером занята?
– Ага, – сказала я.
Он не придал этому значения (наверняка вся компания уже догадалась, что, кроме Ханны, никто меня никуда не зовет).
– Мы сегодня собираемся у Джейд. Приходи, если хочешь.
И двинулся дальше по дорожке.
– Я думала, у тебя грипп.
Я говорила очень тихо, но он услышал, обернулся и сделал пару шагов назад:
– А мне резко получшело!
Подмигнул и пошел себе, насвистывая и поправляя на ходу галстук в сине-зеленую клетку, словно ему предстояло собеседование по приему на работу.
Джейд жила в тридцатипятикомнатном особняке в стиле поместья «Тара»[173] – она называла его Свадебным тортом. Дом стоял на холме посреди забубенного района, где «люди обитают в трейлерах и у половины жителей зубов нету». В народе это место прозвали Помойкой.
– При первом знакомстве дом поражает своей вульгарностью, – весело сообщила Джейд, распахивая тяжеленную входную дверь.
Она мне обрадовалась, как родной. Прямо-таки напрашивался вопрос: что ей Ханна такое пообещала? Наверное, бессмертие.
– Да-да, – продолжала Джейд, поправляя сползшее плечико черно-белого шелкового платья, чтобы не были видны бретельки ярко-желтого лифчика. – Я предлагала Джефферсон держать в прихожей такие, знаешь, пакетики, как в самолетах выдают, специально для непривычных. И кстати, у тебя не бред – это действительно Кассиопея. В столовой – Малая Медведица, в кухне – Геркулес. Это Джефферсон так развернулась, во всех комнатах на потолке – созвездия Северного полушария. Когда проектировали дом, она встречалась с одним типом по имени Тимбер, астрологом и толкователем снов. Потом этот Тимбер ее кинул и она стала встречаться с англичанином Гиббсом. Он эти мерцающие огонечки на дух не переносил – «В них же лампочки менять задолбаешься!» – да поздно было. Электрики уже смонтировали Северную Корону и половину Пегаса.
Прихожая была вся сплошь белая. На гладком мраморном полу запросто можно крутить тройной лутц и двойной тулуп. На нежно-голубом потолке в самом деле мерцает созвездие Кассиопеи, да еще, кажется, и гудит на низкой ноте, словно морозильник. И холод, как в морозильнике.
– Нет-нет, ты не заболела, не думай. В низкотемпературной среде замедляется процесс старения организма, а иногда даже обращается вспять, поэтому Джефферсон требует, чтобы температура в доме не поднималась выше сорока[174].
Джейд швырнула ключи от машины на приземистую коринфскую колонну у входа, где уже валялись кучка мелочи, ножнички для педикюра и рекламные брошюрки курсов медитации в каком-то «Сувейни-центре духовной жизни».
– Не знаю, как тебе, а мне срочно требуется коктейль! Все равно никто еще не приехал. Опаздывают, гады… Ладно, пошли, покажу тебе, где тут что.
Джейд смешала нам по коктейлю «Клеветник»[175] – первый в моей жизни алкогольный напиток, сладкий, но приятно обжигающий горло. И мы отправились на обзорную экскурсию под мерцающими созвездиями (часто с погасшими звездами, сверхновыми и белыми карликами). Дом был роскошен и гнусен, как дешевый отель. Назначение комнат не всегда поддавалось точному определению, хотя Джейд называла каждую вполне недвусмысленно: комната отдыха, музейная комната, гостиная. Например, Императорскую комнату украшали затейливая персидская ваза и большой портрет маслом «сэра Кого-то-там восемнадцатого века», но на диване валялась грязная шелковая блузка, под стулом – перевернутая кроссовка, а на позолоченном столике сиротливо жалась кучка ватных шариков, которыми кто-то удалял с ногтей кроваво-красный лак.
Джейд показала мне Комнату с телевизором («три тыщи каналов, а смотреть нечего»), Игровую комнату, где вставала на дыбы карусельная лошадка в натуральную величину («Ее зовут Снежок») и Шанхайскую комнату – почти пустую, если не считать бронзовую статую Будды и с десяток картонных коробок.
– Ханна считает, что с вещами надо расставаться. Я постоянно сдаю разное барахло в благотворительный фонд. Ты подумай, может, тоже что-нибудь пожертвуешь, – сказала Джейд.
В подвальном этаже, под созвездием Близнецов, находилась Комната Джефферсон («здесь мама воздает небесные почести своей ушедшей молодости»). В необозримых размеров комнате стоял телевизор с хороший киноэкран, пол покрывал ковер цвета копченой грудинки, а на обшитых деревянными панелями стенах были развешаны рекламы парфюма «О!», колготок «Шелковый соблазн», туфель «Шагай смело», пива «Оранжевое блаженство» и других никому не известных товаров. На всех плакатах была изображена одна и та же девушка с морковно-рыжими волосами и ослепительной улыбкой, выражающей почти маниакальный восторг (см. гл. 4, «Джим Джонс»[176], в кн. «Безумный Дон Жуан», Лернер, 1963).
– Это и есть моя мамуля Джефферсон. Можешь звать ее Джефф.
Джейд нахмурилась, разглядывая рекламу витаминов, на которой Джефф с синими напульсниками на руках выполняла «березку» над крупной надписью: «ВИТАМИН „ВИТА“ – ТВОЙ ПУТЬ К ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ».
– В семьдесят восьмом она прогремела в Нью-Йорке – минуты на две. Видишь, у нее волосы зачесаны кверху и вот тут завиток над глазом? Ее изобретение. Когда она впервые появилась на людях с этой прической, все прямо с ума посходили. Прическу назвали «Алый зефир». Мамуля дружила с Энди Уорхолом[177]. Небось, он ей показывался без парика. О, погоди-ка…
Джейд подошла к столику под рекламой пикантных сосисок сэра Альберта («Что хорошо для королевской семьи, то хорошо и для вас») и взяла фотографию в рамке – видимо, сделанную уже в наши дни.
– Это Джефферсон в прошлом году позировала для рождественских открыток.
Женщина явно заблудилась далеко за гранью сорокалетия и в ужасе искала дорогу обратно. Сияющая улыбка слегка провисала по углам, и волосам больше не хватало энергии, чтобы взмывать «Алым зефиром», – они торчали во все стороны «Алой шваброй». (Папа назвал бы ее «постаревшая Барбарелла»[178] или применил бы к ней свою шкалу конфетных оценок, придуманную специально для женщин, которые убивают массу сил и времени в попытках остановить возраст, словно возраст – это табун непокорных жеребцов: «подтаявшая красная M&M», «засохшая клубничная мармеладка» и так далее.)
Джейд смотрела на меня, прищурившись и скрестив руки на груди.
– По-моему, она симпатичная, – сказала я.
– Ага, симпатичная, как Гитлер.
Закончилась экскурсия в Фиолетовой комнате – «здесь Джефферсон знакомится поближе со своими бойфрендами, если ты понимаешь, о чем я. Лучше не садись на тот диванчик восточной расцветки у камина». Больше никто из компании пока не появился. Джейд снова занялась коктейлями, потом перевернула на другую сторону пластинку Луи Армстронга на антикварном проигрывателе. В конце концов она угомонилась и села, хотя взгляд так и порхал по комнате канарейкой. Джейд в четвертый раз посмотрела на часы у себя на руке. Потом в пятый.
– Давно вы здесь живете? – спросила я.
Мне хотелось завязать разговор, чтобы, когда остальные придут, у нас был в разгаре любимый номер «Две маленькие девочки из Литтл-Рока»[179] – правда, Джейд чуточку худее и чуточку злее, чем Мэрилин, а я, безусловно, совсем плоская по сравнению с Джейн Расселл. К сожалению, пылкой дружбы между нами пока не намечалось.
– Три года, – рассеянно ответила Джейд. – Да где они, нах? Ненавижу, когда опаздывают! И вообще, Блэк поклялся, что придет к семи, обманщик! – пожаловалась она, обращаясь не ко мне, а к потолку. – Я его кастрирую!
(В созвездии Ориона у нас над головой давно не меняли перегоревшие лампочки, так что мифический охотник лишился ног и головы. Один только пояс остался.)
Вскоре прибыли остальные – в каком-то странном виде. Пластмассовые бусы, бумажные короны из фастфуда, Чарльз в старинной рубашке для фехтования, Мильтон – в синем бархатном пиджаке. Найджел развалился на кожаном диване, закинув ноги на кофейный столик, Лула посылала Джейд воздушные поцелуи. Мне она едва улыбнулась и тут же прошествовала к бару. Глаза у нее были красные и остекленевшие. Мильтон взял сигару из шкатулки на письменном столе в углу.
– Джейди, где резак? – окликнул он, нюхая сигару.
– Ты обещал прийти вовремя, а сам опоздал! – огрызнулась Джейд, затягиваясь сигаретой. – Ненавижу! В верхнем ящике.
Мильтон приглушенно хмыкнул, будто сквозь подушку. Я поймала себя на том, что мечтаю – хоть бы он и мне сказал что-нибудь. «Хорошо, что ты пришла» или «Сиииииинь, привет!» – но он не сказал. Он меня просто не видел.
– Синь, смешать тебе «грязный мартини»[180]? – спросила Лула.
– Или другое что-нибудь, – сказала Джейд.
– «Ширли Темпл»[181], – посоветовал Найджел с гадкой улыбкой.
– «Космо»[182]? – спросила Лула.
– В холодильнике есть молоко, – заметил Найджел, сохраняя выражение полной серьезности.
– Мне… мне «грязный мартини» сойдет. Спасибо, – сказала я. – Три оливки, пожалуйста.
«Три оливки, пожалуйста», – говорила Элеонора Керд, зеленоглазая героиня «Возвращения к водопадам» (де Мург, 1990). Глядя на нее, мужчины содрогались от желания. Книгу я в двенадцатилетнем возрасте стырила из позолоченной сумочки июньской букашки по имени Рита Клири. (Она еще долго спрашивала папу: «Где моя книга?» – словно душевнобольная, сбежавшая из лечебницы. Обшарила все наши шкафы и диваны и под ковер заглядывала, встав на четвереньки, так ей хотелось узнать, вышла Элеонора за сэра Дэмьена или они все-таки расстались, потому что он думал, будто она думала, будто он думает, что он отец незаконнорожденного ребенка бессовестной злодейки.)
Лула вручила мне мартини, и обо мне тут же забыли – так оператор на коммутаторе руководителя компании забывает о линии заместителя.
– Значит, сегодня у Ханны было свидание, – обронил Найджел.
– Не было. – Чарльз улыбался, хотя я заметила, что он сел чуть-чуть прямее, как будто его укололи иголкой через диванную подушку.
– Было, – сказал Найджел. – Я ее видел после школы. Она была в красном.
– Фу-фу-фу, – сказала Джейд, выдыхая сигаретный дым.
Они еще поговорили о Ханне. Джейд снова что-то сказала о благотворительном фонде и о буржуазных свиньях (я не слышала этого выражения с тех пор, как мы с папой по дороге через Иллинойс читали «Кислотный трип. Иллюзии контркультуры шестидесятых» Ангуса Хаббарда [1989]). Правда, я не очень поняла, к чему это сказано. Мне вдруг стало трудно сосредоточиться на разговоре; все вокруг расплывалось, как зловредная нижняя строчка в таблице у окулиста. Почему-то я уже была не я, а расплывчатое облако межзвездного вещества, клок темной материи, наглядный пример из общей теории относительности.
Я встала и хотела двинуться к двери, только ноги реагировали так, будто их попросили измерить Вселенную.
– Черт, что это с ней? – донесся откуда-то издалека голос Джейд.
Пол излучал колебания в широком диапазоне.
– Что ты ей такое подсунула? – спросил Мильтон.
– Да ничего. «Клеветник».
– Я говорил, дайте ей молока, – ввернул Найджел.
– Я ей дала мартини, – сообщила Лула.
Вдруг оказалось, что я лежу на полу и смотрю на звезды.
– Она умрет? – спросила Джейд.
– Ее в больницу бы надо, – сказал Чарльз.
– Или Ханне позвонить, – сказала Лу.
– Ничего ей не сделается. – Мильтон склонился надо мной. Его черные волосы свисали волнистыми прядями, напоминая осьминога. – Пусть проспится.
Волна тошноты поднималась к горлу, и я никакими силами не могла ее остановить. Словно черная вода, заливающая алый пассажирский салон на «Титанике», как рассказано в одной из папиных любимых автобиографических книг – «Ноги мои желты, и мысли мои черны»[183] (1943), в которой Герберт Дж. Д. Ласковиц на девяносто седьмом году жизни наконец-то признается, что задушил какую-то пассажирку и надел ее платье, чтобы под видом беременной женщины обеспечить себе место в спасательной шлюпке.
Я попробовала перевернуться и встать, но ковер и диван рванулись вверх, а потом меня вывернуло наизнанку – так внезапно, словно молния ударила в пол прямо у меня под ногами. Живописно, как в мультфильме, на стол, и на ковер, и на диванчик восточной расцветки, и на черные кожаные туфельки Джейд от Диора, и даже на специально припасенную для развлечения гостей книгу с иллюстрациями: «Телеобъектив – это дар Божий. Фотографии звезд, не подозревающих, что их снимают» (Миллер, 2002). Брызги попали даже Найджелу на брюки.
Как все на меня уставились…
Стыдно признаться, но на этом воспоминания мои обрываются (см. рис. 12, «Континентальный шельф в разрезе», в кн. «Рельеф океанического дна», Босс, 1977). Помню только обрывки реплик («А если ее родные на нас в суд подадут?») и лица, глядящие на меня сверху, словно я смотрю на них из колодца.
Впрочем, провал в памяти мне восполнили с лихвой. В ближайшее воскресенье за обедом у Ханны очевидцы рассказали все подробности, называя меня милыми прозвищами – Рвотинка, Тошнюсик, Плевака и Оливки. Если верить Луле, я вырубилась прямо на газоне. Джейд уверяла, будто бы я что-то бормотала по-испански, вроде «El perro que no camina, no encuentra hueso», то есть: «Собака, которая не ходит, косточку не находит», после чего глаза у меня закатились и Джейд подумала, что я умерла. Мильтон клялся, что я «бегала в голом виде», а Найджел – что я «отжигала, как Томми Ли на презентации альбома „Театр боли“»[184]. Чарльз, выслушав все эти версии, поморщился и объявил, что они «грубо искажают действительность». Сказал, я всего лишь полезла обниматься с Джейд, в точности повторив его любимый фильм – культовый шедевр французского режиссера-фетишиста Люка-Шало де ла Нюи «Les Salopes Vampires et Lesbiennes de Cherbourg»[185] (киностудия «Пти-Уазо», 1971).
– Парни всю жизнь мечтают такое увидеть. В общем, спасибо тебе, Рвотинка. Спасибо тебе громадное!
– Я смотрю, вы повеселились от души. – Ханна улыбалась, а глаза у нее блестели, словно она как следует хлебнула вина. – Больше ничего не рассказывайте! Это не для учительских ушей.
Я так и не смогла решить, которому рассказу верить.
С тех пор как у меня появилось прозвище, все переменилось.
Папа говорил, что моя мама, которая «когда входила в комнату, все почтительно замирали, не дыша», со всеми обращалась одинаково. Папа не мог определить, с кем она говорит по телефону – с подругой детства из Нью-Йорка или с рекламщиком, так она радовалась им обоим. «Поверьте, я была бы счастлива заказать средство для чистки ковров – продукция у вас просто замечательная, – но, должна признаться, у нас нет ковра».
– Она могла извиняться часами, – рассказывал папа.
А я ее подвела. Я стала держаться по-другому – теперь, когда подружилась с воскресной компанией, когда Мильтон, заметив меня на утреннем сборе, орал: «Рвотинка!» – и полный двор школьников готов был рухнуть к моим ногам. Конечно, я не превратилась в одночасье в наглую актрисульку, которая начинала с массовки, а потом когтями и зубами прорвалась к главным ролям. Но, расхаживая на перемене по коридорам Ганновера с Джейд Уайтстоун («Фу, устала!» – жаловалась Джейд, обнимая меня за шею, как Джин Келли обнимает фонарный столб в фильме «Поющие под дождем»[186]), я, безусловно, купалась в лучах славы. Тогда-то я по-настоящему поняла, о чем говорил Хэммонд Браун, участник прогремевшего в 1928 году бродвейского мюзикла «Счастливые улицы» (известный в ревущие двадцатые под прозвищем Челюсть). Он сказал: «Взгляды толпы касаются кожи, как шелк» («Овация», 1952, стр. 269).
А после школы меня забирал папа, и если он за что-нибудь меня ругал – за волосы «как новогодняя мишура» или за слишком дерзкое сочинение «Тупак[187]. Портрет современного поэта-романтика», за которое мне поставили издевательскую четверку («Выпускной класс – не время ни с того ни с сего ударяться в эпатаж!»), – происходило нечто очень странное. Раньше после каждой ссоры с папой я запиралась у себя в комнате, чувствуя себя какой-то кляксой, расплывчатой и размазанной. А теперь я по-прежнему видела свои очертания: тонкий, но вполне отчетливый контур.
Миз Гершон, учительница углубленной физики, тоже заметила перемену – по крайней мере, на подсознательном уровне. Например, когда я только поступила в «Сент-Голуэй», когда я поднимала руку, чтобы ответить на вопрос, миз Гершон меня замечала далеко не сразу: я сливалась с окружающей средой, с окнами, лабораторными столами, с портретом Джеймса Джоуля. А сейчас, едва я подниму руку, взгляд учительницы мгновенно обращался ко мне:
– Да, Синь?
То же самое с мистером Арчером – он больше не перевирал мое имя. «Синь», – говорил он без малейших колебаний, с глубокой и искренней верой (примерно тем же тоном он произносил «да Винчи»). А мистер Моутс, подходя взглянуть, как продвигается мой рисунок, смотрел больше не на мольберт, а на меня – словно я более интересный объект, чем кривоватые линии на листе бумаги.
Сэл Минео тоже заметил разницу, а если уж он заметил, значит она реальна до боли.
– Ты там смотри, поосторожней, – сказал он мне как-то на утреннем сборе.
Я покосилась на его затейливый, словно узор чугунной решетки, профиль, на влажно блестящие карие глаза.
– Я рад за тебя, – продолжал Сэл, не сводя взгляда со сцены, где Хавермайер с Эвой Брюстер и Хилари Лич демонстрировали новое оформление «Голуэй газетт». – Но от них всегда только хуже всем окружающим.
– Цветная передовица и объявления, – говорила Ева.
На шее у Сэла дернулся кадык, выпирающий, словно пружина в старом диване.
– Ты о чем? – спросила я, злясь на эти недомолвки.
Он не ответил, а когда Эвита распустила собрание, умчался прочь стремительно, как стриж.
На свободном уроке великие сплетницы-двойняшки Элиайя и Джорджия Хэтчетт (Найджел и Джейд, знакомые с ними по урокам испанского, прозвали их Тра и Тру, в честь Траляля и Труляля из «Алисы») вовсю комментировали мою дружбу с Аристократами. Они и прежде охотно поливали грязью Джейд и компанию, забрызгивая друг друга и всех, кто окажется поблизости, а теперь они устраивались в заднем ряду, поближе к фонтанчику с питьевой водой и списку рекомендованной литературы, и с упоением обсуждали происходящее хрустким, как картофельные чипсы, шепотком.
Я старалась не обращать внимания, хотя слова «Синь» и «Ш-ш-ш, услышит!» доносились до меня шипением габонской гадюки. Если у меня не было домашнего задания, чтобы отвлечься, я отпрашивалась у мистера Флетчера в туалет, а вернувшись, пробиралась к самому густо уставленному книгами стеллажу номер 900, да еще и переставляла туда самые толстые тома с шестисотого, чтобы просветов не оставалось. (Библиотекарь Хэмбоун! Если вы это читаете, прошу прощенья, что каждую вторую неделю перетаскивала объемистый «Животный мир Африки» Г. Гиббонса [1989] с его родного места в районе полки 650 на свободное место между книгами «Мамочке с любовью» [Кроуфорд, 1978] и «Моя жизнь рядом с Кэри Грантом» [Дрейк, 1989]. Нет, вы не сошли с ума и не страдаете галлюцинациями.)
– А хочешь самую-пресамую конфету? Вишенка на торте, Джуэл после исправления прикуса[188], пресс Мадонны после занятий хатха-йогой! – Тра перевела дух. – Тед Денсон после трансплантации волос на лысину, Дженнифер Лопес до «Джильи»[189], Бен Аффлек до Дженнифер Лопес, но после психиатрического лечения по поводу азартных игр, Мэтт[190] после…[191]
– Ты что, Гомером себя вообразила? – буркнула Тру, оторвавшись от еженедельника о жизни звезд. – По-моему, зря.
– Короче, Елена Тополос.
– Кто-кто?
– Елена Тополос, новенькая с берегов Средиземного моря. Та, которой надо бы эпиляцию провести на верхней губе. Она мне сказала, мол, эта Синюха как шизанутый ученый-аутист. И мало того, она одного нашего парня уже охмурила.
– Кто такой?
– Мистер Мускул. Прямо свихнулся из-за нее. Об этом уже легенды ходят. В футбольной команде его в лицо называют Афродитой, а ему хоть бы что. У них с этой Синь есть общие уроки. Видели, как он рылся в мусоре: она листок бумаги выбросила, а он подобрал, потому что она, мол, этой бумажки касалась.
– Ну знаешь…
– Собирается ее пригласить на Рождественский бал.
– ЧТО?! – взвизгнула Тру.
Мистер Флетчер отвлекся от сборника кроссвордов (Альбо, 2002) и обратил на двойняшек суровый взор. Их это не смутило.
– Бал через три месяца только, – скривилась Тру. – Кто же так рано приглашает? За три месяца люди беременеют, попадаются с наркотой, неудачно стригутся – смотришь и понимаешь, только и было хорошего, что прическа, а на самом деле у них некрасивые уши. Он что, с ума сошел?
Тра кивнула:
– Вот я же тебе и говорю! Его бывшая, Лонни, дико злится. Поклялась, что объявит этой Синь священную войну и к концу года мокрого места от нее не оставит.
– Ничего себе!
Папа любил напоминать фундаментальную истину: «Даже дураки иногда бывают правы». И все-таки я очень удивилась, когда на следующий день, забирая учебники из шкафчика, заметила поблизости мальчика, с которым у нас были общие уроки по углубленной физике. Он прошел мимо, и не один раз, а три, якобы читая на ходу толстенную книгу. На втором проходе я разобрала, что это наш учебник «Основы физики» (Раррей и Чериш, 2004). Я подумала, он ждет Алисон Вон, тихую, но довольно популярную девочку из выпускного, – у нее был шкафчик недалеко от моего. Но нет – когда я захлопнула дверцу шкафчика, оказалось, что этот парень стоит у меня за спиной.
– Привет, – сказал он. – Меня зовут Зак.
– Синь, – еле выдавила я.
Он был высокий, загорелый, с типично американской внешностью: квадратный подбородок, ровные крупные зубы, глаза до нелепости голубые, как вода в джакузи. Я смутно помнила, что он застенчивый и немножко смешной (Криста, моя напарница по лабораторным работам, постоянно хихикала над каким-нибудь его высказыванием). Еще он был капитаном футбольной команды. На лабораторках с ним всегда сидела та самая якобы его бывшая подружка, Лонни, второй капитан команды чирлидерш, платиновая блондинка с искусственным загаром и явной несовместимостью с любого рода техникой. Никакие вольтметры, диффузионные камеры, зажимы и эбонитовые палочки не выдерживали близкого контакта с этой девочкой. По понедельникам, когда мы записывали на доске результаты опытов, миз Гершон сразу стирала удивительные открытия Лонни и Зака, поскольку они вопиюще оскорбляли современную науку, дискредитировали постоянную Планка и порочили закон Бойля – Мариотта, а теорию относительности слегка подправили, заменив формулу E = mc² на E = mc5. Если верить Тра и Тру, Лонни с Заком с шестого класса были вместе и уже несколько лет по субботам занимались каким-то «львиным сексом»[192] в номере для новобрачных в мотеле «Династия» на Пайк-авеню.
Зак был собой хорош, но, как сказал однажды папа, бывают люди, родившиеся не в свое время – не в смысле интеллекта, а просто выражение лица у них больше соответствует, скажем, Викторианской эпохе, чем семидесятым годам прошлого века – «десятилетию эгоистов». Так вот, Зак лет на двадцать опоздал родиться. Типичный паренек из маленького городка, с косой челкой, падающей на глаза. О нем мечтает соседская девчонка, когда своими руками шьет себе платье к выпускному балу. Может, у него припасена втайне от всех бриллиантовая серьга или даже перчатка с блестками, может, он даже исполнит неплохую песню в конце фильма, под синтезатор, только никто об этом не узнает, потому что если родился не в свое время, то до конца фильма просто не доберешься, так и будешь болтаться в середине, растерянный, нерешительный и нереализовавшийся.
– Я надеялся, может, ты меня выручишь, – сказал он, уставившись себе под ноги. – У меня тут серьезная проблема.
Я почему-то испугалась:
– Что такое?
– Есть одна девочка… – Он вздохнул и подцепил большими пальцами петельки на поясе брюк. – Она мне нравится. Угу, очень нравится. – Он смущенно дернул головой, глядя на меня исподлобья. – Я с ней никогда не разговаривал. Вообще ни слова. В принципе, это бы мне не помешало. Я бы подошел, пригласил в пиццерию… или там в кино. А с ней – не могу. Не решаюсь.
Он провел рукой по волосам, а были они до нелепости пушистые – прямо как в рекламе шампуня. В другой руке он так и держал учебник физики, почему-то раскрытый на странице 123, с большим фиолетово-розовым изображением плазменной лампы. Я даже прочитала вверх ногами: «Плазма – четвертое агрегатное состояние вещества».
– Ну, я себе сказал: значит, не судьба, – продолжал Зак, пожимая плечами. – Потому что, если ты с человеком даже говорить не можешь, как же тогда… В общем, надо друг другу доверять, иначе какой смысл? Но дело вот в чем… – Он нахмурился, глядя вдаль, на дверь с надписью «ВЫХОД» в конце коридора. – Как увижу ее, каждый раз такое чувство… такое чувство…
Я думала, он прочно забуксовал, но Зак вдруг просиял улыбкой:
– Потрясающее! Охрененное!
Улыбка едва держалась у него на лице, грозя вот-вот соскользнуть, словно корсаж бального платья.
Пришел мой черед говорить. Слова были уже наготове – благой совет, сочувственная реплика из какой-нибудь дурацкой комедии, – только они застряли в горле, зацепились друг за друга и вдруг рассыпались, как пучок сельдерея в измельчителе для мусора.
– Я… – начала я.
Его мятное дыхание коснулось моего лба. Зак не сводил с меня глаз цвета детского бассейна (синий, зеленый, подозрительные оттенки желтого). Он разглядывал меня, будто нашел старинный шедевр у кого-то на чердаке и старался по мастерской передаче светотени и по направлению мазков кисти определить художника.
– Тошнюсик?!
Я быстро обернулась. К нам, явно веселясь, приближался Найджел.
– К сожалению, ничего не могу посоветовать, так что извини меня, пожалуйста… – выпалила я и, не оглядываясь, проскочила мимо Зака, чуть не зацепив его плечо и учебник физики.
Не обернулась, даже когда мы с Найджелом уже миновали доску объявлений немецкого класса, добрались до двери с надписью «ВЫХОД» и начали спускаться по лестнице. Зак, наверное, так и смотрел мне вслед с раскрытым ртом, словно диктор новостей, которому вовремя не дали подсказку с текстом.
– Что от тебя Чиппендейлу было надо? – спросил Найджел.
– Кто его знает… Я не в состоянии уследить за его логикой.
– Какая ты бессердечная! – Найджел рассмеялся коротким прыгающим смехом и взял меня под руку, словно мы Дороти и Трусливый Лев.
Всего пару месяцев назад я бы с ума сошла от радости, что такое сокровище подвалило ко мне, да еще и выдало длинную речь про некую загадочную девочку. («В истории человечества все в конечном итоге сводится к некой девочке», – сказал папа со вздохом, когда мы смотрели «Темного принца» – собравший массу престижных премий документальный фильм о детстве и юности Гитлера.) Бывали у меня раньше минуты затаенных желаний, когда я смотрела, как такие вот красавцы гарцевали по пустынным коридорам или по школьному стадиону. Например, Хоуи Истон из клирвудской средней школы, с ямочкой на подбородке и щелью между передними зубами – благодаря этой щели он стал мастером художественного свиста; мог просвистеть вагнеровское «Кольцо Нибелунгов» (1848–1874) от начала и до конца, если бы захотел (только он не хотел). Я мечтала когда-нибудь, хоть разок, умчаться с этими мустангами в прерии – чтобы я бегала вместе с ними в диком табуне, я, а не Кейти Джонс с гавайскими глазами и не Присцилла Пастор Оуэнсби с ногами бесконечными, как автострада.
Но сейчас все было по-другому! Сейчас у меня были медные волосы и липкие губы с ароматом мирта, и как сказала Джейд за воскресным обедом у Ханны:
– Заки Содерберги этого мира, конечно, очень милы, только скучные они, как диетические крекеры. Кто-то, может, надеется, что, если их поскрести, внутри окажется Люк Уилсон. Да пусть хотя бы Джонни Депп, который вечно является на вручение престижных наград в нелепых костюмах. Но ты уж мне поверь, там всего-навсего пресный крекер.
– О ком это вы? – спросила Ханна.
– Да так, один мальчик из нашей группы по физике, – ответила я.
– Вообще-то, девчонки за ним бегают, – заметила Лу.
– Лохматый как не знаю что, – прибавил Найджел. – По-моему, у него волосы искусственно нарощены.
– В общем, зря он на Рвотинку нацелился, – заявила Джейд. – Она у нас уже страдает по кое-кому.
Джейд злорадно посмотрела на Мильтона, но он, к счастью, увлекся запеченной курицей с приправой из семечек подсолнуха и бататов, и ничего не заметил.
– Значит, Синь стала сердцеедкой? – Ханна мне подмигнула. – Давно пора!
Все-таки не могла я ее понять.
И чувствовала себя виноватой – остальные-то доверяли Ханне просто и бесхитростно: так старая лошадь доверяется всаднику, так ребенок держится за руку взрослого, переходя через улицу.
А я после неудачной попытки свести Ханну с папой временами как будто выпадала из застольной беседы и озиралась, чувствуя себя посторонней, – словно я подглядываю снаружи, прижавшись носом к оконному стеклу. Я не понимала, почему все-таки Ханна так интересуется моей жизнью, моим счастьем, моей прической («Восхитительно!» – говорила она; «Выглядишь как обедневшая модница начала прошлого века», – говорил папа). Да почему, собственно, и все-то наши ей интересны? Где ее взрослые друзья и почему она не вышла замуж, не обзавелась, как выражался папа, «всякой домашней требухой» (семейный автомобиль, дети и т. п.) согласно «сюжету комического сериала, которому люди усердно следуют, надеясь обрести смысл в своей расписанной по сценарию жизни»?
У нее дома не было ни единой фотографии. В школе я ни разу не видела, чтобы Ханна разговаривала с другими учителями, только с Евой Брюстер, и то всего однажды. Я Ханну обожала – особенно в те минуты, когда она позволяла себе дурачиться, танцевать босиком под любимую песню, с бокалом в руке, и собаки смотрели на нее влюбленными глазами, как публика смотрит на Дженис Джоплин во время исполнения «Бобби Макги» («Я когда-то пела в группе, – обмолвилась однажды Ханна, застенчиво покусывая губы. – Красила волосы в рыжий цвет»). И все же как не вспомнить книгу выдающегося нейрофизиолога и криминолога Дональда Макмейтера «Социальное поведение и грозовые тучи» (1998)?
«Пристальный интерес взрослого индивида к людям значительно младшего возраста свидетельствует о недостатке искренности, а возможно, и о не вполне здравом рассудке, – пишет он в главе 22, „Обаяние детства“, стр. 424. – Подобная склонность зачастую скрывает мрачные тайны».
Глава 10. «Загадочное происшествие в Стайлзе», Агата Кристи
Недели через три-четыре моей дружбы с Аристократами Джейд по всем правилам военной науки повела наступление на мою доселе несуществующую сексуальную жизнь – хотя не сказать, чтобы я воспринимала ее наполеоновские планы всерьез. Я знала, что, когда дойдет до дела, скорее всего, сбегу, как слоны Ганнибала в битве при Заме, 202 г. до н. э. (когда мне было двенадцать лет, папа молча вручил мне стопку книг для прочтения и обдумывания, в том числе: «Культура стыда и теневой мир» С. Аллена [1993], «Где-то между пуританами и Бразилией. Основы здоровой сексуальности» [Миер, 1990] и леденящее душу исследование Пола Д. Рассела «То, чего вы не знали о сексуальном рабстве» [1996]).
– Рвотинка, ты ведь ни с кем еще не спала? – обвиняющим тоном киношного психолога спросила как-то вечером Джейд, стряхивая сигаретный пепел в треснувшую синюю вазу и щуря глаза, словно добивалась от меня признания в каком-то ужасном злодействе.
Вопрос повис в воздухе, как государственный флаг в безветренную погоду. Аристократы, даже Найджел и Лу, явно воспринимали секс как череду живописных маленьких городков, которые надлежит бегло осмотреть на пути к Основной цели (а что это за цель, они, по-моему, и сами не знали). В моем воображении тут же возник Андрео Вердуга (без рубашки, подстригающий кусты). Не сочинить ли бурную сцену страсти в кабине его пикапа (или на только что вскопанном газоне, или на клумбе с тюльпанами, где мои волосы якобы зацепились за газонокосилку)? Все-таки я решила не рисковать. «Девственницы демонстрируют свою поразительную неосведомленность с апломбом бродячих торговцев Библиями», – писал английский комик Бринкли Старнс в своей книге «Роман Арлекина» (1989).
Поэтому я промолчала, а Джейд понимающе кивнула и заметила со вздохом:
– Надо с этим что-то делать…
После моего печального признания каждую пятницу я получала у папы разрешение пойти в гости к Джейд с ночевкой («А эта Джейд – она тоже джойсоманка?») и мы с Джейд и Лулой, разрядившись в пух и прах, ехали целый час в придорожную забегаловку в Редвилле – штат Южная Каролина, сразу как пересечешь границу.
Бар назывался «Салун „Слепая лошадь“» (а точнее, «…лун…пая…оша…», как сообщала неоновая вывеска умирающими розовыми буквами). Джейд уверяла, что их компания уже «сто лет» посещает это мрачное заведение, с виду похожее на подгорелый кекс: черный кирпич без окон брошен посреди пустого куска земли, вымощенного засохшим печеньем. У входа мы предъявляли откровенно поддельные удостоверения личности (я была кареглазая Роксана Кей Лумис, двадцати двух лет, пяти футов семи дюймов ростом, Дева по знаку зодиака и донор органов; училась я в Клемсонском университете и писала диплом по химическим технологиям; «Всегда говори, что занимаешься какими-нибудь технологиями, – наставляла меня Джейд. – Звучит красиво и непонятно, а подробней расспрашивать постесняются»). Здоровенный черный мужик на фейсконтроле смотрел на нас, будто мы – участники шоу «Дисней на льду», забывшие переодеться после выступления. Внутри гремела кантри-музыка и толпились дядечки средних лет в клетчатых рубашках, намертво вцепившись в стаканы с пивом, словно в спасательные поручни. Почти все таращились в экраны четырех телевизоров, подвешенных на потолке, – там показывали бейсбол или местные новости. Женщины, стоя тесными группами, за разговором то и дело взбивали себе волосы, будто поправляли привядший букет. На нас они глядели косо – особенно на Джейд (см. «Рычащие енотовидные собаки» в кн. «Жизнь в Аппалачах», Гестер, 1974, стр. 32).
– Сейчас найдем для Синь красавчика по вкусу, – сказала Джейд, обводя взглядом комнату: музыкальный автомат, бармена, разливающего напитки с яростным рвением новобранца, только что прибывшего в Сайгон, и деревянные скамьи у дальней стены, где сидели девицы с такими блестящими от жары лбами, что на них можно было жарить яичницу.
– Что-то не вижу ни одного красавца, – ответила я.
– Может, лучше тебе не спешить, пока не встретишь настоящую любовь? – откликнулась Лула. – Или дожидайся Мильтона!
У них с Джейд была такая шуточка – будто бы я «сохну по Блэку», мое любимое сочетание цветов – «черно-синее»[193] и так далее. Я упорно все отрицала (хотя на самом деле они были правы).
– Слышала выражение: «Не сри там, где ешь?» – спросила Джейд. – Что ж вы такие маловеры-то! Гляньте, какой симпатяга у стойки, с краю, разговаривает с тем малярийным комаром. На нем очки в черепаховой оправе. Соображаешь, что это значит?
– Не-а, – ответила я.
– Прекрати одергивать платье, тебе не пять лет! Это значит, что он интеллектуал. Всегда выбирай того, кто в черепаховых очках, не промахнешься. Он прямо как специально для тебя. Умираю – пить хочу!
Я сказала:
– Я тоже.
– Давайте принесу, – предложила Лула. – Вы что будете?
– Мы не для того сюда притащились, чтобы самим себе покупать, – отрезала Джейд. – Синь, мои сигареты!
Я вынула сигареты из сумочки и протянула ей.
Пачка «Мальборо Лайт» служила для Джейд орудием (boleadoras)[194], чтобы заманивать в ловушку ничего не подозревающих мужчин (cimarrón)[195]. (В школе ей лучше всего давался испанский; собственно, это был единственный предмет, который ей давался.) Пройдясь по бару (estancias)[196], Джейд выбирала симпатичного быковатого мужичка, стоящего в сторонке от других (vaca perdida, то есть отбившуюся от стада корову). Подходила к нему – медленно, не делая резких движений – и легонько хлопала по плечу.
– Hombre[197], закурить не найдется?
Дальше возможны два варианта развития событий:
1) дядечка бросается выполнять просьбу;
2) если при себе у него нет, он начинает судорожно искать у знакомых.
– Стив, огоньку не найдется? Арни, а у тебя? Хеншо? Зажигалки нет? Можно спички! Макмонди, у тебя? Сиг… У Марси есть, не знаешь? Пойди спроси… А, ясно. А у Джеффа нет? Нет… Пойду у бармена спрошу!
К тому времени, как несчастный cimarrón возвращался с добычей, Джейд уже начинала подыскивать себе другую скотинку. Он переминался у нее за спиной минуту-другую, иногда пять или даже десять, молча кусая губы и вытаращив глаза. Изредка осмеливался вякнуть ей в спину:
– Прошу прощенья?
Наконец она соизволяла его заметить:
– М-м? А, грасиас, chiquito[198].
Если чувствовала себя особенно уверенно, задавала один из двух вопросов:
– Кем ты себя видишь лет через двадцать, cabron[199]?
Или:
– Какую позицию предпочитаешь?
Как правило, дядька терялся, но даже если на второй вопрос отвечал с готовностью: «Заместитель главного менеджера по продажам и маркетингу в корпорации „Аксель“, я там работаю, меня через пару месяцев повысят в должности», – Джейд немедленно его добивала и сейчас же поджаривала на открытом огне (asado)[200].
– К сожалению, нам больше не о чем говорить. Отвали, muchacho[201].
Дядька обычно не реагировал – только смотрел на нее красными воспаленными глазами.
– Vamos![202] – командовала Джейд.
Мы с Лулой мчались за ней, кусая губы, чтобы не хохотать в голос, проталкивались через всю команту (pampas)[203], переполненную локтями, плечами, косматыми патлами, пивными стаканами, и спасались за дверью с большой буквой «Ж». Джейд расталкивала очередь из muchachas[204], уверяя, будто бы я беременна и меня сейчас стошнит.
– Вранье!
– Если она беременная, почему такая тощая?
– И почему она пьет? Беременным спиртное нельзя!
– Не напрягайте мозги, putas[205], а то еще надорветесь, – огрызалась Джейд.
Мы по очереди заскакивали в кабинку для инвалидов – отсмеяться и пописать.
Если огонек для сигареты Джейд появлялся быстро и четко, завязывался настоящий разговор – обычно очень громкий. По большей части Джейд выпаливала вопросы, а собеседник мычал:
– Э-э? – снова и снова, как в пьесе Беккета.
Иногда у дядечки обнаруживался приятель, вперявший тяжелый взор в Лулу, а один, явный дальтоник, лохматый как бобтейл, уставился на меня. Джейд азартно закивала и дернула себя за мочку уха (условный знак: «То, что надо!»), но когда этот тип, наклонив косматую голову, поинтересовался, как мне нравится это заведение, я почему-то растерялась и не знала, что сказать. («„Очень мило“ – тупо. Рвотинка, ни в коем случае не говори „Очень мило“. И еще – папа у тебя, конечно, классный, но если ты опять о нем заговоришь, я тебе язык отрежу»). После чересчур длинной паузы я сказала: «Не очень».
Если честно, я слегка струсила, когда он так уверенно наклонился надо мной, со своим пивным дыханием и торчащим из-под копны волос подбородком в форме сахарной головы, и все старался заглянуть за шиворот, как будто ему не терпелось поднять мне капот и проверить карбюратор. Ответа «Не очень» он, похоже, не ожидал и, натужно улыбнувшись, переключился на карбюратор Лулы.
Бывали еще случаи, когда я оглядывалась в ту сторону, где Джейд – неподалеку от двери – минуту назад осматривала очередного призового бычка, решая, не купить ли его, чтобы улучшить свое стадо… А ее там не оказывалось. Нигде ее не было – ни возле музыкального автомата, ни в том углу, где какая-то девушка показывала подруге золотую цепочку с кулоном: «Это он мне подарил. Правда, прелесть?» (кулончик был похож на золотой обрезок ногтя), ни в душном коридоре, где стояли диванчики и игральные автоматы, ни около барной стойки, где сидел одинокий посетитель, оцепенев перед телевизором, на экране которого ползли титры новостей («Трагедия в округе Бернс – трое убитых в ходе ограбления. Прямой репортаж с места событий ведет Черри Джеффрис»). Когда это случилось впервые, я перепугалась до полусмерти (слишком рано прочла книгу Эйлин Краун «Была и нету» [1982] и с тех пор под впечатлением). Я бросилась к Луле (а она, между прочим, хотя с виду такая старомодно-романтичная, тоже тот еще чертенок, если улыбнется да обернет косу вокруг ладони и заговорит детским голоском, так что мужики оборачиваются, словно пляжные зонтики вслед за солнцем).
Я спросила:
– Где Джейд? Что-то я ее не вижу.
– Здесь где-нибудь, – небрежно ответила Лула, не прекращая разговора с парнем по имени Люк, в белой футболке в облипку и с мощными руками, похожими на чугунные трубы. Употребляя односложные и двусложные слова, он рассказывал ей увлекательную историю о том, как его вышибли из Военной академии Вест-Пойнт за дедовщину.
– А я ее не вижу, – тревожно озираясь, повторила я.
– Она в туалет пошла.
– У нее все в порядке?
– Конечно.
Взгляд Лулы буквально приклеился к лицу Люка, словно он Диккенс или Сэмюэль Клеменс какой-нибудь.
Я протолкалась в женский туалет:
– Джейд?
Там было парно и мутно, как в давно не чищенном аквариуме. Перед зеркалом толпились девчонки в тесных штанах и облегающих топиках, красили губы и расчесывали длинными ногтями волосы, жесткие, как соломинки для лимонада. По полу змеились полосы размотавшейся туалетной бумаги. Ревела сушилка для рук, хотя никто ею не пользовался.
– Джейд? Джейд, ау!
Присев на корточки, я разглядела в кабинке для инвалидов зеленые блестящие босоножки.
– Джейд! У тебя все хорошо?
– Да что за нахер? Что тебе?
Джейд вышла из кабинки, хряснув дверью об стену.
Позади нее виднелся какой-то дядька лет сорока пяти. Он втиснулся между унитазом и держателем для туалетной бумаги. Густая каштановая борода рассекала его лицо на странные геометрические фигуры вроде тех, что первоклассники на уроках труда вырезают из бумаги и наклеивают на оконные стекла. Рукава джинсовой курточки были ему коротки, а судя по выражению лица, он с готовностью откликался на команды вроде «К ноге!» и «Фас!». Расстегнутый пояс брюк свисал, словно гремучая змея.
– Ой, – промямлила я. – Я, это…
– Помирать собралась?
Лицо Джейд, зеленовато-бледное при тусклом освещении, влажно блестело, как тюлень. Золотистые прядки липли к вискам вопросительными и восклицательными знаками.
– Да нет…
– Вот и не хрен меня дергать! Я что, мама тебе?
Джейд повернулась на каблуках, захлопнула за собой дверцу и защелкнула задвижку.
– Вот стервоза, – прокомментировала какая-то латиноамериканка.
Она подводила глаза у раковины. Верхняя губа у нее была натянута на зубах, как целлофановый пакет, набитый объедками.
– Подруга твоя?
Я обалдело кивнула.
– Гони ты ее в шею.
Случалось, к моему ужасу, Лула тоже исчезала в женском туалете минут на пятнадцать-двадцать (Беатриче сильно изменилась за семь столетий, да и Аннабель Ли тоже). Потом обе, и Лула и Джейд, появлялись с сытым, самодовольным выражением на лицах, как будто бы там, в кабинке для инвалидов, они вычислили число «пи» до последнего десятичного знака[206], поймали убийцу Кеннеди и нашли промежуточное звено между обезьяной и человеком (вот это как раз вполне вероятно, судя по облику типов, с которыми они уединялись).
– Надо бы Синь тоже попробовать, – заметила как-то Лу, когда мы уже возвращались домой.
– Не, ты что, – возразила Джейд. – Тут навык нужен.
Мне, конечно, очень хотелось спросить – они, вообще, соображают, что делают? – но как я догадывалась, вряд ли девчонок интересовало то, о чем пишет в своей книге «Убейте меня» (1999) Робард Неверович – русский, работавший волонтером в Америке более чем в 234 приютах для беглецов, или его же отчет о поездке в Таиланд по ходу расследования, связанного с детской порноиндустрией: «Хочу все и сразу» (2003). Очевидно, Джейд и Лула были вполне довольны жизнью, и нисколько их не волновало мнение подруги, которая «стоит немая и глухая, когда парень предлагает купить ей „Ураган“»[207] и вообще «не знала бы, что делать с парнем, даже если ей дать справочник с картинками и обучающий интерактивный компакт-диск». Я до смерти пугалась, когда они обе исчезали из виду, но после, когда мы уже ехали домой и девчонки заходились от хохота над каким-нибудь уродом, которого они вдвоем затащили в женский туалет, и потом он вывалился из кабинки для инвалидов совершенно безумный и гнался за ними с криками «Кэмми! Эшли!» (имена из фальшивых удостоверений), и на выходе его перехватили охранники и шмякнули о землю, словно куль с картошкой; когда Джейд гнала по шоссе, ловко маневрируя между машинами, а Лула вдруг ни с того ни с сего издавала протяжный вопль, запрокинув голову, так что волосы свешивались через подголовник, и протягивала руки вверх, в отверстие крыши, словно срывая с неба крошечные звездочки, как прилипшие к юбке пушинки, – что-то в этих девчонках было удивительное. Какая-то отвага. По-моему, никто еще об этом всерьез не написал.
Я, наверное, тоже не сумею, я же «зануда полнейшая». Просто они жили в совсем другом мире – веселом, отчаянном, где нет ни ответственности, ни противных неоновых вывесок, ни липких столиков. И они правили в этом мире.
Один вечер вышел не похожим на другие.
– Так, Рвотинка! – сказала Джейд. – Сегодня вся твоя жизнь изменится.
Была первая пятница ноября. Джейд с особым тщанием выбрала мой наряд: зловредные золотые босоножки на два размера больше чем нужно, на четырехдюймовом каблуке[208] и платье из золотого ламе, переливающееся на мне сплошными складками, как шкура у шарпея (см. «Обычай бинтовать женщинам ноги» в кн. «История Китая», Мин, 1961, стр. 214; «Дарсель» в кн. «Вспоминая „Чистое золото“»[209], Ла Витте, 1989, стр. 29).
Кто-то в «Слепой лошади» – редкий случай! – захотел со мной познакомиться. Парень лет тридцати по имени Ларри, тяжеловесный, как пивной бочонок. Если его и можно назвать привлекательным, то разве что как неоконченную скульптуру работы Микеланджело. Несколько великолепных деталей – тонко очерченный нос, полные губы, крупные, превосходной лепки руки, а все остальное – плечи, торс, ноги – еще не высвободилось из глыбы мрамора, и вряд ли это произойдет в ближайшем будущем. Он купил мне пива «Амстел Лайт» и, встав ко мне вплотную, долго рассказывал, как бросил курить. Ничего труднее ему в своей жизни делать не приходилось.
– Никотиновый пластырь – грандиозное изобретение! Эту технологию шире применять бы. Я, например, не прочь и есть, и пить через пластырь. Если очень занят, вместо чтобы бежать в фастфуд – пластырь налепил, и готово дело. Полчаса прошло – ты сыт. Можно и вместо секса пластырь. Сколько времени и сил сэкономишь! Тебя как зовут?
– Роксана Кей Лумис.
– Чем занимаешься, Рокси?
– Учусь в Клемсонском университете. Пишу диплом по химическим технологиям. Живу в Дукерсе, штат Северная Каролина. Еще я донор органов.
Ларри кивнул и сделал большой глоток пива, придвинувшись еще ближе, так что моя нога прижалась к его массивному бедру. Я попятилась и тут же налетела спиной на девушку с торчащими во все стороны белокурыми волосами.
– Звиняйте, – сказала она.
Я попробовала отстраниться, но с другого боку громоздился истукан Ларри. Я почувствовала себя леденцом, застрявшим в горле.
– Кем вы себя видите, допустим, лет через двадцать? – спросила я.
Ларри не ответил. Он, кажется, разучился говорить по-английски и вообще стремительно терял высоту. Это мне напомнило, как мы однажды с папой в Лутоне, штат Техас, поставили наш «вольво» почти у самой посадочной полосы и целый час просидели на капоте – ели сэндвичи с сыром и перцем пименто и смотрели, как приземляются самолеты: все равно что наблюдать со дна океана, как над тобой проплывает тридцатиметровый синий кит. В отличие от аэробусов, частных реактивных самолетов и «Боингов-747» Ларри в конце концов сорвался в штопор. Его губы стукнулись о мои зубы, а язык юркнул мне в рот, словно головастик, удирающий из банки. При этом Ларри ухватил меня за правую грудь, стиснув ее так, будто выжимал лимон над рыбным блюдом.
– Синь?
Я кое-как вырвалась. Рядом стояли Лула и Джейд.
– Пошли отсюда, – сказала Джейд.
Ларри вяло проорал мне вслед: «Рокси, постой!» – но я не обернулась.
Девчонок я догнала у машины.
– Куда едем?
– Повидать Ханну, – коротко ответила Джейд. – Кстати, Рвотинка, объясни, что у тебя за вкусы такие странные? Он же урод уродом.
Лу опасливо косилась на Джейд. Вырез ее зеленого платья обвис, как будто зевая.
– Может, лучше не надо?
Джейд скривилась:
– А что?
– Вдруг она нас увидит? – сказала Лу.
Джейд рывком затянула ремень безопасности.
– Возьмем другую машину. Бойфренда Джефферсон. Его гадостная «тойота» как раз стоит у нашего дома.
– В чем дело-то? – спросила я.
Джейд, не отвечая, всунула ключ в замок зажигания и завела мотор. Потом глянула на Лу:
– Чарльз тоже, небось, там будет. В камуфляже и очках ночного видения.
Лу помотала головой:
– У них с Блэком двойное свидание с какими-то девчонками на два класса младше.
Джейд (со злорадно-сочувственным выражением) обернулась проверить, слышала ли я. Потом прибавила скорость и, выехав на шоссе, повернула к Стоктону. Вечер был холодный, по небу тянулись узкие грязноватые облака. Я натянула золотую юбку на колени, разглядывая проезжающие машины и профиль Лу, похожий на фигурную скобку. Свет фар подчеркивал ее скулы. Джейд и Лу молчали – это было такое усталое взрослое молчание, словно супружеская пара возвращается домой из гостей и им неохота обсуждать, как чей-то муж перебрал и как им втайне хотелось бы ехать сейчас домой не друг с другом, а с кем-нибудь новым, кого они еще не изучили до последней родинки.
Сорок минут спустя Джейд забежала к себе домой за ключами – «я только на секундочку», – а когда опять вышла, все еще в своих шатких красных босоножках и платье жар-птицы (оно выглядело так, словно Джейд порылась в мусоре после дня рожденья какой-нибудь богатенькой девочки, набрала обрывков самых ярких подарочных оберток и приклеила их к себе скотчем), в руках у нее были упаковка пива «Хайнекен», два большущих пакета картофельных чипсов и пакет с лакричными полосками. Одна лакричина свисала у Джейд изо рта, а на плече болтался здоровенный бинокль.
– Мы к Ханне едем? – спросила я, все еще ничего не понимая.
Джейд опять не ответила, молча забросила продукты на заднее сиденье припаркованной у гаража белой «тойоты». Лула смотрела со злостью (ее плотно сжатый рот напоминал матерчатый кошелек), но, ни слова не сказав, залезла на переднее сиденье «тойоты» и захлопнула дверцу.
– Блин… – Джейд глянула на часы. – Не успеваем!
Через несколько минут мы снова мчались по шоссе, на этот раз в «тойоте» и по направлению на север – в противоположную от дома Ханны сторону. Спрашивать, куда мы едем, было бесполезно – девчонки снова впали в транс. Из такого глубокого молчания уже и не выберешься, слишком тяжело и утомительно. Лула смотрела на дорогу – мелькающие белые линии, проплывающие мимо красные блестки машин. Джейд держалась почти как обычно, только без конца крутила настройку радио, жуя длинную нитку лакрицы (она их ела без перерыва – так прикуривают одну сигарету от другой; три раза потребовала: «Дай еще лакрицы», пока я не пристроила весь пакет поближе к ней, около ручника).
Через полчаса мы свернули на съезд номер 42 – надпись «Коттонвуд» на указателе – и по безлюдной двухполосной дороге приехали к стоянке для грузовиков. Слева виднелась заправочная станция, а на голом пригорке за длинным рядом автофургонов, брошенных на асфальте, словно дохлые киты, стоял мрачного вида ресторанчик. Желтая надпись над входом гласила: «У Стаки». Джейд лавировала между грузовиками.
– Видишь ее машину?
Лула покачала головой:
– Полтретьего уже. Может, она не приедет?
– Приедет.
Мы объехали почти всю стоянку, и вдруг Лула постучала ногтем в стекло:
– Вон там!
Между автофургоном и белым пикапом втиснулась красная «субару» Ханны.
Джейд, развернувшись, задним ходом припарковала машину в соседнем ряду, между усыпанным сосновой хвоей откосом и дорогой. Лула, отстегнув ремень безопасности, скрестила руки на груди, а Джейд как ни в чем не бывало сунула в рот очередной черный ботиночный шнурок, прикусив один его конец, а другим обмотав пальцы, как делают боксеры, перед тем как надеть боксерские перчатки. От «субару» нас отделяли два ряда машин. По ту сторону парковки сгорбился на горке ресторан, слепой (с задней стороны три окна заколочены) и быстро лысеющий (черепица в нескольких местах обвалилась). За тусклыми окнами изредка мелькали усталые пятна света. С потолка свисали зеленые лампы, словно заплесневелые насадки для душа. И не заходя внутрь, можно догадаться, что меню здесь липнет к рукам, столики усыпаны хлебными крошками, официантки хамят, а посетители все сплошь мордовороты. Солонку нужно полчаса трясти, чтобы добыть хоть крупинку соли, а внутри солонки виднеются рисовые зернышки, похожие на личинки. («Если даже соль не могут нормально подать, с чего они взяли, что способны приготовить курицу по-охотничьи?» – говорил в подобных заведениях папа, держа меню подальше от лица – а то вдруг оживет и вцепится.)
Я кашлянула, намекая, что пора бы уже объяснить, что мы делаем у этой жуткой забегаловки (мы с папой такие места объезжали десятой дорогой; могли сделать крюк миль в двадцать, лишь бы «не преломлять хлеб вместе с людьми, похожими издали на груду старых автопокрышек»). Девчонки по-прежнему молчали (теперь и Лу вовсю жевала лакрицу, словно коза на пастбище). И тут до меня дошло – они попросту не могут оформить происходящее в слова. Сказанное вслух, оно станет реальностью, и тогда на них ляжет какая-то вина.
Минут десять слышно было только, как со свистом проносятся машины по шоссе да изредка хлопает дверца – очередной дальнобойщик вылезает из кабины, заходит, голодный, в ресторан и выходит с набитым брюхом. За темными деревьями виднелся мост, а по мосту текла в ночи бесконечная река красно-белых огней.
– Кто сегодня будет? – спросила Джейд, поднося к глазам бинокль.
Лу дернула плечом, пережевывая лакричную жвачку:
– Не знаю.
– Жирный или тощий?
– Тощий.
– А я думаю, на этот раз будет свин.
– Она не любит свинину.
– Любит. Это для нее вроде как семга – по особым случаям. Ой… – Джейд подалась вперед.
Бинокль стукнулся о ветровое стекло.
– Ох ты ж… Твою ж мать…
– Что такое? Малолетка?
Губы Джейд шевельнулись, но звука не было. Потом она тяжело вздохнула:
– Смотрела «Завтрак у Тиффани»?
– Нет, куда мне, – иронически отозвалась Лу и тоже наклонилась вперед, упираясь ладонями в приборную доску.
Девчонки рассматривали парочку, которая только что вышла из ресторана.
– Помнишь, там такой кошмарный Док? – Джейд, не отрываясь от бинокля, сунула руку в пакет с чипасами и затолкала за щеку целую горсть. – Вот это он и есть. Только совсем дряхлый. В принципе, наверное, можно бы сказать: по крайней мере, не Расти Тролер, – но как-то я уже и не знаю… – Выпрямившись, она мрачно протянула Луле бинокль. – У Расти хоть зубы есть.
Лу глянула и, скривившись от отвращения, передала бинокль мне. Я припала к окулярам: по дорожке от ресторана шла Ханна Шнайдер с каким-то мужчиной.
– Всегда ненавидела этого Дока, – прошептала Лу.
Я никогда еще не видела Ханну такой накрашенной («размалеванной», говорили в «Академии Ковентри»). На ней была черная шубка – наверное, кроличья, судя по общему подростковому облику (на застежке от молнии болтался помпон). В ушах золотые серьги кольцами, на губах угольным штрихом темная помада, волосы собраны в высокую прическу, а из-под облегающих, как вакуумная упаковка, джинсов выглядывают острые белые каблуки. Я перевела бинокль на ее спутника и невольно поежилась: он рядом с Ханной выглядел засохшим стручком. Явно за шестьдесят, если не под семьдесят, лицо исчертили морщины, сам ниже Ханны ростом и тощий, как придорожный столб. На костях ни грамма мяса, одежда болтается – будто на раму от картины набросили одеяло. Единственная привлекательная черта – все еще густые волосы. Они впитывали в себя все оттенки освещения: в луче прожектора переливались ядовито-зеленым, а в тени – серо-стальным цветом велосипедных спиц. Ханна шла быстрым шагом, ища ключи от машины в нелепой розовой пушистой сумочке, а старик поспешал за ней, выбрасывая костлявые ноги в стороны, будто раскладная сушилка для одежды.
– Рвотинка, может, нам тоже дашь посмотреть?
Я отдала Джейд бинокль. Джейд, кусая губы, поднесла его к глазам и буркнула:
– Надеюсь, он прихватил с собой виагру.
Парочка стала усаживаться в машину Ханны. Лу скорчилась на сиденье.
– Да ну тебя, дуреха, она нас не видит, – проворчала Джейд, хотя и сама замерла, наблюдая, как «субару» выезжает со стоянки, и, только когда те скрылись из виду, завела мотор.
– А куда они едут? – спросила я, не очень-то и желая узнать ответ.
– В дешевый мотель, – ответила Джейд. – Будут трахаться с полчаса, может, минут сорок, сорок пять, потом она его вышвырнет. Каждый раз удивляюсь, как еще голову ему не откусит, вроде самки богомола.
Мы следовали за «субару» мили три-четыре, сохраняя приличную дистанцию. Дальше начался какой-то городок – надо полагать, Коттонвуд. Мы с папой таких, наверное, сотню повидали – чахлых, выживающих исключительно за счет автозаправок, мотелей и «Макдональдсов». К обочинам шоссе присохли болячки парковок.
Минут через пятнадцать Ханна включила сигнал поворота и свернула влево, к мотелю под названием «Кантри-Стайл Мотор Лодж». Приплюснутое белое полукруглое здание посреди безлюдной равнины – словно кто-то обронил вставную челюсть. У дороги торчали чахлые клены, а еще несколько выстроились у административного здания, будто очередь будущих постояльцев. Мы быстренько свернули вправо и остановились возле серой легковушки, а Ханна, поставив машину у входа, скрылась в конторе. Минуты через две-три она вышла снова, и тут склизкий свет фонаря плеснул ей в лицо. Я вдруг испугалась, хотя видела ее всего пару секунд, да и то издали. У Ханны лицо было как выключенный телевизор. Не мыльная опера, не детектив, даже не какой-нибудь старый вестерн – просто пустой экран. Ханна села в машину, вновь завела мотор и медленно проехала мимо нас.
– Ой, черт! – пискнула Лу, сползая пониже на сиденье.
– Прекрати! – поморщилась Джейд. – Наемного убийцы из тебя явно не выйдет.
«Субару» остановилась у одного из крайних домиков. Док вылез, руки в карманах, за ним Ханна – ее лицо перерезало подобие улыбки. Ханна отперла дверь, и парочка исчезла в домике.
– Номер двадцать два, – сообщила Джейд, не отрываясь от бинокля.
Наверное, Ханна первым делом задернула занавески – когда в домике включился свет, между полотнищами цвета оранжевого чеддера не оставалось даже крохотной щелочки.
– Она с ним хоть знакома? – спросила я со слабой надеждой.
– Не-а. – Джейд повернулась ко мне. – Чарльз с Мильтоном в прошлом году ее засекли. Как-то ночью поехали кататься, решили к ней заглянуть, смотрят – ее машина едет навстречу. Они стали следить – и вот, нашли это заведение. Она приезжает в ресторанчик «Стаки» ровно без четверти два. Заказывает еду и выбирает какого-нибудь типа. Первая пятница каждого месяца. В этом она пунктуальна.
– В смысле?
– Ну, ты же знаешь, она, вообще-то, довольно неорганизованная. А тут – как по расписанию.
– И она не знает… что вы знаете?
– Да ты что! – Джейд так и впилась в меня взглядом. – Не вздумай ей рассказать!
– Не скажу.
Я покосилась на Лу, но та, кажется, не слушала – сидела, оцепенев, будто пристегнутая к электрическому стулу.
– А дальше что? – спросила я.
– Приезжает такси. Мужик выскакивает полуголый – иногда без носков или рубашку держит комом в руках. И уматывает на такси. Наверное, возвращается к «Стаки», там залезает в свой автофургон – и ау. Ханна уезжает под утро.
– Откуда ты знаешь?
– Чарльз обычно сидит до упора.
Больше спрашивать было вроде и не о чем, так что мы замолчали. Так же молча Джейд подогнала машину поближе к домику. Теперь и без бинокля можно было рассмотреть номер 22, узор из листьев на занавесках и вмятину на машине Ханны. Постепенно на меня навалилось какое-то странное ощущение. Мы тут были как на войне – походный лагерь где-то на чужбине, сидишь и боишься неведомых врагов. Лулу, видно, контузило – спина прямая как палка, взгляд прилип к двери домика. Джейд – наш командир: придирчивая, усталая и прекрасно понимает, что никакие ее слова не смогут нас утешить, поэтому и не говорит ничего, откинулась на спинку сиденья и набивает рот чипсами. Я и себе нашла роль во Вьетнаме. Я – трусливый солдат, который тоскует по дому и в конце концов совсем не героически умирает, нечаянно поранив сам себя; кровь хлещет струей, словно сок из давленого винограда. Я бы левую руку отдала, лишь бы оказаться подальше оттуда. Лучше всего – под боком у папы. Чтобы сидеть в пижамке с облачками и помогать ему с проверкой студенческих работ, даже самых ужасных, когда лентяи пишут громадными буквами в надежде дотянуть до нужного объема, соответствующего папиным требованиям: от двадцати до двадцати пяти страниц.
Я вспомнила, что мне папа сказал однажды. Мне было семь лет, мы с ним пошли в парк аттракционов в городе Чоук, штат Индиана, и забрели в Дом ужасов. Я так испугалась, что, как только села в вагонетку, закрыла глаза ладошками и не открывала, пока поездка не кончилась. Так и не увидела ни одного ужаса – даже в щелку между пальцами не подглядывала. Папа не стал ругать меня за трусость – наоборот, посмотрел внимательно сверху вниз и серьезно кивнул, словно я только что сделала важное открытие в области реорганизации всей системы социального обеспечения.
– Да, – сказал папа. – Иногда требуется большое мужество, чтобы не смотреть. Порой лишнее знание только вредит. Не просвещает, а отягощяет. Только очень храбрый человек умеет различать такие случаи и заранее к ним приготовиться. Иным разновидностям человеческого несчастья свидетелем должен быть только асфальт… И может быть, деревья.
– Пообещайте, что я не буду такое делать, – сказала вдруг Лу тоненьким голоском.
– Что, – монотонно отозвалась Джейд.
Глаза у нее были как порезы от острого края бумаги.
– Когда я стану совсем-совсем старая. – Голос Лу был до того хрупкий – вот-вот порвется. – Пообещайте, что у меня будут муж и дети. Или я буду знаменитой. Пообещайте…
Фраза так и осталась неоконченной, будто неразорвавшаяся граната.
Потом мы снова молчали. В 4:03 утра в номере 22 погас свет. Старик вышел полностью одетый (хотя я заметила, задники ботинок были примяты – он не успел как следует их натянуть) и уехал на заржавленном такси фирмы «Синяя птица» (I-800-BLU-BIRD), которое дожидалось его у конторы, тихонько мурлыча.
Все точно так, как сказал папа (будь он сейчас с нами, задрал бы подбородок – совсем чуть-чуть – и слегка изогнул бровь, что означает «А ты сомневалась» и «Я тебе говорил»). Не надо бы никому это видеть, кроме только дрожащей неоновой надписи «Свободные комнаты», да изможденных кленов-астматиков, томно гладящих крышу по хребту кончиками веток, да еще неба – огромного лилового синяка, медленно, так медленно тускнеющего у нас над головой.
Потом мы отправились по домам.
Часть вторая
Глава 11. «Моби Дик», Герман Мелвилл
Через две недели после того, как мы подглядывали за Ханной («Наблюдали», – поправил бы старший инспектор Ранульф Карри из книги «Спесь единорога» [Лавель, [1901]), Найджел нашел у нее дома приглашение в мусорной корзинке в маленькой комнате рядом с гостиной, где по стенам висели карты мира и полудохлые растения в кашпо, с трудом выживающие по ее особой системе (круглосуточная подсветка и время от времени – подкормка питательной смесью «Чудо-рост»).
Текст на изящной карточке из плотной кремовой бумаги с тиснением гласил:
Приют для бездомных животных округа Бернс сердечно приглашает Вас на ежегодный благотворительный вечер в поддержку нуждающихся животных.
Мероприятие состоится в субботу, 22 ноября в 20:00 по адресу: Ивовая улица, д. 100.
Стоимость билета 40 долл. за одну персону.
Просим подтвердить Ваше участие.
Вход только в маскарадных костюмах.
И желательно в масках.
– По-моему, надо пойти, – заявил Найджел в пятницу у Джейд.
– По-моему, тоже, – поддержала Лула.
– Нельзя, – сказал Чарльз. – Нас она не приглашала.
– Это мелочи, – отмахнулся Найджел.
В следующее воскресенье, несмотря на предостережения Чарльза, Найджел за обедом вытащил приглашение из заднего кармана и, ни слова не говоря, по-наглому выложил его около блюда с телячьими котлетками.
Атмосфера в столовой мгновенно накалилась так, что терпеть невозможно (см. «„Полуденное противостояние в Су-Фолс“. Вестерн с участием Дэна Мохаве», изд. «Одинокая звезда», Бендли, 1992). После Коттонвуда обеды и так стали довольно невыносимы. Смотришь Ханне в лицо, весело улыбаешься, болтаешь об уроках, контрольных и пристрастии мистера Моутса к фланелевым рубашкам, а перед глазами стоит Док, его шарнирные ноги, его морщинистое лицо, словно доска, изъеденная термитами, не говоря уже о чудовищности их голливудского поцелуя – пусть он и происходил за кадром, все равно страшно. (Словно два фильма грубо слепили в один: «Гильду» и «Кокон».)[210]
Правда, когда я думала о Джейд, Лу и кабинке для инвалидов, меня тоже подташнивало, но с Ханной все было гораздо хуже. Папа говорил: разница между действенным и бесполезным восстанием определяется тем, в какой именно исторический момент происходит восстание (см. Ван Меер, «Индустриальная фантазия», «Федеральный форум», т. 23, № 9). Джейд и Лу – пока еще только развивающиеся страны. Для них простительны (хотя и не слишком похвальны) отсталая инфраструктура и неэффективное использование людских ресурсов. Но у Ханны-то давно должны были образоваться здоровая экономика, прочный мир, свобода торговли – а отсутствие всех этих достижений, честно говоря, не лучшим образом говорит о ее демократическом правительстве. «Нескончаемая коррупция и скандалы вызывают сомнения в [ее] самодостаточности как независимого государства».
Мильтон еще до обеда открыл окно. Шаловливый ветерок, промчавшись по комнате, сбросил у меня с колен бумажную салфетку, и огоньки свечей заплясали, словно свихнувшиеся балерины. Я поражалась Найджелу – он вел себя как ревнивный муж, предъявляющий жене чужую запонку в качестве улики.
А Ханна вообще никак не реагировала.
Она как будто и не заметила приглашения. Сосредоточенно резала котлетку на идеально ровные кусочки, удерживая на лице улыбку, словно изящную сумочку. Атласная блузка цвета морской волны (одна из немногих ее вещей, не напоминающая несчастного беженца) облегала Ханну, будто мерцающая вторая кожа, повторяя каждый вздох и каждое движение.
Казалось, томительная пауза длится уже целый час. У меня мелькнула мысль протянуть руку якобы к блюду с пассированным шпинатом, ухватить треклятое приглашение и незаметно спрятать под себя, но если честно, у меня на такие штуки просто не хватало моральной стойкости; я не сэр Томас Мор и не Жанна д’Арк. Найджел смотрел на Ханну в упор. В его очках отражалось пламя свечей. Изредка он поворачивал голову, и тогда на мгновение становились видны глаза, будто жуки, выглядывающие из песка. Он сидел очень прямо, такой маленький и в то же время такой основательный – прямо Наполеон с того несимпатичного портрета маслом на обложке основного учебника для папиных семинаров – «Покорить человечество» (Говардс, Пат, 1994). (Легко можно было поверить, что он способен даже во сне совершить государственный переворот и без малейшего смущения объявить войну всем крупнейшим европейским державам сразу.)
– Я вам ничего не сказала, – неожиданно произнесла Ханна, – потому что вы тогда захотели бы прийти, а это невозможно. Я пригласила Эву Брюстер. Если она вас здесь увидит, я немедленно вылечу с работы.
Меня удивила ее реакция (и, признаться, немножко разочаровала; я-то, зритель на трибуне, потягивала Anis del Toro[211], ожидая появления матадора). Еще меня поразило, как она убедительно делала вид, что не заметила приглашения.
– А зачем вы позвали Эву Брюстер? – спросила Лула.
– Она услышала, что я устраиваю благотворительный вечер, и спросила, можно ли ей прийти. Не могла же я ответить «нет». Найджел, мне очень неприятно, что ты роешься в моих вещах. Будь так любезен, оставь мне право на частную жизнь.
Все молчали. Сейчас говорить следовало Найджелу – хоть как-то объяснить свой поступок, пошутить насчет шаловливых ручек или процитировать главу 21 книги «Как стать клевыми родителями» (Милл, 2000). Глава называется «Подросток и радости клептомании», в ней приведена поразительная статистика: оказывается, большинство подростков проходят через период «захватничества» и «похитительства». В шестидесяти процентах случаев «юный человек перерастает это, как готический макияж и увлечение скейтбордом».
Однако Найджел и ухом не повел, бодро доедая телячью котлетку.
Скоро еда остыла. Мы убрали со стола, собрали учебники, вяло попрощались и ушли в страшную ночь. Ханна, как всегда, напутствовала нас, прислонившись к дверному косяку:
– Осторожней на дорогах!
Но чего-то не хватало в ее голосе, какого-то походного братства у костра. Когда машина Джейд уже ехала прочь, я оглянулась – Ханна так и стояла на пороге, глядя нам вслед. Ее зеленая блузка мерцала в золотистом свете, словно вода в бассейне.
– Тошно как-то, – сказала я.
Джейд кивнула:
– Прямо жить не хочется.
– Как думаешь, она его простит?
– Конечно. Она его знает как облупленного. У Найджела от рождения отсутствует ген, который отвечает за чувства. Бывает, у человека нет аппендикса или пониженное содержание лейкоцитов в крови. А у Найджела нет чувств. В детстве ему делали томографию мозга, и там, где у других людей находятся эмоции, у него, бедненького, космическая пустота, вакуум. Да он еще и гей. Сейчас, конечно, все ужасно толерантные и так далее, а все равно таким, наверное, в школе несладко приходится.
– Найджел гей? – изумилась я.
– Рвотинка, ау? Земля на связи? – Джейд смотрела на меня, как на «лесенку» на колготках. – Удивляюсь я тебе иногда! Ты к доктору не ходила – проверить, все ли винтики на месте? А то я что-то прямо сомневаюсь, Тошнюсик. Серьезно.
К сожалению, в наше время безумных скоростей стали недолговечными столь ценимые нашими предками и русскими писателями горе, тоска, муки совести и прочие душевные терзания.
Почитайте, например, книгу Р. Стэнбери «Красноречивая статистика и сравнение эпох», издание 2002 года, раздел «Горе», – и вы узнаете, что сама идея разбитого сердца, печали, тоски и отчаяния ушла в прошлое. Скоро эти понятия будут восприниматься как забавный архаический курьез, в одном ряду с «колымагой», «джиттербагом» и «джем-сейшеном». В 1802 году средний американский вдовец ждал 18,9 года, прежде чем снова жениться, а в 2001-м он в среднем готов потерпеть всего 8,24 месяца (в таблице, где приведены данные по каждому штату, можно увидеть, что в Калифорнии этот срок сократился до пугающей цифры – 3,6 месяца).
Папа, конечно, бурно возмущался такой «культурной анестезией», «стремлением сгладить самые глубокие человеческие чувства, чтобы оставалась только ровная пустота без единой морщинки или складочки». Поэтому он всячески старался воспитать меня тонко чувствующей личностью, способной за самой скучной внешностью различить добро и зло и массу промежуточных оттенков. По дороге от Модерса, штат Огайо, до Падьюки, штат Вашингтон, папа заставил меня выучить наизусть не одну и не две, а все «Песни невинности и опыта» Уильяма Блейка. С тех пор я не могу спокойно смотреть, как муха вьется около гамбургера, – сразу вспоминаю: «Я тоже муха: / Мой краток век. / А чем ты, муха, / Не человек?»[212]
Правда, в компании Аристократов нетрудно было притвориться, будто я в жизни ничего не учила наизусть, кроме тысячи ритм-энд-блюзовых песенок, и никого не знаю по фамилии Блейк, кроме того мальчишки из нашей школы, который вечно ходит руки в карманы и смотрит так, словно хочет дать в морду, и что при виде мухи у меня одна, чисто девчачья реакция: «Фу, гадость!» Знай об этом папа, он бы, конечно, назвал такой подход «отвратительным конформизмом» и даже, может, сказал бы, что я «позорю род Ван Мееров» (папа часто забывал, что он сирота). А мне это казалось захватывающим и даже романтичным – плыть по течению, «глядя на дальний Камелот» и не думая о последствиях (см. «Волшебница Шалот», Теннисон, 1842)[213].
Поэтому у меня не возникло никаких возражений, когда в субботу, 22 ноября, Джейд вплыла в Фиолетовую комнату в черном парике и свободном белом брючном костюме. Подложенные плечи торчали, словно белые меловые утесы Дувра, а брови были густо подрисованы – по-моему, акварельным карандашом цвета жженая охра.
– Угадайте, кто я!
Чарльз окинул ее взглядом:
– Госпожа Эдна[214].
– «Я не выхожу из дома, если не одета как кинозвезда Джоан Кроуфорд. Вам нужна простая соседская девчонка? Вот и идите к соседям!» – Джейд расхохоталась злодейским смехом и бросилась ничком на кожаный диван, болтая ногами в остроносых черных туфлях. – А угадайте, куда я направляюсь?
– К черту, – сказал Чарльз.
Джейд перевернулась и села. Прядка парика прилипла к накрашенным губам.
– «Приют для бездомных животных округа Бернс сердечно приглашает вас на ежегодный…»
– Прекрати!
– «…благотворительный вечер…»
– Нельзя!
– «Просьба подтвердить ваше участие».
– Ни в коем случае!
– Может, там будет буйная оргия…
– Нет!!!
– Я пойду, – сказала Лула.
В итоге мы не смогли договориться о единой теме для костюмов, так что Чарльз оделся Джеком-потрошителем (вместо кровищи мы с Лулой обрызгали его соусом А1[215]), Лула нарядилась французской горничной (позаимствовав из комода Джефферсон шелковый платок с лошадиной символикой; их там целая куча была, сложенные аккуратными квадратиками). Мильтон отказался наряжаться и потому играл роль Плана Б (склонность к двусмысленной игре слов проявлялась у него всякий раз, когда он курил травку). Найджел был Антонио Бандерасом в роли Зорро (он проделал дырки для глаз в черной спальной маске Джефферсон ее же маникюрными ножничками). Джейд была Анитой Экберг в фильме Феллини «Сладкая жизнь», со всеми подробностями, вплоть до игрушечного котенка (приклеенного скотчем к обручу в волосах). Из меня получилась довольно неубедительная Пусси Галор[216] в косматом рыжем парике и мешковатом бирюзовом боди (см. «Марсианин 14» в кн. «Маленькие зеленые человечки. Облик инопланетян, восстановленный по рассказам очевидцев», Диллер, 1989, стр. 115).
Мы все были пьяные. К ночи воздух на улице разогрелся, как танцовщица после первого номера. Мы бросились бежать по газону в маскарадных костюмах, беспричинно хохоча.
Джейд в пышном платье с нижними юбками, бантами и оборками покатилась вниз по склону, визжа во все горло.
– Ты куда? – заорал Чарльз. – У них начало в восемь! А сейчас полдесятого уже!
– Рвотинка, давай за мной! – крикнула Джейд.
Я обхватила себя за плечи и плашмя шлепнулась на землю.
– Ну где ты там?
Я покатилась вниз. Травинки больно кололись, парик свалился с головы. Мелькали звезды, перемежаясь тусклыми паузами земли, а потом склон кончился и я врезалась в тишину. Рядом лежала Джейд. Лицо у нее было серьезное и грустное. Вообще, когда люди смотрит на звезды, у них лица делаются серьезными и грустными. Папа придумал несколько теорий, объясняющих это явление, причем большинство из них сводились к рассуждениям о присущей человеку неуверенности и отрезвляющему осознанию собственного ничтожества по контрасту с такими невообразимыми объектами, как спиральная галактика, спиральная галактика с перемычкой, эллиптическая и неправильная галактика.
Но в ту минуту я не могла вспомнить ни одну из папиных теорий. Черное небо с точечными проколами звезд выпендривалось неудержимо, как пятилетний Моцарт. Чьи-то голоса царапали воздух, слова дрожали и сами себе не верили, и вскоре Мильтон прилетел из темноты, и возле моей головы мелькнули кроссовки Найджела, и Лула грохнулась на землю рядом со мной, протяжно выдохнув, как будто отхлебнула горячего чаю («А-ах!»). Шелковый платок соскользнул с ее головы, накрыв мне шею и подбородок. От моего дыхания по шелку шла рябь, как по воде, когда в ней кто-то тонет.
– Эй вы, уроды! – вопил Чарльз. – Пока доедем, все уже закончится!
– Помолчи, фашист, – отмахнулась Джейд.
– Думаете, Ханна разозлится? – подала голос Лула.
– Наверное.
– Она нас убьет, – сказал Мильтон.
Он приземлился в нескольких шагах от нас, дыша, словно дракон.
– Ханна-шманна, – хмыкнула Джейд.
Мы кое-как отлепились от земли и взобрались по склону туда, где стоял «мерседес» и ждал злющий Чарльз в старом детском пластиковом дождевике Джейд, чтобы не заляпать сиденье соусом. Джейд сказала, что ехать обязательно всем в одной машине, и я как самая мелкая выполняла роль своеобразного ремня безопасности, лежа поперек коленок Найджела, Джейд и Лулы. Лула рисовала пальцем рожицы на запотевшем стекле, а я уставилась на лампочку в потолке машины. Мои ноги в белых туфлях на высоком каблуке упирались в дверную ручку, а над головой Мильтона, так и севшего на переднее сиденье с косяком в зубах, висело облако дыма, густого, как губная помада.
– Нехорошо все-таки будет ввалиться туда без предупреждения, – сказал Мильтон. – Друзья, еще не поздно передумать.
– Не тупи, – отрезала Джейд, выдергивая у него из пальцев косяк. – Увидим Эвиту – спрячемся. Прикинемся ветошью. Классно будет!
– Перон туда не придет, – сказал Найджел.
– Почему это?
– Ханна ее не приглашала. А нам соврала, чтобы объяснить, почему нас не позвали.
– Ты параноик!
Найджел пожал плечами:
– Спорим на что хотите. Все классические признаки вранья имели место, я заметил. Эва Брюстер не придет, а если мы спросим Ханну в понедельник, она даже не вспомнит, о чем речь.
– Ты и впрямь сатанинское отродье! – восхитилась Джейд и тут же нечаянно стукнулась головой об оконное стекло. – Ай!
Лула протянула мне косяк:
– Хочешь?
– Спасибо, – сказала я.
Не решаясь отказываться, когда предлагают, я уже давно и близко познакомилась с необычным поведением пола и потолка под воздействием пойла, зелья, бухла и различных гремучих смесей (эффект качки, внезапного ухода из-под ног и реалистичной имитации землетрясения). Чаще всего, когда в Фиолетовой комнате Мильтон, словно трубку мира, пускал по кругу серебряную морпеховскую фляжку, я только делала вид, что лихо отхлебываю его любимый жидкий мышьяк под названием «Дикая индейка»[217].
В компании не догадывались, что я совсем даже не надираюсь наравне со всеми целый вечер напролет.
– Смотрите, Плевака задумалась, – заметил как-то Найджел, глядя, как я сижу на диване, устремив взор в пространство.
А я не просто задумалась, я прикидывала, куда бы незаметно сплавить последнее изобретение Лулы – коктейль, который она незатейливо назвала «Коготь», обманчиво прозрачную жидкость, с одного глотка выжигающую пищевод и весь кишечник заодно. Особенно удобно выйти на минуточку во двор «подышать воздухом» и, пока свет на крыльце не горит, быстренько выплеснуть очередную бяку в широко раскрытую пасть одного из двух бронзовых львов – Энди Уорхол подарил их Джефферсон в январе 1987 года, всего за месяц до своей смерти от осложнений после операции на желчном пузыре. Можно, конечно, вылить и прямо на траву, но я испытывала какое-то приятное теплое чувство, спаивая львов. Львы послушно разевали рты, глядя на меня снизу вверх, будто надеялись, что уж вот эта порция наверняка их прикончит. Я только молилась про себя, чтобы Джефф не пришло в голову, что огромные зверюги будут лучше смотреться у парадного входа. Если она начнет их двигать, ее окатит волной пойла, зелья, бухла и различных гремучех смесей.
Почти час прошел, пока мы наконец подъехали к дому Ханны. Чарльз ловко провел «мерседес» между выстроившимися по обочинам пустыми машинами. Честно говоря, я удивилась, что он способен так хорошо вести в таком состоянии (см. раздел «Неизвестная жидкость», гл. 4 – «Устранение перебоев в моторе», в кн. «Устройство автомобиля», Понт, 1997).
– Не поцарапай машину, – предупредила Джейд. – А то у меня будут крупные неприятности.
– Надо же, сколько у Ханны знакомых, оказывается, – заметила Лула.
– Черт, – сказал Мильтон.
– Вот и хорошо! – Джейд хлопнула в ладоши. – Просто идеально! Мы смешаемся с толпой. Хорошо бы только с Ханной не встретиться.
– Боишься встретиться с Ханной? – заорал Чарльз. – Тогда поехали назад сейчас же, потому что, дорогие мои, я должен вас обрадовать: мы с ней обязательно встретимся!
– На дорогу смотри! – фыркнула Джейд. – И ничего я не боюсь. Это же просто…
– Что?
Чарльз ударил по тормозам, и все мы качнулись вперед-назад, как детишки в автобусе.
– Просто вечеринка. Ханна не рассердится. Мы ничего такого ужасного не делаем, правда?
В голосе Джейд неожиданно подняли голову Тревога, Страх и Сомнения, да так разгулялись, что Повеселимся-Черт-Побери заметно смутился.
– Вроде да, – сказала Лула.
– Нет, – сказал Найджел.
– Кто его знает, – сказал Мильтон.
– Решайте уже наконец! – рявкнул Чарльз.
– Пускай Тошнюсик решает, – сказала Джейд. – Она у нас девочка ответственная.
По сей день не знаю, что на меня нашло. Может, это был как раз тот мистический случай, когда вместо тебя говорит сама Судьба. Она ведь любит вмешаться, чтобы ты не выбрал себе легкой дороги, недавно заасфальтированной, с четкими названиями улиц и аккуратными кленами, а с жестокостью сержанта, диктатора или обычного бюрократа заставляет свернуть на темную, тернистую тропу, ею же заботливо и приготовленную.
– Идем! – сказала я.
Ханна была – перо снежной цапли, и потому невольно представлялось, что она и гостей принимает в соответствующем стиле: узкие бокалы с шампанским, сигареты в мундштуках, играет струнный квартет, кавалеры приглашают дам, дамы в танце изящно склоняются щекой на плечо партнера, ни у кого не потеют ладони, а за лавровыми и розовыми кустами совершаются изысканные адюльтеры – из тех, на которые семейство Ларраби могло бы посмотреть сквозь пальцы, из тех, за которыми наблюдала Сабрина[218], укрывшись на дереве.
Но подойдя ближе, мы увидели заполонившую двор пеструю толпу из самых невероятных зверей, растений и минералов. Мильтон предложил обойти кругом и подобраться к дому с другой стороны – может быть, через патио с бассейном в форме фасолины, которым Ханна никогда не пользовалась.
– Можно еще уйти, если хотите, – сказала Джейд.
Мы поставили машину за автофургоном, где уже начинался сосновый лес, и стали смотреть на дом из темноты. Патио освещали четырнадцать гавайских факелов. Человек пятьдесят или шестьдесят гостей были наряжены в удивительно сложные костюмы (вурдалаки, крокодилы, черти, команда космического корабля «Энтерпрайз»[219] в полном составе). Те, что в масках, потягивали через соломинку напитки из красных и синих пластиковых стаканчиков, безмасочные жевали соленые крендельки и крекеры, изо всех сил перекрикивая музыку.
– Кто эти люди? – спросил Чарльз, хмурясь.
– Никого не узнаю, – отозвалась Джейд.
– Наверное, друзья Ханны, – сказала Лула.
– Вы ее видите?
– Нет.
– Даже если она здесь, ее не отличишь от других, – сказал Мильтон. – Все в масках.
– Я замерзла, – сказала Джейд.
– Надо было и нам маски надеть, – сказал Мильтон. – В приглашении же говорилось…
– И где мы теперь маски найдем? – спросил Чарльз.
– Вон Эвита, – сказала Лу.
– Где?
– Вон, в блестящей такой штуковине вроде нимба на голове.
– Это не она.
– Серьезно, что мы здесь делаем? – с неожиданной тревогой спросила Джейд.
– Вы, если хотите, можете тут сидеть хоть всю ночь, – сказал Найджел, – а я пойду веселиться.
В маске Зорро вместе с собственными очками он был похож на ученого енота.
– Кто еще хочет развлечься? – Почему-то, задавая этот вопрос, Найджел смотрел на меня. – Что скажешь, старуха? Потанцуем?
Я поправила парик, и мы побежали к патио: енот-ботаник и перевернутая морковка.
Сквозь толпу было не протолкаться. Даже в бассейне плескались четверо мужчин в костюмах мышей и одна русалка в полумаске, расшитой голубыми блестками. Они смеялись и бросали друг другу волейбольный мяч. Мы решили пробиваться в дом (см. гл. «Подняться вверх по течению реки Замбези во время паводка» в кн. «На поиски приключений», 1992, стр. 212).
Пробившись в дом, мы втиснулись между клетчатым диваном и пиратом, увлеченным беседой с чертом и не подозревающим о том, какие могут возникнуть последствия, когда его обширная потная спина неожиданно толкает двух маломерков.
Минут двадцать мы прихлебывали водку из красных пластиковых стаканчиков и наблюдали за гостями – не увидев за это время ни одного знакомого лица. По комнате бродили, ползали, переваливались люди в самых невероятных костюмах, от микроскопических до непомерно громадных.
– Самоцветы гуртом! – проорал Найджел среди общего гвалта.
Я помотала головой, и он повторил:
– Сумасшедший дом!
Я кивнула. Ни Ханны, ни Эвы Брюстер, ни беззащитных животных – одни только нелепые птицы, пухлые борцы сумо, рептилии в то и дело расстегивающейся шкуре на липучках… Вон королева сняла с головы корону и задумчиво покусывает краешек, шаря глазами по комнате, – может, ищет короля или туза, чтобы устроить с ним флеш-рояль.
Будь здесь папа, он бы наверняка отметил, как печально и симптоматично, что большинство присутствующих взрослых «рискуют уронить свое достоинство», в безнадежном стремлении «к тому, что им не дано узнать, даже если найдут». Папа вообще был суров в оценках, когда дело касалось поведения других, а не его самого. Правда, глядя, как Чудо-женщина[220] сорока с лишним лет, пошатнувшись, обрушила аккуратную стопку журналов Национального географического общества, у меня мелькнула мысль – а не обман ли вся эта великая идея взросления? Может, оно вроде автобуса дальнего следования, который ждешь, ждешь, а он так никогда и не приходит.
– На каком языке они говорят? – крикнул Найджел мне в ухо.
Я проследила за его взглядом. Недалеко от нас стоял коренастый плотный космонавт. Шлем он держал в руках, открыв свою голову с залысинами, и оживленно разговаривал с гориллой.
– По-моему, на греческом, – удивленно ответила я.
«Язык титанов и оракулов, η γλώσσα των ηρώων», – говорил папа. Видимо, имелось в виду – «язык героев». Папа хвастался, что бегло говорит на двенадцати иностранных языках (правда, во многих случаях определение «бегло» подразумевало всего лишь «да» и «нет» плюс еще несколько запоминающихся выражений). Еще он любил повторять известную шуточку о неспособности американцев к изучению языков: «Им бы сначала хоть один язык освоить».
– Интересно, кто это, – сказала я.
Горилла сняла с себя голову и оказалась миниатюрной китаянкой. Она закивала, но ответила на каком-то другом языке, резком и гортанном, языколомном до невозможности. Я вытянула шею, прислушиваясь, уже не увереная, что перед этим действительно слышала греческий.
– Ау, саванна! – сказал Найджел, стиснув мне руку.
– Повтори! – крикнула я.
– Вижу Ханну.
Найджел потащил меня куда-то, между двух Элвисов.
– Так где ты живешь? – спросил Элвис в костюме с концерта «Привет с Гавайев».
– Рино, – ответил потный «Элвис на гастролях» и сделал глоток из синего пластикового стаканчика.
– Она наверх пошла, – проговорил Найджел мне прямо в ухо, проталкиваясь мимо Содома и Гоморры, Леопольда и Лёба[221], Тарзана и Джейн – они только что нашли друг друга в этих джунглях и бурно общались в уголке. Я не понимала, для чего Найджелу срочно понадобилась Ханна. Когда мы начали подниматься по лестнице, я увидела только шеститонного тираннозавра – он расстегнул костюм и уселся на собственную резиновую голову.
– Вот хрень…
– Зачем она тебе? – проорала я.
– Мне показалось…
И тут, обернувшись, я увидела ее среди волнующегося моря париков и масок.
Лицо заслоняли поля цилиндра (виднелся только белый полумесяц подбородка и ярко-красный рот), но я точно знала, что это Ханна, – по абсолютной ее несовместимости с фоном, атмосферой и прочими погодными условиями. Все здесь – молодые и старые, красивые и не очень – смешались в общую стандартную толпу болтающих людей, а Ханна, как всегда, оставалась чуть в стороне, отдельно от всех, как будто обведена тонкой, но отчетливой разделительной линией или будто на Ханну указывает висящая в воздухе стрелочка: «ВОТ ОНА». По какому-то внутреннему сродству со всяческим сиянием ее лицо притягивало к себе половину света в комнате.
Одетая в смокинг, Ханна вела к лестнице какого-то мужчину, держа его за руку, словно он – великая ценность, как бы не потерять.
Найджел тоже увидел:
– Кем это она оделась?
– Марлен Дитрих в фильме «Марокко» тридцатого года. Надо спрятаться!
Найджел покачал головой, цепко держа мое запястье. Все равно дорогу загораживал шейх, дожидающийся очереди в уборную, а за ним – компания гостей, одетых туристами (гавайские рубашки и поляроиды). Оставалось только собраться с духом и достойно встретить судьбу.
Разглядев спутника Ханны, я немножко приободрилась. По крайней мере, за три недели она успела сменить Дока на Большого Па[222] (см. «Патриархи американского театра. 1821–1990», Парк, 1992). Был он седой и тучный в стиле города Монтгомери, штат Алабама (когда пузо выпирает, словно громадный тюк с добром, а все остальное тело бодрое, подтянутое и подчеркнуто игнорирует эту свою неприглядную часть), но все-таки что-то в нем было располагающее. Внушительный, осанистый, в военной форме Народно-освободительной армии Китая, – наверное, он изображал Мао Цзэдуна. Лицо, хоть его и не назовешь красивым, было по-своему великолепно: блестящее и розовое, словно шмат ветчины на праздничном столе. Вдобавок он явно был чуточку влюблен. Папа говорил, что в любви ничего не значат ни слова, ни поступки, ни сердце («этот орган сильно переоценивают»), а только глаза («Все самое важное отражается в глазах»). У этого типа глаза прямо-таки не отрывались от лица Ханны.
Ее профиль четко вписался в выемку у него между щекой и плечом. О чем они с Ханной говорили? Может, она решила сразить его наповал способностью продекламировать число «пи» с точностью до шестьдесят пятого десятичного знака? Мне втайне казалось, что это, наверное, очень заводит, если парень жарко шепчет на ушко: «3,14159265…» А может, она читала сонет Шекспира номер 116 – папин любимый («Если есть в английском языке подлинные слова любви, то лучше уж эти, чем затрепанное до дыр „Я тебя люблю“, которое повторяют все, кому не лень»): «Не допускаю я преград к слиянью двух верных душ…»[223]
Во всяком случае, чувак слушал как зачарованный, а смотрел на нее так, словно только и ждет, когда она украсит его свежими лавровыми листьями, нарежет ломтиками и польет соусом.
Они поднимались все ближе к нам – вот прошли мимо чирлидерши, потом мимо прислонившейся к стене Лайзы Минелли с макияжем, густо налепленным возле глаз, точно гниющие листья в канаве.
А потом Ханна увидела нас.
Она моргнула, и улыбка застыла на мгновение, словно мягкий свитер зацепился за ветку. Мы с Найджелом так и стояли с гаденькими улыбочками вместо бейджиков.
Ханна молчала, пока не поравнялась с нами.
– Как вам не стыдно…
– Привет, – бодро отозвался Найджел, будто ему сказали: «Как я рада вас видеть».
Я с ужасом увидела, что он протягивает руку мужчине, с любопытством смотревшему на нас.
– Я – Найджел Крич.
Знакомый Ханны изогнул седую бровь, добродушно кивнул и сказал:
– Смок.
У него были удивительно яркие, ситцево-голубые глаза. Папа говорил, что ум собеседника можно оценить по тому, в каком темпе движется его взгляд при знакомстве. Если еле-еле топчется или вовсе подпирает стенку где-нибудь у тебя между бровями, значит у человека интеллект «примерно на уровне карибу», а вот если плавно, со спокойным интересом вальсирует от твоих глаз до туфель, значит «острота ума достойна уважения». Ну так вот, взгляд Смока прошелся в макумбе от Найджела ко мне и обратно, и мне показалось, что этим простым движением он охватил все самые позорные минуты нашей жизни. В углах рта у него залегли смешливые складки-скобочки. Мне Смок очень понравился.
– Вы здесь на весь уик-энд? – спросил Найджел.
Смок сперва глянул на Ханну и только потом ответил:
– Да. Осваиваюсь понемногу. Ханна показывает мне дом.
– А сами вы где живете?
Смок не мог не заметить агрессивного любопытства Найджела. И снова он покосился на Ханну, прежде чем ответить:
– В Западной Виргинии.
А Ханна так и не проронила ни слова, и это было очень страшно. Я видела, что она сердится: у нее лоб и щеки покраснели. Она улыбнулась как-то застенчиво и вдруг (я заметила, потому что стояла на ступеньку выше Найджела и видела Ханну всю целиком, и рукав с чересчур длинной манжетой, и тросточку в руке) она сжала Смоку бицепс. Это, наверное, что-то значило – Смок сразу произнес своим похожим на крепкое объятие голосом:
– Приятно было познакомиться. Всего хорошего!
Они пошли дальше, минуя шейха, и туристов («Мало кто понимает, что электрический стул – не самая плохая смерть!» – крикнул какой-то турист), и платную танцовщицу – private dancer, a dancer for money[224] – в крошечном серебряном платьице и белых сапожках гоу-гоу.
От площадки они повернули в коридор и скрылись из виду.
– Черт, – сказал Найджел, улыбаясь во весь рот.
Мне захотелось его стукнуть, чтоб не улыбался.
– Что с тобой, вообще?
– А что?
– Что ты тут устроил?
Он пожал плечами:
– Хотел выяснить, кто этот ее бойфренд. Может, он и есть Валерио.
Тут перед моим мысленным взором предстал Док и лихо отчебучил чечетку.
– А может, никакого Валерио не существует.
– Ну, ты у нас, видно, атеистка, а я – истово верую. Пошли на воздух!
И он поволок меня вниз по лестнице, отпихнув Джейн с Тарзаном (Джейн прижалась спиной к стене, а Тарзан прижался к Джейн).
Мы вышли в патио. Джейд и все наши уже смешались с толпой, а толпа не то что не поредела – она гудела, как осиное гнездо после того, как хозяйка дома шарахнет по нему шваброй. Лула и Джейд устроились вдвоем в шезлонге и общались с двумя мужчинами, сдвинувшими маски на затылок, словно шляпы (изображали они то ли Рональда Рейгана, то ли Дональда Трампа, то ли Кларка Гейбла или еще какого известного человека за пятьдесят с внушительными ушами). Мильтона не было видно (Блэк вечно как предгрозовой ветер – налетает порывами), а Чарльз около барбекю флиртовал с женщиной в костюме львицы – она сбросила свою гриву на плечи, словно воротник, и неторопливо ее поглаживала, слушая Чарльза. Авраам Линкольн столкнулся с громадным кроликом, они врезались в складной стол, и вверх взлетел фейерверк привядшего салата. Из украшенных висячими растениями динамиков гремел бешеный рок. Электрогитара, вопли солиста, визг и хохот гостей, полумесяц над соснами – все смешалось в невероятную, удушливо-яростную смесь. Может, дело в том, что я была пьяна и мысли двигались медленно, как пузыри в гелевой лампе, только мне казалось, эта толпа, чуть что, ринется крушить, грабить, насиловать, учинит «неистовое восстание, которое громыхнет взрывом сдетонировавшей бомбы и через день закончится шелестом шелкового платка, соскользнувшего с дряблой старушечьей шеи» (см. «Последний летний плач. Новгородский мятеж, СССР, август 1965», Ван Меер, «The SINE Review», весенний выпуск, 1985).
Резкий свет факелов косыми штрихами исчертил маски, даже самые милые костюмы черных кошечек и ангелочков превратил в свирепых вурдалаков с ввалившимися глазами и острыми подбородками.
И вдруг у меня дыхание застряло в горле.
Над толпой, на кирпичной стене, окружающей двор, стоял человек в черном плаще с капюшоном и в позолоченной маске с крючковатым носом, полностью закрывающей лицо. Такие маски на масленичном карнавале в Венеции носит персонаж Бригелла – похотливый злодей комедии дель арте. Но самое страшное не в том, что демоническая маска превратила глаза в черные пулевые дыры, а в том, что это был папин костюм. В городе Эри, штат Луизиана, июньская букашка по имени Карен Сойер уговорила папу участвовать вместе с ней в конкурсе маскарадных костюмов на Хеллоуин и привезла ему из Нью-Орлеана этот самый наряд Бригеллы («Мне чудится или я действительно выгляжу в нем категорически нелепо?» – спросил папа, примерив бархатный плащ). И сейчас передо мной, словно распятие над толпой гостей, высился человек примерно папиного роста в точно таком костюме. Все совпадало до мельчайших деталей – бронзовый цвет маски, волдырь на носу, атласная отделка по краю капюшона, крошечные пуговки спереди на плаще. Человек не двигался и как будто смотрел прямо на меня. Его глаза тлели сигаретными огоньками.
– Рвотинка, ау?
– Там… мой папа, – еле выдавила я, чувствуя, как сердце переворачивается в груди.
Я бросилась вперед, расталкивая Флинтстоунов, краснолицую Рапунцель, чьи-то спины, локти и плечи в блестящей мишуре. Набитые поролоном хвосты тыкали меня в живот. Проволочный край ангельского крыла оцарапал щеку.
– Извините…
Гусеница, которую я толкнула на бегу, рявкнула, сверкая воспаленными глазами в блестках:
– Да пошла ты! – и так пихнула меня в ответ, что я шмякнулась на мощеный пол патио, среди кроссовок, чулок в сеточку и оброненных пластиковых стаканчиков.
Найджел присел на корточки рядом со мной:
– Вот же стерва… Я бы посмотрел на девчачью драку, только лучше тебе с этой теткой не связываться.
– Где он? – спросила я.
– Кто?
– Человек на стене. Высокий. Он еще там?
– Какой человек?
– У него маска с длинным носом.
Найджел удивленно посмотрел на меня, но встал и повернулся кругом – я видела, как переступают его красные «адидасы». Потом опять наклонился ко мне:
– Вроде никого не видно.
Мне казалось, что голова сейчас отвалится. Найджел помог мне подняться:
– Давай, старушка, полегоньку…
Держась за его плечо, я вытянула шею и заглянула за пышный оранжевый парик – еще раз увидеть то лицо и убедиться наверняка, что мне всего лишь спьяну померещилось невозможное. Но на стене сидели только Клеопатры с круглыми потными лицами, блестящими при свете факелов, как бензиновые лужи на автостоянке.
– Ха-а-арви! – проорала одна Клеопатра, показывая пальцем на кого-то в толпе.
– Валим, а то затопчут. – Найджел крепче сжал мою руку.
Я думала, он хочет вывести меня во двор, а он опять потянул меня в дом.
– У меня идея, – сказал, улыбаясь, Найджел.
В обычное время спальня Ханны всегда была заперта.
Чарльз как-то мне сказал, что у Ханны на этот счет пунктик: она ненавидит, когда вторгаются в ее «личное пространство». Трудно поверить, но за три года никто из компании не был в этой комнате, разве что заглядывали краем глаза, и то случайно.
Я бы и за сто тысяч правлений династии Мин туда не сунулась, если бы не была в подпитии да еще в легком остолбенении после того, как напридумывала себе папу в образе Бригеллы. Еще и Найджел настойчиво тащил меня вверх по лестнице, мимо хиппи и троглодитов. В конце коридора он трижды постучал в закрытую дверь. И хотя я, конечно, понимала, что нехорошо лезть в чужую спальню, почему-то, снимая туфли («Не надо оставлять отпечатки на ковре», – сказал Найджел, запирая за нами дверь), я была уверена, что Ханна не станет очень уж сердиться. Это же всего один раз, и потом, она сама виновата – незачем было напускать столько таинственности. Если б она не уклонялась от прямого ответа на самые банальные вопросы, может, мы и не стали бы рваться к ней в спальню. Вернулись бы дальше сидеть в машине или вовсе домой уехали. (Папа говорил, все преступники ухитряются путем сложных рассуждений оправдать свои поступки. У меня получилась вот такая вывернутая логика.)
– Сейчас приведем тебя в норму…
Найджел усадил меня на кровать и включил ночник. Принес из ванной стакан воды. Вдали от толпы и ревущей музыки в голове у меня заметно прояснилось. Пара глотков водички, несколько глубоких вдохов – и я понемногу начала приходить в себя. Тут во мне пробудилась, как говорят палеонтологи, «раскопочная лихорадка» – слепая нерассуждающая жажда раскапывать чье-нибудь прошлое. (Говорят, именно это чувство испытали Мэри и Луис Лики, впервые обследуя Олдувайское ущелье в восточной части равнин Серенгети в Танзании[225], где впоследствии были сделаны крупнейшие археологические открытия.)
Стены спальни были ровного бежевого цвета – ни единой картины или фотографии. Если вспомнить прочие комнаты, с мельтешащими зверями, клоками кошачьей шерсти, восточными ковриками на стенах, колченогой мебелью и собранием журналов «Нэшнл джиографик» с 1982 года, такая спартанская обстановка производила странное впечатление. Наверняка это о чем-то говорит, подумала я («Спальня – прямая подсказка о характере человека», – писал сэр Монтгомери Финкл в своей книге 1953 г. «Кровавые подробности»). Немногочисленная мебель скромненько жалась по углам, как будто наказанная, – комодик, деревянный стул с округлой спинкой, туалетный столик. Огромная, аккуратно застеленная кровать была покрыта неуютным колючим одеялом цвета бурого риса. На тумбочке у кровати стояла настольная лампа, а на нижней полке одиноко лежал потрепанный томик: «И Цзин. Книга перемен»[226]. («Ничто так не раздражает, как американцы, надеющиеся обрести дао», – говорил папа.) Встав с кровати, я заметила в воздухе едва заметный, но отчетливый аромат, вроде засидевшегося гостя, который никак не хочет уходить, – пряный мужской одеколон, из тех, что какой-нибудь жеребец из Майами щедро плещет на свой мощный загривок.
Найджел, сунув маску Зорро в карман, тоже осматривался с почти благоговейным выражением, словно мы забрались в монастырь и он боится потревожить монахинь, занятых молитвой. На цыпочках подкравшись к гардеробной, он ме-едленно приотворил дверцу.
Гардеробная была битком набита одеждой. Найджел дернул за шнурок выключателя, и тут же с верхней полки, нагруженной обувными коробками и пакетами из разных магазинов, упала черная туфелька-лодочка. Я хотела тоже подойти посмотреть, но тут заметила такое, чего прежде ни разу в этом доме не видела: три фотографии в рамках. Они выстроились в ряд на комоде, ровненько, будто по линеечке, как подозреваемые на опознании в полицейском участке. Я рассчитывала обнаружить ископаемые останки вымершего вида (бывшего бойфренда) или юрского периода (подросткового увлечения готикой), а оказалось – ничего подобного.
Одна фотография была черно-белая, две другие – старомодных цветов эпохи 70-х, как в сериале «Семейка Брэди» или в «Военно-полевом госпитале»[227], и на всех была изображена одна и та же девочка: судя по всему, Ханна в возрасте от девяти примерно месяцев и лет до шести. Правда, малышка в памперсах и с чубчиком вроде плевочка глазури на лысой макушке-кексике ничем не походила на Ханну. Дитя было важное и красное, как пожилой любитель приложиться к бутылке; издали могло показаться, что оно перебрало скотча да так и задрыхло в своей колыбельке. Даже глаза непохожи: у Ханны – миндалевидные, а у этого ребенка совершенно круглые, хотя по цвету такие же, черно-карие. Я уж решила, что у Ханны, может, имеется любимая сестра… Но если приглядеться, все-таки можно было различить сходство, особенно на том снимке, где девочке года четыре и она сидит верхом на злом лохматом пони: идеальной формы рот, верхняя губа прилегает к нижней, словно два кусочка головоломки, и как она смотрит вниз, на зажатые в кулачках поводья, – с азартным и в то же время затаенным выражением.
Найджел все еще возился в чулане – кажется, примерял туфли. Я проскользнула в ванную и зажгла свет. В плане декора ванная вполне соответствовала спальне: все аскетично, как в тюремной камере. Белый кафель, аккуратные белые полотенца, зеркало и раковина без единого пятнышка. Мне вспомнились слова из одной книжки – карманное издание оставила у нас дома июньская букашка Эми Стейнман: «Застрявшие в темноте», П. Ч. Мейли, кандидат наук (1979). В книге с необыкновенным лиризмом рассказывалось о «верных признаках депрессии у одиноких женщин». Так вот, один из этих признаков: «…отсутствие каких-либо украшений в личном пространстве как особая разновидность самомучительства» (стр. 87). «Женщина в состоянии тяжелой депрессии окружает себя самой убогой обстановкой или придерживается в своем личном пространстве строгого минимализма – ничто не должно напоминать о ее собственной индивидуальности. Однако в других комнатах она может держать множество безделушек, чтобы в глазах знакомых казаться счастливой и нормальной» (стр. 88).
Мне стало немного грустно. А по-настоящему я остолбенела, когда, опустившись на колени, заглянула в шкафчик под раковиной. И это было совсем не то радостное изумление, которое испытала Мэри Лики в 1959 году, наткнувшись на окаменелые останки зинджантропа, или Зинджа.
В шкафчике, в розовой пластмассовой корзинке, лежала груда пузырьков с лекарствами – рядом с ними таблетки, что принимала в лучшие свои дни Джуди Гарленд, показались бы горсточкой драже «Смартис». Я насчитала девятнадцать оранжевых бутылочек (повторяя про себя: амфетамины, баритураты, секонал, фенобарбитал, декседрин; вот было бы раздолье Элвису и Мэрилин). К сожалению, установить, что за таблетки в них содержатся, не представлялось возможным – ни единой этикетки, и даже не видно, чтобы их сорвали. На каждой крышечке с выдавленной надписью «НАЖАТЬ И ПОВЕРНУТЬ» был приклеен кусочек цветной бумажной ленты – синий, красный, желтый, зеленый.
Я взяла один пузырек покрупнее и вытряхнула на ладонь крошечные голубые таблеточки с крошечными цифрами: «50». Было большое искушение утащить их домой и там попытаться выяснить, что это, с помощью интернета или папиной толстенной «Медицинской энциклопедии» («Бейкер и Эш», 2000), но… Вдруг Ханна смертельно больна и только таблетки еще держат ее на этом свете? Я утащу жизненно важный препарат, и завтра Ханна впадет в кому, как Санни фон Бюлов? А я тогда получаюсь скользкий тип Клаус, и придется нанимать Алана Дершовица[228], чтобы он без конца меня обсуждал с толпой противных студентов, которые обжираются спагетти и креветками с имбирем, поэтически рассуждая о степени вины, когда моя жизнь пляшет у них в руках, как марионетка на тонкой ниточке?
Я положила пузырек на место.
– Синь! Иди сюда!
Найджел прочно обосновался в чулане. Он, видно, был из тех увлеченных, но беспорядочных исследователей, которые оставляют после себя полный хаос на раскопе: снял с верхней полки штук десять обувных коробок и бросил их валяться на полу. В общей куче лежали выцветшие свитера, скомканная папиросная бумага, пластиковые пакеты, пояс со стразами, шкатулка для драгоценностей и одна заскорузлая от долгого ношения туфелька винного цвета. На шее у Найджела болтались бусы из искусственного розового жемчуга.
– Я – загадочная Ханна Шнайдер! – провыл он с интонацией роковой красотки и лихо забросил свисающий конец ожерелья через плечо, словно прародительница современной хореографии Айседора Дункан (см. «Он красный, и я тоже»[229], Хилсон, 1965).
Я захихикала:
– Ты что делаешь?
– Примеряю.
– Положи на место! Ханна же догадается, что мы тут были! И вообще, она в любую минуту может вернуться…
– Ух ты, смотри!
Найджел сунул мне в руки тяжеленький деревянный ларчик, покрытый затейливой резьбой. Прикусив губу, открыл крышку – и перед нами сверкнул серебряный нож-мачете дюймов восемнадцати в длину[230]. Такими вот жуткими ножами мятежники в Сьерра-Леоне отрубали детям руки («Роман с камнями», Ван Меер, «Ежеквартальный журнал иностранных исследований», июнь 2001).
Я просто онемела.
– Тут целая коллекция ножиков, – сообщил Найджел. – Она, наверное, БДСМом увлекается. О, еще я фото нашел.
Найджел бодро забрал нож (словно жизнерадостный владелец ломбарда), не глядя бросил его на ковер и, порывшись в еще одной обувной коробке, протянул мне выцветший снимок.
– В детстве она была совсем как Лиз Тейлор, – сказал он мечтательно. – Прямо «Национальный Бархат»[231].
На снимке Ханне было лет одиннадцать-двенадцать. Портрет поясной – не поймешь, в помещении снимали или на улице. Во всяком случае, она весело улыбалась (честное слово, я никогда не видела ее такой счастливой) и обнимала за плечи еще одну девочку. Вторая девочка тоже, кажется, была очень красивая, но она смущенно отвернулась от фотографа да еще и моргнула, когда делали снимок, так что зритель мог увидеть только прихожую (щека, краешек гордого лба, отголосок ресниц) и, может, уголок гостиной (идеальный скат носа). Обе девочки были в школьной форме (белая блузка, темно-синий жакет, а у Ханны еще и вышитая эмблема с золотым львом на нагрудном кармашке). Фотограф поймал самую суть живой минуты. Ветер играл прядями волос из «конских хвостиков» девочек, и казалось – ты слышишь, как сплетается вместе их смех.
И все-таки что-то в них было странное, почти зловещее. Почему-то мне пришли на память Холлоуэй Барнс и Элеонор Тилден. В леденящей кровь документальной книге Артура Льюиса «Девочки» (1988) рассказано, как в 1964 году в Гонолулу две подружки сговорились убить своих родителей[232]. Холлоуэй убила спящих родителей Элеонор мотыгой, а Элеонор застрелила отца и мать Холлоуэй из ружья – пальнула им прямо в лицо, будто в тире, где за меткий выстрел дают в награду плюшевую панду. В середине книги было несколько страниц фотографий, и вот там я видела почти такой же точно снимок двух девочек под ручку, обе в форме католической женской школы, а на лицах беспощадные улыбки – словно два рыболовных крючка.
– Интересно, кто вторая, – заметил Найджел и вздохнул. – Нельзя быть такими красивыми! За это убивать надо.
Я спросила:
– У Ханны есть сестра?
Найджел пожал плечами:
– Не знаю.
Я вернулась к трем фотографиям на комоде.
– Что? – спросил, подойдя за мной, Найджел.
Я поднесла фото двух девочек поближе для сравнения.
– Тут кто-то другой.
– А?
– На этих снимках – не Ханна.
– Да она здесь мелкая совсем.
– Все равно, лицо другое.
Найджел присмотрелся и кивнул:
– Может, жирная кузина?
Я перевернула фото Ханны с блондинкой. В уголке виднелась дата синими чернилами: 1973.
– Стой! – прошептал вдруг Найджел, широко раскрыв глаза и стиснув у горла жемчужные бусы. – Твою мать… Слышишь?
Музыка, гремевшая внизу с завидной равномерностью здорового сердца, внезапно смолкла, и наступила полная тишина.
Я осторожно выглянула в коридор: пусто.
– Пошли отсюда! – сказала я.
Найджел, тихо пискнув, кинулся в чулан – заново складывать свитера и распихивать обувь по коробкам. У меня мелькнула мысль стырить фотографию Ханны с белокурой девочкой – но разве Говард Картер тырил сокровища из гробницы Тутанхамона? А Дональд Джохансон разве прикарманил кусочек Люси, трехмиллионолетнего гоминида? Я нехотя вернула снимок Найджелу. Он сунул фото в коробку из-под туфель «Эван-Пиконе» и, встав на цыпочки, задвинул ее на полку. Мы выключили везде свет, подхватили свою обувку, оглядели напоследок комнату – не забыли ли чего («Воры всегда оставляют на месте преступления визитную каротчку, потому что человеческое эго жаждет признания точно так же, как наркоман жаждет героина», – отмечает детектив Кларк Грин в книге «Отпечатки пальцев» [Стипл, 1979]). Мы выбежали в коридор и закрыли за собой дверь.
На лестнице было пусто, а внизу крутился человеческий водоворот и какая-то потная птица в съехавшем набок головном уборе из перьев истерически кричала: «О-о-о-о-о-о-о-о!» Бесконечный вопль кромсал толпу, словно меч в финальной сцене фильма о боевых единоборствах. Птицу пытался успокоить Чарли Чаплин: «Эми, дыши! Дыши, твою мать!»
Мы с Найджелом в недоумении начали спускаться по лестице и тут же попали в поток пластиковых масок, хвостов, париков и волшебных палочек – все рвались к задней двери, ведущей в патио.
– Не толкайся! – заорал кто-то. – Хорош толкаться, урод!
– Я все видел, – объявил пингвин.
– А полиция? – взвизгнула фея. – Почему не едут? Кто-нибудь позвонил девять-один-один?
– Эй! – Найджел поймал за плечо какого-то русала. – Что случилось?
– Помер кто-то, – ответил тот.
Глава 12. «Праздник, который всегда с тобой», Эрнест Хемингуэй
Когда папе было семь лет, он чуть не утонул в Бриенцском озере. Папа говорил, этот день стал для него откровением, по масштабу сравнимым только с тем днем, когда на его глазах умер Бенно Онезорг.
Папа, как водится, всеми силами старался переплюнуть некоего Хендрика Зальцмана – двенадцатилетнего мальчишку из того же цюрихского Waisenhaus[233]. Папа проявил «упорство и спортивную злость», но, обогнав наконец усталого Хендрика метрах в тридцати или сорока за буйками, сам выдохся и плыть обратно уже не смог.
Ярко-зеленый берег маячил далеко позади.
– Словно махал мне на прощание, – рассказывал папа.
Он погружался все глубже в булькающую глубину. Руки и ноги казались тяжелыми, словно мешки с камнями. Вначале был страх, «вернее, удивление: и всё? Неужели это всё?». А потом папа испытал так называемый «синдром Сократа» – ощущение полнейшего покоя за мгновение перед смертью. Закрыв глаза, папа увидел не туннель, не ослепительный свет, не краткое содержание своей коротенькой жизни, словно из диккенсовского романа, и даже не бородатого старика в белых одеждах с доброй улыбкой на лице. Он увидел сласти.
– Карамельки, мармеладки, – рассказывал папа. – Марципан, пирожные. Я чувствовал их запах и верил, что падаю не навстречу смерти, а в кафе-кондитерскую.
Еще папа клялся, что слышал где-то далеко в подводной глубине Пятую симфонию Бетховена – ее субботними вечерами играла у себя в комнате обожаемая папой монахиня по имени фройляйн Ута (первая в истории июньская букашка, der erste Maikàfer in der Geschichte). Вырвал папу из этой сладкой эйфории и выволок на берег не кто иной, как Хендрик Зальцман (у него в порыве героизма открылось второе дыхание). Первой папиной мыслью, как только он пришел в сознание, было вернуться туда, в темную воду, к десерту и аллегро престо.
Папа о смерти:
– Когда придет твой срок – а знать его, естественно, никто заранее не может, – нет смысла ныть и хныкать. Нужно уйти, как подобает воину, пусть даже революционная борьба в твоей жизни была посвящена нейробиологии, происхождению солнца, насекомым и Красному Кресту – как у нашей мамы. Напомнить тебе, как ушел Че Гевара? Недостатков у него хватало – его прокитайские и прокоммунистические взгляды были, мягко говоря, наивны. И тем не менее… – Папа чуть подался вперед, карие глаза за стеклами очков казались огромными, а голос взметнулся вверх и вслед за тем обрел необычайную глубину. – После того как предатель сообщил сотрудникам ЦРУ, где находится секретный лагерь повстанцев, тяжело раненный Че Гевара, не в силах даже стоять, сдался боливийской армии, а Рене Баррьентос подписал приказ о его казни[234]. Девятого октября шестьдесят седьмого года офицер, которому выпало привести приказ в исполнение, вошел в здание деревенской школы, – хибарку без окон, – чтобы застрелить человека, бросавшегося в бой за идеалы, в которые верил. Того, кто без намека на сарказм произносил слова «свобода» и «справедливость». По рассказам очевидцев, офицер трясся, словно в припадке. Че Гевара, зная, что его ждет, обратился к своему палачу… – Тут папа обернулся к воображаемому офицеру. – Свидетели рассказывают, что Че Гевара не проявлял страха. Ни капли пота на лбу, ни малейшей дрожи в голосе. Он сказал: «Стреляй, трус! Ты всего лишь убьешь человека».
Папа пристально смотрел мне в глаза.
– Нам бы с тобой такую уверенность.
Когда Ханна рассказывала о Смоке Харви, голос у нее срывался, а у глаз залегли сероватые тени (словно что-то просочилось изнутри). Каждое слово как будто добавляло еще один розовый кирпичик в здание его жизни, похожей на большую шумную плантацию, и я невольно подумала: а так ли он был уверен в себе? Что Смоку привиделось, когда он тонул, – ведь не детские папины сладости с Бетховеном? Может, кубинские сигары, или кукольные ручки его первой жены («Она была такая миниатюрная, что даже не могла его обхватить», – сказала Ханна), или стаканчик «Джонни Уокера» со льдом (вероятно, синяя этикетка – по словам Ханны, он любил «все самого высшего качества»). Что угодно, лишь бы отгородиться от осознания, что все его шестьдесят восемь лет, прожитых в полную силу и с удовольствием («азартно» и «со смаком», сказала Ханна), закончатся на бетонном дне бассейна, в пьяном виде, в костюме Мао Цзэдуна, а никто и не заметит.
Полностью его звали Смок Уайанок Харви. Его мало кто знал, кроме жителей Финдли, Западная Виргиния, и тех, кто пользовался его услугами по управлению инвестициями, когда он работал в области финансов, или купил в отделе уцененных изданий его книгу «Заговор Долоросо» (1999), или прочитал две заметки о его смерти в «Стоктон обзервер» от 24 и 28 ноября («Житель Западной Виргинии утонул в бассейне» и «Смерть в бассейне признана несчастным случаем»).
Разумеется, он и был тот осанистый седовласый дядечка, который поднимался с Ханной по лестнице, – он еще мне понравился (нагл. пос. 12.0).
В тот вечер, услышав, что кто-то умер, мы с Найджелом протолкались к окну, выходящему на патио, и увидели только плотную стену спин – все смотрели куда-то вперед, словно там бродячие артисты показывали «Короля Лира». Большинство гостей наполовину высунулись из своих костюмов, как будто застряли на промежуточном этапе эволюции. На земле валялись усики из ершиков для чистки трубок и парики, похожие на распластанных по пляжу медуз.
Вой «скорой помощи» разорвал ночь. По газонам заметались красные сполохи. Участников благотворительного вечера оттеснили в гостиную.
– Если все замолчат, дело пойдет быстрее, – сказал белобрысый полицейский.
Он жевал жвачку, прислонившись к притолоке, одной ногой опираясь на стойку для зонтов и медленно моргая. Душой он явно был не здесь, а где-нибудь за бильярдным столом, где так и не успел пробить редкостно удачный шар, а может, у себя дома, с женой, в кровати с продавленным матрасом.
[НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ 12.0]
Я была просто в столбняке и только гадала – кто? Хоть бы не Мильтон, и не Джейд, и никто из наших (если кто-то обязательно должен умереть, пусть бы уж та вредная гусеница). А Найджел вдруг завелся, прямо как вожатый бойскаутов. Опять потащил меня за руку через всю комнату, наступая на сидящих на полу хиппи. Выгнал из ванной блюющую Джейн (Тарзан где-то потерялся) и, заперев дверь, велел мне пить воду.
– На случай, если нас заставят дышать в трубочку, – взволнованно объяснил он.
Я даже удивилась. Папа говорил, что в критических ситуациях люди кардинально меняются. Большинство переходят в жидкое состояние, а Найджел, наоборот, словно стал тверже, внушительнее.
– Пойду найду наших, – сказал он с такой энергией, с какой девушки в кордебалете вскидывают ножку выше головы. – Надо придумать годное объяснение, почему мы здесь. Наверняка всех опросят, запишут имена и адреса. Черта с два я позволю выпнуть меня из школы из-за какого-то дебила, который пить не умеет и плавать не научился!
Есть люди, наделенные особым даром – если не оказаться главной звездой каждого детектива, мелодрамы или спагетти-вестерна, то, по крайней мере, сыграть роль второго плана или хотя бы появиться в незабываемом эпизоде, который наделает много шума и будет прославлен восхищенными критиками.
Не приходится удивляться, что Джейд выпала роль «невольной свидетельницы». Она возле бассейна болтала с Рональдом Рейганом, и тот, решив спьяну выпендриться, плюхнулся в воду. Так и поплыл на спинке, прямо в костюме, ловко обойдя четырех мышей, игравших в водное поло, и во все горло выкрикивая свои предположения насчет костюма Джейд («Пэм Андерсон! Джинджер Линн!»[235]). Вдруг он зацепился ногой за чье-то тело на дне.
– Что за?.. – сказал он.
– Человеку плохо! Звоните девять-один-один! Кто-нибудь умеет делать искусственное дыхание? Доктора сюда, быстро!
Джейд утверждала, что все это прокричала она, хотя Мильтон сказал, что ничего подобного, – он как раз вернулся в патио, докурив в лесочке свою сигарету с травкой. А когда президент Рейган и одна из мышей выволокли громадное китообразное тело из воды, Джейд рухнула в шезлонг и сидела молча, кусая ногти, пока вокруг охали и ахали. Гость в костюме зебры пытался откачать утопленника.
Джейд и другие главные действующие лица остались в патио, дожидаясь, пока их допросят полицейские, а Найджел с Чарльзом, Лу и Мильтоном набились в ванную. У Чарльза и Лу вид был такой, словно они только что пережили войну 1812 года, а Мильтон держался как ни в чем не бывало, с вечной своей улыбочкой.
– Кто там умер-то? – спросила я.
– Огромный такой… – Лула присела на край ванной, глядя в пространство расфокусированным взглядом. – Он правда мертвый, по-настоящему. У Ханны во дворе – труп. Мокрый весь. И синий, ужас. – Она прижала руку к животу. – Меня, кажется, сейчас вырвет.
– Жизнь, смерть… – вздохнул Найджел. – Голливуд сплошной.
– Ханну кто-нибудь видел? – тихо спросил Чарльз.
Думать о Ханне было страшно. Всегда плохо, когда у тебя в доме кто-нибудь умрет, пусть даже случайно. Как папа говорил, «покинет наш безобразный мир» на дне твоего бассейна в форме фасолины.
Мы все молчали. Из-за закрытой двери время от времени головастиками проскакивали отдельные слова («Ох», «Шейла!», «Вы его знали?», «Да что случилось-то?»), а за открытым окном около умывальника бесконечно и неразборчиво жужжала рация в полицейской машине.
– Я бы предложил сделать ноги. – Найджел присел на корточки, выглядывая в окно, как будто снаружи могла начаться стрельба. – У них, по-моему, даже патрульной машины в конце улицы не поставлено. Только не бросать же Джейд… Придется как-то отвечать на вопросы.
– Конечно, нельзя удирать с места преступления! – раздраженно отозвался Чарльз. – Совсем крыша поехала?
Чарльз весь покраснел. Видно, очень волновался за Ханну. Я заметила – когда во время наших посиделок в Фиолетовой комнате Джейд или Найджел принимались гадать, чем Ханна занимается по выходным (стоило им только шепнуть «Коттонвуд»), Чарльз мгновенно вспыхивал, словно какой-нибудь латиноамериканский диктатор. За пару секунд все его тело, и лицо, и руки приобретали розовый оттенок пунша «Тропический».
Мильтон, как всегда, промолчал, только хмыкнул, прислонившись к вешалке с полотенцами винного цвета.
– А что такого? – сказал Найджел. – С утопленниками всегда все ясно. По цвету кожи можно определить, в самом деле несчастный случай или что-то нечисто. По статистике, чаще всего тонут в пьяном виде. Чувак в гостях наклюкался, упал в воду и готов – что тут поделаешь? Сам виноват, и точка. Постоянно такое случается. Береговая охрана все время вылавливает из океана разных уродов, перебравших рома с кока-колой.
– Ты откуда знаешь? – спросила я, хотя и сама читала что-то подобное в книге «Убийство в Гавре» (Монали, 1992).
– У меня мама обожает детективы, – гордо ответил Найджел. – Может сама на себе вскрытие произвести, если надо.
Наконец мы вернулись в гостиную, решив, что следов опьянения не осталось (по отрезвляющему эффекту смерть сравнима с шестью чашками крепкого кофе и купанием в Беринговом море). К этому времени командование принял на себя новый сотрудник по имени Донни Ли, с круглым и каким-то скособоченным лицом, словно неудавшаяся ваза на гончарном круге. Он пытался построить всех «по порядочку, ребята, по порядочку» с маниакальным терпением массовика-затейника на круизном корабле, организующего экскурсию на берег. Постепенно ему удалось отжать толпу к стенам.
– Пустите меня первым, – вызвался Найджел. – А когда ваша очередь придет, ничего не говорите. Мне мама всегда советовала: если что, прикидывайся блаженненьким.
Полицейский Донни Ли так щедро полил себя каким-то ядреным одеколоном, что аромат, подобно Полу Ревиру, летел впереди[236] него, оповещая всех встречных о его прибытии. Так что Найджел успел заранее подготовиться к предстоящей бойне. Наконец полицейский добрался до него и записал имя и номер телефона.
– Сколько тебе лет, сынок?
– Семнадцать, сэр.
– Угу…
– Миз Шнайдер не знала, что мы сюда придем, честное слово! Мы с друзьями почему-то решили, что будет весело заявиться без приглашения. Посмотреть, чем тут взрослые занимаются. Но не для того, чтобы употреблять недозволенные напитки, позвольте вас заверить! Я с самого рождения баптист и уже два года возглавляю собственный кружок верующих. Мне религия предписывает воздержание от спиртного. Я без алкоголя прекрасно обхожусь!
Мне казалось, он переигрывает, но, как ни удивительно, публика приняла его выступление на ура, не хуже чем Ванессу Редгрейв в фильме «Мария – королева Шотландии». Глиняный лоб Донни Ли пошел крупными морщинами (будто невидимые руки принялись заново лепить из него не то вазу, не то пепельницу), однако полицейский только постучал по блокноту обгрызенной синей шариковой ручкой «Бик».
– Вы, детишки, давайте поосторожней. Чтобы я вас больше не видел на таких вот вечеринках. Понятно говорю?
Не дожидаясь наших «Да, сэр, обязательно, сэр», он стал выяснять имя и адрес плаксивой Мэрилин Монро, дрожащей в тоненьком платьице из фильма «Зуд седьмого года»[237] с безобразным бурым пятном спереди.
– Долго все это будет продолжаться? У меня ребенок с нянькой остался!
– Прошу вас, мэм, потерпите немного…
Найджел шепнул, усмехаясь:
– На мед и мухи летят…
Никого не выпускали из дома до пяти утра, а когда наконец выпустили, нас встретило блеклое чахоточное утро: тусклое небо, потная трава, сиплый ветерок покашливает среди ветвей, гоняет по газону лиловые перья прямо под лентой с надписью «ПРОХОД ЗАКРЫТ, ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ» и тормошит прикинувшуюся мертвой маску Халка[238].
Все усталой вереницей побрели к машинам, обходя толпу зевак, все еще надеющихся увидеть что-нибудь интересное (фею, гориллу, убитого молнией белокурого гольфиста). Мимо двух полицейских машин, пустой «скорой», санитара с темными кругами вокруг глаз и сигаретой в зубах. Перед нами ковыляла на острых серебряных каблуках позолоченная Нефертити, без умолку болтая: «Если уж устраиваешь у себя во дворе бассейн, так будь добра, отвечай за него… Я еще утром, когда только проснулась, предчувствовала недоброе…»
Молча, словно оглушенные, мы забрались в машину и еще минут пятнадцать ждали Джейд.
– Я подписала протокол! – сообщила она гордо, залезая на заднее сиденье и совершенно придавив меня к Найджелу. – Прямо как по телику, только полицейский совсем не загорелый и вообще не красавец.
– А кто тогда? – спросил Найджел.
Джейд выдержала паузу, пока все не повернулись к ней.
– Лейтенант Арнольд Траск – настоящий свин!
– А покойника ты видела? – подал голос Мильтон с переднего сиденья.
– Я все видела! Что именно тебя интересует? Во-первых, что меня больше всего поразило, он был синий. Серьезно, я не шучу. А руки и ноги болтаются. Обычно у человека руки и ноги не болтаются, правильно? Он был весь как надувной матрас. Не понимаю, отчего его так раздуло…
– Прекрати, а то меня стошнит! – сказала Лула.
– Что?
– Ты видела Ханну? – спросил Чарльз, заводя мотор.
– Само собой! Это было хуже всего. Когда ее вывели из дома, она стала кричать, совершенно безумно. Полицейский ее увел. Впечатление было, как будто смотришь документальный фильм о матери, у которой забрали детей под опеку. Потом я ее уже не видела. Кто-то сказал, врач из «скорой» дал ей успокоительное и она пошла прилечь.
В синеватом утреннем свете нам сочувственно кивали из-за ограждения столпившиеся у дороги деревья. Чарльз стиснул зубы, выводя машину на шоссе. Щеки у него казались запавшими, словно их кто-то резанул ножом. Я подумала о папе – о тех ужасных минутах, когда он впадает в настроение «бурбон», держа на обтянутом вельветовой брючиной колене «Великую белую ложь» (Мун, 1969) или «Тишину» Э. Б. Карлсона (1987). Иногда он при этом делает то, чего не делает почти никогда, – начинает вспоминать, как умерла мама.
– Я виноват, – сообщал он – не мне, а моему плечу или ноге. – Честно, моя радость. Я должен был быть там, с ней.
Даже папа, так гордившийся тем, что никогда ни от чего не увиливает, предпочитал, как многие, в печали и подпитии обращаться к различным частям тела собеседника.
А я ненавидела, когда папино лицо – единственное, что я втайне считала сильным и неизменным в этом мире, – вдруг каменело, словно статуя с острова Пасхи (если кто и способен простоять незыблемо девять столетий, так это папа). На краткий миг в кухне или в сумерках рабочего кабинета я видела его как будто съежившимся – хрупким, как странички гостиничной Библии.
Конечно, он быстро приходил в себя, смеялся над собственным унынием, цитировал чьи-то слова о том, что человек сам себе злейший враг. Он снова был мой папа, мой человек года, «Человек, который хотел быть королем»[239], а все-таки настроение оказывалось заразным, и после этого уже я целыми часами пребывала в упадке. Так влияет на нас внезапная нечаянная смерть – рельеф морского дна становится неровным, течения сталкиваются, и на поверхности возникают мелкие, но стремительные водовороты (в более тяжелых случаях – один большой постоянный водоворот, куда может утянуть и самого сильного пловца).
В то воскресенье мы у Ханны не обедали.
Я провела выходные в каком-то вязком настроении: разом навалилась куча несделанных уроков, а в голову пиявками впились мысли о Ханне и о смерти. Всегда терпеть не могла то, что папа называет «плакальщики-подпевалы» («Люди рады погоревать, если это не их ребенка задавила машина, не их мужа зарезал наркоман, которому срочно понадобилась доза»); и все-таки мне невольно стало грустно, когда я прочла в местной газете коротенькую заметочку о Смоке Харви с фотографией (кошмарный рождественский снимок: смокинг, улыбочка, блестящий, словно никелированный, лоб). Пускай не скорбь утраты, но по крайней мере ощущение несостоявшегося разговора. Так бывает, когда на шоссе увидишь необычной внешности человека, дремлющего на пассажирском сиденье обогнавшей тебя машины. Загадочное смазанное пятно в окне…
– А скажи-ка, – сухо промолвил папа, глядя на меня из-за отогнутой страницы «Уолл-стрит джорнал», – как дела у твоих джойсоведов-бездельников? Ты давно не рассказывала новости. Вы уже добрались до Калипсо?
Я свернулась калачиком на диване у окна и старалась отвлечься от мыслей о маскарадном вечере с помощью классического британского дамского романчика «Любовь на одну ночь» (Зев, 2002), спрятанного в массивном томе «Так говорил Заратустра» (Ницше, 1883–1885), чтобы папа не заметил.
– Дела нормально, – ответила я, стараясь говорить небрежно. – А как поживает Китти?
Папа сегодня с ней встречался, и, судя по тому, что, вернувшись домой, я увидела в раковине два грязных стакана, а на разделочном столике бутылку из-под каберне, мне тогда у Ханны просто спьяну померещился папа в своем маскарадном костюме, в котором, как сам говорил, он «похож на незаконного отпрыска Марии-Антуанетты и Либераче»[240]. (Оказывается, Китти пользовалась медного оттенка помадой, а найденные мною волосы, прилипшие к спинке дивана в библиотеке, свидетельствовали о том, что она их осветляет отбеливателем для белья. Желтый цвет был примерно как у страниц в телефонном справочнике.)
Папу мой вопрос несколько озадачил.
– Что тебе сказать? Резвится, как всегда.
Если уж я себя чувствовала как-то заболоченно, страшно подумать, в какой трясине барахталась Ханна, просыпаясь по ночам в своей странно аскетичной спальне и думая о Смоке Харви, чью руку сжимала тогда на лестнице, словно влюбленная девчонка, и вот теперь он умер. Правда, в понедельник Мильтон меня немного успокоил. Подошел ко мне после уроков и сказал, что они с Чарльзом съездили к ней в воскресенье.
– Как она?
– Да ничего себе. Чарльз говорит, не совсем отошла от шока, а вообще все тип-топ.
Мильтон кашлянул и с быковатой неспешностью сунул руки в карманы. Наверное, Джейд ему уже рассказала о моих чувствах – с нее станется. Я буквально слышала ее голос: «Тошнюсик с ума по тебе сходит. Ее прямо переклинило». Как-то в последнее время при встрече со мной у него на лицо наползала двусмысленная улыбочка, а взгляд кружил около меня, словно пожилая муха. Я не надеялась, что он испытывает ко мне что-то подобное моему чувству – а чувство это было не страсть и не любовь («К чертям Ромео и Джульетту, невозможно любить по-настоящему, пока не чистил зубы рядышком с кем-то по меньшей мере триста раз», – говорил папа). Это было вроде электрического разряда. Увижу, как он топает вперевалочку мимо учебного корпуса, и меня словно молнией шибает. Встречаю его в «Скрэтче», он мне: «Привет, Рвотинка», – и я зажигаюсь стосвечовой лампочкой в последовательной цепи. Задень он меня локтем по дороге в медкабинет (у него вечно наклевывалась то корь, то свинка), я бы не удивилась, если бы у меня волосы на голове встали дыбом.
– Она сегодня приглашает нас на обед в ресторан, – сообщил Мильтон. – Хочет обсудить то, что случилось. К пяти сможешь?
Я кивнула:
– Придумаю для папы что-нибудь.
Мильтон прищурился:
– На какой мы там главе сейчас?
– «Протей».
Мильтон ушел, посмеиваясь. Его смех был похож на большой пузырь, поднимающийся из болотной глубины: бульк, и нету.
Чарльз оказался прав: у Ханны все было тип-топ.
Так, по крайней мере, все выглядело, когда нас с Джейд и Лулой провели в обеденный зал, где Ханна ждала нашу компанию, сидя в одиночестве за круглым столом.
Она и раньше иногда приглашала наших в ресторан «Гиацинтовая терраса», по особым случаям – дни рождения, праздники, чья-нибудь выдающаяся оценка на итоговой контрольной. Владельцы ресторана постарались с энтузиазмом хорошего врача-реаниматолога вернуть к жизни викторианскую Англию, приглашая посетителей «в головокружительное кулинарное путешествие, в котором старина гармонично сочетается с современностью» (см. ). Чистенький зеленый с розовым домик, опять-таки в викторианском стиле, прилепился на склоне горы Маренго, напоминая унылого попугая породы желтоплечий амазон, тоскующего по своей далекой родине. Из огромных полукруглых окон не открывалась панорама Стоктона – вообще ничего не было видно, кроме знаменитого местного тумана, выползающего из закопченных труб бывшей бумажной фабрики Горацио Миллза Голуэя, в двадцати семи милях к востоку (ныне корпорация «Упаковочные материалы»). Мутная дымка имела привычку проехаться зайцем на попутном западном ветерке и, подобно сентиментальному любовнику, заключить Стоктонскую долину в свои влажные объятия.
Было еще рано, приблизительно 17:15, и Ханна сидела в зале одна, если не считать пожилых супругов за столиком у окошка. На потолке сверкала многоярусная золоченая люстра, словно какая-нибудь герцогиня повисла вверх тормашками, бесстыдно выставив на всеобщее обозрение башмачки и пышные нижние юбки.
– Здравствуйте, – сказала Ханна, когда мы подошли.
– Мальчики будут минут через десять, – объявила Джейд, усаживаясь. – Им пришлось подождать, пока у Чарльза тренировка закончится.
Ханна кивнула. На ней была черная водолазка, серая шерстяная юбка и накрахмаленное выражение лица, словно у кандидата в разгар выборов, за минуту до выступления в публичной дискуссии по телевизору. Нервозные жесты (дернулся кончик носа, язык прошелся по зубам, рука разгладила юбку), слабая попытка разговора («Как дела в школе?»), не получившая развития («Рада за вас»). Чувствовалось, что Ханна готовится к Важному Разговору. Плотно сжав губы, она улыбнулась своему бокалу, словно репетируя мысленно сердечное и в то же время грозное приветствие кандидату от партии-соперника. Мне стало не по себе.
Я притворилась, будто заинтересованно изучаю громадное меню, где по странице змеились курсивом названия блюд: «Пюре из дикой моркови», «Грушевый суп с экстрактом черного трюфеля и микрозеленью».
Когда прибыли Чарльз и другие мальчишки, мои подозрения подтвердились. Правда, Ханна сперва дождалась, пока костлявый официант примет у нас заказ и умчится прочь, подобно оленю, заслышавшему ружейные выстрелы.
– Если вы хотите, чтобы мы и дальше оставались друзьями, – начала она официальным тоном, сидя очень прямо и строгим жестом перебросив волосы за спину, – запомните на будущее: когда я говорю не делать то-то и то-то – не делайте этого.
Пристально глядя на нас, она выдержала паузу, пока ее слова промаршировали через весь стол, между тарелками с изображением колибри, деревянными кольцами для салфеток и бутылкой пино нуар, вокруг стеклянной вазы с розами, тянувшими через край тоненькие шейки и желтые головки, словно голодные цыплята.
– Это понятно?
Я кивнула.
– Да! – сказал Чарльз.
– Да! – сказала Лула.
– М-м, – сказал Найджел.
– То, что вы устроили в субботу, – непростительно. Мне было очень больно. Вдобавок столько всего ужасного случилось, что я до сих пор еще до конца не прочувствовала, как сильно вы меня подвели. К вашему сведению, только благодаря счастливой случайности Эва Брюстер не пришла – у нее терьер захворал. Понимаете? Если бы не какой-то злосчастный терьер, меня бы уже уволили нахер! А вас бы исключили, это я вам гарантирую. Наверняка вы там не фруктовый морс пили, и я никакими силами не смогла бы вас отмазать. Столько лет учебы, мечты о колледже – все на помойку. И ради чего? Ради веселой шуточки, так вы считали? Так вот, ничего веселого нет. А шуточка получилась гадкая.
Ханна говорила слишком громко. И меня резануло это ее «нахер», потому что она никогда не ругалась. Но никто на нас не оглядывался, никто и бровью не повел. Ресторан жил себе дальше, точно добродушная бабушка, которая и знать не желает, что со времен ее молодости молоко подорожало на шестьсот процентов. Официанты склонялись над столиками, увлеченные сервировкой, а в дальнем конце зала парнишка с волосами цвета репы и в болтающемся смокинге сел за пианино и давай наяривать Коула Портера[241].
Ханна перевела дух.
– Я всегда старалась обращаться с вами как со взрослыми людьми. Равными мне, моими друзьями. А вы к нашей дружбе отнеслись с полнейшим пренебежением. Я никак опомниться не могу.
– Простите, – сказал Чарльз.
Я у него такого смиренного голоса никогда не слышала.
Ханна обернулась к нему, соединив вместе наманикюренные ногти длинных пальцев, словно построила маленькую церковь со шпилем.
– Не в прощении дело, Чарльз. Когда вы повзрослеете – а до этого, как видно, еще ой как далеко, – вы поймете, что нельзя просто попросить прощения и все вернуть как было. У меня близкий друг умер, и я… я так расстроена…
Душераздирающий монолог длился во время закусок и добрую половину горячего. Когда наш официант резвой антилопой прискакал подать меню для десерта, мы сидели унылые, точно диссиденты тридцатых годов в СССР, после года исправительных работ в Сибири и прочем суровом Заполярье. Плечи Лулы поникли, – казалось, она сейчас упадет в обморок. Джейд не поднимала глаз от тарелки. Чарльз насупился, мрачный и несчастный. На лице Мильтона появилось обреченное выражение, и весь он сполз ниже на сиденье, так что его крупное тело почти совсем скрылось под столом. Найджел не проявлял внешних признаков сожаления или раскаяния, но, я заметила, он съел только половину бараньей ножки по-индийски, а к картофельному пюре с луком-пореем даже не притронулся.
Я, конечно, слушала, не пропуская ни слова, и сердце у меня сжималось всякий раз, как Ханна смотрела на меня, не скрывая горького разочарования. Почему-то, когда она смотрела на других, ее разочарование казалось не таким горьким, и дело тут не в папиной «теории самомнения», согласно которой человек всегда воображает, будто в каждой чужой пьесе непременно играет главную роль как единственный объект любви и ненависти всех прочих персонажей.
Время от времени Ханна в расстройстве выпускала страховочный канат своих реплик и замирала в мертвой тишине. Пауза тянулась необозримой безводной пустыней. Ресторан в сверканьи огней и звяканье посуды, с красиво сложенными салфеточками и ослепительными вилками (в них отражались застрявшие в зубах мельчайшие кусочки пищи), с подвешенной к потолку вдовствующей герцогиней, мечтающей наконец спуститься оттуда и пойти танцевать кадриль с каким-нибудь привлекательным холостяком, – все это словно стало чужим и беспросветным, как рассказ Хемингуэя со скупыми диалогами, убивающими всякую надежду словами-пулями, и роскошными властными голосами. Может, дело в том, что в моей личной хронологии имелся помеченный красным промежуток между 1987 и 1992 годами, с пояснительной надписью «НАТАША АЛИСИЯ БРИДЖЕС Ван Меер. МАМА»… Я всегда четко сознавала, что между людьми всегда бывает Первая встреча и Последняя встреча. И я не сомневалась, что сегодня у нас Последняя встреча. Пришло время прощаться, и нарядная обстановка ресторана для этого так же уместна, как и любая другая декорация.
Только одно помешало мне разреветься прямо над меню с десертами: комната Ханны. Предметы в той комнате определили ее с точностью и теперь позволяли мне понимать скрытый смысл каждого ее слова, каждого быстрого взгляда, каждой заминки в разговоре. Ханна в одиночку прикончила целую бутылку вина – явное свидетельство внутреннего разлада. И даже волосы у нее бессильно повисли. Конечно, я сознавала, что это слишком профессиональный подход, но поделать ничего не могла: я все-таки папина дочка, а значит, склонна все на свете каталогизировать. Под глазами у Ханны залегли сероватые тени, словно их заштриховали акварельным карандашом из набора мистера Моутса[242]. Она сидела очень прямо, как на уроке в школе[243]. Во время пауз, когда она не отчитывала нас, Ханна вздыхала и потирала пальцами ножку бокала, как в рекламе домохозяйка, заметившая пыль[244]. Я чувствовала, что среди мелких отдельных подробностей – коллекция ножей, голые стены, обувные коробки и колючее покрывало – кроется фабула Ханны, ее основная тема. Возможно, она просто вроде Фолкнера: ее надо читать очень внимательно, слово за словом, не пропуская постраничных комментариев, со всеми ее причудливыми лирическими отступлениями (костюмированная вечеринка) и неправдоподобными поворотами сюжета (Коттонвуд). Рано или поздно я дойду до последней страницы и пойму, о чем, собственно, книга. Может, еще и краткий пересказ для ленивых напишу.
– А расскажите что-нибудь про того человека, который умер, – вдруг попросила Лула, отводя глаза. – Я, конечно, не хочу лезть не в свое дело, и, если вам не хочется говорить об этом, я пойму. Но все-таки мне будет легче спать по ночам, если хоть немножко о нем узнаю. Какой он был?
Ханна могла бы ответить глухим безжизненным голосом, что после нашего гнусного предательства действительно не надо бы лезть не в свое дело. А она задумчиво посмотрела в меню десертов (примерно посередине между шербетом из маракуйи и пирожными ассорти), одним глотком допила вино и начала неожиданно захватывающий рассказ на тему: «Смок Уайанок Харви. Жизнеописание».
– Мы с ним познакомились в Чикаго, – начала Ханна, кашлянув.
Тут подлетел официант – долить в ее бокал остатки вина из бутылки.
– Пожалуйста, шоколадный торт «Валгалла» и к нему…
– Мороженое с белым шоколадом и карамельный соус? – прочирикал официант.
– На всех. И можно коньячную карту?
– Конечно, мадам!
Он с поклоном ретировался в свою любимую саванну, поросшую круглыми столиками и золочеными стульями.
– Боже, как давно это было… – Чайная ложечка в руках Ханны крутила тройные сальто. – Да, он был замечательный человек. Смешить умел несравненно. Щедрый до безрассудства. Великолепный рассказчик. Все к нему тянулись. Когда Смок… Дабс, я хотела сказать. Хорошие знакомые так его звали – Дабс. Когда он рассказывал какую-нибудь веселую историю, все хохотали до упаду. Просто умирали со смеху.
– Когда человек умеет хорошо рассказывать, это здорово, – сказала Лула, увлеченно подавшись вперед.
– И дом у него был потрясающий – как будто из «Унесенных ветром». Огромный, с белыми колоннами, и белая изгородь, и магнолии. На юге Западной Виргинии, поблизости от Финдли. Построен в тысяча восемьсот каком-то году. Он его назвал «Мургейт»[245]. Н-не помню почему.
– А вы там бывали? – спросила Лула замирающим шепотом.
Ханна кивнула:
– Много раз. Раньше там была табачная плантация – четыре тысячи акров, – но у Смока всего сто двадцать. Там водятся призраки. Рассказывали ужасную историю… Забыла. Что-то связанное с рабством…
Она наклонила голову к плечу, припоминая, а мы все вытянули шеи, как первоклашки, когда им читают вслух сказку.
– Дело было незадолго до Гражданской войны, так мне Дабс рассказывал. Кажется, дочь владельца поместья, местная красавица, полюбила раба и забеременела от него. Когда ребенок родился, хозяин поместья велел слугам отнести его в подвал и бросить в печь. И до сих во время грозы или летней ночью, когда в кухне стрекочут сверчки – особенно когда сверчки, – снизу, из подвала, доносится детский плач. А во дворе перед домом растет ива, – говорят, к ней привязывали провинившихся рабов во время порки. На стволе все еще можно разглядеть вырезанные инициалы той девушки и ее любимого. Дороти Эллен, первая жена Смока, ненавидела эту иву. Считала, дерево пропитано злом. Она была очень религиозна. Хотела, чтобы иву срубили, но Смок не позволил. Он сказал – нельзя притвориться, будто ничего плохого не было. Жизнь невозможно приукрасить. Все шрамы и обломки остаются с тобой – только так человек может учиться и становиться лучше.
– Старое какое дерево, – прокомментировал Найджел.
– Смок был человек с острым чувством истории. Понимаете, о чем я?
Ханна в упор смотрела на меня, и я машинально кивнула. Я и правда понимала, о чем она говорит. Леонардо да Винчи, Мартин Лютер Кинг-младший, Чингисхан, Авраам Линкольн, Бетт Дэвис – если почитать их биографии, видишь, что, когда им не было еще и месяца от роду и они гулили в колыбельке где-нибудь в неведомой глуши, уже тогда в них было что-то историческое. То пространство, которое в жизни других детей занимает бейсбол, деление столбиком, игрушечные машинки и хулахуп, у них занимает История с большой буквы, и потому они вечно простужаются, у них нет друзей, а иногда есть еще и какое-нибудь физическое уродство (хромота лорда Байрона, заикание Сомерсета Моэма и так далее). Они уходят в себя и начинают грезить о тайнах анатомии, борьбе за гражданские права, завоевании Азии, утраченной речи[246] или о том, чтобы в течение четырех лет побыть падшей женщиной, коварной злодейкой и старой девой[247].
– Да он прямо мечта, – сказала Джейд.
– Был, – тихо поправил Найджел.
– А вы с ним, э-э… – Чарльз оставил вопрос неоконченным, на дороге в пресловутый мотель с шершавыми простынями и классическим скрипучим матрасом.
– Мы были друзьями, – сказала Ханна. – Я для него слишком высокая. Он любил женщин-куколок, похожих на фарфоровые статуэтки. Все его жены – Дороти Эллен, Кларисса, бедняжка Дженис… Все они были ростом не больше пяти футов.
Ханна по-девчачьи хихикнула – и до чего же приятно было это слышать!
Потом она со вздохом оперлась подбородком на руку, словно женщина на черно-белой фотографии в затрепанной книге о каком-нибудь известном человеке, с подписью «На вечеринке в Куэрнаваке, конец 1970-х» (книга не о ней, а об осанистом нобелевском лауреате, который сидит рядом, но так выразительны ее темные глаза, гладкие волосы, строгое выражение лица, что невольно задерживаешь на ней взгляд и, когда оказывается, что в книге о ней ничего нет, не хочешь читать дальше).
Ханна говорила и говорила о Смоке Харви, на протяжении шоколадного торта, и английских сыров ассорти, и двух подряд «Я танцевать хочу до самого утра»[248] в переложении для фортепьяно. Словно греческую вазу Китса[249] оставили под включенным краном, и вода все течет, и течет, и уже льется через край.
Официант уже принес обратно ее кредитную карточку, а Ханна все не могла остановиться. Если честно, я даже немножко занервничала. Как сказал папа после первого свидания с июньской букашкой Бетиной Мендехо в городе Кокорро, Калифорния (Бетина прямо на весь ресторанчик «Тортилья Мексикана» транслировала историю о том, как ее бывший муж Джейк ее обокрал, отнял все, включая гордость и самоуважение):
– Забавно, о чем человек особенно боится говорить, именно о том он обычно и говорит при всяком удобном случае и очень подолгу.
– Кто-нибудь хочет последний кусочек сыра? – спросил Найджел и тут же сцапал этот последний кусочек.
– Он погиб из-за меня! – сказала Ханна.
– Нет, вы ни в чем не виноваты! – сказал Чарльз.
Ханна не слушала. На ее лицо постепенно наползала липкая краснота.
– Я его пригласила! Мы уже много лет не виделись. Перезванивались, конечно, но вы же понимаете, он был занятой человек. Я так хотела, чтобы он приехал… Ричард, мой коллега по приюту для животных, пригласил друзей из разных стран – он тринадцать лет проработал в Корпусе мира и со многими бывшими коллегами до сих пор поддерживает отношения. Интернациональное сборище – это же интересно. И еще я чувствовала, что Смоку необходим отдых. Его дочь Ада только что развелась с мужем. Другая дочь, Ширли, недавно родила ребенка Гладиолус. Вы можете себе представить человека по имени Гладиолус? Смок так хохотал, когда рассказывал мне по телефону… Это последнее, о чем мы говорили в жизни.
– А кто он был по профессии? – тихо спросила Джейд.
– Банкир, – ответил Найджел. – Но он еще и книгу написал, правильно? «Предательство дьявола», как-то так.
И снова Ханна как будто не услышала.
– Наш последний в жизни разговор был о гладиолусах, – сказала она, обращаясь к скатерти.
В полукруглых окнах скопилась темнота, краски в комнате как будто потускнели – и золоченые стулья, и обои с узором из французских королевских лилий, даже люстра-герцогиня слегка поуспокоилась. Как будто ушел наконец богатый и влиятельный гость и домашние могут расслабиться: откинуться на диване, брать еду руками, сбросить неудобные туфли. Парень за фортепьяно играл «Почему женщины так не похожи на нас?»[250] – одну из папиных любимых.
– Есть люди хрупкие, как… как бабочки. Нужно их беречь, чтобы не растоптать ненароком.
Ханна вновь смотрела прямо на меня. В ее глазах плясали крошечные блики. Я постаралась улыбнуться в ответ, хотя было трудно. Я вдруг увидела, что Ханна совсем пьяная. Веки у нее полузакрылись, будто неисправные шторы на окнах, а слова, как непослушные овцы, толкались, бодались и никак не хотели сбиваться в стадо.
– Когда растешь в загородном особняке… в богатом доме, ни в чем не знаешь отказа… то начинаешь думать, что ты лучше других. Раз тебя приняли в престижный клуб, значит можно всем встречным раздавать оплеухи и постоянно хапать и хапать все больше вещей. – Теперь Ханна смотрела на Джейд, а слово «вещей» произнесла так, будто откусила половину шоколадки. – Чтобы перебороть такое воспитание, нужны годы. Я всю жизнь над этим работаю и все равно до сих пор использую людей в своих целях. Свинство… Покажи мне, что человек ненавидит, и я скажу, кто он. Кто это сказал, не помню…
Ханна умолкла. Взгляд ее блуждал по столу, то и дело натыкаясь на вазу с розами. А мы лихорадочно переглядывались затаив дыхание. Так бывает, если в ресторан забредет бухой бродяга и, оскалив кривые зубы, начнет орать что-то про благо для всех трудящихся. Ханну, всегда такую сдержанную, как будто прорвало, и она разливалась на весь зал. Я никогда раньше не видела ее в таком состоянии, и, подозреваю, остальные тоже. Они смотрели на нее с болезненным любопытством, как смотрят научно-популярную передачу о спаривании крокодилов.
Ханна прикусила губу, а между бровями у нее залегла гневная складка. Я страшно испугалась, вдруг она сейчас объявит, что уезжает жить в кибуце или отправится во Вьетнам, станет там хипповать и курить гашиш (а нам придется ее называть «Ханна из Ханоя»). Или еще страшнее – чего доброго, расплачется. Ее глаза уже превратились в мокрые темные озера, где живут неведомые фосфоресцирующие твари. Трудно представить что-нибудь более ужасное, чем когда взрослые плачут: не обронят случайную слезинку во время телерекламы, не всплакнут солидно на похоронах, а по-настоящему горько плачут, сидя на полу в ванной или забившись в тесный рабочий кабинет или в гараж на две машины, отчаянно прижимая пальцы к глазам, словно там где-то есть клавиша «ОТМЕНА».
Все-таки Ханна плакать не стала. Только подняла голову и обвела взглядом ресторан с растерянным выражением человека, задремавшего в автобусе и вдруг проснувшегося с отпечатком рубашечного рукава на лбу.
– Пойдем отсюда, к чертям собачьим, – сказала она, шмыгнув носом.
Следующую неделю и даже еще немножко дольше я замечала, что Смок Уайанок Харви как будто не совсем умер.
Ханна своими многочисленными подробностями вернула его к жизни, как Франкенштейн – свое чудовище. И теперь для всех нас (даже для патологического прагматика Найджела) Смок по-прежнему был жив – просто куда-то девался. Допустим, его похитили.
Когда Смок упал в бассейн, Джейд, Лула и Чарльз с Мильтоном были совсем рядом, в патио (мы с Найджелом сказали нашим, что «развлекались в доме», и, строго говоря, не соврали). Теперь их мучили бесконечные «если бы».
– Если бы я вовремя оглянулась… – говорила Лу.
– Если бы я не стал докуривать косячок, – говорил Мильтон.
– Если бы я не подкатывал к Лейси Лорел из Спартанбурга, которая только что закончила тамошний бесплатный колледж по специальности «модные товары»… – вздыхал Чарльз.
– Я вас умоляю! – восклицала Джейд, сурово глядя на первогодков, стоящих позади нее в очереди за горячим шоколадом по два доллара порция.
Они от ее взгляда цепенели, как мелкие грызуны при виде беркута.
– Я ближе всех к нему была! Неужели трудно заметить, как чувак в зеленом костюме плавает в бассейне мордой вниз? Я могла нырнуть с бортика и спасти его запросто. Меня бы за такое доброе дело в рай без пропуска впустили! Так нет, и вот теперь у меня психологическая травма на всю жизнь. А что? Может, я никогда уже в себя не приду! Лет в тридцать сдадут меня в психушку с зелеными стенами, и буду я бродить по коридорам в уродской ночнушке и с волосатыми ногами. Бритву же туда брать не разрешают, а то вдруг ты себе вены вскроешь в общественной уборной.
В воскресенье у меня отлегло от сердца – Ханна с прежней энергией носилась по дому в красно-белом домашнем платье с цветами.
– Синь! – радостно крикнула она, как только мы с Джейд вошли в дверь. – Как дела? Приятно тебя видеть!
Свою пьяную выходку в ресторане Ханна не вспоминала и не извинилась за нее. Да оно и к лучшему. Может, ей не за что было извиняться. Папа говорил, некоторым людям, чтобы сохранить душевное здоровье, необходимо время от времени отпустить вожжи и, по его определению, «удариться в чеховщину»: надраться, чтобы язык еле ворочался, и упиваться своими страданиями – нежиться в них, как в горячем источнике.
– Говорят, Эйнштейн раз в год, чтобы выпустить пар, так напивался хефевайзеном[251], что его видели купающимся голышом в озере Карнеги в три часа утра. И его можно понять. Когда держишь на плечах всю тяжесть мира – а в данном случае пространства-времени, – нетрудно представить, как от этого устаешь.
Смерть Смока Харви – как, собственно, и любая смерть – вполне достойный повод, чтобы слова с трудом выталкивались изо рта, а глаза моргали так же медленно, как старичок с тросточкой взбирается по лестнице. Особенно если потом выглядишь эпически стильно и бодро, как Ханна. Она мигом припахала Мильтона накрывать на стол, сама тут же метнулась в кухню, сняла с плиты вопящий чайник, примчалась обратно, молниеносными движениями складывая салфетки в виде красивых японских вееров, и все время держала на лице ослепительную улыбку – как бокал с шампанским во время свадебного тоста.
А может, я просто слишком старалась поверить, что у Ханны все хорошо и замечательно и наши воскресные обеды вернутся к невесомой легкости докоттонвудских, домаскарадных времен. Или, наоборот, Ханна слишком старательно делала вид, что все отлично. Это как украшать свою камеру: какие занавески ни вешай, какой там коврик ни стели возле койки, все равно тюрьма.
В «Стоктон обсервере» напечатали вторую и последнюю статью о Смоке Харви. В ней подтвердили то, что все и так думали: он погиб в результате несчастного случая. Нет никаких признаков «телесных повреждений» и «уровень алкоголя в крови составляет 2,3 промилле – почти в три раза выше максимально допустимого по законам Северной Каролины значения 0,8 промилле». Споткнулся, упал в бассейн, не мог выплыть или позвать на помощь, потому что был слишком пьян, и через несколько минут утонул. Ханна так охотно рассказывала о нем тогда в ресторане и сейчас казалась такой веселой, что Найджел запросто снова заговорил о Смоке.
– Это сколько же надо было выпить, чтобы разогнать содержание алкоголя до такого уровня? – задумчиво произнес он, постукивая карандашом по подбородку. – Он весил, я думаю, фунтов двести пятьдесят?[252] Стаканов десять за час…
– Может, он пил, не разбавляя, – предположила Джейд.
– Жаль, в статье не рассказывают подробно о результатах вскрытия…
Ханна, поставив на низенький столик поднос с чаем улун, вдруг резко обернулась к нам:
– Прекратите сейчас же!
Все разом замолчали.
Мне трудно описать, как странно и пугающе прозвучал ее голос. Не сердито (хотя она явно сердилась), не расстроенно, не устало и не тоскливо, а странно (с долгим «а»: «стра-а-анно»).
Она опустила голову, закрыв лицо волосами – словно упал занавес после неудачного фокуса, – и молча ушла в кухню.
Мы в растерянности таращились друг на друга.
Найджел озадаченно покачал головой:
– Сначала надралась в ресторане, теперь вообще на людей кидается…
– Придурок хренов, – процедил Чарльз сквозь зубы.
– Тише, вы, – сказал Мильтон.
– Постойте! – вдруг разволновался Найджел. – Точно то же самое с ней было, когда я спросил про Валерио. Помните?
– Снова «Розовый бутон», – хмыкнула Джейд. – То есть Смок Харви – второй бутончик? Выходит, у Ханны два бутончика…
– Не надо пошлостей, – сказал Найджел.
– Заткнулись все! – бешено прошипел Чарльз. – Не то я…
Тут хлопнула дверь, и Ханна внесла в комнату поднос с жареными филейчиками.
– Простите меня, – сказал Найджел. – Зря я об этом заговорил. Иногда я увлекаюсь и не соображаю, что мои слова могут кого-то ранить. Пожалуйста, простите.
Мне показалось, что голос Найджела звучит довольно неискренне, но публика приняла его выступление одобрительно.
– Ничего страшного, – сказала Ханна, и на ее лицо вновь вернулась улыбка – спасательный канат, за который нам всем дозволено ухватиться.
Я бы не удивилась, если бы она продекламировала, подняв кверху руку с воображаемым бокалом мартини: «Мне случается потерять терпение, да так, что и не найдешь» или «В кино все постоянно целуются».[253]
Ханна отвела Найджелу волосы со лба:
– Тебе бы подстричься…
Больше мы при ней не упоминали Смока Харви. На том и закончилось его недолгое воскрешение, вызванное пьяным монологом на «Гиацинтовой террасе» и всеми нашими «что было бы, если». Из сочувствия к Ханне (как сказала Джейд, «наверное, что-то похожее чувствует человек, если нечаянно задавит кого-нибудь») мы тактично вернули нашего героя – мне нравилось представлять его древнегреческим героем, Ахиллом, например, или Аяксом, до того как он спятил («Дабс проживал жизнь сотни людей одновременно», – сказала тогда Ханна, вертя в руках чайную ложечку в бесконечном танце), – вернули его в те неведомые края, куда попадают люди после смерти, где вечная тишина и на фоне черно-белых улиц проступает красивым шрифтом «Конец фильма» и бесконечно счастливые герой с героиней склоняются друг к другу под звуки пронзительных скрипок.
Во всяком случае, до поры до времени.
Глава 13. «Влюбленные женщины», Д. Г. Лоуренс
Я бы слегка поменял известную фразу Льва Толстого, с которой начинается роман «Анна Каренина»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему, и притом на Рождество счастливые семьи могут в одночасье сделаться несчастными, а несчастные, к своему великому испугу, оказаться счастливыми».
Рождество всегда было для семьи Ван Меер особенным праздником.
Еще когда я была маленькая и папа в какой-нибудь декабрьский день готовил на обед прославленные ванмееровские спагетти с мясным соусом (случалось, к нам присоединялись «Политическое желание» Дж. Чейза Ламбертона [1980] и семисотпятидесятистраничная «Интеллигенция» Л. Л. Маколея [1991]), папа обычно просил меня рассказать в подробностях, как готовятся к празднованию в моей очередной школе. В Бримсдейле, штат Техас, был мистер Пайк со своим печально знаменитым Святочным журналом; в Слудере, штат Флорида, – Секретный магазинчик Санты, где продавались витые радужные свечи и шкатулки для украшений; в Ламего, штат Огайо, – двухдневная игрушечная деревня, только ее злостно разгромили вандалы-старшеклассники; а в городе Боутли, штат Иллинойс, поставили кошмарный самодеятельный спектакль «История Младенца Христа, музыкальная пьеса миссис Хардинг»[254]. Почему-то мои рассказы веселили папу не хуже, чем Стэн Лорел в короткометражной комедии 1918 года.
– Убей не понимаю, – стонал папа, задыхаясь от хохота, – как это ни один режиссер до сих пор не догадался снять фильм ужасов «Кошмары американского Рождества» или что-нибудь подобное. Это же золотая жила! Можно еще и продолжение снять, и телесериал. «Возвращение святого Ника. Часть шестая: Последнее Рождество». Или, скажем, «Олененок Рудольф отправляется к черту на рога». И зловещий подзаголовок: «Не сидите дома на Рождество!»
– Пап, вообще-то, считается, что на праздниках все радуются.
– Значит, я должен радостно сделать свой вклад в оживление американской экономики, закупая тоннами безумно дорогие и совершенно ненужные мне товары? У большинства из них имеются мелкие пластмассовые детальки, которые в первую же неделю отламываются, и вещь перестает функционировать. Я должен залезть в долги, не спать по ночам, зато экономика взбодрится, поникшие процентные ставки мигом подскочат, появятся новые рабочие места, в которых не было никакой необходимости, поскольку те же операции быстрее, точнее и дешевле выполнит изготовленное на Тайване устройство с программным управлением. Да уж, Кристабель, знаем мы это веселье!
А вот мои рассказы о подготовке к Рождеству в «Сент-Голуэе» почему-то не вызвали у сурового Эбенезера бурной критики, реплик по поводу «чумы потребительства», «корпоративных обжор и их непомерных рождественских премий» и даже мимолетного упоминания одной из папиных любимых социологических теорий – о «мишурной американской мечте». У нас в школе перила на всех лестницах (даже в притулившемся на отшибе корпусе Лумис, где работала Ханна) перевили сосновыми ветками, густыми и щетинистыми, как усы лесоруба. К деревянным дверям корпусов Элтон, Барроу и Воксхолл прикрепили – железными штырями, наверное, – роскошные венки в стиле эпохи Реформации. Установили гигантскую ель – настоящий Голиаф среди хвойных, – а на чугунных воротах проезда Горацио мигали белые фонарики, словно обезумевшие светлячки. Суровый скелетообразный семисвечник сиял огнями в самом конце коридора второго этажа корпуса Барроу – подальше от христианской территории (линию обороны держал преподаватель углубленного курса всемирной истории, мистер Карлос Сэндбом). На ручке входной двери корпуса Ганновер подвесили бубенцы размером с мячики для гольфа, и они тоскливо звякали каждый раз, как очередной опоздавший хлопал дверью, торопясь на урок.
Наверное, благодаря всей этой предпраздничной вакханалии мне удалось как будто отодвинуть от себя события предыдущих недель – так отодвигают в сторонку громадную кипу непрочитанной почты (зная, что, когда ее наконец откроешь, выяснится, что ты полностью разорился). К тому же, если верить папе, в Америке рождественские праздники в любом случае «время, когда люди впадают в кому и отказываются видеть реальность, притворяясь, будто обнищание трудящихся, голод, растущая безработица и СПИД – всего лишь экзотические фрукты с легкой кислинкой и для них сейчас, к счастью, не сезон». Значит, не так уж я и виновата, если убираю за кулисы Коттонвуд, маскарад, Смока и необычное поведение Ханны, а главную сцену отдаю экзаменам за полугодие, сбору старой одежды для благотворительных целей (кто сдаст больше всего мешков барахла, тому Эвита вручит Золотой билет – плюс десять баллов к оценке за любой экзамен по выбору; «Одежду складывайте в пластиковые мешки для скошенной травы и сухих листьев! – орала она утром на общем собрании. – По тридцать девять галлонов!»). И самое ослепительное – любимый проект президента ученического совета Максвелла Стюарта, Рождественский бал под лихим названием «Рождественское кабаре Максвелла».
И разумеется, любовь.
К сожалению, в основном не моя.
Как-то в начале декабря на свободном уроке в библиотеку вошел ученик-первогодок и обратился к мистеру Флетчеру, занятому решением кроссворда:
– Вас вызывает директор Хавермайер. Очень срочно!
Мистер Флетчер, явно недовольный, что ему не дают закончить «Финальный фейерверк мастера крестословиц» (Пуллен, 2003), поплелся за мальчиком к выходу и дальше, вверх по холму, к корпусу Ганновер.
– Ну, всё! – завизжала Тра. – Линда, жена Флетчера, собралась-таки покончить с собой, потому что Фрэнк не хочет с ней заниматься сексом, все время сидит над кроссвордами! Это ее крик о помощи!
– Точно, – подхватила Тру.
Еще через минуту в библиотеку вошли Флосс Камерон-Крисп, Марио Гариаццо, Дерек Плитс и еще какой-то парень из младшего класса, я его не знала по имени (настороженным выражением и слюнявой отвисшей губой он напоминал собаку Павлова). Они принесли с собой CD-плеер, микрофон со стойкой и динамиками, букет красных роз и трубу в футляре и немедленно приступили к чему-то вроде репетиции: подключили микрофон и плеер, а весь передний ряд столов отодвинули к стене, к списку рекомендованной литературы. Для этого им пришлось подвинуть и Сибли Хеммингс по прозвищу Носишка.
– А может, я не хочу пересаживаться! – заявила Сибли, морща свой задиристый носик; Тра и Тру уверяли, что этот носик приделал ей пластический хирург из Атланты, ваявший внешность множеству телеведущих на канале Си-эн-эн и одной актрисе из телесериала «Путеводный свет»[255]. – Сами лучше отойдите! Что вы тут раскомандовались? Эй, куда потащили?!
Флосс и Марио без долгих разговоров подняли парту с разложенным на ней имуществом Сибли – замшевой сумочкой, томиком «Гордость и предубеждение» (непрочитанным), двумя модными журналами (прочитанными) – и все это отнесли к стене. В сторонке разыгрывал восходящие и нисходящие гаммы на трубе Дерек Плитс, участник джаз-бенда «Сладкие булочки» (у нас с ним был общий урок углубленной физики). Флосс начал сворачивать истоптанный ковер горчичного цвета, а Марио, склонившись над плеером, подкручивал звук.
– Извините! – Тра встала перед Флоссом, скрестив руки на груди. – Что это вы тут делаете? Зачем самоуправство? Собираетесь захватить власть в школе?
– Имейте в виду, ничего у вас не получится! – Тру встала плечом к плечу с сестрой и тоже скрестила руки на груди. – Если хотите устроить переворот, подготовьтесь получше. Хэмбоун сейчас у себя в кабинете, она мигом вызовет кого следует!
– Если так хочется выпендриться, дождитесь утреннего сбора, там сразу всю школу можно взять в заложники.
– Да-да, и выдвинуть требования.
– Тогда руководство школы сразу поймет, что вы – сила, с которой нельзя не считаться.
– На вас тогда сразу обратят внимание.
Флосс и Марио, словно не слыша, подперли скатанный в трубку ковер стульями, чтобы не развернулся. Дерек Плитс начищал до блеска трубу мягкой фиолетовой тряпочкой, а Собака Павлова, высунув язык, проверял микрофон и динамики:
– Раз, раз, раз…
Удовлетворившись результатом, он помахал остальным, и все четверо столпились тесной кучкой, о чем-то шепчась и азартно кивая. Дерек Плитс разминал пальцы. Наконец Флосс взял в руки букет и, не говоря ни слова, протянул мне.
– Ой, мама! – пискнула Тра.
Я тупо держала цветы перед собой. Флосс, развернувшись на каблуках, ушагал куда-то за угол.
– Карточку-то откроешь? – затормошила меня Тра.
Я надорвала кремовый конвертик и вытащила записку.
На бумажке было выведено женским почерком:
СВИНГУЮТ ВСЕ
– Что там? – вытянув шею, спросила Тру.
– Какая-то угроза, – сказала Сибли.
К этому времени около меня столпились все, кто только был в читальном зале: Тра и Тру, Носишка, Джейсон Пледж с лошадиной физиономией, Пойнт Ричардсон и Микки Гибсон по прозвищу Укур. Носишка схватила карточку и жалостливо осмотрела, как будто это был мой приговор. Затем передала Укуру – тот, улыбнувшись мне, передал дальше Джейсону Пледжу, а тот отдал добычу Тра и Тру. Сестрицы склонились над карточкой, словно на ней записаны данные разведки времен Второй мировой, закодированные с помощью немецкой шифровальной машины «Энигма»[256].
– Странно что-то… – протянула Тра.
– Не то слово!
И вдруг все замолчали. Оглянувшись, я увидела, что надо мной, словно рододендрон на ветру, качая челкой, склонился Зак Содерберг. У меня было такое чувство, как будто я его сто лет не видела, – может, потому, что с того самого разговора про «одну девочку» я на уроках углубленной физики всегда притворялась, что страшно занята, а еще уговорила Лору Элмс до конца года быть моей напарницей по лабораторным работам, причем применила простой и грубый способ: пообещала писать за нее отчеты по лабораторкам. Да не копировать свои (тогда меня саму могли отстранить от занятий за жульничество), а сочинять их каждый раз заново, добросовестно воспроизводя скудный словарный запас Лоры, нелогичный ход рассуждений и корявый почерк. Зак, чтобы не быть больше в паре со своей бывшей, Лонни, объединился с моей бывшей напарницей Кристой Джибсен, а она вообще никогда уроки не делала, потому что работала на трех работах – копила деньги на операцию по уменьшению груди. Одна работа была в магазине эксклюзивных тканей «Люси», другая – в закусочной «Мир багеля», а третья – в отделе туристического снаряжения в универмаге «Сирс». Монотонность трудовых буден Криста скрашивала, изучая свойства энергии и материи. Вследствие этого мы всегда знали, кто из ее коллег недавно поступил на работу, кто скончался, болеет, проворовался, дрочит в кладовке, а также – что один из ее начальников (кажется, несчастный завсекцией в универмаге) влюбился в Кристу и собирается ради нее бросить жену.
Флосс нажал кнопку на плеере. Из динамиков загрохотали роботоподобные звуки диско семидесятых. К моему бесконечному ужасу, Зак, не сводя с меня взгляда (как будто мое лицо было зеркалом в танцклассе), пустился в пляс: два шага вперед, два шага назад, вихляем коленями… Другие мальчишки в точности повторяли его движения.
– Let this groove.[257] Get you to move. It’s alright. Alright! – Мальчишки фальцетом подпевали группе Earth, Wind & Fire. – Let this groove. Set in your shoes. So stand up, alright! Alright!
Они пели «Let’s Groove». Мальчишки сосредоточенно дергали плечами, щелкали пальцами и переступали ногами – так и видишь, как у них в мозгу бегущей строкой мелькают названия элементов, словно котировки на бирже («мах левой вперед, шаг левой назад, мах левой в сторону, шаг влево, мах правой вперед, правое колено в сторону»).
– I’ll be there, after a while, if you want my looove. We can boogie on down! On down! Boogie on down!
Дерек на трубе выводил подобие мелодии. Зак пел соло, изредка добавляя то шаг в сторону, то движение плечом. Пел очень старательно и притом ужасно. Потом крутанулся на месте. Тра тоненько пискнула, как детская игрушка.
У дверей библиотеки собралась, разинув рты, немаленькая толпа старшеклассников. Мистер Флетчер привел директора Хавермайера. Из своего кабинетика выскочила библиотекарша, миз Джессика Хэмбоун, сменившая четырех мужей и внешне похожая на Джоан Коллинз в зрелом возрасте. Наверное, вначале она собиралась прекратить безобразие, потому что прекращать безобразия – это была ее специальность. Только за этим она и выглядывала из своей норки, да еще на обед и во время пожарных учений. Все остальное время она, по слухам, закупала на сайте коллекционные пасхальные статуэтки и украшения со стразами фирмы «Богиня гламура». Но в этом случае она не ринулась в атаку на нарушителей со своей любимой репликой: «Здесь вам библиотека, а не спортзал!» – воздев руки к небесам и сверкая зелеными тенями для глаз в стиле металлик (удачно дополняющими серьги «Зачарованный сумрак» и браслет «Галактика мечты» и в свете флуоресцентных ламп придающими ей поразительное сходство с игуаной). Нет, миз Хэмбоун, онемев, прижала руку к груди, а ее крупные губы, обведенные яркой линией, вроде мелового контура вокруг трупа на месте преступления, изогнулись в лирически-задумчивой улыбке.
Мальчишки на заднем плане усердно отрабатывали линди-хоп[258], Зак вертелся волчком, а у миз Хэмбоун ритмично подергивалась левая рука.
Наконец музыка смолкла. Танцоры замерли как вкопанные.
С полминуты стояла тишина, а потом разразилась буря оваций. Хлопали все: толпа у двери, миз Хэмбоун и те, кто пришел в библиотеку заниматься (кроме Носишки).
– О боже, – сказала Тра.
– Глазам не верю, – сказала Тру.
Все таращились на меня, как на НЛО, а я хлопала и улыбалась всем подряд. Я улыбалась миз Хэмбоун, утиравшей глаза кружевной манжетой блузки с рюшечками в стиле рококо. Улыбалась мистеру Флетчеру – он так радовался, словно только что разгадал особенно трудный кроссворд. Улыбнулась даже Тра и Тру – они смотрели на меня потрясенно и вместе с тем испуганно (совсем как Розмари в конце фильма «Ребенок Розмари»[259], когда старики вопят: «Слава Сатане!»).
– Синь Ван Меер! – начал Зак, приблизившись к моей парте.
В свете флуоресцентных ламп его лохматую голову окружило сияние, как на иконах с изображением Иисуса в маленьких затхлых церквушках, где пахнет сыром грюйер.
– Пойдешь со мной на Рождественский бал?
Я кивнула, а что сделала это со страху и совершенно без всякой охоты, Зак не заметил. Уходя, он уносил на лице сияющую улыбку, будто я пообещала ему тут же, не сходя с места, оплатить – «налишными», как сказал бы папа, – новенький «понтиак гран-при» цвета бежевый металлик, со всеми наворотами, сел и поехал.
Точно так же Зак, да и никто другой, не заметил, что меня охватило сильнейшее ощущение, словно я попала в пьесу «Наш городок»[260], и оно ничуть не ослабло, когда Зак удалился вместе со своими подручными и с выражением необычайного самодовольства на лице (папа описывал похожее выражение у туземцев племени зуамбе в Камеруне, после того как они обрюхатят свою десятую жену).
– Как думаешь, у них уже был секс? – прищурившись, спросила Тру.
Они с сестрой сидели почти вплотную за мной.
– Стал бы он тогда ради нее из кожи лезть? Всем известно, как только переспишь с парнем, в ту же наносекунду переместишься с передовицы в раздел некрологов, да и то мелким шрифтом. А тут нам прямо Джастина Тимберлейка изобразили!
– А может, она какое-нибудь чудо невероятное в постели? Можно сказать, лучший друг мужчины.
– Лучший друг мужчины – шесть стриптизерш из Лас-Вегаса и кожаная сбруя.
– Может, у нее мама работает в «Дикой лошади»?[261]
И обе закатились хохотом. Не заткнулись, даже когда я обернулась и злобно на них уставилась.
Мы с папой однажды смотрели постановку «Нашего городка» (Уайлдер, 1938) в Университете Оклахомы (в роли Помощника режиссера дебютировал папин студент). Конечно, спектакль был не лишен недостатков (например, там явно напутали с адресом на конверте, так что «Божий мир» получился впереди «Нью-Хэмпшира»), и для папы сюжет оказался слишком приторным («Разбуди, если начнется стрельба»), а все-таки у меня защипало в глазах, когда Эмили Уэбб – ее играла миниатюрная девушка с волосами цвета искр из-под колес поезда – понимает, что никто в городке ее не видит и что скоро ей придется навсегда покинуть Гроверс-Корнерс. Правда, в моем случае вышло немного иначе. Все только на меня и смотрели, а я все равно чувствовала себя невидимкой. И если Зак Содерберг со своей нависающей челкой – мой Гроверс-Корнерс, я только рада буду убраться от него подальше.
Это печальное ощущение достигло небывалой остроты, когда, направляясь в корпус Ганновер на урок углубленного матанализа, я увидела Мильтона под ручку с Джоли Стюарт – девчонкой классом младше нас, до того миниатюрной, что кажется, ее можно унести в чемоданчике и катать на шетландском пони. Смех у нее напоминал звук детской погремушки; от него зубы сводило, даже если идешь по своим делам на расстоянии светового года от Джоли. Джейд уже сообщила мне, что Джоли и Блэк – идеальная счастливая парочка, вроде как Ньюман и Вудворд[262]. «Никто их не разобьет», – вздохнула Джейд.
– Здоров, Тошнюсик, – сказал Мильтон, проходя мимо.
И улыбнулся, и Джоли улыбнулась. На ней был голубой свитер, а в волосах – коричневый бархатный ободок, словно толстая мохнатая гусеница копошится за ушами.
Я раньше никогда не задумывалась всерьез об отношениях (папа говорил, до двадцати одного года это смешно, а после двадцати одного он рассматривал эту тему примерно как вопрос о том, где в очередном городке расположен банкомат и как ходят автобусы: «Разберемся ближе к делу»). А сейчас у меня вдруг сердце сжалось, когда я посмотрела на Мильтона и Джоли. Издали похоже на гориллу, выгуливающую крошечного йоркширского терьера, и все равно они улыбались так уверенно… Я попробовала представить, как это – когда человек, который тебе нравится, и к тебе тоже относится соответственно. Эта математическая задачка запустила в моей голове бесконечный процесс деления столбиком, и к тому времени, как я села за свою парту в первом ряду и учительница углубленного матанализа, миз Фермополис, вступила в борьбу с особо дюжей функцией из домашнего задания, результат моих мысленных вычислений получился довольно пугающий.
Наверное, поэтому люди, годами ставившие на кон свою удачу, в конце концов обменивают оставшуюся скудную горстку фишек на такого вот Зака Содерберга. Этот парень похож на школьную столовку – прямоугольную и ярко освещенную, ни единого темного уголка для волнующих тайн и загадочной неизвестности (даже под пластиковыми столиками и позади автоматов с напитками). Здесь не блестит разве что плесень на апельсиновом желе, а так – сплошной шпинат со сметаной и вчерашние сосиски.
Наверное, в тот день выпал какой-то декабрьский «Собачий полдень»[263], когда Любовь со всеми ее ненормальными родственничками – Влюбленностью, Похотью, «Так бы и съела» и «Втрескалась по уши» (поголовно страдающими от синдрома гиперактивности) потянуло на криминальные подвиги, терроризировать местное население. Когда папа отвез меня домой и снова уехал в университет, на собрание факультета, я взялась за уроки, и тут зазвонил телефон. Я сняла трубку – молчание. Полчаса спустя опять звонок. На этот раз я включила автоответчик.
– Гарет, это я, Китти. Нужно поговорить.
И щелчок отбоя.
Не прошло сорока пяти минут, она позвонила снова. Голос безжизненный и весь изрыт кратерами, как поверхность луны. Точно такой же голос был у Шелби Холлоу, а еще раньше – у Джесси Роуз Рубимен и у Беркли Штернберг – той самой Беркли, что использовала «Искусство безгрешной жизни» (Дрю, 1999) и «Управляй своей жизнью» (Ноззер, 2004) как подставки для горшков с африканскими фиалками.
– Г-гарет, я знаю, ты не любишь, когда я звоню, но мне правда нужно с тобой поговорить! Ты дома, я чувствую, просто трубку не берешь. Возьми трубку!
И ждет.
Я каждый раз представляла, как они стоят с трубкой в руке, в своих обшарпанных кухнях, наматывая телефонный провод на палец, пока тот не покраснеет. Почему им не приходило в голову, что автоответчик могу услышать я, а не папа? Назови хоть одна меня по имени – я, наверное, сняла бы трубку и постаралась по возможности их утешить. Объяснила бы, что папа – из тех теорий, которые невозможно доказать с полной несомненностью. Может, какой-нибудь гений и сумел бы его разгадать, но вероятность такого озарения бесконечно мала, не стоит и пытаться – только почувствуешь себя крошечной пылинкой (см. гл. 53 «Теория суперструн и М-теория, или общая теория всего» в кн. «Неконгруэнтность», В. Клоуз, 1998).
– Ну хорошо… Позвони мне, когда будет возможность. Я дома. А если куда-нибудь выйду, можно позвонить на мобильник. Может, я выйду в магазин. Яиц купить. А может, останусь дома, сделаю тако[264]. Ладно, считай, что я не звонила. После поговорим.
Сократ сказал: «Чем горячее любовь, тем холодней расставание». Если верить этому мудрому высказыванию, каждая папина история должна бы заканчиваться среди солнечного сияния и аромата роз. Он ведь никогда не врал июньским букашкам, не притворялся, будто его чувства можно определить иначе как словами «индифферентный» и «вялотекущий».
По-моему, папа и сам до конца не понимал, что творит. Рыдания очередной букашки вызывали у него ощущение легкой неловкости, не более. В тот день, придя вечером с работы, он поступил как обычно: выслушал сообщение (убавив звук, как только понял, от кого оно) и немедленно стер запись.
Потом спросил:
– Ты поужинала, Кристабель?
Он понимал, что я все слышала, но почему-то предпочитал игнорировать роковые предзнаменования, совсем как император Клавдий в 54 г. н. э., когда до него дошли слухи, что его любимая жена Агриппина задумала его убить, угостив отравленными грибами, которые поднесет императору его любимый евнух (см. «Жизнь двенадцати цезарей», Светоний, 121 г. н. э.).
Ничему-то папа не научился.
Две недели спустя, в субботу, день «Рождественского кабаре Максвелла», я оказалась заложницей в доме Зака Содерберга. На мне было старое черное коктейльное платье Джефферсон Уайтстоун – Джейд клялась, что платье создал Валентино специально для ее мамы, только она как-то со злости оторвала этикетку, когда они с Валентино воевали за внимание «полуголого бармена по имени Джибб в ночном клубе „Студия-54“[265]». («Так рушатся империи, – вздохнула Джейд, вместе с Лулой подкалывая платье в талии и проймах, чтобы не болталось на мне, как спасательный жилет. – Начнешь якшаться с нимродами[266], и цивилизации конец. Ну а что ты могла поделать? Вся школа кругом, и тут он тебя приглашает. Ничего и не скажешь, только что ты рада и счастлива послужить ему закуской. Бедная ты, целый вечер придется провести с этим Купоном». Купоном они прозвали Зака, и действительно в точку. Такой он и был: штрихкод, покупайте экономно, при предъявлении чека пять процентов скидки).
– Угощайся! – сказал Роджер, папа Зака, протягивая мне вазочку шоколадных конфет, обсыпанных какао-порошком.
– Не дави на нее! Может, она не хочет есть. – Пэтси, мама Зака, шлепнула Роджера по руке.
– Как это не хочет! Шоколад все любят.
– Роджер! Перед вечеринкой девушки всегда волнуются, тут не до еды. Потом пожует что-нибудь. Зак, ты уж присмотри, чтобы она поела!
– Угу, – сказал Зак и покраснел, как монашка.
Он виновато улыбнулся мне, пока Пэтси, встав на одно колено посреди белоснежного ковра в гостиной, щурилась на нас в видоискатель «Никона».
Родж тайком от жены подобрался ко мне сбоку и опять протянул керамическую вазочку, одними губами произнеся:
– Давай!
И подмигнул. Наверное, этот Родж в своем желтом хлопчатобумажном свитере и брюках цвета хаки – стрелки четкие, как международная линия перемены дат, – мог бы успешно впаривать клиентам оптовые партии дури (снега, плана и так далее).
Я, так и быть, взяла одну штучку. Конфета сейчас же начала таять в руке.
– Роджер!
Пэтси осуждающе прищелкнула языком, отчего на щеках двумя стежками обозначились ямочки, и сделала уже шестнадцатый снимок – запечатлевший на сей раз, как мы с Заком сидим на диване в цветочек, идеально ровно согнув ноги в коленях под углом в девяносто градусов.
Пэтси сама себя называла «фотоманьяком». По всей комнате, на всех горизонтальных поверхностях были разбросаны фотографии в рамках, словно мокрые осенние листья в беседке.
На снимках – криво улыбающийся Зак, лопоухая Бетани-Луиза, несколько Роджей, когда он еще носил стрижку с баками, и Пэтси, еще с рыжевато-каштановыми волосами. Она их укладывала халой на голове, посыпав бантиками вместо мака.
Свободной от фотографий оставалась только одна поверхность – кофейный столик перед диваном, и на нем была разложена неоконченная игра в парчизи[267].
– Тебе не слишком неловко было за Зака с этим его выступлением? – спросила Пэтси.
– Нет, что вы.
– Он так волновался! Репетировал без конца. Среди ночи будил Бетани-Луизу, чтобы пройти с ней элементы танца.
– Мам! – сказал Зак.
– Он понимал, что рискует, – прибавил Родж. – А я ему говорил: кто не рискует, тот не выигрывает.
– Это у них семейное! – Пэтси кивнула на Роджа. – Видела бы ты, как он предложение делал!
– Иногда просто невозможно держать себя в руках.
– И слава богу!
– Мам, нам пора, – сказал Зак.
– Хорошо-хорошо! Только еще разочек щелкну – вот тут, у окна.
– Мам!
– Всего одну, последнюю. Свет уж очень хорош. Одну, честное слово!
Я никогда еще не бывала в доме, полном восклицательных знаков. Даже не представляла, что в жизни правда бывают такие уютные закуточки, где ты окунаешься, как в джакузи, в непрерывный поток объятий и ласковых возгласов. Думала, такое только воображаешь себе в мечтах, глядя на чужую, счастливую с виду соседскую семью.
За час до описанного разговора мы с Заком подъехали к дощатому домику, бесхитростному, словно бутерброд на тощеньких деревянных подпорках. Пэтси в зеленой, как надкрылья жука, блузке сбежала с крыльца нам навстречу, не дожидаясь, пока Зак припаркует машину.
– Ты говорил, что она хорошенькая, но утаил, что она – сногсшибательная красавица! Зак никогда ничего нам не рассказывает! – воскликнула Пэтси.
Не потому, что приветствовала нас издали, – просто она всегда так разговаривает, сплошными восклицаниями.
Пэтси была миловидная (хоть фунтов на двадцать пять потяжелее, чем во дни цветущей юности). Ее веселое круглое лицо напоминало свежеиспеченный бисквитный торт, украшенный вишенкой и любовно выставленный в витрине кондитерской. Родж был по-своему тоже хорош, хотя совсем не в том стиле, как папа. Скорее, в противоположном (Закари, не забудь бензин залить в машину; только что залил целый бак, пап; молодец, умница). Родж весь сверкал, будто новенькая ванная, отделанная модным белым кафелем. Голубые глаза искрятся, а кожа такая безупречно чистая, что, глядя ему в лицо, невольно ожидаешь увидеть собственное отражение.
Наконец, сделав двадцать первый снимок (она говорила «фоточку»), Пэтси отпустила нас с Заком. Когда мы уже выходили в аккуратную бежевую прихожую, Родж украдкой сунул мне горсть конфет, завернутых в льняную салфетку, явно надеясь, что я их тайно вынесу из дома.
– О, постойте! – сказал вдруг Зак. – Я хотел показать Синь Тернера. По-моему, ей понравится.
– Конечно! – Пэтси захлопала в ладоши.
– Всего одна секунда, – сказал мне Зак.
Я нехотя поплелась за ним по лестнице.
Заметим для протокола: когда Зак приехал за мной на своей «тойоте», разговор с папой он выдержал весьма достойно. Насколько я поняла, рукопожатие в кои-то веки не было похоже на «мокрую тряпку», как обычно говорит папа; Зак назвал его «сэр», отметил, что погода нынче прекрасная, и поинтересовался папиной профессией. Папа, смерив его взглядом, ответил с краткостью, от которой оробел бы и Муссолини: «Разве?» и «Преподаю гражданскую войну». Другие папы могли бы сжалиться над Заком, вспомнив собственные подгибающиеся коленки в юном возрасте, и постараться, чтобы «мальчик почувствовал себя свободнее». Мой папа, увы, приложил все силы, чтобы «мальчик почувствовал себя маленьким и жалким», всего лишь потому, что Заку интуиция не подсказала, чем именно папа зарабатывает на жизнь. Главное, папе прекрасно известно, что количество читателей «Федерального форума» составляет менее 0,3 процента населения Соединенных Штатов, а следовательно, разве что горстка людей читали его статьи и видели его, такого романтического (июньские букашки сказали бы «видного» или «импозантного») на черно-белой фоточке в разделе «Наши постоянные авторы», – а все-таки он злится, что со своей преподавательской деятельностью не настолько известен, как, допустим, Сильвестр Сталлоне со своим «Рокки».
Зак, однако, сохранял неумолимый оптимизм какого-нибудь мультяшного персонажа.
– Не позже полуночи! – возгласил папа на прощание. – Я серьезно!
– Даю вам слово, мистер Ван Меер!
Папа не потрудился скрыть выражение лица, явственно подразумевающее «Кто бы еще тут говорил». Я сделала вид, что ничего не замечаю, хотя папино лицо немедленно вслед за этим приняло выражение «Зима тревоги нашей»[268] и сразу после – «Стреляй, не щади мою седую голову»[269].
– Приятный у тебя папа, – сказал Зак, заводя мотор.
О моем папе можно много чего сказать, только не вялое «приятный».
И вот я плетусь за этим Заком по душному, выстланному ковровой дорожкой коридорчику, – видимо, здесь и находятся их с сестрой комнаты, судя по разбросанным вдоль стены вещам и специфическому букету ароматов (благоухание спортивных носков борется с персиковым парфюмом, туалетная вода тщится одолеть испарения мятого серого свитера и грозится наябедничать маме). Мы прошли мимо комнаты, где явно обитает Бетани-Луиза, – все в розовых тонах и груда одежды на полу (см. статью «Гора Маккинли» в альманахе «Выдающиеся достопримечательности всего мира» за 2000 г.). Миновали еще одну комнату – за приоткрытой дверью мелькнули синие стены, спортивные кубки и плакат с ненатурально загорелой красоткой в бикини (не особо напрягая воображение, можно продолжить логический ряд и представить себе засунутый под матрас потрепанный каталог дамского белья со слипшимися страницами).
Зак остановился в дальнем конце коридора. Там в свете изогнутой позолоченной настенной лампы висела небольшая картина – словно иллюминатор.
– Понимаешь, мой папа – священник в Первой баптистской церкви. И вот в прошлом году его проповедь «Четырнадцать чаяний» услышал один приезжий из Вашингтона. Этот Сесил Ролофф потом сказал папе, что проповедь перевернула ему душу, он прямо как заново родился. А через неделю прислал по почте эту картину, обыкновенной посылкой. Подлинник, между прочим. Знаешь Тернера?
Самой собой, я знала Короля света – иначе говоря, Дж. М. У. Тернера (1775–1851). Как-никак я прочла его восьмисотстраничную биографию за авторством Алехандро Пензанса, которая была признана непригодной для детского чтения и не издавалась за пределами Европы: «Неимущий художник, рожденный в Англии» (1974).[270]
– Называется «Рыбаки. Вдали от берега», – сказал Зак.
Я перешагнула через безжизненно лежащие на полу зеленые спортивные трусы и вытянула шею, чтобы поближе рассмотреть картину. Похоже, действительно подлинник, хоть здесь и не наблюдался тот «пир света», когда художник «отбрасывает ко всем чертям общепринятые условности и берет искусство за яйца» – так Пензанс описывает характерную тернеровскую размытую, почти абстрактную манеру письма (Введение, стр. viii).
Передо мной было произведение, выполненное маслом, в темных тонах. Затерянная в бурном море рыбацкая лодка была изображена с помощью всевозможных оттенков серого, зеленого и коричневого. Плескали волны, и тусклая луна боязливо выглядывала из-за облаков, освещая лодочку размером со спичечный коробок.
– Почему она здесь висит? – спросила я.
Зак смущенно засмеялся:
– Мама хочет, чтобы она была поближе к нам с сестрой. Говорит, спать рядом с произведением искусства полезно для здоровья.
– Интересная трактовка освещения, – заметила я. – Немного напоминает «Пожар парламента», особенно небо. Хотя колорит, конечно, совсем другой.
– Мне облака особенно нравятся. – Зак говорил сипло, словно в горле у него застряла столовая ложка. – Знаешь что?
– Что?
– Эта лодка похожа на тебя.
Я так и застыла. В лице Зака жестокости было не больше, чем в бутерброде с арахисовым маслом (к тому же он подстригся, так что челка больше не закрывала глаза), но от его слов мне вдруг стало… В общем, я почувствовала, что видеть его не могу. Надо же, приравнял меня к убогой лодчонке с командой из безликих желто-бурых крапинок – да и неудачливых к тому же, ведь на суденышко вот-вот обрушится громадная маслянисто поблескивающая волна и все потонут, а виднеющийся неясным коричневым пятном на горизонте корабль вряд ли придет им на помощь.
Папа тоже не терпел, когда кто-нибудь брал на себя роль его персонального Дельфийского оракула. Именно из-за этого многие его университетские коллеги переходили из разряда безвредных безымянных личностей в ряды врагов, которых он называл не иначе как «отщепенцами» и «bêtes noires»[271]. Все они совершили одну и ту же ошибку: пытались упростить папу, определить его двумя словами и ему же его объяснить (причем неправильно).
Четыре года назад на открытии Всемирного симпозиума в колледже Додсон-Майнер папа прочел сорокадевятиминутную лекцию, озаглавленную «Модели ненависти и торговля органами». Эту лекцию он особенно любил, потому что в 1995 году самолично беседовал в Хьюстоне с некой усатой дамой по имени Слетник Патруцка, ради свободы продавшей свою почку (она со слезами на глазах показывала нам свои шрамы, сказав: «Сталь – это больно»). Когда папа закончил лекцию, на трибуну выскочил ректор колледжа Родни Берд и, утерев платочком слюнявый рот, изрек:
– Доктор Ван Меер, благодарю за ваши глубокие исследования посткоммунистической России. Нечасто удается залучить в университет настоящего русского эмигранта… – Он произнес это с такой интонацией, словно речь идет о каком-то загадочном неуловимом персонаже. – Мы все надеемся на плодотворную совместную работу в будущем семестре. Если у кого-нибудь есть вопросы по роману «Война и мир» – вот к кому вам следует обращаться!
В папиной лекции речь шла о торговле органами в странах Западной Европы, а в России он никогда не бывал. Будучи полиглотом, он практически не знал русского языка, если не считать известной поговорки «Na Boga nadeisya, a sam ne ploshai», в переводе означающей «В Бога веруй, однако машину запирай».
– Когда тебя неверно понимают, – говорил папа, – да еще и заявляют прямо в лицо, будто всю твою сложную сущность можно выразить десятком слов, небрежно нанизанных на веревку, точно застиранное белье, – это самого спокойного человека выведет из себя.
Тесный коридорчик нагонял клаустрофобию. В тишине слышно было только дыхание Зака – как будто к уху приложили морскую раковину. Его взгляд стекал по мне, по складкам шуршащего черного платья Джефферсон, похожего на японский гриб шитаке, если смотреть искоса. Тонкая серебристо-черная ткань казалась непрочной – вот-вот сползет с меня, будто фольга с остывшей жареной курицы.
– Синь?
Я посмотрела на Зака, и это было ошибкой. Его лицо с нелепо длинными ресницами, словно у коровы джерсейской породы, наплывало на меня неумолимо, как Гондвана – древний континент, двести миллионов лет тому назад медленно смещавшийся к Южному полюсу.
«Он хочет, чтобы наши тектонические плиты столкнулись и наползли друг на друга и чтобы раскаленная лава вырвалась из земных недр, создавая бешено извергающийся нестабильный вулкан». Меня прямо пот прошиб. Раньше я испытывала нечто подобное только в мечтах, когда голова моя покоилась на сгибе локтя Андрео Вердуги, а губы утыкались ему в шею, в спиртовой аромат его одеколона. Зак словно замер на перекрестке между Желаньем и Робостью, терпеливо дожидаясь, пока включится зеленый свет (хотя на дороге ни души). Казалось бы, надо бежать без оглядки, забиться куда-нибудь в уголок и думать о Мильтоне (я весь вечер втайне представляла себе, что это он сегодня познакомился с моим папой и что это его родители суетятся вокруг меня в гостиной) – но нет, удивительное дело, я подумала о Ханне Шнайдер.
Я ее видела в школе после шестого урока. В черном шерстяном платье с длинным рукавом, с кремовой холщовой сумкой в руках, она шла неровными шагами к корпусу Ганновер, низко опустив голову. Всегда худая, сегодня она казалась особенно узкой и сгорбленной, даже какой-то сплющенной, словно ее прихлопнуло дверью.
Сейчас, когда я, словно Дороти в Канзасе, увязла в странной сентиментальной минуте с этим Заком, жутко было представить Ханну так близко к Доку, что она могла бы сосчитать седые волоски у него на подобородке. Как она терпит его руки, его костлявые плечи и на следующее утро – бесцветное небо, словно стерильный больничный линолеум? Что с ней не так? Явно что-то не так, просто я об этом всерьез не задумывалась – слишком была занята собой и Блэком, каждым его чихом, Джейд, Лу, Найджелом, своей новой прической… («Среднюю американскую девушку больше всего волнует прическа – челочка, перманент, распрямление, секущиеся волосы; все прочее отступает на второй план, включая развод, убийство и атомную войну», – пишет доктор Майкл Эспиленд в своей книге «Стучись, прежде чем войти» [1993].) Что заставило Ханну снизойти до Коттонвуда, подобно тому как Данте добровольно спускается в ад? Откуда это упорное стремление к саморазрушению, ставшее особенно заметным после гибели ее друга Смока Харви? Если вдуматься, оно проявляется буквально во всем: в ее пристрастии к алкоголю и нецензурным ругательствам, в ее худобе – она же похожа на изголодавшуюся ворону. Тоска разрастается, если ее не лечить. Это относится и к невезению, как утверждает Ирма Стенплак, автор книги «Дефицит доверия». На странице 329 она подробно развивает свою мысль: стоит только перенести малейшую неудачу, и вскоре «твой корабль идет на дно посреди Атлантики». Может, это не наше дело, а может, Ханна с самого начала надеялась, что кто-нибудь из нас отвлечется на минуточку от себя любимого и спросит, каково ей самой. Не из любопытства, просто потому, что она наш друг и явно потихоньку рассыпается на куски.
Я стояла в коридоре возле картины Тернера и ненавидела себя, а Зак все еще колебался на краю бездонной пропасти поцелуя.
– Тебя что-то беспокоит, – негромко заметил он.
Прямо Карл Юнг. Зигмунд, чтоб его, Фрейд.
– Пошли отсюда, – сказала я грубо и попятилась.
Зак улыбнулся. Поразительное явление природы: в его лице просто не было выражения злости или досады, как в языке некоторых индейских племен, хупа или могавков, нет слова, обозначающего фиолетовый цвет.
– Знаешь, чем ты похожа на эту лодку? – спросил Зак.
Я пожала плечами. Платье чуть слышно прошуршало.
– Видишь, во всей картине только на нее светит луна? Вот отсюда, сбоку. Все темное, и только лодка светится.
Так он сказал. Не помню точные слова, но в них бурлила кипящая лава, неся с собой куски горной породы, пепел и раскаленный газ. Я не стала дожидаться, пока меня захлестнет, и сбежала вниз по лестнице. Пэтси и Родж все еще стояли там, где мы их оставили, словно две тележки с покупками, забытые в супермаркете.
– Правда, это нечто? – воскликнула Пэтси.
Мы с Заком сели в «тойоту». Его родители махали нам вслед. На их лицах фейерверками расцветали улыбки. Я тоже помахала, высунувшись в окно:
– Спасибо! До свидания!
Как странно, что по реке жизни плывут и такие ромашки, как Зак и его родители. Течение несет их мимо диких орхидей, мимо чертополоха вроде Ханны Шнайдер, мимо Гаретов Ван Мееров, застрявших в кустах и в грязи. Папа таких ненавидел и, случайно услышав где-нибудь в очереди их неизменно безмятежные разговоры, называл «пушинками» (его самое презрительное обозначение «приятных людей»).
Мне самой не терпелось отделаться от Зака, как только приедем на дискотеку (там будут Джейд и вся наша компания, будут Блэк и Джоли – хорошо бы, у Джоли какие-нибудь прыщи высыпали на лице, не поддающиеся никаким средствам современной медицины). И все-таки – что со мной не так? Я почти восхищалась его неистребимым оптимизмом. Я шарахнулась от его поцелуя, словно на меня напала стая саранчи, а он улыбается и бодро спрашивает, удобно ли мне и не упираются ли коленки.
Когда мы выезжали на шоссе, я оглянулась. Пэтси и Родж стояли на крылечке – наверняка по-прежнему уютно обнимая друг друга за талию. За тощими сосенками мелькала зеленая блузка Пэтси. Зак включил какую-то попсу по радио. Я бы ни за что не призналась папе, что на секунду меня посетила мысль: может, не настолько и ужасно, если у человека такая семья? Папа с веселой усмешкой, и мальчишка с такими синими глазами, что кажется, сейчас из них воробей вылетит, и мама, неотрывно провожающая сына взглядом, – так собака, привязанная у входа в магазин, не сводит глаз с автоматических раздвижных дверей.
– Дискотека – это здорово, правда? – сказал Зак.
Я кивнула.
Глава 14. «Взломщик из Шейди-Хилла», Джон Чивер
Школьная столовая под железным руководством председателя студенческого совета Максвелла приняла облик шикарного ночного клуба в версальском стиле: поддельные вазы севрского фарфора, французские сыры и пирожные, золотая мишура. Поверх стенда «Мир и эпоха» (групповые снимки учащихся «Голуэя» с 1910 года до наших дней) прикрепили грубо намалеванные плакаты с девушками странных пропорций на качелях. Считалось, что они должны напоминать игривую картину Фрагонара «Качели» (ок. 1767), хотя на самом деле эти произведения почему-то вызывали в памяти «Крик» Мунка (ок. 1893).
Присматривать за происходящим явилась половина преподавательского состава, нарядившись кто во что горазд. Рядом с Хавермайером стояла его худая, бледнолицая жена Глория в черном бархате (Глория редко появлялась на публике; поговаривали, что она почти не выходит из дома, целыми днями валяется на диване, поедает зефир и читает романы Цирцеи Кенсингтон, любимого автора многих июньских букашек, – поэтому я и знаю, как называется ее самая популярная книга, «Сокровище Рочестера де Вилинга» [1990]). Поблизости пучил глаза, ухватившись за подоконник, мистер Арчер, упакованный в темно-синий костюм, словно приглашение в конверт. Мисс Фермополис в легкомысленных гавайских оранжево-красных тонах болтала с мистером Баттерсом (она, видно, обработала свои волосы каким-то специальным средством, превращающим локоны в мотки испанского мха). Любимец Ханны мистер Моутс прислонился к дверному косяку, почти упираясь головой в притолоку; на нем был пиджак цвета берлинской лазури и клетчатые брюки. (У мистера Моутса очень своеобразное лицо: нос, пухлые губы, подбородок и значительная доля щек столпились в нижней части, словно пассажиры тонущего судна у спасательной шлюпки.)
Джейд и компания клялись многочисленными могилками дедушек-бабушек, что явятся к девяти, но в половине одиннадцатого никто из них еще не показывался, даже Мильтон. Ханна тоже собиралась прийти («Эва Брюстер просила меня заглянуть»), однако и ее не было. И вот я застряла в жуткой стране Заксландии, родине Влажных ладошек, Наступательного ботинка, Дрожащей ручонки, Ароматизированного дыхания и Еле слышного фальшивого напевания, раздражающего хуже всякой электродрели. Самый крупный город – скопление веснушек на шее за левым ухом. Реки пота на висках и в ямке у шеи.
На танцполе народу толпилось – не протолкаться. В двух шагах от нас танцевала бывшая подружка Зака, Лонни Феликс. Ее кавалер Клиффорд Уэллс с остреньким, как у эльфа, подбородком, росточком был ей по плечо, да и весил явно меньше. Каждый раз, когда она, откидываясь назад, командовала: «Держи меня!» – он, стиснув зубы, из последних сил удерживал ее на весу, чтобы не шмякнулась на пол. А она с упоением выписывала какие-то ею самой изобретенные пируэты, едва не задевая меня по лицу локтями и жесткими высветленными волосами каждый раз, когда в танце Зак оказывался лицом к окну, а я – к столу с закусками (где непривычно молчаливая Эвита в синем платье с пышными рукавами намазывала оладьи «Нутеллой»).
Максвелл совершенно забросил свою партнершу Кимми Касински (печальную русалку в зеленом атласе, горюющую, что никак не может увлечь красавца-моряка) и, словно безумный Финеас Т. Барнум[272], командовал цирком уродов – усталым до помутнения джаз-бендом «Сладкие булочки».
– Прошу прощенья! – сказал чей-то голос у меня за спиной.
Это Джейд пришла, мой рыцарь в сверкающих доспехах! Правда, я сразу заметила неладное. Доннамара Чейз в необъятном розовом платье с юбкой колоколом, и ее партнер, вечно облизывающий губы Тракер, и еще кое-кто, например Сэнди Квинс-Вуд, Джошуа Катберт и Динки, живой капкан, прочно обхватившая за шею несчастного пленника Бретта Карлсона, – все перестали танцевать и таращились на Джейд.
Оно и неудивительно.
На ней было тонкое шелковое платье мандаринового цвета; смелое декольте устремлялось от шеи к талии с отчаянностью парашютиста в свободном падении. Бюстгальтера не наблюдалось, так же как и туфель. Джейд была совершенно пьяная. Она смотрела на нас с Заком, грозно подбоченившись по своей всегдашней привычке, но сейчас казалось, она просто подпирает сама себя, чтобы не упасть. Черные туфли на шпильках она держала в руке.
– Если ты не против, Ку… Купон, я украду у тебя Рвотинку на минуточку.
Ее шатнуло; я испугалась – вот сейчас рухнет.
– У тебя все в порядке? – спросил Зак.
Я бросилась к Джейд и, подхватив ее под локоть, потащила прочь, стараясь тянуть не слишком сильно, а то еще растечется оранжевой лужицей по танцполу. При этом я еще и улыбку нацепила на лицо.
– Ну извини, я опоздала! Что тут скажешь? В пробке застряла.
Я уволокла ее подальше от учителей, в толпу первогодков, дегустирующих шоколадные пирожные и французские сыры («На вкус как какашки», – заметил кто-то).
Сердце у меня отчаянно колотилось. Еще минута, нет, секунда, Эвита нас увидит, и Джейд отправят под трибунал, по голуэйскому выражению – «за круглый стол». Дальше последует неотвратимое наказание – общественные работы. Джейд заставят подавать овощной супчик лакомым дедулям в доме престарелых, которые будут причмокивать, на нее глядя. А может, ее и совсем из школы исключат! Я начала спешно придумывать объяснение – что-нибудь насчет вредоносной таблетки, якобы подсунутой в стакан сока неким прыщавым психопатом; я много статей перечитала на эту тему. Конечно, можно просто притвориться дурочкой («Если не знаешь, что делать, прикидывайся шлангом, – произнес у меня в голове папин голос. – Человек не виноват, если родился с низким ай-кью»). Но не успела я опомниться, как мы уже пробежали мимо стола с закусками и мимо туалета и никем не замеченные выскочили за дверь. (Мистер Моутс, если вы читаете эти строки, по-моему, вы-то как раз заметили; нескрываемая скука на вашем лице сменилась радостно-циничным выражением, вы вздохнули и больше ничего делать не стали – спасибо вам за это! А если вы сейчас не поняли, о чем речь, то считайте, я ничего не говорила.)
Оказавшись снаружи, я потащила Джейд через кирпичную террасу с коваными скамеечками («Ай! Больно, между прочим!»). На скамейках обосновались особо рьяные парочки.
Оглянувшись через плечо – нет ли погони, – я поволокла Джейд по газону и дальше по усыпанной мелкими камушками дорожке. Оранжевые фонари бросали на землю наши длинные тощие тени. Я ослабила хватку только возле корпуса Ганновер, темного и пустынного. Ночь окрасила все вокруг в сине-серые тона – темные провалы окон, деревянные ступени крыльца, забытый кем-то листок с домашкой по алгебре, тихо бормочущий во сне.
– Ты в своем уме, вообще? – заорала я на Джейд.
– А что?
– Как ты додумалась явиться в таком виде?
– Да ну тебя, Рвотинка. Не ори.
– Хочешь из школы вылететь?
– Нахер тебя, – захихикала она. – И твоего песика![273]
– Где все? Где Ханна?
Джейд скорчила гримасу:
– Все у нее. Пекут яблочный пирог и смотрят «Небо и землю»[274]. Ты правильно угадала – все тебя бросили. Решили, что здесь будет скучища. Я одна – верная. А где благодарность? Я принимаю наличные, чеки на предъявителя, «Мастеркард», «Визу». Только не «Америкэн экспресс».
– Джейд!
– А они все – предатели. Пятая колонна. И если тебе вдруг интересно, Блэк со своим цветочком сейчас занимаются всякими гадостями в дешевом мотеле. Он прямо весь такой влюбленный, убила бы. Эта девка – вроде Йоко Оно, из-за нее мы все рассоримся…
– Слушай, возьми себя в руки!
– Да я в полном порядке! – Джейд улыбнулась. – Пошли куда-нибудь в бар, где мужчины мужественны, а женщины волосаты. И улыбки их отдают пивом.
– Поезжай домой, а?
– Я бы лучше в Бразилию… Рвотинка!
– Что?
– Кажется, меня сейчас вырвет.
Она и правда выглядела неважно, даже губы побелели. Джейд смотрела на меня огромными трагическими глазами, прижимая ладонь к горлу.
Я схватила ее за руку и потянула к рощице молодых сосенок, хотя безвинные деревца ничем не заслужили подобной участи, но Джейд вдруг захныкала, как маленький ребенок, которого заставляют доесть цветную капусту или пристегивают на заднем сиденье машины, и бросилась к входу Ганновера. Я думала, там заперто, а оказалось – открыто. Джейд исчезла в здании.
Я нашла ее в туалете, возле кабинета Мирты Грейзли. Джейд стояла на коленках перед унитазом. Ее рвало.
– Ненавижу блевать! Лучше сдохнуть! Убей меня, пожалуйста, я тебя умоляю!
Пятнадцать мучительных минут я придерживала ее волосы.
– Полегчало, – сказала наконец Джейд, утирая глаза и рот.
Наскоро умывшись, она рухнула лицом вниз на диванчик в комнате, где Мирта Грейзли встречалась с родителями будущих учеников.
– Поехали домой, – попросила я. – Только подожди одну секундочку, я мигом вернусь.
Свет мы не включали. Казалось, будто мы находимся на дне океана. По паркету тянулись истонченные тени голых деревьев за окном, словно водоросли. Саргассы какие-нибудь. Пылинки на оконном стекле – зоопланктон, торшер в углу – морская губка из стекловолокна. Джейд со вздохом перевернулась на спину. Пряди волос прилипли к щекам.
– Пошли отсюда, – повторила я.
– Он тебе нравится, – сказала Джейд.
– Кто?
– Купон.
– Нравится, как шумовое загрязнение окружающей среды.
– Ты с ним сбежишь.
– Ага, конечно.
– Будешь целыми днями заниматься с ним сексом и принимать от него подарочные сертификаты. Серьезно! Я такие вещи чувствую, я экстрасенс.
– Молчи уж.
– Тошнюсик…
– А?
– Все они уроды.
– Кто?
– Лула. Чарльз. Ненавижу их. А тебя люблю. Ты одна порядочная. А эти – засранцы. Ханну больше всех ненавижу.
– Да ладно.
– Правда! Я притворяюсь, потому что так проще, и вообще весело приходить к ней в гости, смотреть, как она готовит обед и изображает из себя Франциска, мать его, Ассизского. Но про себя я знаю, что она – мерзкая гадина.
Я помолчала немножко. За это время акула-веретено успела бы пару раз проплыть мимо в поисках косяка сардинок, а своеобразная формулировка Джейд – «мерзкая гадина» – уж точно должна бы развеяться, как чернильное облачко, выпущенное испуганной каракатицей.
Потом я сказала:
– Вообще, это нормально, периодически испытывать неприязнь к близким знакомым. Так называемый принцип Дервида – Лёверхастеля. Он описан в статье…
– Нафиг Дэвида Хассельхофа! – Джейд сощурила глаза, приподнявшись на локте. – Я просто терпеть не могу эту бабу! А тебе она нравится?
– Конечно, а что? Она хорошая.
– Не такая уж хорошая, – фыркнула Джейд. – Она убила того типа. Может, ты не в курсе?
– Какого типа?
Естественно, я поняла, что речь идет о Смоке Харви, но предпочла ответить вопросом на вопрос, как суровый инспектор Ранульф (произносится «Ральф») Карри из книг Роджера Поупа Лавеля[275] – автора трех мрачных детективных романов, написанных с 1901 по 1911 год. Сейчас о них мало кто помнит, поскольку их затмили более жизнерадостные произведения сэра Артура Конан Дойля. Карри неизменно применял этот прием в разговоре со свидетелями, осведомителями, подозреваемыми и случайными прохожими и частенько ухитрялся выведать малозначительные с виду подробности, которые позволяли раскрывать самые запутанные дела. «Стыдитесь, Хорэс! – говорит Карри в тысячесемнадцатистраничном романе «Спесь единорога» (1901). – Перебивать собеседника недопустимо, это серьезная ошибка в искусстве расследования. Чем больше говоришь, тем меньше слышишь».
– Да этого, Смока, – ответила Джейд. – Она его пристукнула. Точно.
– Откуда ты знаешь?
– Я же видела, когда ей об этом сообщили. – Джейд пристально смотрела на меня в полумраке. – Тебя там не было, а я наблюдала весь спектакль от начала до конца. Как она переигрывала! Самая бездарная актриса на свете. Ее даже в порнуху не возьмут сниматься. Она-то, конечно, считает, что ей завтра «Оскара» вручат. Когда увидела труп, орала как ненормальная. Мне вообще показалось, что она визжит: «Нашу малышку съела собака динго!»[276]
Джейд сползла с дивана и побрела в кухоньку при кабинете Мирты. Присев на корточки возле крошечного холодильника, она оказалась в прямоугольнике золотистого света. Платье стало совсем прозрачным, и можно было как на рентгеновском снимке разглядеть, насколько Джейд худая: плечи узенькие, словно вешалка для одежды.
– Смотри-ка, эггног[277], – объявила она. – Хочешь?
– Нет.
– Да тут много. Целых три упаковки.
– Мирта наверняка вечером все пересчитывает. Зачем нам лишние проблемы?
Джейд выпрямилась, держа в руках кувшин, и ногой захлопнула дверцу.
– Всем известно, что Мирта Грейзли не в себе, как хренов Сумасшедший Шляпник. Если и будет что-нибудь квакать, кто ее послушает? И потом, не бывает настолько дисциплинированных людей. Ты же сама говорила, мол, в безумии нет системы[278] и так далее. Правильно? – Джейд взяла из шкафчика два стакана. – В общем, я точно знаю, что Ханна отправила бедолагу на тот свет. Так же как я знаю, что моя матушка – лох-несское чудовище. Или йети. Еще не решила, кто именно.
– А какой у нее тогда мотив? – спросила я («По моим наблюдениям, полезно следить за тем, чтобы собеседник не отвлекался на посторонние темы, пускаясь в рассуждения о дверных замках и котельных», – говорил инспектор Карри).
– Чудовищам не нужны мотивы. Они просто чудовища, сами по себе.
– Я про Ханну.
– Да ты что, совсем ничего не понимаешь? – рассердилась Джейд. – В наше время никому не нужен мотив! Люди ищут мотива, потому что боятся полного хаоса. А на самом деле мотивы давно вышли из моды, как сабо. Просто кому-то нравится убивать, как другим нравятся лыжники, все крапчатые от родинок, или юристы с татуировками от запястья до плеча.
– Тогда почему его?
– Кого?
– Смока Харви. Почему его, а не меня, например?
– Ха! – сказала Джейд, вручая мне бокал, и снова села на диван. – Может, ты не заметила – Ханна от тебя без ума. Как будто ты ее родное пропавшее дитятко. Все уши нам о тебе прожужжала еще до того, как ты к нам в школу пришла!
У меня сердце замерло.
– Ты о чем?
Джейд шмыгнула носом:
– Вот скажи, ты ее встретила в обувном, так?
Я кивнула.
– Ну и прямо на следующий день, а может, и в тот же день она давай талдычить не переставая, что есть такая невероятно замечательная Синь и мы все обязательно должны с ней подружиться. Можно подумать, ты прямо второе пришествие какое-нибудь. И до сих пор так. Вечно: «Где Синь? Кто-нибудь видел Синь?» Синь, Синь, Синь, дырку продолбила уже! Да у нее и кроме тебя полно задвигов. С кошками-собаками этими, с мебелью. Мужики в Коттонвуде… Для нее секс – все равно что руку пожать. А Чарльз? Все мозги парню вывихнула и даже не заметила. Воображает, что великую честь нам оказывает – воспитывает, или как там это называется…
Я чуть не поперхнулась.
– У нее с Чарльзом правда что-то было?
– Ау? Само собой! Я уверена, ну, процентов на девяносто. Чарльз никому ничего не рассказывает, даже Блэку, так она его обработала. Но как-то в прошлом году мы с Лу за ним заехали, а он рыдает. Я вообще в жизни не видела, чтобы человек так плакал. Сморщился – вот так! – Джейд изобразила соответствующую гримасу. – Совсем с катушек съехал, весь дом разнес. Картины швырял, обои сдирал со стен прямо кусками. Когда мы пришли, он заливался слезами в маленькой комнате, около телевизора, а рядом нож на полу валялся. Мы испугались, вдруг он с собой что-нибудь сделает.
– Он же не сделал? – быстро спросила я.
Джейд помотала головой:
– Нет, но я думаю, он психанул, потому что Ханна сказала, им надо прекратить. Или, может, это вообще всего один раз было. Наверное, случайно все вышло. Вряд ли она специально задумала его совратить. Но что-то было, точно. Он с тех пор на себя не похож. Видела бы ты его год-два назад! Он был потрясающий, все его обожали. А сейчас все время злобный, не подойдешь.
Джейд надолго припала к стакану. В темноте ее профиль отвердел и стал похож на те громадные нефритовые маски, которые мы с папой видели в Гарберовском музее естествознания в городе Артезия, штат Нью-Мексико, в зале, посвященном цивилизации ольмеков. «Ольмеки[279] придавали большое значение изобразительному искусству. Особенно их интересовало человеческое лицо, – с выражением прочел папа из печатного пояснения на стене. – Они считали, что голос может обмануть, а лицо – никогда».
– Если ты думаешь, что Ханна такая, как же ты с ней общаешься?
– Сама не знаю. – Джейд задумчиво скривила губы. – Наверное, она вроде наркотика. Это как мятное мороженое с шоколадной крошкой.
Джейд со вздохом обхватила себя за лодыжки.
Я ждала уточнения, но она молчала.
– Что за мороженое?
– Понимаешь… Было у тебя такое, чтобы ты вот прямо обожала мятное мороженое с шоколадной крошкой? Всегда выбирала только его и ничего тебе больше не надо? А потом однажды Ханна при тебе давай нахваливать ореховое мороженое. Ореховое да ореховое, и вот ты уже всегда и везде заказываешь ореховое и понимаешь, что тебе и правда нравится. Вроде ты всю жизнь его любила, просто сама не сознавала. И уже никогда больше не будешь есть мятное с шоколадной крошкой…
Мне казалось, что я тону, а вокруг по темным углам качаются водоросли и к люстре прицепилась морская звезда, но я вдохнула поглубже и напомнила себе, что словам Джейд нельзя верить, пьяная она или трезвая. Все ее клятвы и уверения часто обманки, зыбучие пески, иллюзия, обыкновенный мираж, вызванный перепадом температур в воздухе.
В первый и последний раз я приняла ее слова всерьез, когда она доверительно мне рассказала, как «ненавидит» свою мать и «до смерти» хочет переехать к отцу – он работал судьей в Атланте и, по словам Джейд, был «порядочный» (хотя и сбежал четыре года назад с женщиной, которую Джейд называла Безмозглая Марси и могла сообщить о ней, только что она юрист с татуировками от запястья до плеча). Всего пятнадцать минут спустя она болтала по телефону со своей мамой, крутившей любовь с инструктором по горнолыжному спорту в Колорадо.
– А когда ты вернешься? Ненавижу, когда за мной присматривает Морелла. Ты мне необходима для полноценного эмоционального развития! – всхлипнула Джейд и тут заметила меня.
– Чего уставилась? – рявкнула Джейд, захлопывая дверь у меня перед носом.
Она была неотразима (самой Одри Хепбёрн не переплюнуть ее излюбленную манеру в рассеянности сдувать прядку волос, упавшую на лицо). Чем-то похожа на норковое пальто: изысканная и непрактичная, куда ее ни накинь, хоть на человеческие плечи, хоть на спинку кресла (эти качества не покидали ее даже в минуты полного раздрызга, вот как сейчас), и все-таки Джейд была из тех людей, перед кем пасует современная математика. Ни плоская, ни трехмерная, притом абсолютно несимметричная. Тут бессильны и тригонометрия, и математический анализ, и теория вероятностей. Ее круговая диаграмма состоит из беспорядочно нарезанных ломтей, ее линейный график силуэтом напоминает Альпы. Только запишешь ее в раздел теории хаоса – эффект бабочки, прогноз погоды, фракталы, бифуркации и прочее тому подобное, – она возьмет и явится равносторонним треугольником, а то и квадратом.
Сейчас она прямо на полу, задрав грязные пятки выше головы, демонстрировала мне упражнение пилатеса – как она объяснила, «стимулирующее приток крови к позвоночнику» (почему-то это должно было способствовать долголетию). Я залпом допила свой стакан.
– А пошли к ней в класс! – предложила Джейд таинственным шепотом.
Она уронила тощие ноги на ковер одним резким движением, словно лезвие гильотины.
– Пошарим как следует. Она вполне могла спрятать там вещественные доказательства!
– Доказательства чего?
– Убийства, я ж тебе говорю! Убийцы всегда прячут улики там, куда заглянут в последнюю очередь, правильно? А кто додумается смотреть в классе?
– Мы вот додумались.
– По крайней мере, узнаем наверняка. Хотя это ничего не значит. Не будем к ней слишком строги. Может, этому Смоку за дело досталось. Может, он убивал дубиной маленьких тюленей.
– Джейд…
– А если ничего не найдем, что за беда?
– Нельзя лезть к ней в класс!
– Почему?
– Да мало ли почему! Во-первых, если нас там поймают, выгонят из школы. Во-вторых, это бессмысленно с точки зрения логики…
– Да иди ты! – заорала Джейд. – Можешь хоть раз в жизни забыть про свою драгоценную карьеру и высшее образование? Просто повеселимся, зануда хренова!
Ее злость вдруг схлынула. По лицу гусеницей проползла улыбка.
– Подумай, Оливки! У нас – высшая цель. Тайное расследование. Можно сказать – разведывательная операция. Может, нас в новостях покажут? Станем кумирами Америки, нах!
– «Что ж, снова ринемся, друзья, в пролом»[280], – отозвалась я.
– Ну и славно. Тогда помоги найти мои туфли.
Десять минут спустя мы рысью бежали по коридору. Старые полы Ганновера скрипели и вздыхали под ногами. Мы промчались вниз по лестнице и выскочили на холод. Вдоль дорожки сталактитами тянулись тени, и мы с Джейд невольно начали дрожать и хвататься друг за друга, точно гимназистки девятнадцатого века, за которыми гонится граф Дракула. Волосы Джейд на бегу хлестали меня по щеке и по голому плечу.
Папа однажды сказал (как я тогда подумала, чересчур мрачно), что американские школы значительно больше преуспели бы в деле образования молодежи, если бы занятия проводили по ночам – с восьми вечера до четырех-пяти утра. Сейчас я наконец поняла, что он имел в виду.
Кирпичные корпуса, залитые солнцем классы, аккуратные газончики во дворе – все это внушает ученикам ошибочную мысль, будто знания и сама жизнь – такие же солнечные, чистенькие и свежеподстриженные. Папа считал, что школьники были бы куда лучше подготовлены к взрослой жизни, если бы изучали периодическую таблицу Менделеева, роман «Мадам Бовари» или, например, схему размножения подсолнечника, сидя в классе, где по углам шевелятся уродливые тени, по полу мечутся искаженные силуэты карандашей и пальцев, утробно завывают невидимые в темноте батареи, а учительское поблекшее лицо не смягчено нежными лучами солнца, а выступает из мрака в тусклом свете свечи, подобно химере. Школьники научились бы понимать «все и ничто», говорил папа, если бы во время урока видели за окнами только уличные фонари в облаке обезумевшей мошкары и молчаливую, бесчувственную темноту.
Совсем рядом с нами ветви сосен вдруг застучали друг о друга – словно безумец промчался мимо на деревянной ноге.
– Идет кто-то! – шепнула Джейд.
Мы понеслись дальше, мимо притихшего Грейдона, Аудитории любви и Аллеи лицемера, где на нас уставились пустые окна музыкального класса, слепые, как Эдип, выколовший себе глаза.
– Мне страшно, – прошептала Джейд, стискивая мою руку.
– Мне тоже страшно до ужаса. И холодно.
– Ты смотрела «Адскую школу»?
– Нет.
– Там учительница домоводства – маньяк-убийца.
– Ой.
– Делает из школьников пироги и паштеты. Кошмар, скажи?
– Я на что-то наступила. Туфля промокла насквозь.
– Скорее, Тошнюсик! Если поймают, нам не жить.
Она вырвала у меня руку и, взбежав по ступенькам Лумиса, рванула дверь, оклеенную шелестящими объявлениями о школьной постановке «Лысой певицы» (Ионеско, 1950).[281] Дверь оказалась заперта.
– Надо искать другой путь, – азартно зашептала Джейд. – Через окно или через крышу. Интересно, здесь труба есть? Рвотинка, полезем через трубу, как Санта-Клаус!
Взявшись за руки, мы начали красться вдоль стены, словно кинозлодеи. Продираясь через кусты и хрустя сосновыми иголками, мы пробовали все окна подряд. Наконец попалось одно незапертое. Джейд толкнула раму и легко проскользнула под наклонным стеклом в класс мистера Флетчера по автовождению. А я, протискиваясь внутрь, ободрала щиколотку, порвала колготки и грохнулась на ковер, да еще приложилась головой о батарею.
На стене висел плакат с изображением малыша в брекетах, с пристегнутым ремнем безопасности. Подпись гласила: «Будь внимательнее на дорогах и в жизни!»
– Шевелись, копуша! – прошипела Джейд, исчезая за дверью.
Класс Ханны располагался в кабинете под номером 102, в самом конце коридора, длинного и извилистого, словно канал в зубе. На двери висел постер «Касабланки»[282]. Я никогда раньше сюда не заходила. Внутри оказалось неожиданно светло: сквозь огромные, во всю стену, окна лился бело-желтый свет прожектора, словно рентгеном высвечивая ряды парт и стульев. Их тени лежали на полу, похожие на скелеты. Джейд уже устроилась, скрестив ноги по-турецки, за учительским столом. Пара ящиков была выдвинута, а Джейд увлеченно листала какую-то книгу.
– Ну что, нашла дымящийся револьвер? – спросила я.
Джейд не ответила.
Я прошлась вдоль первого ряда парт, разглядывая постеры к фильмам в аккуратных рамках (нагл. пос. 14.0).
Всего их было тринадцать штук, считая две на дальней стене, рядом с книжным шкафом. То ли эггног так подействовал, то ли еще что, но я почти сразу заметила в них некую странность. Не в том дело, что все плакаты были к иностранным фильмам, а если к американским, то на испанском, итальянском или французском языке, и не в том, что висели они ровненько, будто солдаты в строю, – с такой точностью никогда не развешивают учебные пособия, даже в кабинете математики (я чуть-чуть сдвинула постер к фильму Il Caso Thomas Crown и увидела возле гвоздя отчетливые следы карандаша – вот как тщательно Ханна выверяла расстояние).
[НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ 14.0]
На всех постерах, кроме двух («Per un Pugno di Dollari»[283] и «Fronte del Porto»[284]), были изображены поцелуи или объятия. Ретт, само собой, стискивал Скарлетт; Фред обнимал под дождем Холли и Кота («Colazione da Tiffany»[285]); тут же рядом Райан О’Нил в «Historia del Amor»[286] пылал страстью к Эли Маккгуайр; Чарльтон Хестон из «La Soif du Mal»[287] обхватил Джанет Ли, так что у нее голова неудобно запрокинулась, а Берт Ланкастер с Деборой Керр[288] явно нагребли песка в свои купальные костюмы.[289] Еще интересно, с какого ракурса была снята женщина-актриса на всех постерах без исключения. На любом из этих кадров могла быть запечатлена сама Ханна. Та же ломкая фигурка, тот же четкий профиль, те же волосы, падающие на плечи.
Странно – она не производила впечатления пустоголовой особы, окружающей себя изображениями немыслимой любви. Мне даже взгрустнулось, когда представила, как Ханна дотошно размещает на стене эту подборку.
– В комнате женщины всегда найдется какой-то предмет, какой-то штрих, который с полной откровенностью выражает ее душу, – говорил папа. – У твоей мамы это были, конечно, бабочки. Уже по тому, с какой заботой она их высушивала, оформляла и хранила, можно было догадаться, как много они для нее значат, но и каждый экземпляр в отдельности позволял оценить всю сложность и многогранность ее личности. Возьмем, к примеру, великолепную лесную королеву. Здесь отразилась царственная осанка твоей мамы и ее страстное восхищение природой. Муаровая перламутровая олицетворяет ее материнский инстинкт и глубокое понимание нравственного релятивизма. Наташа видела мир не черно-белым, а в размытых тонах, какой он и есть на самом деле. А тигровая мимикрирующая? Наташа могла изобразить всех великих актрис и актеров, от Нормы Ширер до Говарда Кила[290]. В каком-то отношении чешуекрылые и были ею – потрясающе красивые и душераздирающе хрупкие.
Сама не знаю, почему в ту минуту я подумала о бабочках. Наверное, потому, что постеры точно так же «с полной откровенностью» отражали Ханну. Может, Берт Ланкастер и Дебора Керр на пляже – это ее азарт к жизни и ее страстная любовь к морю, откуда произошла вся жизнь на земле, а постер к «Bella di giorno»[291], где у Катрин Денёв не виден рот, – ее вечные секреты, тайны, Коттонвуд.
– Вот черт! – раздался у меня за спиной голос Джейд.
Она швырнула толстый том в мягкой обложке, так что книга, трепеща страницами, врезалась в оконное стекло.
– Что такое?
Джейд молча, тяжело дыша, указала на упавшую книгу. Я подошла к окну и подобрала книгу с пола.
На передней обложке – фотография мужчины. Заголовок оранжевыми буквами на сером фоне: «Черный дрозд поет ночью. Биография Чарльза Майлза Мэнсона»[292] (Айвис, 1985). И обложка, и страницы основательно потрепаны.
– И что? – спросила я.
– Ты что, не знаешь, кто такой Чарльз Мэнсон?!
– Знаю, конечно.
– Почему у нее эта книга?
– Мало ли у кого она есть. Это самая полная его биография.
Мне не хотелось уточнять, что у меня тоже имеется такая книга – папа включил ее в программу курса, который читал в Рокуэлле, в Университете штата Юта (семинар «Характерные черты бунтовщика по политическим мотивам»). Автор книги, англичанин Джей Берн Айвис, потратил сотни часов, опрашивая бывших членов «Семьи» Мэнсона, а их в свое время было не меньше ста двенадцати человек, так что объем собранной информации заслуживает уважения. Во второй и третьей частях рассказано, как возникла и в чем состояла идеология Мэнсона, как проходила повседневная жизнь секты, как строилась ее иерархия (в первой части содержится подробный психоаналитический разбор тяжелого детства Мэнсона; этот раздел папа не очень высоко ценил, поскольку не был поклонником Фрейда). Биографии Мэнсона и ее сравнению с книгой Мигеля Нельсона «Сапата»[293] (1989) папа посвящал два-три занятия под общим заголовком «Борец за свободу или фанатик?».
– Пятьдесят девять человек, встречавшихся с Чарльзом Мэнсоном, когда он жил в Хейт-Эшбери[294], сообщили в интервью, что у него были поразительные гипнотические глаза и самый берущий за душу голос, какой только можно вообразить, – гремел папа в микрофон во время лекции. – Пятьдесят девять независимых друг от друга источников! Так в чем же секрет? Животный магнетизм. Харизма. Мэнсон был наделен этим качеством. Как и Сапата. И Че Гевара. Кто еще? Люцифер. История показывает: если человеку от рождения дано этакое je ne sais quoi[295], можно горы свернуть. А точнее, затратив не так уж много усилий, подвигнуть вполне обычных людей сражаться за тебя с оружием в руках. И не важно, за что ты призываешь сражаться. Дай им идею, и они поверят. Они будут убивать, будут умирать, будут называть тебя Иисусом Христом. Вы смеетесь, однако Чарльзу Мэнсону до сих пор пишут поклонники. Около шестидесяти тысяч писем в год – больше, чем любому другому заключенному в нашей стране! Его диск под названием «Ложь» до сих пор отлично продается на «Амазоне». О чем это говорит? Вернее, позвольте переформулировать вопрос: что это говорит о нас?
– А других книг здесь вообще нет, – сообщила Джейд чуть дрожащим голосом. – Сама посмотри!
Я подошла и заглянула в ящик. Там лежала стопка DVD – «Вся королевская рать»[296], «Охотник на оленей»[297], «La historia official»[298], еще несколько фильмов – и ни одной книги.
– В самой глубине лежала, – прибавила Джейд. – Хорошо запрятана!
Я перелистала страницы. Резкий свет из окна рассек все в комнате на мелкие куски, так что все казалось бескостным, включая Джейд (ее тощая тень ползла по полу к двери). Может, из-за этого меня пробрала дрожь, когда я увидела в верхнем углу титульного листа полустертую карандашную надпись: «Ханна Шнайдер».
– Это ничего не значит, – сказала я и вдруг поняла, что стараюсь убедить прежде всего саму себя.
– Думаешь, она хочет нас убить? – шепотом спросила Джейд, широко раскрывая глаза.
– Да ну тебя!
– Нет, серьезно. За нашу буржуазную сущность.
Я нахмурилась:
– Что это за лексика у тебя?
– Ханны словечко. Замечала – она как выпьет, сразу все вокруг плохие, прямо свиньи?
– Да она просто прикалывается. У меня папа тоже иногда так шутит.
Джейд, стиснув зубы, словно кирпичики в глухой стене, схватила книгу и принялась яростно листать. Дойдя до середины, она ткнула мне под нос черно-белые фотографии.
– «Чарльз придумал для Сьюзен Аткинс прозвище Секси Сейди»[299], – медленно и раздельно прочитала Джейд. – Фу, она тут прямо психопатка какая-то. Гляди, какие глаза! Точно как у Ханны…
– Прекрати! – Я вырвала у нее книгу. – Что с тобой такое?
– Это с тобой что? – прищурилась Джейд.
Она умела так посмотреть, что начинало казаться, будто она – владелец плантации сахарного тростника году этак в 1780-м, а ты – заклейменный раб на аукционе в Антигуа, уже целый год не видел родных отца с матерью и вряд ли когда-нибудь увидишь.
– Ты, видно, по своему Купону соскучилась? Мечтаешь нарожать ему талончиков на школьные обеды?
Тут бы мы, наверное, поругались, и я убежала бы в слезах, а Джейд хохотала бы мне вслед и выкрикивала обидные слова, но внезапный ужас у нее на лице заставил меня обернуться к окну.
По дорожке, ведущей к Лумису, кто-то шел. Коренастая фигура в пышном платье цвета свежего синяка.
– Это Чарльз Мэнсон, – захныкала Джейд. – В женской одежде!
– Нет, – возразила я. – Это наш диктатор.
Мы со страхом смотрели, как Эва Брюстер приближается к входу в здание. Подергав ручку двери, она отошла на несколько шагов и стала вглядываться в окна, заслоняя глаза рукой.
– Твою ж мать, – прошептала Джейд.
Мы бросились в темный угол около книжного шкафа (как раз под Кэри и Грейс в «Caccia al ladro»[300], очень в тему).
– Синь! – крикнула Эва.
Когда Эвита ни с того ни с сего орет твое имя – запросто инфаркт может хватить. У меня сердце забилось, как осьминог на палубе рыболовного судна.
– Си-инь!
Эва Брюстер подошла ближе к окну. Она была не самая привлекательная женщина в мире: фигура как у пожарного гидранта, волосы по фактуре вроде пакли, да еще и покрашены в безобразный желто-оранжевый цвет, но глаза у нее были неожиданно красивые – я это заметила как-то в учительской. Словно освежающий чих среди скучной тишины остального лица – большие, широко посаженные, светло-голубого цвета, отдающего в фиолетовый. Сейчас она хмурилась, прижимаясь лбом к стеклу – как будто смотришь на улитку, ползующую по стенке аквариума. Я буквально оцепенела, даже дышать боялась. Джейд впилась в мою коленку ногтями – а между тем одутловатое лицо Эвы с болтающимися в ушах длинными нелепыми сережками не выглядело особо коварным или свирепым. Скорее она казалась разочарованной, как будто подошла посмотреть на редкую безногую ящерицу, сцинка из рода баркудий, который среди пресмыкающихся слывет затворником наподобие Сэлинджера[301]: восемьдесят семь лет никому не показывался на глаза и теперь прячется под замшелым камушком в террариуме, а вылезать ни в какую не желает, сколько ты его ни зови и ни стучи по стеклу.
– Синь! – крикнула она снова и вытянула шею, оглядываясь по сторонам. – Синь!
Что-то пробормотала себе под нос и почти бегом кинулась за угол – видимо, проверить с другой стороны корпуса.
Мы с Джейд не могли пошевелиться. Так и сидели, уткнув подбородок в колени, и ждали – вот сейчас, как в кошмарном сне, раздадутся шаги по выстланному сиротским линолеумом коридору.
Но минуты утекали одна за другой, и в тишине слышно было только покряхтывание и покашливание комнаты. Когда прошло пять минут, я осторожно подползла к окну (Джейд осталась сидеть, закаменев в позе эмбриона). Выглянув наружу, я снова увидела Эвиту – она стояла на ступеньках Лумиса.
Будь на ее месте кто-нибудь другой, с приличной осанкой, например Ханна, зрелище могло быть впечатляющим. Ветер трепал ее кудельные волосы и развевал подол платья, придавая Эвите сходство с обезумевшей от горя вдовой на берегу моря или с призраком, отыскивающим свою погибшую любовь среди унылых равнин. Однако передо мной была Эва Брюстер, крепкая, отрезвляющая, с бутылочной формы шеей, кувшинными руками и ногами в форме пробок. Она одернула юбку, в последний раз окинула взглядом окна (на какую-то жуткую секунду мне почудилось, что она меня видит) и быстрым шагом двинулась прочь.
– Ушла, – сказала я.
– Точно?
– Ага.
Джейд выпрямилась, прижимая руку к груди:
– У меня сейчас будет разрыв сердца!
– Не будет.
– А что, это возможно! У нас в роду многие умерли от сердечного приступа. Ни с того ни с сего, р-раз – и все.
– Ничего с тобой не случится.
– У меня вот здесь в груди теснит. Так бывает при пульмонарном эмброзисе.
За окном, у поворота дорожки, застыло как часовой одинокое дерево с толстым черным стволом. Дрожащие ветки тянулись вверх, словно слабенькие ручки, ощупывающие небо.
– А странно, почему она тебя звала? – Джейд скорчила гримасу. – Почему не меня?
Я равнодушно пожала плечами, хотя на самом деле мне было не по себе. Неужели я вроде какой-нибудь хлипкой викторианской барышни, которая готова свалиться в обморок оттого, что при ней произнесли слово «нога»? Или я слишком вдумчиво читала L’Idiot[302] (Петран, 1920), где главному герою, безумному Байрону Беринто, мерещилось, будто из каждого кресла ему приветливо машет сама Смерть. А может, просто слишком много мрака для одной ночи. «Ночь вредна для мозга и нервной системы, – утверждает Карл Броканда в своей книге «Логические выводы» (1999). – Как показывают исследования, у людей, проживающих в местности, где мало дневного света, количество нейронов сокращается на 38 процентов, а у заключенных, по двое суток подряд не видящих солнца, нервные импульсы замедляются на 47 процентов».
Не знаю уж, в чем причина, но я была как оглушенная все то время, пока мы с Джейд крадучись выбирались из здания, обходили по широкой дуге все еще освещенную, хоть и опустевшую столовую (двое-трое учителей еще беседовали в патио, и среди них миз Термополис в наряде цвета гаснущих углей), пока мы уносились в «мерседесе» прочь от школы, так и не встретив по дороге Эву Брюстер. Только когда мы уже ехали по Пайк-авеню и за окном машины мелькали закусочная «Джиффис», магазин дешевых товаров «Доллар-депо», гамбургер-кафе «Диппитис», косметический салон – только тогда я спохватилась, что забыла убрать книгу о черном дрозде на место, в ящик стола. Мало того – я до сих пор сжимала ее в руках.
– Почему книга все еще у тебя? – спросила Джейд, сворачивая к окошечку «Бургер Кинг». – Ханна заметит, что она пропала! Надеюсь, отпечатки пальцев снимать не станет… Ау, что будешь есть? Решай скорее, умираю с голоду!
Мы взяли пару громадных «вопперов»[303] и сжевали их молча в кислотном освещении автостоянки. Наверное, Джейд из тех людей, кто готов швыряться дикими обвинениями направо и налево, с улыбкой наблюдая, как все это сыплется людям на головы, а когда веселье заканчивается, спокойно уходит домой. Сейчас вид у нее был довольный, даже посвежевший. Она забросила себе в рот горсть картошки фри и помахала какому-то гнойному струпу – он брел к своему пикапчику в обнимку с полным подносом кока-колы. А у меня сердце неровно колотилось в груди. Как говорил Питер Эйкман, сыщик-раздолбай из романа «Кривой поворот» (Чайд, 1954): «Словно в глотку забили хороший заряд пороху, того и гляди рванет». Я уставилась на обложку. Фотография сильно поблекла, ее исчертили трещины, но черные глаза Мэнсона так и горели.
– Вот они, глаза дьявола, – сказал как-то папа, задумчиво разглядывая свой экземпляр той же книги. – Как будто он смотрит оттуда и видит тебя, правда?
Глава 15. «Сладкоголосая птица юности», Теннесси Уильямс
Если к нам заходил в гости папин коллега по работе, папа неизменно, как по часам, рассказывал одну историю. Случалось это редко, по одному разу на два-три города, где мы жили. Папа на дух не переносил громогласных сотрудников Геттисбергского колледжа наук и искусств, постоянного хвастовства и показухи в Чезвикском колледже и склочных профессоров из Университета Оклахомы в городе Флитче, вечно пыжащихся и выясняющих, кто главнее (особенно он презирал старых бабуинов – то есть преподавателей за шестьдесят пять, с постоянным окладом, перхотью, ботинками на резиновом ходу и квадратными очками, за стеклами которых глаза кажутся маленькими, точно клопы).
И все-таки изредка в диком-предиком лесу папе встречалась родственная душа (может, не из того же вида и семейства, но, по крайней мере, из того же отряда). Собрат, недавно покинувший зеленую древесную крону и едва-едва пытающийся ходить на двух ногах.
Разумеется, собрат по разуму был не настолько сведущ в науках, как папа, и внешне совсем не так красив (чаще всего природа наделяла этих людей плоской физиономией, обширным низким лбом и выступающими надбровными дугами). Но папа все равно приглашал отобранного среди серой массы знакомого на ужин, и в итоге тихим субботним или воскресным вечером в жилище Ван Мееров появлялся профессор-лингвист Марк Хилл с глазами цвета смоквы, не вынимающий рук из накладных кармашков бесформенного смокинга, или младший преподаватель английской литературы Ли Санджай Сун – кожа цвета айвы со сливками, зубам тесно во рту, как машинам в пробке. Тогда между спагетти и пирожными тирамису папа угощал гостя рассказом о проклятии Тобиаса Джонса.
История была вполне бесхитростная – о том, как папа жарким, пропитанным ромовыми парами летом 1983 года в Гаване встретил некоего сотрудника OPAI (Organización Panamericana de la Ayuda)[304] – бледного, нервного молодого человека из Йоркшира. Всего за одну злополучную августовскую неделю бедняга умудрился потерять паспорт, бумажник, жену, правую ногу и чувство собственного достоинства, именно в таком порядке. Иногда, чтобы еще больше поразить слушателя, папа сокращал время трагедии до двадцати четырех часов.
Папа никогда не придавал большого значения физическим подробностям и внешность несчастного обреченного описывал весьма приблизительно. Из его слабо проработанного словесного портрета кое-как вырисовывался облик высокого, бледного человека с худыми ногами (после того, как его сбил «паккард», – с одной ногой), с волосами цвета соломы, с привычкой то и дело доставать из нагрудного кармана запотевшие золотые часы и близоруко на них щуриться, а кроме того, часто вздыхать, носить запонки, подолгу простаивать перед единственным в комнате хромированным вентилятором и проливать café con leche[305] себе на брюки.
Папин гость слушал, раскрыв рот, повесть о событиях той роковой недели: начиная с того, как Тобиас хвастался перед коллегами новой рубашкой с надписью Fiesta, а в это время лихие gente de guarandabia[306] потрошили его бунгало в гостинице «Комодоро Нептуно», и заканчивая печальным финалом, когда Тобиас без ноги лежит пластом на жесткой койке в больнице имени Хулио Триго[307], где пытался покончить с собой (к счастью, дежурная медсестра успела стащить его с подоконника).
– Мы так и не узнали, что с ним случилось, – завершал папа свой рассказ, глубокомысленно прихлебывая вино из бокала.
Преподаватель психологии Альфонсо Риголло скорбно рассматривал столешницу и вздыхал: «Вот паскудство» или «Не повезло ему». Потом они с папой заводили разговор о предопределении, или о женском непостоянстве, или о том, что Тобиаса могли бы причислить к лику святых, если бы не попытка самоубийства и если бы у него была высокая цель (правда, для канонизации требуется не меньше трех чудес, а Тобиас, по словам папы, совершил в своей жизни всего одно чудо: в 1979 году каким-то загадочным образом уговорил Адалию, девушку с глазами цвета океана, выйти за него замуж).
Минут через двадцать папа незаметно подводил разговор к главной теме – ради нее-то он и помянул Тобиаса Джонса. Он излагал гостю одну из своих любимых теорий – «теорию целеустремленности» – и в качестве основного вывода утверждал (с той же страстью, с какой Кристофер Пламмер произносит «Дальше – тишина»[308]), что на самом деле Тобиас вовсе не беспомощная жертва злой судьбы, а жертва собственной «забубеннной головушки».
– Итак, перед нами простой вопрос: что определяет судьбу человека – превратности его окружения или свободная воля? Я считаю, что свободная воля, поскольку наши мысли и все, что творится у нас в голове, будь то страхи или мечты, – все это оказывает непосредственное влияние на физический мир. Чем больше вы будете думать о неудаче, о крушении всех своих планов, тем с большей вероятностью это произойдет на самом деле. И наоборот: чем больше думаешь о победе, тем больше шансов ее добиться.
Здесь папа для пущего драматизма выдерживал паузу, задумчиво разглядывая пошленький пейзажик с ромашками или просто выцветшие обои с орнаментом из лошадиных голов и стеков. Папа обожал сценические эффекты, когда в насыщенной ожиданием тишине все взоры устремлялись к нему, словно монгольские войска на разграбление Пекина в 1215 году.
– Разумеется, – продолжал он с медлительной улыбкой, – в западной культуре эту концепцию затрепали до полной неузнаваемости, разменяв на мелочи дешевой психологии и телемарафонов, когда у тебя целую ночь напролет клянчат денег, обещая в награду сорок два часа медитативной музыки, которой можно подпевать, если застрянешь в пробке. Между тем в свое время к таким вещам относились гораздо серьезнее, даже и в эпоху основания буддийской империи Маурьев[309], около триста двадцатого года до Рождества Христова. Эту взаимосвязь понимали величайшие исторические деятели. Никколо Макиавелли рассказывал о ней Лоренцо Медичи – только называл ее «доблестью» или «предвидением». Юлий Цезарь видел себя завоевателем Галлии за десятилетия до того, как завоевал ее в действительности. Кто еще? Император Адриан, Леонардо да Винчи – безусловно. Еще один великий человек – Эрнест Шеклтон[310]. О, и Миямото Мусаси[311] – взять хотя бы его «Книгу пяти колец». Тому же принципу, конечно, следовали и «Ночные дозорные». Даже наш самый стильный актер Арчибальд Лич[312] со своим цирковым опытом понимал это. Его слова цитируют в той книжечке, как ее…
Тут я подавала голос:
– «Весь город говорит[313]. Голливудские герои на час».
– Да-да. Так вот, он сказал: «Я представлял себя таким, каким мне хотелось быть, и в конце концов становился этим человеком. Или он становился мной». В конце концов человек всегда становится тем, кем себя представляет, будь это великая личность или ничтожество. Именно поэтому некоторые люди подвержены простудам и на них вечно сыплются разные беды, а кому-то море по колено.
Папа явно причислял себя к тем, кому море по колено. Следующий час или около того он в мельчайших подробностях разбирал следствия своей теории – необходимость поддерживать строгую самодисциплину, создавать себе определенную репутацию, держать в узде чувства и эмоции, постепенно, мало-помалу изменяя себя. Я столько этих спектаклей наблюдала из-за кулис, что запросто могла бы работать папиным дублером – только он ни разу не пропускал выступления. Хотя само по себе зрелище было бесподобное, ничего такого уж нового папа не открыл. По сути, он кратко пересказывал содержание забавной французской книжечки о свойствах власти под названием «Гримаса», опубликованной в 1824 году[314]. Также он надергал идей из книг «Путь Наполеона» Х. Х. Хилла (1908), «За гранью добра и зла» (Ницше, 1886), «Государь» (Макиавелли, 1515), «История – сила» (Гермин-Льюишон, 1990) и малоизвестных произведений, таких как «Подстрекательство к антиутопии» Асира аль-Хайеда (1973) и «Шарлатанство» Хенка Пауэрса (1989). Папа ссылался даже на басни Эзопа и Лафонтена.
К тому времени, как я приносила кофе, гость являл собой картину почтительного молчания: рот приоткрыт, глаза круглые. (Если бы дело происходило в 1400 году до рождества Христова, гость, возможно, провозгласил бы папу царем иудейским и умолял бы вести народ в Землю обетованную.)
Уходя, он долго тряс папину руку.
– Спасибо, доктор Ван Меер! Было очень… очень интересно! То, о чем вы говорили, весьма… весьма содержательно! Это большая честь! – Потом он оборачивался ко мне, удивленно моргая, словно только что меня заметил. – Польщен знакомством с вами! Надеюсь на скорую встречу!
Больше я его не видела, как и всех прочих. Для папиных коллег приглашение на ужин к Ван Мееру было событием из того же ряда, что рождение, смерть или выпускной бал, – только раз в жизни бывает. Пока очумевший младший преподаватель поэзии и прозы брел к своей машине, в стрекочущую сверчками ночную тьму летели пылкие обещания новых встреч, однако в последующие недели родственная душа уползала в бетонные университетские коридоры и больше уж не показывалась.
Однажды я спросила папу почему.
– Общение с ним не настолько заманчиво, чтобы возникло привыкание. Он не деньги и не наркотик, – ответил папа, на секунду оторвавшись от книги Кристофера Хейра «Социальная нестабильность и наркоторговля» (2001).
Я довольно часто задумывалась о проклятии Тобиаса – например, когда Джейд везла меня домой с рождественской дискотеки. Как только случится что-нибудь странное, пусть даже сущая ерунда, я невольно вспоминала о Тобиасе, втайне пугаясь, как бы самой в него не превратиться. Вдруг я поддамся собственному страху и тем самым приведу в действие ужасный маховик неудач и бедствий? Как это разочарует папу – ведь получится, что я не усвоила основополагающие принципы его любимой теории, в которой целый раздел посвящен тому, как вести себя в минуты потрясений («Немного найдется людей, способных подчинить свои мысли и чувства рассудку даже в моменты самых бурных волнений. Но ты постарайся!» – наставлял меня папа, перефразируя Карла фон Клаузевица[315]).
Когда я шла по освещенной дорожке к нашему крылечку, больше всего мне хотелось забыть Эву Брюстер, Чарльза Мэнсона и все, что Джейд наговорила о Ханне. Просто рухнуть в постель, а утром устроиться у папы под боком и читать «Хроники коллективизма». Может, я бы даже помогла ему проверять студенческие работы о методах ведения войны в будущем или послушала, как он читает вслух поэму «Бесплодная земля» (Элиот, 1922). Обычно я этого терпеть не могу – папа читает невероятно пафосно, в стиле Джона Бэрримора (барон Феликс фон Гайгерн, «Гранд-отель»)[316]. Но сейчас мне казалось, что такое чтение – лучшее средство от тоски.
Свет в библиотеке все еще горел. Я быстро затолкала книжку о черном дрозде в школьный рюкзак – он так и валялся у лестницы, где я его бросила в пятницу после уроков, – и помчалась к папе. Папа сидел в красном кожаном кресле, рядом на столе чашка чая «Эрл Грей», в руках планшет. Наверняка строчит очередную лекцию или статью для «Федерального форума». Всю страницу опутала паутина строчек, написанных папиным неразборчивым почерком.
Я сказала:
– Привет.
Папа поднял голову от планшета и доброжелательно спросил:
– Ты знаешь, который час?
Я покачала головой.
Папа посмотрел на часы:
– Двадцать две минуты второго.
– Ох. Прости, пожалуйста. Я…
– Кто тебя привез?
– Джейд.
– А где молодой человек?
– Он… Не знаю точно.
– И где твоя куртка?
– Я ее забыла там…
– И что, черт побери, у тебя с ногой?
Я посмотрела вниз. На щиколотке запеклась кровь, а колготки по этому случаю пустились во все тяжкие и порвались до самой туфли.
– Ободрала.
Папа медленно снял очки для чтения и аккуратно положил их на стол.
– Все, хватит!
– Что?
– Финита. Капут. Мне надоело твое вранье. Довольно я терпел.
– Ты о чем?
На папином лице застыло спокойствие Мертвого моря.
– О твоей якобы совместной подготовке к урокам. Вранье наглое и, честно говоря, бездарное. Дорогая моя, «Улисс» – не та книга, изучением которой станут заниматься ученики средней школы, пусть даже самые продвинутые. Назвала бы лучше Диккенса или хоть Джейн Остен. Я вижу, ты молчишь и смотришь с изумлением. Что ж, я продолжу. Ты бродишь неизвестно где до глубокой ночи. Носишься по городу, как облезлая бездомная собачонка. Злоупотребляешь алкоголем – строго говоря, у меня нет доказательств, но выводы сделать нетрудно, исходя из общей информации о дурных привычках американских подростков, а также глядя на непривлекательные синяки у тебя под глазами. Я наблюдал, как ты радостно выбегаешь из дома в платьице, которое любой свободомыслящий человек примет за бумажную салфетку, но молчал, полагая – видимо, напрасно, – что у тебя достаточно развиты мыслительные процессы и ты в конце концов сама поймешь, что эти твои так называемые друзья, эти недоросли, с которыми ты якшаешься, не стоят твоего внимания, что их представление о себе и мире убого и заскорузло. Однако у тебя явные проблемы со зрением. И с соображением тоже. Ничего не поделаешь, приходится вмешаться ради твоего же блага.
– Пап…
Он сурово покачал головой:
– Я принял приглашение в Университет Вайоминга на следующий семестр. Город называется Форт-Пек. Жалованье вполне приличное, я давно уже столько не получал. На следующей неделе ты сдашь последние экзамены и мы переедем. В понедельник позвонишь в приемную комиссию Гарварда, предупредишь их, что у тебя изменился адрес.
– Что?!
– Ты прекрасно слышала, что я сказал.
– Т-ты не можешь…
Стыдно признаться, но я еле сдерживала слезы, и голос был писклявым и дрожащим.
– Вот-вот, о чем я и говорю. Месяца три-четыре назад по такому случаю ты процитировала бы «Гамлета»: «О, если б ты, моя тугая плоть, / Могла растаять, сгинуть, испариться!»[317] Нет, этот город на тебя действует, как телевидение – на среднего американца. У тебя мозги превратились в квашеную капусту.
– Я не поеду.
Папа задумчиво покрутил крышечку на авторучке.
– Радость моя, я великолепно представляю, какая за этим последует мелодрама. Сейчас ты объявишь о своем намерении убежать из дома и поселиться в кафе-мороженом, затем бросишься к себе в комнату и будешь рыдать в подушку о том, «как несправедлива жисть». Начнешь вещи швырять. Мой совет – ограничься носками, а то мы все-таки в съемном доме живем. Завтра окажется, что ты со мной не разговариваешь, неделю спустя снизойдешь до односложных ответов, а среди своих приятелей будешь меня именовать Коммунистической Мафией, у которой одна цель в жизни – всеми способами препятствовать твоему счастью. Несомненно, это будет продолжаться, пока мы не «свалим из этого городишки». В Форт-Пеке ты на третий день опять начнешь разговаривать, хотя и со всяческими гримасами и ужимками. А через год скажешь мне спасибо. Я надеялся, что предотвратил подобный оборот событий, когда дал тебе почитать «Анналы времени». Scio me nihil scire![318] Но если тебе непременно хочется отыграть этот нудный сценарий от начала до конца, то приступай. А мне нужно еще подготовить лекцию о холодной войне и проверить четырнадцать рефератов, составленных студентами без малейших признаков чувства юмора.
Он сидел передо мной, загорелый и надменный в золотистом свете настольной лампы (см. «Пикассо наслаждается солнечной погодой на юге Франции» в кн. «Уважая дьявола», Херст, 1984, стр. 210). Ждал, что я отступлю, уползу, как какой-нибудь слабовольный студент, который сунулся невовремя отвлекать папу от научной работы дурацкими вопросами о добре и зле.
Мне хотелось его убить. Обработать его тугую плоть кочергой (ну или еще каким-нибудь тяжелым предметом), чтобы это бескомпромиссное лицо скривилось от страха, а изо рта полились не мелодичные фразы, а придушенное, нечленораздельное «А-а-а-а-а!» – душераздирающий отзвук Ветхого Завета и плесневелых книг о средневековых пытках. Дурацкие, горячие слезы сами собой потекли у меня по лицу.
– Я… не поеду, – повторила я. – Ты поезжай, если хочешь. Возвращайся в свое Конго!
Он будто не слышал, вновь склонившись над своей бесценной лекцией о характерных чертах политики Рейгана. Съехавшие на кончик носа очки, неумолимая улыбка. Я спешно придумывала, что бы такое сказать – масштабное, пробирающее до костей, какую-нибудь гипотезу или малоизвестную цитату, чтобы у папы глаза стали квадратные, чтобы он со стула свалился. Но, как часто бывает, когда мысли и чувства в минуту бурных волнений отказываются подчиняться рассудку, ничего толкового в голову не приходило. Я только и могла стоять столбом, уронив руки, бесполезные, словно крылья у курицы.
Несколько минут прошли как в тумане. Я чувствовала ту отрешенность, о которой рассказывают приговоренные убийцы в тюремных оранжевых робах, когда шустрая репортерша в косметическом загаре выспрашивает, как это вполне обычный с виду человек решился отнять жизнь у другого, ни в чем не повинного человеческого существа. Осужденные несколько туманно повествуют о том, что в роковой день их, словно некая пелена, окутало ощущение одиночества и ясности, будто бы анестезия, только не усыпляющая, а позволяющая впервые за всю свою смирную жизнь забыть об осторожности и благоразумии, послать к чертям инстинкт самосохранения и не продумывать результаты своих поступков на три шага вперед.
Я вышла из библиотеки, промаршировала по длинному коридору и, переступив порог, как можно тише прикрыла за собой дверь, чтобы не услышал засевший в доме Князь тьмы. Две-три минуты постояла на ступеньках, глядя на голые деревья и клетчатые отсветы окон на газоне.
Потом я побежала. В чужих туфлях на высоком каблуке бежать было неудобно. Я их сняла и швырнула через плечо. Мимо пустых машин, мимо соседских клумб, замусоренных сосновыми шишками и стеблями засохших цветов, мимо рытвин, почтовых ящиков, и цепляющихся за обочину обломанных веток, и натекших с уличных фонарей зеленоватых лужиц света.
Наш дом, номер 24 по Армор-стрит, стоял в глубине лесистого района Стоктона под названием Кленовая роща. Это не был элитный поселок в духе Оруэлла, как Перл-эстейтс (место нашего обитания во Флитче), где одинаковые беленькие домики стояли ровными рядами, как выправленные ортодонтом зубы, а въездные ворота были визгливы и капризны, точно постаревшая актриса, – и тем не менее Кленовая роща могла похвастаться собственным муниципалитетом, собственной полицией, собственным почтовым индексом и собственным неприветливым знаком на въезде («Вас приветствует Кленовая роща – жилищный комплекс закрытого типа для респектабельных людей»).
Самый короткий путь за пределы Рощи – от нашей улицы повернуть направо и, пригибаясь, пробраться респектабельными задворками мимо двадцати двух приблизительно домов. Я пробиралась, икая и всхлипывая, а домá стояли посреди аккуратно выстриженных газонов, тихие и спокойные, как дремлющие слоны на льду. Я продралась через баррикады голубых елей и заграждения из сосен, потом сбежала вниз по склону, и наконец меня выплеснуло, как воду из канавы, на Орландо-авеню – стоктонский ответ бульвару Сансет.
У меня не было никаких идей, ни планов, вообще никаких соображений. Когда оторвешься от родительского причала, очень скоро на тебя наваливается осознание огромности жестокого мира и хрупкости твоей утлой лодчонки. Я бездумно перебежала через дорогу к автозаправочной станции и распахнула дверь продуктового магазина. Дверь отозвалась приветливой трелью колокольчика. Знакомый продавец, молодой парень по имени Ларсон, сидел в своей пуленепробиваемой конуре и чесал языком с подружкой, а она болталась перед его окошечком, словно подвеска с освежителем воздуха в автомобиле.
Так получилось, что этого «Здравствуйте, меня зовут Ларсон» папа полюбил, как суринамский таракан – экскременты летучей мыши. Он был из тех непотопляемых восемнадцатилетних мальчиков, с лицом как из книжки про братьев Харди (сейчас таких уже не делают)[319]: сплошные веснушки, улыбка от уха до уха, буйные темно-каштановые кудри, будто висячее растение в горшке, сам весь долговязый, нескладный, руки-ноги постоянно ходят ходуном, точно у куклы-чревовещателя (см. главу 2, «Чарли Маккарти»[320] в кн. «Марионетки, которые изменили нашу жизнь», Меш, 1958). Папа от него был в восторге. В том и беда с моим папой: он обучает методикам медитации целые косяки студентов, которых едва переваривает, а потом заходит в магазин купить «Тамс» с ароматом лесных ягод и с места в карьер буквально влюбляется в мальчишку-продавца, восхваляя его, как истинного дельфина, способного по свистку выполнять сложнейшие трюки: «Вот этого молодого человека я бы с удовольствием обучал! В нем есть искра, это большая редкость».
– Смотрите, кто пришел! Папина дочка! – объявил он по громкой связи. – Разве тебе не пора баиньки?
В мертвенном свете продуктового магазина я почувствовала себя совсем нелепо. Ноги дико болели, платье смялось, как пережаренный зефир, а лицо (отраженное в зеркальной полке) стремительно распадалось, превращаясь в нестабильную массу засохших слез и скверного макияжа (см. главу «Радон-221» в кн. «Вопросы радиоактивности», Джонсон, 1981, стр. 120). А еще я была вся утыкана сосновыми иголками.
– Ну иди сюда, поздоровкаемся! Что бродишь на ночь глядя?
Я нехотя потащилась к окошку кассы. Ларсон был в джинсах и красной футболке с надписью MEAN REDS[321]. А еще он улыбался. Ларсон вообще был из тех людей, которые все время улыбаются. И глаза у него были такие – посмотрит на тебя, и сразу становится щекотно. Поэтому, наверное, разные красотки от него таяли, как мороженое парфе. Даже когда просто приходишь заплатить за бензин, его глаза цвета молочного шоколада или жидкой грязи так и обливают тебя всю и невольно появляется чувство, будто он видит что-то очень твое, очень личное – например, видит тебя голой, или как ты бормочешь во сне что-то стыдное, или хуже того – твою любимую дурацкую фантазию, как ты идешь по красной дорожке в длинном платье, расшитом сверкающим бисером, и все очень стараются не наступить тебе на подол.
– Дай угадаю, – сказал Ларсон. – С мальчиком поссорилась?
– М-м, нет… С папой поругалась. – Мой голос звучал как хруст фольги.
– Да ну? Я его видел на днях. С подружкой.
– Они расстались.
Ларсон кивнул:
– Слушай, Диаманта, принеси-ка ей слаш[322]!
– Какой? – скривилась Диаманта.
– Да любой! Большую порцию. Запиши на мой счет.
Диаманта в розовой футболке с блестками и коротенькой джинсовой юбочке была тощая, как спичка. Сквозь пергаментно-белую кожу просвечивали голубые жилки. Она хмуро убрала ногу в черном сапоге на платформе с нижней полки стеллажа с открытками и потопала вглубь магазина, сверкая и переливаясь в резком свете люминесцентных ламп.
– Трудно с ними, с папашками, – заметил, вздыхая, Ларсон. – Мой свалил, когда мне было четырнадцать. Ничего не оставил, прикинь – только рабочие сапоги и подписку на журнал «Пипл». Я два года через плечо оглядывался, все ждал – вдруг его увижу. Мерещилось, что он вон там перешел через улицу или мимо проехал в автобусе. И я гнался за этим автобусом через весь город и все ждал, ждал как ненормальный, когда же он сойдет на остановке. А когда он выходил, оказывалось, это чей-то чужой папка, не мой. А получается, он мне самый лучший подарок сделал, когда ушел. Знаешь почему?
Я покачала головой.
Ларсон подался вперед, облокотившись о прилавок.
– Благодаря ему я теперь могу сыграть старикашку-короля.
– Какой сорт брать? – крикнула Диаманта, стоя у автомата для изготовления слашей.
– Какой ты хочешь? – Ларсон, не переводя дыхания, перечислил сорта, словно аукционист на ярмарке крупного рогатого скота: – Сарсапарель, Баббл-гам, Севен-ап, Севен-ап тропикале, дыня с виноградом, Кристаллат, банановый сплит, «Красный сигнал»…
– Давайте сарсапарель. Спасибо большое.
– Босая дама хочет сарсапарель! – объявил он по громкой связи.
– Какого короля? – спросила я.
Ларсон снова улыбнулся, показывая два скособоченных передних зуба – один робко выглядывал из-за другого, как будто боялся выходить на сцену.
– Да Лира! У Шекспира в пьесе. Мало кто понимает, что человеку необходимо пережить предательство и измену. Без этого никакой выносливости не будет. Не потянешь два представления в день. Не сдюжишь пять актов подряд играть заглавную роль и вести персонажа от пункта А до пункта Е. Ни кульминацию нормально не выстроишь, ни развязку, поняла? Надо, чтобы жизнь тебя как следует помотала, тогда есть откуда черпать. Больно, конечно, адски. Тошно. Вообще сдохнуть хочется. Зато потом, в спектакле, публика от тебя глаз не может оторвать. Когда в кино хороший фильм показывают, погляди на лица зрителей – какая сила чувства, а? Диаманта!
– Не работает! – крикнула та.
– Еще раз попробуй! Сначала машину выключи и опять включи.
– А где выключатель?
– Сбоку. Красный такой.
– Он грязный! – сказала Диаманта.
А ведь прав был папа – в этом парне и правда есть что-то завораживающее. Какая-то старомодная серьезность, манера смешно двигать бровями во время разговора и странный горский выговор – слова будто острые камешки, на которых можно поскользнуться и разбиться в кровь. Он был весь обсыпан медно-рыжими веснушками, словно его обмакнули в клей, а потом – в блестящие конфетти.
– Понимаешь, – говорил он, широко раскрывая глаза, – пока не испытал настоящую боль, ты можешь играть только себя. А это никому не интересно. Можно рекламировать зубную пасту или крем от геморроя, и только. Живой легендой не станешь – а для чего еще жить?
Диаманта сунула мне громадный стакан слаша и снова пристроилась возле стеллажа с открытками.
– Так! – Ларсон хлопнул в ладоши. – Как тебя зовут-то, скажи?
– Синь.
– Синь, значит. Пришла ко мне ты в час беды жестокой. Что делать будем?
Я посмотрела на Ларсона, потом на Диаманту и опять на Ларсона:
– В смысле?
Он пожал плечами:
– Ну, явилась ты сюда ненастной бурной ночью. Ровно… – Он посмотрел на часы. – В два ноль шесть. Босиком. В драматургии это называется завязкой. Происходит в самом начале действия. – Ларсон кивнул, серьезный, как фотография Сунь Ятсена.[323] Объясни хоть, что за пьеса – комедия, мелодрама, или там детектив, или, как это называется, театр абсурда? А то мы стоим посреди сцены, как дураки, реплик не знаем.
Я вдруг почувствовала, что магазинчик навевает на меня удивительное спокойствие, ровное, как гудение холодильника с пивом. Куда и к кому я хочу пойти, стало ясно, как зеркала в витринах, как ряды батареек и жвачки, как серьги-кольца в ушах Диаманты.
– Детектив, – ответила я. – Можно у вас машину одолжить?
Глава 16. «Смех в темноте», Владимир Набоков
[324]
Ханна открыла мне дверь в домашнем платье наждачного цвета, грубо обрезанном по подолу, так что лохматые ниточки отплясывали хулу-хулу вокруг ее лодыжек. Лицо без макияжа казалось голым, как неокрашенная стена, и в то же время было ясно, что Ханна еще не ложилась. Волосы безмятежно покачивались, обрамляя лицо. Взгляд черных глаз в одну секунду обежал мое лицо, платье и грузовичок Ларсона.
– Господи, Синь, – хрипло проговорила она.
– Простите, что разбудила, – сказала я, потому что так полагается говорить, если явилась к человеку в 2:45 ночи.
– Ничего, я не спала.
Ханна улыбалась, но улыбка была ненастоящая – словно вырезанная из картона. Я уже начала думать, что зря приехала, и тут Ханна меня обняла:
– Входи, входи! Холод ужасный.
Раньше я бывала у Ханны только вместе с Джейд и всей компанией. В доме пахло тушеной морковкой, Луи Армстронг ворковал, словно лягушачий хор, – а сейчас было полутемно и пусто, как в кабине разбившегося самолета. На меня напала клаустрофобия. Собаки настороженно выглядывали из-за голых ног Ханны, а их тени медленно подползали ко мне. В гостиной настольная лампа с длинной гусиной шеей высвечивала разбросанные на столе бумаги – журналы, какие-то квитанции.
– Хочешь чаю? – спросила Ханна.
Я кивнула. Она слегка сжала мое плечо и скрылась в кухне. Я села в бугристое клетчатое кресло возле проигрывателя. Трехногий пес Броди с физиономией дряхлого капитана дальнего плавания, недовольно гавкнув, проковылял ко мне и ткнулся холодным носом в ладонь, будто передавая тайное послание. В кухне покашливали кастрюли, заскулил водопроводный кран, коротко простонал ящик буфета. Я старалась сосредоточиться на этих обыденных звуках, потому что, честно говоря, мне было не по себе. Я ожидала увидеть Ханну в махровом халате, встрепанную, с припухшими со сна глазами и услышать: «Боже милостивый, что случилось?» Или же она, проснувшись от звонка, подумала бы, что в дом ломится разбойник с большой дороги, жаждущий манной кашки и женщины, или пылающий местью бывший возлюбленный с татуировкой на фалангах пальцев («ВА-ЛЕ-РИ-О»).
И я совершенно не ожидала этого картонного приветствия с еле заметной складкой между бровей – как будто Ханна слышала все наши сегодняшние разговоры о ней, включая и то, как Джейд обвиняла ее чуть ли не в связях с Мэнсоном, и то, что происходило у меня в голове, когда реальность Коттонвуда столкнулась с реальностью Зака Содерберга, на несколько мгновений оглушив меня до беспамятства. Я поехала к Ханне (на скорости сорок миль в час[325], едва не свихиваясь от страха, когда передо мной возникал автофургон или стена тюльпанных деревьев), потому что ненавидела папу, а больше деваться мне было некуда, но все-таки я надеялась, что Ханна каким-то образом отменит все те, другие разговоры, сделает их смешными и ничего не значащими, как одно-единственное научно подтвержденное наблюдение буллерова скворца (Aplonis marvornata)[326] могло бы перевести эту птицу из разряда вымерших в суровый, но все же намного более оптимистичный список видов, находящихся под угрозой вымирания.
А в итоге, когда я увидела Ханну, стало только еще хуже.
Папа всегда предупреждал, как опасно воображать людей, рассматривая их мысленным взором, – из-за этого забываешь, какие они в действительности, со всеми их противоречиями, а противоречий в каждом человеке не меньше, чем волос на голове (от ста до двухсот тысяч). Мозг ленив и потому приглаживает образ человека, подгоняя его под какую-то одну основную черту, например пессимизм или неуверенность в себе (а если очень ленив, определяет совсем примитивно: хороший или плохой). Судить человека по одному отдельно взятому признаку – большая ошибка, чреватая самыми неприятными сюрпризами.
Вздохнула кухонная дверь, и снова появилась Ханна, неся на подносе обмякший кусочек яблочного пирога, бутылку вина, бокал и чайничек с чаем.
– Давай-ка прибавим света.
Ханна спихнула босой ногой со столика «Нэшнл джиографик», телепрограмму и несколько писем и поставила на их место поднос. Потом включила желтую настольную лампу рядом с пепельницей, набитой окурками, похожими на раздавленных червяков. Масляный свет плеснул на меня и на мебель.
– Простите, что явилась вот так и мешаю, – сказала я.
– Что ты, Синь! Знаешь ведь, ты всегда можешь ко мне обратиться.
Слова были правильные, а смысл… вроде бы и здесь, но как будто уже с чемоданом в руке, сейчас в дорогу.
– Это ты прости, если я кажусь немножко… не в форме. Вечер был тяжелый. – Ханна, вздохнув, сжала мою руку. – Я правда рада, что ты пришла. Вместе не так одиноко. Можешь переночевать в гостевой комнате, незачем тащиться домой среди ночи. А теперь рассказывай!
Я поперхнулась. Было непонятно, с чего начинать.
– Мы с папой поругались…
Ханна, кусая губы, начала аккуратно складывать бумажную салфетку равнобедренным треугольником, и тут неожиданно зазвонил телефон. Почти человеческий вопль – телефон у Ханны был древний, шестидесятых годов, наверное куплен за доллар на дворовой распродаже. Сердце у меня мелодраматически заколотилось в груди (см. героиню фильма «Зыбучие пески»[327] в исполнении Глории Свенсон).
– Фу, черт! – с досадой прошептала Ханна. – Подожди секунду.
Она исчезла за кухонной дверью, и телефон умолк.
Я прислушалась, но услышала только тишину и звяканье собачьих ошейников – потревоженные собаки зашевелились спросонья. Ханна почти сразу вернулась, все с той же напряженной улыбкой, похожей на маленького ребенка, которого насильно вытолкнули на сцену.
– Это Джейд звонила, – сообщила Ханна, снова усаживаясь на диван.
[НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ 16.0]
Деловито, как хорошая секретарша, занялась чайником – приподняла крышечку, осмотрела плавающие внутри заварочные пакетики, потыкала их пальцем, словно снулую рыбу.
– Как я понимаю, вечер у вас прошел бурно?
Ханна протянула мне кофейную кружку («Я ‹СЕРДЕЧКО› СЛИЗНЯКОВ») и даже не вздрогнула, когда ей на колено капнуло кипятком. Потом, будто позируя для портрета, вытянулась на диване с бокалом красного вина в руке, подсунув босые ноги под подушку.
– Знаешь, – сказала Ханна, – мы с Джейд ужасно поссорились. Она убежала в ярости.
Голос Ханны звучал непривычно по-учительски, словно она рассказывала про фотосинтез.
– Не помню даже, с чего все началось. С какой-то ерунды. – Ханна запрокинула голову, глядя в потолок. – С поступления в университет, кажется. Я сказала, что ей надо больше внимания уделять учебе, иначе можно и не поступить. А Джейд как с цепи сорвалась.
Ханна сделала глоток из бокала. Я тоже отпила свой улун. Сердце сжималось от угрызений совести. Было мучительно ясно, что Ханна знает, какие гадости о ней говорила Джейд. То ли Джейд по телефону призналась (ей всегда требовалось все объяснить своей жертве, так что хорошего жулика или юриста из нее бы не вышло). А может, Ханна просто сама догадалась, памятуя об их ссоре. Но больше всего меня поразило, что Ханну все это настолько задело. Папа говорил, что люди, когда испытывают обиду, начинают делать всякие странные жесты – вот и Ханна хмурилась, обводя пальцем край бокала, и постоянно переводила взгляд с моего лица на бокал, а с бокала на кусок яблочного пирога (сплющенный, словно на него наступили ногой).
А я невольно уставилась на Ханну (ее левая рука удавом обвивала бедро). Я, словно сыщик, высматривающий отпечатки пальцев на спинке кровати, искала истину – пусть бы даже сильно смазанную. Чушь, конечно, ведь безумие, вину и любовь не вычислишь, соединяя пунктиром веснушки и освещая фонариком ямку между ключиц, но удержаться я не могла. В голове засели слова Джейд. Неужели Ханна способна утопить Смока? Неужели она правда спала с Чарльзом? Прячется ли где-то в кулисах ее былая любовь по имени Валерио? Даже в мрачно-рассеянном настроении – вот как сейчас – Ханна захватывала первую полосу и отодвигала на задний план все другие темы (папа, Форт-Пек). Съемка в затемнение, на экране медленно гаснут: папа, Форт-Пек (ехал бы себе в Демократическую Республику Конго, изображать Че Гевару). Из затемнения проступает кадр: Ханна Шнайдер возлежит на диване изломанным зигзагом, как выброшенный на берег прибоем сверкающий мусор. На ее лице блестят капельки пота, пальцы нервно теребят шов на платье.
– Вы на дискотеку так и не поехали? – рискнула я подать голос.
Ханна вздрогнула, будто не понимая, откуда я здесь взялась; она явно забыла, что я всего несколько минут назад приехала, босиком и без приглашения, на четырехдверном «шеви-колорадо» оранжевого цвета. Я не обиделась. Наоборот, позлорадствовала: папа всегда считает себя пупом земли и центром вселенной, а тут о нем и думать не думают. Здорово же!
– Поздно было ехать, – протянула Ханна. – Мы пекли пирог. А Джейд поехала, да? Она, когда гордо хлопнула дверью, сказала, что едет за тобой.
Я кивнула.
– Джейд… У нее бывают странности. Иногда она говорит такие вещи, что… слушать страшно.
– По-моему, она не всерьез, – прошептала я.
Ханна вопросительно наклонила голову:
– Не всерьез?
– Иногда люди говорят что-нибудь, лишь бы не молчать. Или нарочно хотят шокировать. Или просто упражняются. Словесная аэробика. Вербальный кардиостриптиз. Или мало ли что еще. Слова очень редко используют для передачи их непосредственного смысла.
Но папин комментарий из статьи «Разновидности речи и устройство языка» не произвел на Ханну впечатления. Она просто не слушала, зацепившись взглядом за какую-то точку в темном углу комнаты, рядом с пианино. Потом нахмурилась (я раньше не замечала у нее морщинок на лбу), резким движением выдернула ящик низенького столика возле дивана и достала оттуда полупустую пачку «Кэмела». Выбила из пачки сигарету и, вертя ее двумя пальцами, посмотрела на меня озабоченно, будто я была платьем на дешевой распродаже – последним оставшимся подходящего размера.
– Ты же должна понимать, – начала Ханна. – Ты человек очень чуткий и все замечаешь… А может, и не понимаешь. Она тебе не рассказывала. Я думаю, она завидует. Наверняка ей тяжело – ты всегда с такой любовью говоришь об отце.
– О чем не рассказывала? – спросила я.
– Ты вообще что-нибудь знаешь о Джейд? О том, как она жила раньше?
Я покачала головой.
Ханна снова вздохнула. Взяла из ящика спички, закурила.
– Могу рассказать, если ты дашь честное слово, что никому из компании не проболтаешься. Я считаю, тебе нужно это знать. Иначе, если она снова придет к тебе в таком озлобленном настроении… Она была пьяная?
Я, помедлив, кивнула.
– Ничего удивительного, если тебя все это… – Ханна закусила губу, подыскивая слово, будто выбирала блюдо в меню. – Встревожит. И даже напугает. Я бы на твоем месте, безусловно, встревожилась. Если ты будешь знать правду, то поймешь, откуда что берется. Может быть, не сразу. Вблизи трудно увидеть. Все равно что рассматривать рекламный щит, подойдя вплотную. Все мы дальнозорки… Или как это называется – близоруки? А вот потом, позже… – Она словно разговаривала сама с собой. – Да, потом все видится яснее.
Ханна замолчала, щуря глаза. Смотрела на тлеющий кончик сигареты, на висячие уши Старого Хрыча – он подполз к ней, лизнул в коленку и плюхнулся рядом, утомленный, как курортный роман.
Я спросила очень тихо:
– Вы это о чем?
На ее губах заиграла чуть плутоватая улыбка – а может, мне померещилось. При каждом движении по ее лицу скользили желтоватые отсветы настольной лампы, а когда Ханна повернулась ко мне, лицо оказалось в тени.
– Никому не пересказывай то, что услышишь, – строго сказала Ханна. – Даже отцу. Пообещай.
У меня кольнуло в груди.
– Почему?
– Он беспокоится за тебя, верно?
Да, наверное, он и правда беспокоился. Я кивнула.
– В таком случае ты только зря его расстроишь, – поморщилась Ханна.
Мне стало страшно, даже голову повело, как после укола в вену. Я мысленно прокручивала последние шесть минут разговора и никак не могла понять, откуда такой причудливый поворот. Я ворвалась на сцену, чтобы исполнить бесхитростный номер по поводу папы, и вдруг меня оттесняют в кулисы, а на авансцене опытная актриса – Ханна – готовится произнести монолог, судя по всему леденящий душу. Папа всегда предупреждал, что от взволнованных признаний надо уклоняться всеми средствами.
– Скажи, что тебе срочно нужно в туалет, что у тебя папа заболел скарлатиной, что близится конец света и ты должна бежать в супермаркет закупать респираторы и питьевую воду в бутылках. Можно просто изобразить эпилептический припадок. Любыми средствами, радость моя, уворачивайся от душевных излияний, которыми тебя собираются придавить, как бетонной плитой.
– Даешь слово? – спросила Ханна.
Отмечу для протокола – я подумала, не сказать ли ей, что у папы оспа и мне надо бежать к нему, чтобы успеть выслушать его прочувствованные последние слова. Но в конце концов я кивнула. Не в человеческих силах отказаться, когда тебе предлагают рассказать секрет.
– В тринадцать лет Джейд убежала из дома, – сказала Ханна.
И потом целую минуту молчала, давая время сказанному впитаться в темноту за кругом света от лампы.
– Насколько я поняла, Джейд выросла в богатой семье, ни в чем не зная отказа. Отец ее баловал, но сам он был отъявленным лицемером. Разбогател благодаря нефти, так что на его совести кровь и страдания тысяч бедняков. Что касается матери… – Ханна театрально вздернула плечи. – Не знаю, имела ли ты счастье ее видеть. Она из тех, кому даже одеваться лень: целый день способна проходить в махровом халате. У Джейд в детстве была любимая подруга – красивая девочка, очень ранимая, хрупкая. Джейд ей доверяла, как сестре, ничего от нее не скрывала. О такой подруге все девчонки мечтают, только найти не могут. Убей не помню, как ее звали. Что-то такое… очень изысканное. Однако… – Ханна стряхнула пепел с сигареты. – Джейд считалась трудным подростком. Попалась на воровстве, да не в первый раз, а, наверное, в третий или четвертый. Ее собирались отправить в детскую колонию, она и сбежала. Добралась до Сан-Франциско. Можешь себе представить? Из Атланты в Сан-Франциско! Они тогда жили в Атланте, еще до того, как ее родители развелись. Почти три тысячи миль! Она ехала на попутках, с дальнобойщиками, иногда ей удавалось напроситься в машину к какому-нибудь семейству. В конце концов полиция отыскала ее в аптеке. Аптека «Лорда», если не ошибаюсь. – Ханна выдохнула клубящийся дым. – Джейд говорила, эти шесть дней перевернули всю ее жизнь.
Ханна умолкла. Под грузом ее слов комната словно ушла в землю на несколько дюймов.
Когда Ханна еще только начала свой рассказ, у меня в голове словно выключили свет и закрутилась черно-белая кинопленка: я увидела, как Джейд шагает по обочине шоссе где-нибудь в Техасе или Нью-Мексико, в тесных джинсах, тощая, как зонтик, переступая через попадающийся под ноги мусор. Золотые волосы то и дело вспыхивают в свете фар, на лицо ложатся красные блики от немигающих автомобильных глаз. Я промчалась мимо нее в воображаемом трейлере, обернулась – а это вовсе и не она. Совсем другая девчонка, только похожая на Джейд. Потому что «ехала на попутках с дальнобойщиками» никак с ней не сочеталось, и «красивая, хрупкая подруга» тоже. Папа говорил, требуется особый бунтарский склад характера, чтобы бросить «дом и родных, как бы с ними ни было тяжело, и очертя голову ринуться в неизвестность». Джейд могла иной раз нырнуть в кабинку общественного туалета с малознакомыми hombres, будто сошедшими с плаката «Их разыскивает полиция», могла надраться так, что голова свисала набок, словно капля клея из баночки, но чтобы вот так рискнуть – прыгнуть в никуда, не зная даже, приземлится на том берегу или рухнет в бездонную пропасть… Не верится! С другой стороны, нельзя с ходу отметать рассказ о чьей-то жизни. Папа опять же говорил: «Никогда не воображай, будто знаешь заранее, на что способен тот или иной человек».
– Лула пережила нечто подобное, – снова заговорила Ханна. – И тоже в тринадцать лет – сбежала с учителем математики. Говорит, он был красивый и страстный. Лет под тридцать. Средиземноморского происхождения – так и хочется сказать «турок». Она решила, что влюблена. Они успели доехать до… Флориды, кажется. Там его арестовали. – Ханна затянулась, изо рта у нее вытекла тонкая струйка дыма. – Это случилось не здесь, а в ее прежней школе, в Южной Каролине. А Чарльз практически всю жизнь состоит на попечении государства. Его мать была проституткой, принимала наркотики, обычный комплект. Отца нет и не было. В конце концов ему нашли приемную семью. Найджела тоже усыновили. Его настоящие родители сидят в тюрьме в Техасе за убийство полицейского. Не помню подробностей… В общем, они его застрелили.
Ханна вскинула голову, глядя, как над лампой колышется дым от сигареты. Он, кажется, до смерти боялся Ханны. Как и я. Меня пугало, как Ханна бросается секретами – с интонацией легкого нетерпения, словно ее заставили играть в скучную игру с бросанием подков.
– Любопытная вещь – поворотные моменты в жизни. – Ханна, должно быть, почувствовала мою тревогу и смягчила голос, растушевала края легкими касаниями. – Пока не повзрослел, всегда кажется, что твое будущее, твой успех зависят от того, много ли денег у твоих родителей, в какой колледж ты поступишь, какую работу найдешь, какое жалованье будешь получать. – Она скривила губы, и только потом раздался запоздалый смех (некачественная озвучка). – А на самом деле все совсем не так. Ты не поверишь – главное в жизни решают одна-две секунды, и никогда не угадаешь заранее, когда они наступят. Решение, которое ты примешь в эти две секунды, определит, каким станет твое будущее. Кто-то спускает курок и разносит вдребезги все вокруг, а кто-то спасается бегством. Синь, когда для тебя придет такая минута – ничего не бойся. Делай то, что должна сделать.
Ханна села, поставив босые ноги на ковер и рассматривая свои руки – они лежали на коленках, смятые и ненужные, как выброшенные черновики папиных лекций. Прядка, свисающая на левый глаз, придавала лицу пиратский вид. Ханна и не подумала заправить ее за ухо.
А у меня сердце застряло в горле. Я не знала, можно ли безвольно сидеть тут и выслушивать все эти ужасные тайны, рассказанные такими скупыми словами, или надо броситься вон из комнаты, безоглядно, как Сципион Африканский во время разграбления Карфагена[328], распахнуть дверь и бежать к грузовичку Ларсона. Умчаться в разоренную ночь, чтобы гравий летел из-под колес и покрышки выли, как пленники победителя. Только куда мне ехать? Обратно к папе, как всеми позабытый второй инициал какого-нибудь президента, как дата в истории, не отмеченная никакими выдающимися событиями, кроме отъезда группы католических миссионеров в Амазонию и мелкого восстания в одной из стран Востока?
– Теперь Мильтон, – продолжила Ханна, словно обласкав голосом это имя. – Он состоял в уличной банде – забыла, как они назывались, «Ночные кто-то там»…
– Мильтон?! – ахнула я.
И сразу мысленно увидела его: на каких-то задворках, прислонился к ограде из металлической сетки (он вечно к чему-нибудь приваливался спиной). На ногах тяжелые спецназовские ботинки, на голове повязан жуткий красный или черный нейлоновый шарф, глаза сурово прищурены, кожа чуть отсвечивает вороненой сталью.
– Да, Мильтон, – передразнила Ханна. – Он старше, чем все думают. Ему двадцать один. Только, сохрани бог, не ляпни, что знаешь! У него несколько лет выпали из жизни. Провал в памяти – он понятия не имеет, чем занимался. Бродяжничал… Творил черт-те что. Я, конечно, его понимаю. Когда не знаешь, во что верить, хватаешься за любую идею, как утопающий. Даже самую безумную, лишь бы удержаться на плаву.
– Это было, когда он жил в Алабаме? – спросила я.
Ханна кивнула.
– Наверное, он тогда и сделал татуировку, – догадалась я.
К тому времени я уже увидела знаменитую татуировку – и этот случай стал для меня эпохальным кинороликом, который я без конца прокручивала у себя в голове. Мы остались одни в Фиолетовой комнате – Джейд с компанией отправились на кухню печь печенье с травкой. Мильтон возле барной стойки бросал кубики льда в стакан виски, словно отсчитывая дукаты. Он закатал длинные рукава футболки с логотипом группы Nine Inch Nails, так что на бицепсе правой руки едва-едва выглядывали пальчики чьих-то босых ног.
– Хочешь посмотреть? – спросил вдруг Мильтон.
Подошел со стаканом в руке и плюхнулся рядом, задев мою левую коленку. Диван слегка прогнулся. Карие глаза уставились на меня в упор. Мильтон ме-е-едленно подтянул наверх рукав, явно наслаждаясь моим зачарованным вниманием, – и вместо жуткой черной кракозябры, о которой шептались в школе, моему взору открылась нахальная мультяшная девица-ангелочек, подмигивающая, словно сластолюбивый дедок. Одна пухлая коленка была высоко поднята, другая нога выпрямлена – как будто милое создание прыгает с вышки в бассейн.
– Моя мисс Америка, – протянул Мильтон со своей обычной ленцой.
Пока я искала подходящие слова, он встал, одернул рукав и неторопливо вышел из комнаты.
– Да, вот так вот, – неожиданно встрепенулась Ханна, вытряхивая из пачки очередную сигарету. – Все они в двенадцать-тринадцать лет пережили такое, что для большинства людей было бы крушением. Не всякий найдет в себе силы снова подняться. – Ханна быстро закурила, бросила коробок на кофейный столик. – Ты когда-нибудь задумывалась о без вести пропавших?
Когда Ханна заговорила о Мильтоне, у нее словно бензин закончился. Пока рассказывала о Джейд, она неслась вперед уверенно и стремительно, как гоночная машина, а на этапе Мильтона еле-еле тащилась по дороге, будто ржавая колымага. Видно, совесть замучила, что она взвалила такой груз на мои хрупкие плечи. Лицо у нее стало как пауза между предложениями. Ханна мысленно прислушивалась к только что сказанным словам, прощупывала осторожно – не смертельные ли?
А теперь она вдруг снова набрала скорость. Взглядом впилась в меня, не давая отвести глаза. Ее яростное выражение напомнило мне папу, когда он пролистывает дополнительные материалы по теме «Бунтарство и международные отношения», высматривая особенно яркие факты, которые, будучи включены в его лекцию, поразят и ошарашат слушателей, так что «от этих сопливых студентов мокрое место останется». В такие минуты папино лицо словно каменело. Я его не узнавала, и казалось – не смогу узнать, пока не проведу по нему рукой, как слепая.
– Люди пропадают, – сказала Ханна. – Проваливаются в щели, сквозь пол, сквозь потолок. Дети, сироты, сбегают из приютов, их похищают, убивают… Через год полиция прекращает поиски. От человека остается только имя, да и его в конце концов забудут. «В последний раз ее видели вечером восьмого ноября восемьдесят второго года в Ричмонде, штат Виргиния. Когда закончилась ее смена в ресторане „Арбис“, она уехала на синей „Мазде-шестьсот двадцать шесть“ восемьдесят восьмого года выпуска. Позднее машину обнаружили брошенной рядом с шоссе. Возможно, имела место попытка инсценировать аварию».
Ханна умолкла, что-то вспоминая. Воспоминания – дело такое, затягивают, как болото, как трясина. Люди обычно стараются держаться подальше от особенно топких, непролазных воспоминаний, не нанесенных ни на какие карты (и правильно делают, потому что там недолго и совсем сгинуть). А Ханна, судя по всему, неосторожно ступила как раз на такой опасный участок своей памяти. Взгляд ее безжизненно соскользнул на пол, склоненная голова заслонила свет лампы – только профиль обведен сияющей узкой каемкой.
– Вы о ком-то знакомом? – спросила я тихо.
Ной Фиш-Пост в своей захватывающей книге о приключениях современной психиатрии «Размышления об Андромеде» (2001) пишет, что в разговоре с пациентом следует задавать вопросы по возможности ненавязчиво, потому что истина и тайны – как журавли, красивые, крупные, но чрезвычайно пугливые птицы. При малейшем шуме взлетают в небо, только их и видели.
Ханна покачала головой:
– Нет… Я в молодости собирала такие истории. Заучивала наизусть списки пропавших. Сотни имен, сотни историй. Четырнадцатилетняя девочка исчезла по дороге домой из школы девятнадцатого октября девяносто четвертого года. В последний раз ее видели в телефонной будке на перекрестке Леннокс и Хилл. Родные в последний раз видели ее дома в Сидар-Спрингс, штат Колорадо. Около трех часов утра кто-то из семьи обратил внимание, что у нее в комнате работает телевизор, а самой девочки там не оказалось.
У меня руки покрылись гусиной кожей.
– Поэтому, наверное, я и собрала их вокруг себя, – сказала Ханна. – Или они сами ко мне прибились… Не помню. Я боялась, что они тоже провалятся в трещины.
Она наконец-то подняла голову, и я с ужасом увидела, что лицо у нее красное, а в глазах стоят слезы.
– И ты еще теперь, – сказала Ханна.
Я не могла вздохнуть. Беги, твердила я себе. Спасайся, прыгай в грузовичок Ларсона и поезжай в Мексику. Туда всегда все бегут, да только не добегают – их трагически убивают уже у самой границы. Не в Мексику, так в Голливуд – туда стекаются все, кто хочет начать жизнь заново, и в конце концов становятся кинозвездами (см. «Месть Стеллы Фершланкен», Ботандо, 2001).
– Тогда, в сентябре, я увидела тебя в продуктовом магазине… Ты выглядела такой одинокой… – Ханна помолчала, давая словам улечься, как усталый рабочий на обочине. – Я думала, что смогу помочь.
Я чувствовала себя как охрипшее горло. Нет – я была кашлем, скрипом кровати, чем-то унизительным. Обтрепавшейся оборочкой на застиранных трусах. Я уже придумала какое-то детское оправдание, чтобы выскочить из дома и никогда больше не возвращаться («Самое страшное бедствие, какое может случиться с мужчиной, женщиной или ребенком, – это чужая жалость», – пишет Кэрол Малер в своей книге «Разноцветные голуби» [1987], удостоенной премии Вишни), но тут я посмотрела на Ханну и буквально онемела.
Ее злость, раздражение, досада – не знаю, как определить настроение, в котором она пребывала с самого моего прихода, с того телефонного звонка, но оно внезапно исчезло, будто выдохлось, как и последующая печаль. Ханна была пугающе безмятежна (см. раздел «Озеро Люцерн» в кн. «Швейцарский вопрос», Портер, 2000, стр. 159).
Правда, она закурила новую сигарету. Струйка дыма оплетала ее пальцы. Ханна то и дело поправляла волосы, и прядка на лбу качалась туда-сюда, словно страдая от морской болезни. Однако лицо выражало явное довольство человека, который только что совершил некий трудный подвиг. С таким лицом захлопывают учебник, запирают на ночь дверь и выключают свет. С таким лицом выпрямляются, когда после выхода на поклон под жидкие аплодисменты наконец сомкнется тяжелый алый занавес.
У меня в голове стучали слова Джейд: «Самая бездарная актриса на свете. Ее даже в порнуху не возьмут сниматься».
– Да какая теперь разница, что и почему, – снова заговорила Ханна. – Забудь и не вспоминай. Лет через десять будешь решать – после того, как возьмешь мир штурмом. Спать хочешь?
Не интересуясь ответом, она зевнула в кулак, встала и царственно потянулась, будто ее собственная белая персидская кошка. Эта самая кошка – Лана или Тернер, я не помнила точно, которая из них, – как раз вышла на свет из-под пианино, величественно помахивая хвостом, и громко мяукнула.
Глава 17. «Спящая красавица и другие сказки», сэр Артур Квиллер-Коуч
[329]
Я не могла уснуть. Одна, в чужой незнакомой кровати, из-за штор просачивается бледненькое утро и великаний глаз люстры смотрит с потолка. Рассказы о прошлом наших Аристократов потихоньку начали выползать из кустов, словно экзотические ночные зверьки после захода солнца (см. статьи «Цорилла», «Трубкозуб», «Ярбуа», «Кинкажу» и «Короткоухий зорро»[330] в кн. «Энциклопедия живых существ», 4-е изд.). У меня было мало опыта по части темного прошлого, если не считать внимательно прочитанных «Джейн Эйр» (Бронте, 1847) и «Ребекки» (Дюморье, 1938), и хотя я втайне восхищалась меланхолической жутью, запавшими глазами и трагическим молчанием, но сейчас было тревожно думать о том, что каждому из наших пришлось по-настоящему страдать (если Ханне можно верить на слово).
Был же в средней школе города Лутон (штат Техас) мальчик по имени Уилсон Нат – у него папа повесился в канун Рождества. После чего для Уилсона началась собственная трагедия, не из-за скорби о папе, а из-за того, как к нему самому стали относиться в школе. Нет, его не обижали, наоборот: старались порадовать, чем могли. Открывали перед ним двери, предлагали списать домашку, пропускали без очереди к фонтанчику с питьевой водой, к автомату с чипсами и к шкафчику в физкультурной раздевалке. Беда в том, что за всеобщей доброжелательностью крылась неотступная мысль, будто бы из-за истории с отцом для Уилсона открылась некая Тайная дверь и оттуда может в любую минуту выскочить нечто жуткое и зловещее. Не только самоубийство, но и другие мрачные штуки: некрофилия, полисиротство, цитрусовая дисфункция и, может быть, даже зоотоз.
Словно Джейн Гудолл в джунглях Танзании, я наблюдала и добросовестно записывала разнообразные реакции учеников, учителей и родителей в присутствии Уилсона. Взгляд, выражающий облегчение: «Черт возьми, хорошо, что это не со мной случилось!» (выполняется после дружелюбной улыбки Уилсону, отвернувшись к третьему участнику сцены); скорбный взгляд: «От такого ему уже никогда не оправиться» (выполняется глядя в пол или в пространство); многозначительный взгляд: «Мальчишка вырастет ненормальным, конечно» (выполняется, уставившись прямо в карие глаза Уилсона) – и просто любопытный взгляд (рот разинут, физиономия практически бессмысленная, выполняется, уставившись в спину Уилсону, когда он тихо-мирно сидит за партой).
Кроме взглядов, были еще и жесты. Можно, например, помахать рукой, как поп-звезда с эстрады (выполняется через окошко машины, уезжая домой с родителями и вдруг заметив, что Уилсон все еще ждет свою маму, у которой свалявшиеся волосы, блеющий смех и бусы на шее; данный жест неизменно сопровождается одной из трех реплик: «Бедняга, надо ж такому случиться», «Даже представить не могу, каково ему сейчас» или бесхитростно-параноидальное «Наш папа ведь не покончит с собой, правда?»). Можно еще тыкать пальцем: «Вон, вон он!»; тыкать пальцем в противоположном направлении (деликатность по-техасски); а можно – и это хуже всего – шарахаться в ужасе, нечаянно задев руку Уилсона (когда открываешь дверь, например, или передаешь контрольную работу, будто несчастьем Уилсона можно заразиться через прикосновение).
В конце концов Уилсон и сам с ними согласился – в этом-то и заключалась трагедия. Он поверил, что для него отворилась Тайная дверь, и каждую минуту ждал, что оттуда на него бросится нечто темное и ужасное. Он-то не виноват; если все вокруг постоянно намекают, что ты паршивая овца и тот самый урод, без которого в семье не обходится, невольно покажется, что так и есть. Уилсон больше не играл с мальчишками в баскетбол на переменах, перестал появляться на интеллектуальных олимпиадах, и хотя при мне его многие участливо приглашали после уроков сходить в закусочную «Кей-Эф-Си», Уилсон, отводя глаза, скороговоркой отвечал: «Спасибо, нет» – и немедленно удирал.
Отсюда я сделала важный вывод: наверное, Джейн Гудолл так же разволновалась, обнаружив, что шимпанзе ловко пользуются орудиями для извлечения термитов из термитника. Мой вывод: человека придавливает не столько случившаяся трагедия, сколько сознание, что о ней известно окружающим. Сам по себе человек почти все может пережить (см. «Das unglaubliche Leben der Wolfgang Becker»[331], Becker, 1953). Даже мой папа с благоговением говорил об этом, а папа никогда ни перед чем не благоговел. «Потрясающе, сколько способно выдержать человеческое тело».
В настроении «бурбон» папа вслед за этими словами начинал изображать Марлона Брандо в роли полковника Курца.[332]
– «Нам нужны люди, обладающие высокой моралью», – декламировал он, медленно поворачивая ко мне голову и широко раскрывая глаза, дабы показать одновременно Гений и Безумие. – «Но в то же время способные мобилизовать свои первобытные инстинкты и убивать без чувства, без страсти, не пытаясь судить…» – На слове «судить» папа непременно выгибал бровь, пристально глядя мне в глаза. – «Потому что именно желание судить делает нас слабее и приводит к поражению».
Конечно, рассказ Ханны я не могла безоговорочно принять на веру. Было в ее словах ощущение какой-то сценичности – картонные пальмы на заднем плане (явное нежелание назвать хоть одно конкретное место), изобилие реквизита (бесконечные сигареты, бокал вина), шумовая машина (склонность к романтизации), стандартные приемы воздействия на публику (драматические взгляды в пол или в потолок); от всей этой театральщины невольно вспоминались постеры с любовными сценами у нее в классе. Как известно, мошенники при необходимости способны, не сходя с места, выдать убедительную историю со всеми подробностями и неожиданными сюжетными поворотами. Теоретически такое возможно, однако в случае с Ханной Шнайдер крайне маловероятно. Жулики врут и хитрят, чтобы не загреметь в кутузку, а Ханне-то зачем выдумывать горестное прошлое для наших Аристократов? Нет-нет, в основе ее рассказа – истина, пусть даже в исполнении Ханны она превращается в освещенную софитами и обставленную декорациями театральную постановку, где статисты, вымазанные гримом толщиной в палец, прыгают по сцене, изображая дикарей-туземцев.
С этими мыслями я и заснула, когда утро уже подкралось к окну и ветерок тихо шевелил хлипкие занавески.
Ничто так не помогает прогнать ночных демонов, как яркое радостное утро. (Вопреки распространенному мнению Тревога, Душевный Разлад и Комплекс Вины – удивительно робкие, неуверенные в себе существа и мигом бросаются наутек при столкновении с Ясностью Духа и Безупречно Чистой Совестью.)
Проснувшись в крохотной гостевой комнате с обоями цвета лесных колокольчиков, я вылезла из кровати и отдернула тонкую белую занавеску. По газону пробегала дрожь приятного ожидания. Вверху воздушным шариком синело небо. Хрустящие осенние листья на пуантах отрабатывали глиссады и фуэте у обочины. На замшелой кормушке (обычно Ханна не уделяла ей внимания) завтракали два толстеньких кардинала и синица.
Когда я спустилась, Ханна, полностью одетая, читала газету.
– А, привет! – весело поздоровалась она. – Как спалось?
Ханна дала мне одежду – старые серые вельветовые брюки (сказала, они сели после стирки), черные туфли и нежно-розовую трикотажную кофту с малюсенькими бусинками по вороту.
– Оставь ее себе! – улыбнулась Ханна. – Тебе невероятно идет!
Через двадцать минут мы уже ехали в ее «субару» на автозаправку, где я оставила грузовичок Ларсона и ключи у рыжего толстяка с пальцами, похожими на морковки, – он всегда работал в утреннюю смену.
Ханна предложила заехать куда-нибудь перекусить перед тем, как она отвезет меня домой. Мы остановились у закусочной «Уютные блинчики» на Орландо. Официантка приняла у нас заказ. Интерьер отличался бесхитростной прямотой: квадратные окна, по темно-коричневому ковровому покрытию пунктиром «УЮТНЫЕ БЛИНЧИКИ УЮТНЫЕ БЛИНЧИКИ» до самого туалета. Посетители тихо жуют за столиками. Если и есть в мире Тьма и Ужас, то они вежливо дожидаются, пока люди позавтракают.
– Чарльз… вас любит? – спросила я вдруг и сама поразилась, как легко, оказывается, задать этот вопрос.
Ханна не рассердилась; скорее, я ее насмешила.
– Кто тебе сказал? Джейд? Я же вроде бы объяснила вчера – ей необходимо все преувеличивать, сталкивать людей лбами. У них у всех так. Не знаю почему. Они еще воображают, будто бы я сохну по какому-то… как его там? Виктор или Венеция… Что-то из «Храброго сердца»[333]. Начинается на «В»…
– Валерио? – тихонько подсказала я.
– А, вот как? – Ханна засмеялась так кокетливо, что какой-то тип в оранжевой фланелевой рубашке за соседним столиком с надеждой обернулся к ней. – Поверь, если был бы где-нибудь на свете мой рыцарь… Валерио, правильно? Я пулей помчалась бы к нему. Догнала, треснула дубиной по голове, перебросила через плечо, притащила к себе в пещеру и уж там сделала с ним все, что захочется. – Посмеиваясь, Ханна расстегнула сумочку, достала три монеты по двадцать пять центов и протянула мне. – Иди позвони отцу!
Я позвонила с платного телефона рядом с автоматом, продающим сигареты. Папа снял трубку после первого же гудка.
– Привет…
– Где ты, черт побери?!!
– В закусочной с Ханной Шнайдер.
– С тобой все в порядке?
Если честно, приятно было слышать в папином голосе неприкрытую тревогу.
– Конечно. Я ем французские гренки.
– Да? А я тут за завтраком заполняю форму заявления на розыск пропавшей. В последний раз видели – примерно в два тридцать ночи. Как была одета – не помню точно. Хорошо, что позвонила. Кстати, что это на тебе было вчера – платье или мешок для мусора?
– Я через час буду дома.
– Рад, что ты решила почтить меня своим присутствием.
– А в Форт-Пек я не поеду.
– Ну-у… потом поговорим.
И тут меня озарило, как Альфреда Нобеля, когда ему пришла идея оружия, способного покончить со всеми войнами (см. гл. 1 «Динамит» в кн. «Ошибки истории», Джун, 1992).
– «Кто боится, тот бежит»[334], – процитировала я.
Он замолчал было, но сразу пришел в себя:
– Справедливо, но мы посмотрим. С другой стороны, мне нужна твоя помощь в проверке этих убогих студенческих работ. Если возможно, скажем, выторговать за Форт-Пек три-четыре часа твоего времени, я готов рассмотреть такой вариант.
– Пап?
– Слушаю?
Почему-то я не могла произнести ни слова.
– Только не говори, что ты сделала на груди татуировку «Raised in Hell»[335].
– Нет.
– Решила вступить в секту? Сборище экстремистов, которые практикуют многоженство и называют себя «Агония человечества»?
– Нет.
– Ты лесбиянка и просишь моего благословения, чтобы пригласить на свидание капитана женской команды по хоккею с мячом?
– Нет, пап.
– Слава богу! Хотя сапфическая любовь стара как мир и совершенно естественна, средние американцы относятся к ней как к ненужной причуде вроде дынной диеты или брючного костюма для женщин. Тебе пришлось бы нелегко, а ведь жизнь у тебя и так не сахар при таком-то папочке. Двойной груз, пожалуй, уже и не потянуть.
– Пап, я люблю тебя.
В трубке тишина.
Я, конечно, чувствовала себя по-дурацки. Не только потому, что такие слова должны немедленно возвращаться обратно по принципу бумеранга, и даже не от сознания, что вчерашний вечер превратил меня в сентиментальную дуреху. Просто я хорошо знала, что папа терпеть не может именно эти слова, так же как не переваривает американских политиков, руководителей корпораций, произносящих в интервью «Уолл-стрит джорнал» такие слова, как «синергия» и «креативный», бедность в странах третьего мира, геноцид, телевикторины, кинозвезд, фильм «Инопланетянин» и заодно ореховое драже Reese’s Pieces.[336]
– Я тоже тебя люблю, моя радость, – сказал он наконец. – Могла бы уже и сама догадаться за столько лет. Впрочем, этого следовало ожидать. Самые очевидные вещи, так сказать белые слоны и носороги, у всех на виду приходят на водопой, жуют листочки и веточки, а их не замечают. А почему?
Это был классический ванмееровский Риторический Вопрос, за которым всегда следовала столь же классическая ванмееровская Многозначительная Пауза. Я молча ждала, прижимая трубку к подбородку. Его ораторские приемчики были мне знакомы по тем немногим случаям, когда папа брал меня на свою лекцию в просторной аудитории-амфитеатре с ковровым покрытием на стенах и жужжащими лампами дневного света. Хорошо помню последнюю такую лекцию – в Чезвикском колледже. Папа рассказывал о гражданских войнах, драматически хмурясь и бурно жестикулируя, будто свихнувшийся Марк Антоний или одержимый Генрих Восьмой, а я слушала и ужасалась: позор какой, все же видят, что он мечтает стать Ричардом Бертоном[337]. Потом вдруг огляделась и заметила, что все студенты до единого (даже тот, в третьем ряду, с выбритым на затылке символом анархии) не сводят с папы восхищенных глаз, как мотыльки, безвольно летящие на огонь.
– Америка уснула! – гремел папа. – Вы наверняка уже слышали об этом от какого-нибудь бомжа на улице, только от него воняло, как от общественного биотуалета, и вы, задержав дыхание, смотрели мимо него, будто перед вами не человек, а почтовый ящик. Так скажите, правда это? Америка действительно впала в спячку? Задремала, задрыхла, решила покемарить чуток? Мы живем в стране безграничных возможностей – так? Разумеется, ответ «да»… если вам повезло быть большой шишкой в преуспевающей корпорации. В прошлом году доходы руководящих работников корпораций выросли на двадцать шесть процентов, а зарплата «синих воротничков» – на жалкие три процента. Кому самый жирный кус? Мистер Стюарт Бернс, генеральный директор Remco Intergrated Technologies. Объявляем сумму выигрыша: за год работы – сто шестнадцать запятая четыре миллиона долларов!
Тут папа с зачарованным выражением скрестил руки на груди.
– Что же такого совершил наш Стю, чтобы заслужить жалованье, на которое можно прокормить все население Судана? Увы, не так уж много он совершил. Компания недосчиталась прибыли за четвертый квартал. Стоимость акций упала на девятнадцать процентов. Однако члены совета директоров скинулись на зарплату команде стофутовой яхты Стю и оплатили куратора для его коллекции импрессионистов, насчитывающей почти полторы тысячи полотен.
Папа склонил голову к плечу, словно прислушиваясь к далекой музыке.
– Вот она, жадность. Хорошо ли это? Должны ли мы прислушаться к человеку в подтяжках? Когда вы приходите ко мне на индивидуальные консультации, я часто замечаю не то чтобы пораженчество, но своего рода обреченность: дескать, так уж устроен мир, его не изменишь. Мы живем в Америке, здесь принято хватать и грести все, до чего успеешь дотянуться, прежде чем умереть от сердечной недостаточности. Однако разве гонка за деньгами – главная цель в жизни? Можете назвать меня оптимистом, но я так не думаю. По-моему, каждый надеется прожить свою жизнь со смыслом. Так что же делать? Устроить революцию?
Папа задал этот вопрос, обращаясь к миниатюрной брюнетке в первом ряду, одетой в розовую футболку. Девушка испуганно кивнула.
– Вы с ума сошли?
Студентка порозовела пуще своей футболки.
– Возможно, вы слыхали о разнообразных идиотах, которые пытались воевать с правительством Соединенных Штатов в шестидесятые-семидесятые? Новые левые коммунисты, «Синоптики»[338], движение «студенты-за-что-то-такое-этакое-их-никто-не-принимает-всерьез». На мой взгляд, они были еще хуже, чем Стю. Они разрушили не институт брака, а надежду на результативный протест в нашей стране. После их бессмысленных выходок, самовлюбленности и беспочвенного насилия стало нетрудно отмахиваться от любых недовольных, записывая всех под одну гребенку в придурковатые хиппари… Я же утверждаю, что нужно брать за образец другое великое американское движение нашего времени, тоже по-своему революционное, ибо речь идет о войне со временем и силой земного притяжения, а также о распространении на Земле инопланетных форм жизни – во всяком случае, если судить по внешнему виду. Я говорю о пластической хирургии. Вы не ослышались, леди и джентльмены, Америке срочно требуется косметическая операция. Никаких массовых восстаний и государственных переворотов! Там глаза подправить, тут грудь увеличить, где надо – жирок откачать… Малюсенький разрезик за ухом, подтягиваем лишнюю кожу, зашиваем, с соблюдением строжайшей врачебной тайны, и – оп-ля! Всякий скажет: загляденье! Безупречная упругость, нигде ничего не провисает. Вы смеетесь, но вы поймете, что я имею в виду, когда выполните задание ко вторнику: прочтете в книге Литтлтона «Анатомия материализма» статью под названием «Ночные дозорные и мифологические основы практических перемен». Также прочтите исследование Эйдельштейна «Репрессии в империалистических державах» и мою скромную работу «Свидание вслепую. Преимущества бесшумной гражданской войны». И пожалуйста, не забудьте, что вас ждет блицопрос по теме!
Папа, сдержанно улыбаясь, закрыл потертую кожаную папочку с неразборчивыми заметками (в которые никогда не смотрел, а на стол их клал исключительно ради эффекта), достал из нагрудного кармана платочек и слегка промокнул лоб (мы с ним через всю Андамскую пустыню в штате Невада проехали в разгар июля, и хоть бы капля пота у него выступила). Только тогда студенты наконец зашевелились. Кто-то улыбался недоверчиво, многие шли к выходу с обалдевшими лицами. Несколько человек спешно листали книжку Литтлтона.
А сейчас, в настоящем, папа сам ответил на свой вопрос. Голос в телефонной трубке звучал тихо и как будто шершаво:
– Все мы бесповоротно слепы в том, что касается истинной природы вещей.
Глава 18. «Комната с видом», Э. М. Форстер
Великий покойный Хорэс Ллойд Суизин (1844–1917)[339], британский эссеист, лектор, сатирик и тонкий наблюдатель общественных нравов, пишет в своей автобиографической книге «Назначенные встречи. 1890–1901» (1902): «Путешествуя, открываешь не столько удивительные тайны иных стран, сколько удивительные тайны своих попутчиков. Среди них могут встретиться восхитительные виды, порой довольно скучные пейзажи, а иногда попадаются такие коварные территории, что лучше бросить всю затею с путешествием и воротиться поскорее домой».
До конца полугодия я Ханну больше не видела, а Джейд и других встречала пару раз, когда начались экзамены.
– Увидимся в будущем году, Оливки! – сказал Мильтон, проходя мимо меня возле закусочной «Скрэтч».
Я, кажется, углядела у него на лбу морщинки, свидетельствующие о преклонном возрасте, но пристально рассматривать постеснялась.
Чарльз собирался на десять дней во Флориду, Джейд – в Атланту, Лу – в Колорадо, Найджел – к бабушке с дедушкой (кажется, в штат Миссури). Мне, таким образом, предстояли рутинные каникулы с папой и новой книгой Рикланда Гештальта, посвященной критике американской судебной системы, – «Оседлать молнию» (2004). Но когда я сдала последний экзамен – углубленный курс истории искусства, – папа объявил, что приготовил для меня сюрприз.
– Ранний подарок к окончанию школы. Небольшое Abenteuer – или лучше было бы сказать, aventure[340] – напоследок, прежде чем ты от меня избавишься. Скоро ты будешь меня называть… Как там говорилось в том слюнявом фильме с придурковатыми старичками – старпер?
Оказалось, что папин старый друг по Гарварду, доктор Майкл Серво Куропулос (папа ласково называл его Ром-бабой, и поэтому я предполагала, что он похож на пропитанный ромом кекс), уже восемь лет преподавал в Париже, в Сорбонне, древнегреческую литературу и давно звал папу в гости.
– Он приглашает нас погостить, и мы, безусловно, остановимся у него. Квартира, насколько я понимаю, царская, на самом берегу Сены. У него в семье деньги лопатой гребут. Импорт-экспорт и так далее. Но сперва, я думаю, было бы «шикарно» пожить пару-тройку дней в гостинице, распробовать la vie parisienne[341]. Я заказал номер в «Ритце».
– В «Ритце»?!
– Au sixième étage[342]. Звучит волнующе.
– Пап…
– Я хотел взять номер, где останавливалась Коко Шанель, но он был уже занят. Я думаю, все хотят номер Коко.
– Но…
– Ни слова о расходах! Я же говорил, я специально копил деньги, чтобы можно было себе позволить маленькие безумства.
Конечно, и поездка, и обещанная роскошь поражали, но еще больше я удивлялась, как по-детски радуется папа. Джин Келли сплошной, «Поющие под дождем» и так далее. Я его таким не видела с тех пор, как июньская букашка Тамара Сотто из города Притчард, штат Джорджия, пригласила папу на тракторные гонки «Месиво монстров»[343]; билеты достать невозможно, если только у тебя нет родных или знакомых среди трактористов («Как думаете, если я суну полсотни одному из этих беззубых чудо-старичков, он мне позволит сесть за руль?» – спрашивал папа). А еще я на днях узнала (мятая бумажка печально выглядывала из мусорного ведра в кухне), что «Федеральный форум» отклонил свежую папину статью под названием «Четвертый рейх». Обычно папа в таких случаях дулся несколько дней, время от времени разражаясь тирадами о том, как в Америке давят критику, будь то в популярной прессе или в малотиражном издании.
Но нет, папа сиял и лучился как ни в чем не бывало. За два дня до намеченного отъезда он притащил домой кучу путеводителей (среди которых отметим Paris, Pour Le Voyageur Distingué[344] [Бертро, 2000]), туристических планов города, чемоданов на колесиках, дорожных несессеров, миниатюрных ламп для чтения, надувные подушки, теплые носки для отдыха в самолете, два комплекта каких-то странных затычек для ушей («Аэротишь» и «Авиаберуши»), несколько шелковых шарфов («Все парижанки носят шарфы, чтобы казалось, будто они только что сошли с фотографий Дуано»[345], – пояснил папа), пару карманных разговорников и рассчитанный на сто часов учебный видеокурс «La Salle Conversation Classroom»[346] (надпись на коробке гласила: «Освойте второй язык в совершенстве всего за пять дней. Станьте звездой застольной беседы!»).
Вечером 20 декабря мы с папой поднялись на борт самолета компании «Эр Франс», испытывая трепет, «какой только можно ощутить, прощаясь со своим багажом и слабо надеясь увидеться с ним вновь через две тысячи миль». Вылетев из аэропорта Хартсфилд в Атланте, мы 21 декабря под моросящим дождиком приземлились в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже (см. «Путеводные знаки. 1890–1897», Суизин, 1898, стр. 11).
Встретиться с Ром-бабой мы планировали не раньше 26-го (насколько я поняла, он пока гостил у родных на юге Франции). Таким образом, первые пять дней в Париже мы с папой провели вдвоем, как в старые добрые вольвовские дни, говорили только друг с другом и никого вокруг не замечали.
Мы ели тонюсенькие блины и курицу в красном вине. Ужинали в дорогих ресторанах, где из окон открывались потрясающие виды на город, а мужины с горящими глазами готовы были в любой миг сорваться в погоню за встречной женщиной – так птица в клетке скачет возле прутьев, надеясь отыскать хотя бы крохотную щелку и вырваться на волю. После обеда мы с папой погребали себя в каком-нибудь джаз-клубе вроде «au Caveau de la Huchette»[347] – задымленного подвала, где посетители обязаны три с половиной часа просидеть молча и неподвижно, застыв, как охотничья собака, почуявшая дичь, в то время как джазовое трио (с блестящими от пота лицами, будто они намазались маргарином), закрыв глаза, гипнотизируют зал риффами и синкопами, а их пальцы, словно тарантулы, бегают по струнам и клавишам.
Официантка уверяла, что за нашим столиком любил сидеть Джим Моррисон[348]. Якобы он колол себе героин в том самом темном углу, где теперь устроились мы с папой.
– Мы бы хотели пересесть во-он за тот столик, s’il vous plaît[349], – отреагировал папа.
Несмотря на такую волнующую обстановку, я все время думала о доме. Вспоминала удивительные рассказы Ханны. Как пишет Суизин в книге «Положение вещей. 1901–1903» (1902): «Находясь в одном месте, человек думает о другом; танцуя с женщиной, невольно мечтает о плавных контурах обнаженного плеча другой; проклятие человечества – неспособность достичь состояния удовлетворенности, когда и ум, и тело блаженно пребывают в одной-единственной гавани!» (стр. 513).
Верно подмечено! Хоть я и была довольна жизнью (особенно в те минуты, когда папа не замечал, что в уголке рта у него остался крем от эклера, или, отбарабанив на «безупречном» французском длиннющую фразу, встречал в ответ недоуменные взгляды), а все-таки по ночам не могла заснуть – беспокоилась из-за нашей компании. Ужасно стыдно признаваться, ведь по-хорошему после рассказа Ханны мое отношение к ним должно бы остаться прежним. А я невольно видела их в другом свете – ярком и беспощадном, и теперь все наши представлялись мне чем-то вроде процессии поющих оборванцев-беспризорников в фильме «Оливер!»[350], который мы с папой посмотрели как-то скучным вечером в Вайоминге, закусывая солененьким попкорном.
Утром после ночных раздумий я чуть крепче сжимала папину руку, перебегая вместе с ним через дорогу на Елисейских Полях, и чуть громче смеялась над его едкими комментариями по поводу толстых американцев в одежде цвета хаки именно в ту минуту, когда толстый американец в одежде цвета хаки спрашивал у хозяйки кондитерской, где здесь туалет. Я, словно тяжелобольная при смерти, вглядывалась в папино лицо и чуть не плакала, увидя едва заметные морщинки у глаз, черную крапинку на радужке левого глаза и обтрепанные манжеты вельветового пиджака – это я в детстве обтрепала, без конца дергая папу за рукав. Я благодарила Бога за такие вот мелкие детали, на которые никто другой и внимания не обратит, потому что эти тонкие, как паутинка, ниточки – единственное, что отличает меня от них.
От таких мыслей наши стали всюду мне мерещиться, как в фильмах Хичкока. Несчитаное количество раз я видела Джейд – вот она, идет впереди по рю Дантон, ведет на поводке надменного мопса. Высветленные волосы, ярко-красная помада, джинсы и жвачка – Джейд, как она есть. А вот Чарльз, худой, насупленный и белобрысый, пьет кофе в маленьком кафе, а бедняжка Мильтон сидит на тротуаре возле метро «Одеон», и ничего-то у него в этой жизни нет, кроме спальника и свирели. Узловатыми пальцами он наигрывает грустную рождественскую песенку – мелодия из четырех нот. Босые ноги сбиты в кровь, кожа огрубела, словно мокрая джинсовая ткань.
Даже Ханна мелькнула разок, во время единственного происшествия, которое папа не запланировал (по крайней мере, насколько я знаю). Двадцать шестого декабря, под утро, в гостинице случилась тревога – кто-то сообщил о бомбе. Завыла сигнализация, постояльцев и служащих отеля, прямо как были – в неглиже, сверкающих лысинами и голыми грудями, – вытряхнули на Вандомскую площадь, словно консервированный суп-пюре из банки.
Неумолимая деловитая собранность, свойственная всему персоналу «Ритца», оказалась всего лишь непрочной магической иллюзией, действующей, пока сотрудники физически находятся внутри отеля. А под ночным небом они вмиг, словно заколдованная тыква, обратились в обычных людей, дрожащих от холода и хлюпающих носами на ветру.
Папа, конечно, с восторгом наблюдал эту драматическую интерлюдию. «Нас, наверное, по телевизору покажут, в новостях», – радовался он, пока мы ждали пожарных, стоя рядом с белым как мел коридорным в переливчатой шелковой пижаме горохового цвета. И тут я увидела Ханну. Она была намного старше, все еще стройная, но уже заметно увядшая. Рукава ее пижамы были закатаны, словно у водителя грузовика.
Она спросила:
– Что происходит?
– Э-э… – сказал перепуганный коридорный. – Je ne sais pas, madame.
– Что значит tu ne sais pas?
– Je ne sais pas.[351]
– А кто-нибудь знает? Или все вы тут сидите, как лягушки на листьях кувшинки?
(К папиному нескрываемому разочарованию, тревога оказалась ложной – просто неполадки с электричеством. Наутро – это было наше последнее утро в отеле – мы с папой, проснувшись, обнаружили в номере бесплатный завтрак и карточку, отпечатанную изящным золотым шрифтом, с извинениями за причиненные неудобства.)
Ветреным вечером двадцать шестого декабря мы попрощались с отелем и повезли чемоданы через весь город к Ром-бабе, в необъятную квартиру, занимающую два верхних этажа каменного дома семнадцатого века на острове Святого Людовика.
– Неплохо, м-м? – сказал Серво. – Да-а, девочкам нравилось в этом сарае, пока они росли. Все их французские друзья-подружки рвались в гости по выходным, просто отбою не было. Как вам Париж, м-м?
– Невероя…
– Электра не любит Париж. Ей больше нравится Монте-Карло, и она права. Нам, парижанам, не продохнуть от туристов, а Монте-Карло – заповедник, туда можно попасть, только если у тебя… сколько? Один, два миллиона? Сегодня все утро проговорил с Электрой по телефону. Она мне позвонила. «Папа! – говорит. – Меня приглашают на работу в посольство». Сколько деньжищ обещают платить, я чуть со стула не упал. Девятнадцать лет всего, она перескочила через три класса. В Йеле ее обожают. Психею тоже. Она в этом году поступила, а ее на подиум зазывают – летом попробовала себя топ-моделью. Заработала столько, что весь Манхэттен можно скупить на корню, а этот, как его, который нижнее белье? Кельвин Кляйн. Влюбился без памяти. В девять лет она писала сочинения, как Бальзак. Учителя плакали, когда читали. Постоянно мне твердили, что она – поэт. А поэтами не становятся, понимаете, поэтами рождаются! Говорят, настоящий поэт появляется всего раз… как это? М-м? Раз в столетие!
Доктор Майкл Серво Куропулос был смуглый грек, обладающий неиссякаемым запасом разных историй, мнений обо всем на свете, а также подбородков. Лет под семьдесят, лишний вес, курчавые, как у барашка, белоснежные волосы и тускло-карие глаза, непрерывно перебегающие с одного предмета на другой, словно пара катящихся игральных кубиков. Он постоянно потел и страдал своеобразным тиком: то и дело хлопал себя ладонью по груди, а потом растирал это место круговыми движениями. Каждую реплику заканчивал утробным «м-м», а разговоры, не затрагивающие его семью, воспринимал как зараженные термитами здания, подлежащие немедленному сносу посредством очередной оды Электре или Психее. Двигался очень быстро, несмотря на хромоту и деревянную трость, которая, будучи прислоненной к прилавку, пока ее владелец заказывает un pain au chocolat[352], с грохотом падала на пол, иногда при этом больно стукая по ногам других посетителей («М-м? Ай-яй-яй, excusez-moi!»).[353]
– Он всегда хромал, – сказал папа. – Еще когда мы учились в Гарварде.
Как выяснилось, он еще и не любил фотографироваться. Когда я в первый раз вытащила из рюкзака «мыльницу», доктор Куропулос прикрыл лицо рукой и наотрез отказался ее убрать.
– М-м… Не надо, я плохо получаюсь на фотографиях.
В другой раз он сбежал в туалет на целых десять минут.
– Прошу меня простить! Жаль прерывать фотосессию, но зов природы, знаете ли…
На третий раз он пустил в ход затрепанную байку о масаях – ее часто поминают, когда хотят показать свою образованность по части первобытных верований.
– Масаи говорят, фотографирование похищает душу. Не хочу рисковать!
(Между прочим, сведения безнадежно устарели. Папа одно время жил в Великой рифтовой долине и говорит, за пять долларов практически любой представитель народа масаи младше семидесяти пяти позволит похищать его душу, сколько тебе заблагорассудится.)
Я спросила папу, откуда такая странность.
– Не знаю, но не удивлюсь, если за ним охотится налоговая служба.
Невозможно было себе представить, чтобы папа добровольно согласился провести с этим человеком пять минут, а не то что шесть дней. Никакой дружбы тут не было и в помине. По-моему, они друг друга терпеть не могли.
Сидеть за столом с Ром-бабой – мало сказать, нерадостно; это изощренная пытка. Расправляясь с тушеной говядиной или ножкой ягненка, он ухитрялся так перемазаться, что я невольно думала: хоть бы он салфетку за ворот себе заправлял, что ли, хоть это и не принято. Руки доктора Куропулоса, будто две толстые испуганные кошки, норовили неожиданно метнуться через весь стол и цапнуть солонку или бутылку вина (он сперва наливал себе, а потом, спохватившись, – папе).
Меня-то больше расстраивали не манеры доктора, а стиль застольной беседы. Примерно на середине закусок, если не раньше, они с папой затевали странный словесный поединок – бодались, точно лоси во время гона или какие-нибудь жуки-носороги.
Насколько я уловила, началось все с тонких намеков Ром-бабы в том духе, что мой папа, конечно, молодец, вырастил гениального ребенка («Маленькая птичка мне начирикала, что по возвращении домой нас ждут добрые вести из Гарварда», – пафосно сообщил папа за десертом в ресторане «Лаперуз»), однако он, доктор Майкл Серво Куропулос, известнейший специалист по классической литературе, воспитал двух гениальных дочек («В две тысячи четырнадцатом к Психее обращались из НАСА, приглашали участвовать в проекте по исследованию Луны. Я бы вам больше рассказал, но эта информация засекречена. Приходится хранить молчание ради Психеи и ради дряхлющей супердержавы…»)
Словесные баталии папу заметно утомляли, пока он не обнаружил ахиллесову пяту Серво – младшего сынка с не оправдавшим себя именем Атлант. Наследник не то что мир на плечах держать – первый курс в Университете Рио-Гранде в мексиканском городе Куэрво осилить не смог. Папа вынудил Ром-бабу признаться, что бедный мальчик сейчас обретается где-то в Южной Америке.
Я старалась не обращать внимания на эти дурацкие стычки и аккуратно ела, поднимая белый флаг в виде долгих извиняющихся взглядов в сторону расстроенных официантов и посетителей за ближайшими столиками. Только когда дошло до патовой ситуации, я решилась поддержать папу.
– «Мы любим красоту, состоящую в простоте, и мудрость без изнеженности»[354], – изрекла я насколько могла торжественней после сорокапятиминутной речи Серво о том, как в 1996 году в Каннах некий знаменитый сын миллиардера (Серво не вправе называть имен) влюбился в двенадцатилетнюю Электру, когда она на пляже строила замок из песка, проявляя при этом необыкновенное мастерство и тонкое чувство современного дизайна, которому позавидовал бы Мис ван дер Роэ[355].
Самый завидный жених в мире настолько потерял голову от любви, что Серво подумывал уже, не обратиться ли в суд: пусть запретят назойливому поклоннику, а также его четырехсотфутовой яхте со спортзалом и посадочной площадкой для вертолета (яхту влюбленный грозился переменовать в «Электру») на пушечный выстрел приближаться к неотразимой крошке.
Сложив руки на коленях, я окинула зал взором Истинного Всеведения, точно голубка, которую Ной отправил в полет со своего ковчега и которая вернулась к нему с оливковой ветвью.
И шепотом прибавила:
– Так сказано у Фукидида, в книге второй.
Ром-баба только глаза выпучил.
Через три дня таких мучений, судя по обреченному выражению папиных глаз, мы с ним пришли к одному и тому же выводу: надо искать другое жилье. Конечно, прекрасно, что у папы с доктором Куропулосом общие воспоминани о брюках клеш и полубаках в Гарварде, но сейчас эпоха коротких стрижек и узких штанов. Гарвардская дружба на фоне общей популярности блузок из марлевки, сабо и брюк на подтяжках в конечном счете ничем не лучше дружбы в наши дни, когда в ходу приталенные рубашки из хлопка, коллаген и мобильники с гарнитурой, чтобы руки были свободны и можно было без затруднений делать покупки, одновременно разговаривая по телефону.
Однако я ошиблась! Папе, как видно, серьезно промыли мозги (см. статью «Херст, Патрисия»[356] в кн. «Альманах бунтовщиков и мятежников», Скай, 1987). Он радостно объявил, что проведет в обществе Серво целый день в Сорбонне. Там открылась вакансия преподавателя, и папа не прочь ее занять, пока я прозябаю в Гарварде, а поскольку провести целый день среди научных сотрудников мне наверняка будет скучно, то меня с собой не берут, а велят развлекаться своими силами. Папа вручил мне триста евро, банковскую карточку «Мастеркард», ключ от квартиры и клочок миллиметровки с записанными на нем номерами домашнего и мобильного телефонов Серво. Мы договорились встретиться в половине восьмого вечера в ресторане «Ле Жорж» на верхнем этаже Центра Помпиду.
– Это будет настоящее приключение! – с неискренним энтузиазмом провозгласил папа. – Пишет же Бальзак в «Утраченных иллюзиях», что Париж нужно познавать самому!
Ничего подобного Бальзак не писал.
Поначалу я даже обрадовалась, что смогу отдохнуть от этой парочки. Пусть Ром-баба с папой наслаждаются общением друг с другом. Но настроение у меня испортилось после того, как я шесть часов бродила по улицам и по музею Орсэ, объедаясь круассанами и пирожными, при этом воображая себя юной герцогиней инкогнито («Одаренный путешественник неизбежно придумывает себе вымышленную личину, – отмечает Суизин в своей книге „Пожитки. 1920“ [1911]. – Если на родине он всего лишь обычный семьянин, один из миллиона финансистов в скучных деловых костюмах, в чужой стране он может, если пожелает, явиться хоть вельможей»). Я стерла ноги до волдырей, а уровень сахара в крови упал до самой низкой отметки. Я решила вернуться в квартиру Серво, с некоторым злорадством рассчитывая порыться в его вещах, а именно поискать где-нибудь в шкафу, под носками, фоточки, доказывающие, что его замечательные дочки – не те небожительницы, какими Ром-баба их выставляет, а самые обычные смертные, рыхлые, прыщавые, с мутными глазенками и кривыми, точно лакрица, губами.
К тому времени я доплелась ни больше ни меньше как до Пляс Пигаль, поэтому обратно поехала на метро. Сделала пересадку на станции «Конкорд» и, уже выходя на станции «Сен-Поль», вдруг увидела спускающихся по лестнице мне навстречу мужчину и женщину. Я остановилась, глядя им вслед. Женщина была из тех невысоких суровых девиц, что не ходят, а маршируют, – с темными волосами, не доходящими до плеч, и в зеленом квадратистом пальто. Ее спутник, намного выше ростом, был в джинсах и замшевой короткой куртке. Она что-то ему сказала – кажется, по-французски. Он засмеялся, громко, но как-то расслабленно, словно лежа в гамаке на солнышке, и сунул руку в задний карман брюк за билетом.
Андрео Вердуга.
Я, наверное, прошептала это вслух, судя по тому, что какая-то пожилая француженка, чье увядшее лицо обрамлял шарф с цветочным рисунком, презрительно глянула на меня, проталкиваясь мимо. А я, не дыша, кинулась обратно и чуть не сбила с ног направляющегося к выходу человека с пустой детской коляской. Андрео и девушка уже прошли через турникет. Я хотела бежать за ними на платформу, но билет у меня был в одну сторону, а возле кассы стояла очередь в четыре человека. Уже ощущалась дрожь приближающегося поезда. Те двое остановились довольно далеко от меня – Андрео ко мне спиной, Зеленое Пальто – к нему лицом. Он что-то говорил; скорее всего, в таком духе: «ДА ТЧК ПОНИМАЮ ТЧК (OUI ARRETE JE COMPRENDS ARRETTE), – и тут налетел поезд, заныли, открываясь, двери, и Андрео учтиво пропустил Зеленое Пальто вперед. Я мельком увидела только профиль, когда он входил в вагон.
Двери захлопнулись. Поезд зарычал и втянулся в тоннель.
Дальше я шла как в тумане. Невозможно, это не он. Так не бывает! Я, как Джейд, приукрашиваю действительность. Когда тот человек спускался по лестнице, на ходу расстегивая куртку, мне показалось, что на запястье у него – тяжелые серебряные часы с браслетом. У Андрео-садовника, участника уличных перестрелок, не умеющего связать два слова по-английски, просто не могло быть таких часов – разве только за три года, что мы не виделись (если не считать того случая в «Уол-Марте»), он стал успешным предпринимателем или получил наследство от дальнего родственника в Лиме. И все-таки… Кусочек профиля, что я успела углядеть, размытый силуэт на лестнице, мужественный аромат одеколона, следующий за ним неспешным прогулочным шагом, как ходят пафосные загорелые красавцы на палубе яхты, – все эти штрихи складывались в убедительную картину. А может, мне встретился его двойник? Доппельгангер? В конце концов, мне и вся наша компания попадалась на каждом шагу. Аллисон Смитсон-Кальдона в своем бескомпромиссном исследовании всевозможных удвоений и повторений, «Парадокс близнецов и атомные часы» (1999), попыталась научно доказать несколько мистическую теорию о том, что у каждого из нас есть где-то близнец. Ей удалось подтвердить данный факт для трех из каждых двадцати пяти испытуемых, вне зависимости от национальной и расовой принадлежности (стр. 250).
Приоткрыв наконец дверь в квартиру Серво, я с удивлением услышала их с папой голоса, доносящиеся из гостиной; от нее меня отделял коридор и темная прихожая. «Ага, любовь и дружба слегка простыла», – отметила я с удовлетворением. Папа и доктор Куропулос орали друг на друга, как Панч и Джуди.[357]
– Устраивать истерику по такому поводу… – Это папа (Джуди).
– Тебе не понять, что это на самом деле значит! – Это уже Серво (Панч).
– Не надо демагогии! Ты же бешеный, как…
Ату его, ату!
– А ты в своем лекционном зале прячешься и доволен?
– Как подросток, у которого гормоны играют! Иди прими холодный душ!
Наверное, они услышали, как закрылась дверь, хоть я и старалась потише. Голоса смолкли, будто их обрубили топором. В коридор высунулась папина голова.
– Радость моя! – улыбнулся он. – Как прогулялась?
– Нормально.
Из-под папиного локтя высунулась круглая седовласая голова Серво. Глазки бегали, точно блестящий шарик в рулетке. Серво молчал, но губы у него беззвучно двигались, как будто их дергали за невидимые ниточки, привязанные к уголкам.
– Я так устала! – бодро объявила я. – Пойду прилягу.
Я повесила куртку, бросила на пол рюкзак и, светски улыбаясь, поднялась наверх.
Коварный план состоял в том, чтобы снять обувь и вернуться подслушивать, – наверняка ведь спор продолжится свистящим шепотом (хорошо бы хоть не по-гречески или на каком-нибудь еще неведомом языке). Но когда я в одних носках прокралась вниз, папа с доктором Куропулосом уже чем-то громыхали в кухне и ругались по самым безобидным поводам – например, о различиях между анисовкой и абсентом.
В тот вечер мы решили не ходить в «Ле Жорж». Лил дождь, мы смотрели «Каналь-Плюс», доедали остатки курицы и играли в «Скрэббл». Я выиграла два раза подряд, и папа чуть не лопнул от гордости. Серво пытался качать права, утверждая, что Кембриджский словарь ошибается – в Британии, мол, слово «лицензия» пишется через «С», но я его добила двумя точными выстрелами: «голограмма» и «монокуляр». Серво весь побагровел и промямлил, что Электра – президент университетского дискуссионного клуба, а сам он еще не вполне оправился после гриппа.
Мне никак не удавалось поговорить с папой наедине. К полуночи оба не выказывали признаков усталости и, что самое обидное, как будто нисколько друг на друга не злились. Ром-баба любил сидеть в громадном красном кресле, сняв туфли и носки – его могучие красные ступни покоились на пухлой бархатной подушке (две телячьи котлеты, приготовленные для королевской трапезы). Пришлось мне сделать скорбные глазки в стиле «Подайте корочку хлебца». Папа хмурился, изучая доставшиеся ему буквы, и ничего не замечал. Тогда я применила более сильное средство: взгляд умирающего тигренка, молящего о глотке воды. Когда же и это осталось без внимания, пустила в ход отчаянный взгляд: «Спасите! СОС! Да спасите же!»
Наконец-то папа объявил, что проводит меня спать.
– Из-за чего вы ссорились, когда я пришла? – спросила я, как только мы оказались одни в моей комнате.
– Жаль, что ты это услышала… – Папа сунул руки в карманы, глядя в окно, где дождь стучал ногтями по крыше. – У нас с Серво, если можно так выразиться, накопилось много взаимных претензий, и каждый винит в этом другого.
– Почему ты сказал, что он ведет себя как подросток, у которого играют гормоны?
Папа смутился:
– Я так сказал?
Я кивнула.
– А что я еще говорил?
– Больше я ничего не расслышала.
Папа вздохнул:
– Есть у Серво такой заскок… Наверное, у всех свои заскоки. Так вот, Серво все, что угодно, превращает в олимпийское состязание. Ему доставляет удовольствие поставить человека в неловкую ситуацию и смотреть, как тот барахтается. Глупость, в сущности. А теперь ему взбрела в голову идиотская мысль, будто бы мне надо снова жениться. Я ему, конечно, сказал, что это абсурд, что он лезет не в свое дело, что статус женатого человека – не главное в жизни…
– А он женат?
– Давно уже нет. Знаешь, я даже и не помню, что стало с Софией.
– Она в сумасшедшем доме.
– О, нет! – засмеялся папа. – Серво в целом безобиден, если его держать в рамках. Иной раз даже остроумен.
Я сказала:
– Он мне не нравится!
В принципе, я не привыкла бросаться такими огульными заявлениями. Чтобы они звучали убедительно, требуется волевое лицо, свидетельствующее о богатом жизненном опыте (как, например, у Чарлтона Хестона в фильме «Десять заповедей»)[358]. Но иногда, хоть логических оснований для твоего мнения нет, просто чувствуешь так, и все тут. Приходится высказываться напрямик, уж какое бы там лицо ни было.
Папа присел ко мне на край кровати:
– Трудно с тобой не согласиться. Самодовольная напыщенность в больших дозах неизбежно вызывает тошноту. Я и сам немного зол. Сегодня утром я как дурак потащился с ним в Сорбонну – все бумаги с собой взял, статьи, резюме, – а оказалось, никакой вакансии нет. Преподаватель латыни попросился в отпуск на три осенних месяца, только и всего. Тут и всплыла истинная причина: Серво целый час уговаривал меня пригласить на обед грассирующую даму по имени Флоранс. Она, видите ли, выдающийся специалист по Симоне де Бовуар[359]. Нашла чем заниматься, нечего сказать! Глаза подводит сильнее, чем Рудольф Валентино. Я несколько часов проторчал у нее в кабинете. Там душно, как в погребе, а дама курит неперывно. Какое влюбиться, там рак легких огрести можно!
– По-моему, у него нет детей, – прошептала я. – Разве только тот, что сбежал в Колумбию. А про остальных он врет.
Папа нахмурился:
– У Серво есть дети.
– Ты их видел?
Он задумался:
– Нет, не видел.
– А на фотографиях?
Папа еще подумал:
– Нет.
– Потому что они – плод его болезненного воображения.
Папа расхохотался.
Я уже хотела рассказать ему, как встретила в метро Андрео Вердугу в замшевой куртке и с серебряными часами на руке, но удержалась. Очень уж невероятное совпадение. Я наверняка почувствовала бы себя жалкой дурой. «Тайно, по-детски верить в сказки – очаровательно, однако, высказывая подобные мнения вслух, выглядишь не прелестным ребенком, а человеком, чересчур оторванным от реальности», – пишет Артур Пули в своей книге «При дворе короля Бургера» (1981, стр. 233).
[НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ 18.0]
– Может, вернемся домой? – тихо спросила я.
И очень удивилась, когда папа кивнул.
– Я и сам собирался тебе это предложить после сегодняшней стычки с Серво. Хватит с нас la vie en rose[360], как ты думаешь? Я лично предпочитаю видеть жизнь такой, как она есть на самом деле, – усмехнулся он. – En noir[361].
Мы расстались с доктором Куропулосом и с Парижем на два дня раньше, чем планировали. Может, не так уж и удивительно, что папа позвонил в аэропорт и поменял билеты. Он как-то сник, постоянно вздыхал, и в глазах полопались сосудики. Впервые на моей памяти папе не хватало слов. Усаживаясь в такси, он сказал Ром-бабе только «спасибо» и «до скорого».
Зато я не пожалела пары минут, чтобы попрощаться как следует.
– Надеюсь, в следующий раз я смогу лично познакомиться с Электрой и Психеей! – сказала я, глядя прямо в его пустые, будто дыроколом проделанные глаза.
Мне почти стало его жаль: седые волосы свисают на лоб, словно комнатное растение, которое давно не поливали, нос в красных прожилках… Если бы мы жили в пьесе, удостоенной Пулицеровской премии, он был бы трагическим персонажем, который носит костюм с искрой и ботинки из крокодиловой кожи; у него неправильная система ценностей, и потому он потерпел жизненный крах.
– Пока, дорогая, м-м… Благополучно вам долететь!
До самого аэропорта папа молчал, прислонившись головой к окошку и мрачно разглядывая проносящиеся мимо улицы; поза настолько для него необычная, что я потихоньку вытащила свою «мыльницу» и, пока таксист ругал перебегающих через дорогу пешеходов, сделала снимок – последний на этой пленке.
Говорят, если человек не знает, что его фотографируют, он получается на снимке естественным – таким, как в жизни. Но папа в жизни не бывал таким тихим и печальным. Как будто потерянным.
«Сколько бы стран ты ни объехал, сколько бы чудес ни повидал, от причудливых башенок Тадж-Махала до первозданных сибирских лесов, рано или поздно приходишь к печальному выводу – чаще всего лежа в постели и разглядывая плетенный из соломы потолок бедной хижины где-нибудь в Индокитае, – пишет Суизин в своей последней книге „Местонахождение. 1917“ (1918), опубликованной посмертно. – Невозможно до конца излечиться от неотвязной лихоманки, называемой Родина. Промучившись семьдесят четыре года, я, однако, нашел верное средство. Нужно вернуться домой, стиснуть зубы и, невзирая на трудность задачи, определить с большой точностью и без прикрас координаты Родины – ее долготу и широту. Только тогда наконец перестанешь оглядываться назад и увидишь открывшийся перед тобою восхитительный пейзаж».
Часть третья
Глава 19. «„Вопль“ и другие стихотворения», Аллен Гинзберг
[362]
Когда в «Голуэе» началось новое полугодие, я заметила в облике Ханны одну странность, вернее сказать, вся школа заметила («Думаю, она на каникулах лежала в психушке», – предположила Тру на свободном уроке). Ханна остригла волосы.
И это не была очаровательная короткая стрижка в стиле 50-х, которую в модных журналах называют «мальчишеской» (как у Джин Сиберг в фильме «Здравствуй, грусть»)[363]. Волосы просто обкорнали, а за обедом у Ханны Джейд заметила даже небольшую пролысинку за правым ухом.
– Что за фигня?! – ахнула Джейд.
– Что такое? – обернулась Ханна.
– У вас в прическе дырка! Скальп видно!
– Да ну?
– Вы что, сами себе волосы отстригли? – догадалась Лу.
Ханна замешкалась, а потом смущенно кивнула, тронув свой затылок:
– Да. Я понимаю, это выглядит сумашествием, но… Дело было поздно ночью. Мне хотелось что-нибудь предпринять.
Как же надо себя не любить, чтобы самой себя изуродовать? Об этом пишет феминистка Сьюзен Шортс в своей гневной монографии «Заговор Вельзевула» (1992). Я в шестом классе средней школы города Уитон-Хилл заметила эту книгу, выглядывающую из холщовой сумки биологички миссис Джоанны Перри, и раздобыла себе экземпляр, надеясь лучше понять свою учительницу и перепады ее настроения. В пятой главе Шортс утверждает, что еще с 1010 г. до н. э. женщины, не в силах добиться независимости, причиняли вред сами себе, поскольку собственная внешность – единственное, что было подвластно женщине, из-за «колоссального мужского заговора, существующего с начала времен – с тех пор, как мужчина научился ходить на двух своих кривых волосатых ногах и заметил, что он ростом выше несчастной женщины», злобно пишет Шортс (стр. 41). Многие, в том числе Жанна д’Арк и графиня Александра ди Виппа, «обстригали волосы под корень» и резали себя «ножами и ножницами для стрижки овец» (стр. 42–43). Наиболее радикальные прижигали себе живот каленым железом, «что вызывало у мужей отвращение и досаду» (стр. 44). На стр. 69 доктор Шортс пишет еще: «Женщины уродуют свою внешность, потому что ощущают себя частью некоего общего замысла, который не могут контролировать».
Конечно, в ту минуту мне не пришло в голову вспоминать феминистские тексты, а если бы и пришло – такое объяснение показалось бы слишком уж драматическим. Я просто решила, что в жизни взрослой женщины наступает такой момент, когда ей необходимо резко поменять свою внешность, чтобы лучше понять, какая она на самом деле, без бантиков и рюшечек.
Папа говорил: «Разве можно объяснить, почему женщины поступают так, а не иначе? Проще уместить вселенную на ногте большого пальца».
А между тем, глядя, как Ханна изящно разрезает курицу (дерзко неся на голове свою новую прическу, словно нелепую шляпку для посещения церкви), я испытала сильнейшее чувство узнавания. Стрижка обнажила Ханну, сорвала покровы; эти точеные скулы, эта шея – все казалось мне смутно знакомым. Не по предыдущим встречам: Ханна точно не была одной из папиных июньских букашек. Этих макак никакой прической не замаскируешь! Нет, тут было что-то более туманное, более отдаленное. Как будто я ее видела на фотографии – в газетной статье или, может, в чьей-нибудь биографии, купленной по дешевке, которую мы с папой читали вслух.
А Ханна мгновенно заметила, что я на нее смотрю (она была из тех людей, кто всегда отслеживает, куда направлены взгляды присутствующих). Плавно поднеся вилку ко рту, она повернула ко мне голову и улыбнулась. Чарльз бесконечно рассказывал о поездке в Форт-Лодердейл – адская жара, шесть часов в аэропорту, – как всегда, будто в комнате, кроме Ханны, никого нет. Короткая стрижка сделала заметней ее улыбку – улыбка стала громадная, как человеческий глаз, когда смотришь сквозь линзу (произносится «ГРОМА-А-АДНАЯ»). Я улыбнулась в ответ и потом до конца обеда не поднимала взгляд от тарелки, мысленно рявкнув себе командирским голосом (Аугусто Пиночет, отдающий приказ пытать оппозиционера): «Прекрати таращиться! Это невежливо!»
– У Ханны назревает нервный срыв. Так и знайте! – заявила Джейд вечером в пятницу.
На ней было трепещущее всеми складочками платье чарльстон, расшитое черным бисером. Джейд сидела возле здоровенной позолоченной арфы, одной рукой перебирая струны, а в другой держа бокал мартини. Пыль на инструменте лежала толстым слоем, как жир на сковородке, в которой жарили бекон.
– Ты уже год это талдычишь, – заметил Мильтон.
– Ску-учно! – зевнул Найджел.
– А между прочим, я тоже так думаю, – торжественно провозгласила Лу. – Эта ее стрижка – просто жуть какая-то.
– Ага! – возликовала Джейд. – Наконец-то у меня появился сторонник! Один сторонник, два сторонника, кто больше? Продано! Увы, всего один-единственный несчастный сторонник.
– Серьезно! – не унималась Лу. – Очень может быть, что у нее клиническая депрессия.
– Заткнись, – огрызнулся Чарльз.
Было двадцать три ноль-ноль. Мы валялись на кожаных диванах в Фиолетовой комнате и пили очередной изобретенный Лулой коктейль под названием «Таракашка»: смесь апельсинов, сахара и виски «Джек Дэниелс». Я за весь вечер и двух десятков слов не сказала. Конечно, я была рада снова увидеть наших (и очень благодарна папе за то, что, когда Джейд приехала за мной в «мерседесе», он сказал только: «До скорой встречи, дорогая» – и прибавил одну из своих характерных улыбок, словно место в книжке заложил до моего возвращения). И все-таки Фиолетовая комната как будто чуточку потускнела.
Мне ведь раньше здесь было весело… или нет? Я же смеялась, проливая себе на коленки «Таракашку» или «Коготь» и бросала через всю комнату быстрые веселые реплики? А если и не бросала (Ван Мееры, как правило, не выступают в роли комиков разговорного жанра), то разве не плавала я на надувном матрасе в бассейне под пение Саймона и Гарфанкела[364], нацепив на лицо загадочность и темные очки? А если и не позволяла себе плавать на надувном матрасе с загадочным выражением (Ван Мееры никогда не отличались выдающимися успехами в покере), разве не превращалась я здесь, хотя бы на время, в лохматого байкера, мчащегося в Новый Орлеан в поисках истинной Америки, братаясь по дороге с фермерами, работягами, проститутками и бродячими артистами[365]? А если и не позволяла себе превратиться в лохматого байкера (Ван Мееры от природы не гедонисты), но ведь позволяла же я себе надеть полосатую рубашку, подвести глаза и орать с характерным акцентом янки: «Нью-Йорк геральд трибьюн!» – а потом удрать с местным хулиганом?
В Америке, если ты молод и растерян, обязательно нужно к чему-нибудь прибиться – к чему-нибудь буйному или оскорбляющему общественную нравственность. Только тогда ты сможешь отыскать себя, как мы с папой отыскивали на карте Соединенных Штатов мелкие городки вроде Говарда, штат Луизиана, или Роуна, штат Нью-Джерси (а не найдешь – так и сгниешь у конвейера где-нибудь на химзаводе).
«Ханна меня сгубила», – думала я, откидывая голову на кожаную спинку дивана.
Решила же похоронить все рассказанное ею где-нибудь в одинокой могилке (или убрать в обувную коробку на черный день, вроде той коллекции ножей в чуланчике у Ханны). Но известно же – то, что наспех закопано, в скором времени восстанет из мертвых. Глядя, как Джейд рассеянно дергает струны арфы, будто выщипывает брови, я невольно представляла себе, как она обхватывает худенькими ручками мощный торс очередного дальнобойщика (если считать по три человека на штат, за весь путь от Джорджии до Калифорнии получается двадцать семь неряшливых водил; примерно по 107,4 мили на каждого). Лула прихлебывает «Таракашку», несколько капель стекают по подбородку, а я вижу, как на нее надвигается двадцати-с-чем-то-летний турок, учитель математики, извиваясь под анатолийский рок. Я видела Чарльза: хорошенький младенец воркует, лежа на полу, а рядом его мать с ввалившимися глазами, голая, скорчилась, точно переваренная креветка, и смотрит в никуда, улыбаясь безумной улыбкой. А тут еще Мильтон (только что вернувшийся из кино, куда ходил с Джоли, которая в рождественские каникулы каталась на лыжах с родителями в Санкт-Антоне[366] и, к сожалению, не провалилась в пропасть)… Мильтон полез в карман джинсов за жвачкой «Трайдент», а мне на секунду почудилось, он сейчас достанет выкидной нож – с такими танцуют и поют «Акулы» в «Вестсайдской истории»…[367]
– Рвотинка, а ты что такая смурная? – спросила Джейд с подозрением. – Сидишь тут, смотришь на всех как-то странно… Ты на каникулах, случаем, не встречалась со своим Заком? Вдруг он тебя превратил в робота вроде степфордских жен[368].
– Извини… Я просто все думаю о Ханне, – соврала я.
– А может, хватит все время думать? Может, пора что-нибудь наконец сделать? Например, устроить диверсию, чтобы она больше не ездила в Коттонвуд? А то мало ли, что может случиться. Будем потом себя клясть, что не вмешались. Долгие годы будем терзаться угрызениями совести и умрем в одиночестве среди толпы кошек, или нас машина собьет. Размажет по асфальту, как какого-нибудь оленя на загородном шоссе…
– Может, ты наконец заткнешься? – заорал Чарльз. – Надоело! Каждый раз одно и то же! Дура чертова! И все вы дебилы!
Он грохнул стакан на стол и выскочил за дверь – щеки красные, а волосы цвета нежной светлой древесины, такой мягкой, что ее можно поцарапать ногтем. Все молчали. Через несколько секунд хлопнула входная дверь, взревел мотор и Чарльз умчался.
– Мне кажется или вам тоже очевидно, что все это не к добру? – спросила Джейд.
Не то в три, не то в четыре утра я вырубилась прямо на кожаном диване. Через час меня растолкали.
– Старуха, прогуляться не хочешь?
Найджел улыбался, склонившись надо мной. Очки у него сползли на кончик носа.
Я села, моргая:
– Ага, конечно.
Комнату синим бархатом окутывали предрассветные сумерки. Джейд была у себя наверху, Мильтон ушел домой (скорее всего, «домой» означало – в мотель, на свидание с Джоли). На кушетке с цветочным узором спала Лу, ее длинные волосы свесились через подлокотник. Я протерла глаза и поплелась за Найджелом. Догнала его в большой гостиной: розовые стены стыдливо зарделись, концертный рояль зевает, распахивая крышку. Голенастые пальмы разбрелись по углам, а низенькие диванчики похожи на воздушные хрустящие хлебцы: страшно сесть, вдруг раскрошатся.
– Накинь, если холодно. – Найджел поднял с табурета возле рояля длинную черную шубу.
Шуба романтично поникла у него в руках, точно секретарша в обмороке.
– Да мне и так нормально, – сказала я.
Найджел, пожав плечами, накинул шубу себе на плечи (см. статью «Сибирская норка» в кн. «Энциклопедия живых существ», 4-е изд.). Нахмурившись, он взял в руки синеглазого хрустального лебедя – лебедь плавал на столике, возле серебряной рамки. В рамке была не фотография Джейд, или Джефферсон, или каких-нибудь сияющих улыбками родственников, а бумажка с черно-белым рисунком – рамка явно так и продавалась с этой вставкой (надпись на бумажке гласила: «ФЛОРЕНЦИЯ, „7 × 91/2“»).
– Бедный жирный утопленник, – сказал Найджел. – Никто о нем и не вспоминает уже.
– О ком?
– О Смоке Харви.
– А-а…
– Так всегда бывает, когда помрешь. Сначала все квохчут, а потом забывают.
– Если только не убьешь какого-нибудь государственного деятеля. Сенатора там или полицейского. Тогда запомнят надолго.
– Думаешь? – Найджел посмотрел на меня с интересом. – Да, наверное, ты права!
Поглядеть на него: лицо обычное, словно центовая монетка, ногти обгрызены до мяса, а очочки в проволочной оправе делают его похожим на усталое насекомое, прикрывшее себе нос прозрачными крылышками. Невозможно угадать, что у него на уме, почему сверкают глаза за стеклами очков и отчего по губам скользнула едва заметная усмешечка, вроде тех красных карандашиков, которые кладут в кабинках для голосования. Сейчас я не могла отделаться от мысли, что он думает о своих настоящих родителях, кто бы они там ни были – Мими и Джордж, Элис и Джон, Джоан и Герман, – запертых в тюрьме строгого режима. Правда, Найджел не казался особо мрачным. Если бы папе дали пожизненное (как хотелось бы многим июньским букашкам), я бы, скорее всего, стала угрюмым подростком с вечно стиснутыми зубами и постоянно представляла себе, как убиваю одноклассников шариковой ручкой или подносом из школьной столовой. А Найджел замечательно держится!
– Скажи, что ты думаешь о Чарльзе? – прошептала я.
– Он милый, но не в моем вкусе.
– Да нет! Я о другом… – Было непросто подобрать слова. – Что все-таки у него с Ханной?
– Что, ты с Джейд побеседовала?
– Угу.
– Да ничего между ними нет, по-моему. Просто он вообразил, что безумно влюбился. Он всю жизнь в нее влюблен, с начала старшей школы. Зря только время тратит, вот что. Как ты считаешь, я похож на Лиз Тейлор?
Он поставил стеклянного лебедя на место и закружился по комнате. Полы шубы послушно разлетались вокруг него.
– Очень, – ответила я.
Если он – Лиз, то я – Бо Дерек в фильме «Десятка»[369].
Найджел, улыбаясь, поправил очки:
– Итак, мы с тобой должны найти сокровище. Добычу. Главный приз.
Он еще раз крутанулся на каблуке и, выскочив за дверь, птицей взлетел по беломраморой лестнице.
На площадке остановился, дожидаясь меня.
– Вообще-то, я хотел тебе кое-что рассказать.
– Что?
Он прижал палец к губам. В это время мы проходили мимо комнаты Джейд. За полуоткрытой дверью было темно и тихо. Найджел махнул рукой – идти дальше. Мы прокрались, осторожно ступая по ковровой дорожке, до гостевой комнаты в дальнем конце.
Найджел включил свет. Несмотря на розовый ковер и занавески с цветочным узором, комната могла вызвать приступ клаустрофобии – как будто ты оказался внутри человеческого легкого. Затхлый запах в точности соответствовал описанию, которое приводит корреспондент «Нэшнл джиографик» Карлсон Кей Мид, рассказывая о своем участии в раскопках в Долине Царей вместе с Говардом Картером в 1923 году (статья «Открытие Тутанхамона»): «Признаюсь, меня беспокоило, что мы обнаружим в этой загадочной гробнице, а из-за омерзительной вони я вынужден был закрыть рот и нос платком, спускаясь в ее мрачные недра» (Мид, 1924).
Найджел притворил за мной дверь.
– Так вот, в прошлое воскресенье мы с Мильтоном пришли к Ханне раньше тебя, – тихо и серьезно начал он, прислонившись к кровати. – Ханне понадобилось отлучиться в магазин за продуктами. Пока Мильтон делал домашку, я заглянул в гараж. – Его глаза расширились. – Что я там нашел, ты не поверишь! Во-первых, кучу походного снаряжения, но я еще заглянул в коробки, которые там стоят. В основном всякое барахло – чашки, настольные лампы… Фотка попалась, – видно, Ханна серьезно панковала в свое время… А в одной огромной коробке оказались карты разных заповедников и так далее. Тысяча карт, не меньше! На некоторых красной ручкой были отмечены маршруты.
– Ханна же часто ходит в походы. Помнишь, она рассказывала, как жизнь кому-то спасла?
Найджел выставил перед собой руку:
– Это да, но ты слушай! Потом я увидел папку – она прямо сверху лежала. В папке вырезки из газет, ксерокопии статей. Даже из нашего «Стоктон обсервер» были. И все статьи – о пропавших детях.
– Без вести пропавших?
Найджел кивнул.
Удивительно, как я разволновалась, вновь столкнувшись с тремя простыми словами: «без вести пропавшие». Если б не леденящая кровь лекция Ханны об исчезнувших людях, когда она, словно безумная, цитировала по памяти объявления о розыске, открытие Найджела меня бы оставило равнодушной. Все мы знали, что Ханна когда-то увлекалась альпинизмом, а сама по себе папка с вырезками ничего еще не значит. Мой папа, например, человек настроений – он постоянно увлекается и начинает собирать информацию на какую-нибудь неожиданно заинтересовавшую его тему, от ранних работ Эйнштейна по проектированию атомной бомбы до анатомии морских ежей, малоаппетитных художественных инсталляций или биографий рэперов, в которых стреляли девять раз. Но у папы такие увлечения не превращались в навязчивую идею. Страсть – возможно. Упомяни при нем Че Гевару или Бенно Оннезорга, папины глаза мигом заволакивала мечтательная дымка – но он не заучивал наизусть случайную подборку фактов и не декламировал ее с хрипотцой в голосе, точно Бетт Дэвис, лихорадочно затягиваясь сигаретой, пока взгляд его мечется по комнате, словно воздушный шарик, из которого выпускают воздух. Папа не становился в позу, не обстригал себе волосы, оставляя пролысинку размером с мяч для пинг-понга. («В жизни не так много идеальных удовольствий, и одно из них – откинуться в кресле парикмахера, позволяя умелым женским рукам приводить в порядок твои волосы».) А еще папа не вызывал у меня безотчетный страх, который невозможно толком проанализировать, – стоит задуматься об этом чувстве, оно ускользает, утекает сквозь пальцы, дымом развеивается в воздухе.
– Я там взял одну заметку, хочешь почитать? – сказал Найджел.
– Взял из папки?!
– Всего один листок.
– Ну замечательно!
– А что?
– Ханна же заметит!
– Не заметит, там полсотни страниц. Она у меня внизу, в рюкзаке. Сейчас принесу.
Найджел скрылся за дверью, восторженно вытаращив глаза (как Дракула из немых фильмов), и тут же вернулся со статьей. Собственно, это была даже не статья, а отрывок из книги, выпущенной в 1992 году издательством «Футхилл-пресс» из города Тупак, штат Теннесси: «Потеряны и не найдены. О бесследно исчезнувших людях и других необъяснимых событиях», авторы Дж. Финли и Э. Диггс. Найджел уселся на край кровати, кутаясь в шубу, а я начала читать.
96.
Глава 4
Вайолет Мэй Мартинес
«Не бойся, ибо Я с тобою;
не смущайся, ибо Я Бог твой»
Исаия, 41:10
Пятнадцатилетняя Вайолет Мэй Мартинес бесследно пропала двадцать девятого августа 1985 г. В последний раз ее видели в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс, между Лысиной Слепца и автостоянкой возле Горелого ручья.
Ее исчезновение по сей день остается загадкой.
Солнечным августовским утром Вайолет Мартинес отправилась на экскурсию в национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс вместе со всей группой по изучению Библии при баптистской церкви города Бестерс, штат Северная Каролина. Ровесники в бестерской школе отзываются о Вайолет как о веселой, общительной девочке. Большинством голосов ее выбрали самой стильной модницей года.
В церковь ее привез отец, Рой-младший. У Вайолет были белокурые волосы, рост – пять футов четыре дюйма. На ней были синие джинсы, розовый пуловер, золотая цепочка с кулоном и белые кроссовки «Рибок».
Руководил экскурсией мистер Майк Хиггис, ветеран вьетнамской войны, в течение семнадцати лет активно участвующий в церковной работе.
В автобусе Вайолет сидела в заднем ряду, со своей лучшей подругой Полли Элмс. На автостоянку возле Горелого ручья автобус прибыл в 12:30. Майк Хиггис объявил, что группа пройдет по тропе до утеса Лысина Слепца и вернется к 15:30. В завершение своей речи мистер Хиггис перефразировал цитату из Книги Иова:
– Смотрите и разумейте чудные дела Божии!
Вайолет шла со своей подругой Полли Элмс и Джоэлем Хинли. Вайолет потихоньку пронесла с собой пачку сигарет «Вирджиния Слимс» и на вершине закурила, но Майк Хиггис велел ей затушить сигарету. Вайолет фотографировалась и перекусила вместе со всеми, а затем, спеша в обратный путь, отправилась раньше других с Джоэлом и двумя подругами. На расстоянии мили от автостоянки все пошли медленнее, потому что Барби Стюарт натерла ногу, но Вайолет не захотела сбавить темп.
– Она сказала, что мы копуши, и поскакала вперед, – рассказывает Джоэл. – У поворота остановилась, закурила и помахала нам, а потом ушла за поворот, и больше мы ее не видели.
Приятели думали, что Вайолет будет ждать их на автостоянке, но когда в 15:35 Майк Хиггинс устроил перекличку,
– А где остальное? – спросила я.
– Я только эту страничку взял.
– И все статьи были о таких случаях?
– Странно, правда?
Я только плечами пожала. Попробовала вспомнить, относилась моя клятва хранить молчание к историям Аристократов или ко всему ночному разговору в целом, не вспомнила и потому сказала неопределенно:
– По-моему, Ханна давно интересуется этой темой. Исчезновением людей.
– Да ну?
Я протянула Найджелу листок и притворилась, будто зеваю.
– Я думаю, беспокоиться не о чем.
Найджел, явно разочарованный моей реакцией, сложил бумажку, а я про себя молилась: пусть на этом и закончится, не то я совсем свихнусь. Как бы не так – мы еще сорок пять минут бродили по дому, среди припорошенных пылью столов, лепнины и несиженых кресел, и, как я ни старалась его отвлечь, Найджел упорно болтал только об этих несчастных статьях (бедняжка Вайолет, что же с ней все-таки случилось и зачем у Ханны эти вырезки, какое ей до них дело?). Я думала, он просто выпендривается, изображает Лиз Тейлор в фильме «Последний раз, когда я видел Париж»[370], но тут он вошел в пятно света от созвездия Геркулеса, мерцающего на кухонном потолке, и я увидела, что он непритворно беспокоится (такую серьезность обычно увидишь только в академическом словаре или на физиономии пожилой гориллы).
Вскоре мы вернулись в Фиолетовую комнату. Найджел снял очки и мгновенно заснул в кресле у камина, собственнически вцепившись в норковую шубу, словно боялся, как бы она не удрала. Я снова устроилась на кожаном диване. Небо за окном смазали рассветным конфитюром. Я не чувствовала усталости. Мысли в голове (спасибо Найджелу) крутились, точно собака, когда она ловит собственный хвост. Чем так привлекают Ханну истории с исчезновениями – грубо оборванные биографии, от которых остались только начало и середина, а конец потерялся? («Биография без достойного завершения – это вообще не биография, а слезы одни», – говорил папа.) Сама Ханна, ясное дело, не пропала без вести – так, может, у нее брат или сестра потерялись или та девочка с фотографий, которые мы с Найджелом видели у нее в комнате? Или давний возлюбленный, которого Ханна упорно скрывает, – тот самый Валерио? Должна быть какая-то связь между Ханной и пропавшими людьми, пусть даже очень дальняя и косвенная. «Навязчивые идеи крайне редко бывают никак не связаны с личной историей человека», – пишет доктор медицины Джозефсон Уилхельен в своей книге «Шире неба» (1989).
И снова покоя не давало чувство, что я когда-то уже видела Ханну раньше и у нее тогда была похожая короткая стрижка. До того неотвязное чувство, что, когда на другой день, солнечный и страшно холодный, Лула отвезла меня домой, я полезла откапывать среди папиных книг жизнеописания разных современных деятелей: «Человек-загадка: жизнь и эпоха Энди Уорхола» (Бенсон, 1990), «Маргарет Тэтчер, женщина и миф» (Скотт, 1999), «Михаил Горбачев. Потерянный князь Московский» (Вадиварич, 1999). Каждую книгу я раскрывала на середине и просматривала фотографии, понимая, что это бессмысленное занятие. Беда в том, что неотвязное чувство узнавания было в то же время очень смутным. Я не могла бы поклясться, что не путаю Ханну с каким-нибудь пропавшим мальчишкой из постановки «Питера Пэна», которую мы с папой смотрели в Кентуккийском университете в Уолнат-Ридж. Один раз у меня чуть сердце не остановилось, – показалось, что я увидела Ханну на черно-белом снимке, раскинувшуюся на пляже в шикарном винтажном купальнике и громадных темных очках; но потом я прочитала подпись под фотографией: «Джин Тирни[371]. Сан-Тропе, лето 1955» (я по глупости схватила с полки «Беглых каторжников» [Де Винтер, 1979] – старую биографию Дэррила Занука)[372].
Дальнейшее расследование привело меня в подвал, в папин кабинет. Я попробовала искать в интернете «Шнайдер» и «Без вести пропавшие» и получила в ответ чуть ли не пять тысяч сайтов. На поисковые фразы «Валерио» и «Без вести пропавший» вывалилось сто три ответа.
– Эй ты там, внизу? – окликнул папа с верхней площадки.
– Ищу информацию! – крикнула я.
– Обедала?
– Нет!
– Ну тогда востри лыжи – нам по почте прислали дюжину купонов от стейк-хауса «Одинокий бычок»; скидка десять процентов на шведский стол: свиные ребрышки, куриные крылышки, печеный лук и еще какое-то блюдо с довольно-таки пугающим названием «Вулканическая картошка с вкраплениями бекона».
Я наскоро проглядела несколько сайтов, но ничего подходящего не обнаружила. Стенограмма судебного заседания под председательством судьи Хоуи Валерио в округе Шелбурн, записи о рождении Валерио Лоджии в 1789 году… Я выключила папин лэптоп.
– Радость моя?
– Иду! – отозвалась я.
Больше я не успела позаниматься поисками до воскресенья, а когда мы с Джейд приехали к Ханне, я с облегчением подумала, что и не понадобится. Ханна с прежним энтузиазмом носилась по дому босиком, одетая в черное домашнее платье, улыбалась, хваталась за полдесятка дел сразу и выпаливала стильные фразы без единого знака препинания:
– Синь познакомься с Йоко это что таймер звенит о боже спаржа…
Йоко была крохотная зелененькая птичка без одного глаза. Леннон ей, похоже, не нравился – она жалась к прутьям клетки, стараясь держаться от него как можно дальше. Ханна явно постаралась уложить волосы посимпатичней, зачесав набок самые непослушные прядки. Все было прекрасно, прямо-таки идеально. Мы уселись за стол и принялись за бифштексы со спаржей и початками кукурузы (даже Чарльз улыбался и, рассказывая очередную историю, обращался к нам ко всем, а не к одной только Ханне) – и тут Ханна заговорила.
– Весенние каникулы начнутся двадцать шестого марта. Не занимайте эти выходные. Отметьте у себя в календаре.
– А что будет? – спросил Чарльз.
– Мы идем в поход.
– Кто сказал? – удивилась Джейд.
– Я говорю.
– И куда? – спросила Лула.
– В Грейт-Смоки-Маунтинс. Ехать меньше часа.
Я чуть не подавилась. Мы с Найджелом переглянулись через стол.
А Ханна радостно продолжала:
– Ну, вы знаете: страшные рассказы у костра, потрясающие пейзажи, свежий воздух…
– Макароны в котелке, – вполголоса добавила Джейд.
– Никто не заставляет варить макароны. Можно есть, что захочется.
– Все равно тоска.
– Не надо так!
– Наше поколение не фанатеет по дикой природе. Мы бы лучше по торговому центру прошвырнулись.
– А разве плохо стремиться к чему-то большему?
– Там не опасно? – как бы невзначай поинтересовался Найджел.
– Нет, конечно! – улыбнулась Ханна. – Просто не надо делать глупостей. Я тысячу раз там бывала, все тропы знаю. Да вот на днях тоже ездила.
– С кем? – насторожился Чарльз.
– Сама с собой.
Мы все на нее уставились. Январь все-таки.
– Когда это? – спросил Мильтон.
– На каникулах.
– Не замерзли?
– Да что там – замерзла! – воскликнула Джейд. – Там же скучно до смерти?
– Мне не было скучно.
– А медведи? – не унималась Джейд. – И хуже того, комары и всякие жуки! Ненавижу насекомых. А они меня обожают. Прямо фанаты, не знаешь, куда от них деваться.
– В марте комаров нет. А если будут, я тебя полью антикомариным средством с ног до головы, – грозно прорычала Ханна (см. «Бульдог в курятнике. Жизнь Джеймса Кэгни»[373], Тейлор, 1982, стр. 339).
Джейд промолчала, разгребая вилкой шпинат.
– Да что ж такое? – нахмурилась Ханна. – Я стараюсь, придумываю для вас что-то новое, интересное. Вы в школе проходили «Уолдена» Торо?[374] Неужели он вас не вдохновил? Или эту книгу уже исключили из программы?
Ханна обратила взгляд на меня, а мне было трудно смотреть ей в глаза. Прическа по-прежнему отвлекала. В фильмах пятидесятых режиссеры использовали такую стрижку, чтобы показать, что героиня недавно вышла из психушки или что косные жители родного городка заклеймили ее как продажную женщину. Чем дольше глядишь, тем сильнее ощущение, что эта стриженая голова плавает в воздухе сама по себе, как голова Джимми Стюарта в «Головокружении»[375], когда он страдает от нервного расстройства и вокруг него крутится вихрь психоделической расцветки – сто оттенков безумия. Из-за короткой стрижки глаза Ханны казались огромными, шея – очень бледной, уши – беззащитными, словно улитки без раковины. Может, права Джейд – у Ханны и впрямь назревает нервный срыв? Возможно, она «устала поддерживать Великую ложь человечества»? (см. «Вельзевул», Шорт, 1992, стр. 212). Или еще более жуткий вариант: вдруг она слишком зачиталась той биографией Мэнсона? Даже мой папа, хоть суевериям не подвержен, говорит, что слишком пристальное изучение зла небезопасно для «впечатлительных умов». Поэтому он и не включает больше «Черного дрозда» в список обязательного чтения к своему курсу.
– Ты-то понимаешь, о чем я? – Взгляд Ханны словно приклеился ко мне, вроде ярлыка на лобовом стекле машины. – «Я ушел в лес, потому что хотел жить разумно, – процитировала она. – Хотел погрузиться в самую суть жизни и добраться до ее сердцевины, чтобы… чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе и не жил… чтобы… что-то такое разумно…»[376]
Неоконченная фраза повисла в воздухе. Все молчали. Ханна засмеялась, но смех получился невеселым.
– Надо бы мне самой перечитать…
Глава 20. «Укрощение строптивой», Уильям Шекспир
Леонтин Беннет в своей книге «Содружество утерянных тщеславий» (1969) мастерски разбирает известную цитату Вергилия: «Любовь превозмогает все». На стр. 559 он пишет: «Столетиями эту короткую фразу понимали неверно. Непросвещенные массы выставляют ее в качестве оправдания тому, чтобы обжиматься в общественных парках, бросать жен, изменять мужьям, объясняют ею стремительный рост числа разводов и огромное количество незаконнорожденных детей, попрошайничающих возле станций метро „Уайтчепел“ и „Олдгейт“. Между тем в этой затасканной фразе ничего обнадеживающего нет. Латинский поэт написал: „Amor vincit omnia“, то есть „Любовь побеждает все“. Не „освобождает“, а „побеждает“ – здесь и кроется наша главная ошибка. Победить: выиграть, одержать победу, одержать верх, пересилить, одолеть, разбить, разгромить, сокрушить, раздавить, сломить, побороть, перебороть, восторжествовать, возобладать. Не так уж это и позитивно. И что значит „побеждает все“? Не обязательно только плохое – скажем, бедность, грабеж, человекоубийство, – а „все“, в том числе и радость, мир, здравый смысл, свободу и независимость. Таким образом, слова Вергилия – скорее предостережение, подсказывающее нам всеми средствами избегать этого чувства, иначе мы рискуем потерять все, что нам дорого, в том числе и самих себя».
Мы с папой всегда ехидничали по поводу многословных тирад Беннета (он так и не женился и умер в 1984 году от цирроза печени; на похороны пришли только домоправительница и редактор из издательства «Тиролиан-пресс»), но к началу февраля я осознала, что в его восьмисотстраничных разглагольствованиях есть свой смысл. Именно из-за любви Чарльз стал такой мрачный и дерганый, бродит по «Голуэю» весь лохматый, с отсутствующим взором (что-то мне подсказывало, что не о вечных вопросах он раздумывает). На утренних общих собраниях он постоянно ерзал (иногда стукая ногой по спинке моего стула), а когда я оборачивалась и улыбалась ему, он меня просто не видел, неотрывно уставившись на зачитывающего школьные объявления учителя, – так, наверное, вдовы моряков смотрят в морскую даль («Сил у меня с ним больше нет!» – говорила Джейд).
А меня любовь могла в любую минуту ввергнуть в уныние с той же легкостью, с какой ураган срывает с места деревенский домик. Стоило Мильтону сказать: «Старушка Джо» (он теперь только так называл Джоли; интимное прозвище – самый непоправимый этап в развитии школьного романа, он, словно суперцемент, скрепляет надолго и прочно) – и вот у меня внутри все отмерло, будто разом отказали сердце, легкие и желудок. Потому что какой смысл биться, дышать, функционировать, если жизнь – это боль?
А тут еще Зак Содерберг.
Я о нем совершенно забыла, если не считать те тридцать секунд в самолете на обратном пути из Парижа, когда захлопотавшаяся стюардесса нечаянно пролила «кровавую Мэри» на старичка, сидевшего у прохода. Вместо того чтобы разораться, старичок, лучась улыбкой, приложил к напрочь испорченному пиджаку салфетку и сказал без малейшей иронии:
– Не огорчайтесь, дорогая! С каждым может случиться.
Я изредка через силу улыбалась Заку на уроке углубленной физики (не дожидаясь, чтобы посмотреть, поймает он мою улыбку или так, уронит на пол). Я старалась следовать папиному совету: «Самое поэтическое завершение любовной истории – не извинения и не долгие выяснения, почему все пошло не так, слюнявые, точно сенбернар с печальными глазами, а полное достоинства молчание». Но однажды на большой перемене, захлопнув дверцу своего шкафчика, я увидела, что прямо позади меня стоит Зак, улыбаясь своей фирменной улыбкой, перекошенной, словно тент, у которого один край обвис.
– Привет, Синь, – сказал Зак.
Голос у него был скрипучий, как неразношенные ботинки.
У меня ни с того ни с сего сердце затрепыхалось.
– Привет.
– Ты как?
– Нормально.
Я судорожно соображала, что бы такое сказать осмысленное. Надо, по крайней мере, извиниться за то, что забыла его на рождественской дискотеке, словно варежку.
– Зак, мне очень совестно…
– Я тебе кое-что принес, – перебил он без злости, но как-то бодро-деловито, словно менеджер фирмы, приветствующий давнего клиента.
Он вытащил из заднего кармана и протянул мне пухлый голубой конверт, старательно заклеенный, вплоть до самых уголков. На конверте жирным курсивом было написано мое имя.
– Они твои, делай с ними, что захочешь. Я тут устроился на подработку в «Кинко», у нас широкий выбор фотоуслуг. Можно заказать увеличенную копию, хоть постер, можно заламинировать. Можно изготовить открытки или календарь – настольный и настенный. Многие заказывают футболки или еще, как это называется, художественный принт на холсте. Очень красиво, изображение высокого качества. Также мы делаем вывески и транспаранты разного размера, в том числе и на виниловой пленке.
Он кивнул, словно отвечая каким-то своим мыслям, и вроде хотел еще что-то сказать – даже чуть-чуть приоткрыл рот, словно окошко, но передумал и нахмурился.
– Увидимся на физике. – Развернулся и пошел прочь.
Его сейчас же перехватила какая-то девчонка. Она шла мимо, увидела нас и остановилась возле фонтанчика, будто бы водички попить собралась, глядя на нас прищуренными глазами, похожими на щелки для монет, и все никак напиться не могла, словно только что пересекла пустыню Гоби. Я ее знала в лицо – Ребекка из младшего класса, с верблюжьими зубами.
Она спросила Зака:
– В это воскресенье твой папа будет читать проповедь?
У них завязался серьезный разговор о божественном, а я с чувством неясного раздражения вскрыла конверт. В нем оказались глянцевые фоточки: мы с Заком посреди гостиной в его доме, плечи напряжены, на лицах приклеены улыбки.
На шести снимках – о ужас – у меня была видна бретелька от лифчика, до того белая, что почти фиолетовая. Посмотришь на нее, потом отведешь глаза и все еще видишь фантомное изображение этой злосчастной бретельки. А на последней фоточке – той, которую Пэтси сделала у ярко освещенного окна (Зак зацепил меня левой рукой за талию, словно он металлическая подставка, а я – коллекционная кукла), – блики света на фотографии создали вокруг нас некое сияние, мой правый бок и левый бок Зака размыло, мы словно сплавились воедино, и наши улыбки стали такого же цвета, как белесое небо за окном, в просветах голых веток.
Если честно, я с трудом себя узнала. Обычно я на фотографиях похожа на оцепеневшего аиста или на перепуганного хорька, а тут у меня был прямо-таки колдовской вид (в буквальном смысле: кожа золотилась, в глазах вспыхивали неземные зеленоватые искры). И держалась я как-то непринужденно. Так держатся люди, которые с визгом восторга пинают ногами песок на пляже. Я выглядела как девушка, способная забыть обо всем и улететь в небо, словно связка воздушных шариков, и все прочие, намертво привязанные к земле, будут с завистью смотреть ей вслед («Девушка, у которой в голове мысль, – такое же редкое явление, как большая панда в природе», – говорил папа).
Я невольно обернулась к Заку – то ли поблагодарить, то ли сказать нечто большее – и увидела, что он ушел, а я стою как дура, уставившись на дверь с надписью «Выход» и на толпу опаздывающих на урок младшеклассников в стоптанных тапках.
Пару недель спустя, во вторник вечером, я валялась на кровати, продираясь через поле битвы из «Генриха V» – готовилась к углубленному английскому, – и вдруг услышала шум подъезжающей машины. Выглянув между занавесками, я увидела, что к дому осторожно, как побитая собака, подкрался белый седан и робко остановился у двери.
Папы дома не было – примерно час, как ушел обедать в мексиканском ресторане под названием «Тихуана» с профессором Арни Сандерсоном, который вел курс «Введение в драматургию и всемирную историю театра».
– Довольно убогий юноша, – отзывался о нем папа. – По всему лицу смешные родинки, словно оспинки.
Папа сказал, что вернется не раньше одиннадцати.
Фары у машины потухли. Громко икнув, замолчал мотор. Секунда-другая тишины, затем отворилась дверца со стороны водителя, из автомобиля выставилась белая нога, затем другая (на первый взгляд кажется, что дама решила воплотить в жизнь извечную мечту о красной дорожке в Каннах, но, увидев ее целиком, я поняла, что на самом деле просто сложно вылезти из машины в таком наряде: тесный белый пиджак, туго перетягивающий талию, белая юбка, натянутая, как целлофановая обертка на пышном букете, белые чулки и белые туфли на высоченных каблуках – словом, громадное печенье целиком окунули в глазурь).
Довольно смешно было смотреть, как тетенька запирает машину: долго ищет в темноте замочную скважину, потом так же долго подбирает нужный ключ. Поправив юбку тем движением, каким обычно поправляют наволочку на подушке, она поднялась на крыльцо, причем явно старалась не очень громко топать. Лимонно-желтые волосы, взбитые в пышную прическу, подрагивали при каждом шаге, будто расшатанный абажур. Вместо того чтобы нажать кнопку звонка, она постояла немного, прикусив указательный палец (можно подумать, актриса приготовилась выйти на сцену, да вдруг забыла свою первую реплику). Затем, приставив руку козырьком ко лбу и вся перегнувшись влево, заглянула в окно.
Я, конечно, сразу поняла, кто это. Перед нашим отъездом в Париж несколько раз кто-то звонил по телефону. На мое «Алло?» ответом была тишина, и вслед за тем щелчок – значит, положили трубку. Меньше недели назад молчаливый звонок повторился снова. Сколько июньских букашек и раньше появлялись вот так, ни с того ни с сего, в самом разном настроении и самой разнообразной окраски, словно цветные карандаши в коробке (умбра жженая разочарованная, лазурь небесно-голубая крайне огорченная и т. д.).
Все они рвались еще раз увидеть папу, загнать его в угол, уговорить, воззвать к его лучшим чувствам (в случае некой Зулы Пирс – покалечить). Они брались за дело целеустремленно, по-деловому, словно подавали жалобу в федеральный суд: волосы заправлены за уши, строгий костюм, элегантные туфли, дорогой парфюм и скромные сережки в ушах. Июньская букашка Дженна Паркс вообще явилась с увесистым кожаным кейсом, положила его к себе на колени и, с классическим лязгом отщелкнув застежки, вернула папе салфетку из какого-то бара, на которой он в минувшие счастливые дни написал: «Твой женский лик – Природы дар бесценный / Тебе, царица-царь моих страстей»[377]. И к этому детально проработанному обличью каждая непременно добавляла сексуальный штрих (ярко-красная губная помада, какое-нибудь этакое белье, просвечивающее сквозь полупрозрачную блузку) – соблазн для папы, тонкий намек: вот, мол, смотри, что ты теряешь.
Если папа был дома, он вел их в маленькую комнату, словно врач-кардиолог, собирающийся объявить пациенту печальную новость, а закрывая за собой дверь, поручал мне, легкомысленной медсестричке, приготовить чай «Эрл Грей».
– Сливки и сахар, – говорил он, подмигнув, и при этих словах на мертвенном лице июньской букашки расцветала внезапная улыбка.
Я же, поставив чайник на плиту, возвращалась подслушивать у двери. Ах, она не может ни спать, ни есть, не может даже взглянуть на другого мужчину, не говоря уже о том, чтобы прикоснуться («Будь это хоть Пирс Броснан, а ведь когда-то я от него была без ума», – доверительно сообщила Конни Мэдисон Паркер). Папа что-то неразборчиво отвечал, потом дверь отворялась, июньская букашка выходила из зала суда: блузка вылезла из-за пояса юбки, волосы дыбом и самая жуткая метаморфоза – лицо с тщательно нанесенным макияжем превратилось в тест Роршаха, а между бровей залегла складочка, как на плиссированной юбке.
Июньская букашка бросалась к своей «акуре» или «додж-неону» и уезжала восвояси, а папа, устало вздыхая, садился в уютное кресло пить «Эрл Грей» (как и было задумано) и готовиться к очередной лекции об отношениях с развивающимися странами или сочинять очередной научный труд об основных принципах повстанческого движения.
И каждый раз какая-нибудь мелочь тревожила мою совесть: грязный полуоторванный бантик на левой туфельке Лорен Коннелли, или прищемленный дверцей машины ярко-красный клок полиэстровой блузки Уиллы Джонсон – он испуганно хлопал на ветру, когда Уилла на полной скорости вылетела на шоссе, не заботясь о встречных авто. Нет, мне совсем не хотелось, чтобы какая-нибудь июньская букашка жила с нами постоянно. Не очень-то приятно смотреть «В порту» вместе с женщиной, от которой пахнет абрикосами, как от мыла в ресторанном туалете (мы с папой раз десять прокручивали нашу любимую сцену с перчаткой, а гостья скучала и раздраженно закидывала одну ногу на другую), или слушать, как папа рассказывает о теме будущей лекции (трансформеризм и старбакизация) женщине, которая, как репортер программы новостей, то и дело поддакивает: «Угум, угум», не понимая ни слова.
А все-таки, когда они начинали плакать, мне становилось стыдно (может, и зря; со мной они почти не разговаривали, разве что зададут мимоходом пару вопросов о мальчиках и о моей маме, а в целом смотрели на меня с некоторой опаской, как на два-три грамма плутония: радиоактивно или нет?).
Очевидно, папа поступал не слишком-то хорошо. Из-за него вполне нормальные, здравомыслящие женщины начинали вести себя так, словно решили воплотить в жизнь какой-нибудь давний сюжет из «Путеводного света», но я невольно задавала себе вопрос: только ли его тут вина? Папа никогда не скрывал, что уже обрел Великую любовь, а, как известно, Великая любовь раз в жизни бывает… Хотя некоторые жадины отказываются принять это как данность и упорно гундят о второй и третьей. Всякий готов осудить Казанову, злостного пожирателя сердец, не задумываясь о том, что иной Казанова честно предупреждает, чтó ему нужно (маленькое развлечение в перерыве между лекциями). Если это так ужасно, зачем все эти мотыльки и прочие букашки летят на его огонь? Улетали бы себе в июньскую ночь и там скончались тихо и мирно в тени тюльпанного дерева.
На случай если при появлении июньской букашки папы дома не окажется, мне были даны четкие инструкции: ни в коем случае не впускать.
– Улыбнись и напомни ей о бесценном человеческом качестве, к сожалению незаслуженно забытом, – о гордости. Прав был мистер Дарси, с самого начала прав. Можешь еще объяснить, как верна старая поговорка: утро и вправду вечера мудренее. А если она и тут будет настаивать, что вполне возможно, эти дамы, как питбуль, вцепятся – уже не разожмут челюсти… Что ж, тогда этак небрежно оброни одно словечко – «полиция». Легко, без нажима – и я думаю, она мигом упорхнет от нашего дома, словно безгрешная душа из преисподней. А если мои молитвы будут услышаны, то и совсем исчезнет из нашей жизни.
Спускаясь на цыпочках по лестнице, я немного нервничала (не так-то просто работать у папы отделом по связям с общественностью). Гостья позвонила ровно в ту секунду, когда я подошла к двери. Я посмотрела в глазок, но гостья как раз отвернулась, разглядывая сад. Я вздохнула, включила свет на крыльце и приоткрыла дверь.
– Добрый день, – сказала гостья.
А я так и застыла на месте. Передо мной стояла Эва Брюстер – наша школьная Эвита Перон.
– Рада тебя видеть, – сказала Эва. – Где он?
У меня язык отнялся. Эва поморщилась, буркнула «Ха!» и решительно вошла в дом, отпихнув с дороги и меня, и дверь.
– Гарет, заюшка, я пришла! – крикнула Эва, запрокинув голову, словно ожидала, что папа свалится с потолка.
Я в остолбенении не могла пошевелиться и только хлопала глазами. Значит, Китти – какое-нибудь ее давнее прозвище, воскрешенное специально, чтобы стать их с папой общим секретом. Как же я не догадалась? Даже мысли такой не мелькнуло! Июньские букашки и раньше придумывали себе ласкательные прозвища. Шерри Питс была Шипучка. Кэсси Бермондси – Малышка и Нахаленок. Зула Пирс была Полночная Магия. Папу эти клички смешили, а дамы, вероятно, принимали его улыбку за выражение любви или хотя бы за хрупкий росток нежности, из которого со временем вырастет мощный побег Серьезного Чувства. Может, Эвин папа называл дочурку Китти, когда ей было шесть лет от роду, или это было ее тайное голливудское имя (которое, назови ее так родители, открыло бы ей все двери на киностудию «Парамаунт»).
– Что молчишь, отвечай! Где он?
– В-в ресторане… С коллегой…
– Ах так. Что за коллега?
– Профессор Арни Сандерсон.
– Да, конечно!
Эва, фыркнув, скрестила руки на груди, так что пиджак затрещал. Суровой поступью Эва направилась в библиотеку. Я растерянно шла за ней. Эва остановилась возле письменного стола, взяла из аккуратной стопки папку с бумагами, перелистала страницы.
– Мисс Брюстер…
– Эва.
– Эва! – Я подошла ближе.
Она была дюймов на шесть выше меня[378] и корпулентная, как стог сена.
– Простите, но вам, наверное, лучше уйти. Мне уроки делать надо.
Она расхохоталась, запрокидывая голову (см. раздел «Смертельный бросок акулы» в кн. «Звери и птицы», Бард, 1973, стр. 244).
– Нельзя все время быть такой серьезной! – сказала она, швырнув папку на пол. – Смотри на жизнь проще! Хотя с таким папочкой это, конечно, нелегко. Наверняка он не только меня запугал.
Эва прошагала в кухню с видом бывалого риелтора: осмотрела обои, ковровую дорожку, притолоку и вентиляционное отверстие, словно определяла, сколько можно запросить за данную недвижимость. Я вдруг сообразила, что она вдрызг пьяная. Со стороны незаметно, только глаза не то чтобы покраснели, но слегка опухли и моргали как-то заторможенно. И походка сделалась медленной, будто вымученной, словно каждый шаг нужно было продумывать, иначе Эва свалится, как раскладная стойка с надписью «ДОМ ПРОДАЕТСЯ». То и дело какое-нибудь слово застревало у нее во рту и потихоньку сползало обратно в горло, пока следующие слова не вытолкнут его наружу.
– Я только тут капелюшечку посмотрю…
Она провела по кухонному столу пухлой рукой с накрашенными ногтями. Нажала кнопку автоответчика («Новых сообщений нет») и прищурилась на ряд вышитых крестиком уродских изречений в рамках на стене над телефоном – подарок июньской букашки Доротеи Драйзер («Возлюби ближнего своего», «Всего превыше – верен будь себе»[379]).
– Ты ведь знала обо мне?
Я кивнула.
– Он такой – сплошные тайны и вранье. Один кирпичик вынешь – вся пирамида рухнет и тебя завалит. Он врет постоянно, даже когда говорит «Рад видеть» и «Всего хорошего». – Эва задумчиво склонила голова к плечу. – Отчего он такой? Может, его мама в детстве уронила? Или он в школе был зубрилкой, носил шину на ноге и все над ним издевались?
Она открыла дверь на лестницу, ведущую в папин кабинет.
– Может, хоть ты объяснишь, а то я в полном не-до-у-ме-ни-и…
– Мисс Брюстер?
– Прямо спать по ночам не могу…
Она с грохотом перешагивала со ступеньки на ступеньку.
– Я думаю, папа предпочел бы, чтобы вы здесь подождали…
Эва, не обращая на меня внимания, продолжала спускаться. Я слышала, как она шарит по стене в поисках выключателя, потом дергает за цепочку от папиной зеленой настольной лампы. Когда я добежала до кабинета, Эва, как я и боялась, рассматривала коробки с бабочками. Едва не касаясь носом стекла, она изучала третью от окна. Стекло затуманилось, размывая очертания бражника-мегеры, Euchloron megaera. Эва не виновата – бабочки сразу привлекали к себе взгляд. Хотя в принципе коробки были самые обычные (Люпин по прозвищу Купи Недорого уверял нас, что на распродажах они идут по доллару ведро, а в Нью-Йорке их можно купить прямо на улице), зато некоторые бабочки были редких видов – разве что в учебнике таких увидишь. Если не считать трех синих кассиусов (они смотрелись довольно тускло рядом с парижским парусником, словно трое недокормленных сироток рядом с Ритой Хейворт), остальных бабочек мама заказывала на специальных фермах в Южной Америке, Азии и Африке (уверяют, что на этих фермах бабочкам созданы все условия для счастливой и полноценной жизни и естественной смерти; «Слышала бы ты, как она их допрашивала по телефону насчет условий обитания, – рассказывал папа. – Как будто мы ребенка собрались усыновлять»). Ослепительные Ornithoptera euphorion (размах крыльев 4,8 дюйма) и урания мадагаскарская (размах крыльев 3,4 дюйма) кажутся ненастоящими, словно создал их легендарный игрушечных дел мастер при дворе Николая и Александры, Саша Лурин-Кузнецов[380]. Разбуди его среди ночи, он мог изготовить потрясающие игрушки из драгоценных материалов – бархата, шелка, меха; среди его творений медвежата из шиншиллы и кукольные домики в двадцать четыре карата (см. «Роскошь императорского двора», Липноков, 1965).
– Что это? – выпятив подбородок, спросила Эва.
Она перешла уже к четвертой коробке.
– Так просто, насекомые.
Я стояла у нее за спиной, очень близко, буквально вплотную. Белый пиджак усеивали серые катышки свалявшейся шерсти, словно прыщики. Сернисто-рыжая прядка вопросительным знаком легла на плечо. Если бы дело происходило в фильме-нуар, я бы сейчас ткнула ей в спину дуло револьвера, прямо через карман своего плаща, и процедила сквозь зубы: «Только без резких движений, не то мозги вышибу».
– Не нравятся мне такие штуки, – сказала Эва. – Жуткие.
– А как вы с папой познакомились? – оживленно спросила я.
Эва обернулась и прищурилась. Глаза у нее были и впрямь необыкновенные: нежнейшего голубовато-сиреневого оттенка и до того чистые – казалось бесчеловечным, что их заставляют наблюдать эту сцену.
– Он тебе не рассказывал? – спросила она с подозрением.
Я часто-часто закивала:
– Рассказывал, только я забыла.
Эва наконец отошла от бабочек и склонилась над столом, разглядывая отрывной календарь (застрявший на мае месяце 1998 года), исписанный папиными неудобочитаемыми каракулями.
– Я всегда остаюсь профессионалом, не то что другие учительницы. Папа ученика скажет пару комплиментов, якобы он восхищен их стилем преподавания, и готово дело, они уже влюбились по уши. Я им сто раз повторяла: ты встречаешься с ним в обеденный перерыв, стоишь ночью у него под окнами – что хорошего из этого может получиться? И тут появляется твой папа. Кого он может обмануть? Разве что какую-нибудь дурочку. Я-то сразу увидела, что он врун. Вот что смешней всего – я и видела, и не видела. Потому что у него еще и душа! Я не из романтических натур, а тут вдруг решила, что смогу его спасти. Да только обманщика спасти невозможно.
Длинными наманикюренными ногтями (розовыми, как кошачий нос) она цапнула папину кружку с авторучками. Вытащила одну – папину любимую, восемнадцатикаратный «Монблан», прощальный подарок от Эми Пинто. Единственный подарок от июньской букашки, который ему по-настоящему нравился. Эва повертела авторучку, понюхала, будто сигару, и убрала в сумочку.
– Это нельзя брать! – ужаснулась я.
– А это мне утешительный приз, как в «Голливудских квадратах»[381].
У меня воздух застрял в горле.
– Вам, наверное, будет удобней в гостиной? – намекнула я. – Папа скоро вернется… – Я посмотрела на часы: о ужас, всего половина десятого. – Я чаю заварю. Кажется, у нас есть коробка конфет «Уитмен»…[382]
– Чаю, говоришь? Надо же, как культурно! Прямо как будто из его уст. Осторожней, девочка! Знаешь, рано или поздно все мы становимся такими, как наши родители. Пф!
Она плюхнулась в крутящееся кресло и, выдвинув ящик стола, стала перебирать папки.
– Оглянуться не успеешь, как… «Взаимосвязь внутренней и внешней политики от греческих городов-государств до наших дней»? – Эва нахмурилась. – Ты в этом что-нибудь понимаешь? Мне с ним было хорошо, но я была уверена, что он несет сплошную чушь. «Количественные методы»… «Роль иностранных держав в миротворческом процессе»…
– Мисс Брюстер…
– А?
– Какие… у вас планы?
– Складываются по ходу. Кстати, откуда вы приехали? Он как-то неопределенно об этом говорил. Вообще о многом говорил неопределенно.
– Простите, но мне, наверное, придется вызвать полицию.
Эва швырнула папки на место и пристально посмотрела на меня. Будь ее глаза автобусами, размазали бы меня в лепешку. Будь они ружьями – расстреляли бы на месте. В голове мелькнула дурацкая мысль, что Эва принесла с собой револьвер и, пожалуй, не побоится пустить его в ход.
– Ты в самом деле считаешь, что это будет разумно? – спросила она.
– Нет, – призналась я.
Эва кашлянула.
– Бедняжка Мирта Грейзли… Она, конечно, не в себе, но порядок на рабочем месте поддерживает идеальный. В понедельник перед каникулами пришла Мирта в свой кабинет, а там стулья передвинуты и целый литр эггнога пропал, а в туалете кто-то явно расстался со своим ужином. Некрасивая история. Я знаю, что действовал не профессиональный взломщик. Вандал оставил на месте преступления туфли. Женские, черные, девятый размер, «Дольче и Габбана». Не всякая школьница может себе такие позволить. Видимо, родители из числа тех, кто делает щедрые пожертвования и детишек в школу возит на «мерседесе». Я поговорила с участниками дискотеки и составила список подозреваемых – на удивление короткий. Но у меня, видишь ли, совесть есть. Я не из тех, кому доставляет удовольствие сломать ребенку жизнь. Жаль девочку. Как я слышала, у этой Уайтстоун и без того проблем хватает. Еще неизвестно, сможет ли она закончить школу.
У меня снова отнялся язык. Вдруг стали слышны разные домашние звуки. Когда я была маленькая, думала, что в стенах собирается клуб хорового пения, все в темно-красных мантиях, и днем и ночью поют, широко разевая рты.
– Почему вы тогда меня звали? – еле выговорила я. – На дискотеке…
Эва удивилась:
– Ты меня слышала?
Я кивнула.
– Мне показалось, что вы вдвоем пробежали к Лумису. Просто хотела поболтать. О твоем папе, вот как сейчас. Хотя о чем тут говорить… Все закончилось. Я его раскусила. Воображает, что он господь бог, а на самом деле он просто мелкий…
Я думала, она на этом и остановится, но она чуть слышно добавила:
– Мелкий человечишка.
С минуту Эва молчала, откинувшись на спинку кресла и скрестив руки на груди. Хоть папа всегда говорил, что сказанное в гневе не имеет значения, все равно слова Эвы меня взбесили. И вообще, самое жестокое и грубое, что можно сказать о человеке, – назвать его мелким. Утешала только мысль, что на самом деле все люди мелки, если рассматривать их в контексте мироздания. Даже Шекспир и Ван Гог. И Леонард Бернстайн тоже.
– Кто она? – спросила вдруг Эва Брюстер.
Вместо торжествующего злорадства в голосе ее звучал какой-то надлом.
Я ждала пояснений, но Эва больше ничего не сказала.
– Вы о ком?
– Не хочешь – не говори, но я была бы тебе благодарна.
Похоже, она имела в виду папину новую девушку, но таковой не было – по крайней мере, насколько я знала.
– По-моему, он сейчас ни с кем не встречается, но я могу его спросить.
– Не надо, я тебе верю. Ну он хорош! Я бы в жизни не догадалась, если бы не дружила со второго класса с Алисой Стеди, она хозяйка цветочного магазина на Орландо, «Зеленая орхидея». Спрашивает: «Как, говоришь, зовут этого типа, с кем ты встречаешься?» – «Гарет». – «Ага!» – говорит она. Представь, он приехал на голубом «вольво», купил цветов на сотню баксов, расплатился картой. От бесплатной доставки отказался. Купил не для себя – Алиса сказала, он взял такую специальную открыточку, какие вкладывают в букет. И не для тебя, судя по твоему выражению сейчас. Алиса у нас романтик, говорит – ни один мужчина не купит на сотню баксов барбареско-ориенталь[383], если не влюблен по уши. Розы – это запросто. Каждой дуре могут подарить розы. Но не барбареско-ориенталь! Я расстроилась, не скрою. Я не из тех, кто делает вид, будто никогда и не дорожила особо этими отношениями. А он перестал отвечать на звонки. Я не мусор, который можно замести под ковер! Хотя мне плевать. Я сейчас встречаюсь с другим. Он оптометрист, в разводе. Первая жена была, видно, тот еще шлак. А Гарет пусть делает что хочет.
Эва замолчала, но не потому, что выдохлась. Ее взгляд снова зацепился за коробки с бабочками.
– А ведь он их любит.
Я оглянулась на стену:
– Да нет, не особенно.
– Нет?
– Он на них и не смотрит никогда.
Я буквально видела, как у нее в голове включилась лампочка, точно в мультфильме.
Эва двигалась стремительно – и я тоже. Я заслонила собой бабочек и торопливо стала врать, будто бы сама получила цветы («Папа все время о вас говорит!» – жалко выкрикивала я).
Эва меня не слышала. Шея у нее побагровела. Один за другим Эва выдернула ящики стола, вышвыривая из них разложенные по университетам и датам папки с лекциями. Они разлетались по комнате громадными испуганными канарейками.
Потом она нашла то, что искала: металлическую линейку. Папа с помощью этой линейки чертил диаграммы для своих лекций. Бесцеремонно оттолкнув меня в сторону, Эва попыталась разбить стекло коробки с бабочками. Алюминиевая линейка погнулась. Тогда с бешеным воплем: «А, ссука!» – Эва бросила ее на пол и стала бить по стеклу кулаком. Потом локтем, а когда и это не подействовало, начала царапать стекло ногтями, словно безумец, соскребающий серебристое покрытие с лотерейного билета.
Так ничего и не добившись, она окинула взглядом письменный стол и остановилась на зеленой лампе (прощальный подарок симпатичного декана из Арканзасского университета в Вильсонвилле). Эва схватила лампу и, выдернув шнур из розетки, широко размахнулась. От удара тяжелого бронзового основания стекло разлетелось вдребезги.
Тут я снова бросилась на нее и повисла на плечах с криком:
– Пожалуйста, не надо!
Но силенок у меня не хватило, да и шоковое состояние, видимо, не позволяло действовать эффективно. Эва легко меня отпихнула, двинув локтем в челюсть, так что у меня шея свихнулась набок. Я упала.
Все было засыпано битым стеклом – папин стол, ковер, мои руки и ноги и сама Эва. Крошечные осколки блестели у нее в волосах и облепили плотные белые колготки, дрожа, словно капельки воды. Эва не могла оторвать коробки от стены (папа их прикрутил специальными шурупами); тогда она выдрала из них бумагу и картонную подложку, сдернула с булавок каждую бабочку и каждого мотылька, раздробила крылышки, превратив их в кучку разноцветных конфетти и, вытаращив глаза, сморщив лицо словно забракованный черновик, расшвыряла обрывки по комнате, как будто безумный поп, разбрызгивающий святую воду.
Одну бабочку она, глухо рыча, укусила, став на одно кошмарное мгновение похожей на сюрреалистическую рыжую кошку, пожирающую черного дрозда. (Удивительно, какие неуместные мысли иногда забредают в голову. Когда Эва вцепилась зубами в бабочку Taygetis Echo, я вдруг вспомнила один случай, когда мы с папой ехали из Луизианы в Арканзас. Жара была девяносто градусов по Фаренгейту[384], кондиционер сломался, и мы учили наизусть стихотворение Уоллеса Стивенса[385], одно из папиных любимых: «Тринадцать способов видеть черного дрозда». «Меж двадцати снеговых гор / Двигался только / Глаз черного дрозда», – объяснял папа, обращаясь к убегающему вдаль шоссе.)
Наконец она остановилась. Замерла, сама изумляясь тому, что натворила. Тишина была полная – такая бывает, я думаю, только после самой чудовищной бойни или урагана. Если прислушаться, наверное, услышишь, как луна движется по небу и земля несется вокруг солнца со скоростью 18,5 мили в секунду. Потом Эва начала извиняться – голос у нее дрожал, будто его щекотали. Она еще и всплакнула – страшный тоненький скулящий звук.
А может, мне и послышалось. Я сама была как оглушенная и только могла повторять про себя: «Это неправда, это все неправда», – растерянно оглядывая разгромленную комнату. Особенно лежащее на моей правой ноге, на желтом носке, мохнатое бурое тельце какой-то бабочки – может быть, гнутокрылого мотылька-призрака Zelotypia stacyi, – скрюченное, похожее на ершик для чистки курительных трубок.
Эва поставила лампу на стол – бережно, как ребенка, – и, отводя глаза, быстро поднялась по лестнице. Хлопнула входная дверь, и тут же захрипел мотор отъезжающей машины.
А у меня, как бывает после особо невероятных происшествий, наступило удивительное спокойствие и ясность мыслей. Действуя четко, словно самурай, я начала уборку, чтобы успеть до того, как вернется папа.
Я принесла из гаража отвертку и одну за другой отвинтила от стены искореженные коробки. Подмела стекло и крылышки, пропылесосила под столом, вдоль плинтусов, по краям книжных полок и на лестнице.
Разложила папки в ящики стола, по университетам и датам. Все, что еще можно было спасти, я сложила в большую картонную коробку (с надпистью «БАБОЧКИ. ХРУПКОЕ») и утащила к себе в комнату. Спасти удалось немногое: надорванный лист белой бумаги, горсточку уцелевших крылышек и одну-единственную Heliconius erato – малого почтальона. Он чудом избежал казни, спрятавшись за картотечный шкафчик.
Я пробовала читать дальше «Генриха V», но ничего не получилось – я все время ловила себя на том, что тупо смотрю в одну и ту же точку на странице.
Несмотря на дергающую боль в правой щеке, я не сомневалась, что в сегодняшней странной драме папа исполнил роль злодея. Конечно, я ненавидела Эву, но и папу ненавидела тоже. Вообще-то, он давно нарывался, и вот ему прилетело, только он очень вовремя свалил в ресторан, и вместо него прилетевшее огребла я, ни в чем не повинный потомок. Я понимала, что нагнетаю трагизм, но мне страстно хотелось, чтобы Китти меня совсем убила (или хотя бы оглушила). Пусть бы папа, вернувшись домой, нашел меня на полу в кабинете, обмякшую и посеревшую, точно древний диван, с вывернутой под неестественным углом шеей – недвусмысленным свидетельством, что Жизнь покинула данный населенный пункт на автобусе дальнего следования. Папа рухнул бы на колени, издавая вопли в духе короля Лира («Не-е-ет! Боже, не отнимай ее у меня! Я все сделаю, все, что угодно!»), и тут мои глаза приоткрылись бы и я, судорожно вздохнув, произнесла бы душераздирающую речь, в которой затронула бы вопросы Гуманности, Сострадания, тонкого различия между Добротой и Жалостью, а также высказалась бы о том, как людям необходима Любовь (избитая тема, которую только веская поддержка русских авторов спасает от сползания в непроходимую пошлость [ «Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю»][386]; ну и чуть-чуть Ирвинга Берлина добавляет освежающей остроты [ «Говорят, любовь – это чудо![387] Это чудо, так говорят»]). Под конец я бы огласила приговор: с этой минуты папа меняет свой привычный модус операнди а-ля Джек Николсон на Пола Ньюмена! Папа, не поднимая глаз, кивает. Лицо его выражает страдание, а волосы разом поседели – сплошь отливающая сталью седина, как у Гекубы, символ чистейшей скорби.
А другие июньские букашки? Им было так же плохо, как Эве Брюстер? Например, Шелби Холлоуз, которая отбеливала перекисью свои усики? И Дженис Элмерос, прятавшая под сарафанчиком колючие, словно кактус, ноги? Или Рейчел Грум, Изабель Фрэнкс и другие им подобные – они всегда приходили к папе с дарами, словно современные волхвы (перепутавшие папу с Младенцем Христом), только вместо золота, мирры и ладана приносили домашнее печенье, кексики и соломенных кукол со сморщенными личиками (будто они кисленьких леденцов наелись). Сколько часов трудилась Натали Симмс, пока строила скворечник из палочек от мороженого?
Голубой «вольво» подъехал без четверти двенадцать. Я слышала, как щелкнул ключ в замке.
– Радость моя, иди сюда скорее! Все глаза высмеешь!
«Высмеять глаза» – типичный дурацкий папизм, так же как «плакать над пролитым йогуртом» и «беречь как синицу ока».
– Оказывается, крошка Арни Сандерсон пить не умеет! В ресторане рухнул по дороге в туалет – клянусь тебе, прямо на пол! Пришлось везти его домой, в университетское общежитие. Жуткое местечко – ковровая дорожка истоптана до дыр, воняет прокисшим молоком, по коридорам бродят аспиранты, оставляя следы, словно от экзотических животных с Галапагосских островов. Я на себе тащил его по лестнице – на четвертый этаж! Помнишь тот милый фильм с Гейблом и Дорис, «Любимец учителя»?[388] Где мы его смотрели – в Миссури? Сегодня я пережил то же самое в реальности, только без пикантной блондинки. Я считаю, мне полагается выпить!
Пауза.
– Ты что, уже спишь?
Папа взбежал по лестнице, легонько стукнул в дверь и тут же ее распахнул. Он был еще в пальто. Я сидела на краешке кровати, скрестив руки на груди и глядя прямо перед собой.
Папа спросил:
– Что случилось?
Я рассказала (старательно подражая стилю поведения расшатавшейся стальной опоры, устрашающей и неумолимой).
Папа, в свою очередь, воспроизвел на своем лице цветовую гамму вывески у дверей винтажной парикмахерской: сперва стал красным, когда увидел красную отметину у меня на щеке, потом белым – это когда я провела его вниз и в лицах показала наш разговор с Эвой (включая дословный пересказ избранных отрывков диалога, включая Эвино определение «мелкий», и демонстрацию того участка пола, на который я свалилась) – и снова красным, когда мы вернулись на верхний этаж и я показала папе коробку с останками мотыльков и бабочек.
– Если бы я мог представить, что такое возможно, – сказал папа, – что она способна превратиться в Сциллу – на мой взгляд, Сцилла значительно хуже, чем Харибда, – я бы убил эту психованную дуру!
Он приложил мне к щеке лед, завернутый в полотенце.
– Надо подумать, какие принять меры.
Я мрачно спросила, не глядя на него:
– Как ты с ней познакомился?
– Конечно, я слыхал от коллег подобные истории, в кино видел. Классический образец – «Роковое влечение»[389]…
– Папа, как?! – заорала я.
Он вздрогнул, но не рассердился, только отнял от моего лица лед и, заботливо нахмурившись (в подражание медсестре из фильма «По ком звонит колокол»[390]), коснулся моей щеки тыльной стороной ладони.
– Как познакомился? Дай вспомню. Кхм… Это было в конце сентября. Я приехал в школу обсудить твои оценки, помнишь? И заблудился. Эта специфическая дама, Ронин-Смит, сказала, что в ее кабинете ремонт, и назначила встречу в другом месте, а номер комнаты назвала неправильно. Я, как дурак, постучался в дверь триста шестнадцатого кабинета в корпусе Ганновер, где какой-то неприятный бородатый историк пытался – не слишком успешно, судя по озадаченным лицам учеников, – объяснить закономерности развития индустриального общества. Я зашел в учительскую узнать, куда мне следует идти, и там встретил эту психопатку, мисс Брюстер. Вот тебе и любовь с первого взгляда. – Папа задумчиво разглядывал коробку с останками. – Подумать только, всего этого не случилось бы, если бы глупая коза четко сказала: «Комната триста шестнадцать, корпус Барроу»!
– Не над чем тут смеяться.
Он покачал головой:
– Конечно, зря я тебе не сказал. Прости. Мне было немного неловко, что у меня… – Папа запнулся. – Связь с кем-то из твоей школы. Я не ожидал, что дойдет до такого. Поначалу все казалось вполне безобидным.
– Так и немцы говорили, когда проиграли Вторую мировую.
– Признаю, я осел.
– Обманщик. И врун. Она назвала тебя вруном и была права…
– Ох, да.
– Ты все время врешь. Даже когда говоришь «Рад видеть».
На это папа ничего не сказал, только вздохнул.
Я по-прежнему смотрела прямо перед собой, но не отодвинулась, когда он снова прижал к моей щеке холодный сверток.
– Видимо, придется вызвать полицию. Или более привлекательный вариант: явиться к ней домой с незаконно приобретенным огнестрельным оружием.
– Нельзя вызывать полицию. Ты ничего не можешь сделать.
– Я думал, ты хочешь, чтобы эту тварь упрятали за решетку?
– Пап, она просто обычная женщина. А ты с ней поступил оскорбительно. Почему на звонки не отвечал?
– Не хотелось мне с ней разговаривать.
– Не отвечать на звонки – самая изощренная пытка в цивилизованном обществе. Читал книгу «Скрылся с места происшествия: кризис одиночества в Америке»?
– Кажется, не читал…
– Лучше всего будет оставить ее в покое.
По-моему, папа хотел что-то ответить, но сдержался и промолчал.
– Кстати, для кого ты цветы покупал?
– М-м?
– Цветы, про которые она рассказывала.
– Для Джанет Финнсброк. Из администрации факультета, работает там еще с палеозойской эры. Пятидесятая годовщина свадьбы. Я подумал, ей будет приятно… – Папа перехватил мой взгляд. – Да ты что! Разумеется, я в нее не влюблен. Только этого не хватало!
Папа как-то сник. Он сидел рядом со мной на кровати, растерянный, почти присмиревший (совершенно непривычное зрелище). Мне стало его жаль – хоть я и не подала виду. Он мне напомнил те нелестные фотографии президентов, которые «Нью-Йорк таймс» и другие газеты обожают печатать на первой странице: смотрите, мол, как выглядит великий лидер, когда не на трибуне, без заученных жестов и отрепетированных рукопожатий: не величественно и даже не солидно, а глупо и беспомощно. Поначалу смеешься, а если задуматься всерьез, жутковато становится. Эти фотографии показывают, как хрупко равновесие нашей жизни, как непрочно само наше существование, если во главе страны такой человек.
Глава 21. «Избавление», Джеймс Дикки
[391]
И вот мы подошли к самой опасной части моего рассказа.
В истории России эта глава повествовала бы о Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. В истории Франции – о казни Марии-Антуанетты. Америки – об убийстве Авраама Линкольна Джоном Уилксом Бутом.
– Всякий стоящий сюжет включает элемент насилия, – говорил папа. – Не веришь – представь себе на минутку, какой это ужас: у дверей затаилось огромное чудовище, сопит, пыхтит, а потом беспощадно сдувает твой дом. Такой кошмар даже в передаче Си-эн-эн нечасто увидишь – а между тем без него не было бы всеми любимой сказки о трех поросятах. Безмятежное счастье – не та тема, о которой интересно рассказывать у камелька или, допустим, сообщать в программе новостей устами размалеванной дикторши.
Нет, я не сравниваю свою повесть со всемирной историей (каждый ее раздел занимает больше тысячи страниц мелким шрифтом) или с трехсотлетними народными сказками. И все-таки нельзя не заметить, что никакие перемены не бывают без насилия, которое официально отвергается современной культурой, как западной, так и восточной (только лишь официально, поскольку все культуры, и современные, и не очень, без колебаний пускают его в ход, если это нужно для достижения собственных целей).
Если бы не пугающие события этой главы, я бы вообще не взялась за написание книги. Не о чем было бы писать. Жизнь в Стоктоне шла бы своим чередом, тихо-мирно, как в Швейцарии, а любые странные происшествия – Коттонвуд, смерть Смока Харви, безумный разговор с Ханной перед рождественскими каникулами – можно было бы считать, безусловно, необычными, однако в конечном итоге как-нибудь да объяснить задним умом, который неизменно крепок, близорук и ничему не удивляется.
Забегая вперед (совсем как Вайолет Мартинес на экскурсии в горы), я в быстром темпе промотаю два месяца между Эвиными бесчинствами и походом, который Ханна наметила на двадцать шестое марта, самое начало весенних каникул, несмотря на полное отсутствие встречного энтузиазма («Заплатите мне – все равно не пойду!» – упиралась Джейд).
– Туристические ботинки не забудьте! – предупредила Ханна.
«Сент-Голуэй» упорно шагал вперед (см. гл. 9, «Сталинградская битва» в кн. «Великая Отечественная», Степнович, 1989). Большинство учителей, в отличие от Ханны, вышли после каникул на работу веселыми и ничуть не изменившимися, если не считать миленьких освежающих штрихов: новый красный свитер с орнаментом в стиле индейцев навахо (мистер Арчер), блестящие новые ботинки (мистер Моутс), новый ополаскиватель для волос с экстрактом бойзеновой ягоды, превращающий волосы в самостоятельный элемент наряда (миз Гершон). Во время урока все это отвлекало учеников посторонними размышлениями – кто подарил мистеру Арчеру свитер, и как же, наверное, мистер Моутс комплексует по поводу своего роста, что покупает себе башмаки исключительно на толстенной подошве, и какое выражение было у миз Гершон, когда парикмахерша, сняв с ее головы полотенце, заверила: «Не беспокойтесь, когда волосы просохнут, сливовый оттенок не будет казаться таким ярким».
Ученики тоже остались прежними – словно грызуны, в неограниченном количестве поглощающие и накапливающие про запас растительную пищу в виде постыдных общегосударственных скандалов и тревожных событий в мире. («Наша страна переживает критический период, – неизменно оповещала нас миз Стердс на утреннем собрании. – Давайте жить так, чтобы двадцать лет спустя, оглядываясь назад, мы могли испытывать чувство гордости. Читайте газеты, составляйте собственное мнение! Пусть у каждого будет своя политическая позиция!») Президент ученического совета Максвелл Стюарт обнародовал свои масштабные замыслы насчет весеннего праздника с барбекю и танцами, где планировалось выступление кантри-группы и состязание между факультетами на лучшее пугало. Мистер Карлос Сандборн, преподаватель углубленного курса всемирной истории, перестал пользоваться гелем для волос (они теперь выглядели не прилизанными, словно он только что вылез из бассейна, а растрепанными, как будто он выписывал фигуры высшего пилотажа на винтовом самолете), а мистер Фрэнк Флетчер, гуру кроссвордов и вечный надзиратель на свободном уроке, переживал все мучения развода; его жена Эвелин выгнала беднягу, ссылаясь на непреодолимую разницу характеров (неизвестно, впрочем, отчего у него под глазами залегли темные круги – от душевных страданий или оттого, что он допоздна засиживался над кроссвордами).
– Наверное, когда они резвились в канун Рождества, мистер Флетчер в самый неподходящий момент выкрикнул: «А, я понял, что значит одиннадцать по горизонтали!» Этого она уже не стерпела, – предположила Тру.
Я постоянно видела Зака на углубленной физике, но мы практически не разговаривали – только здоровались иногда. И у моего шкафчика он больше не появлялся. Однажды мы столкнулись на лабораторной по динамике, и только я оторвалась от тетрадки, собираясь ему улыбнуться, Зак налетел на угол стола и выронил то, что у него было в руках, – штатив и набор гирек. Так ничего мне и не сказав, он быстро подобрал оборудование и вернулся на переднюю парту (к своей напарнице, Кристе Джибсен) с совершенно непроницаемым лицом, словно спикер парламента.
Неловко было также встречать в коридорах Эву Брюстер. Мы обе тут же начинали делать вид, будто на ходу обдумываем некие Глубокие Мысли (подобно Эйнштейну, Дарвину или, например, маркизу де Саду). В такие минуты человек полностью выпадает из реальности и ничего вокруг не замечает (а когда мы сталкивались нос к носу, взгляды наши упирались в пол; так падают шторы на окнах городка на Диком Западе, когда по улице проходит заезжая девица легкого поведения). У меня было чувство, как будто я узнала страшную тайну Эвы Брюстер (что она изредка оборачивается вервольфом), а Эва злится на меня за это. И в то же время, глядя, как она удаляется по коридору с отрешенным выражением лица, распространяя вокруг цитрусовый аромат, словно с утра надушилась средством для мытья посуды, – клянусь, я видела по ссутулившимся плечам под бежевым пуловером, по наклону мясистой шеи, что Эва жалеет о случившемся и хотела бы все отмотать назад, если бы могла. Сказать мне об этом в лицо ей не хватало духу (люди вообще трусы, когда надо сказать что-нибудь настоящее), и все-таки у меня стало спокойнее на душе, как будто я немножко ее понимаю.
Погром, учиненный мисс Брюстер, как и всякая катастрофа, имел свои конструктивные последствия (см. «Итоги Дрездена», Траск, 2002). Папа, терзаясь муками совести, ходил с покаянным видом, который меня очень бодрил. В тот день, когда мы вернулись из Парижа, я узнала, что поступила в Гарвард, и ветреным вечером в пятницу, в начале марта, мы наконец-то отпраздновали это эпохальное событие. Папа надел парадную сорочку от «Брукс бразерс» и золотые запонки с вензелем «ГБМ», а я – зеленое, как жевательная резинка, платье от «Прентан». Четырехзвездочный ресторан был выбран папой исключительно за свое название: «Дон Кихот».
Обед получился незабываемым во многих отношениях, в том числе и потому, что папа, проявив небывалое самообладание, вообще никак не реагировал на роскошную официантку с фигурой тонкогорлого кувшина и эффектной ямочкой на подбородке. Она-то папу всего обшарила глазами кофейного оттенка – и когда принимала заказ. и потом, когда спросила, не надо ли принести еще перца («Вам достаточно [перца]?» – спросила она с придыханием). Однако папа остался тверд, и официантка нехотя вновь обратила свои взоры на предметы, непосредственно связанные с ее работой («Меню десертов», – объявила она под конец замогильным голосом).
– За мою дочку! – провозгласил папа и звякнул краешком бокала о мой стакан с кока-колой.
Женщина средних лет за соседним столиком, увешанная тяжелыми металлическими украшениями и с мужем средней упитанности (которого, кажется, готова была в любую минуту куда-нибудь сбагрить, словно гроздь сумок с покупками), в тридцатый раз просияла улыбкой в нашу сторону (конечно, папа являл собой идеальный образ отца: красивый, нежно любящий, в твидовом костюме).
– Не переставай учиться всю жизнь! – продолжал он. – Светлой тебе дороги! Сражайся за правду – свою правду, не чью-нибудь чужую – и не забывай главное: для меня ты самая важная на свете гипотеза, теория и философия!
Тетенька средних лет чуть со стула не упала, сраженная папиным красноречием. Я думала, он перефразирует ирландский тост, но позже проверила Киллинга, «Больше чем слова» (1999), и не нашла такого. Значит, папа это сам сочинил.
В пятницу, двадцать шестого марта, с невинностью троянцев, столпившихся вокруг чудного деревянного коня, невесть откуда взявшегося у ворот их города, Ханна вывела взятый напрокат ярко-желтый микроавтобус на грунтовую дорогу возле туристического лагеря «Сансет-Вьюз» и припарковала на участке номер 52. Кроме нас, на стоянке были только синий «понтиак» с откидным верхом возле деревянного домика (с кривой, будто наспех прилепленный пластырь, вывеской «АДМИНИСТРАЦИЯ») и ржавый трейлер-прицеп («Одинокие мечты»), приткнувшийся под раскидистым дубом (дерево, явно переживая миг религиозного экстаза, воздело к небу ветви, словно порываясь схватиться за ноги Божьи). За горной грядой расстелилось чисто выстиранное, накрахмаленное и отглаженное белое небо. По всей стоянке записками в бутылках дрейфовал разнообразный мусор: картфельные чипсы «Лэйс», английские пышки «Томас», обтрепанная голубая лента. Судя по всему, на прошлой неделе прошел сильный дождь из сигаретных окурков.
Мы понять не могли, как вообще здесь оказались. Поход в горы с самого начала нас не вдохновлял (даже Лулу, а она обычно первой готова ввязаться в любую затею). И вот мы тут, в старых джинсах и неудобных тяжеленных ботинках, а к окнам автобуса, будто задремавшие пассажиры, привалились громадные раздутые рюкзаки, тоже взятые напрокат – в фирме «Синие горы». Нервическая фляжка, усталая бандана, дребезжащая в своем стаканчкие лапша быстрого приготовления, возмущенные вопли: «Кто взял мою ветровку?» Умеет все-таки Ханна тихой сапой заставить тебя сделать то, что ей хочется, даже если ты дал слово всем вокруг, и самому себе в том числе, ни в коем случае этого не делать.
Мы с Найджелом, хотя и не сговаривались, ни слова не сказали нашим про найденные им статьи и про Вайолет Мэй Мартинес – зато наедине он только об этом и говорил без конца. Невыдуманные истории с исчезнованием всегда надолго застревают в темных уголках сознания, – наверное, именно поэтому дурно написанная и неточная фактически повесть Конрада Хиллера «Красивые» о похищении двух подростков в Массачусетсе шестьдесят две недели продержалась в списке бестселлеров «Нью-Йорк таймс». Такие истории – как летучие мыши; потревожишь нечаянно – сразу начнут носиться вокруг. Вроде и знаешь, что к тебе и к твоей судьбе они не имеют никакого отношения, а все равно жутко и в то же время притягательно.
– У всех есть все, что нужно? – крикнула Ханна, завязывая ярко-красные шнурки на кожаных ботинках. – Возвращаться не будет возможности, поэтому проверьте рюкзаки, а главное – не забудьте карты местности, которые я раздала! В походе очень важно знать, где находишься. Мы пойдем по тропе к Лысому ручью, мимо горы Авраама, к скале Сахарная Голова. Дальше повернем к северо-востоку и устроим ночевку в четырех милях от Ньюфаунд-Гэп-роуд, трасса четыреста сорок один – видите жирную красную линию на карте?
– Ага, – сказала Лу.
– У кого аптечка первой помощи?
– У меня, – ответила Джейд.
– Замечательно!
Ханна улыбалась, уперев руки в бока. Она оделась по-походному: штаны защитного цвета, черная футболка с длинным рукавом, зеленая безрукавка-дутик и зеркальные очки. Такого энтузиазма в ее голосе я не слышала с осени. В последнее время за воскресными обедами мы все замечали, что Ханна сама на себя не похожа. Какая-то трудноуловимая перемена в ней произошла: словно картину потихоньку перевесили на пару дюймов правее, чем она всегда висела. Ханна слушала нас, как обычно, интересовалась нашей жизнью, рассказывала о волонтерской работе в приюте для бездомных животных, о том, что собирается взять себе домой попугая, но мы больше не слышали ее девчачьего смеха, словно кто-то поддает ногой камушки на берегу моря (как выразился Найджел, ее остриженные волосы – «будто вечный дождь на празднике»). Ханна то и дело вдруг замолкала, кивая самой себе и рассеянно глядя в пространство. Я не могла определить, получается это непроизвольно, из-за того, что в ее душе пустило корни и разрослось какое-то невысказанное горе, или она так ведет себя нарочно, чтобы мы волновались и гадали, что с ней стряслось. На моей памяти многие июньские букашки старательно вгоняли себя в тоску, рассчитывая, что папа встревожится и спросит, не может ли он чем-нибудь помочь (папа на такие ухищрения говорил, что бедняжка выглядит усталой, и предлагал по этому случаю разойтись пораньше).
После обеда Ханна больше не включала пластинку Билли Холидей, не подпевала хрипловато и чуть фальшивя, что ни о чем не жалеет, а сидела в задумчивости на диване, поглаживая Лану и Тернера и не участвуя в общем обсуждении школьных событий – например, что жена директора Хавермайера Глория ждет двойню и еле таскает свой огромный живот, словно Сизиф – свой знаменитый камень, или какая скандальная история случилась в начале марта, когда выяснилось, что мисс Стердс еще на Рождество тайно обручилась с мистером Баттерсом (все равно что скрестить американского бизона с песчаной змеей).
Мы пробовали, и явно, и завуалированно, втянуть Ханну в разговор – без толку. Это как играть в волейбол спортивным ядром. И за обедом она почти ничего не ела из того, что сама же так старательно готовила. Только зря ковырялась вилкой в тарелке, словно бездарный художник, впустую перемешивающий краски на палитре.
А тут, впервые за долгие месяцы, у нее сделалось великолепное настроение. И двигалась Ханна стремительно, будто воробушек.
– Все готовы? – спросила Ханна.
– К чему? – отозвался Чарльз.
– К сорока восьми часам адских мук, – буркнула Джейд.
– К единению с природой! Карты местности у всех при себе?
– Двадцать раз уже говорили, при нас эти чертовы карты! – Чарльз с грохотом захлопнул заднюю дверцу.
– Чудесно! – воскликнула Ханна, сияя.
Проверив напоследок, что все дверцы заперты, она взвалила на спину чудовищного размера синий рюкзак и бодро зашагала вперед, к лесу.
– Скачка начинается! – крикнула Ханна через плечо. – Старушка Шнайдер вырывается вперед! Мильтон Блэк обходит справа! Лула Малони пока на пятом месте. У финиша основная борьба развернется между Джейд и Синь.
– Что она несет? – озадаченно спросил Найджел.
– Кто ее знает, – вздохнула Джейд.
– Веселей, лошадки! Если за четыре часа не доберемся до места ночевки, придется шагать в темноте!
– Потрясающе! – скривилась Джейд. – У нее окончательно уехала крыша. И ведь нет чтобы уехать, пока мы еще были в цивилизованных краях! А здесь кругом одни змеи и деревья и никто нас не спасет, разве что хреновы кролики.
Мы с Найджелом переглянулись. Найджел пожал плечами, сказал: «А фиг ли!» – и, сверкнув своей мимолетной улыбочкой, точно карманным зеркальцем, двинулся вслед за Ханной.
Я приотстала, наблюдая за нашими. Почему-то не хотелось мне идти. Не было особенного страха или зловещего предчувствия, только смутное ощущение, что надвигается нечто огромное – такое, что взглядом не охватить. Я не знала, достанет ли у меня сил с этим справиться (см. «С компасом и электрометром к Южному полюсу. История капитана Скотта и великой гонки за покорение Антарктиды», Уолш, 1972).
В конце концов я поправила лямки рюкзака и отправилась догонять остальных. В самом начале тропы Джейд споткнулась о корень.
– О, потрясающе! Просто красота! – злилась она.
Северо-западный участок тропы Лысого ручья (показанный на карте пунктиром) поначалу казался вполне добродушным – широкоплечий, как миссис Роули, моя учительница во втором классе Уодсуортской начальной школы, припудренный сухими листьями, предвечерними лучами и растрепанными соснами, похожими на прядки, выбившиеся из пучка у нее на голове к последнему уроку (миссис Роули обладала редким даром превращать «кислые физиономии» в «солнечные улыбки»).
– Может, не такая уж и гадость эти походы, – заметила идущая впереди Джейд, оборачиваясь ко мне. – Вообще-то, довольно весело!
Однако через час Ханна крикнула нам «на развилке взять вправо» – и вот тут-то тропа показала свое истинное лицо. Характером она напоминала не миссис Роули, а вспыльчивую мисс Дьюэлхерст из средней школы города Говарда – та одевалась в тускло-коричневые тона, сутулостью подражала ручке зонтика, а ее физиономия, вся в морщинах, походила скорее на грецкий орех, а не на человеческое лицо. Тропа внезапно скукожилась, вынудив нас идти гуськом и не позволяя разговаривать, пока мы пробирались между колючими кустами («Чтобы на экзамене никаких перешептываний, иначе оставлю на второй год и испорчу вам всю дальнейшую жизнь», – говорила мисс Дьюэлхерст).
– Больно, черт! – жаловалась Джейд. – Моим ногам требуется местная анестезия!
– Хватит ныть! – отрезал Чарльз.
– Эй, как дела? – крикнула Ханна, шагая задом наперед.
– Чудненько, чудненько! Страна чудес, чтоб ее!
– До первой обзорной площадки всего полчаса!
– Я оттуда сброшусь, – пообещала Джейд, и мы поплелись дальше.
Время то замедлялось, то пускалось вскачь среди бесконечной процессии чахлых сосен, лопоухих рододендронов и унылых серых валунов. Я впала в какую-то полудрему, тупо рассматривая то красные гольфы Джейд (натянутые поверх штанин в качестве предосторожности на случай гремучих змей), то на извилистые корни деревьев, гусеницами ползущие по тропинке, запятнанной кляксами гаснущего золотого света. Казалось, на многие мили вокруг нету живой души, кроме нашей компании (да еще пары невидимых птиц и взбежавшей по стволу серенькой белки). Может, Ханна права и навязанное нам приключение в самом деле что-то для нас откроет? Подарит дивное новое понимание мира? Сосны вспенились, подражая океану. Птица взвилась в небо, стремительно, словно воздушный пузырь.
Как ни странно, единственной, кто не поддался этому непонятному очарованию, была как раз Ханна. На прямых участках тропы я видела, как она оживленно болтает с Лулой – слишком даже оживленно – и всматривается в ее лицо, будто хочет запомнить надолго. Иногда Ханна смеялась, и ее резкий, внезапный смех вдребезги разбивал царящую вокруг тишину.
– О чем они там сплетничают, интересно, – сказала Джейд.
Я пожала плечами.
* * *
К первой обзорной площадке под названием Пик Авраама мы подошли приблизительно в 18:15. Справа от тропы выдавался вперед каменный утес, и с него, словно театральная сцена, открывалась панорама гор.
– Там – штат Теннесси. – Ханна прикрыла рукой глаза от солнца.
Мы выстроились в шеренгу и стали смотреть на Теннесси. Было тихо, только Найджел шуршал оберткой от хрустящего хлебца с ежевикой (как рыба неспособна утонуть, так Найджел неспособен проникнуться величием момента). От холодного воздуха перехватывало горло. Горы сдержанно обнимались, как обнимаются мужчины – не касаясь друг друга грудью. Шею их окутывали редкие облака, а вдали, у самого горизонта, горы казались такими бледными, что не отличишь, где граница между их плечами и небом.
От этой картины мне стало грустно – хотя, наверное, всегда бывает грустно, если смотришь на такое огромное пространство, полное света и тумана и головокружительной бесконечности. Папа это называет – «неизбывная печаль человечества». В голову лезут всякие мысли – и не только о нехватке еды и питьевой воды в мире, возмутительно низком уровне грамотности среди взрослых и средней продолжительности жизни в развивающихся странах, но и банальная затрепанная мысль: как много людей рождается сейчас, в эту самую минуту, и как много умирает, а ты, вместе с 6,2 миллиарда других, всего лишь болтаешься между этими двумя вехами – сокрушительными событиями для каждого отдельного человека, однако в контексте Хичрейкерова «Всемирного географического справочника» за 2003 год или Говардовского «Отыскать космос в песчинке. Рождение Вселенной» (2004) это самые заурядные явления. Как подумаешь об этом, начинает казаться, что твоя жизнь значит не больше, чем сосновая хвоинка.
– Твою мать! – проорала Ханна.
Эхо не отозвалось, как бывает в мультиках. Крик провалился в тишину, словно в море выбросили наперсток. Чарльз уставился на Ханну, явно подозревая, что она спятила. А мы, остальные, переминались с ноги на ногу, как перепуганные коровы в товарном вагоне.
– Твою мать! – еще раз выкрикнула Ханна сорванным голосом.
Потом обернулась к нам:
– Вы тоже давайте! Скажите что-нибудь!
Она глотнула побольше воздуха, запрокинув голову и прикрыв глаза, как человек, загорающий в шезлонге. Веки у нее дрожали, подрагивали и губы.
– «Не допускаю я преград слиянью двух верных душ!»[392] – во все горло завопила Ханна.
– Вы здоровы? – расхохотался Мильтон.
– Здесь нет ничего смешного, – строго ответила Ханна. – Давай, напряги связки. Представь, что ты – фагот. И скажи что-нибудь глубинное, от души.
Она снова набрала воздуху.
– Генри Дэвид Торо!
– Не бойся бояться! – вдруг вскрикнула Лу, по-детски выпятив подбородок.
– Молодец, – кивнула Ханна.
Джейд насупилась:
– Ну конечно, от этих упражнений мы, надо полагать, духовно переродимся?
– Не слышу тебя, – сказала Ханна.
– Бред собачий! – рявкнула Джейд.
– Уже лучше.
– Хер, – сказал Мильтон.
– Слабовато…
– Хе-е-ер!!!
– Дженна Джеймсон[393]? – крикнул Чарльз.
– Это вопрос или ответ? – откликнулась Ханна.
– Джанет Джакме![394]
– Выпустите меня отсюда нахер! – завизжала Джейд.
– Четко формулируйте задачи и граничные условия!
– Задолбали, домой хочу!
– Познакомься с моим дружком! – весь красный, крикнул Найджел.
– Сэр Уильям Шекспир! – заорал Мильтон.
– Он не сэр, – сказал Чарльз.
– Нет, сэр!
– Его не посвящали в рыцари.
– Не важно, – сказала Ханна.
– Дженна Джеймсон!
– Синь? – спросила Ханна.
Я сама не знала, почему не ору вместе со всеми. Что-то вроде заикания – переклинило, и все тут. Кажется, я мысленно искала подходящее имя, достойное того, чтобы его подхватил ветер. Хотела назвать Чехова, но вроде коротковато, даже если объединить имя и фамилию. Достоевский – слишком длинно. Платон – слишком пижонски, словно я хочу всех переплюнуть, назвав самый что ни на есть исток западной мысли и цивилизации. Набокова папа бы одобрил, но никто, в том числе и папа, не знает, как он правильно произносится («НА-бо-ков» – неверно, так произносят дилетанты, которые покупают «Лолиту», воображая, что это эротический романчик; а «На-БО-ков» звучит как пистолетный выстрел). Гёте – еще хуже. Мольер – интересный вариант (пока еще никто из наших не называл француза), но трудно кричать, грассируя. Расин мало кому известен, Хемингуэй слишком строит из себя мачо, Фитцджеральд – хорошо, но все-таки нельзя простить, как он обошелся с Зельдой. Гомер – отличный выбор, хотя папа говорил, что в сериале про Симпсонов это имя слишком опошлили.
– Будь… верен себе! – кричала тем временем Лула.
– Скорсезе!
– Веди себя прилично! – высказался Мильтон.
– Плохо, – сказала Ханна. – Никогда не старайтесь вести себя прилично.
– Не веди себя прилично!
– Не думай, а действуй!
– Реализуй свои скрытые возможности!
– Не подстраивайте свои чувства под рекламные лозунги, – сказала Ханна. – Ищите собственные слова. То, что у вас на душе, всегда прозвучит сильно.
– Тату во всю руку! – завопила Джейд.
От волнения лицо у нее сморщилось, как выжатое полотенце.
– Синь, ты слишком долго думаешь, – сказала Ханна.
– Э-э… Я…
– Кентерберийские рассказы!
– Миссис Юджиния Стердс! Пусть живет долго и счастливо с мистером Марком Баттерсом, только чтобы они не размножились и не заполонили весь мир своим потомством!
– Скажи первое, что в голову придет…
– Синь Ван Меер! – ни с того ни с сего ляпнула я.
Имя выскользнуло и поплыло, словно здоровенный сом. Я оцепенела, молясь про себя: хоть бы никто не обратил внимания.
– Ханна Шнайдер! – заорала Ханна.
– Найджел Крич!
– Джейд Черчилль Уайтстоун!
– Мильтон Блэк!
– Лула Джейн Малони!
– Дорис Ричардс, моя училка в пятом классе с огромными сиськами!
– Страсть – это не обязательно похабство. Смелей, не бойтесь быть серьезными! Настоящими!
– Не слушай, когда про тебя говорят гадости! Они просто завидуют! – Лула отбросила волосы назад, в глазах у нее блестели слезы. – Не отступай перед препятствиями! Никогда не сдавайся!
Ханна обвела рукой горы:
– Будьте такими не только здесь. Оставайтесь такими и там, внизу!
Следующий участок пути до вершины Сахарная Голова (обозначенный на карте зловещим пунктиром) должен был занять еще два часа. Ханна сказала, что нужно прибавить темп, иначе не успеем до темноты.
И правда, темнело на глазах. Костлявые сосны тесней обступили тропинку. Ханна снова завела отдельный разговор – на этот раз с Мильтоном. Они шли плечом к плечу, то и дело стукаясь рюкзаками, точно машинки на аттракционе «Автодром». Ханна говорила, а Мильтон кивал, согнувшись в ее сторону, как будто она подтачивала его крупную фигуру.
Я знала, как лестно и приятно, когда Ханна с тобой разговаривает, выделив среди всех прочих, – раскрывает мягонькую обложку, смело разглаживает корешок и перелистывает страницы, отыскивая место, на котором остановилась в прошлый раз, с искренним интересом узнать, что же будет дальше (она всегда читала так увлеченно, что ты невольно воображал себя ее любимой книгой – пока она тебя не отбросит и не примется с той же сосредоточенностью читать другую).
Двадцать минут спустя Ханна перешла к Чарльзу. Они то и дело заливались чаячьим смехом; Ханна, тронув за плечо, притянула Чарльза к себе, и на мгновение их руки сплелись.
– Тоже мне счастливая парочка! – фыркнула Джейд.
Пятнадцати минут не прошло, как Ханна уже шагала рядом с Найджелом (он, опустив голову и поглядывая на нее искоса, слушал с некоторым беспокойством). А вскоре Ханна перешла к Джейд, идущей впереди меня.
Естественно, я предположила, что вслед за тем настанет моя очередь, – я шла последней. Но, закончив разговор – Ханна советовала Джейд подать заявку на летнюю практику в «Вашингтон пост» («Надо быть добрее к себе, запомни!» – расслышала я), – она еще что-то шепнула Джейд на ухо, чмокнула в щеку и вернулась в начало нашей цепочки, не удостоив меня даже взглядом.
– Так, ребята, выше нос! – крикнула Ханна. – Мы почти пришли!
Когда мы добрались до места, во мне кипели с одинаковой силой обида и возмущение. Обычно стараешься не обращать внимания на предвзятость («Не может весь мир состоять в клубе фанатов семьи Ван Меер», – говорил папа), но, когда тобой вот так бессовестно пренебрегают, это неприятно. Как будто всем вокруг дозволено быть сосновыми иголками и только тебя заставляют быть смолой. К счастью, больше никто не заметил, что Ханна так со мной и не поговорила. И когда Джейд, сбросив рюкзак на землю, сладко потянулась, улыбаясь во все лицо, со словами: «Потрясающе! Она всегда умеет сказать именно то, что нужно», признаюсь, я соврала.
Я с энтузиазмом закивала и поддакнула:
– Умеет, умеет!
– Сначала поставим палатки! – скомандовала Ханна. – С первой я помогу. Только посмотрите сначала, какой вид! Просто дух захватывает!
Несмотря на Ханнин азарт, мне палаточный лагерь показался довольно унылым, особенно после величественных горных пейзажей. Среди корявых сосен была расчищена круглая поляна. На почерневшем кострище лежали обгорелые поленья, серые и лохматые, словно морда старого пса. Справа, за россыпью валунов, тянулась узенькая, как приоткрытая дверь, скальная полка – можно присесть, свесив ноги, и подглядывать за голой лиловой горной грядой, дремлющей под рваным одеялком тумана. Солнце уже утекло за горизонт, и только самый край неба пятнали желто-оранжевые потеки.
– Здесь кто-то был минут пять назад, – объявила Лула, указывая пальцем себе под ноги.
– Что там? – спросила Джейд.
Я подошла к ним.
– Смотрите!
Лула потыкала ботинком окурок.
– Эта сигарета не больше трех секунд как погасла!
Джейд, присев на корточки, осторожно подобрала окурок – так берут в руки дохлую золотую рыбку.
Осторожно понюхала и снова швырнула на землю:
– Точно! Я чую. За-ме-чательно! Только этого не хватало. Какой-то мерзавец дождется ночи, придет и всех нас поимеет.
– Ханна! – крикнула Лу. – Надо валить отсюда!
– Что случилось? – спросила Ханна.
Джейд показала на окурок.
– Эта стоянка очень популярна, – отмахнулась Ханна.
– Да, но сигарета еще тлела! Я видела оранжевую искру! – Глаза у Лулы были как блюдца. – Здесь кто-то прячется. Следит за нами.
– Не смеши.
– Никто из наших не курит, – сказала Джейд.
– Все нормально! Скорее всего, какой-нибудь турист здесь отдыхал, потом пошел дальше по тропе. Не волнуйтесь.
Ханна отошла на дальнюю сторону поляны, где Мильтон, Чарльз и Найджел пытались поставить палатки.
– Ей все шуточки, – сказала Джейд.
– Надо уходить! – не успокаивалась Лу.
– Я с самого начала это говорила, – бросила Джейд. – Кто-нибудь прислушался? Нет! Я, видите ли, всем только настроение порчу.
Она ушла, а я сказала Луле:
– Эй! Все будет хорошо.
– Правда?
Я кивнула, хотя никаких оснований для такого оптимизма у меня не было.
* * *
Через полчаса Ханна принялась разводить костер, а мы сидели на валунах и ели подогретые на походной печке ригатони[395] с томатным соусом «Фра Дьяволо» и французский батон, твердый, как базальт. Сидели лицом к обрыву, хотя ничего уже не было видно – темный провал и густо-синее небо вверху. Небо никак не хотело отпускать последний клочок вечернего света.
– Если отсюда свалиться, что будет? – спросил Чарльз.
– Разобьешься насмерть, – ответила Джейд с полным ртом.
– Ни перил, ни предупредительного знака какого-нибудь. Упал? Тем хуже для тебя.
– Пармезан еще остался?
– Интересно, почему это место называют Сахарная Голова, – заметил Мильтон.
– Да, кто придумывает такие дурацкие названия? – подхватила Джейд, не переставая жевать.
– Местные жители, – сказал Чарльз.
– Лучше всего тишина, – сказал Найджел. – В городе не замечаешь, как все громко.
– Жаль индейцев, – сказал Мильтон.
– Почитай «Лишенных наследства» Редфута, – сказала я.
– Я все еще голодная! – объявила Джейд.
– Как это – ты голодная? – возмутился Чарльз. – Ты больше всех съела! Всю кастрюлю реквизировала.
– Ничего я не реквизировала!
– Хорошо еще я за добавкой не сунулся! Ты бы мне, наверное, руку отгрызла.
– От недоедания в организме включаются механизмы голодовки, и потом хоть кусочек бисквитика съешь – разнесет как на дрожжах.
– Не нравится мне, что здесь кто-то был, – сказала вдруг Лула.
Все удивленно уставились на нее.
– Окурок, – прошептала она.
– Да брось! – возразил Мильтон. – Ханна вот не беспокоится, а она постоянно в походы ходит.
– Да и поздняк метаться, – заметил Чарльз. – Ночь глухая. Уйдем отсюда – заблудимся. Как раз и налетим на того, кто здесь рыщет…
– Беглые преступники, – серьезно сказала Джейд. – И тот тип, который взрывал клиники, где делают аборты.
– Его поймали, – сказала я.
– Вы не видели, какое лицо было у Ханны, – упорствовала Лу.
– Какое такое лицо? – встрепенулся Найджел.
В синей ветровке, обхватив руками коленки, Лу выглядела какой-то потерянной. Длинная коса, перекинутая через плечо, свисала до земли, как у Рапунцель.
– Видно было, что она тоже напугалась. Просто не хотела говорить, потому что она типа взрослая и за всех за нас отвечает.
– У кого-нибудь есть при себе оружие? – спросил Чарльз.
– Ой, надо было мне револьвер Джефферсон прихватить! – сказала Джейд. – Он у нее в ящике под трусами хранится, здоровенный!
– Не нужно нам оружие. – Мильтон откинулся на спину, глядя в небо. – Если и правда время пришло подыхать – так лучше здесь. Под звездами.
– Ну ты вообще извращенец, всегда всем доволен, – хмыкнула Джейд. – А я хочу дотянуть по крайней мере до семидесяти пяти. И если для этого надо кого-нибудь пристрелить или какому-то бродяге горло перегрызть – сделаю и не поморщусь.
Джейд оглянулась на палатки.
– Где она, вообще? Ханна? Не вижу что-то.
Мы вернулись с кастрюльками и тарелками на поляну. Ханна сидела у костра и грызла батончик гранолы. Она успела переодеться в зеленую с черным клетчатую рубашку на пуговицах. Ханна спросила, хотим ли мы еще есть, Джейд ответила утвердительно, и тогда Ханна предложила поджарить зефир на палочках.
Мы жарили зефирки, Чарльз рассказывал страшную историю (в такси садится пассажирка-вурдалак), и тут я заметила, что Ханна, сидя по другую сторону костра, смотрит прямо на меня. В отсветах огня лица превратились в резные маски, а глазницы казались глубже обычного, словно их выковыряли ложкой. Я улыбнулась как могла беспечней и сделала вид, будто невероятно увлечена сложным искусством обжаривания зефирок. Минуту спустя глянула в сторону Ханны – а она так и не отвела глаз. Встретив мой взгляд, она чуть заметно кивнула влево, в сторону леса, и тронула свои наручные часы. Правой рукой показала: «пять».
– Таксист обернулся, а та женщина исчезла, – говорил Чарльз. – Только на сиденье остался белый шифоновый шарф.
– И все?
– Ага. – Чарльз улыбнулся. – Другой такой дебильной истории с привидениями я не слышал.
– Вот же хрень…
– Был бы у меня тухлый помидор, кинула бы в тебя!
– Кто-нибудь знает историю про бесхвостого пса? – спросил Найджел. – Он ходит, везде свой хвост ищет, людей пугает…
– Это про обезьянью лапку, – сказала Джейд. – Страшный рассказ, его в четвертом классе проходят[396], а потом всю жизнь забыть не можешь почему-то. И еще «Самая опасная игра», скажи, Рвотинка?
Я кивнула.
– Про собаку тоже есть история, только я ее не помню.
– Ханна знает хорошую историю, – сказал Чарльз.
– Не знаю.
– Ну пожалуйста, расскажите!
– Нет-нет. Я совсем не умею рассказывать. – Ханна зевнула. – Который час?
Мильтон посмотрел на часы:
– Одиннадцатый пошел.
– Давайте не будем сегодня засиживаться, – сказала Ханна. – Всем нужно выспаться, завтра рано вставать.
– Ну замечательно!
Можно не объяснять, что меня терзали Страх и Тревога. Тайных знаков Ханны никто, кроме меня, не заметил – даже Лула. Забыв о зловещем окурке, она мирно уплетала жареные зефирки с печеньем (нитка растаявшего зефира прилипла у нее в уголке рта) и улыбалась рассказу Мильтона, отчего на подбородке появлялись крохотные ямочки. А я сидела, поджав ноги, и смотрела в огонь. Думала вообще никуда не ходить («Если не знаешь, что делать, притворись, будто ничего не видишь и не помнишь»), но через пять минут я с ужасом заметила, что Ханна глядит на меня с ожиданием, как будто я играю Офелию и так вошла в роль безумной, что пропускаю свои реплики, а бедным Лаэрту с Гертрудой приходится импровизировать.
Под этим неумолимым взглядом я встала, отряхнула джинсы и сказала:
– Я… сейчас вернусь.
– Ты куда? – спросил Найджел.
Все на меня уставились.
– В туалет, – сказала я.
Джейд захихикала:
– Ой, боюсь даже думать, что мне тоже придется!
– Коренные жители Америки могли, значит и ты сможешь, – сказал Чарльз.
– Коренные жители еще и скальпы с людей снимали.
– Советую воспользоваться сухим листиком! – захихикал Найджел. – Или мхом.
– Есть же туалетная бумага, – сказала Ханна. – У меня в палатке.
– Спасибо, – ответила я.
– В моем рюкзаке, – добавила Ханна.
– А шоколад еще остался? – спросила Джейд.
За палатками была наждачная темнота. Я подождала, пока глаза привыкнут, потом проверила, что никто за мной не пошел и все по-прежнему разговаривают под треск костра, и углубилась в лес. Ветки резиновыми шлангами хлестали меня по ногам. Оглянувшись, я удивилась, как смыкаются за спиной сосновые ветви – словно хипповые дверные занавески из бусин. Я медленно обошла поляну по дуге, держась за деревьями, и остановилась примерно там, куда кивнула Ханна.
Костер был не так уж далеко – ярдов десять[397] от меня. Ханна сидела вместе со всеми, подперев голову рукой. Лицо у нее было такое сонное и довольное, что я заколебалась на секунду – уж не померещилось ли мне? Если через три минуты она не придет, решила я, вернусь к костру и никогда больше не стану разговаривать с этой ненормальной, – нет, через две минуты! Именно столько времени занимает процесс полураспада ядер в слитке изотопа алюминия-28. Двух минут достаточно, чтобы умереть от газа VX (произносится «Ви-Экс»), за две минуты сто пятьдесят мужчин, женщин и детей народа сиу были убиты в бойне у ручья Вундед-Ни в 1890 году, а в 1866 году норвежка по имени Гудрид Ваалер за две минуты родила сына, Йохана Ваалера, будущего изобретателя канцелярской скрепки.
Ханне тоже двух минут хватило.
Глава 22. «Сердце тьмы», Джозеф Конрад
Издали мне было видно, как Ханна встала и что-то сказала нашим. Я расслышала свое имя – наверное, Ханна сказала, что хочет проверить, как у меня дела. Потом она направилась к палаткам и пропала из виду.
Я подождала еще минуту, наблюдая за нашей компанией. Джейд карикатурно изображала мисс Стердс на утреннем общем собрании: ноги широко расставлены, сама покачивается, словно парóм, пересекающий Ла-Манш в штормовую погоду («Наша страна переживает опасный период!» – выкрикнула Джейд, стиснув руки и выпучив глаза). Где-то рядом, словно старческие суставы, затрещали ветки – ко мне шла Ханна, ее лицо смутно белело в темноте. Она с улыбкой приложила палец к губам и поманила меня за собой.
Я, конечно, удивилась. Фонарика я с собой не прихватила. Поднимался ветер, а на мне были всего лишь джинсы, футболка, тоненький папин пуловер с надписью «Университет Колорадо в Пикаюне» и ветровка. Но Ханна уже быстро шагала прочь, петляя между сосен, и я пошла за ней, разок оглянувшись назад: наши над чем-то смеялись у костра, и голоса сплетались в единое полотно.
Я собиралась, как отойдем подальше, спросить, в чем дело, но у Ханны был такой целеустремленный, сосредоточенный вид, что у меня язык не повернулся. Ханна вытащила фонарик – у нее была такая смешная сумочка в виде пояса, не то черная, не то синяя, я раньше не замечала. Слабенький круг света лишь чуть-чуть отодвинул тьму, ничего не освещая, кроме тощих древесных стволов.
Мы шли, не разбирая дороги. Поначалу я старалась, как Ганс и Гретель, прокладывать мысленный путь из крошек: ага, здесь кора ободрана, а тут возле сухого дерева громадный валун, похожий на жабу, здесь ветки раскинулись в форме перевернутого распятия, хорошенькое предзнаменование… Но приметные детали попадались редко. Минут через пять я поняла, что это бессмысленно, и просто вслепую следовала за Ханной, словно утопающий, который прекратил наконец барахтаться и покорно идет ко дну.
– Они пока и без нас обойдутся, – сказала Ханна. – Однако времени мало.
Не знаю, долго ли мы шли (часы я с собой не взяла – как потом оказалось, очень напрасно). Минут через десять Ханна вдруг остановилась и вытащила из поясной сумки еще одну карту – цветную, подробнее тех, что она раздала нам. Кроме того, она достала маленький компас и какое-то время изучала то и другое.
Потом сказала:
– Еще чуть-чуть.
Мы двинулись дальше.
До сих пор не могу объяснить, почему я так послушно шла за ней, ни о чем не спрашивая, и даже не боялась. Казалось бы, должна застыть на месте от страха, но нет. Я словно плыла по воздуху, вроде как в механическом каноэ на аттракционе «Волшебное путешествие по Амазонке» в парке развлечений «Мир чудес Уолтера» в городе Альпака, штат Мэриленд. Мозг фиксировал самые неожиданные детали: вот Ханна покусывает губы (совсем как папа, когда среди студенческих работ встретится неожиданно талантливая), вот мой левый ботинок попал в луч света от фонарика, сосны беспокойно ворочаются в ночи, как будто им не спится, а Ханна то и дело поправляет сумку на ремне – так беременные постоянно трогают свой живот.
Ханна снова остановилась, посмотрела на часы.
Сказала:
– Хорошо, – и выключила фонарик.
Мои глаза понемногу привыкали к темноте. Показалось, что это же самое место мы прошли минут пять назад. Я смутно различала морщинистые стволы сосен и перламутрово мерцающее вдохновенное лицо Ханны.
– Я хочу тебе кое-что сказать, – начала она, не сводя с меня глаз.
Глубоко вдохнула, выдохнула, но так и не произнесла ни слова. Она выглядела какой-то беспокойной, даже встревоженной. Кашлянула, снова перевела дыхание, прижала руку к ключицам, да так и оставила, словно белый воротничок.
– Не сильна я в этом! В чем другом сильна – в математике, в иностранных языках. Приказывать могу. Помогать людям расслабиться. А этого не умею!
– Чего – этого?
– Правду говорить!
Ханна рассмеялась, будто задыхаясь. Ссутулившись, посмотрела в небо. Я тоже посмотрела – это заразно, вроде зевоты. Небо лежало на макушках деревьев плотным черным лоскутом, и на нем стразиками посверкивали звезды, как на ковбойских сапогах июньской букашки Рейчел Грум.
– Знаешь, я никого не виню, – сказала Ханна. – Я сама во всем виновата. Каждому приходится делать выбор. Черт, сейчас бы закурить…
– Вам нехорошо? – спросила я.
– Да. Нет! Прости.
– Может, пойдем обратно?
– Нет-нет. Ты, наверное, считаешь, что я сумасшедшая…
– Не считаю! – сказала я, и, конечно, сразу мысль: а вдруг правда?
– То, что я хочу тебе сказать… В этом нет ничего плохого. Только для меня. Для меня это ужасно. Ты не думай, я понимаю, как это ужасно. И гадко. Невозможно так жить… Ну вот, я тебя напугала, прости. Я не хотела, чтобы ты все узнала вот так, в заколдованном лесу, средневековье какое-то. Но иначе невозможно толком поговорить, все время дергают: Ханна то, Ханна это. Черт, это немыслимо!
– Что немыслимо? – спросила я, но Ханна меня не слышала.
Она как будто говорила сама с собой.
– Когда я обдумывала, как расскажу тебе… Черт, я трусиха. Черт, черт! – Она замотала головой, провела рукой по глазам. – Видишь ли, бывают такие люди – хрупкие, ты их любишь и все равно ранишь… Я жалкая, да? Отвратительно! Ненавижу себя! Я…
В определенном смысле можно сказать: нет ничего страшнее, чем когда взрослый человек вдруг оказывается не взрослым в полном смысле этого слова – когда он расклеивается, разваливается на куски. И ты будто опять в детском саду видишь, как чудесную тряпичную куклу тянут вверх, а из-под нее показывается жуткая человеческая рука. Подбородок у Ханны сморщился от неведомых мне эмоций. Она не плакала, но уголки темных губ опустились книзу.
– Ты меня выслушаешь? – Голос у нее был старческий, тихий, дрожащий и в то же время просительный, как у ребенка.
Она стояла вплотную ко мне – слишком близко, – впившись глазами в мое лицо.
– Ханна…
– Обещай, что выслушаешь!
– Ладно…
– Спасибо!
Она вроде слегка успокоилась.
Вновь глубоко вздохнула – и опять ничего не сказала.
Я спросила:
– Это о папе?
Не понимаю, почему такой вопрос вдруг выскочил из моего рта. Может, в голове крепко засела история с Китти: если папа настолько легко врал на ее счет, не исключено, что он точно так же скрывал свои шашни с кем-нибудь еще из преподавательского состава. А может, сработала сила привычки: всю мою жизнь учительницы останавливали меня в школьных коридорах, гардеробах и спортзалах. Я со страхом ждала, что меня за что-нибудь отругают, или накажут, или сообщат, что я провалила итоговую контрольную и меня оставляют на второй год, а они, наклонившись поближе и обдавая меня кофейным дыханием, принимались расспрашивать о папе (курит ли он? встречается с кем-нибудь? когда удобно будет зайти поболтать?). Если бы меня попросили сформулировать гипотезу о причинах такого повышенного внимания, я сказала бы так: Все Из-За Папы. (Да он и сам так считал; если в супермаркете кассир хмурился, папа делал вывод: его обидело, что папа глянул на него свысока, выгружая продукты из тележки на транспортер.)
Однако реакция Ханны поставила меня в тупик. Ханна смотрела в землю, приоткрыв рот, будто от удивления, – или, может, она просто не расслышала и теперь не знала, что сказать. Так мы стояли под неумолчный шепот сосен – словно шипит газированная вода в стакане. Я ждала, что Ханна ответит «Да», или «Нет», или «Не говори ерунды», – и тут где-то сзади негромко, но отчетливо хрустнуло.
У меня сердце сжалось. Ханна мгновенно включила фонарик, направив луч в сторону звука. Свет и вправду выхватил из темноты что-то – блеснуло стекло, возможно очки. Кто-то ломанулся прочь, круша ветки и кусты и громко топая, причем, несомненно, на двух ногах. Я от ужаса не могла ни закричать, ни пошевелиться, и все равно Ханна зажала мне рот рукой и не отпускала, пока все не стихло. И снова только непроглядная ночь вокруг и деревья вздрагивают на ветру.
Ханна выключила фонарик. Вложила мне в руку.
– Не включай без необходимости. – Она говорила очень тихо, почти неслышно. – И это возьми, на всякий случай. – У меня в руках оказался лист плотной бумаги – карта. – Не потеряй смотри. У меня еще одна есть, но эта мне понадобится, когда я вернусь. Молчи, стой здесь и никуда не уходи.
Все произошло очень быстро. Ханна сжала мое плечо, сразу отпустила и двинулась в ту же сторону, где исчезло то существо; мне хотелось верить, что это медведь или, например, кабан – самое распространенное дикое животное, способное развивать скорость до сорока миль в час и обглодать человека до костей быстрее, чем водитель-дальнобойщик съедает куриное крылышко. Но в глубине души я знала, что это не животное. Рядом с нами, совсем близко, находится человек – то, что зоолог Барт Стюарт в книге «Звери» (1998) называет «самым страшным из хищников».
– Подождите!
Мне как будто сдавило грудь, выжимая сердце в горло, словно зубную пасту из тюбика. Я побежала за Ханной:
– Куда вы?
– Я сказала, стой здесь!
От ее жесткого голоса я разом остановилась.
– Наверняка это Чарльз, – чуть мягче добавила Ханна. – Ты же знаешь, он вечно ревнует. Не бойся!
Ее лицо было серьезно, хоть на нем и трепетала крохотная улыбка, будто ночной мотылек в темноте. Ясно же, она сама не верит в то, что говорит.
Ханна поцеловала меня в щеку:
– Пять минут подожди, хорошо?
У меня в голове метались слова, просились на язык. Но я промолчала. Я отпустила ее.
– Ханна?
Имя вырвалось тоненьким скулежом через минуту-другую. Еще не затихли ее шаги, и вдруг на меня обрушилось понимание, что я осталась одна среди равнодушных джунглей, им и дела нет, что я здесь умру, дрожащая, потерянная, стану лишней циферкой в сводке полицейских новостей. В местной газете напечатают мою фотографию из общего снимка класса (надеюсь, возьмут не ту, что из школы города Ламего). А потом газету с заметкой обо мне пустят на макулатуру, переработают и сделают из нее туалетную бумагу – или просто изорвут для кошачьего лотка.
Я звала Ханну еще раза три или четыре. Ответа не услышала. А скоро и шаги затихли.
Долго ли я ждала – не знаю.
Мне казалось, много часов, но о рассвете не было и речи, так что, наверное, прошло минут пятнадцать. Как ни странно, больше всего меня мучило, что я не могу определить время. Теперь я поняла то, что пишет осужденный убийца Шарп Зулетт в своей на удивление бойко изложенной автобиографии «Жизнь в яме» (1980) (напрасно я ее раньше считала излишне мелодраматичной). «В блошиной яме – так называется неосвещаемая камера четыре на девять футов в Ламгете, федеральной тюрьме особого режима поблизости от Хартфорда, – приходится выпустить из рук спасательный канат Времени и свободно парить в темноте, сжиться с ней, иначе сойдешь с ума. Черти начнут мерещиться. Один тип сам себе вырвал глаз после того, как два дня просидел в блошиной яме» (стр. 131).
Я очень старалась сжиться с темнотой. Одиночество давило, как свинцовый фартук, который надевают на тебя, когда делают рентген. Я села прямо на землю, усыпанную колючими сосновыми иголками, и очень скоро поняла, что не могу пошевелиться. Иногда мне казалось, что я слышу долгожданные шаги Ханны, но это всего лишь деревья хлопали в ладоши на ветру, словно в оркестре играют на тарелках.
Если я слышала особенно пугающий, ни на что не похожий звук, то говорила себе, что это просто допплеровский эффект, или теория хаоса, или принцип неопределенности Гейзенберга для частного случая – когда человек заблудился в темноте. Я, наверное, тысячу раз повторила мысленно принцип неопределенности Гейзенберга: произведение неопределенностей координат и импульса частиц (в выбранном направлении) не может быть меньше постоянной Планка h, деленной на 471. Это радует, поскольку мои неизвестные координаты и нулевой импульс, а также неизвестные координаты и импульс Неведомого Зверя, Издающего Загадочные Звуки, взаимно нейтрализуют друг друга, и я, таким образом, пребываю в состоянии, которое в науке принято называть «высокой степенью размытости».
Когда человек целый час (опять-таки приблизительно) находится в состоянии ужаса и беспомощности, страх становится его частью, словно еще одна рука. Ты больше не замечаешь своего страха. Представляешь себе, что сделали бы на твоем месте другие – те, кто, как говорится, никогда и бровью не ведут. Стараешься им подражать по мере сил.
В конце своего семинара «Игра в лишний стул. Выживание в трудных ситуациях» в Университете Оклахомы во Флитче папа сказал, что в критическую минуту один-два человека ведут себя как герои, несколько человек – как злодеи, остальные – как дураки. «Постарайся не превратиться в слюнявого идиота, парализованного желанием просто умереть, быстро и без мучений. Они сворачиваются клубком, как опоссум. Решай, кто ты: человек или мелкая зверушка? Есть в тебе мужество? Способен ты по-настоящему понять слова „Не уходи безропотно во тьму“?[398] Если ты настоящий человек, а не просто пенопластовая набивка, фарш для индейки к празднику, садовое удобрение – ты должен бороться! Борись! Сражайся за то, во что веришь!»
(На слове «борись» папа ударил кулаком по кафедре.)
Я встала, с трудом разогнув колени. Включила фонарик. Слабенький свет был мне противен. Как будто я подглядываю за оргией деревьев – их нагие тела теснятся, едва прикрывшись. Постепенно, шажок за шажком, я двинулась в том направлении, где, как мне казалось, исчезла Ханна. Следуя за лучом фонарика, я играла сама с собой в игру, как будто понарошку направляю его не я, а Бог (с помощью двух-трех скучающих ангелов) – не потому, что Он выделил меня из всех, кто сейчас бедствует на земле, а просто потому, что заняться больше нечем; божественный радар нынче ночью не показывает нигде особых катаклизмов и вспышек геноцида.
Время от времени я останавливалась и прислушивалась, отгоняя мрачные мысли, что вот сейчас меня догонит, изнасилует и убьет злобный бродяга с острыми зубами и бочкообразным туловищем и закончится моя жизнь печальным вопросительным знаком в духе Вайолет Мартинес. Лучше сосредоточиться на ламинированной карте, которую дала мне Ханна, с надписью вверху: «Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс» (и чуть ниже скромным мелким шрифтом: «Отпечатано на средства фонда „Друзья Смоки-Маунтинс“»). Очень подробная карта, где рельеф местности обозначен пятнами разного цвета в зависимости от высоты. «Кедровое ущелье», читала я, «Туристический центр Гетлинберг», «гора Хэтчер», «Долина Притти-Холлоу», «6 592 фута над уровнем моря». Поскольку я не знала, где нахожусь, могла бы с таким же успехом рассматривать страничку из детской книжки «Где Уолли?»[399] (Хендфорд, 1987). Тем не менее я внимательнейшим образом изучала все завитушки на карте, симпатичный шрифт «Таймс-нью-роман», чопорные «Условные обозначения» – все они как будто ласково гладили меня по головке, уверяя, что в окружающей тьме существует некий порядок и что вот это маячащее во мраке дерево без рук, без ног, без головы тоже обозначено на карте крохотной точечкой, вот здесь. Всего лишь нужно исхитриться и соединить одно с другим, и тогда ночь отступит, распадется на салатно-зеленые квадратики и я по ним бодренько – А3, Б1, Д2 – прибегу домой, к папе.
Еще я невольно вспоминала историю, рассказанную Ханной осенью, – тот случай в Адирондакских горах, когда она спасла жизнь человеку, который повредил себе бедро. Ханна тогда, по ее словам, «бежала, бежала» и набрела на туристов, а у них была при себе рация. Может, я тоже найду таких туристов, подбадривала я себя; кто знает, вдруг туристы и рация прямо вот тут, за поворотом. Но я шла все дальше, деревья толпились вокруг, словно заключенные, дожидающиеся кормежки, и постепенно становилось ясно, что найти туристов и рацию для меня так же вероятно, как увидеть посреди леса новенький джип с полным баком и ключами в замке зажигания. Никого и ничего здесь не было, только я, и шуршащие ветки, и зыбкая темнота. И что всякие борцы за экологию жалуются, будто бы природу истребляют? Здесь природы слишком даже много. Давно пора прийти и вырубить ее под корень, понаставить автостоянок и киосков с пончиками, чтобы все было голо, заасфальтировано и ярко освещено. В такой чудесной обстановке тени не шарахаются и не корчатся у тебя за спиной, а тянутся ровненькими четкими линиями; хоть бери транспортир да измеряй, под каким углом к траектории движения они расположены, – ровно тридцать градусов.
Я шла, наверное, около часа, цепляясь за утлые плотики мыслей, чтобы не потонуть окончательно, – и тут услышала звук. Такой ритмичный и уверенный, что просмоленный тьмою мир притих, словно грешники в храме. Я замерла, стараясь не дышать. Похоже, как будто ребенок на качелях качается. («Ребенок на качелях» – образ из фильма ужасов, но поначалу звук совсем не казался страшным.) И хотя такая картинка вопиюще противоречила логике и здравому смыслу, я двинулась на звук.
Иногда он затихал, и я думала, уж не померещилось ли, однако вскоре слышала его снова. Луч фонарика расталкивал деревья в стороны, а я старалась представить, что там такое может быть, старалась не бояться, а быть сильной и прагматичной, как папа. Следовать его Теории Целеустремленности. Я ловила себя на том, что подражаю миз Гершон, преподавательнице углубленной физики: если ей на уроке задавали вопрос, она не отвечала прямо, а молча выписывала на доске от пяти до семи пунктов, которые вместе составляли ответ. При этом всегда стояла под углом в сорок пять градусов к доске, потому что стеснялась показывать классу свой вид сзади. Внимательному наблюдателю этот ракурс многое мог сообщить о миз Памеле Гершон по прозвищу ПМС: поредевшие волосы на затылке, бежевые штаны, словно обвисшая вторая кожа, задница приплюснутая, как воскресная шляпка, на которую кто-то сел. Миз Гершон, будь она здесь, четко расписала бы на доске всю доступную информацию о загадочном ребенке на качелях. Вверху вывела бы тему урока (приподнимаясь на цыпочки и высоко подняв руку над головой, как будто собиралась заняться скалолазанием): «Появление ребенка на качелях в районе сплошного леса. Семь общих соображений из области теоретической физики». Пункт первый был бы таким: «С точки зрения атомного строения вещества как ребенок, так и качели состоят из микроскопических движущихся частиц», а последний: «С точки зрения специальной теории относительности если бы у ребенка на качелях был близнец и этот близнец отправился в полет на космическом корабле, движущемся со скоростью, близкой к световой, то по возвращении на Землю близнец оказался бы младше, чем ребенок на качелях».
Еще шаг… Звук стал заметно громче. Передо мной открылась полянка, выстланная опавшей хвоей. У самых ног дрожали хрупкие кустики. Я повернулась, желтый круг от фонарика покатился, как шарик рулетки, пробежался по стволам деревьев и вдруг замер.
Она висела ошеломляюще близко, в трех футах над землей, шею стягивал ярко-оранжевый шнур. Изо рта торчал вздувшийся язык. В свете фонарика блеснули огромные глаза и зеленые клетки на рубашке. А лицо, распухшее, с непередаваемым выражением… Нечеловечески отвратительно. До сих пор не пойму, как я ее узнала. Это была не Ханна, это было нечто чудовищное, противоестественное. Никакие энциклопедии и учебники не могут подготовить к такому.
И все-таки это была Ханна.
Что происходило потом, надежно заперто в сверхпрочной тюремной камере Памяти («Психологическая травма очевидца», – объяснила позднее сержант следственного отдела Файонетт Харпер). Сколько ночей я пролежала без сна, старалась изо всех сил, но так и не смогла вспомнить, как кричала, как бежала и падала, чем-то распорола себе левую коленку – потом пришлось наложить три шва. Не помню, как потеряла карту, а ведь Ханна велела обязательно ее беречь. Несколько раз повторила это сухим шепотом, как будто по щеке провели краем бумаги.
Меня нашли на следующее утро, приблизительно в 6:45, некто Джон Ричардс, сорока одного года, и его сын Ричи, шестнадцати лет, – они собирались ловить форель. Я сорвала горло, даже шептать не могла. Все лицо и руки были сплошь облеплены грязью и сосновыми иголками и еще немножко моей кровью. Эти рыбаки говорили папе, что, когда меня увидели (недалеко от Форкриджской тропы, в девяти милях от вершины Сахарная Голова), я сидела под деревом, стискивая в руке угасающий фонарик, и смотрела в пространство бессмысленным взглядом. Они поначалу приняли меня за какое-то лесное чудище.
Глава 23. «Над кукушкиным гнездом», Кен Кизи
Открыв глаза, я обнаружила, что лежу на больничной койке, огороженной со всех сторон ширмами. Я хотела заговорить, но получился только хрип. Белое байковое одеяло укрывало меня от подбородка до зеленых шерстяных носков. На мне была голубая застиранная больничная пижама в корабликах, левая коленка обмотана эластичным бинтом. Со всех сторон морзянкой неслись обыкновенные больничные звуки – попискивание приборов, телефонные звонки, звяканье медицинских инструментов. По интеркому просили доктора Булларда взять трубку на второй линии. Кто-то рассказывал, как ездил недавно с женой во Флориду. В сгибе левого локтя у меня был прилеплены квадратик марли с иголкой (словно комарик); тонкая трубочка тянулась от иголки к висящему надо мной пакету с прозрачной жидкостью (рождественская омела). Голова у меня… нет, все тело ощущалось легким, как воздушный шарик, наполненный гелием.
Слева качнулась мятно-зеленая занавеска. Вошла медсестра и задернула занавеску за собой. Плавно, будто на роликах, приблизилась ко мне.
– Очнулась! – объявила медсестра. – Как ты себя чувствуешь? Есть хочешь? Не пробуй разговаривать! Погоди-ка, я сменю раствор и позову доктора.
Она заменила пакет с жидкостью для капельницы и укатилась.
Я начала различать запахи – пахло резиновыми перчатками и спиртом. Я стала рассматривать потолок: на белых прямоугольниках темные крапинки, похоже на ванильное мороженое. Кто-то спрашивал, где костыли Джонсона.
– Когда он поступил, на них ярлык с именем приклеили!
Смеялась какая-то женщина.
– Пять лет женаты. Секрет в том, чтобы каждый день вести себя, как будто на первом свидании.
– Дети есть?
– Мы стараемся…
Вновь качнулась занавеска, и появился доктор – невысокий, загорелый, тоненький, как девочка, волосы черные как вороново крыло. На шее пропуск в пластиковом футлярчике, с зернистой фотографией доктора, штрихкодом и надписью: «ТОМАС С. СМАРТ, отделение неотложной помощи». Просторный белый халат развевался на ходу.
– Ну, как мы себя чувствуем?
Я попробовала заговорить – вместо «хорошо» получился такой звук, словно на подгорелый гренок намазывают варенье. Доктор кивнул понимающе, как будто услышал знакомый ему иностранный язык. Что-то бегло записал в планшете, потом велел мне сесть и дышать глубже, а сам начал прикладывать к моей спине холодный стетоскоп.
– Неплохо, неплохо, – сказал наконец доктор с усталой неискренней улыбкой.
Взметнулись белыми крыльями полы халата – доктор исчез. Я снова стала рассматривать унылую светло-зеленую занавеску. Если мимо кто-нибудь проходил, она трепыхалась, будто в испуге. Зазвонил телефон, кто-то торопливо ответил. По коридору провезли каталку: скрипучие колесики попискивали по-цыплячьи.
– Я все понимаю, сэр. У нее сильное переутомление, переохлаждения нет, но есть обезвоживание, глубокая ссадина на колене, множество мелких ссадин и царапин. Также у нее, очевидно, шок. Лучше бы оставить ее здесь еще на пару часов. Пусть поест, а там посмотрим. Для колена выпишем обезболивающее. Также легкое успокоительное. Швы рассосутся через неделю.
– Вы меня не слушаете! Я не о швах спрашиваю, я хочу знать, что ей пришлось пережить.
– Мы не знаем. Администрацию заповедника поставили в известность. Спасатели…
– Плевал я на спасателей!
– Но, сэр…
– Нечего мне тут «сэр»! Я хочу видеть свою дочь! Я требую, чтобы вы ее накормили и подобрали ей нормальную медсестру, а не какую-нибудь морскую свинку, которая, глазом не моргнув, заразит ребенка какой-нибудь инфекцией и в гроб сведет! Девочке нужно домой, отдыхать и восстанавливать силы, а не переживать заново нападение какого-то урода, какого-то клоуна, который еще и школу-то не закончил, и все потому, что убогим полицейским профессионализма не хватает самим раскрыть дело!
– Видите ли, сэр, стандартная процедура в случае подобных неприятностей…
– Неприятностей?! Это клюквенный кисель на белый ковер пролить – неприятность! Сережку из уха выронить, вашу мать, неприятность!
– Она будет с ним разговаривать, только если ее самочувствие позволит. Я за этим прослежу.
– Да уж постарайтесь, доктор… Как там у вас написано? Доктор Томас? Том Смартс?
– Вообще-то, без второго «с».
– Это у вас что, псевдоним?[400]
Я сползла с кровати и осторожно, чтобы не выдернуть трубки, прикрепленные к моей руке и к груди, подошла к занавеске. Кровать нехотя покатилась за мной на колесиках. Я выглянула в щелку.
В центре отделения неотложки, рядом с белой шестиугольной стойкой регистратуры стоял папа в вельветовых брюках, светлые седые волосы упали на лоб – это часто случалось во время лекций, – лицо красное. Перед ним стоял доктор в белом халате и торопливо кивал, стискивая руки. Слева, за стойкой, сидела медсестра с кудряшками, а рядом с ней верная подруга в оранжевой губной помаде, и обе глаз не сводили с папы. Одна прижимала к розовой шейке телефонную трубку, другая делала вид, будто внимательно читает записи в журнале.
– Папа, – проскрипела я.
Он сразу услышал. Глаза у него широко раскрылись.
– Господи боже, – сказал папа.
* * *
Как выяснилось, пока Джон Ричард и его сын тащили меня, точно сказочную принцессу, полмили до своего пикапа, я трепалась без умолку – устроила настоящее ток-шоу, хоть абсолютно этого не помню. (Белый халат очень доступно объяснил, что по части памяти «возможно все, что угодно», как будто я всего лишь головой ударилась.)
Голосом, полным энергии, но в то же время слегка обугленным по краям (именно так я представляю себе человека, убитого молнией приблизительно в сто миллионов вольт), с расширенными зрачками и частыми паузами, я назвала свое имя, адрес и номер телефона, сообщила, что мы с одноклассниками отправились в поход по национальному парку Грейт-Смоки-Маунтинс и что в походе случилось плохое (да, именно это слово я и употребила – «плохое»). На прямые вопросы не отвечала и не смогла рассказать, что конкретно я видела, только повторяла «ее с нами больше нет», все сорок пять минут, что мы ехали до окружной больницы.
Эта подробность окончательно выбила меня из колеи. «Ее с нами больше нет» – слова зловещей детской песенки, я ее выучила в пятилетнем возрасте, в детском садике мисс Джетти в Оксфорде, штат Миссисипи. Мы с папой часто ее распевали в дороге. Песня была на известный мотив «Моя дорогая Клементина»: «Наша крошка утонула, ее с нами больше нет, уплыла она в Марокко и оттуда шлет привет».
(Папа все это узнал, пока общался возле приемного покоя с моими двумя рыцарями в сверкающих доспехах. И хотя они ушли до того, как я очнулась, мы с папой позже отправили им открытку с благодарностью и на триста долларов новенького рыбацкого снаряжения, закупленного наугад в магазине «Рыболов-любитель».)
Благодаря моему странному приступу болтливости папу сразу же вызвали в больницу, а также оповестили дежурного сотрудника охраны в заповеднике, и этот Рой Уизерс немедленно организовал поисковую операцию. А из полицейского участка прислали сотрудника по имени Джерард Коксли побеседовать со мной.
Папа сказал:
– Я уже договорился, тебе ни с кем не нужно встречаться.
Снова я оказалась на больничной кровати за мятно-зеленой занавеской, запеленутая в байковые одеяла, точно мумия, стараясь скрюченной рукой донести до рта сэндвич с индейкой и шоколадное печеньице – Оранжевая Помада принесла их мне из буфета. Голова моя ощущалась как разноцветный воздушный шар из классического фильма «Вокруг света за восемьдесят дней». Я могла только рассматривать занавеску, жевать, глотать и прихлебывать кофе, который принесла Кудряшка по специальному папиному распоряжению («Синь любит кофе с обезжиренным молоком, без сахара. А мне черный»).
Смотрим, жуем, глотаем. Смотрим, жуем, глотаем. Папа сидел возле кровати.
– Ты скоро поправишься. Молодец у меня дочка, ничего не боится! Через час поедем домой, отдохнешь – будешь как новенькая.
Я понимала, что папа бодрым труменским голосом с кеннедиобразной улыбкой повторяет эти воодушевляющие фразы больше для себя, чем для меня. А я не волновалась – меня через капельницу накачали успокоительным, и я не очень понимала, почему он такой взвинченный. Объясняю: я ведь не сказала папе, что иду в поход. Наврала, будто проведу выходные в гостях у Джейд. Мне не хотелось его обманывать, особенно ввиду его нового подхода к отцовским обязанностям в духе «Макдональдс» (Мы всегда открыты и рады обслужить!), но папа презирал все виды активного отдыха: турпоходы, катание на лыжах, на горных велосипедах, на парапланах, а еще больше он презирал тех «скудоумных зануд», что ими увлекаются. У папы не было ни малейшей тяги к лесу, океану, горам и разреженному воздуху, о чем он весьма подробно рассказал в своей статье «Мир природы и человеческая гордыня», опубликованной в ныне забытом издании 1982 года «Здравомыслие-пресс».
Вот, например, четырнадцатый раздел, под названием «Комплекс громовержца»: «Человек в своем эгоцентризме стремится ощутить вкус бессмертия посредством физических свершений и очертя голову рискует жизнью, лишь бы испытать эгоистическое чувство „победы“. Чувство это ложно и недолговечно, ибо власть природы над человеком абсолютна. Будем откровенны: человеку не место в условиях на грани выживания, поскольку он слабее мухи. Только в труде, в работе, в строительстве и управлении человек обретает смысл жизни, и незачем одурманивать себя, словно наркотиком, карабкаясь на Эверест без кислородной маски и едва не погубив себя и несчастного проводника-шерпа, которому приходится тащить на себе незадачливого героя».
Вот из-за четырнадцатого раздела я и не сказала папе правду. Он бы ни за что меня не пустил. Я и сама не очень-то рвалась в этот поход, но я не хотела, чтобы все наши отправились туда без меня и пережили нечто крышесносное (не знала я, насколько это будет крышесносно).
– Я тобой горжусь! – сказал папа.
А я могла только просипеть:
– Пап…
Я кое-как дотянулась до его руки, и рука ответила на прикосновение, как чуткая мимоза, только наоборот – раскрылась мне навстречу.
– Все будет хорошо, мое облачко! Ухом не моргнешь, как поправишься!
– Глазом, – выдавила я.
– Глазом не моргнешь.
– Честно?
– Конечно!
Через час мой голос начал понемножку возвращаться. Новая медсестра, Суровый Взор (похищенная Белым Халатом с другого этажа, лишь бы умилостивить папу), измерила мне пульс и давление («В норме», – промолвила она и надменно удалилась).
Хотя мне было вполне уютно под яркими лампами, среди мирных больничных звуков вроде тех, что слышишь, когда плаваешь в море с аквалангом, постепенно в голове зашевелились воспоминания о вчерашнем. Попивая кофе, я вполуха слушала сердитое бурчание старичка по ту сторону занавески, приходящего в себя после приступа астмы («Что меня тут держат? Мне домой надо, собаку покормить». – «Мистер Эльфинстоун, еще всего полчасика»), и вдруг передо мной возникла Ханна – слава богу, не такая, какой я ее увидела ночью. Она просто сидела за столом у себя дома, слушала наши разговоры, курила, наклонив голову к плечу, потом безжалостно раздавила сигарету в тарелке из-под хлеба. Она при мне два раза так делала. Еще вдруг вспомнились подошвы ее босых ног – мелкая подробность, ее мало кто замечал: иногда они бывали совсем черные и потрескавшиеся, как асфальт.
– Радость моя, что с тобой?
Я сказала папе, что хочу поговорить с полицейским. Папа неохотно согласился, и через двадцать минут я уже рассказывала инспектору Коксли все, что могла припомнить.
Инспектор Джерард Коксли больше трех часов терпеливо дожидался в коридоре: болтал с дежурной сестрой и выздоравливающими пациентами, пил пепси и «так истово читал журнал для мотоциклистов, что я сразу понял – там зашифрованы его тайные инструкции», брезгливо сообщил папа. Впрочем, терпение, достойное натюрморта, как я поняла, было одной из главных особенностей Джерарда Коксли (см. «Искусственные фрукты, сухофрукты и цитрусы», Своллум, 1982).
Суровый Взор принесла синий пластиковый стульчик, на него долговязый инспектор и уселся, по-женски закинув ногу на ногу. Пристроив на коленке потрепанный зеленый блокнот, он начал делать записи. Писал он левой рукой, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, с той же скоростью, с какой из яблочного семечка вырастает яблонька.
Хорошо за сорок, с растрепанными каштановыми волосами и сонным взглядом пляжного спасателя в самом конце августа, инспектор Коксли был человек немногословный. Папа маячил тенью за его плечом, а я, откинувшись на кучу подушек, старалась рассказать ему все сразу. И что? Едва я заканчивала длинное составное предложение, переполненное важнейшими подробностями, мучительно извлеченными из тьмы прошлого, сейчас уже казавшегося нереальным, кадрами старого фильма со спецэффектами и ненатуральным гримом, – после всего этого инспектор Коксли записывал всего одно слово. В самом крайнем случае – два.
«СЕНТ-ГОЛУЭЙ» 6 ШКОЛЬНИКОВ УЧИТЕЛЬНИЦА ХАНА ШНАЙДЕР МЕРТВА? САХАРНАЯ ГОЛОВА ВАЙОЛЕТ МАРТИНЕС
Этот человек мог бы из диккенсовского романа сделать хокку.
– Осталось всего несколько вопросов, – сказал он, разглядывая свои записи в стиле поэзии э. э. каммингса.[401]
– Когда она подошла ко мне в лесу, у нее была такая кожаная сумка на ремне, а раньше не было. Понимаете?
– Само собой.
СУМКА
– А тот человек, который за нами следил, – мне кажется, это мужчина, но точно сказать не могу. Он был в очках. Найджел из нашей компании тоже носит очки, но в лесу был не он. Он худенький, и очки у него крошечные, а тот человек был крупный, и очки тоже большие. Как донышки от бутылок.
– Ясно.
БУТЫЛКИ
– Еще раз – Ханна что-то хотела мне рассказать.
Коксли кивнул.
– Поэтому она позвала меня отойти от костра и от палаток. А рассказать так и не успела. Мы услышали того человека, и Ханна пошла за ним.
К этому времени голос у меня опять пропал, но я упрямо сипела дальше, стараясь не замечать, как хмурится папа.
– Я понял, понял.
СТОЯНКА С ПАЛАТКАМИ
Инспектор выгнул мохнатую, как рамбутан, бровь, улыбаясь, будто в жизни не встречал такого уникального свидетеля. По всей вероятности, так оно и было. Боюсь, обычно беседы инспектора Коксли со свидетелями касались не убийства или хотя бы кражи со взломом, а банального нарушения правил дорожного движения. Свой пятый вопрос он задал так безмятежно, что я буквально воочью увидела листок бумаги, озаглавленный «СТАНДАРТНЫЙ ОПРОСНИК ДЛЯ СВИДЕТЕЛЕЙ», прикнопленный к доске объявлений в полицейском участке, рядом с подписным листком «52-го еженедельного круглого стола, посвященного угону автомобилей» и «Уголка знакомств», где холостые и незамужние сотрудники полиции размещают объявления о знакомстве объемом не больше двадцати восьми слов.
– Ты не заметила каких-либо нарушений на месте происшествия?
По-моему, он надеялся, что я отвечу: «Неработающий светофор» или «Густая листва заслоняла знак парковки».
– Их уже нашли? – спросила я. – Хоть кого-нибудь?
– Мы над этим работаем, – сказал инспектор.
– А Ханну?
– Я же говорю, работа ведется. – Он провел толстым, как бобовый стручок, пальцем по странице блокнота. – Так что ты можешь рассказать о своих взаимоотношениях…
– Она была учительницей у нас в школе. В «Сент-Голуэе». Но на самом деле – гораздо больше. Она была мне другом.
Я остановилась перевести дух.
– Ты сейчас говоришь о…
– О Ханне Шнайдер. В ее фамилии есть буква «эн».
– А, да.
– Для ясности – это ее я увидела…
– Понял, – кивнул инспектор и записал в блокноте: «ДРУГ».
Тут папа, видимо, решил, что с меня хватит. Он уставился на Коксли в упор, а потом, будто что-то решив, поднялся на ноги (см. «Пикассо наслаждается жизнью в парижском кабаре „Проворный кролик“» в кн. «Уважая дьявола»[402], Херст, 1984, стр. 148).
– Я думаю, Пуаро, вы собрали все необходимые сведения, – сказал папа. – Очень методично. Впечатляет.
– Что такое? – нахмурился инспектор Коксли.
– Вы внушили мне огромное уважение к органам охраны правопорядка. Давно трудитесь, Холмс? Десять, двенадцать лет?
– А-а… Почти восемнадцать.
Папа кивнул:
– Впечатляет! Обожаю ваш служебный жаргон – опер, наружка, убойный отдел… Это так называется? Вы уж меня простите, я слишком насмотрелся «Коломбо». Иногда жалею, что выбрал другую профессию. Позвольте спросить: а вы как стали полицейским?
– Вслед за отцом.
– О, ваш отец работал в полиции? Восхитительно!
– И его отец тоже. Несколько поколений.
– Я считаю, напрасно молодежь не идет работать в органы. Одаренные дети выбирают престижную профессию, а разве это им приносит счастье? Ох, вряд ли! Нам нужны умные люди, крепкие. Чтобы голова соображала.
– И я то же самое говорю!
– Да что вы?
– У моего давнего друга сын переехал в Брайсон-Сити. Работал банкиром, ненавидел свою работу. Вернулся, я его взял к себе. Говорит, никогда в жизни не был так счастлив. Но тут особый человек должен быть. Тут не всякий…
– Конечно не всякий! – подхватил папа.
– Мой двоюродный брат не выдержал. Нервы подвели.
– Могу себе представить!
– Я сразу вижу, продержится или нет.
– Серьезно?
– Конечно. Одного взял, из округа Слудер. У нас все считали, отличный парень. А я – нет. По глазам увидел – не то. Через два месяца он удрал с женой одного хорошего человека из нашего следственного отдела.
– Не угадаешь ведь, – вздохнул папа, глядя на часы. – Я бы рад еще поговорить, но…
– Э-э…
– Доктор здесь, говорят, очень хороший. Он считает, что Синь лучше вернуться поскорее домой и отдыхать, пока не восстановится голос. Будем очень ждать новостей об остальных ребятах! Уверен, мы в надежных руках.
– Спасибо.
Коксли тоже встал, и они с папой обменялись рукопожатием.
– Это вам спасибо! Если будут еще вопросы, звоните. У вас ведь есть наш номер телефона?
– Э-э… Есть.
– Замечательно! Если мы чем-нибудь сможем помочь, только дайте знать.
– Конечно. Всего вам хорошего!
– И вам всего наилучшего, Марлоу!
Инспектор толком не успел понять, что происходит, – даже я не успела толком понять, что происходит, а инспектор Коксли уже ушел.
Глава 24. «Сто лет одиночества», Габриэль Гарсиа Маркес
Если ты испытал тяжелое впечатление – нечаянно увидел мертвеца, – внутри у тебя происходит непоправимый сбой. Маленькая техническая неполадка где-нибудь в мозгу или в нервной системе.
Кого миновала такая неприятность, попробуйте представить себе вот что: самая быстрая птица в мире, сокол-сапсан (Falco peregrinus) во всем своем великолепии мчится с небес к ничего не подозревающему голубю на скорости более двухсот пятидесяти миль в час, и вдруг, за пару секунд до того, как закогтить добычу, сокол чувствует головокружение, сбивается с курса, входит в штопор, «противник заходит с юга», «бинго, Скиталец убит»[403], еле-еле выравнивается, набирает высоту и, ошеломленный, планирует на ближайшее дерево – осмотреться и прийти в себя. Сокол цел и невредим, но весь остаток жизни (общей продолжительностью от двенадцати до пятнадцати лет) он уже не сможет больше пикировать настолько же стремительно и безоглядно, как все прочие сапсаны. Центр равновесия у него чуточку сбит, и это уже навсегда.
С точки зрения биологии для такой, пусть крохотной, но невосполнимой ущербности нет никаких оснований. Рассмотрим случай муравья-древоточца: наткнувшись на мертвого сородича, он даст ему полежать спокойно от пятнадцати до тридцати секунд, а потом вытащит безжизненное тело из гнезда и выбросит в общую кучу отходов, состоящую из песка и пыли (см. «Все мои дети. Откровенные признания муравьиной царицы», Стронг, 1989, стр. 21). Млекопитающие тоже воспринимают смерть весьма обыденно. Тигрица до последнего защищает своих детенышей от постороннего самца, но после того, как они убиты, «встряхнувшись, без колебаний спаривается с ним» (см. «Прайд», Стивенс-Харт, 1992, стр. 112). Приматы умеют горевать, – «нет скорби глубже, чем горе шимпанзе», утверждает Джим Гарри в своей книге «Создатели орудий» (1980), – но скорбят они только о ближайших родственниках. Известны случаи, когда самцы шимпанзе без всякой видимой причины убивали не только соперников, но и детенышей, и больных или слабых членов своей или чужой стаи, а иногда и поедали их (стр. 108).
А я не могла, как ни старалась, подражать хладнокровию животного царства. У меня началась бессонница. Не та милая романтическая бессонница, когда влюбленная девушка всю ночь напролет ждет не дождется утра и тайной встречи с возлюбленным в укромной беседке, а мучительная, липкая бессонница, когда вертишься в постели и подушка постепенно обретает твердость деревянной доски, а простыни, промокнув от пота, хлюпают, как болотистая почва в национальном парке Эверглейдс во Флориде.
В первую ночь после больницы ни Ханну, ни Джейд с компанией еще не нашли. Дождь бесконечно барабанил по окнам, а я смотрела в потолок, испытывая непривычное ощущение в груди – как будто там пусто и вот-вот что-то проломится, как старый асфальт на дороге. В голову лезли тупиковые мысли. Самая настырная – мечта кинопродюсера: всепоглощающее, хотя совершенно бесполезное желание смыть к чертям последние сорок восемь часов своей жизни, уволить режиссера (потому что он явно не соображает, что делает) и переснять весь фильм заново, основательно подправив сценарий и пригласив на главные роли других актеров. Было противно, что я тут сижу в уюте и безопасности, в шерстяных носках и синей фланелевой пижаме, купленной в детском отделе универмага «Стикли». Противна даже чашка чая «Апельсиновый цвет», которую папа поставил на самый угол прикроватного столика (чашка с надписью «Хороша ложка к обеду» торчала на столике, как волдырь на ровном месте). Я стыдилась своего чудесного спасения, как стыдятся беззубого дальнего родственника, который брызгает слюной при разговоре. Я не хотела быть единственной выжившей, как Отто Франк, как Анастасия, как Кудряшка, как Тревор Рис-Джонс[404]. Я хотела вместе с нашими переживать все несчастья.
В таком состоянии душевного раздрая неудивительно, что я на все десять дней весенних каникул поддалась мрачной болезненной влюбленности, которая не приносила мне ни капли счастья.
Моя равнодушная и ветреная возлюбленная – двуполое двухголовое существо, известное под именем «Программа местных новостей, Новости-13». Я смотрела ее три раза в день («Утренние новости» в пять, «Новости» в час дня и «Вечерние новости» в 23:00), но все двадцать четыре часа в сутки голова моя была заполнена ее рассказами, ее пиджаками с подплечниками, ее шуточками и рекламными паузами (не говоря уже о вечном закате на заднем плане). Я не могла есть, даже и не пыталась уснуть, не отсмотрев дополнительные выпуски в 6:30, 9:00, в полдень и в 12:30.
Как и всякий роман, отношения наши начались с больших надежд.
– А теперь – местные новости, – сказала Черри Джеффрис, вся в розовом, точно баночка таблеток от изжоги, с карими глазами и скупой улыбкой, как будто поперек лица натянули аптечную резинку. Шапка густых белокурых волос плотно сидела на голове, как колпачок на шариковой ручке. – Этот детский сад называется «Солнышко», но Департамент общественной безопасности желает, чтобы солнышко поскорее закатилось, поскольку уже не раз поступали жалобы на жестокое обращение с детьми в данном учреждении.
– Владельцы ресторанов протестуют против решения муниципалитета об очередном повышении налогов, – прочирикал Норвел Оуэн.
Единственная приметная особенность Норвела – типично мужская плешь, по форме напоминающая узор швов на бейсбольном мяче. Также примечателен был его галстук с узором из устриц, мидий и прочих моллюсков.
– И наконец, сегодня мы поговорим о том, как можно развлечься в нашем городе в этот субботний вечер. Все это и многое другое вы услышите в сегодняшнем выпуске новостей.
Над плечом Черри, словно внезапное озарение, вспыхнул зеленый квадрат с надписью: «ПОИСК».
– Но вначале наша главная тема! – объявила Черри. – Продолжаются поиски пятерых школьников и учительницы, пропавших в национальном парке «Грейт-Смоки-Маунтинс». Администрацию заповедника оповестили о случившемся сегодня утром, после того как житель округа Янси обнаружил неподалеку от шоссе четыреста сорок один шестую школьницу. Девочка целую ночь провела в лесу под открытым небом. Ее доставили в местную больницу и позднее выписали. Врачи говорят, что ее состояние стабильно. Шериф округа Слудер рассказал следующее: школьники приехали в заповедник в пятницу вечером, чтобы провести здесь выходные, однако затем они потерялись. Поисковым группам приходится работать в условиях ухудшенной видимости из-за дождя, ветра и сильной облачности. По крайней мере, температура остается выше точки замерзания, поэтому рейнджеры заповедника и полиция округа Слудер надеются, что детей и учительницу удастся спасти. Мы всей душой сочувствуем семьям пропавших и желаем успеха поисковым группам!
Черри взглянула на лежащий перед ней на синем пластиковом столе чистый листок бумаги и вновь устремила взгляд в камеру.
– В Западном коневодческом центре Северной Каролины прибавление – прибыл новый пони. Сотрудники центра гарцуют от радости!
– Само собой, это не обычный пони! – подхватил Норвел. – Маккензи – представитель породы фалабелла, в холке чуть больше двух футов. Сотрудники центра сообщают, что эта разновидность миниатюрных лошадок, вывезенная из Аргентины, – одна из редчайших в мире. Желающие могут посетить центр и полюбоваться на малыша Маккензи!
– Это происходит каждый год, – опять вступила Черри. – И успех события зависит от вас!
– Далее в нашей программе: подробности акции по сбору донорской крови «Подари жизнь».
К утру воскресенья мое внезапное увлечение переросло в одержимость. И дело не только в том, что я ждала и никак не могла дождаться желанной новости – что спасатели всех нашли, что Ханна жива и здорова, а мне все померещилось со страху (как известно, страх обладает сильными галлюциногенными свойствами). Чем-то они умели зацепить зрителя, эти Черри и Норвел (я их про себя называла Чернобыль). Меня они зацепили настолько, что я, дожидаясь их второго выпуска – «Стоктонский бизнес-ланч» в 12:30, – готова была вытерпеть шесть часов разных ток-шоу (вот пример глубокомысленной темы: «От лягушонка до принца. Как мужчине сменить образ») и рекламы моющих средств с несчастными домохозяйками, у которых куча перепачканных детей и ни на что не хватает времени.
Черри старалась и все-таки не могла сдержать торжествующую улыбку, объявляя, что сегодня она будет единолично вести дневной выпуск.
– Сегодня за бизнес-ланчем у нас к столу экстренная новость! – объявила она и нахмурилась, перебирая чистые листы бумаги, хоть и видно было, что ей невероятно нравится занимать весь синий стол целиком, а не только правую половину.
Белый кант по проймам, накладным карманам и обшлагам темно-синего костюма очерчивал ее стройную фигурку, как белые линии очерчивают внезапный поворот на неосвещенной дороге. Черри моргнула, глядя в камеру, и сделала серьезное лицо.
– Женщина из округа Карлтон найдена мертвой сегодня в ходе спасательной операции в национальном парке «Грейт-Смоки-Маунтинс». Напоминаю, поиски пятерых пропавших школьников и учительницы ведутся со вчерашнего дня. У нас на связи корреспондент канала «Новости-тринадцать» Стэн Ституэлл, он сейчас находится в спасательном центре. Стэн, что говорят полицейские?
На экране появился Стэн Ституэлл. Он стоял посреди парковки. На заднем плане виднелась машина «скорой помощи». Будь Стэн вином, его аромат не назвали бы «насыщенным и глубоким»; он был бы «во фруктовой гамме, с выраженным кислотным составом и легкой вишневой ноткой». Пряди темных волос свисали ему на лоб, как мокрые шнурки от ботинок.
– Черри, полиция округа Слудер пока не обнародовала своих выводов, однако нам рассказали, что личность погибшей установлена: это Ханна Луиза Шнайдер, сорокачетырехлетняя учительница известной школы «Сент-Голуэй» в Западном Стоктоне. Поиски в заповеднике продолжаются уже более двадцати четырех часов. Нам не сообщают, в каком состоянии обнаружено тело. Всего несколько минут назад прибыли сотрудники следственных органов. Их цель – определить, идет ли речь о преступлении.
– Стэн, а что известно о судьбе пятерых школьников?
– Поиски продолжаются, невзирая на неблагоприятные погодные условия: дождь, ветер и густой туман. Час назад спасателям удалось поднять в воздух вертолет национальной гвардии, но из-за плохой видимости пришлось посадить его снова. Тем не менее за последние два часа к спасателям присоединились более двадцати пяти добровольцев. И, как видите, здесь у меня за спиной работники Красного Креста и медики из Университета Теннесси готовы оказать первую помощь и накормить пострадавших. Делается все возможное, чтобы ребята благополучно вернулись домой.
– Спасибо, Стэн! – сказала Черри. – «Новости-тринадцать» будут держать зрителей в курсе дальнейших событий.
Она снова глянула в пустой листок.
– А теперь следующий сюжет – мелочи жизни, настолько привычные, что мы о них даже не задумываемся. В рубрике «Здоровье» рассказ о том, как много времени и денег уходит на разработки совсем небольшого предмета, который мы используем дважды в день по рекомендации стоматологов. Мэри Грабб познакомит нас с историей зубной щетки.
Я досмотрела выпуск новостей до конца. О нашей поездке в горы больше не сказали ни слова. Я поймала себя на том, что невольно подмечаю Привычные Мелочи в облике Черри: как она быстро-быстро водит глазами по бегущей строке телесуфлера, как мгновенно переключается с выражения Сдержанной Печали (ограбление художественного салона) на Глубокую Скорбь (гибель ребенка на пожаре) или Проникновенное Раздумье о Проблемах Общественной Жизни (массовая драка в Маренго между участниками соревнований по мотокроссу и владельцами автотрейлеров) – словно комбинации меняет в примерочной универмага. (Сигналом к переключению, видимо, служил очередной взгляд в пустой лист бумаги на столе, вмиг стирающий предыдущее выражение, как стирается рисунок в детской игрушке «Волшебный экран».)
В понедельник я выползла из кровати в 6:30 утра, чтобы успеть к выпуску «Утренней побудки». Черри с маниакальным упорством перетягивала внимание на себя, оттесняя Норвела на задний план, будто ненужный довесок, аппендикс, лишний пакетик с солью, который в заведениях фастфуда вечно не докладывают в пакет с едой навынос. Если вообразить Норвела с пышной шевелюрой песочного цвета (вместо лысины), то можно поверить, что когда-то он был деловым и энергичным – возможно, даже напористым. Просто однажды он оказался в неподходящем месте в неподходящее время, как тот дрезденский храм в византийском стиле 13 февраля 1945 года. Черри затмила его, умело используя такие приемы, как «Визуальные эффекты в виде крупных пластмассовых серег», «Захват авансцены с помощью накрашенных глаз, подведенных сильнее, чем у трансвестита», не говоря уже об «Искусстве косвенной кастрации» (например: «Кстати, о младенцах. Норвел расскажет об открытии в округе Янси новых ясель по системе Монтессори»). В итоге от Норвела остались жалкие ошметки. Он проговаривал свою порцию новостей (о малозначащих событиях вроде выступления мэра или повседневной жизни коневодческой фермы) ломким голосом женщины, сидящей на строгой диете из ананасов и творога и дошедшей до полного истощения, так что позвонки на спине выпирают, словно гребень.
Я понимала, что Черри – опасная женщина и влюбляться в нее рискованно.
Понимала, но ничего с собой поделать не могла.
– Сегодня, на третий день поисков в национальном парке «Грейт-Смоки-Маунтинс», спасатели обнаружили живыми пятерых школьников! – сообщила Черри. – Напоминаем, что вчера была найдена мертвой учительница, Ханна Луиза Шнайдер. Корреспондент программы «Новости-тринадцать» Стэн Ституэлл ведет прямой репортаж, находясь возле окружной больницы. Стэн, какие новости?
– Черри, здесь все плакали от счастья, когда спасатели доставили в больницу пятерых школьников, пропавших в субботу. Сегодня с утра дождь прекратился и туман поредел. Специально обученные собаки взяли след возле популярной туристической стоянки «Сахарная Голова» и, преодолев более двенадцати миль, привели спасателей к детям. По сообщению полиции, школьники заблудились, пытаясь выбраться из заповедника самостоятельно. У одного мальчика сломана нога, в остальном, как уверяют медики, состояние детей стабильно. Полчаса назад они поступили в приемный покой неотложной помощи, который вы видите позади меня. Врачи обрабатывают мелкие ссадины и другие легкие травмы.
– Стэн, это замечательная новость! Что говорят полицейские о причинах смерти учительницы?
– Черри, полиция округа Слудер пока воздерживается от каких-либо комментариев по поводу погибшей. Нам сообщили только, что ведется следствие, однако никакой информации оглашено не будет, пока коронер не даст свое заключение. Это должно произойти на следующей неделе. Пока все радуются, что дети спасены. Ожидают, что их уже сегодня выпишут из больницы.
– Великолепно, Стэн! Дорогие зрители, смотрите программу «Новости-тринадцать», мы обязательно поделимся с вами любой новой информацией о трагедии в горном заповеднике.
Черри посмотрела на листок бумаги и снова в камеру.
Теперь заговорил Норвел, часто-часто моргая:
– Что это – маленькое, черненькое, без чего не следует выходить из дома? Ответ вы узнаете из нашей следующей рубрики – «Технические вопросы».
Я досмотрела весь выпуск новостей. Наконец Черри прощебетала: «Хорошего вам дня!» – и камера отъехала назад, словно мечущаяся по телестудии муха. Судя по торжествующей улыбке, Черри надеялась, что трагедия в горном заповеднике станет для нее «Пятнадцатью минутами славы» (которые, если повезет, превратятся в полчаса). Иначе говоря, билетом первого класса (с откидными сиденьями и шампанским перед взлетом). Наверное, перед ней уже открывались заманчивые перспективы, словно уходящая вдаль автострада: «Ток-шоу Черри Джеффрис. Открой душу!»; «Че-Дже» – элегантная одежда для серьезных деловых блондинок («Это уже не оксюморон!»), «Птица Черри» – аромат от Черри Джеффрис для активных женщин – и статья в «Ю-Эс-Эй Тудэй»: «Опра[405], подвинься, дай дорогу Черри!»
Взревел мотор – пошла реклама автомобиля. Я заметила, что за спиной у меня стоит папа с тяжелой кожаной сумкой на плече, набитой папками и газетами; он собирался в университет. Первый папин семинар – «Урегулирование конфликтов в развивающихся странах» – начинался в девять утра.
– Может, не стоило бы так много смотреть телевизор, – заметил папа.
– А чем заняться, – вяло спросила я.
– Отдыхать. Читать. У меня тут имеется новое издание «De Profundis»[406] с комментариями…
– Не хочу читать «De Profundis».
– Действительно. – Папа немного помолчал. – Знаешь, я могу позвонить декану Рэндаллу. Съездили бы куда-нибудь на денек. Например…
– Куда?
– Можно устроить пикник на озерах. Люди их очень хвалят. Здесь неподалеку озера, на них утки живут.
– Утки?
– И гуси. И лодки, знаешь ли.
Папа обошел вокруг дивана и встал передо мной, всем своим видом показывая, что я должна оторвать взгляд от телевизора и посмотреть на него.
А я продолжала смотреть в экран. Глаза болели, тонкий халатик цвета языка лип к ногам.
– У тебя был роман с Ханной Шнайдер? – спросила я.
Папа от потрясения сперва даже заговорить не мог.
– У меня… что?!
Я повторила вопрос.
– Как ты могла такое подумать?
– С Эвой Брюстер было – могло и с Ханной Шнайдер. Может, ты со всей школой крутил романы, только мне не говорил…
– Нет, конечно! – рявкнул папа. Перевел дух и добавил очень тихо: – У меня не было романа с Ханной Шнайдер. Послушай, радость моя, надо бороться с этими… мрачными мыслями. Они до добра не доведут. Скажи, что мне сделать? Можно переехать куда-нибудь. В Калифорнию? Ты всегда мечтала пожить в Калифорнии. Или в другой штат, куда захочешь…
Папа хватался за слова, как утопающий хватается за плавающие вокруг обломки фанеры. Я молчала.
– Ну ладно, – сказал наконец папа. – Мой рабочий телефон у тебя есть. Часам к двум заеду домой, проведаю тебя.
– Не надо меня проведывать.
– Радость моя…
– Что?
– Там для тебя макароны с сыром…
– Знаю, в холодильнике, можно разогреть на обед.
Папа вздохнул. Я глянула незаметно – вид у него был, как будто я ударила его кулаком в лицо, как будто нарисовала у него на лбу слово «СВИНЬЯ», как будто сказала: «Хоть бы ты умер!»
Он сказал:
– Если что, позвонишь?
Я кивнула.
– Хочешь, я на обратном пути прихвачу пару видео в этом, как его…
– «Видео-рай».
– Точно. Какие будут пожелания?
– «Унесенные нахрен ветром».
Папа поцеловал меня в щеку и пошел к двери.
Бывают такие минуты, когда кажется, что твоя кожа вдруг стала тонкой, как слой теста в пахлаве. Отчаянно не хочешь, чтобы кто-то уходил, но не пытаешься удержать – отпускаешь, чтобы испытать одиночество в его чистейшей форме. Как инертный газ в таблице Менделеева.
Щелкнул замок входной двери. Под затихающую вдали мелодию голубого «вольво» меня накрыло мертвенной тоской – так мебель на лето накрывают полотнищем белой ткани.
Я думаю, это был шок – реакция организма на дистресс. Джемма Слоун в своей книге о трудных детях – «Воспитать Голиафа» (1999) – на стр. 95 называет это явление довольно безотрадным термином: «защитные механизмы детской психики». Не знаю, какие уж там были психологические основания, но следующие четыре дня после того, как наших спасли (и отправили по домам, словно поврежденные бандероли, о чем любимый мой Чернобыль сообщил в очередном выпуске «Пятичасовых новостей»), я вела себя точно злобная девяностолетняя вдовица.
Остаток весенних каникул я провела в одиночестве. Папа был занят на работе. Я почти все время молчала, а если и разговаривала, то сама с собой или со своим цветным приятелем – телевизором (Чернобыль радовал несравненно, лучше какого-нибудь читающего наизусть стихи внучка). Папа, словно верный, хотя и плохооплачиваемый сторож, заглядывал время от времени – проверить, не устроила ли я пожар, не забыла ли съесть приготовленный заранее обед и не заснула ли в неудобной позе, которая может привести к искривлению позвоночника или даже к смерти. Словно опытная медсестра, папа сдерживался и не отвечал на мои выпады – а то мало ли, вдруг я совсем съеду с катушек.
Изредка, собравшись с духом, я выходила из дома. Унылый дождь, не прекращавшийся в выходные, уступил место самодовольно-радостному солнышку. Ослепительный свет, пожухлая трава – невыносимо. Я раньше не замечала, с каким бесстыдством солнце терзает землю, ошпаривая листья и раскаляя мостовую. Еще очень противны были дождевые червяки – ошалевшие после ливня, они повылезали из-под земли и поджаривались на асфальте, словно картошка фри.
Я уходила к себе в комнату, задергивала занавески и злилась на весь свет. С утра, как только папа уедет на работу, я вытаскивала из мусорного ведра в кухне последний номер «Стоктон обсервер» – папа его выбрасывал, опасаясь, как бы я не увидела заголовки и не начала заново себя мучить (не знал он, что заботиться о моем душевном покое – гиблое дело; у меня и так давно пропал аппетит, а сон казался нереальным, как яйцо феникса).
К папиному приходу я возвращала газету в мусорное ведро, аккуратно подсунув ее под вчерашние макаронные изделия с томатным соусом (папина коллега Барбара с отделения политологии принесла ему несколько рецептов «утешительной еды»; якобы они в свое время очень помогли морально поддержать отбившегося от рук пасынка по имени Митч, пока он слезал с наркотиков). Весьма кропотливое занятие – будто заворачиваешь таблетку в бумагу и раздавливаешь ложкой, чтобы удобрить землю в цветочном горшке.
«Школа потрясена смертью учительницы», «Погибшая была любима учениками и активно участвовала в общественной жизни», «Подробности гибели местной жительницы не сообщаются» – все это о нас, о ней. В статьях жевали и пережевывали подробности спасательной операции, «потрясение» жителей Стоктона, их «скорбь» и «утрату». Перечисляли имена Джейд, Чарльза, Мильтона, Лу и Найджела, публиковали их скалящиеся фотографии из школьного ежегодника (а мои нет – плата за то, что спаслась раньше других). Цитировали слова Эвы Брюстер: «Мы до сих пор поверить не можем». Также цитировали слова Элис Клайн – она вместе с Ханной работала в приюте для бездомных собак и кошек округа Бернс: «Так грустно… Она была невероятно доброй, веселой. Все наши кошечки и собачки ждут и ждут, когда же она вернется». (Безвременно умершие всегда мгновенно становятся невероятно добрыми и веселыми.)
Ничего по-настоящему нового нам не сообщали – кроме статьи «Продолжается расследование смертельного случая в заповеднике», где рассказали, что тело было обнаружено за две мили от Сахарной Головы и что Ханна висела на электрическом проводе. Вскоре меня начало тошнить от всех этих газетных писаний, а особенно – от передовицы за авторством некоего Р. Левенстайна, «местного критика, интернет-блоггера и борца за экологию». Он утверждал, что смерть Ханны вызвана мистическими причинами. «Полицейские упорно отказываются раскрыть какие-либо подробности о смерти Ханны Шнайдер. Напрашивается вывод, которые местные власти вот уже три года всячески скрывают: о росте количества ведьм в округах Бернс и Слудер».
Вот до чего дожили!
Роясь в мусоре, я обнаружила, что папа еще кое-что выкинул, радея о моем душевном здоровье: «Набор скорбящего» от школы «Сент-Голуэй». Судя по дате на стандартном деловом конверте, рассылку запустили со скоростью крылатой ракеты «Томагавк», едва только известие о катастрофе попало на школьный радар.
В набор входили: письмо от директора Хавермайера («Дорогие родители, на этой неделе мы скорбим о смерти одной из наших лучших учительниц – Ханны Шнайдер…»), истерическая статья из журнала «Семейное воспитание» за 1991 год «Как дети переживают горе», расписание консультаций психолога, парочка телефонов круглосуточной службы психологической помощи и прохладный постскриптум на тему похорон («Дата гражданской панихиды в память миз Шнайдер пока не назначена»).
Нетрудно вообразить, как странно мне было читать все эти заботливо подобранные материалы, понимая, что речь идет о Ханне – о нашей Ханне, похожей на Аву Гарднер, о Ханне, с которой я за одним столом ела свиные отбивные. Как страшен внезапный переход от Жизни к Смерти. Особенно выбивало из колеи, что в письме ничего не говорилось о том, как она умерла. Правда, письма разослали, не дожидаясь, пока объявят результаты вскрытия, и все-таки – непонятное умолчание. Как будто произошло не убийство (слово слишком легковесное; по-моему, для такого случая нужно название посерьезней – например, «убиение»). По тексту письма выходило, что Ханна просто «нас покинула» – как будто играла с нами в карты, а потом ей надоело и она ушла. Или, если следовать обтекаемым формулировкам Хавермайера, можно вообразить, что ее похитили («забрали от нас»), как в кино людей похищает Кинг-Конг, что ее утащила громадная Божья рука («все в руке Господа»), и хотя событие это печальное («тяжелейший жизненный урок»), мы обязаны приклеить на лицо дежурную улыбку и, словно роботы, топать дальше по жизни («надо жить дальше, радуясь каждому дню, – так хотела бы Ханна»).
Рассылкой писем школьное руководство не ограничилось. На следующий день, в субботу, второго числа, папе позвонил Марк Баттерс, глава кризисной группы.
Я подслушивала разговор по параллельному телефону в своей комнате – с папиного молчаливого согласия. Раньше, до назначения главой, мистер Баттерс был человеком, неуверенным в себе. Цветом лица он напоминал восточное блюдо баба-гануш[407], а дряблым телом – старый, потрепанный и потерявший форму чемодан. Он постоянно подозревал, что ученики над ним смеются, придумывают обидные прозвища и шепчутся за спиной. В столовой на большой перемене он обшаривал глазами лица школьников, как служебная собака в аэропорту обнюхивает багаж, – не пытается ли кто протащить контрабандой насмешку? Но судя по звучному, вальяжному голосу в трубке, мистер Баттерс просто был человеком глубоко скрытых возможностей – не хватало всего лишь Малюсенького Бедствия, чтобы ему развернуться во всей красе. Отбросив Колебания и Сомнения с изумительной небрежностью человека, бросающего среди ночи кассету с эротическим фильмом в окошечко анонимного возврата в видеопрокате, он тотчас же их заменил на Властную Решительность.
– Мы бы хотели провести беседу с вами и Синь, всего на полчасика, в удобное для вас время, – сказал мистер Баттерс. – Кроме меня, будет присутствовать директор Хавермайер, а также детский психолог.
– Кто-кто?
(Папа, надо заметить, не верил в психологов. По его мнению, вся психотерапия сводится к держанию за ручку и поглаживанию по плечу. Он презирал Фрейда, Юнга, доброго доктора Фрейзера Крейна[408] и всех, кому нравится подолгу обсуждать с посторонним человеком свои сны.)
– Психолог! Поговорить о том, что вас тревожит, что тревожит вашу дочь. Сейчас у нас есть возможность пригласить прекрасного специалиста по детской психологии. Деб Кромвель приехала из города Рейли, она там работает в школе «Дердс».
– Понятно. Знаете, у меня в настоящее время есть только одна причина для тревоги.
– Что вы говорите?
– Да, только одна.
– Великолепно! И эта причина?..
– Вы.
Баттерс, помолчав немного, сказал:
– Ясно.
– Меня тревожит, что руководство школы целую неделю хранило молчание. Видимо, струсили. Наконец вы набрались храбрости позвонить – в субботу, между прочим, который там час… Без четверти четыре! И ничего лучше не придумали, как предложить нам явиться на сеанс психоанализа. Я правильно понял?
– Это всего лишь предварительная беседа. Боб и Деб хотели бы также встретиться с вами отдельно…
– Истинная цель вашего звонка – прощупать почву, не собираюсь ли я подать в суд на руководство школы и в городской отдел образования за вопиющее пренебрежение своими прямыми обязанностями. Я прав?
– Мистер Ван Меер, я не собираюсь вступать с вами в дискуссию…
– Вот и не вступайте.
– Я все-таки хочу сказать…
– Я бы на вашем месте не хотел. Учительница вашей школы безответственно… сформулирую иначе – ненормальная учительница вашей школы потащила мою несовершеннолетнюю дочь в горы с ночевкой, не спросив моего разрешения…
– Мы понимаем…
– Подвергла опасности жизнь моей дочери и еще пятерых школьников и, добавлю, свою собственную жизнь закончила в этом походе – насколько я понимаю, самым плачевным образом. У меня есть сильное желание обратиться к юристу и поставить целью своей жизни, чтобы вам, вашему директору – как его, Оскар Майерс?[409] – и всему преподавательскому составу вашей захудалой школы пришлось ближайшие лет сорок носить кандалы и полосатую робу! А если моей дочери вдруг понадобится с кем-нибудь обсудить свои тревоги, она в последнюю очередь обратится к школьному психологу по имени Деб! Очень вам советую не звонить сюда больше, разве только если захотите умолять о снисхождении.
Папа повесил трубку.
И я совершенно точно знала, что там, в кухне, он не грохнул трубку на рычаг, а повесил ее тихо и аккуратно, словно вишенку посадил на пирожное с кремом.
На самом деле тревоги у меня имелись. И папа был прав – я не собиралась делиться ими с какой-то Деб. Мне было необходимо поделиться с Джейд, Чарльзом, Мильтоном, Найджелом и Лу. Меня душила потребность рассказать им, что происходило с той минуты, когда я ушла от костра, и до тех пор, когда я увидела мертвую Ханну. Я не могла спокойно думать об этом, не могла бы обсуждать это с психологами или записывать на бумаге – сразу начинала кружиться голова и мозг отключался; так бывает, когда стараешься размышлять одновременно о кварках, квазарах и квантовой механике (см. главы 12, 35, 46 в кн. «Неконгруэнтность», В. Клоуз, 1998).
В тот же день, чуть позже, папа поехал в магазин за продуктами, и я наконец-то позвонила Джейд. Я рассудила, что она должна бы уже оправиться от шока (и даже, возможно, живет себе дальше, радуясь каждому дню, как хотела бы Ханна).
– Алло, кто ее спрашивает?
К телефону подошла Джефферсон.
– Это Синь.
– Извини, дорогая, она сейчас ни с кем не разговаривает.
И повесила трубку, не дав мне времени ответить.
Я позвонила Найджелу.
– Магазин керамики «Крич».
– Э-э… Алло! Можно попросить Найджела? Это Синь.
– Привет, Синь!
Это была Диана Крич, мама Найджела, точнее, приемная мама. Я с ней никогда не встречалась, зато сто раз говорила по телефону. Ее веселый, громкий голос мог, подобно снегоуборочной машине, раскатать в лепешку любую реплику собеседника – хоть одно несчастное слово, хоть Декларацию независимости. Потому мне представлялось, что это крупная, жизнерадостная женщина, вечно одетая в заляпанный глиной мужской комбинезон, а пальцы у нее наверняка толстые, словно картонные трубочки от рулона туалетной бумаги. Разговаривая по телефону, она смачно откусывала слова, будто зеленые твердые яблоки.
– Дай схожу гляну, проснулся он или нет. Когда в прошлый раз смотрела, спал как сурок. Только и делает, что спит, два дня уже. А у тебя как дела?
– У меня все хорошо. А Найджел как себя чувствует?
– Нормально. Конечно, мы до сих пор в шоке. Да все в шоке! Особенно школа. Вам уже звонили? Сразу ясно, боятся, что мы на них в суд подадим. Ну, мы, само собой, ждем, что скажет полиция. Я говорю Эду – пора бы им уже арестовать виновника или хотя бы сделать заявление. А то воды в рот набрали, нельзя же так! Эд говорит, они молчат, потому что не знают, что случилось. А я говорю: тот, кто это сделал, – о другом варианте даже думать не хочется, – наверняка уже летит первым классом в Тимбукту с фальшивым паспортом.
Я и раньше замечала, что Диана Крич в любой разговор ухитряется вставить слово «Тимбукту», как некоторые подростки вставляют «значит» или «это самое».
Она вздохнула:
– Филонят полицейские, вот что. Печально все это, но я счастлива, что вы, ребята, целы. Тебя же еще в субботу нашли? Найджел говорил, тебя с ними не было. А, вот и он. Подожди минутку, лапушка.
Она отошла от телефона – словно лошадка-тяжеловоз протопала по булыжной мостовой (Диана ходила в сабо). Приглушенные голоса, и снова процокали копыта.
– Он попозже перезвонит, хорошо? Сперва поест.
Я сказала:
– Да, конечно.
– Всего тебе хорошего!
У Чарльза никто не подошел к телефону.
У Мильтона включился автоответчик. Заунывные звуки скрипки, потом женский кокетливый голос:
– Вы позвонили Джоанне, Джону и Мильтону. Нас нет дома…
Я набрала номер Лулы. Не хотелось ей звонить – я чувствовала, что она наверняка сильнее всех расклеилась, – но с кем-нибудь поговорить было необходимо.
Лула сняла трубку после первого гудка:
– Слушай, Джейд, ты прости, пожалуйста…
– Ой, это Синь! – Я от радости понеслась на всех парах. – Хорошо, что дозвонилась! Ты как? Я тут с ума схожу, спать не могу совсем. А ты как?
– Это не Лула.
– Что?
– Лула спит, – сказала она чужим голосом.
Я слышала, что у нее включен телевизор. Кто-то бурно ликовал по поводу необыкновенной краски для стен – полное окрашивание всего за один проход. Краски фирмы «Герман» с гарантией прослужат пять лет, невзирая на воздействие дождя и ветра.
– Что ей передать? – спросила Лу.
– Да в чем дело-то?
Она повесила трубку.
Я села на край кровати. В окна лупило предвечернее солнце, нежно-желтое, цвета груши. На стене картины маслом – пейзажи с изображением лугов и полей – блестели, словно еще не до конца просохли. Кажется, потрогай пальцем – испачкаешься в краске. Я заплакала. Слезы текли медленно, туго, словно я надрезала ствол старого, иссеченного шрамами каучукового дерева и из раны еле-еле выдавливается сок.
Я отчетливо помню: именно эта минута была хуже всего. Не бессонница, не безответная любовь к телевизору, не бесконечно звучащая в голове фраза «Ханну убили, Ханну убили» – чем больше повторяешь, тем бессмысленней она становится. Нет, ужасней всего это чувство полного, безнадежного одиночества, как на необитаемом острове. И главное, было понятно, что это не середина и не конец, а только начало.
Глава 25. «Холодный дом», Чарльз Диккенс
Вероятно, в 44 году до н. э., десять дней спустя после предательского убийства Цезаря, Брут чувствовал примерно то же, что и я, когда вернулась в школу после весенних каникул. Прогуливаясь по пыльным тропинкам Форума, Брут наверняка не раз сталкивался с таким явлением суровой реальности, как «остракизм школьных коридоров». Основные принципы: «обходи по широкой дуге» и «приближаясь к прокаженному, фиксируй взгляд чуть выше головы оного – пусть вообразит на миг, будто бы ты заметил его/ее жалкое существование». Надо думать, Брут испытал на себе все разнообразные способы «смотреть сквозь». Самые впечатляющие: «притворись, будто Брут – прозрачный шарфик» и «притворись, будто Брут – окно с видом на школьный двор». А ведь он когда-то пил с этими людьми разбавленное вино, сидел рядом с ними в Большом цирке[410] и вместе со всеми радовался, когда опрокидывалась колесница, купался с ними голышом в общественных банях – и в горячем, и в холодном бассейне. Теперь все это ничего не значило. Удар ножом в спину Цезаря покрыл Брута вечным несмываемым позором.
По крайней мере, Брут что-то реально сделал, пусть и не однозначно положительное. Он привел в исполнение тщательно разработанный план захвата власти в уверенности, что действует ради блага Римской империи.
А я вообще ничего не сделала.
– Помнишь, все так ею восхищались, а мне от нее всегда было не по себе, – говорила на уроке углубленной литературы Люсиль Хантер. – Видела, как она конспекты пишет?
– Ага.
– Прямо головы не поднимает. А на письменной контрольной все время шевелит губами. У меня бабушка во Флориде так делает, когда выписывает чеки или смотрит «Колесо Фортуны», а мама говорит, у нее старческий маразм.
– А мне сегодня утром Синди Уиллард сказала, – вмешалась Доннамара Чейз, наклоняясь через парту, – что Лула Малони на уроке испанского при всех сказала…
Почему-то и Люсиль, и Доннамара постоянно забывали, что на литературе я сижу позади Доннамары – миз Симпсон с самого начала отвела мне это место. Доннамара обернулась передать мне распечатку по «Братьям Карамазовым», еще тепленькую, только что из ксерокса, увидела меня и тревожно оскалилась, показывая длинные острые зубы (см. статью «Венерина мухоловка» в кн. «Флора Северной Америки», Стернс, 1989).
– Может, она переведется в другую школу? – размышляла вслух Энджел Оспфри в четвертом ряду.
– Обязательно! – зашептала Бет Прайс. – Ждите в скором времени объявления, что ее папаша, менеджер такой-то корпорации, повышен в должности до начальника филиала в городе Шарлотта.
– Интересно, какие были ее последние слова, – заметила Энджел. – Ханны, в смысле.
– Я думаю, Синь тоже недолго осталось, – вякнула Мейкон Сэмпинс. – Мильтон ее ненавидит. Я сама слышала, он говорил, цитирую дословно: если встретит в темном переулке, нашинкует ее, как Джек-потрошитель.
На углубленной физике Криста Джибсен сказала:
– Знаете, как говорят: лучше не испытать славы и богатства, тогда не будешь страдать, когда всего этого лишишься. Спорим, это как раз про Синь! Если был знаменитостью, а потом все потерял, это же самая страшная пытка. Подсядешь на кокаин, потом долго лечишься, а как выпишешься – начинаешь снимать фильмы о вампирах.
– Это ты содрала с «Правдивой голливудской истории», серия про Кори Фельдмана, – сказал Люк Басс по прозвищу Дальнобойщик.
– Мамашка Рэдли на радостях прыгает выше луны, – сообщил Питер Кларк по прозвищу Нострадамус. – Празднует возвращение Рэдли на вершину. После таких приключений девчонка не потянет выступать с речью на окончании учебного года.
– А еще говорят… Нет, лучше помолчу, не хочу сплетничать.
– Что, что?
– Она – лесбиянка, – высказалась Лонни Феликс в среду на лабораторной по физике (тема: «Симметрия в физике. Действительно ли твоя правая рука – правая?»). – Такая, как «Эллен», а не вроде Энн Хеч[411], когда и так, и так.
Лонни встряхнула собранными в хвост волосами (длинные, белокурые, по фактуре похожи на кукурузные хлопья), демонстративно посмотрела на меня с моей напарницей по лабораторке, Лорой Элмс, и наклонилась поближе к Сэнди Квинс-Вуд.
– Наверное, Шнайдер была такая же. Поэтому они и уединились в лесу посреди ночи. Не знаю уж, как у них этим делом занимаются, но видно, что-то пошло не так. Сейчас полиция пытается разобраться. Потому-то расследование так затянулось.
– Точно такую историю показывали вчера в «Место преступления: Майами»[412], – рассеянно отозвалась Сэнди, что-то записывая в тетрадку. – Вот не знали мы, что сюжеты из детективного сериала прямо у нас в школе происходят.
– Слушайте, может, вы заткнетесь, а? – сказал, обернувшись к ним, Зак Содерберг. – Тут некоторые пытаются разобраться в законах отражения.
– Извини, Ромео! – хихикнула Лонни.
– Да, давайте потише, будьте так добры! – попросил временный учитель на замену, лысый дядечка по имени мистер Пайн.
Мистер Пайн улыбнулся, зевнул, потянулся, открывая на обозрение пятна от пота под мышками размером с хороший блин, и снова погрузился в изучение журнала «Загородный дом. Стены и окна».
– Джейд пообещала добиться, чтобы эту Синь выгнали из школы, – шептала Тра на свободном уроке.
– За что? – нахмурилась Тру.
– Ну, не убийство, а там доведение до самоубийства или еще что. Джейд на эту тему выступала на испанском. Типа у Ханны было все bueno[413], а потом она ушла с этой Синь в лес и через пять минут уже muerto[414]. В суде ей не отвертеться, а на расовую дискриминацию сослаться для отмазки не выйдет.
– Нечего тут изображать Грету Ван Сустерен. Я тебя разочарую: ты не она. И не Вольф Блитцер.[415]
– Это ты к чему?!
Тру, дернув плечиком, швырнула на библиотечный столик мятый журнал о жизни кинозвезд.
– Очевидно же! Шнайдер сделала то же, что Сильвия Платт.[416]
– Вообще-то, очень даже возможно, – кивнула Тра. – Вспомнить хотя бы этот ее вводный курс по истории кино.
– А что?
– Я же тебе рассказывала! Она обещала нам проверочную по итальянцам – «Развод по-итальянски», «Приключение», «Восемь типа с половиной»…
– Ага, ага…
– Мы такие подготовились, приходим – а она: ах, ах, совсем из головы вон. То есть она наврала, будто бы специально устроила нам сюрприз, отменила контрольную, но ясно было, что все туфта. Она попросту банально забыла. И быстренько ставит «Красных»[417] – а это даже не итальянское кино. Плюс мы его уже девять раз смотрели, потому что она три дня подряд забывала принести «Сладкую жизнь». У этой Шнайдер даже педагогического образования не было, в голове ветер гулял, и врала она без остановки. Но чтобы забыть контрольную, которую сама же и назначила, – что это за учитель?!
– С маленькими техническими неполадками, – шепотом подсказала Тру. – В смысле, винтиков в голове не хватает.
– Вот точно!
К сожалению, на разговоры в подобном духе я реагировала не в стиле Аль Пачино (месть крестного отца), или Пеши (воткнуть кому-нибудь в горло авторучку), или Костнера (насмешливая невозмутимость первых переселенцев), или Спейси (убийственно-едкие ответы, произносимые с невозмутимым лицом), или Пенна (возмущенный ор простого работяги).[418]
Не знаю даже, с чем сравнить. Я испытывала примерно те же ощущения, как если в магазине дорогой одежды продавщица ходит за тобой по пятам и присматривает, как бы ты чего не своровала. И пускай ты ничего красть не собиралась и вообще в жизни ничего не крала – от сознания, что тебя принимают за воровку, начинаешь чувствовать себя воровкой. Всеми силами удерживаешься, чтобы не оглядываться через плечо, – и все равно оглядываешься. Стараешься не коситься на окружающих, не насвистывать и не улыбаться заискивающе всем подряд – но все равно косишься, насвистываешь и заискивающе улыбаешься всем подряд и то и дело прячешь вспотевшие руки в карманы.
Нет, я не собираюсь ныть и жаловаться. И не говорю, что прямо уж вся школа на меня ополчилась. Особенно в первые дни были необыкновенно трогательные моменты – например, когда моя давняя напарница по лабораторкам Лора Элмс, ростом четыре фута девять дюймов и весом приблизительно от девяноста до девяноста пяти фунтов, а характером напоминающая рис (беленький, легко переваривается и сочетается с любыми одноклассниками в качестве приправы), вдруг схватила меня за руку, которой я в ту минуту переписывала с доски формулу F = qv × B.
– Я очень хорошо понимаю, каково тебе сейчас! У моей лучшей подруги в прошлом году отец умер – вышел помыть «лексус» и упал прямо на дорожке. Моя подруга первой его нашла. Говорит, сначала узнать вообще не могла, он был синий, прямо как черника. Она даже в уме повредилась на какое-то время. В общем, если нужно будет поговорить, я всегда рядом!
(Лора, я так и не воспользовалась твоим предложением, но спасибо тебе за доброту. И прости за сравнение с рисом!)
И еще Зак. Если бы масса движущихся тел менялась в зависимости от скорости, Зак не изменился бы. Стал бы исключением, особой точкой графика, физической аномалией. Зак Содерберг – образец прочности материала. Постоянная величина, константа.
В четверг, вернувшись из туалета на урок углубленной физики, я обнаружила на своем стуле сложенный тетрадный листок. Я дождалась перемены и только тогда развернула. Толпы школьников неслись по коридору, а я стояла неподвижно, словно куча мусора в реке, вглядываясь в текст записки, в этот аккуратный, как у примерной ученицы, почерк.
ТЫ КАК
ЕСЛИ ЧТО
Я ТУТ
ЗАК
Я весь день протаскала записку в рюкзаке и неожиданно решила, что мне и правда хочется с ним поболтать (папа говорил, никогда не вредно познакомиться с разными точками зрения, даже если подозреваешь, что они окажутся примитивными и непросвещенными). Целый урок углубленной всемирной истории я представляла себе, как бы это было – возвращаться домой из школы не с папой, а с Пэтси и Роджем, на ужин получать не спагетти, конспекты лекций и комментарии по поводу книги Дж. Хатчинсона «Эстетическое раскрепощение человечества» (1924), а жареную курицу с картофельным пюре и обсуждение отборочных соревнований Бетани-Луизы по софтболу и сочинения Зака на тему «Американская мечта» (самая пошлая из всех возможных тем для сочинений). Пэтси улыбалась бы и гладила меня по руке, а Родж произнес бы импровизированную проповедь – скажем, «Четырнадцать надежд».
Как только прозвенел звонок, я бросилась в корпус Барроу. Взбежала по лестнице на второй этаж – кто-то говорил, там шкафчик Зака. Еще с порога увидела его. В брюках защитного цвета и рубашке в бело-синюю полоску, Зак разговаривал с девчонкой по имени Ребекка – той самой, с клыками как у саблезубого тигра. Она держала под мышкой стопку общих тетрадей, а свободной костлявой рукой облокотилась о шкафчик – похоже на фигурку с древнеегипетского папируса. Зак слушал ее, никого кругом не замечая, улыбался и приглаживал волосы своей громадной лапищей, и я вдруг поняла, что он в нее влюблен, и наверняка они оба подрабатывают в фотоателье «Кинко» и вместе печатают цветные снимки, и если я сунусь говорить с ним о смерти, эта дылда будет иероглифом торчать у меня над душой, уставившись мне в лицо глазами, похожими на раздавленный инжир, и разбросав по плечам черные космы, точно водопад на реке Нил, и я этого точно не вынесу.
Я кинулась вниз по лестнице и вон из корпуса, едва не выбив входную дверь.
Не могу также умолчать о еще одном случае Доброго Самаритянства. В пятницу после бессонной ночи я заснула на уроке рисования для начинающих, не закончив набросок Тима Уотерса (по прозвищу Бунтарь), выбранного учителем сидеть посреди класса в качестве натурщика.
– Что такое сегодня с мисс Ван Меер? – загремел мистер Моутс. – Она зеленая, как призрак Эль Греко! Расскажите, что вы ели на завтрак, чтобы мы знали, чего следует остерегаться.
Мистер Виктор Моутс был, вообще-то, человек добрый и мягкий, но иногда ни с того ни с сего (может, в зависимости от фаз луны) любил при всех унизить ученика. Он высоко поднял мой альбом над своей прилизанной, как тюленья шкура, головой. Тут мне открылся весь масштаб трагедии: бесконечное, как Тихий океан, пространство листа было пустым и белым, только в правом нижнем углу я изобразила Уотерса размером с остров Гуам. При этом нарисовала ногу поверх перекошенного лица – оно бы и ничего, если бы мистер Моутс не потратил десять минут в начале урока, объясняя, как важно соблюдать пропорции.
– Она, должно быть, отвлеклась! Ее мысли и мечты занимал Уилл Смит, или Брэд Питт, или еще какой-нибудь мускулистый красавчик, в то время как нужно было… Кто расскажет, что должна была делать мисс Ван Меер вместо того, чтобы зря тратить наше время?!
Случись это до смерти Ханны, я бы покраснела до ушей и рассыпалась в извинениях. Может, даже убежала бы в туалет – рыдать в кабинке для инвалидов. А сейчас я ничего не чувствовала. В голове было пусто, как на листе в альбоме. Я молча смотрела на мистера Моутса, как будто речь шла не обо мне, а о какой-то другой рассеянной ученице, которую по случайности тоже зовут Синь. Я испытывала не больше смущения, чем кактус в пустыне.
Все-таки я заметила, что в классе нервно переглядываются – так мартышки на деревьях предупреждают друг друга об опасности. Фрэн Смитсон по прозвищу Вкусняшка многозначительно посмотрела на Гендерсона Шоула, Гендерсон Шоул столь же многозначительно посмотрел на Говарда Стивенса по прозвищу Бейрут. Эми Хемпшо, прикусив губу, вытащила заправленные за уши пряди русых волос, так что они словно шторкой закрыли половину лица.
Смысл всех этих переглядываний был вполне ясен: мистер Моутс, всегда предпочитавший работы Веласкеса, Риберы, Эль Греко и Франсиско Эрреры Старшего общению с коллегами (не слишком чтившими великих испанских мастеров), по всей видимости, выбросил, не читая, официальное письмо от администрации школы и потому не ознакомился с «Экстренным сообщением» директора Хавермайера, со статьей Национальной лиги учителей «Как помочь школьникам пережить горе» и, главное, с тайным списком Баттерса, озаглавленным «Держать под наблюдением» – в этот список наряду с моим именем были включены имена Аристократов: «Эти ученики сильнее других затронуты недавними событиями. Внимательно следите за их поведением и академической успеваемостью. О любых отклонениях сообщайте мне или новому школьному психологу Деб Кромвель. Ситуация требует особо тактичного подхода». (Секретный документ был похищен, отксерокопирован и нелегально распространен среди школьников. Кто совершил сие, неведомо. Одни говорили, что Максвелл Стюарт, другие называли Тра и Тру.)
– Вообще-то, – заявила из дальнего угла Джессика Ротштейн, скрестив руки на груди, – по-моему, Синь простительно.
Ее тугие темно-каштановые кудряшки, издали напоминающие груду мокрых бутылочных пробок, дружно затряслись.
– Да что вы говорите? – Мистер Моутс резко обернулся к Джессике. – Почему бы это?
– Она перенесла тяжелое потрясение, – в полный голос ответила Джессика с убежденностью подростка, сознающего свою правоту и вопиющую неправоту взрослого (хотя он теоретически должен быть умнее, поскольку старше и опытней).
– Потрясение? – переспросил мистер Моутс.
– Да. Потрясение.
– И что же ее так потрясло? Поясните, пожалуйста. Я заинтригован!
Джессика нетерпеливо сморщилась:
– У нее была трудная неделя.
Джессика начала озираться, явно надеясь, что кто-нибудь ее поддержит. Она предпочла бы выступать командиром спасательного отряда – звонить по телефону и отдавать приказы. Джессике совсем не улыбалось быть рядовым, который прилетел на вертолете HH-43F с авиабазы Бин Ти Хо, совершил вынужденную посадку на вражеской территории, с полной выкладкой прополз по-пластунски через рисовые поля и заминированные луга, потом еще семь миль тащил на себе раненого товарища и целую ночь провел, заедаемый москитами, на берегу реки Кай Ни, пока на помощь наконец не подоспел с юго-востока дружественный вертолет.
– Мисс Ротштейн, что-то вы темните, – объявил мистер Моутс.
– Я просто говорю, что ей тяжело пришлось, вот и все!
– Что делать, жизнь вообще трудна, – ответил Моутс. – Восемьдесят девять из ста величайших произведений искусства были созданы художниками, чьи жилища регулярно подвергались набегам крыс! Вы думаете, Веласкес ходил в «адидасах»? Считаете, он пользовался такими благами, как центральное отопление и пицца с круглосуточной доставкой?
– Веласкес тут не при делах, – подал голос Тим Уотерс по прозвищу Бунтарь, сгорбившись на своей табуретке в центре класса. – Речь о Ханне Шнайдер и о том, что Синь быда в том самом походе.
На Бунтаря обычно никто, включая и меня, не обращал внимания. Очень уж типичными были его вечно смурной голос, облепившие машину наклейки «Я ЛЮБЛЮ БОЛЬ», «ВКУС КРОВИ» и надписи на школьном рюкзаке черным несмываемым маркером: «ЯРОСТЬ», «АНАРХИЯ», «ДОЛБИСЬ ОНО ВСЕ КОНЕМ». За ним постоянно тянулся дымок от сигареты, точно шлейф за новобрачной. Но он произнес имя Ханны Шнайдер, и оно повисло в воздухе, словно пустая лодка посреди озера, и – не знаю – почему-то в тот миг я готова была сбежать с этим бледным злым парнем хоть на край света, если только позовет. Я любила его отчаянной, всепоглощающей любовью – целых три секунды. Может быть, четыре. (Такое часто происходило после смерти Ханны – кого-нибудь не замечаешь, потом вдруг безумно любишь, хочешь от него/нее детей, и так же внезапно минута проходит без следа.)
Мистер Моутс застыл на месте, прижав ладонь к зеленому клетчатому пиджаку, словно его вот-вот стошнит или он никак не может вспомнить слова давно забытой песни.
– Понятно… – Моутс бережно вернул мой альбом на мольберт. – Продолжайте рисовать!
Он так и стоял рядом со мной. А когда я снова взялась за рисунок, начиная с Тимова ботинка (из коричневой кожи, с нацарапанным сбоку словом «Бойня»), мистер Моутс вдруг наклонился ко мне, почти к самому листу белой бумаги. Я осторожно покосилась на него, – вообще-то, на учителей, как на солнце, прямо смотреть не рекомендуется. Замечаешь такие вещи, которые лучше бы совсем не видеть, – соринки в глазу, родинки, волоски, морщины, пигментные пятна на коже. Рассудком понимаешь, что за этими физическими особенностями кроется некая уксуснокислая правда, только вникать в нее пока не хочется. После этого труднее станет внимательно слушать на уроке, делать записи в тетрадке о специфике размножения плауна булавовидного и запоминать точную дату битвы при Геттисберге (1–3 июля 1863).
Моутс молчал, разглядывая мой чистый лист с Тимом в уголке, а я смотрела на учителя, завороженная его профилем, напоминающим береговую линию на юго-востоке Англии. Потом он закрыл глаза, и стало видно, до чего он расстроен, и я невольно подумала, уж не влюблен ли он был в Ханну. Известно же, что взрослые – странные люди. Их частная жизнь гораздо обширней, чем они стараются показать; безбрежна, как пустыня, и такая же безводная, пересеченная изменчивыми, непредсказуемыми линиями барханов.
– Может, мне начать с нового листа? – спросила я, лишь бы он сказал что-нибудь.
Заговорит – значит, выживет, несмотря на песчаные бури и резкие перепады температур: сильную жару в дневное время и стремительное похолодание ночью.
Моутс кивнул и выпрямился:
– Работайте дальше!
В тот день после уроков я решила заглянуть в класс Ханны. Я надеялась, там никого не будет, но как только вошла в Лумис, увидела двух младшеклассниц – они наклеивали на дверь Ханны какие-то открытки, похожие на карточки с пожеланием скорейшего выздоровления. На полу у стены стояла увеличенная фотография Ханны, а вокруг лежали цветы, в основном розовые, белые и красные гвоздики. Эвита уже объявляла по интеркому: «Поток цветов и открыток доказывает, что мы можем сплотиться ради взаимной поддержки – просто по-человечески, забыв о различиях между учениками, учителями, родителями и школьной администрацией. Ханна была бы счастлива!»
Сразу захотелось уйти, но девчонки меня уже увидели. Ничего не оставалось, кроме как идти вперед.
– Жаль, что не разрешают зажигать свечи…
– Дай я! Кара, ты всю красоту нарушишь!
– Может, все равно зажжем? Это же для нее!
– Нельзя! Не слышала, что говорила мисс Брюстер? Пожар можно устроить!
Высокая бледная девочка приклеила к двери скотчем большую открытку с изображением сверкающего золотого солнца и надписью: «Звезда погасла»… Другая девчонка, черноволосая и кривоногая, держала громадную открытку с надписью корявыми оранжевыми буквами: «ДОРОГИЕ СЕРДЦУ ВОСПОМИНАНИЯ». Еще штук пятьдесят карточек были прислонены к стене и груде цветов. Я наклонилась почитать.
«Покойся с миром! С любовью от компании Фриггсов» – открытка от компании Фриггсов. «Спс за все до встречи на нбсах» – без подписи. «В нашем мире, где свирепствует ненависть на религиозной почве и истребление человека человеком, ты была сияющей звездой», – написал Рашид Фоксглав. «Нам будет вас не хватать», – написали Эми Хемпшо и Билл Чуз. «Надеюсь, вы переродитесь в образе млекопитающего и мы встретимся снова. Лучше бы поскорее, а то когда я поступлю в медучилище, времени ни на что хватать не будет», – написала Лин Cе-Пен. Были открытки философские («Почему это случилось?»), были невинно-непочтительные («Вот бы вы могли прислать мне весточку, есть ли все-таки жизнь после смерти, а то если нет, тогда и жить незачем»). Были тексты, больше подходящие, чтобы их прокричать из окна уезжающей машины («Вы были замечательной учительницей!!!»).
– Подпишешь карточку с соболезнованиями? – спросила черноволосая.
– Конечно.
Исчерканная подписями учеников карточка гласила: «Нам дарует утешение мысль о том, что ты сейчас в лучшем мире». Я заколебалась, но за мной наблюдала черноволосая, и я кое-как втиснула свое имя между Чарли Лином и Миллисент Ньюмен.
– Спасибо большое, – сказала девчонка, словно я ей одолжила мелочь на газировку.
И налепила карточку на дверь скотчем.
Я вышла на улицу, постояла, пока они не ушли, и вернулась в здание. Кто-то уложил цветы ровными рядами на полотнище зеленого пластика, – наверное, это сделала черноволосая, сама себя назначившая распорядителем поминальных мероприятий. У двери повесили еще один листок: «Подпишись, если обязуешься сдать деньги на создание Сада колибри имени Ханны Шнайдер (минимальная сумма пожертвования – 5 долларов)».
Если честно, не нравилась мне эта общественная скорбь. Какая-то она была искусственная, словно Ханну украли и спрятали, а вместо нее выставили жуткую улыбающуюся чужую тетку, чья цветная ламинированная фотография стоит на полу у стены рядом с толстой незажженной свечой. На снимке она не была собой. Школьные фотографы умеют с помощью тусклого освещения и размытого заднего плана всех уравнять и сделать одинаковыми. А настоящую Ханну – ту, что была похожа на актрису классического кинематографа и могла иногда напиться вдрызг или не заметить, что в вырезе платья видна бретелька от лифчика, – эту Ханну держали в плену, отгородив привядшими гвоздиками, кривыми ученическими подписями и слюнявыми сентенциями в духе «Мы вас не забудем!».
Где-то хлопнула дверь. Четким пунктиром простучали женские каблуки. Распахнулась дверь в дальнем конце коридора, и на какой-то безумный миг мне показалось, что ко мне идет Ханна. Вся в черном: черная юбка, черная блузка с короткими рукавами, черные туфли… Такой я ее впервые увидела в продуктовом магазине много месяцев назад.
Только это была Джейд.
Бледная, до предела исхудалая, светлые волосы стянуты в тугой хвост и отблескивают в свете люминесцентных ламп. Она шла, глядя себе под ноги, а когда наконец заметила меня, явно хотела повернуть назад, но запретила себе. Джейд ненавидела отступать, удирать, давать задний ход.
– Я не обязана тебя видеть, если не хочу.
Наклонившись, она стала рассматривать карточки и цветы – с приятной улыбкой, словно любовалась дорогими часами в витрине.
Через минуту оглянулась:
– Так и будешь тут стоять как дура?
– Да я…
– Знаешь, я ведь из тебя слова тянуть клещами не собираюсь. – Джейд подбоченилась. – Я думала, у тебя есть что сказать, раз ты мне целую неделю звонишь как маньячка ненормальная.
– Есть.
– И что?
– Почему на меня все злятся? Я же ничего не сделала.
Глаза Джейд потрясенно расширились.
– Ты что, не понимаешь, что ты сделала?!
– Что?
Джейд скрестила руки на груди:
– Если сама не сообразила, Рвотина, я тебе объяснять не собираюсь.
Она снова наклонилась к цветам. Чуть погодя сказала:
– Ты нарочно в лес ушла, чтобы заставить себя искать. Какая-то дурацкая игра в прятки. И не надо врать, будто тебе понадобилось в уборную, – мы нашли рулон туалетной бумаги, он так и лежал у Ханны в рюкзаке! А потом ты… Ну, кто там тебя знает, что ты устроила. Только Ханна сидела с нами веселая, смеялась, а потом раз – и она висит на дереве. Мертвая. Значит, что-то ты сделала.
– Она сама дала мне знак, чтобы я шла в лес.
Джейд скривилась:
– Когда это?
– Когда мы сидели у костра.
– Врешь! Я там была, и никаких знаков она не подавала.
– Никто не видел, только я.
– Очень удобно!
– Она пришла за мной в лес. Мы шли минут десять, потом она остановилась и сказала, что ей нужно со мной поговорить. Рассказать какую-то тайну.
– Тайну, надо же! И какую? Что ей являются духи умерших?
– Она не сказала.
– Ах так!
– За нами кто-то следил. Я не рассмотрела, но, по-моему, он был в очках. А она почему-то побежала за ним. Велела мне ждать, не сходить с места. Больше я ее не видела.
(Вранье, само собой, но я решила, что это ложь во спасение. Что я видела Ханну мертвой – лишнее, ненужный орган вроде аппендикса, который может воспалиться, а значит, его можно удалить хирургическим путем, и всей истории в целом это будет только на пользу.)
Джейд скептически поджала губы:
– Не верю.
– Это правда! Помнишь, Лу окурок нашла? Там кто-то был!
Джейд широко раскрыла глаза, но потом покачала головой:
– Бред, по-моему.
Она бросила сумку на пол. Оттуда вывалились две книги: «Нортоновская антология поэзии»[419] (Фергюсон, Солтер, Столуорти, изд. 1996 г.) и «Как сочинять стихи» (Файфер, 2001).
– Ты ничтожество. Смотреть противно. И никому нафиг не нужны твои жалкие оправдания. Все, конец.
Она ждала, что я стану хныкать, умолять, упаду на колени – а я не могла. Чувствовала, что это бесполезно. Папа однажды сказал – есть люди, которые появились на свет сразу с готовыми ответами на все вопросы, и объяснять им что-либо нет смысла. «Лавочка закрыта, хоть двери и распахнуты настежь с одиннадцати утра, кроме субботы и воскресенья». Как ни старайся, они не в состоянии воспринять твою точку зрения, лучше не биться зря головой об стену, только шишку себе набьешь. Все равно как арестант в тюрьме строгого режима, которому до боли хочется прикоснуться к руке человека, пришедшего навестить его (см. «Жизнь во тьме», Кауэлл, 1967). Сколько ни прижимай ладонь к стеклу в том месте, где с другой стороны прижата ладонь посетителя, ее не ощутишь, пока не выйдешь на свободу.
– Мы не считаем, что ты какая-нибудь психопатка или там братья Менендес,[420] – заявила Джейд. – Наверное, ты это сделала не нарочно. И все-таки! Мы тут поговорили и решили, что по большому счету тебя простить нельзя. Ханны больше нет. Для тебя это, может, ничего не значит, а для нас – очень много. Мильтон и Чарльз ее любили. Мы с Лулой ее обожали. Она была нам как сестра…
– Интересная новость, – перебила я.
Не удержалась – все-таки я дочь своего отца. Не выношу лицемерия.
– Помнится, ты жаловалась, что она тебе отбила удовольствие от мятного мороженого с шоколадной крошкой. И еще ты подозревала, что она – соратница Мэнсона.
Джейд так разъярилась – я думала, сейчас она мне глаза выцарапает. Стиснув зубы, она стала красной, как томатный суп гаспачо, и заговорила короткими рублеными фразами.
– Если ты такая тупая, мне с тобой говорить не о чем. Ты даже представить не можешь, что мы пережили. Чарльз чуть с ума не сошел, даже со скалы упал! А Лу и Найджел бились в истерике. Даже Мильтон сломался. Я всех вытащила, но у меня до сих пор психологическая травма. Мы думали, что все погибнем, как в том фильме, где люди затерялись в Альпах и по очереди ели друг друга.
– «Живые»[421]. Это, вообще-то, книга, по ней потом уже фильм сняли.
– Тебе все шуточки?! Никак не доходит?
Нет, до меня и правда не доходило.
– Ладно, плевать, – сказала Джейд. – И не звони мне больше! Маме неприятно с тобой разговаривать и выдумывать причины, почему я не подхожу к телефону.
Она подобрала сумку и поправила волосы, готовясь красиво удалиться со сцены. Джейд сознавала, что люди и до нее красиво уходили сцены, миллионы людей, по самым разным причинам. Наконец пришла ее очередь, и нужно было не ударить в грязь лицом. Скромно улыбаясь, она аккуратно положила в сумку «Нортоновскую антологию» и «Как сочинять стихи». Шмыгнула носом, разгладила черный свитер на талии (словно только что прошла первый тур собеседования о приеме на работу в престижную корпорацию) и зашагала прочь, на ходу явно обдумывая, не присоединиться ли к элитной группе Красиво Уходящих Со Сцены, куда принимают самых крутых и бесчувственных: к секте под названием «Те, Кто Не Оглядывается». И все же в последний миг передумала.
– Знаешь, – сказала она, обернувшись ко мне. – Мы так и не смогли понять одну вещь.
Мне вдруг стало страшно.
– Почему ты? Зачем Ханна так настойчиво пихала тебя в нашу компанию? Извини, конечно, только мы тебя с самого начала терпеть не могли. Называли тебя «гули-гули». Потому что ты была как дурацкий голубь, который вечно топчется у всех под ногами и выпрашивает крошки. А Ханна тебя обожала. «Синь хорошая, дайте ей шанс! Ей нелегко жилось». Ага, конечно! Не жизнь, а мечта, с этим твоим замечательным папочкой. Но нет, все меня укоряли – я, мол, вредная и необъективная. Ну, теперь уже не узнаем. Она умерла.
Джейд увидела, какое у меня лицо, и сказала:
– Ха!
Красиво Уходящие Со Сцены всегда говорят «Ха» – такой специальный резкий смешок, напоминающий сигнал окончания компьютерной игры или звоночек пишущей машинки.
– Судьба любит иногда пошутить, – сказала Джейд.
Когда она, дойдя до конца коридора, открыла настежь дверь, ее на секунду залил яркий желтый свет, а тень Джейд, узкая и стройная, протянулась ко мне спасательным канатом, но в следующее мгновение Джейд перешагнула порог, дверь захлопнулась и я осталась наедине с гвоздиками («Дарить гвоздики – почти то же самое, что дарить искусственные цветы», – говорил папа).
Глава 26. «Глубокий сон», Рэймонд Чандлер
[422]
На следующий день, в субботу десятого апреля, в «Стоктон обсервер» наконец-то опубликовали краткий отчет о результатах следствия.
СМЕРТЬ ПОВЕШЕННОЙ ПРИЗНАНА САМОУБИЙСТВОМ
Вчера коронер округа Слудер завершил расссмотрение по делу о гибели жительницы округа Карлтон сорокачетырехлетней Ханны Луизы Шнайдер. По заключению коронера, женщина совершила самоубийство. Смерть наступила от удушья в результате повешения.
– Нет никаких данных, указывающих на умышленное преступление, – сказал Джо Виллаверде, коронер округа Слудер.
Также, по его словам, в крови Шнайдер не обнаружено следов алкоголя, ни каких-либо наркотических или отравляющих веществ. Состояние тела подтверждает версию о самоубийстве.
– Мой вывод основан на данных отчета о вскрытии, а также на информации, которую предоставили сотрудники правоохранительных органов, – сказал Виллаверде.
28 марта Шнайдер была найдена повешенной на электрическом проводе в Лощине Шулла на территории национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс, где она сопровождала в походе с ночевкой шестерых учащихся местной школы. Школьники не пострадали.
Я сказала:
– Этого не может быть.
Папа смотрел сочувственно.
– Хорошая моя…
– Не могу больше! Меня сейчас вырвет!
– Возможно, они правы. Кто знает…
– Они НЕ правы! – заорала я.
Папа согласился отвезти меня в управление шерифа округа Слудер. Я даже удивилась. Наверное, он просто меня пожалел, глядя, какая я бледная, не могу ни есть, ни спать, с утра пораньше несусь сломя голову к первому выпуску новостей и на любые вопросы, хоть будничные, хоть философские, отвечаю с пятисекундной задержкой, как при трансатлантическом телефонном разговоре. Кроме того, папа был хорошо знаком с цитатой: «Рискованно становиться на пути своего ребенка, когда он охвачен новой идеей и стремится ее воплотить с рвением торговца Библиями из Индианы» (см. «Вырастить одаренного ребенка», Пеннебейкер, 1998, стр. 232).
Адрес мы нашли в интернете. Проехали сорок пять миль до крохотного городка под названием Биксвилль, приютившегося в горах к западу от Стоктона. День был свежий и ясный. Приземистое здание полицейского участка развалилось у дороги, словно усталый бродяга.
– Подождешь в машине? – спросил папа.
– Нет-нет! Я туда пойду!
– Я книжку захватил, почитать на досуге. – Папа показал мне томик Д. Ф. Янга «Нарциссизм и антипотребительское движение в США» (1986).
– Пап…
– Да, моя радость?
– Можно, я сама буду с ними разговаривать?
– Э-э… Да, конечно.
Управление шерифа округа Слудер помещалось в одной-единственной комнате, которая царившим в ней беспорядком напоминала клетку с обезьянами в средней руки зоопарке. Были заметны попытки (в рамках бюджета) создать у десятка заточенных здесь полицейских иллюзию естественной среды обитания (непрерывно звонящие телефоны, шлакоблочные стены, выкрашенные в серо-коричневый цвет, чахлые растения в кадках, чьи поникшие побеги бессильно свисали, точно ленточки на подарочной коробке; вдоль стен выстроились картотечные шкафчики, словно футбольная команда в коричневых майках со звездой шерифа на груди). Полицейские получали питание согласно рациону (кофе и пончики), а также множество игрушек (вращающиеся стулья, пульты управления радиооборудованием, револьверы и подвешенный к потолку телевизор, непрерывно изрыгающий прогноз погоды). А все-таки запашок искусственности не удалось полностью истребить. Обитатели комнаты, лишенные необходимости бороться за жизнь, вяло исполняли необходимые телодвижения, демонстрируя, что занимаются охраной правопорядка.
– Эй, Билл! – крикнул один, прохаживаясь возле кулера с питьевой водой. – Гляди, новая «дакота»!
– Видел уже, – отозвался Билл, оцепенело пялясь в синий экран компьютера.
Папа с выражением глубочайшего отвращения на лице уселся на единственный свободный стул рядом с толстой поношенной девицей в топике с блестками и босиком. Ее безжалостно обесцвеченные волосы напоминали кукурузные чипсы.
Я подошла к дежурному. Он перелистывал журнал, покусывая красную пластмассовую ложечку для кофе.
– Я бы хотела поговорить со старшим следователем, если можно.
– А?
Широкое красное лицо дежурного можно было принять за чью-нибудь громадную пятку, если бы не ярко-желтые усы щеточкой. По лысой голове набрызганы выпуклые веснушки. На форменном значке имя: А. Бун.
– Кто у вас расследует смерть Ханны Шнайдер? – спросила я. – Учительницы из «Сент-Голуэя»?
А. Бун по-прежнему грыз ложечку и таращился на меня. Папа таких называл «упивающиеся властишкой» – когда им достанется какая-никакая власть, они стараются растянуть этот краткий миг до бесконечности.
– Сержант Харпер. А тебе что надо?
– По ходу следствия допущена серьезная ошибка, – ответила я как могла весомей.
Этими же словами выразил свою мысль инспектор Ранульф Карри в начале 79-й главы романа «Путь мотылька» (Лавель, 1911).
А. Бун записал мое имя в журнал и велел пока присесть. Я села на папино место, а папа встал возле умирающего растения в кадке. Изображая неискренний восхищенный интерес (бровь изогнута, уголки губ опущены книзу), он протянул мне «Бюллетень „Звезда шерифа“», зима, т. 2, № 1, – папа его снял с доски объявлений, вместе с булавкой в виде американского орла, проливающего блестящую слезу («Америка, в единстве наша сила»). На странице 2, в разделе «Отчет о результатах работы» (между «Особо опасны» и «Это интересно знать»), я прочла, что сержант Файонетт Харпер за истекшие пять месяцев опередила других сотрудников по числу произведенных арестов. На ее счету: Родольфо Дебруль (разыскивался за убийство), Ламонт Гримселл (разыскивался за вооруженный грабеж), Канита Кей Дэвис (разыскивалась за мошенничество с социальными выплатами, кражи и скупку краденого) и Мигель Румоло Крус (разыскивался за изнасилование и многочисленные правонарушения). Наименьшее по отделению количество арестов числилось за Джерардом Коксли: в осенний период всего-то один Иеремия Голден (разыскивался за незаконное управление транспортным средством).
Еще я нашла сержанта Харпер на групповом черно-белом снимке бейсбольной команды окружного управления шерифа, на странице четыре – справа, с самого края, женщина с весьма солидным кривым носом. Рот, глаза и брови теснились к нему, словно хотели согреться на арктически-белом лице.
Минут через двадцать пять – тридцать я сидела против нее в реальности.
– В заключении коронера ошибка, – кашлянув, с глубокой убежденностью заявила я. – Вывод о самоубийстве не соответствует действительности. Понимаете, я была с Ханной Шнайдер, когда она ушла в лес. Я точно знаю, она не собиралась покончить с собой! Она мне сказала, что скоро вернется. И не врала.
Сержант Файонетт Харпер прищурилась. Ее оказалось тяжело воспринимать вблизи, с этой белой, как соль, кожей и огненно-рыжими волосами. Как ни взглянешь – хрясь, будто удар под дых. У нее были широкие костлявые плечи и манера поворачиваться к собеседнику всем телом, а не только лицом, как будто шея ее не слушается.
Если окружное управление шерифа считать отделом приматов в средней руки зоопарке, то сержант Харпер явно была той единственной мартышкой, которая решила доверять людям и работала как одержимая. Она щурилась на всех и каждого, не только на меня и А. Буна, который привел меня к ее столу («Так», – сказала она без улыбки вместо «здравствуй»). С той же хмурой подозрительностью она смотрела на стопку бумаг на столе, на потертый коврик для мышки с подушечкой под запястье, на прикленную над экраном бумажку с надписью: «Могущий смотреть – да увидит, могущий видеть – да заметит»[423] – и даже на две фотографии в рамках возле компьютера: на одной пожилая женщина с пушистыми седыми волосами и повязкой на глазу, на другой сама сержант вместе с мужем и дочкой, как я поняла. На снимке они подпирали ее с двух сторон, оба такие же длиннолицые, рыжие, ровнозубые.
– И почему же вы так считаете, – спросила сержант Харпер.
Голос у нее был глухой и низкий – нечто среднее между гобоем и горным обвалом, а вопросы она так и задавала, без вопросительного знака.
Я в общих чертах повторила все то, что уже говорила инспектору Коксли в отделении травматологии окружной больницы.
– Я не хочу быть невежливой, – сказала я, – и не ставлю под сомнение ваши методы. В конце концов, вы уже много лет занимаетесь охраной правопорядка и, наверное, достаточно эффективно, однако, по-моему, инспектор Коксли не записал конкретные подробности, которые я ему сообщила. А я по натуре прагматик. Была бы хоть малейшая вероятность самоубийства – я бы согласилась с такой версией. Но это совершенно исключено! Во-первых, как я уже говорила, от палаток за нами кто-то шел. Не знаю кто, но я его слышала. Мы обе слышали. А во-вторых, не такое у Ханны было настроение! Во всяком случае, тогда. Я не спорю, у нее случались минуты депрессии, как и у всех, но там, в лесу, она была полностью в здравом уме.
Ни один мускул не дрогнул на лице сержанта Харпер. Судя по тому, как ее взгляд сам собой уплывал куда-то в сторону и только на какую-нибудь особенно выразительную интонацию резко возвращался к моему лицу, – таких, как я, она уже навидалась. Домохозяйки, аптекари, зубные врачи, банковские служащие… Наверняка все они приходили пылко излагать свою точку зрения, стиснув кулаки, с криво подкрашенными глазами и выдохшимся парфюмом. Сидя на краешке неудобного красного стула (оставляющего колючие шерстистые отпечатки снизу на голых ногах), плакали, присягали на всевозможных Библиях (современный перевод, Библия короля Иакова, семейное издание с иллюстрациями) и клялись могилками дорогих и близких (папиной, бабушкиной, маленького Арчи), что любые обвинения против нашего Родольфо, Ламонта, Каниты Кей и Мигеля – вранье, сплошное вранье.
– Конечно, я понимаю, как все это звучит со стороны. – Я постаралась убрать из голоса истерические нотки (сержант Харпер их явно не переваривала, равно как и трепетных порывов и разбитых сердец). – Но я абсолютно уверена, что Ханну убили. И по-моему, нужно обязательно выяснить, что же там на самом деле произошло.
Сержант Харпер задумчиво почесала в затылке (так люди обычно делают, если категорически не согласны с собеседником). Прищурившись, она потянулась к стоящему слева шкафчику и вытащила с полки толстую зеленую папку с наклейкой (я успела прочесть): № 5509-ШН.
– Вот, – сказала сержант, шлепнув папку себе на колени. – Насчет человека, которого ты слышала в лесу, мы выяснили. – Она перевернула несколько листов фотокопий, заполненных мелким шрифтом, издали не разобрать, и остановилась на одной. – Одновременно с вашей группой в лесу находились две пары туристов из округа Янси – Мэтью и Мазула Черч, Джордж и Джулия Варгезе. Около шести они сделали привал на Сахарной Голове, передохнули часок и двинулись дальше, к Бобровому ручью. Расстояние до него две с половиной мили, до места они добрались к половине девятого. Мэтью Черч сообщил, что искал в лесу хворост, когда у него погас фонарик. Он добрался к своим около одинадцати, и все они легли спать. А тело нашли в пределах четверти мили от лагеря, на Бобровом ручье.
– Он видел нас с Ханной?
Сержант покачала головой:
– Не совсем. Он сказал, что слышал в лесу оленей. Но он выпил три банки пива и вряд ли толком понимал, что именно слышит. Как еще сам-то не заблудился… По всей вероятности, его ты и слышала, когда он ломился через кусты.
– А он носит очки?
Сержант Харпер задумалась:
– Кажется, да… – Она заглянула в бумаги. – Да, очки, в золотой оправе. Он близорукий.
От этого уточнения, про близорукость, мне показалось, что Харпер врет. Я постаралась незаметно подглядеть в листок, но сержант мгновенно захлопнула папку и улыбнулась. Меж тонких обветренных губ блеснули зубы – так шоколадка выглядывает из полуразвернутой фольги.
– Я тоже ходила в походы, – сказала Харпер. – В горах никогда не знаешь наверняка, что именно видишь. Ты нашла ее висящей на дереве, так?
Я кивнула.
– Мозг, защищаясь, создает иллюзорные образы. У четырех из пяти свидетелей показания не соответствуют действительности. Они что-то забывают и додумывают то, чего не было. Так проявляется психологическая травма. Конечно, свидетельские показания необходимо учитывать, но в конечном итоге я доверяю только тому, что вижу своими глазами. То есть фактам.
Я не могла на нее злиться. Из-за всех этих Родольфо, Ламонтов, Канит и Мигелей, пойманных с поличным, в грязных подштанниках, перед телевизором, с полным ртом кукурузных хлопьев, она считала, что знает Жизнь вдоль и поперек. Она изучила округ Слудер до кишок, до самых потрохов, и никто ей ничего нового сказать уже не может. Наверное, мужа и дочку это здорово бесит, но они терпят и молча кивают, слушая ее за обедом из кое-как накромсанной ветчины и консервированного горошка. А она, хоть их и любит, все же чувствует, что от нее их отделяет пропасть. Они живут в своем воображаемом мире – мире домашних заданий, тихой канцелярской работы, невинных молочных усов, между тем как она, Файонетт Харпер, живет в настоящей Реальности, знает всю подноготную, все темные, гнилые уголки.
Я не знала, что еще сказать, какими словами ее убедить. Может, вскочить, опрокинув красный стул, и заорать: «Это безобразие!» – так папа делает, когда заполняет квитанцию в банке, а из десяти лежащих на прилавке шариковых ручек ни одна не пишет. На крик всегда прибегает служащий средних лет, на ходу застегивая пуговицы или молнию, заправляя выбившуюся из брюк рубашку и приглаживая торчащие во все стороны волосы.
Сержант Харпер, должно быть, почувствовала мое отчаяние и, резко подавшись вперед, коснулась моей руки, а потом так же резко снова выпрямилась. Видимо, это было задумано как успокаивающий жест, но выглядело примерно так, будто монетку бросили в щель игрового автомата. Ясно, что сержант Харпер смутно представляет себе, что такое Нежность и Женственность. Для нее это нечто вроде подаренной на день рождения блузки с оборочками – и носить не хочется, и выкинуть нельзя.
– Я ценю, что ты не пожалела времени и пришла поговорить. – Глаза коньячного цвета внимательно наблюдали за моим лицом. – Потому я и согласилась с тобой встретиться. Я ведь не обязана. Следствие закончено. Мне разрешено его обсуждать только с ближайшими родственниками. Но ты пришла, потому что тебе небезразличен исход дела. Это хорошо. Миру нужны неравнодушные люди. Однако скажу напрямик: никаких сомнений насчет того, что случилось с Ханной Шнайдер, у нас нет. Постарайся это осознать и принять, и чем скорее, тем лучше.
Потом сержант Харпер взяла чистый лист бумаги и молча нарисовала на нем четыре картинки.
(Я это часто вспоминаю и каждый раз восхищаюсь гениальностью такого подхода. Если бы каждый, доказывая свою мысль, вместо того чтобы бросаться громкими фразами и размахивать кулаками, спокойно рисовал на бумаге свои доводы! Потрясающе, насколько это оказалось убедительно. Жаль, я не сразу оценила красоту идеи и не взяла рисунок с собой. Поэтому для иллюстрации мне пришлось очень приблизительно воспроизвести набросок сержанта Харпер – до того подробно и тщательно прорисованный, что получилось даже немножко похоже на Ханну.)
– Такие отметины остаются на трупе в случае убийства. – Харпер ткнула пальцем в две картинки справа на листе. – Их невозможно подделать. Допустим, ты кого-то душишь. На шее останется пятно – вот здесь, поперек. Представь себе руки. Или, скажем, веревку. То же самое. Чаще всего остаются еще и синяки, и раздробленные хрящи, потому что из-за выброса адреналина преступник прикладывает больше силы, чем нужно.
[НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ 16.0]
Она указала на две картинки слева.
– А так получается в случае самоубийства. Видишь? Веревка образует как бы перевернутую букву «V». Давление идет снизу вверх. Следов ногтей, как правило, не бывает – если только самоубийца не передумал в последний момент. Это случается, потому что больно. Мало кто вешается правильно. В старину, когда казнили преступников, осужденный падал вертикально вниз с высоты от шести до десяти футов, и веревка перебивала позвоночник. А сейчас большинство самоубийц влезают на стул, прикрепив веревку к потолочной балке или крюку, и падать приходится всего два-три фута. Чтобы перебить хребет, этого недостаточно, а смерть от удушья наступает только через пару минут. Именно так было с твоей подругой Ханной.
– А можно убить человека так, чтобы получилось перевернутое «V»?
Сержант Харпер откинулась на спинку стула:
– Можно, однако маловероятно. Для этого надо, чтобы жертва была без сознания или связана. Или захватить ее врасплох. Тут нужен профессиональный убийца, как в кино. – Она хмыкнула и тотчас подозрительно покосилась на меня. – В данном случае такого не было!
Я кивнула:
– Ханна использовала электрический провод?
– Так довольно часто делают.
– Но у нее с собой не было провода!
– Возможно, он был в сумочке на поясе. Мы нашли в ней компас, и больше ничего.
– А предсмертная записка?
– Не все самоубийцы оставляют записки. Одинокие люди без близких родственников редко пишут предсмертные записки, а Ханна Шнайдер была сиротой. Она выросла в детском доме «Горизонт» в Нью-Джерси. Никакой родни у нее не было. Совсем никого.
Я от удивления просто онемела. Слова сержанта, будто непредвиденный результат лабораторного опыта, перечеркнули все мои представления о Ханне. Правда, она никогда о себе не рассказывала (если не считать пары-тройки отдельных случаев, которыми она нас дразнила, как голодного пса дразнят колбасой, отдергивая ее в последнюю минуту), но я всегда думала, что детство Ханны – это яхты и лошади, папа с карманными часами, мама с худыми руками, которая не выйдет из дому ненакрашенная (забавно, примерно таким же в моем воображении было и мамино детство).
И ведь я это не с потолка взяла, правда? Жест, каким Ханна закуривала сигарету, как она поворачивала голову, являя на обозрение профиль, словно изысканную вазу, как она откидывалась на спинку – кресла, дивана, чего угодно, – по всем этим признакам Ханна выросла не просто в обеспеченной, а в очень богатой семье. Да хоть вспомнить, что она говорила тогда в ресторане: «Чтобы перебороть такое воспитание, нужны годы. Я всю жизнь над этим работаю»… Папа такие штуки называет «свойственное плутократам преувеличенное чувство вины», как правило «безалаберное и недолговечное». И даже в Коттонвуде, в убогом мотеле, Ханна входила вслед за Доком в двадцать второй номер, словно в ложу театра Ла Скала на оперу Моцарта «Cosi fan tutte»[424] (1790) – спина прямая, голова высоко поднята, как у наследницы знатного рода.
Сержант Харпер приняла мое молчание за неохотное согласие и еще прибавила:
– За ней уже числилась одна попытка самоубийства. Точно такой же способ – провод от электроудлинителя. В лесу.
Я вытаращила глаза:
– Когда это?
– В восемнадцать. Незадолго до того, как выпустилась из детского дома. Чуть не умерла. – Харпер наклонилась ко мне, приблизив свое крупное лицо почти вплотную. – Ну вот, я тебе рассказала больше, чем нужно. А теперь слушай внимательно. Я много раз видела, как такие вот сомнения губят безвинных людей. И совершенно зря, потому что эти люди вообще ни при чем. Дело только между самоубийцей и Богом. А ты иди домой и живи дальше, не думай об этом. Ты, конечно, хочешь помочь своему другу, но я тебе точно говорю: она сама все это задумала и специально притащила с собой вас шестерых. Понятно?
– Да.
– Если человек сознательно повесил такой груз на ни в чем не повинных детей… О таком и страдать не стоит, ясно тебе?
Я кивнула.
– Хорошо.
Сержант Харпер, кашлянув, поставила папку с делом Ханны обратно на полку.
Через минуту мы с папой уже шли к машине. Отяжелевшее солнце нависло над Мейн-стрит, превращая ее в свалку мятых теней от раскаленных машин у обочины, тонконогих дорожных знаков и дохлого велосипеда, прикованного цепями к скамье.
– Ну что, все уладилось? – весело спросил папа. – Дело закрыто?
– Не знаю.
– Как Рыжуля к тебе отнеслась?
– Хорошо.
– У вас, кажется, завязалась увлекательная беседа?
Я пожала плечами.
– Знаешь, радость моя, я впервые в жизни видел настолько неприлично-рыжую даму. Как ты думаешь, у нее волосы от природы такими растут или этот морковный оттенок получают с помощью специальной краски? Наверное, это особое полицейское оружие, чтобы ослеплять нарушителей закона.
Папа старался меня рассмешить, но я только заслонила глаза рукой от солнца, дожидаясь, пока он отопрет машину.
Глава 27. «Жюстина», маркиз де Сад
[425]
Поминальная служба по Ханне состоялась в следующую пятницу, шестнадцатого апреля, и была это сплошная лажа. В лучших традициях «Сент-Голуэя», разумеется, гроб отсутствовал.
Во вторник Хавермайер объявил назначенную дату церемонии (а также что после нее уроки отменяются – такой своеобразный праздник имени Ханны). Далее он сообщил, в виде эпилога, что Ханну похоронили в Нью-Джерси. Печальный финал. Я даже не слышала ни разу, чтобы Ханна произносила это название – Нью-Джерси.
Явились только мы, ученики, и одетые в терракотовые тона преподаватели, а также хор школы (семнадцать зануд, недавно переименовавшие себя в «Хоровое общество» для пущей важности). Школьный капеллан на полставки звался не преподобный Альфред Джонсон, или проповедник Джонсон, или евангелист Джонсон, а благопристойно-абстрактно: мистер Джонсон. Вероятно, он учился в каком-нибудь богословском заведении, а каком именно – никто не знал. Руководство школы строго-настрого запретило ему выдавать хотя бы косвенно, к какой конфессии он принадлежит, дабы не обидеть ненароком единственного ученика, чьи родители относились к течению «Святых последних дней» (Кейденс Боско). В рекламном буклете школы – «Ввысь, к знаниям!» – двухэтажную каменную часовню назвали «святилищем», не связав ни с одной конкретной религией (в каникулы там проходили «светские мероприятия»). Часовня считалась просто «домом веры» – а какой веры, вопрос темный. Вряд ли и мистер Джонсон это знал. Мистер Джонсон ходил не в облачении священника, а в защитного цвета брюках и рубашке поло с короткими рукавами, ярко-синей или темно-зеленой, словно помощник, подносящий клюшки при игре в гольф. Говоря о Высших Силах, он употреблял такие слова, как «благодатные», «поддерживающие» и «преобразующие». Эти Силы «помогают пережить трудное время», и следовать им «способен каждый, приложив немного труда, стараний и доверия». Словом, Бог у него – что-то вроде турпоездки в Канкун.
Я сидела во втором ряду, вместе с другими выпускниками, уставившись в текст пьесы «Луна для пасынков судьбы» (О’Нил, 1943), чтобы не встретиться взглядом с Аристократами, когда они появятся. За все это время я никого из них не видела, кроме Джейд и Найджела (его мама высадила из машины прямо перед нашим «вольво»; я тянула время, расстегивая и застегивая молнию на рюкзаке, пока Найджел не скрылся за дверями Ганновера).
До меня доходили обрывки слухов.
– Не понимаю, с чего я так восхищалась Мильтоном, – сказала на углубленной литературе Мейкон Кэмпинс. – Мы сегодня рядом сидели на биологии – ничего такого особенного, парень как парень.
– Вот и Джоли из-за этого с ним рассталась, – ответила Энджела Гранд.
Я надеялась увидеть их в столовой или на общем собрании (украдкой, как мы с папой когда-то подсматривали в трейлер самого маленького в мире гермафродита в цирке шапито на Хеллоуин), но они там не появлялись. Видимо, родители договорились с мистером Баттерсом, и наша пятерка исправно посещала психолога Деб Кромвель по утрам и на большой перемене. Деб, невысокая и желтолицая, с медлительными движениями и маслянистой речью (ходячий шматок камамбера), устроилась как дома в комнате 109 корпуса Ганновер, обвешав стены разнообразными плакатами и диаграммами. Когда я пробегала мимо по дороге на углубленный матанализ, она всегда сидела там в одиночестве, листая собственные брошюрки о борьбе с депрессией (если только Мирта Грейзли не заходила ее навестить, скорее всего случайно: говорят, она часто вместо своего кабинета забредала в совсем другие комнаты, в том числе и мужской туалет).
Хор на балконе запел «Осанна, честь и слава», а наши Аристократы все еще не показывались. Я уже решила, они снова сидят у психолога и Деб знакомит их с радостями Принятия Себя и Расставания С Прошлым, но тут сама Деб вместе со школьной медсестрой миз Джарвис просеменили к скамье, где сидел Хавермайер, а рядом – его жена Глория, до того беременная, что издали казалось, будто ее придавило громадным валуном.
Тут кто-то ахнул; это Доннамара Чейз, прямо позади меня, чуть не грохнулась в обморок. Вся школа, включая учителей, разом обернулась. В часовню гуськом вошли наши пятеро, объятые любовью к себе (см. «Эбби-роуд», Битлз, 1969). Аристократы были в черном с ног до головы. Мильтон и Найджел похожи на ниндзя (размеров XL и XS), Лула в длинном глухом шифоновом платье несколько вампирского толка, а Джейд откровенно копирует Жаклин Кеннеди на Арлингтонском кладбище (громадные темные очки, сдвинутые на лоб, и винтажная черная сумочка из крокодиловой кожи с успехом заменяли вуаль и Джон-Джона)[426]. Замыкал шествие Чарльз, похожий на обугленного слона, – тоже весь в черном, только гипс на левой ноге (от щиколотки до бедра) торчит громадным бивнем. Бледный, страшно исхудавший, он ковылял на костылях, мрачно глядя в пол, а лицо блестело от пота (золотистые кудряшки прилипли ко лбу, словно подмокшие кукурузные колечки к миске). Мне стало совсем тошно – не потому, что я сейчас не с ними и не одета в черное (я и не подумала даже, напялила дурацкое платьице в цветочек), а потому, что Чарльз был так не похож на того, каким я его встретила впервые, осенью, когда он хлопнул меня по плечу на утреннем общем собрании. Тогда он был «Спокойной ночи, луна» (Браун, 1947), а теперь – «Там, где живут чудовища»[427] (Сендак, 1963).
Аристократы уселись в первом ряду, как раз передо мной.
– Сегодня мы собрались в этом священном прибежище, чтобы выразить свою скорбь и вместе с тем вознести благодарность, – начал с кафедры мистер Джонсон.
Облизнул губы и бросил взгляд в текст (он постоянно облизывал губы; видно, они у него вроде картофельных чипсов – солененькие и вызывают привыкание).
– Три недели назад всеми любимая Ханна Шнайдер нас покинула, и все это время непрестанно звучат самые добрые слова в ее адрес. Люди рассказывают о том, как она повлияла на нашу жизнь – в великом и в мелочах. Сегодня мы все вместе хотим выразить благодарность за то, что нам довелось повстречать такого прекрасного человека, учительницу и друга. Спасибо за ее доброту, человечность, ее заботу о нас, мужество в преодолении препятствий и радость, которую она дарила. Жизнь вечна, и любовь вечна, а смерть – ничто, всего лишь горизонт, а горизонт – всего лишь линия, обозначающая пределы нашего взора.
Джонсон бубнил и бубнил, переводя взгляд с одной части слушателей на другую с регулярностью поливальной установки – наверное, почерпнул сие полезное знание на курсах для проповедников: «Необходимо сплотить аудиторию, создав у каждого чувство причастности и человеческого единения». Речь была не такая уж гадостная, просто в ней никак не отражалась Ханна. Сплошь «она была светлым человеком» да «она мечтала о благе для всех», и ни слова о том, чем она жила на самом деле, – этой темы Хавермайер и прочие учителя боялись до дрожи, как если бы вдруг обнаружили асбест в корпусе Элтон или узнали, что повар школьной столовой Кристиан Гордон болен гепатитом А. Я так и видела стандартный текст проповеди с пометками «вписать нужное имя» (см. , № 8).
Когда он наконец умолк, хоровое общество взгремело, чуть фальшивя: «Снизойди на нас, Божья любовь». Ученики потянулись к выходу, улыбаясь, ослабляя галстуки, подтягивая резиночки на прическах «конский хвост». Я напоследок еще раз воровато глянула на Аристократов – они сидели, как статуи, с каменными лицами. Во все время проповеди ни разу не шевельнулись и не перешептывались между собой. Только Лула, словно почувствовала мой взгляд, обернулась, когда Эва Брюстер зачитывала текст из Псалтири, и, стиснув зубы, так что на щеках образовались вмятинки, посмотрела прямо на меня (и тотчас уставилась в пространство; так пассажиры машин, что мы с папой обгоняли в своем «вольво», смотрели мимо нас, на более интересные вещи: траву, небо, рекламные щиты у дороги).
Хавермайер двинулся по проходу со свинцовой улыбкой на лице, рядом катилась Глория, а за ней семенил мистер Джонсон, жизнерадостный, что твой Фред Астер, исполняющий фокстрот с очередной красоткой. Тут и Аристократы поднялись. Не глядя ни направо, ни налево, высоко держа голову, точно так же, как Ханна, когда танцевала с бокалом в руке под «Лихорадку» Пегги Ли[428] (а то и просто за обеденным столом, притворяясь, будто ей интересны наши дурацкие рассказы о школьной жизни), они проследовали к выходу и растворились в ослепительном сиянии дня.
Я забыла предупредить папу, что сегодня нас отпустят раньше. Пришлось бежать к телефону-автомату в безлюдном вестибюле Ганновера.
– Оливки! Постой!
Я оглянулась – это был Мильтон. У меня не было большого желания с ним общаться. Кто его знает, каких он мне гадостей наговорит, распалившись после поминальной службы… Но я приказала себе остаться на месте. «Отступай только перед лицом неминуемой смерти», – пишет Нобунага Кобаяси в книге «Как стать убийцей сёгуна» (1989).
– Привет, – сказал он со своей обычной улыбкой ленивца.
Я молча кивнула.
– Как жизнь?
– Замечательно.
Мильтон выгнул бровь и сунул ручищи в карманы.
Выдержал еще одну паузу. Династия Мин поднялась к вершинам власти и вновь ушла в небытие, пока он не соизволил произнести следующую реплику:
– Я хотел с тобой поговорить.
Я молчала. Пусть говорит великий ниндзя. Пускай теперь он напрягается, подыскивая слова.
– В общем… – Он вздохнул. – Не представляю я, как это она могла себя убить.
– Неплохо, неплохо, Молчун. А теперь давай завяжи эту светлую мысль узелком и попробуй на ней повеситься. Выдержит или нет?
Вид у Мильтона стал ошарашенный. Может быть, даже огорошенный. Папа говорил, в наши дни, когда «извращенный секс воспринимается как обыденное явление, а эксгибициониста в общественном парке увидишь чаще, чем поле пшеницы в Канзасе», огорошить человека практически невозможно. Однако мне это, кажется, удалось. Конечно, Мильтон не привык слышать от меня интонации крутого ковбоя. Он еще не знал новую Синь – Синь-завоевательницу, Синь Вороненую Сталь, Хищницу Дикого Запада, Техасскую Лихачку, Леди из Луизианы, которая стреляет с бедра, гордо красуется в седле и странствует одинокими тропами. (Также он, очевидно, не читал «Отважного» [Рейнольдс, 1974]; я дословно повторила то, что Красавчик Пестрый сказал Торопыге Смиту.)
– Может, свалим отсюда? – предложил Мильтон.
Я кивнула.
Наверное, у каждого есть свой «Сезам, откройся» – свой «крибле-крабле-бумс», непредсказуемое слово или знак, выбивающий из колеи. Человек начинает себя вести совершенно непривычным образом на какое-то время или даже навсегда. Словно приоткрыли дверку – и забитый ботан превращается в роскошного парня. Для Мильтона волшебным ключом оказалась цветистая фраза в занудной речи мистера Джонсона. Папа о ней сказал бы: «волнующая, как бетонная стена». И еще: «Общая беда наших современных политиков и всех официально выступающих на публике – когда они раскрывают рот, вылетают не слова, а солнечные летние деньки с теплым ветерком и щебечущие птички-синички, которых так и хочется пристрелить из дробовика».
– Когда он сравнил Ханну с цветком… С розой, что ли… Я вроде как растрогался. – Мильтон чуть-чуть повернул руль громадной лапищей, выводя «ниссан» со школьной автостоянки. – Не мог я после этого злиться, тем более на тебя, Оливки. Я и Джейд с Чарльзом сказал, что ты не виновата, но они сейчас ничего нормально соображать не могут.
Улыбка, будто ладья викингов на аттракционе, выплыла на его лицо, качнулась вбок, на мгновение застыла почти вертикально и снова ушла в ангар.
Неуправляемая штука – любовь, а точнее, безрассудное влечение («Когда говоришь о чувствах, выбирай слова так же тщательно, как для докторской диссертации», – говорил папа). Я думала, после всего случившегося у меня к Мильтону ничего не осталось и остаться не могло, но вот он улыбнулся, и все прежние сопливые эмоции тут как тут, столпились и ждут на автобусной остановке тесной кучкой.
– Ханна мне велела, когда вернемся из похода, отвезти тебя к ней домой. Давай съездим, если ты не против.
– Что? – не поняла я.
Мой вопрос полминуты, не меньше, провисел в воздухе, пока Мильтон наконец не ответил:
– Помнишь, когда мы лезли на гору, Ханна ко всем по очереди подходила разговаривать?
Я кивнула.
– Тогда она мне и сказала. Я совсем забыл, только пару дней назад вспомнил. Ну и вот…
– Что она сказала?
– «Когда вернетесь, отвези Синь ко мне домой. Только вы вдвоем, больше никого». Три раза повторила. Помнишь, она в тот день вообще была как ненормальная? Командовала все время, орала что-то на вершине. А когда про тебя говорила, я ее прямо не узнал. Ну, я вроде как в шутку перевел: с чего бы, мол, Синь и так может к вам в гости прийти в любое время. А она опять свое: «Когда вернетесь, приезжайте с ней ко мне домой. Ты потом поймешь». Слово взяла, что привезу тебя и нашим ничего не скажу.
Он включил радио. Рукава Мильтон закатал выше локтей, и когда протягивал руку, переключить передачу, босые пальчики татуированного ангела выглядывали наружу, словно краешек морской раковины из песка.
– Вот странно, – продолжал он своим быковатым голосом, – она сказала «когда вернетесь», а не «когда вернемся». Я все думал об этом. Выходит, она не собиралась возвращаться с нами.
– Ты же вроде не веришь, что она покончила с собой?
Он пожевал эту мысль не спеша, будто табачную жвачку, щурясь на солнце. Опустил противосолнечный щиток. Мы мчались по автостраде, напролом сквозь густой свет и развешанные по сторонам дороги тени деревьев. Деревья высоко тянули ветки, словно знали ответ на какой-то важный вопрос и умоляли учителя их вызвать. Старенький «ниссан» дребезжал, как голодная кровать в мотеле, которую надо то и дело подкармливать четвертаками, – я сама этого ни разу не видела, а папа рассказывал, что насчитал семь штук таких мотелей в радиусе одной мили, когда был в северной части Чада («У них там ни ванных, ни водопровода, зато кровати со звонком»).
– Это она с нами прощалась так, – сказал Мильтон, кашлянув. – Затем и подходила к каждому отдельно. Луле сказала: «Не бойся остричь волосы». А Джейд: «Настоящая леди всегда остается леди, даже когда снимает маленькое черное платьице», – не знаю, что эта хренотень значит. Найджелу сказала быть самим собой и еще про обои что-то: «Меняй обои, когда захочется, а на расходы плевать. Тебе жить в комнате с этими обоями». А мне вначале сказала, еще до того, как про тебя: «Может, ты станешь астронавтом и будешь ходить по Луне». А что Чарльзу сказала, никто не знает. Он не говорит. Джейд считает, она ему в любви призналась. А тебе что?
Я промолчала. Мне-то Ханна не сказала ни одного ободряющего слова, пусть бы даже непонятного и загадочного (не хочу обидеть Мильтона, но, по-моему, астронавтом ему быть противопоказано; опасно такому здоровенному парню мотаться в невесомости по космическому кораблю).
– Понимаешь, – задумчиво продолжал он, – в самоубийство верить не хочется, потому что чувствуешь себя последним дураком. Хотя, если вспомнить, все сходится. Она всегда одна была. И стрижка эта… И потом, еще история с этим типом, Смоком. И шашни с дальнобойщиками… Тьфу. Ясно же все. Как это мы ничего не замечали?
Он смотрел на меня, а я не знала, что ответить. Его взгляд слаломистом по лыжне скользнул вниз по моему платью, задержавшись на голых коленках.
– Как думаешь, почему она хотела, чтобы я тебя к ней домой отвез? Обязательно вдвоем, больше никого?
Я пожала плечами, хотя в глубине души мелькнуло – неужели после моей неудачной попытки ближе познакомить ее с папой (это было до новой эры, то есть до Коттонвуда; узнав о Коттонвуде, я решила, что Ханна папе не подходит по медицинским показателям), неужели Ханна решила, в свою очередь, помочь мне наладить личную жизнь и подбросила Мильтону свою двусмысленную просьбу, чтобы мы после Большого взрыва очень кстати оказались наедине в пустом доме (стандартный научный принцип: вслед за большим потрясением приходит новое начало). Может, ей Лула или Джейд рассказала, что я на Мильтоне задвинута, а может, сама догадалась (всю осень и зиму при малейшем его движении мой взгляд вспархивал к нему испуганной птицей).
– Вот здорово, если она тебе оставила чемодан бабла, – заметил Мильтон, лениво улыбаясь. – Если буду себя хорошо вести, ты со мной поделишься.
За окном проносились луга, сараи, терпеливые лошади (солнце приварило им копыта к траве). Мелькнуло дерево, похожее на штопор, за ним небольшой пригорок – здесь Джейд непременно давила на газ, так что машина подпрыгивала и желудки у нас переворачивались, как блинчики на сковородке. Я рассказала Мильтону о том, что произошло в лесу (снова умолчав о том, как нашла мертвую Ханну).
Мильтон спросил, что, по-моему, Ханна хотела рассказать? Ради чего увела меня от костра? Я соврала, что понятия не имею.
То есть, строго говоря, это было не вранье. Я и правда не знала. Но догадки у меня имелись. Бессонными ночами, в библиотечной тишине моей комнаты, за громадным столом в стиле «Гражданина Кейна» (выключая лампу, если слышала, что папа крадется проверить, сплю я или нет), я перебирала неисчислимые возможности.
И после долгих раздумий пришла к выводу, что на материале данной загадки можно, в принципе, построить две теории (не считая только что подброшенной Мильтоном версии, будто бы Ханна собиралась и мне дать прощальное напутствие: что я когда-нибудь буду гулять по Марсу или чтобы я без колебаний перекрасила свой дом в яркие цвета, потому что мне там жить; эти жухлые фразочки она прекрасно могла мне выдать еще на тропе. Нет уж, будем исходить из предположения, что Ханна планировала мне сказать нечто совершенно другое, несравненно более важное).
Итак, теория первая: Ханна хотела в чем-то признаться. Заманчивая идея, особенно если вспомнить внезапно охрипший голос Ханны, бегающий взгляд, отрывистую речь, словно ее то и дело шибало током. В чем же она хотела признаться? Да в чем угодно, от какой-нибудь пошлости до полного сумасшествия. Например, о своих поездках в Коттонвуд, или о мимолетном романе с Чарльзом, или что ее каким-то образом угораздило пристукнуть Смока Харви. Или о тайной связи с «Семьей» Мэнсона – в этом ее мимоходом обвинила Джейд по дороге в физкультурную раздевалку и тотчас же напрочь забыла. (Кстати, книга о Черном дрозде так и осталась у меня, в нижнем ящике письменного стола. Со мной чуть инфаркт не случился, когда Тру однажды на самостоятельном уроке обмолвилась, что Ханна спрашивала, не брал ли кто ее книгу. «Что-то о птицах», – небрежно сказала Тру.)
Если теория о признании верна, я могу только предположить, что Ханна решила доверить свой секрет мне, а не, скажем, Джейд или Лу, потому что считала меня самой безобидной. Может, вдобавок ей чутье подсказало, что я прочла все статьи Скобела Бедлоуза о том, что нельзя никого осуждать, поскольку «разрушительное воздействие таких мыслей направлено внутрь, а не на других людей или животных» (см. «Время побивать камнями», Бедлоуз, 1968). Еще, мне кажется, Ханна инстинктивно очень хорошо понимала, что за человек мой папа, и могла предположить, что я стараюсь всех прощать, а к чужим недостаткам относиться как к безработному бродяге, которого нашла спящим у себя на крыльце: если его накормить и обогреть, он, может, еще и работать на тебя станет.
Вторая теория, значительно более пугающая, состояла в том, что Ханна собиралась открыть мне какую-то тайну ОБО МНЕ САМОЙ.
Я – единственная из нашей компании, кого Ханна не подобрала после катастрофы в семейной жизни. Я не сбегала из дому со старым турком, не бросалась в объятия дальнобойщика (которого и не обхватишь-то, наверное), не связывалась с уличными бандами, родитель мой не баловался наркотиками и не сидел в тюрьме строгого режима. Неужели Ханна знает что-то такое, что роднит меня с ними со всеми?
Что, если папа – на самом деле не мой папа? На дороге меня подобрал, как монетку? А Ханна – моя настоящая мать, отдала меня в приют, потому что в восьмидесятых никто не хотел жениться и выходить замуж, все хотели только на роликах кататься и носить пиджаки с подплечниками? Или, например, у меня есть сестра-близнец по имени Сапфир, красавица, спортсменка, веселая и загорелая, и растит ее не папа-осмий (самый тяжелый металл, известный науке), а мама-литий (самый легкий металл), которая работает не странствующим преподавателем и сочинителем статей, а простой официанткой в Рино?
В приступе паранойи я не раз прибегала тайком в папин кабинет и рылась в его бумагах – черновиках статей и выцветших заметках к «Железной хватке». Рассматривала фотографии: Наташа за роялем, на другой – они с папой стоят на корте под ручку, держат ракетки для бадминтона, костюмы и выражения лиц будто из послевоенного, 1946 года, а не 1986-го, как было на самом деле.
Эти хрупкие снимки поддерживали мое прошлое, придавая ему несокрушимую реальность. Я все-таки рискнула задать папе пару-тройку вопросов. Папа долго смеялся.
– Ты что, «Джуда Незаметного» начиталась?[429]
Мильтон не мог объяснить, почему Ханна выделила меня из всех и почему меня не было с ними, когда Чарльз полез на скалу, надеясь увидеть сверху какой-нибудь ориентир – высоковольтную линию электропередач или вывеску мотеля, – сорвался, рухнул «в пропасть размером с Гранд-Каньон и заорал как резаный». Когда я закончила свой рассказ, слегка зацепив наше с Джейд столкновение в корпусе Лумис, Мильтон только головой покачал с озадаченным видом.
Тут мы подъехали к крыльцу покинутого дома Ханны.
Стыдно признаться, но под влиянием книги Джазлин Бонноко «Тайна судового журнала» (1989) я высказала предположение: может, Ханна хотела, чтобы мы нашли у нее в доме какую-нибудь подсказку, вроде карты клада или старых писем от шантажиста – «то, что объяснит нам поход в горы и ее смерть». Поэтому мы решили аккуратненько исследовать ее вещи.
Мильтон, словно читая мои мысли, сказал:
– Начнем с гаража?
Подозреваю, мы оба просто боялись войти в дом – вдруг наткнемся на призрак Ханны.
Дощатый гараж на одну машину стоял поодаль. С провисающей крышей и мутными окнами, он был похож на помятый спичечный коробок, который слишком долго таскали в кармане.
Я беспокоилась о судьбе животных, но Мильтон сказал, Джейд и Лу узнавали – хотели забрать их себе, а оказалось, их взял некий Ричард, он работал вместе с Ханной волонтером в приюте для бездомных собак и кошек, а вообще разводил лам на ферме в Бердин-Лейк, к северу от Стоктона.
– Грустно, вообще-то, – сказал Мильтон, открывая боковую дверь гаража. – Они теперь будут как тот пес.
– Какой пес?
Я перешагнула порог вслед за Мильтоном. На двери не было запрещающей ленты с табличкой «Не входить, идет расследование», и похоже, в гараж никто не заходил.
– Какой пес-то? Старый Брехун?[430]
Мильтон помотал головой и включил свет. Неоновая лампа озарила раскаленное тесное помещение. Здесь не то что машина, две покрышки не поместились бы. Понятно теперь, почему Ханна ставила «субару» около дома. В гараже, словно в открытой могиле, были свалены грудой без разбору покалеченные стулья и кресла, искореженные абажуры, какие-то ковры, картонные коробки и разнообразное походное снаряжение.
Мильтон осторожно перешагнул через коробку.
– Ну, ты знаешь. В «Одиссее». Тот, что все хозяина ждал.
– Аргус?
– Ага. Бедняга Аргус… Он издох, да?
– Пожалуйста, перестань!
– А что?
– Депрессию тут развел.
– Да ладно, не обращай внимания.
Мы приступили к раскопкам, и чем дольше разгребали старые рюкзаки, коробки и кресла, тем больше вдохновлялись. Мильтон все еще не расстался с мыслью о полном чемодане денег, хотя и допускал, что пачки банкнот могли храниться под сиденьем кресла или в полотняной наволочке.
А со мной начало твориться странное: я представляла себя героиней фильма, эффектной дамой по имени Слим, Айрин или Бетти, в узкой юбке и атласном бюстгальтере и с косой челкой, прикрывающей один глаз. Мильтон стал циничным парнем в фетровой шляпе, с разбитыми в кровь костяшками пальцев и взрывным темпераментом.
– Проверим, проверим, вдруг старушка нам кое-что оставила, – напевал Мильтон, бодро потроша найденным здесь же армейским ножом оранжевую диванную подушку. – Не хочется, чтобы с ней вышло, как в фильмах Оливера Стоуна.[431]
Я кивнула, вскрывая очередную коробку:
– Если твою тайну разрекламируют, уже не принадлежишь самому себе. Каждый тебя присваивает и превращает, во что захочет.
– Ага. – Мильтон задумчиво смотрел на развороченную поролоновую набивку. – Ненавижу открытые финалы. Как с Мэрилин Монро – что там с ней все-таки случилось? Может, она узнала какую-то тайну и охрана президента с ней расправилась? Чушь собачья! Люди не могут просто принимать жизнь как…
– Бесплатный фрукт.
Мильтон улыбнулся:
– Точно. С другой стороны, может, и впрямь несчастный случай. Звезды не так выстроились, и – опа, смерть. Лотерея, и все тут. Или, может, она решила, что у нее больше нет сил. У всех бывают такие мысли, а она взяла и сделала. Считала, что лучшего не заслуживает. А через секунду поняла, что неправда это, пробовала спастись, да поздно.
Я не могла понять, о ком он говорит – о Мэрилин или о Ханне.
– Вот так всегда… – Мильтон отложил подушку, взял пепельницу, повертел в руках, разглядывая донышко. – Никогда не знаешь, в чем дело – чей-то злодейский заговор, или просто так сложилось, или…
– Или жизни завиральные виражи.
У Мильтона даже челюсть отвисла. Сражен наповал типичным папизмом, а меня такие обычно раздражали (данную фразу можно найти в черновиках «Железной хватки», если только терпения хватит разбирать кошмарный почерк).
– Хорошо сказала, Оливки! Очень классно!
За два часа раскопок мы так и не нашли прямых улик, зато обнаружили целую толпу Ханн, совсем непохожих на ту, которую знали, – ее сестер, кузин и падчериц. Были среди них, например, Ханна-хиппи (старые пластинки Кэрол Кинг и Боба Дилана, бульбулятор, книги по тайцзицюань, пожелтевший билет на митинг в защиту мира в парке «Золотые ворота» третьего июня 1980-го), Ханна-стриптизерша (в этой коробке копаться мне было неловко, а Мильтон запросто вытаскивал оттуда лифчики, купальники, полосатые, как зебра, трусики и еще какие-то сложные предметы, непонятно как надевающиеся), была Ханна-партизанка (солдатские ботинки, складные ножи), Ханна, Одержимая Без Вести Пропавшими (та самая папка с ксерокопиями газетных статей, которую нашел когда-то Найджел; только он соврал, не полсотни страниц там было, а всего-навсего девять).
Но больше всего мне понравилось, когда из продавленной картонной коробки материализовалась Ханна в стиле Мадонны.
Под пупырчатым баскетбольным мячом, среди дохлых пауков, флакончиков лака для ногтей и прочей дребедени я нашла выцветшую фотографию Ханны с торчащими во все стороны короткими ярко-красными волосами и лиловыми тенями во все веко, до самых бровей. Ханна выступала на сцене с микрофоном в руке, в блестящей желтой мини-юбочке, белых в зеленую полоску колготках и черном корсете, сделанном не то из пакетов для мусора, не то из старых покрышек. Ханна пела – рот у нее был так широко раскрыт, что туда легко можно было засунуть куриное яйцо.
– Ни фига себе, – ахнул Мильтон, вытаращив глаза.
Я перевернула снимок – на обороте ни даты, ни каких-нибудь надписей.
– Это же она? – спросила я.
– Она. Черт!
– Как думаешь, сколько ей здесь?
– Восемнадцать? Двадцать?
Даже с остриженными почти под ноль волосами, клоунской косметикой и злобно прищуренными глазами она была великолепна (это, наверное, и есть идеальная красота: никогда не подведет, как тефлон).
Мы просмотрели последнюю коробку, и Мильтон сказал, что пора переходить к дому.
– Ну что, Оливки, как настроение? Все пучком?
Он вытащил из-под горшка с геранью на крыльце запасной ключ и, поворачивая его в замке, вдруг протянул левую руку назад, нашарил мою талию, стиснул и сразу отпустил (вполне безобидный жест, вроде упражнения с надувным мячом для снятия стресса, а у меня сердце затрепыхалось и немедленно свалилось в обморок).
Мы на цыпочках вошли в дом.
Удивительное дело – там совсем не было страшно. Без Ханны в доме установилась торжественная тишина давно исчезнувшей цивилизации. Мачу-Пикчу или обломок древнего Парфянского царства. Как пишет сэр Блейк Симбел в своей книге о том, как поднимали на поверхность затонувший корабль «Мария-Роза»[432], «В синей глубине» (1989), забытые цивилизации не пугают, а зачаровывают: «…полные загадок и тайн, они молчаливо доказывают, насколько Земля и рукотворные предметы долговечней человеческой жизни» (стр. 92).
Я оставила папе сообщение на автоответчике – предупредила, что меня подвезут до дома, – и мы занялись исследованием гостиной. Мы как будто впервые ее увидели. Когда не отвлекают пластинки Нины Симон или Мела Торме и сама Ханна, скользящая по комнате в своих потрепанных одеяниях, стало возможно рассмотреть вещи по-настоящему. В кухне – чистый блокнот и шариковую ручку с полустертой золотой надписью «Бока-Ратон» возле телефонного аппарата шестидесятых годов (в таком же точно блокноте Ханна когда-то написала «Валерио»; жаль, на открытой страничке мы не нашли загадочных следов от написанных букв, которые можно было бы выявить, слегка заштриховав карандашом, что постоянно с блеском проделывают сыщики в телесериалах). В гостиной, где мы сто раз обедали, нашлись предметы, которых мы с Мильтоном вообще до сих пор не видели: две уродские фарфоровые русалки в стеклянной витрине за стульями Джейд и Найджела и терракотовая женская фигурка в эллинистическом стиле высотой примерно шесть дюймов. Я сперва подумала, что Ханне их подарили незадолго до нашего похода в горы, но, судя по толстому слою пыли, они там простояли несколько месяцев.
А потом я вынула из видеопроигрывателя кассету с фильмом «L’Avventura»[433]. Полностью перемотанную к началу.
– Что там? – спросил Мильтон.
– Итальянский фильм. Ханна о нем рассказывала на занятиях.
Я отдала кассету Мильтону и взяла с кофейного столика пустую коробочку от нее.
– «Лавентура»? – неуверенно спросил Мильтон, скривив рот на сторону. – О чем это?
– О женщине, которая пропала. – У меня по спине побежали мурашки.
Мильтон, кивнув, швырнул кассету на диван.
Мы прочесали оставшиеся комнаты на первом этаже, но никаких потрясающих открытий не сделали: ни оленей и бизонов из кости, кремня или дерева, ни резной фигурки Будды, ни хрустальной или керамической шкатулки из империи Маурьев. Мильтон предположил, что Ханна могла вести дневник, и мы поднялись наверх.
Спальня Ханны с прошлого раза не изменилась. Мильтон осмотрел прикроватную тумбочку и туалетный столик (нашел мою книжку «Любовь во время холеры»[434]; Ханна взяла ее почитать, да так и не вернула). Я заглянула в ванную и гардеробный чуланчик. Увидела все то, что мы тогда обнаружили с Найджелом: девятнадцать пузырьков с таблетками, детские фотографии в рамках и даже коллекцию ножей. Не нашла только школьную фотографию Ханны с другой девочкой. Насколько я помнила, Найджел ее положил в обувную коробку «Эван-Пиконе», но там фотографии не оказалось. На всякий случай я проверила еще несколько коробок на полке, после пятой бросила. Или Найджел ее убрал в другое место, или Ханна потом переложила.
– Надоело мне.
Мильтон сидел на полу возле Ханниной кровати (а я – на ее краю). Его запрокинутая голова почти касалась моей голой коленки. Одна темная прядка, соскользнув с вспотевшего лба, и впрямь касалась.
– Здесь пахнет Ханной. Ее духами.
Он был похож на Гамлета. Не на того Гамлета, что обожал играть словами и постоянно думал о предстоящем поединке или о том, куда надо поставить ударение («В монастырь ступай» – «В монастырь ступай»). И не того, что постоянно беспокоится, ладно ли камзол сидит и хорошо ли слышно зрителям в последнем ряду. Я говорю о тех Гамлетах, которые всерьез начинают задумываться, быть им или не быть. Кому жизнь основательно заехала локтем, а то и кулаком по почкам, и после того, как опущен занавес, они не могут нормально разговаривать, есть и снимать грим, а едут домой и там долго смотрят в стену.
– Тоска какая-то, – прошептал Мильтон еле слышно, обращаясь к люстре на потолке. – Поехали домой, что ли.
Я опустила лежавшую на колене руку, задев щеку Мильтона. Она была влажная, как стенка в подвале. Мильтон обернулся ко мне. Наверное, на лице у меня было написано «Сезам, откройся» – он вдруг сгреб меня в охапку и усадил к себе на колени, прижав большие влажные ладони по бокам от лица, словно наушники. И поцеловал, как будто надкусил яблоко. Я тоже его поцеловала, притворяясь, что кусаю персики или, не знаю там, нектарины. Кажется, я еще издавала странные звуки (клекотанье или курлыканье). Он вцепился в мои плечи, как будто это поручень в кабинке аттракциона и он боится выпасть наружу.
Наверное, на раскопках такое часто случается.
Да, готова спорить на солидную сумму, наверняка немало бедер, коленей и задниц терлись о древние гробницы в Долине Царей, о разрушенные очаги на берегах Нила, ацтекские фигурные кувшины на островке посреди озера Тескоко и немалое количество торопливого секса происходит в перекур на раскопах в Вавилоне и на лабораторных столах для препарирования мумий.
Потому что, когда вы часами работаете лопаткой или киркой, успеваешь разглядеть своего потного коллегу под всеми возможными углами (девяносто градусов, шестьдесят, тридцать, один градус) и при всяком освещении (солнце, луна, карманный фонарик, галогенная лампа, светлячки) и тебе начинает казаться, что ты понимаешь этого человека, понимаешь до донышка, точно так же, как понимаешь, что находка нижней челюсти Proconsul africanus[435] с сохранившимися зубами не только навсегда изменит историю эволюции человека, но и приведет к тому, что твое имя отныне будут ставить наравне с именем Мери Лики. Ты, как и она, станешь всемирно известна, и тебя будут слезно просить написать длинную статью в «Британскую археологию». А человек рядом с тобой – словно перчатка, которую ты вывернул наизнанку и можешь рассмотреть все мелкие стежки, оторванную подкладку и дырочку на большом пальце.
Учтите, мы не пошли до конца. Не было непринужденного, как рукопожатие, секса, столь распространенного среди озабоченной американской молодежи (см. статью «Неужели ваш двенадцатилетний отпрыск – демон секса?», «Ньюсуик», 14 августа 2000 г.). Однако мы оба разделись и катались по кровати, словно бревна в реке. Его татуированный ангелочек не раз поцеловался с веснушками у меня на руке, и на боку, и на спине. Мы царапали друг друга из-за неловких движений (почему никто не предупредил, как мешает яркий свет и отсутствие нежной музыки?). Когда Мильтон оказывался сверху, он смотрел на меня со спокойным любопытством, словно лежал на берегу бассейна, разглядывая что-то блестящее на дне и подумывая, не нырнуть ли.
Сейчас я признаюсь в одной глупости. Целую минуту после, когда мы с ним лежали на Ханниной кровати, моя голова на его плече, моя тощая бледная рука закинута ему на шею, когда он сказал, вытирая пот со лба: «Адски жарко тут, или это мои глюки?» – а я, не задумываясь, ответила: «Это мои глюки», – в общем, мне было неописуемо хорошо. Он был мой американец в Париже, мой Бригадун.[436] («Юная любовь подобно розе пышноцветиста, – пишет Джорджи Лоуренс в своем последнем сборнике «Поэмичности» [1962], – и подобно молнии быстротечна».)
– Расскажи мне про улицы, – тихонько попросила я, глядя в потолок Ханниной спальни, белый и квадратный.
И тут же ужаснулась – фраза выплыла неожиданно, словно паровой баркас Викторианской эпохи, на палубе которого толпятся дамы с кружевными зонтиками. А Мильтон молчал – значит, я все испортила. В том-то и беда с Ван Меерами – всегда им хочется знать больше, копать глубже, раз за разом забрасывать в реку удочку, хоть и ловится одна только дохлая рыба.
А потом он все-таки ответил, зевая:
– Улицы?
Я еле собралась с мыслями:
– Ну просто… Когда ты был… в банде… Если не хочешь, не будем об этом говорить!
– Я с тобой о чем угодно готов говорить.
– Ох… Ну, тогда… Ты убегал из дома?
– Нет. А ты?
– Нет.
– Много раз хотел, но на самом деле не бегал.
Я растерялась. Я ожидала, что он смутится, станет отводить глаза и слова будут застревать у него в горле, как монетки в неисправном телефоне-автомате.
– Откуда тогда у тебя татуировка?
Он вывернул руку и, скривившись, посмотрел на ангелочка:
– Братец мой старший, Джон, чтоб его. На свой восемнадцатый день рождения с приятелями повел меня в тату-салон. Дыра страшная. Мы оба сделали татуировки, только он меня надул. Себе сделал саламандру, вот такусенькую, – Мильтон показал пальцами нечто размером с черничину, – а меня уговорил на эту здоровенную тухлятину. Видела бы ты, какое у мамы лицо было… – Он хмыкнул. – Это было эпично! Она в жизни так не злилась.
– А тебе сколько лет сейчас?
– Семнадцать.
– Не двадцать один?
– Вроде я в кому не впадал.
– И на улицах ты не бродяжничал?
– Что-о? – Он сморщился, будто от яркого солнца. – Я даже у Джейд на диване спать не могу! Люблю свою кровать, на ней матрас ортопедический… Эй, а откуда такие вопросы?
– А Лула? – Слова сами собой вылетали у меня изо рта, как будто твердо решили что-нибудь да разрушить. – Она в тринадцать сбежала с турком… Учителем математики… Его арестовали во Флориде и посадили в тюрьму.
– Что?!
– А у Найджела родители сидят. Поэтому он все время читает триллеры и не способен испытывать чувство вины, а Чарльза вырастили приемные родители…
– Ты серьезно? – Мильтон сел, глядя на меня как на бесноватую. – Найджел много чего способен чувствовать! Он до сих пор мучается, что в прошлом году бросил того парня, как его зовут-то… Рядом с тобой сидит на общих собраниях. И потом, у Чарльза родители не приемные!
Я нахмурилась, чувствуя смутное раздражение, какое испытываешь, узнав, что сплетня из бульварной газетенки не соответствует истине.
– Откуда ты знаешь? Может, он просто скрывает?
– А ты его маму видела?
Я покачала головой.
– Одно лицо, прямо как брат и сестра. А у Найджела родители не сидят. Кто тебе такое наплел?
– А как же его настоящие родители…
– Его настоящие родители, Эд и Диана, держат магазин керамических изделий.
– Они не сидели за то, что застрелили полицейского?
Тут Мильтон заржал в голос (я никогда не слышала настоящего ржания, но в данном случае это явно было оно). А когда увидел, что я серьезна и даже немножко разволновалась (наверное, щеки у меня были красные, как гвоздика), перекатился ко мне, так что матрас под нами крякнул. Припухшие губы Мильтона, его брови и кончик носа (с одинокой героической веснушкой) оказались почти вплотную к моему лицу.
– Кто тебе все это нарассказал.
Я не ответила.
Мильтон присвистнул:
– В общем, этот тип явно с большим прибабахом.
Глава 28. «Пренеприятнейшее происшествие на улице Мерулана», Карло Эмилио Гадда
[437]
«Я не верю в безумие; это такая пошлость», – сухо замечает лорд Браммел в конце четвертого акта очаровательной комедии Уайлдена Бенедикта об извращенных нравах британской аристократии «Стайка прекрасных дам» (1898).
И я была с ним полностью согласна.
Я верила в безумие нищеты, сумасшествие от наркотиков, а также в манию тиранства и мозговые сдвиги военного времени (с такими трагическими частными случаями, как фронтовая лихорадка и напалмовая невменяемость). Я могла со всей ответственностью подтвердить, что существует невроз супермаркета – когда стоишь в очереди в кассу, в корзинке батон и пакетик сока, а впереди тебя тип с грудой продуктов и ни один ценник не считывается. Но в безумие Ханны не поверила бы ни за что, стрижка там или не стрижка, покончила она с собой или не покончила, хоть она спала, хоть не спала с Чарльзом и сколько угодно ночевала в мотеле с незнакомыми мужиками да выдумывала бессовестное вранье вместо простых и бесхитростных биографий наших Аристократов.
Когда я думала об этом, голова начинала кружиться. Это же классическая схема мошенничества: Ханна исполнила роль Джозефа Уэйла по прозвищу Желтый Парень[438], самого известного мошенника в истории, а я и клюнула, как последний лох.
– Если Джейд хотя бы одну милю проехала в вонючем автофургоне, то я – реинкарнация Элвиса Пресли, – сказал Мильтон, когда уже вез меня домой.
Конечно, дура я была, что поверила. Джейд вообще с места не стронется, если речь не идет о мехах, шелках и натуральной коже итальянского производства. Да, она запиралась в туалетной кабинке с дядьками, у которых лицо похоже на расплющенный о дерево «бьюик», но для нее это просто острая приправа или, скажем, доза кокаина. Ни с одним из них она не согласилась бы даже с автостоянки выехать, а не то что умчаться куда глаза глядят. К тому же надо знать, как Джейд ненавидела брать на себя ответственность. Она класс по истории никак не могла бросить – «слишком много мороки с оформлением». А там всего-то надо было три строчки заполнить в официальной бумажке.
Когда я призналась, что услышала все это от Ханны, Мильтон объявил, что она точно была больная на всю голову.
– Хотя я могу понять, что ты ей поверила. – Мильтон остановил «ниссан» возле моего дома. – Я бы и сам, наверное, поверил, если б она мне рассказала, что я был в банде… Или что родители у меня инопланетяне. У нее все выходило такое настоящее. – Он крепче стиснул руль. – В общем, ясно. Крыша у Ханны уехала. Никогда бы не подумал. А иначе зачем ей выдумывать всякую фигню?
– Не знаю, – мрачно ответила я, вылезая из машины.
Мильтон послал мне воздушный поцелуй:
– До понедельника? Может, в кино сходим. С тобой.
Я улыбнулась и кивнула.
Мильтон уехал.
И все равно, поднимаясь по лестнице к себе в комнату, я думала: если бы среди знакомых мне людей надо было выбрать больного на всю голову, я бы никогда в жизни не назвала Ханну Шнайдер. Нет уж, скорее это была бы июньская букашка Келси Стивенс – я однажды видела, как она в папиной ванной разговаривала со своим отражением в зеркале («Чудесно выглядишь. Нет, это ты чудесно выглядишь! Нет, это ты… Эй, ты давно тут стоишь?!»). Или другая июньская букашка, Филлис Миксер, которая обращалась к своему резвому пудельку, словно к девяностолетней прабабушке («Вот так, лапушка! Не слишком жарко тебе? Может, перейдем в тень? А что ты хочешь покушать? А-а, хочешь мой бутербродик?»). Или несчастная июньская букашка Вера Штраус – как потом выяснилось, она уже много лет была не в себе. Мы с папой могли бы и сразу заметить по некоторым признакам. Ввалившиеся глаза (буквально, прямо вдавленные), а когда с ней общаешься – жутковатое чувство, как будто она разговаривает с призраком: всегда смотрит тебе не в лицо, а в какую-то точку над левым плечом.
Нет, вопреки многочисленным свидетельствам обратного, я не верила в такой удобный выход из лабиринта – будто бы Ханна Шнайдер просто-напросто спятила. За такой примитивный вывод в студенческой работе хороший преподаватель ни за что зачет не поставит. Нет уж, я ведь читала «Возвращение свидетеля» (Гастингс, 1974), а также продолжение этой книги, а еще я своими глазами видела Ханну в тот день. Как уверенно, чуть ли не вприпрыжку она шагала по тропе и на вершине орала с убежденностью, а не с отчаянием (эти эмоции звучат совершенно по-разному).
Должна, должна быть какая-то другая причина!
Закрывшись в своей комнате, я швырнула на пол рюкзак и вытащила спрятанные за пазухой и в туфле улики, которые я стащила из дома Ханны. Я не хотела, чтобы Мильтон заметил. Мне и так было неловко за свои следовательские потуги. Он шесть раз повторил: «Смотри-ка, у нас тут сыщик завелся», «Оливки – мастер сыскного дела», «Да ты гроза преступников, детка!» – и с каждым разом это звучало все неприятней. Поэтому, садясь в его «ниссан», я сказала, будто забыла у Ханны в гараже кулончик со своим знаком зодиака (в жизни у меня не было такого кулончика), сбегала в гараж и прихватила заранее отложенные в отдельную коробку материалы. Тоненькую папочку со статьями о пропавших людях я затолкала за ворот платья и прижала рукой на талии, а фотографию Ханны с шипастой панковской прической подсунула в туфлю, под пятку. А когда снова садилась в машину и Мильтон спросил: «Забрала?» – я сделала вид, будто прячу кулон в кармашек рюкзака, и застегнула на молнию. Мильтон был не очень-то наблюдательный. Я всю обратную дорогу сидела как на сосновых шишках, а он и ухом не повел.
Включив ночник возле кровати, я раскрыла папку.
Когда озарение наконец свершилось, меня это потрясло – не потому, что идея была какая-то особенно сложная, а потому, что настолько очевидная. Как я раньше не сообразила?
Сперва я прочла газетные статьи (Ханна, видимо, распечатала их где-нибудь библиотеке, с микрофишей низкого разрешения). Две заметки из «Стоктон обсервер» от 19 сентября 1990-го и 2 июня 1979 г.: «Ведутся поиски пропавшей альпинистки» и «Одиннадцатилетняя девочка из Розвилля найдена, серьезных повреждений нет». Еще статья из «Ноксвилль пресс»: «Пропавшая девочка вернулась к отцу, в похищении обвиняют мать», еще теннессийской «Пайнвиль геральд таймс»: «Пропавшего мальчика принуждали к проституции» – и наконец: «Пропавшая женщина обнаружена в штате Вермонт, где она жила под чужим именем» – из «Хантли сентинел».
Потом я взялась за последнюю страничку – отрывок из книги, в котором рассказывалось о Вайолет Мартинес, исчезнувшей в Грейт-Смоки-Маунтинс 29 августа 1985 года.
97.
оказалось, что одного человека не хватает. Вайолет стали искать и не нашли.
Майк Хиггинс осмотрел автостоянку, опросил водителей других машин – девочку никто не видел. Через час учитель обратился в администрацию национального парка. Немедленно организовали поиск, закрыв для туристов территорию от Лысины Слепца до Горелого ручья. Сообщили отцу и сестре пропавшей, те привезли одежду Вайолет, чтобы служебные собаки могли взять след. Три немецкие овчарки прошли по следам Вайолет до асфальтированной дороги – в миле с четвертью от того места, где видели девочку в последний раз. Дорога соединяется с шоссе U.S. 441, а шоссе ведет за пределы заповедника.
Как объяснил отцу Вайолет, Рою-младшему, сотрудник заповедника Бруэл, это может означать, что девочка села к кому-то в машину и уехала. Возможно также, что ее увезли насильно.
Рой-младший категорически отказался допустить, что Вайолет заранее спланировала свое исчезновение. У нее не было при себе ни кредитной карты, ни удостоверения личности. Перед экскурсией в горы она не снимала деньги с текущего или накопительного счета. Вайолет очень ждала своего шестнадцатилетия – собиралась отпраздновать день рождения на следующей неделе в развлекательном центре «Роллер-скейт Америка».
Рой-младший также подсказал полиции возможного подозреваемого. Кэнни Фрэнкс, двадцати четырех лет, находился в исправительном заведении за хулиганство и кражи, освободился в январе 1984 г., увидел Вайолет в универмаге и влюбился. Поджидал ее возле школы, досаждал телефонными звонками. Отец девочки обратился в полицию, и Кенни оставил Вайолет в покое, хотя, по словам приятелей, по-прежнему только о ней и думал.
– Вайолет говорила, что терпеть его не может, а кулон, который он ей подарил, носила все время, – сообщила ее ближайшая подруга, Полли Элмс.
Полиция проверила версию о причастности Кенни Фрэнкса к исчезновению Вайолет, однако, по показаниям свидетеля, двадцать пятого августа Кенни весь день проработал на уборке посуды в гриль-баре «Стэг-Милл». Три недели спустя он переехал в Миртл-Бич. Полиция установила за ним наблюдение на случай, если он вступит в контакт с Вайолет, но никаких данных на этот счет не было получено.
Последняя загадка
Поиски Вайолет прекратили 14 сентября 1985 г. В операции были задействованы 812 человек, в том числе сотрудники национального парка, лесничие, национальная гвардия и ФБР. Тем не менее пролить свет на исчезновение девочки не удалось.
Двадцать первого октября 1985 г. неизвестная брюнетка попыталась в Джонсвильском Национальном банке (Джонсвиль, Флорида) обналичить чек за подписью Вайолет на имя Трикси Грош. Служащий банка попросил подождать, пока он проверит чек, после чего девушка немедленно ушла и больше не появлялась. Когда служащему показали фотографию Вайолет, он не смог с уверенностью ответить, она ли приходила в банк.
Рой-младший готов присягнуть, что у его дочери не было причин для исчезновения. Однако ее подруга Полли считает иначе.
– Она постоянно говорила о том, как ненавидит Бестерс и до чего ей не хочется быть баптисткой. В школе она была отличницей. Я думаю, ей бы ума хватило так подстроить, чтобы все думали, будто она умерла, и перестали ее искать.
С тех пор прошло семь лет. Рой-младший по-прежнему ежедневно думает о дочери.
– Она теперь в руках Господа. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, – цитирует он Притчи, главу 3, стих 5. – И не полагайся на разум твой».
Все статьи в папке были не просто о пропавших без вести, а о людях, чье исчезновение могло быть подстроено самими пропавшими. В «Хантли сентинел» рассказывалось именно о таком случае. Жительница города Хантли в штате Нью-Мексико, пятидесятидвухлетняя Эстер Суини, была замужем третьим браком и за ней числилось более 800 000 долларов долга по налогам и оплате счетов. Полицейские пришли к выводу, что она, имитируя нападение, сама устроила разгром в своем доме, порезала кухонную дверь и собственную руку (в прихожей нашли следы ее крови). Три года спустя ее обнаружили в городе Уинуски, штат Вермонт, – она в четвертый раз вышла замуж и жила под вымышленным именем.
В других статьях методы следствия описывали более подробно. В заметке о пропавшей альпинистке рассказывалось, как вели поиски в Йосемитском национальном парке: «Лесничие отобрали добровольцев, находящихся в наилучшей физической форме, и, разбив территорию ледника на квадраты, отвели каждой группе свой участок для поисков».
Я не верила своим глазам. Хотя такое случалось и раньше. По данным «Альманаха странностей и отклонений в поведении американцев» (изд. 1994), один из каждых 4932 граждан США специально подстроил свое похищение или смерть.
Ханна Шнайдер не собиралась умирать; она задумала исчезнуть.
Изучила материалы об аналогичных случаях (не слишком-то методично; будь она автором кандидатской диссертации, научный руководитель устроил бы ей разнос) и вознамерилась навострить лыжи, иначе говоря – сделать ноги, свалить по-тихому, а с прежней своей жизнью разделаться, как гангстер с доносчиком.
В увлекательной документальной книге Хорхе Торреса о наркокартеле всеамериканского масштаба, «Из любви к дорогой коже» (2003), героиня, выступающая под псевдонимом Анжелика Соледад де Креспо, желая бросить торговлю наркотиками, инсценирует собственную смерть похожим способом: отправляется в Великую Саванну в Венесуэле и создает видимость своего падения в водопад с высоты более тысячи футов. Девятью месяцами ранее с этого же водопада сорвалась лодка с девятнадцатью польскими туристами. Троих так и не нашли, поскольку сильное подводное течение у основания водопада не давало им всплыть на поверхность, пока тела не разорвало в клочья о камни, а остатки сожрали крокодилы. Поиски Анжелики прекратили через двое суток, объявив ее погибшей. На самом же деле она, потихоньку выскользнув из лодки, добралась до спрятанного под скалой снаряжения для подводного плавания, а затем проплыла под водой четыре мили вверх по течению. Там ее поджидал красавец-любовник по имени Карлос в серебристом «хаммере». Они сбежали в малонаселенный район бассейна Амазонки, где-то в Гайане. Там живут и по сей день.
Глядя в потолок, я силилась вспомнить мельчайшие подробности роковой ночи. Пока мы обедали, Ханна переоделась потеплее. Позже, в лесу, у нее была сумка на поясе. Она вела меня уверенно, сверяясь с картой и компасом, – явно знала, куда идет. Она планировала о чем-то мне рассказать, в чем-то признаться, а потом исчезнуть. По компасу выйти на дорогу, добраться до шоссе 441, а там ее кто-нибудь ждал (возможно, Карлос в серебристом «хаммере»). К тому времени, как нас найдут и ее объявят в розыск, пройдет не меньше суток, а может, и больше, учитывая погодные условия, – Ханна будет уже в другом штате или даже в Мексике.
И может, неизвестный, следивший за нами в лесу, не такой уж и неизвестный. Может, это и был Карлос (точнее, Валерио), и все эти «жди здесь», «никуда не уходи» были просто для прикрытия, а на самом деле Ханна с самого начала собиралась уехать с ним. Зато после моего рассказа полицейские решили бы, что ее похитили – или что она сама желала исчезнуть, и тогда особенно искать не стали бы, если только ее не разыскивали за какое-нибудь преступление (но сержант Харпер не упоминала, чтобы за Ханной что-то такое числилось, и, насколько я знаю, она не была в родстве с мафиозными семействами вроде Бонанно, Гамбино, Дженовезе, Луккезе или Коломбо).
Конечно, бросить меня ночью в лесу было жестоко, но люди с отчаяния и не такое делают, и совесть их не мучает (см. «Как выжить в тюрьме строгого режима „Ангола“ в штате Луизиана», Глибб, 1979). И все-таки хоть как-то она обо мне позаботилась: оставила карту и фонарик и велела не бояться. И еще раньше, днем, без конца всем напоминала не терять карту местности и что от Сахарной Головы всего четыре мили до шоссе 441.
Если бы понять, почему Ханна решила удариться в бега, можно установить, кто ее убил. Этот человек явно хорошо знаком с патологоанатомией, раз понимает, какие следы должна оставить веревка, чтобы создать видимость самоубийства. Заранее присмотрел идеальное место для линчевания: компактную круглую полянку, – значит, он знал, что Ханна собирается сбежать и даже каким именно путем. Возможно, у него были очки ночного видения и охотничий камуфляж вроде того, что я видела в Уол-Марте, в проволочной тележке Андрео Вердуги – «ШелестТМ, осенний набор», мечта охотника. В этом камуфляже, «неразличимый среди лесной зелени», он забрался на пень или еще какое-нибудь возвышение и тихо ждал с электропроводом в руках, заранее привязав его к дереву и соорудив на другом конце петлю. Как только Ханна вышла на поляну, он набросил петлю ей на голову и резко дернул провод, так что Ханна повисла в воздухе. Она не успела ни закричать, ни рвануться прочь, ни собраться с мыслями перед смертью («Даже дьявол заслуживает, чтобы ему дозволили собраться с мыслями напоследок», – пишет Уильям Стоунли в своей книге «Цвет пепла» [1932]).
Я представила себе эту сцену, и сердце тяжело забилось в груди, а по коже побежали тошнотворные мурашки. Тут еще одна подробность шмякнулась передо мной, словно отравленная канарейка, словно боксер, опрокинутый безжалостным ударом в подбородок.
Ханна велела Мильтону отвезти меня к ней домой вовсе не потому, что решила устроить мою личную жизнь (хотя и эта мысль могла присутствовать, нельзя же сбрасывать со счетов те лирические постеры у нее в кабинете). Зная мое любопытство и привычку во все вникать, она подбросила мне материал для догадок. «Ты человек очень чуткий и все замечаешь», – сказала мне Ханна в ту памятную ночь у нее дома. Она не знала, что умрет, и предполагала, что после ее исчезновения наша компания будет мучиться вопросом, что же с ней случилось. Такой вопрос может сломать человека, превратить его в развалину со сдвигом на религиозной почве. И потому она оставила для нас с Мильтоном успокаивающую подсказку на самом виду: кассету с фильмом «L’Avventura», одиноко лежащую на кофейном столике (а обычно там чего только не было навалено – пепельницы, спичечные коробки, журналы и прочая ерунда).
У меня просто голова закружилась. Настолько эффектный жест, и как это по-шнайдерски: идеально прагматично и притом все шито-крыто. Даже папа оценил бы такое умение красиво поставить точку. И главное, как все продумано, как ловко обстряпано – я не ожидала, что Ханна на такое способна. Да, она была красива так, что больно смотреть; да, она потрясающе умела слушать и несравненно танцевала румбу с бокалом в руках; еще она умела подбирать у дороги мужчин, словно брошенный посреди комнаты носок, но чтобы вот так искусно разыграть финал своей жизни – по крайней мере, своей сент-голуэйской жизни – это уже совсем другой масштаб. Поразительно и в то же время грустно, ведь инсценировка так и не осуществилась.
Я постаралась успокоиться, насколько могла («Любые эмоции, а особенно энтузиазм, вредят следовательской работе», – говорил лейтенант Петерсон в книге «Деревянное кимоно» [Лэйзим, 1980]).
Фильм «L’Avventura» – «Приключение» – классический черно-белый шедевр Микеланджело Антониони 1960 года выпуска и один из любимых фильмов моего папы, так что за свою жизнь я посмотрела его целых двенадцать раз. (У папы вообще была слабость ко всему итальянскому, в том числе к пышным женщинам с роскошными волосами и к ужимкам Марчелло Мастроянни[439] – этим его подмигиваниям и улыбочкам, которые он швырял, словно спелые помидоры черри, в женщин, прогуливающихся по виа Венето. В настроении «средиземноморский бурбон» папа даже исполнял отрывки из «La Dolce Vita»[440] с истинно итальянским шиком: «Tu sei la prima donna del primo giorno della creazione, sei la madre, la sorella, l’amante, l’amica, l’angelo, il diavolo, la terra, la casa…»[441])
Сюжет фильма простой.
Анна, богатая светская женщина, отправляется с друзьями прокатиться на яхте у берегов Сицилии. Они загорают на берегу пустынного островка. Анна уходит от остальных и не возвращается. Ее жених Сандро и лучшая подруга Клаудия обшаривают весь остров, потом всю Италию, но безуспешно, и в конце концов между ними завязывается роман. К концу фильма исчезновение Анны остается все такой же загадкой. Жизнь продолжается, – в данном случае жизнь среди пустых желаний и бездушной роскоши, – а об Анне благополучно забывают.
Ханна хотела, чтобы я нашла этот фильм. Она надеялась – нет, она точно знала, что я замечу сходство и проведу параллели с историей Анны. Даже имена почти одинаковые! Пойму и объясню нашим, что Ханна исчезла добровольно и хочет, чтобы мы жили дальше, танцевали босиком со стаканом вина в руке, выкрикивали свою душу на горной вершине («Жизнь по-итальянски» – любимая папина присказка, хотя для него, рожденного в Швейцарии, было нелегко следовать собственному совету).
– Американцы ненавидят открытые финалы, – говорил папа. – Им легче зуб сверлить, чем посмотреть фильм вроде «Приключения»; не только потому, что они терпеть не могут, когда что-нибудь остается на волю воображения, – мы ведь говорим о стране, где изобрели спандекс, – но еще и потому, что американцы невероятно самоуверенны. Они знают, что такое Семья, как отличить Добро от Зла, они знают Бога – многие утверждают, что запросто с Ним общаются. И они лучше сами себе руку отстрелят из собственной полуавтоматической винтовки, чем допустят хотя бы мысль, что мы не так уж хорошо знаем своих друзей и близких, да и себя любимых тоже. А по-моему, это замечательно – признать свое неведение и не пытаться контролировать всё и вся. Если разведешь руками: «Кто его знает?» – можно просто жить, не мудрствуя лукаво, как paparazzi, puttane, cognoscenti, tappisti…[442] (На этом месте я прекращала слушать; переключившись на итальянский, папа несся, не разбирая дороги, как черт на «харлее»: быстро и громко, чтобы все прохожие оглядывались.)
Было уже больше шести. Солнце потихоньку отступало к горизонту, и на полу моей комнаты черным кружевом лежали тени, словно тощие вдовы, отравленные мышьяком. Я сползла с кровати и спрятала папку и фотографию Ханны-панкерши в левый верхний ящик стола (туда же, где хранилась ее книжка о Чарльзе Мэнсоне). Подумала, не позвонить ли Мильтону, рассказать ему обо всем, но тут услышала, как к дому подъезжает «вольво». Через полминуты папа уже вошел в прихожую.
Когда я спустилась, он, стоя возле раскрытой входной двери, читал передовицу южноафриканской «Кейп дейли пресс».
– Что за шуточки… – бормотал он с отвращением. – Бедные неорганизованные дурни… Когда же кончится это безумие?.. Нет, не кончится, пока они ума не наберутся… Хотя все возможно, случались вещи и почуднее… – Он мрачно глянул на меня и вернулся к статье. – Радость моя, в Конго опять массово убивают повстанцев, человек пятьсот…
Тут он присмотрелся ко мне внимательней.
– В чем дело? Вид у тебя усталый. До сих пор не спишь? У меня тоже был неприятный период бессонницы – в семьдесят четвертом, в Гарварде…
– Все нормально.
Папа, кажется, хотел возразить, но передумал. Улыбнулся, сложил газету.
– Ну ничего! Что у нас на завтра намечено, помнишь? Или забыла про наш день безделья? Прекрасное озеро Пеннебейкер!
Я и правда забыла. Папа готовился к этой поездке с таким азартом, словно англичанин капитан Скотт – к первой в мире экспедиции на Южный полюс, в надежде обогнать норвежца капитана Амундсена (в нашем случае папа надеялся обогнать всех пенсионеров и первым ухватить напрокат лодку и столик для пикника в тенечке).
– Прогулка на озере! – Папа бегло поцеловал меня в щеку, подхватил кейс и направился к лестнице. – Должен признаться, меня это увлекает. А мы еще зацепим самый хвостик ярмарки ремесел первых поселенцев! По-моему, нам с тобой просто необходимо провести день на солнышке, не думая о печальном положении дел в мире, хотя, подозреваю, толпы отдыхающих живо напомнят, что я уже не в Швейцарии!
Глава 29. «Распад», Чинуа Ачебе
[443]
До утра понедельника я глаз не сомкнула ни на секунду – за вечер субботы и большую часть воскресенья прочитала все 782 страницы «Эвапористов» (Буддель, 1980) – биографической книги о Борисе и Беренике Почечник, венгерской супружеской паре аферистов. Они тридцать девять раз инсценировали свою смерть, возрождаясь под новым именем, причем каждый раз все действо было срежиссировано тщательно и с размахом, не хуже, чем балет «Лебединое озеро» в Большом театре. Также я заново просмотрела статистику о пропавших без вести в «Альманахе странностей и отклонений в поведении американцев» (изд. 1994). Оказалось, что двое из каждых тридцати девяти взрослых беглецов сбежали «просто от скуки» (99,2 процента из них были женаты или замужем и утверждали, что жизнь их стала пресной из-за «бесцветной супруги или супруга»), двадцать один человек из этих же тридцати девяти ударились в бега потому, что «им грозила железная пята закона», – все это были мелкие мошенники, жулики и уголовники. Одиннадцать из тридцати девяти до бегства довели наркотики, трое «спасались» от итальянской или русской мафии, а двое сбежали по невыясненным причинам.
Кроме того, я дочитала «Историю линчевания на американском Юге» (Киттсон, 1966). Этой книге я обязана самым волнующим своим открытием: среди рабовладельцев Джорджии была популярна особая техника повешения, вновь получившая распространение в 1915 г., при возрождении ку-клукс-клана. Считалось, что ее изобрел сам судья Чарльз Линч, а называли ее «стрекоза в полете», потому что при таком способе «тело повешенного резко взмывало в воздух» (стр. 213). «Способ получил широкое распространение благодаря своему удобству, – пишет Эд Киттсон на стр. 214. – Нет необходимости собирать толпу линчевателей, человек со среднеразвитой мускулатурой вполне способен справиться с задачей в одиночку. Петля и блок имеют свои особенности, но их нетрудно освоить на практике. Используется затягивающийся узел типа скользящего булиня – обычно применяют узел „Хонда“, а другой конец веревки прикрепляют к крепкой ветке дерева с помощью так называемого лесного или бревенчатого узла. Когда жертву поднимают на высоту от трех до шести футов, лесной узел затягивается не хуже, чем узел-констриктор. За один только 1919 год этим способом было совершено тридцать девять линчеваний». Была в книге и иллюстрация – открытка с изображением линчевания, «распространенный на старом Юге сувенир». По краю открытки шла надпись: «1917, Мелвилл, Миссисипи. Наша стрекоза в полете: его тело возносится к небесам, а душа отправляется в преисподнюю» (стр. 215).
Воодушевившись таким познавательным чтением, я на свободном уроке обошла вниманием операцию «Барбаросса» в углубленном учебнике всемирной истории «Наша жизнь, наша эпоха» (Клэнтон, изд. 2001 г.), обратившись вместо этого к жутенькой книжечке «Код смерти» (Ли, 1987), которую принесла из дома, из папиной библиотеки. Автор, Франклин Ч. Ли, – один из величайших частных сыскарей Лос-Анджелеса. Я ее начала читать еще на первом уроке – углубленной литературе. («Синь! Почему ты села в заднем ряду?» – испуганно спросила миз Симпсон. «Потому что я расследую убийство, а никто, кроме меня, не почешется!» – хотелось мне крикнуть, но я, конечно, не крикнула. Сказала, что доска отблескивает и с моего обычного места не видно, что на ней написано.) Возле списка рекомендованной литературы Тра и Тру затеяли ежедневный марафон сплетен, а подзуживала их приятельница, Носишка Хеммингс. Мистер Флетчер, как обычно, уткнулся в сборник кроссвордов (изд. «Джонсон», 2000) и ничего не замечал. Я уже хотела им сказать, чтобы заткнулись наконец (поразительно, какую уверенность в себе порождает следовательская работа), но вместо этого стала подслушивать.
– Я слышала, как Эвита Перон в учительской говорила Мартине Филобек, что, по ее мнению, вердикт, якобы Ханна Шнайдер покончила с собой, – сплошная туфта, – доложила Носишка. – Перон говорит, Ханна не убивала себя, она это точно знает.
Тру недоверчиво прищурилась:
– А еще что?
– Больше ничего. Они заметили, что я застряла около ксерокса, и замолчали.
Тра со скучающим видом рассматривала свои ногти.
– Надоели бесконечные разговоры про Ханну Шнайдер! Сколько можно?
– Устаревшая тема, вроде углеводородов, – глубокомысленно кивнула Тру.
– И потом, когда я маме рассказала, какие фильмы она нам показывала на занятиях – совершенно не из школьной программы, – мама просто взвилась. Сказала, эта Ханна явная шизофреничка…
– Со сдвигом, – перевела Тру. – Ушибленная на голову.
– Мама, конечно, хотела бежать жаловаться Хавермайеру, но потом передумала. Директору сейчас и так нелегко. В школу никто поступать не хочет.
Носишка наморщила нос:
– Все-таки интересно, почему Эва так сказала. Она какой-нибудь секрет знает. Наверняка!
Тра вздохнула:
– Например, что Шнайдер ждала ребенка от мистера Флетчера… – Тра сурово уставилась на ничего не подозревающего лысого учителя и тут же хихикнула. – Это был бы первый в мире живой кроссворд!
– Если бы родился мальчик, его бы назвали Воскресный Выпуск Таймс[444], – подхватила Тру.
Двойняшки покатились со смеху и победно шлепнули друг друга по ладони.
После уроков я заняла наблюдательную позицию около корпуса Элтон и, чуть подождав, увидела, как она идет к преподавательской автостоянке (см. «Покидая Мадрид. 15 июня 1947» в кн. «Эва Дуарте Перон», Ист, 1963, стр. 334). На ней было короткое фиолетовое платье, туфли-лодочки в тон и плотные белые колготки, в руках – здоровенная стопка папок. На талии завязана бежевая кофта, вот-вот свалится – один рукав волочится по земле, словно заложник, которого утаскивают преступники.
Я заставила себя пойти за ней, хоть и страшновато было («Дожимай их!» – говорил частный сыщик Рывок Макфаддс своему напарнику в книге «Чикагские похороны» [Балк, 1948]).
– Миз Брюстер!
Она была из того типа людей, которые, услышав, как их окликнули по имени, шагают дальше, не оглядываясь, как будто едут на движущейся дорожке в аэропорту.
– Миз Брюстер!
Я догнала ее уже около машины – белой «хонды-цивик».
– Можно вас на минуточку?
Она сгрузила папки на заднее сиденье, захлопнула заднюю дверцу и открыла переднюю.
– Я в тренажерный зал опаздываю.
– Да это ненадолго совсем. Я… Я хочу загладить свою вину…
Голубые глаза уставились на меня (точно так же Эвита смотрела на полковника Хуана, когда он заодно с другими заплывшими жиром аргентинскими бюрократами без энтузиазма отнесся к ее великой идее совместных выборов Перон-Перон в 1951 году).
– Разве не мне уж скорее заглаживать надо?
– Не важно. Помогите мне, пожалуйста!
Она посмотрела на часы:
– Сейчас не могу, мне нужно на занятие…
– Если вы насчет папы беспокоитесь, то он тут ни при чем.
– А кто при чем?
– Ханна Шнайдер.
Эвита вздрогнула – видимо, эта тема была ей еще неприятнее – и так рванула дверцу машины, что стукнула меня по руке.
– Незачем тебе об этом думать.
Она влезла на водительское место – фиолетовое платье обтянуло ноги, как тесное кольцо для салфеток. Эвита вытащила ключи (с брелоком в виде розовой кроличьей лапки) и резким движением воткнула ключ в замок зажигания, будто ножом пырнула.
– Если хочешь, приходи завтра, я с утра здесь буду, а сейчас мне пора.
Она ухватилась за ручку дверцы, но я не сдвинулась с места. Дверца уткнулась в мои коленки.
– Ну? – сказала Эвита.
Я не отступила («Пусть свидетель хоть рожает, допрашивай на месте, – поучал сыщик Фрэнк Уотерс из полиции Майами своего неопытного напарника Мелвина в книге „Неприятности с подковыркой“ [Браун, 1968]. – Никаких отговорок, никаких отсрочек. Не давай им времени на раздумья. Захвати свидетеля врасплох – и он тебе родную мать сдаст с потрохами»).
– Господи боже, да что с тобой? – Эвита в раздражении выпустила ручку. – Что ты так смотришь? Ну умер кто-то, это еще не конец света. Тебе шестнадцать! Вот будут у тебя трое детей и диабет, мужик бросил, дом заложен, тогда поговорим. А ты за деревьями не видишь леса. Если так уж надо, завтра приходи.
Она включила обаяние: улыбнулась и в голос подпустила завитушек, гладеньких и миленьких, словно бантик на коробке с подарком.
– Вы уничтожили мою единственную память о маме, – сказала я. – И не можете уделить мне пять минут?
Я разглядывала свои туфли с самым несчастным видом. Эвита умеет быть доброй только к обездоленным, все остальные для нее – мерзкие олигархи, не заслуживающие ничего, кроме тюрьмы и пыток.
Она ответила не сразу. Сперва поерзала, так что сиденье скрипнуло, разгладила платье на коленях.
– Знаешь, я пошла в «Эль Рио» с подругами… – тихо проговорила Эва Брюстер. – Выпила пару-тройку «камикадзе»[445], и вдруг мысли о твоем отце одолели. Я не хотела…
– Я понимаю. Так что вам известно о Ханне Шнайдер?
Эва скривилась:
– Ничего.
– Но вы не думаете, что она совершила самоубийство.
– Я такого не говорила! Понятия не имею, что там произошло. А ты странная девочка… Твой папа знает, что ты бегаешь повсюду, людей стращаешь? Вопросы всякие задаешь?
Я промолчала. Эвита еще раз взглянула на часы, что-то пробурчала о тренажерном зале (почему-то я догадывалась, что никаких занятий у нее не назначено, да и ладно, меня другое интересовало). Эва рывком открыла бардачок, вытащила пакетик антитабачной жвачки «Никоретте», забросила две штучки в рот, высунула из машины сперва левую, потом правую ногу, положила одну на другую, будто усаживаясь за барную стойку в «Эль Рио». Ноги у нее были – словно гигантские палочки-леденцы, только без красных полосок.
– Мне известно то же, что и тебе. То есть почти ничего. Единственное – не в ее это стиле. Убить себя, тем более повеситься… Я бы еще поняла, отравиться таблетками… И то под большим вопросом.
Она помолчала, задумчиво двигая челюстями и оглядывая пропеченную солнцем парковку.
– Года два назад учился у нас один мальчик, – заговорила она снова, бегло глянув на меня. – Хауи Гибсон Четвертый. Одевался как премьер-министр. Наверное, по-другому просто не умел. Четвертый в роду – а, как известно, продолжения обычно не имеют успеха у публики. Через два месяца после начала осеннего семестра мать нашла его повесившимся – вбил крюк у себя в комнате. Я огорчилась, конечно, когда узнала. Но не удивилась. Его папа – третий в династии, сам-то не великое творение природы. Приезжал за сыном в громадном черном автомобиле. Мальчик садился сзади, как будто папа – шофер. Так и уезжали, ни слова друг другу. – Эва хмыкнула. – Когда все случилось, мы открыли его шкафчик. Изнутри на дверце были приклеены разные картинки с чертями и перевернутыми крестами. Оказалось, он был одаренный художник, но что касается темы… Скажем так: поздравительные открытки у него бы вряд ли кто заказал. Словом, признаки есть всегда. Я не специалист в этой области, но считаю, самоубийство ни с того ни с сего не бывает.
Она еще помолчала, глядя в землю и на свои фиолетовые туфли.
– Безусловно, у Ханны не все в жизни было гладко. Иногда она допоздна засиживалась в школе, хотя зачем бы? История кино, что там готовиться-то, сунул DVD в плеер, и все тут. Мне кажется, ей просто хотелось поговорить с кем-нибудь. И закидоны свои у нее были. В начале учебного года каждый раз уверяла, что последний год работает. «А потом все! В Грецию поеду». Я ей: «Что тебе делать в Греции»? А она: «Любить себя». Надо же! Обычно я эту психологическую ерунду на дух не переношу. Никогда не покупала книжки по аутотренингу и прочему. Тебе уже за сорок, а ты до сих пор не научилась заводить друзей и общаться с людьми? Ты все еще нищий папа, а не богатенький папик? Ну так я тебя огорчу: и дальше то же самое будет.
Эва рассмеялась, но смех вдруг сорвался и упорхнул. Она повернула голову, глядя ему вслед – туда, где солнце пряталось за деревьями, прикрываясь обрывками облаков.
– И это еще не все, – продолжила Эва, не прекращая жевать с открытым ртом. – У нее в молодости случилась какая-то драма. Что-то связанное с молодым человеком и с ее подругой… Она не вдавалась в подробности, но говорила – не было дня, когда бы она не терзалась из-за того, что сделала. Уж не знаю, что там такое натворила… В общем, она грустила, сомневалась в себе, но и покрасоваться любила. А такие не вешаются. Жалуются, ноют, однако в петлю не полезут. Некрасивая это смерть.
Эвита снова засмеялась, на этот раз – как будто с вызовом. Наверное, так она смеялась в своем первом радиоспектакле «Белое золото»[446] (о жизни хлопкоробов), бросая вызов халтурщикам-сценаристам и тяжеловесным генералам. Выдув пузырь жвачки, она сдавила его зубами – пузырь звучно лопнул.
– Что мне известно? Да разве можно знать, что у другого человека на уме? В начале декабря она просила неделю отпуска – хотела съездить в Западную Виргинию, навестить родных того человека, что у нее в гостях утонул.
– Смока Харви?
– Его так звали?
Я кивнула и тут кое-что вспомнила:
– Она ведь вас тоже приглашала тогда?
– Когда?
– В тот вечер, когда он умер.
Эва удивилась:
– Нет, я об этой вечеринке только задним числом узнала. Ханна расстраивалась очень. Говорила, что ночами не спит. Правда, отпуск так и не взяла. Сказала, что ей совестно встречаться с его семьей. Я ей говорила: надо научиться прощать себя. Вот у меня был случай – соседи поехали на Гавайи, а меня попросили за кошкой присмотреть. Такая пушистая была, прямо как из рекламы. Эта тварь меня ненавидела. Когда я подходила к гаражу ее покормить, она кидалась на сетку и висела, вцепившись когтями намертво. Однажды я нечаянно нажала кнопку от гаражной двери. Только дверь начала подниматься, тварюга пулей оттуда вылетела. Лапами землю пропахала, полоски остались. Я ее искала-искала, так и не нашла. Пару дней спустя соседи вернулись и нашли кошкин трупик на мостовой, прямо перед домом. Я, конечно, была виновата. Заплатила им за кошку. И сама какое-то время мучилась. По ночам снилось, что кошатина за мной гонится, бешеная, глаза горят, когти растопырены – полный набор. И все-таки нужно жить дальше, понимаешь? Необходимо обрести душевное равновесие.
Все-таки, видимо, сказалась трудная жизнь Эвиты – детство незаконнорожденной девочки в нищем селении Лос-Тольдос, психологическая травма в пятнадцать лет, когда она увидела обнаженного Агустина Магальди[447], тяжкий труд по продвижению к вершинам власти полковника Хуана Перона, круглосуточная работа в Министерстве труда[448] и в качестве президента женского крыла перонистской партии, разграбление государственной казны и закупки нарядов от Диора в массовом масштабе; все это в конечном итоге сделало ее непробиваемой, как асфальт. Конечно, в этом асфальте наверняка имелась трещинка – если туда попадет семечко яблони или груши, оно прорастет и пышно зазеленеет, но заметить со стороны эту крошечную слабинку практически невозможно. Эвита постоянно их отыскивает и ремонтирует.
– Смотри на жизнь проще, девочка! Взрослые – люди непростые. Признаюсь, мы не идеальны, да тебе-то что до этого? Веселись, пока молодая! Подрастешь, тогда и узнаешь, почем фунт лиха. А пока лучше смейся.
Терпеть не могу эту манеру взрослых, когда они воображают, что могут упаковать для тебя Жизнь в аккуратненький кулечек, поднести ее тебе на тарелочке, или накапать в аптечную мензурку, или затолкать в стеклянный шарик с пингвинами и снегом – мечта коллекционера… У папы, конечно, есть насчет жизни свои теории, но он их всегда мне излагал с молчаливым пояснением, что это, мол, не ответ на все вопросы, а всего лишь один из возможных вариантов. Папа вполне отдавал себе отчет, что любые его гипотезы применимы только к малюсенькому фрагменту (да и то с натяжкой), а не ко всей Жизни в целом.
Эва вновь глянула на часы:
– Извини, но мне действительно пора в тренажерный зал. Хотелось бы все-таки успеть на занятие.
Я кивнула и отодвинулась, чтобы она могла закрыть дверцу. Эва завела мотор, улыбаясь мне с таким видом, как будто я – сборщик платы за проезд и она ждет, когда я открою шлагбаум. Правда, уехала она не сразу. Сперва включила радио – там передавали какую-то дрыгающуюся поп-музычку, – порылась в сумке и снова опустила стекло:
– Как он, кстати?
– Кто? – спросила я, хотя и знала.
– Твой папа.
– У него все хорошо.
– Вот как? – Она старалась казаться равнодушной. Потом осторожно покосилась на меня. – Извини, что я о нем наговорила разного. Это все неправда.
– Ничего страшного.
– Нет, ребенок не должен такое слышать. Я жалею, что сорвалась. – Ее взгляд медленно и трудно поднялся к моему лицу, словно по шведской стенке в спортзале. – Он тебя любит. Очень. Я не знаю, проявляет он это или нет, но любит сильно. Больше, чем свою… не знаю, как назвать… свою политическую белиберду. Однажды мы сидели в ресторане, говорили совсем о другом, и он вдруг сказал, что ты – лучшее в его жизни. – Эва улыбнулась. – Искренне сказал, всерьез.
Я кивнула и притворилась, что меня страшно интересует левое переднее колесо ее машины. Не люблю обсуждать папу с посторонними людьми, которых кидает от оскорблений к комплиментам, от враждебности к сочувствию, как машину с пьяным водителем. Говорить с такими о папе – все равно что в Викторианскую эпоху упомянуть в беседе живот: неуместно, неловко и по сути неприлично; после такого пассажа можно с полным основанием не замечать бестактного собеседника на балах и ассамблеях.
Видя, что я молчу, Эва вздохнула очень по-взрослому: не понять мне, мол, этих подростков, и как хорошо, что для меня трудный возраст давно остался позади.
– Ну, удачи тебе, девочка! – Эва начала поднимать стекло и снова остановилась. – Постарайся все-таки питаться хоть иногда, а то отощала совсем, в чем только душа держится! Закажи пиццу. И забудь наконец про Ханну Шнайдер! Не знаю, что там произошло на самом деле, но одно я знаю точно – она хотела, чтобы ты была счастлива. Понятно?
Я улыбнулась через силу. Эвита помахала рукой, вывела машину задним ходом со стоянки (под мучительный скрежет тормозов) и умчалась вдаль в своей белой «хонде», как проносилась когда-то в лимузине по бедным кварталам Буэнос-Айреса, приветственно махая рукой восхищенным голодным беднякам.
Я предупредила папу, чтобы не приезжал за мной после школы. Мы с Мильтоном договорились встретиться около его шкафчика, и я уже на полчаса опаздывала. Я взбежала по лестнице на третий этаж Элтона и увидела пустой коридор – только Динки и учитель литературы, мистер Эд Камонетти по прозвищу Флавио, стояли в дверях классной комнаты. (Поскольку многие читатели любят пикантные подробности, я коротко расскажу, что Флавио считался первым красавцем «Голуэя»: загорелый, с лицом Рока Хадсона[449]. Жена его, невзрачная толстушка, восхищалась им не меньше, чем другие, а мне всегда казалось, что его накачанное тело больше всего напоминает надувной плот, который кто-то потихоньку проткнул булавкой.) Они резко замолчали, когда я проходила мимо.
Я прошла до корпуса Зорба (там сплелись в объятиях Эми Хемпшо и Билл Чус), оттуда – до автостоянки для учеников. Мильтоновский «ниссан» стоял на обычном месте. Заглянула в столовую – никого. Тогда я отправилась в закоулок Лицемеров в подвальном этаже корпуса Аудитория Любви. Там располагался черный рынок «Сент-Голуэя». Школьники обменивались шпаргалками, ответами на экзаменационные билеты, рефератами и конспектами и предлагали интимные услуги за право получить на одну ночь «Плутовскую Библию» – фундаментальный труд на 543 страницы, рассказывающий, как обманом продержаться в «Голуэе» до самого выпуска. Материал был упорядочен по предметам, предподавателям и методикам обмана. Вот несколько заголовков: «Место под солнцем: техника пересдачи»; «История игрушек: о прелестях калькулятора TI-82 и наручных часов „Timex Datalink“[450]»; «Бесценные рукописные миниатюры на подошвах твоих ботинок».
Мильтон и Чарльз тоже сюда захаживали. Я прошла полутемный коридор от начала до конца, заглядывая в крошечные прямоугольные окошки в дверях музыкальных комнат. По углам и на скамеечках у роялей виднелись неясные силуэты (никто здесь не репетировал ни на каких музыкальных инструментах, если только не считать таковым человеческое тело). Мильтона среди них не было.
Я решила проверить еще лужайку за Аудиторией Любви; Мильтон там иногда курил травку на переменах. Взбежала по лестнице на первый этаж и промчалась через картинную галерею имени Донны Фей Джонсон (современный художник и выпускник «Сент-Голуэя» 1987 года Питер Рок глубоко погрузился в Грязевой период и явно не собирался выныривать на поверхность). Я выскочила за дверь с надписью «Выход», пересекла парковочную площадку с полуразвалившимся «понтиаком» возле помойки (говорили, что он остался от изгнанного с позором учителя, уличенного в соблазении школьницы) и почти сразу увидела Мильтона.
В темно-синем пиджаке, он стоял под деревом, прислонившись к стволу.
Я заорала:
– Привет!
Он улыбался, но, подойдя ближе, я сообразила, что улыбается он не мне. Вся компания была тут: Джейд сидела на бревнышке, Лула – на камне (держась за свою косу, будто за вытяжной трос парашюта). Рядом с ней – Найджел, а Чарльз сидел прямо на земле, выставив перед собой ногу в гипсе, громадную, как полуостров.
Они увидели меня, и улыбка Мильтона свернулась, будто обрывок скотча. Тут я поняла, какого дурака сваляла. Мильтон собирался разыграть с моим участием сцену из «Бриолина»[451], когда Сэнди подходит к Дэнни Зуко на виду у всей компании Ти-Бёрдс, или когда миссис Робинсон говорит Элейн, что не соблазняла Бенджамена[452], или когда Дейзи выбирает нудного Тома, а не Гэтсби[453] – человека, который живет мечтой и не боится под настроение раскидать рубашки по комнате.
Сердце у меня провалилось куда-то вниз. Ноги затряслись.
– Посмотрите, что к нам приползло! – сказала Джейд.
– Рвотинка, привет, – сказал Мильтон. – Как делишки?
– Какого хрена она сюда приперлась? – рявкнул Чарльз.
Я даже удивилась – при одном только взгляде на меня лицо у него стало красным от злости, как красный огненный муравей[454] (см. «Насекомые», Пауэлл, 1992, стр. 91).
– Привет, – ответила я. – Наверное, лучше я потом…
– А ну, постой!
Чарльз поднялся, опираясь на здоровую ногу, и заковылял ко мне – очень неуклюже, потому что один костыль остался в руках у Лулы. Она торопливо протянула костыль, но Чарльз его не взял, продолжая ковылять, словно в этом было какое-то особое величие.
– Давай-ка поболтаем! – сказал он.
– Да незачем, – протянула Джейд, затягиваясь сигаретой.
– Есть зачем! Еще как есть!
– Чарльз, – предостерегающе произнес Мильтон.
– Ты дерьмо собачье, знаешь ты это?
– Вот черт! – усмехнулся Найджел. – Ты бы полегче, что ли…
– Нет уж, не будет полегче! Я… Я ее убью сейчас!
Глаза у него выпучились, как у мадагаскарской лягушки под названием золотая мантелла, но я не боялась. Все-таки он еле стоял на одной ноге – если дойдет до крайности, я легко его свалю и удеру. Никто из них меня не поймает. С другой стороны, тревожно было сознавать, что это из-за меня у него лицо искривилось, как у новорожденного младенца, а глаза сощурились щелочками – вроде тех, через которые бросают монетки для помощи детям, страдающим от церебрального паралича. У меня даже мелькнула мысль: а вдруг я и впрямь убила Ханну? Может, у меня шизофрения и преступление совершила моя вторая личность, злокозненная Синь – та, что пленных не берет, а вырывает у людей сердце из груди и съедает на завтрак (см. «Три лица Евы»[455])? Иначе с чего бы ему так меня ненавидеть, что все лицо смялось, как старая автопокрышка?
– Хочешь в тюрьму загреметь на всю оставшуюся жизнь? – спросила Джейд.
– Неразумно, – сказал Найджел.
– Нанял бы лучше кого-нибудь.
– Давайте я! – Лула подняла руку.
Джейд растерла окурок носком туфли.
– Или побьем ее камнями, как в том рассказе, помните – когда все горожане сбегаются и она начинает визжать?
– «Лотерея», – подсказала я.
Просто не удержалась (Джексон, 1948). Зря я это, на самом деле. Чарльз аж зубами заскрежетал и так оскалился, что стали видны промежутки меж нижними резцами – этакий беленький штакетничек. Его горячее дыхание обожгло мне лоб, точно пар из чайника.
– Хочешь знать, что ты сделала? – Руки у него тряслись, и на слове «сделала» изо рта выпрыгнули брызги слюны, приземлившись примерно на полпути между нами. – Ты меня уничтожила…
– Чарльз… – устало вздохнул Найджел, подходя ближе.
– Хватит психовать, – сказала Джейд. – Если ее тронешь, она добьется, что тебя вышибут из школы. То есть ее суперпапочка добьется.
– Ты мне ногу, на хрен, сломала! – не унимался Чарльз. – Ты мне жизнь сломала!
– Чарльз!
– Имей в виду, я серьезно думаю тебя убить. Сжать твою тощую неблагодарную шейку и… И бросить дохлую. – Он громко сглотнул – словно камень булькнул в воду. – Ты же ее бросила тогда…
Его покрасневшие глаза блестели от слез. Одна слезинка так-таки и сиганула через край и заскользила по щеке.
– Чарльз, ты что…
– Прекрати!
– Она того не стóит.
– Точно, чувак! Целуется дерьмово.
Все разом замолчали, а потом Джейд зашлась придушенным хохотом:
– Серьезно?!
Чарльз мигом перестал плакать. Шмыгнул носом и провел по глазам тыльной стороной ладони.
– Отвратно. Все равно что с тунцом целоваться.
– С тунцо-ом?!
– Ну, может, с сардинкой. Или креветкой. Не помню. Я постарался изгнать эти воспоминания как можно дальше.
У меня воздух застрял в горле. Кровь бросилась в лицо, как будто Мильтон ударил не словами, а кулаком. Я поняла: настала поворотная минута в моей жизни. Я должна дать отпор агрессорам! Показать, что они имеют дело не с перепуганной, израненной страной, а с пробуждающимся гигантом. Но тут нельзя отвечать первой попавшейся крылатой ракетой. Нужен «Малыш» или «Толстяк»[456], чтобы в небо поднялся гигантский кочан цветной капусты (очевидцы расскажут, что вспыхнуло второе солнце), и чтобы обугленные тела повсюду, и чтобы пилоты запомнили меловой привкус атомного распада. Может, я пожалею потом и придет неизбежная мысль: «Боже, что я наделала?» Но разве это когда-нибудь кого-нибудь останавливало?
У папы была маленькая черная книжечка: «Речь светлячка» (Панч, 1978). Он ее держал на столике у кровати, чтобы читать по ночам, когда сильно устал и безумно хочется чего-нибудь хорошего, как некоторым женщинам хочется горького шоколада. Там были собраны самые сильные цитаты за всю мировую историю. Большинство их я знала наизусть. «История – это ложь, с которой все согласны», – сказал Наполеон.[457] «Ведите меня, следуйте за мной или убирайтесь с моей дороги», – сказал генерал Джордж Паттон[458]. «На сцене я занимаюсь любовью с двадцатью пятью тысячами человек, а потом возвращаюсь домой одна», – жаловалась Дженис Джоплин[459] с усталыми глазами и копной растрепанных волос. «В раю лучше климат, в аду – компания», – говорил Марк Твен.
Я уставилась на Мильтона в упор. Он не мог смотреть мне в глаза – вжался спиной в дерево, словно мечтал, чтобы оно его проглотило.
– «Все мы – насекомые, – раздельно проговорила я. – Но я верю, что я – светлячок»![460]
– Чего? – спросила Джейд.
Я развернулась и зашагала прочь.
– Что это она?
– Высказалась, называется!
– Видали, в нее прямо как бес вселился?
– Срочно ищите экзорциста! – крикнул Чарльз и расхохотался, словно посыпались золотые монеты, а деревья подхватили этот звук своей идеальной акустикой и отправили его в полет, к самому небу.
На автостоянке я чуть не налетела на мистера Моутса – он шел к машине с учебниками под мышкой и очень удивился, когда я показалась из-за деревьев; словно призрак Эль Греко увидел.
– Синь Ван Меер? – нерешительно окликнул он.
Я не улыбнулась в ответ. Я молча бросилась бежать.
Глава 30. «Полночный заговор», Смок Уайанок Харви
Я была потрясена до глубины души: оказывается, самое обидное, что о тебе могут сказать, – это что ты отвратно целуешься.
По идее, куда страшней, если назовут предательницей, лицемеркой, стервой, шлюхой или еще каким-нибудь нехорошим человеком. Или хоть просто ябедой, дешевкой, чокнутой. Но нет, даже «никакая в постели» не так ужасно – у каждого может случиться неудачный день, и даже такой рысак-чемпион, как Счастливей Некуда, выигравший в 1971 году и Дерби, и Прикнесс, может вдруг на Бельмонтских скачках прийти последним.[461] Но когда ты целуешься до того отвратно, что тебя сравнивают с тунцом, – ничего хуже вообразить невозможно, потому что это значит, в тебе нет страсти, а человек без страсти… Такому лучше сразу сдохнуть.
Я шла домой пешком (4,1 мили) и всю дорогу снова и снова прокручивала в голове унизительные слова (на замедленной перемотке, чтобы как следует прочувствовать и перестрадать каждый свой аут, офсайд и неточный пас). Дома забилась к себе в комнату и разрыдалась – до икоты, до головной боли; казалось бы, так можно оплакивать только смерть близкого человека, неизлечимую болезнь или конец света. Больше часа я ревела в мокрую, осклизлую подушку. Темнота, разрастаясь, наполнила комнату, за окнами притаилась ночь. Наш дом, изысканный безлюдный особняк номер 24 по Армор-стрит, словно ждал, когда я успокоюсь, – так летучие мыши ждут захода солнца, так оркестр ждет дирижера.
С чугунной головой и опухшими красными глазами я поплелась вниз. Прослушала на автоответчике папино сообщение, что он сегодня ужинает с Арни Сандерсоном, вытащила из холодильника шоколадный торт из кондитерской «Стоунроз» (купленный папой в рамках целевой программы «Подбодрим Синь») и, прихватив с собой вилку, отнесла торт в свою комнату.
– Свежие новости на сон грядущий! – пропела у меня в голове воображаемая Черри Джеффрис. – Тайна убийства Ханны Шнайдер, сорока четырех лет, ошибочно принятого за самоубийство полицией округа Слудер, наконец раскрыта! И раскрыла ее не полиция, не национальная гвардия, не охрана заповедника, не ФБР, не ЦРУ, не Пентагон, не служебные собаки, не экстрасенсы, не ясновидящие, не супергерои и не марсиане, а всего лишь отважная ученица местной школы «Сент-Голуэй» Синь Ван Меер – обладательница сногсшибательного интеллекта. Ее ай-кью равен ста семидесяти пяти! Невзирая на противодействие учителей, других учеников и даже собственного отца, школьница распутала тонкую ниточку, ведущую к убийце. Сейчас преступник задержан и ожидает суда. Мисс Ван Меер, получившая прозвище Сэм Спейд[462] В Юбке, неоднократно появлялась в качестве гостьи разнообразных ток-шоу, от «Опры» и «Лено» до программ «Сегодня» и «Точка зрения»[463], ее портрет помещен на обложку журнала «Роллинг стоун», и мало того – ее пригласили в Белый дом, где за обедом президент Соединенных Штатов предложил мисс Ван Меер, несмотря на ее юный возраст, выступить в качестве американского посла во время кругосветного турне доброй воли, призванного способствовать делу мира и свободы во всем мире. И все это – накануне зачисления в Гарвард! Боже, это что-то! Правда, Норвел? Норвел?
– А-а… Да-да.
– Вот доказательство, что наш мир пока еще не катится в пропасть. Потому что не перевелись настоящие герои и мечты действительно сбываются!
У меня просто не оставалось другого выхода, кроме как последовать примеру старшего инспектора Карри. Когда расследование заходило в тупик – например, на стр. 512 книги «Спесь единорога» (Лавель, 1901), – когда «все двери прочно заперты и все люки в подвале закрыты на засов, нам с вами, любезный мой Хорэс, остаются лишь слабые потуги отыскать корень зла, подобно тому как бездомный пес, бродя по каменным городским улицам, роется в отбросах, надеясь наткнуться на огрызок баранины, выброшенный каким-нибудь торговцем или стряпчим. Однако есть еще надежда! Помните, друг мой: бродячий пес ничего не упускает! В минуту мучительных сомнений возвращайтесь к жертве! Она укажет вам путь».
Я достала стопку ярко-розовой бумаги для заметок, форматом пять на семь дюймов, и составила список друзей Ханны – тех немногих, о ком я знала. Покойный Смок Харви и его семья в Финдли, Западная Виргиния; коллега-волонтер из приюта для бездомных животных – Ричард-не-знаю-фамилии, живет на ферме, где разводят лам; Эва Брюстер; Док и другие мужчины из Коттонвуда (хотя их вряд ли можно назвать друзьями, скорее знакомыми).
В целом улов довольно скудный.
Тем не менее я решила (несколько нахально) приступить к делу, начиная с самого первого пункта – с семейства Харви. Побежала к папе в кабинет, включила его ноутбук и в поисковике Worldquest набрала имя Смока.
Сведений о нем не оказалось. Зато нашлись пятьдесят девять других Харви и упоминание о некой Аде Харви, проживающей в городе Финдли, – по рекламной ссылке . Одну из дочерей Смока звали Адой; Ханна рассказывала о ней во время того обеда в ресторане «Гиацинтовая терраса» (я запомнила, потому что этим именем называется одна из папиных любимых книг: «Ада, или Радости страсти» Набокова [1969]). Заплатив сайту всего лишь 89 долларов и 99 центов, я могла бы получить не только номер домашнего телефона Ады, но и ее адрес, дату рождения, информацию о том, привлекалась ли она к уголовной ответственности, и снимок, сделанный со спутника. Я решила потратить восемь долларов на номер телефона и тем ограничиться. Сбегала в папину комнату и взяла одну из запасных карточек «Мастеркард» из прикроватной тумбочки.
Вернувшись к себе, я составила список вопросов. Он занял еще три листка розовой бумаги – каждый листок я аккуратно надписала: «ЗАМЕТКИ ПО ДЕЛУ». Проверив и перепроверив список, я спустилась в библиотеку, открыла папину бутылку бурбона пятнадцатилетней выдержки «Джордж Т. Стэгг» и хлебнула прямо из горлышка (я еще не вполне освоилась с работой детектива, да и какой сыщик не прикладывается к бутылке?). Опять вернулась к себе и еще пару минут собиралась с духом. «Девки, представьте себе стальную кровать, на которой лежал жмурик; вот такими вы должны быть!» – говорит своим нерешительным коллегам, сплошь мужчинам, детектив Бадди Миллс в книге «Последний наезд» (Наббс, 1958).
Я набрала номер. Трубку сняли после третьего звонка. Женский голос:
– Алло?
– Позовите, пожалуйста, Аду Харви…
– Я у телефона. Кто говорит?
У нее был наводящий ужас голос южанки времен до Войны Севера и Юга – гордый, решительный и сверхъестественно старческий (морщинки и трясущиеся руки, и безразлично, сколько человеку лет на самом деле).
– Э-э, здравствуйте, меня зовут Синь Ван Меер, и я…
– Большое спасибо, меня это не интересует.
– Подождите, я не из рекламного агентства!
– Спасибо, ничего не нужно…
– Я друг Ханны Шнайдер!
В трубке ахнули, словно я воткнула шприц Аде в руку. Несколько секунд молчания, потом гудки.
Я, ничего не понимая, нажала кнопку повторного вызова.
На этот раз трубку сняли мгновенно. Я слышала на заднем плане звук телевизора – шла старая мыльная опера, женский голос: «Блейн», «Как ты могла?», а потом Ада Харви, не говоря ни слова, швырнула трубку.
На четвертой попытке я выслушала пятнадцать гудков, затем включилось сообщение, что телефон абонента не отвечает.
Я выждала десять минут, съела немножко шоколадного торта и попробовала в пятый раз. Ада ответила после первого звонка:
– Что за наглость! Если вы не прекратите, я пожалуюсь куда следует!
– Я не друг Ханны Шнайдер.
– Да ну? Кто же тогда?
– Я учени… Я следователь! – торопливо поправилась я. – Частный детектив, работаю на… – Отчаянно шаря взглядом по книжной полке, я остановилась между «Анонимом» (Фелм, 2001) и «Вечеринкой третьей степени» (Гроно, 1995). – На третье лицо, которое желает остаться неизвестным. Вы мне очень поможете, если ответите на несколько вопросов. Это займет не больше пяти минут!
– Частный сыщик? – переспросила она.
– Да!
– Ну, тогда Господь Бог носит галифе и гамаши. Сколько тебе лет, девочка? Голос как у младенца.
Папа говорил, что о человеке можно многое узнать по голосу в телефонной трубке. Насколько я могла судить, Аде было немного за сорок и она носила коричневые туфли на плоской подошве, с кожаными кисточками, похожими на крошечные метелки.
– Мне шестнадцать, – честно призналась я.
– И на кого, говоришь, ты работаешь?
Врать дальше было бесполезно. Как говорил папа: «Радость моя, у тебя каждая мысль марширует в голосе, как на параде, с транспарантом в руках».
– На себя. Я учусь в «Сент-Голуэе» – школе, где Ханна преподавала. Простите, что соврала! Я очень боялась, что вы опять повесите трубку… Вы – моя единственная ниточка! Я разговаривала с вашим отцом в тот вечер, когда он погиб. Мне он показался обаятельным человеком. Грустно, что с ним такое случилось.
Конечно, отвратительно припутывать к делу умерших родственников ради достижения собственных целей. Помяни кто-нибудь моего папу в качестве покойника, я бы все рассказала как миленькая. А что делать? Ада явно колебалась, не отключиться ли снова и оставить трубку снятой, чтобы я больше не могла позвонить.
– Я надеялась, – продолжала я дрожащим голосом, – раз вы и ваш отец дружили с Ханной…
– Дружили?! – Она выплюнула это слово, будто кусок протухшего авокадо. – Мы никогда не дружили с этой женщиной!
– Ой, простите… Я думала…
– Напрасно думала!
Если прежде ее голос напоминал карликового пуделя, теперь это был ротвейлер. Больше Ада ничего не прибавила. «Дама-кремень», как выражаются полицейские.
– Значит, э-э, мисс Харви…
– Я – Ада Роуз Харви Лоуэлл.
– Миз Лоуэлл, так вы вообще не были знакомы с Ханной Шнайдер?
Она опять молчала. На заднем плане гремела реклама какого-то автомобиля.
Я торопливо нацарапала в «ЗАМЕТКАХ ПО ДЕЛУ», против четвертого вопроса «В каких отношениях вы были с Ханной Шнайдер?» – «Никаких?» и уже собиралась перейти к пятому вопросу «Знали ли вы о том, что она собирается в поход с группой школьников?», но тут Ада вздохнула и заговорила:
– Ты не знаешь, какая она была.
Пришла моя очередь молчать. В научно-фантастических боевиках бывают такие моменты, когда один персонаж собирается открыть другому персонажу, что их противник – «внеземного происхождения». Сердце у меня колотилось, точно похоронный марш вуду в Новом Орлеане.
– А что ты знаешь, вообще? – спросила она с нетерпением.
– Знаю, что она была учительницей, – чуть слышно ответила я.
– Гм.
– Я знаю, что ваш отец Смок был раньше финансистом, но отошел от дел…
– Мой отец был журналистом и занимался журналистскими расследованиями, – поправила она (см. «Южная гордость» в кн. «Печенье с пастилой и вечное проклятие», Уайетт, 2001). – Тридцать восемь лет он был банкиром, а потом наконец смог позволить себе уйти в отставку и заняться своим любимым делом: писательством. И расследованием настоящих преступлений.
– Он ведь написал книгу, да? Д-детектив?
– «Заговор Долорозо» – не детектив, это документальная история о незаконных мигрантах в Техасе, о коррупции и контрабанде наркотиков.
Слово «мигранты» она безжалостно скомкала, так что получилось нечто вроде «мгранты».
– Книга пользовалась огромным успехом! Что еще тебе известно?
– Я… Я знаю, что ваш отец утонул в бассейне на вечеринке у Ханны.
Ада снова ахнула – на этот раз так, словно я дала ей пощечину на виду у сотни гостей на светском приеме.
– Мой отец не утонул! – Голос у нее стал невыносимо пронзительным, словно кто-то царапает накладными ногтями туго натянутые колготки. – Да ты хоть представляешь, кем был мой отец?
– Простите… Я не хотела…
– В четыре года он катался на трехколесном велосипеде и попал под трактор. Когда служил в Корее, получил перелом позвоночника. Вылетел в машине с моста и в воде выбрался через окошко, как в кино. Однажды его укусил доберман, в другой раз – гремучая змея. У побережья Индонезии на него напала акула, но он вспомнил передачу на канале «Природа» и стукнул акулу кулаком по носу – именно это всем советуют делать, но обычно люди не решаются. А Смок решился. И ты мне будешь говорить, якобы он погиб оттого, что добавил к своим обычным таблеткам каплю «Джека Дэниэлса»? Дикость какая! Он уже полгода принимал это лекарство, и никаких побочных эффектов не было! Ему шесть пуль всади прямо в лоб, он бы и глазом не моргнул, помяни мое слово…
К моему ужасу, на последнем слове голос Ады сорвался – и, похоже, очень основательно. Я не уверена, но, по-моему, она еще и заплакала – страшный звук задавленных рыданий смешался с бормотанием телевизора, так что невозможно отличить реальную драму от телевизионной. Очень может быть, что на самом деле Ада сказала: «Трэвис, я не стану лгать», а на экране актриса, не Ада, горько плакала о своем умершем отце.
– Простите, – сказала я. – Теперь я совсем запуталась…
– Я сама только потом сопоставила. – Она шмыгнула носом.
Я еще подождала, давая ей время кое-как заштопать дырку в голосе.
– Что вы… сопоставили?
Ада кашлянула.
– Ты знаешь о «Ночных дозорных»? Нет, конечно, не знаешь… Ты и своего-то имени не знаешь, наверное…
– Вообще-то, знаю. Мой папа преподает политологию.
Ада удивилась – а может, и обрадовалась.
– О?
– Это радикальная группа, но нет уверенности, существовали они на самом деле или нет, если не считать одного-двух инцидентов в начале семидесятых. Это скорее была красивая идея: сражаться против жадности.
Я перефразировала кусочек статьи «Краткая история американского революционного движения» (см. Ван Меер, «Федеральный форум», т. 23, № 9, 1990).
– Одного-двух инцидентов, – повторила Ада. – Ясно. Значит, ты знаешь о Грейси.
– Он основал группу. Но он же умер?
– Джордж Грейси, – медленно проговорила Ада, – единственный известный участник, не считая еще одного человека. ФБР и по сей день его ищет. В семидесятом… Нет, в семьдесят первом году он убил сенатора от Западной Виргинии – подложил в его машину самодельную бомбу, сделанную из отрезка трубы. Год спустя взорвал здание в Техасе. Погибли четыре человека. Его успели записать на видео, полицейский художник нарисовал портрет, но Грейси как сквозь землю провалился. В восьмидесятых в Англии взорвали дом. Самодельное взрывное устройство. Были сведения, что Грейси жил в этом доме, поэтому и решили, что он мертв. Разрушения были такие, что личность погибших установить не удалось даже по зубам. Знаешь, когда сверяют с записями зубного врача…
Она помолчала немного.
– Убитого сенатора звали Майкл Маккаллох – он приходился Дабсу дядей по материнской линии, а мне – двоюродным дедушкой. Случилось это в Миде, двадцать минут езды от Финдли. Дабс говорил нам, детям: на край земли побежал бы, лишь бы притянуть этого сукина сына к ответу. А когда он утонул, все поверили полиции – говорили, он перебрал – и вот пожалуйста, несчастный случай. Только я не верила! Всю ночь листала его черновики, хоть Арчи и ругался, называл меня ненормальной. Но потом наконец-то все сошлось, одно к одному. Я показала Арчи и Кэлу. А она, конечно, догадывалась, что мы поймем, оттого и повесилась. Мы бы обязательно обратились в ФБР. Ей пришлось выбирать – смерть или тюрьма.
– Я не понимаю…
– Полночный заговор, – тихо произнесла Ада.
Следить за ее логикой было все равно что пытаться невооруженным глазом проследить, как электрон вращается вокруг атомного ядра.
– Что такое «Полночный заговор»?
– Его будущая книга, о Джордже Грейси. Он собирался так ее назвать. Она бы стала бестселлером. Смок выследил Грейси прошлой весной, в мае. Тот жил на райском острове под названием Паксос, как сыр в масле катался.
Ада судорожно перевела дух.
– Ты не представляешь, что мы почувствовали, когда нам позвонили из полиции и сообщили об отце. Мы его буквально позавчера видели на крестинах Гладиолуса, и вот его уже нет. О Ханне Шнайдер мы и слыхом не слыхали. Сперва решили, это та скандальная разведенная дама, которую в Конном клубе выбрали казначеем, на свою голову, но ту зовут Ханна Смитерс. Тогда мы подумали, может, это родственница Гретхен Петерсон, с которой Дабс ходил на благотворительный вечер, но та оказалась Лиззи Шелдон. И вот… – Ада уже махнула рукой на знаки препинания, а заодно и на паузы; слова спешили в телефонную трубку, обгоняя друг друга. – Два дня голову ломали, а потом Кэл посмотрел на фотографию, которую прислали из полиции по моей просьбе, и что бы ты думала? Он вспомнил, как эта женщина заговорила с Дабсом в магазине здорового питания. Они тогда возвращались с «Автовыставки – четыре тысячи», дело было в июне, то есть месяц спустя после поездки на Паксос. Кэл говорит, Дабс в магазин зашел за жвачкой, а эта дамочка к нему и подрулила. У Кэла фотографическая память. Он сказал: «Она, точно». Высокая брюнетка, лицо сердечком, словно коробка конфет на День святого Валентина – а это у Дабса любимый праздник был. Она спросила, как проехать в Чарльстон, они разговорились – Кэл даже из машины вылез и пошел за Дабсом. Вот и все. Мы нашли ее адрес в его телефонной книжке. По записям в телефонной компании установили, что он ей звонил раз или два в неделю. Она мастерски разыграла свою партию. После моей матери он ни с кем не встречается… Я все еще говорю о нем в настоящем времени! Арчи говорит, надо с этим бороться.
Она снова трудно вздохнула и продолжила свой рассказ. А мне представлялись мелкие садовые паучки – нет чтобы развесить паутину скромненько в уголке, плетут на самом виду и такую огромную, что в нее два африканских слона поместятся. Мы с папой наблюдали за таким паучком, сидя на крыльце в Говарде, штат Луизиана. Раз за разом ветер обрывал паутину или она сама рвалась, провисая между двумя ложноклассическими колоннами, а паучок упорно продолжал работу, и шелковая паутинка трепетела, словно зубная нить на ветру. «Он пытается собрать мир воедино, – сказал папа. – Сшивает, как умеет».
– Мы до сих пор не знаем, как она это провернула, – говорила Ада. – Отец весил двести сорок фунтов[464]. Наверняка она его отравила… Впрыснула ему какую-нибудь гадость – может, цианистый калий. Между пальцами ног, наверное… Полицейские клянутся, что внимательно его осмотрели и никаких следов не нашли. Не понимаю, как это может быть. Виски он уважал, врать не стану. А тут еще и лекарство…
– Какое лекарство?
– «Минипресс», от давления. Доктор Никсли предупреждал, что оно не сочетается с алкоголем, но отец уже выпивал раньше, и ни разу никаких последствий. Когда он только начал принимать эти таблетки, дело было на благотворительном вечере в «Червонном короле» – сам доехал домой, и все нормально обошлось, я видела. А не то я бы ему устроила… Хотя он слушать бы не стал.
– Ада, подождите… – Я говорила шепотом, как в библиотеке. – Я все-таки не понимаю, как Ханна смогла бы…
– Ей Грейси приказал убить Смока. Точно так же, как и других. Понимаешь, она их соблазняла.
– Но…
Ада меня перебила:
– Она и есть еще один человек. Еще один участник «Ночных дозорных» – или ты не слушала?
– Но я говорила со следователем, за ней не числится никаких преступлений…
– На самом деле ее зовут не Ханна Шнайдер. Она присвоила имя несчастной пропавшей девушки из детского дома в Нью-Джерси. Много лет выдавала себя за нее. А в действительности она – Кэтрин Бейкер, и ее разыскивает ФБР за убийство полицейского. Где-то в Техасе. Два выстрела, прямо между глаз. Смок не догадался, потому что никто точно не знает, как выглядит Кэтрин Бейкер, тем более сейчас. Есть очень старый набросок, сделанный по показаниям свидетелей. В восьмидесятые все выглядели по-дурацки – знаешь, эти ужасные запоздалые хиппи. На рисунке у нее светлые волосы и голубые глаза. У Смока хранился этот набросок среди материалов по делу Джорджа Грейси. Но он очень приблизительный. Такой можно с кого угодно нарисовать, хоть с меня.
– А вы не могли бы прислать мне копию этих материалов? Для исследования?
Ада шмыгнула носом. Она не сказала, что согласна их прислать, но я все-таки назвала свой почтовый адрес. Мы обе помолчали. На заднем плане отыграла финальная музыка мыльной оперы и вновь заверещала реклама.
– Как я жалею, что меня там не было, – тихо проговорила Ада. – У меня шестое чувство. Если бы я поехала с ним на автомобильную выставку, я бы не отпустила его одного за жвачкой. Мы пошли бы вместе, и я бы сразу ее раскусила. Конечно, выкомаривалась там перед ним в облегающих джинсах, в темных очках, якобы случайная встреча… Кэл клянется, что еще за пару дней до того ее видел, когда они со Смоком покупали свиные ребрышки в «Уинн-Дикси». Она прошла мимо них с пустой тележкой, разряженная, как на светский раут, посмотрела Кэлу в глаза и улыбнулась, как сам дьявол. Конечно, тут невозможно знать наверняка. По воскресеньям в супермаркете толпа народу…
– Что вы сказали?
Ада смолкла. Видимо, ее удивил мой изменившийся голос.
– Я говорю, невозможно знать наверняка…
Я, сама не отдавая себе отчета, повесила трубку.
Глава 31. «Че Гевара говорит с молодежью», Эрнесто Гевара де ла Серна
У «Ночных дозорных» было много названий. В Германии – Nächtlich, или «Ноктюрн», а также Nie Schlafend – «Неспящие». По-французски – Les Veilleurs de Nuit. Точно неизвестно, сколько было людей в организации в период ее расцвета, – предположительно, между 1971-м и 1980 г. По одним сведениям – двадцать пять человек на всю Америку, по другим – тысячи в разных странах земного шара. Правды мы, возможно, никогда не узнаем. Во всяком случае, сейчас эту группу обсуждают намного оживленнее, чем в период ее активной деятельности (поиск по интернету выдает более ста тысяч ссылок). Такая популярность – отчасти в качестве урока истории, отчасти красивой легенды – свидетельствует о том, что и в наши дни, при всей раздробленности и циничности общества, живы идеалы Свободы, жива мечта об освобождении всех людей, вне зависимости от расы и вероисповедания.
Ван Меер.Nächtlich. Распространенные мифы о борцах за свободу,«Федеральный форум», т. 10, № 5, 1998Папа вырастил меня скептиком – человеком, которого могут убедить только «факты, выстроившиеся в ряд, словно тацовщицы кордебалета». Поэтому я не верила Аде – пока та не описала случай в супермаркете (или даже чуть раньше, когда она сказала про темные очки и облегающие джинсы). С тем же успехом речь могла идти не о Смоке, а о нас с папой в сентябре, когда я впервые увидела Ханну в отделе замороженных продуктов.
И как будто этого мало, она еще приплела дьявола с его ухмылкой, а когда человек с таким явным южным акцентом говорит о дьяволе, неизбежно возникает чувство, что он знает нечто особенное, тебе неизвестное. Как писал Ям Честли в своей книге «Южные аристократы» (1979): «Две вещи Юг знает до тонкости: хлопок и Сатану» (стр. 166). Повесив трубку, я среди подползающих теней уставилась на «ЗАМЕТКИ ПО ДЕЛУ», на которых успела накорябать хокку в стиле инспектора Коксли (НОЧНЫЕ ДОЗОРНЫЕ КЭТРИН БЕЙКЕР ГРЕЙСИ).
Моя первая мысль была: папа убит.
Наверное, он тоже работал над книгой о Грейси – а значит, он тоже был мишенью Кэтрин Бейкер. Иначе почему Ханна подстроила встречу в магазине, как со Смоком Харви? Это единственное логичное объяснение! А если и не работал над книгой («Боюсь, на еще одну книгу у меня пороху не хватит», – признался он как-то в настроении «бурбон»), то готовил статью или там лекцию.
Я бросилась к выключателю. В ярком свете лампы тени вмиг попрятались по углам, как вышедшие из моды черные платья в универмаге. Я напомнила себе, что Ханна мертва (пирожок несомненной истины). Папа в полной безопасности, ужинает себе с профессором Арни Сандерсоном в итальянском ресторане «Пицца Питти», в самом центре Стоктона. И все равно, мне было необходимо услышать его шершавый наждачный голос, его «Радость моя, не смеши». Я сбежала вниз по лестнице и схватилась за телефонный справочник. (Мобильного у папы не было. «Чтобы меня кто угодно мог дергать в любое время дня и ночи, как какого-нибудь болвана из отдела по работе с клиентами? Нет уж, благодарствую!»)
В ресторане папу вычислили быстро: не так много людей ходят весной в ирландском твиде.
– Радость моя? – Он явно встревожился. – Что случилось?
– Ничего… То есть все. У тебя все нормально?
– В смысле? Да, конечно. В чем дело?
– Да ни в чем. – Тут во мне проснулась паранойя. – Этому Арни Сандерсону доверять можно? Ты лучше приглядывай за своей тарелкой. И в уборную не отходи…
– Что?!
– Я узнала всю правду о Ханне Шнайдер – почему ее убили… Или она сама себя убила… В этом я еще не разобралась, но я знаю причину!
Папа долго молчал. Наверное, ему уже надоело слышать это имя, да и не поверил он мне. Как тут поверить – я задыхалась, как ненормальная, сердце колотилось, точно алкаш в тюремной камере.
– Радость моя, – мягко сказал он наконец. – Я сегодня заезжал домой, оставил кассету с «Унесенными ветром». Посмотри кино, отрежь себе кусочек торта. Я через час буду.
Он начал еще что-то говорить – начиналось со слова «Ханна», но оно застряло у папы во рту. Он, кажется, боялся, что, произнеся это имя, поощрит мои безумства.
– У тебя там точно все в порядке? Я могу и сейчас уйти.
– Нет-нет, все в норме. Поговорим, когда ты приедешь.
Я повесила трубку. Папин голос подействовал на меня, как ледяной компресс – на вывихнутую лодыжку; сразу полегчало. Я собрала «ЗАМЕТКИ ПО ДЕЛУ» и отправилась в кухню сварить себе кофе.
«Опыт, интеллект, заключение судмедэксперта, улики, отпечатки пальцев – это, конечно, имеет значение, – говорила следователь Кристина Верико на стр. 4 „Последнего мундира“ [1982]. – Но самый необходимый элемент в раскрытии преступления – чашечка хорошего кофе, французской обжарки или колумбийская смесь».
Записав еще несколько деталей из разговора с Адой, я снова побежала в папин кабинет, по дороге всюду включая освещение.
Папа написал о Ночных дозорных всего одну статью, ее опубликовали в 1998 году: «Nächtlich. Распространенные мифы о борцах за свободу». Для семинаров по гражданским войнам он иногда еще включал в список обязательного чтения более развернутое исследование их методов – статью из книги Герберта Литтлтона «Анатомия материализма» (1990): «„Ночные дозорные“ и мифологические принципы практических преобразований». Обе статьи я без труда отыскала на книжной полке (если в каком-нибудь номере «Федерального форума» выходила папина статья, он всегда покупал пять экземпляров, как начинающая актриса скупает журналы со своей фотографией в разделе светских новостей).
Я села читать за папин письменный стол. Слева от ноутбука лежала пухлая стопка блокнотов и аккуратно сложенных иностранных газет. Из любопытства я их пролистала, с трудом разбирая папин почерк, похожий на колючую проволоку. Увы, тема этих записей никак не была связана с Джорджем Грейси и «Ночными дозорными» (слишком уж сверхъестественное вышло бы совпадение с историей Смока). В них шла речь о папиной излюбленной теме – гражданских волнениях в Демократической Республике Конго и других центральноафриканских странах. «Когда прекратится истребление? – вопрошали коряво переведенные заголовки передовиц в малотиражной кейптаунской газетке „Африкаан Ньюс“. – Где ты, защитник свободы?»
Я вернула бумаги на место, тщательно уложив их в исходном порядке, а то папа чует, что кто-то шуровал на его столе, как собака чует страх. Затем я приступила к методичному изучению вопроса о «Ночных дозорных» (или Mai addormentati[465] – так их называли по-итальянски, или 決して眠った – по-японски). Прежде всего я прочла папину статью, а после нее – длиннющую 19-ю главу в книге Литтлтона и наконец включила ноутбук – посмотреть, что говорят об этой организации в интернете.
С 1998 года интерес к ней вырос необычайно; вместо ста тысяч ссылок поиск выдал полмиллиона. Я проглядела, сколько смогла, не отвергая ни явно предубежденных высказываний, ни преувеличенно-романтических, ни очевидно безосновательных гипотез («Под сенью предрассудков иногда расцветает истина», – говорил папа). Энциклопедии, учебники истории, сайты о политике, левацкие блоги, странички коммунистов и неомарксистов (мне особенно понравился сайт – с намеком на львиную гриву Карла Маркса), сайты анархистов и заговорщиков, сайты, посвященные картелям, сектам, супергероям, городским легендам, организованной преступности, Оруэллу, Малкольму Иксу[466], Эрин Брокович[467] и какой-то никарагуанской группе под названием «Рыцари Че». «Ночные дозорные» оказались похожи на Грету Гарбо, когда она перестала сниматься в кино: загадочные, неуловимые, все хотят о них что-нибудь узнать и не могут.
На то, чтобы все просмотреть, у меня ушел час. Глаза опухли, в горле пересохло. Я чувствовала себя предельно вымотанной и в то же время – до неприличия живой. В голове все кружилось, как та ярко-зеленая стрекоза, что влетела папе в волосы на озере Пеннебейкер, – он тогда заплясал, как марионетка, и с криком «А-а-а!» вломился в толпу старикашек с желтыми козырьками, напоминающими нимб Христа на старинных фресках.
Сердце у меня заходилось от азарта – и не только потому, что я теперь много знала о «Ночных дозорных», прямо хоть лекции читай вместо папы толпе лохматых студентов, и не потому, что рассказ Ады Харви при тщательной проверке держался мертво, как британская блокада немецких судов в Битве за Атлантику во время Первой мировой. И не в том даже, что все странности Ханны Шнайдер, все ее вранье и необъяснимые поступки вдруг отверзлись, точно саркофаг фараона Хетераамеса в 1927 году, когда Карлсон Кей Мид исследовал захоронение с мумиями в Долине Царей[468] (теперь я впервые могла, присев на корточки, поднести походный фонарь к лицу Ханны и рассмотреть его во всех подробностях).
Нет, тут было кое-что еще. Папа описывал это чувство, рассказывая о последних часах жизни Че Гевары: «Есть нечто опьяняющее в мечте о свободе и в людях, которые ради нее готовы рисковать жизнью, особенно в наше тусклое время, когда большинство граждан еле-еле способны оторвать зад от дивана ради доставленной пиццы».
Я решила задачу!
Самой не верится. Я отыскала значения переменных x и y (при существенном участии Ады Харви; я не настолько тщеславна, как некоторые математики, жаждущие единолично красоваться в анналах истории). Меня переполняли ужас и восторг, совсем как Эйнштейна в 1905 году в швейцарском городе Берне, когда он проснулся от кошмара: две звезды, пульсируя, столкнулись друг с другом и породили странные волны в космическом пространстве. Это видение стало отправной точкой для создания общей теории относительности.
– Это пыло самое утифительное, страшное и прекрасное зрелише, – говорил потом Эйнштейн.
Я снова бросилась к книжной полке и на этот раз вытащила трактат полковника Хелига об убийстве: «Незримые козни» (1889). Быстро перелистала (книга была очень старая, страницы с первой по двадцать вторую отделились от корешка, осыпаясь бумажной перхотью). Я выхватывала из текста пассажи, способные пролить последнюю недостающую лужицу света на открытую мною истину – захватывающий и, несомненно, опасный Новый мир.
На сайте был описан эпизод, в котором «Ночные дозорные» раскрывались с неожиданной стороны (папа усмотрел бы здесь очередное подтверждение тому, что «всякую легенду, словно тренч, можно использовать как во благо – для защиты от дождя, так и во зло – чтобы бегать по парку и пугать детей». Там рассказывалось, что 14 января 1995 года двое восьмиклассников, проживающих в благополучном пригороде Хьюстона, совершили совместное самоубийство. Одна из самоубийц, тринадцатилетняя девочка, написала предсмертную записку и выложила ее в интернет. На пугающе миленьком листочке розовой бумаги с изображением радуги девчачьим почерком было написано: «Мы уничтожаем себя во имя „Ночных дозорных“. Пусть наши родители поймут, что их деньги – грязные. Смерть нефтяным свиньям».
Создатель сайта (при нажатии кнопки «Подробней о Рэнди» появлялось изображение тощего, лохматого, как мамонт, субъекта неопределенных лет, с плотно сжатыми, будто застегнутыми на молнию, губами) возмущался, что «наследие» «Ночных дозорных» извращают подобным образом, ведь «ни в одном их манифесте нет призывов убивать себя из-за того, что ты богат. Они – борцы против капиталистической эксплуатации, а не убогие сектанты из группы Мэнсона». Как известно, девиз «Смерть свиньям» был написан кровью на двери дома на Сьело-драйв[469] (см. «Черный дрозд поет ночью. Биография Чарльза Майлза Мэнсона», Айвис, 1985, стр. 226).
Если верить большинству источников, Рэнди был прав: ни в одном из манифестов «Ночных дозорных» не было призывов к самоубийству по каким бы то ни было причинам. Строго говоря, они и манифестов никаких не оставили, равно как и памфлетов, брошюр, тезисов, аудиозаписей и пламенных статей с изложением своей программы. (Папа бы одобрил: «Если бунтари не делают широковещательных заявлений о своих намерениях, их враги никогда не будут знать наверняка, против кого они борются».) Единственное бумажное свидетельство существования организации – тетрадный листок, датированный 9 июля 1971 года, с записью о рождении «Ночных дозорных» – какими их знали страна, полиция и ФБР. Новорожденному никто не обрадовался – у властей и так забот хватало: тут тебе и «Синоптики», и «Черные пантеры», и «Студенты за демократическое общество»[470], и прочие, как выражался папа, «укуренные хиппи»).
В тот июльский день 1971 года полицейский в городе Мид, Западная Виргиния, обнаружил вышеупомянутый листок, прилепленный скотчем к столбу в богатом квартале Марлоу-Гарденс, в десяти шагах от того места, где взорвался белый кадиллак «Флитвуд-75» сенатора Майкла Маккаллоха (сенатор, только севший в машину, погиб мгновенно).
Единственный манифест «Ночных дозорных» размещен на сайте (как оказалось, Грейси не блистал излишней грамотностью): «Сегодня сдохнет жирный криводушный буржуй. – (Сенатор действительно весил триста фунтов, и не знаю, как насчет души, а позвоночник у него и правда был кривой – Маккаллох страдал сколиозом.) – Алчный толстосум, который богатеет страданиями женщин и детей. Поэтому я и многие со мной станем „Ночными дозорными“ и поможем избавить нашу страну и весь мир от капиталистической алчности, которая не уважает человеческую жизнь, подрываит демократию, лишает народ света, чтоб он жил как слепой».
Папа и Герберт Литтлтон сформулировали гипотезы о целях и задачах «Ночных дозорных», исходя из данных об убийстве 1971 года и взрыве офисного здания в центре Хьюстона 29 октября 1973 года. Литтлтон считал, что сенатор Маккаллох стал первой (насколько известно) жертвой, поскольку в 1966 году оказался замешан в громкую историю с токсичными отходами. На текстильной фабрике «Шохаук индастриз» в Западной Виргинии незаконно сбросили в реку Пули более семидесяти тонн токсичных отходов. К 1965 году резко выросло количество раковых заболеваний в шахтерских городках Бьюдд и Моррисвиль. Когда разразился скандал, Маккаллох – в то время занимавший должность губернатора – публично выразил скорбь и возмущение, а его героическое решение очистить реку, невзирая на расходы (которые легли на плечи налогоплательщиков), обеспечило Маккаллоху сенатское кресло на выборах в следующем году (см. статью «Губернатор Маккаллох навещает пятилетнего мальчика, больного лейкемией» в кн. «Анатомия материализма», Литтлтон, стр. 193).
Однако в 1989 году Литтлтон обнародовал факты, доказывающие, что на самом деле Маккаллох не только знал о готовящемся сбросе и его последствиях для населенных пунктов ниже по течению, но и получил солидную сумму за молчание – от 500 000 до 750 000 долларов.
Папа считал, что взрыв в Хьюстоне 1973 года продемонстрировал решимость «Ночных дозорных» вести войну против «капиталистической алчности и эксплуатации во всемирном масштабе». На этот раз мишенью стал не отдельный человек, а штаб-квартира корпорации «Оксико ойл энд газ» (ООГ). На этаж, где размещалось правление, подбросили взрывчатое устройство на основе азотнокислого аммония и дизельного масла. Выполнил это сам Джордж Грейси, переодетый электриком; на записях камеры наружного наблюдения видно, как он рано утром выходит из здания, а за ним следуют еще двое, в масках из вязаных шапок и кепках дворников; предположительно, один из них – женщина. При взрыве погибли три человека из руководства компании, в том числе ее давний президент Карлтон Уорд.
По мнению Литтлтона, причиной этой акции стало решение Уорда в 1971 году одобрить секретные меры по сокращению расходов, связанных с владениями «Оксико» в Южной Америке. В общих чертах, предполагалось прекратить бетонировать резервуары для отходов на нефтеперерабатывающем заводе в Эквадоре. «Наглядный пример пренебрежения человеческими жертвами ради повышения прибыли»: пусть отходы просачиваются в почву и отравляют окружающую среду, зато сэкономим по три доллара на баррель. К 1972 году в результате загрязнения был отравлен запас питьевой воды, которой пользовались более тридцати тысяч местных жителей, в том числе женщины и дети, а к 1989 году не только увеличилось количество раковых заболеваний и врожденных дефектов у детей – пяти местным племенам уже грозило вымирание (см. «Безногая девочка» в кн. «Анатомия материализма», Литтлтон, стр. 211).
Взрыв в Хьюстоне ознаменовал кардинальное изменение тактики «Ночных дозорных». Папа утверждал, что именно тогда «закончилась реальность плаксивых радикалов и началась легенда». Убийство руководящих сотрудников «Оксико» обескуражило секту (иные говорили, «уничтожило»). Политика компании в Южной Америке не изменилась после взрыва. Всего лишь усилили охрану, сотрудников заставляли проходить бесконечные проверки, многие потеряли работу. При взрыве погибла также ни в чем не повинная секретарша, мать четверых детей. Грейси вынужден был уйти в подполье. В предпоследний раз его видели в городе Беркли, штат Калифорния, в ноябре 1973 года – через месяц после хьюстонского взрыва. Он обедал в столовой неподалеку от университета. С ним была «неизвестная девочка-подросток, темноволосая, лет тринадцати-четырнадцати».
В начале своей деятельности «Ночные дозорные» были у всех на виду, – по крайней мере, их взрывы привлекали общее внимание. Однако в январе 1974 года Грейси и двадцать – двадцать пять его соратников решили в дальнейшем выполнять свои задачи незаметно, «без помпы», как говорил папа. Возможно, многие революционеры (и даже сам товарищ Че) назвали бы такой метод глупым и пораженческим. «Что такое гражданская война, если она не ведется открыто, шумно и красочно, поднимая массы на вооруженную борьбу?» – говорит Лу Суонн, простоватый папин коллега, автор благосклонно принятой читателями книги «Железная рука» (1999). «Украл мое заглавие», – мрачно заметил по этому поводу папа; сам он подобное решение считал весьма остроумным стратегическим ходом. В своих статьях папа не раз утверждал: «Если борцы за свободу вынуждены прибегнуть к насилию, это нужно делать втайне, только так можно достичь результата в долгосрочной перспективе» (см. «Ужас в Кейптауне», Ван Меер, «Федеральный форум», т. 19, № 13). (На самом деле идея папе не принадлежит; он ее сплагиатил из «Гримасы» [неизвестный автор, 1824].)
Года три или четыре «Ночные дозорные» тихо перегруппировывались, учились и набирали новых членов. «Число участников выросло в три раза – не только в Америке, но и в других странах», – сообщает голландский исследователь, владелец сайта De Echte Waarheid – «Подлинная правда». Организация превратилась в сложную сеть. В центре паутины – Грейси и другие так называемые «мыслители», а дальше многочисленные рядовые члены группы; многие ни разу даже не видели Грейси и друг друга.
«Никто не знает, чем занимались большинство участников», – пишет Рэнди на своем сайте .
А вот я догадывалась чем. Чарли Квик в своей книге «Военнопленные. Почему в Южной Америке не прижилась демократия» (1971), неизменно входившей в папин список обязательного чтения, пишет, что для будущего борца за свободу необходим своеобразный период «вынашивания планов», когда он только «изучает своего врага – вплоть до того, что враг ест на завтрак, каким лосьоном для бритья пользуется и сколько у него волосков на большом пальце левой ноги». Я думаю, именно этим и поручили заниматься рядовым «дозорным» – собирать информацию о намеченных Грейси мишенях, с тщательностью и терпением коллекционера, подкарауливающего редкую бабочку. Например, Ханна, судя по ее рассказам в ресторане «Гиацинтовая терраса», досконально изучила Смока Харви; она знала историю его семьи времен Войны Севера и Юга, знала мельчайшие подробности о людях, которых никогда в жизни не встречала и, наверное, даже издалека не видела. Возможно, Грейси был вроде Гордона Гекко («Хочешь еще один шанс? Тогда прекращай болтать и начинай приносить пользу»), а рядовые члены организации – вроде Бада Фокса[471] («Утро провел в „Кан Зайдельман“ в отделе „мусорных“ облигаций… ланч в „Ле Сиркз“ с хорошо одетыми ребятами»).
Я быстренько добавила эти свои соображения к «ЗАМЕТКАМ ПО ДЕЛУ» и стала читать дальше.
Примерно в это же время организация отказалась от чересчур заметных и не приносящих практической пользы общих собраний – в марте 1974-го полиция чуть не захватила врасплох очередное сборище «Ночных дозорных» на заброшенном складе в городе Брейнтри, штат Массачусетс. Теперь они встречались более скрытно, один на один. По данным сайта , встречи эти, как правило, начинались «в закусочной у шоссе или стоянки грузовиков, а затем продолжались в недорогой гостинице или мотеле, чтобы стороннему наблюдателю они казались обычным свиданием на одну ночь и не привлекали внимания» (я, конечно, чуть не запрыгала от радости, увидев этот комментарий, но заставила себя сосредоточиться и читать дальше).
По сведениям сайта /nächtlich, в начале 1978 года пошли слухи, будто бы «Ночные дозорные» возобновили свою деятельность. В то время один из руководителей «МФГ Холдингс» Питер Фицвильям погиб при пожаре у себя в поместье в Коннектикуте. Причиной пожара стала неисправность электропроводки. Фицвильям тайно вел переговоры о слиянии с компанией «Сав-Март» – сетью дешевых магазинов. После его смерти переговоры были прерваны, а в октябре 1980-го «МФГ» обанкротилась и цена ее акций упала до нуля. (Фабрики «МФГ» в Индонезии, нещадно эксплуатирующие работников, правозащитная организация «Глобальный гуманитарный надзор» причисляла к «самым бесчеловечным в мире».)
В 1982 году радикальную группу Грейси – на этот раз под именем Nie Schlafend – вновь широко обсуждали в журналах левого толка («Либерал» и еще какой-то «Ежеквартальный Контроль над разумом») в связи с гибелью за три месяца четырех руководящих работников, непосредственно отвечавших за конструирование и продажу модели «форд-пинто»[472]. Двое скоропостижно скончались от сердечного приступа (причем один из них, Хауи Макфарлин, был помешан на здоровом образе жизни и регулярно посещал спортзал), еще один нечаянно выстрелил себе в голову, а четвертый, Митчелл Кантино, утонул в собственном бассейне. При вскрытии уровень алкоголя в его крови оказался равен 2,5 промилле; также в организме обнаружили большую дозу метаквалона – снотворного, которое покойному прописал врач как средство от бессонницы и повышенной тревожности. Кантино в то время разводился с двадцатичетырехлетней женой. Та сообщила полиции, что он уже полгода встречается с другой женщиной.
«Говорил, что ее зовут Кэтрин. Влюбился без памяти. Я ее никогда не видела, знаю только, что блондинка. Я нашла светлые волосы на расческе, когда заезжала домой за вещами», – сказала полицейским бывшая жена Кантино (см. -ferris8os/pinto).
Полиция сочла, что Кантино утонул в результате несчастного случая. По данным следствия, в ночь происшествия он был дома один.
Именно в этот период, 1983–1987, начала складываться легенда о Кэтрин Бейкер. Ее называют Бражник Мертвая Голова, Мотылек или Die Motte[473] – так ее окрестили на гамбургском сайте анархистов (см. ). (Как я поняла, у всех Ночных дозорных были прозвища. Грейси был Нерон, другие [настоящие их имена неизвестны] звались Бычий Глаз, Мохаве[474], Сократ и Франклин. Мотылька папа и Литтлтон почти не упоминают; она появляется в послесловии к работе Литтлтона, а папа говорит о ней в самом конце статьи, где речь идет о том, «какой огромной силой обладает сказка о свободе, когда борцам за справедливость приписывают атрибуты кинозвезд и персонажей комиксов». Я думаю, дело тут в том, что Грейси-то – личность вполне реальная, документально подтвержденная: турок по происхождению, вследствие какой-то травмы перенес операцию на бедренной кости, с тех пор у него правая нога на полдюйма короче левой… А Кэтрин Бейкер напоминает сюжет фильма-нуар или, вернее, детектив с запутанной интригой, невнятными хитросплетениями, логическими пробелами изложения и множеством следов, ведущих в никуда.
Кое-кто утверждал, что, строго говоря, она не принадлежала к числу «Ночных дозорных» (). А что от города, где видели Грейси, до места совершенного ею преступления всего двадцать три мили (и два часа) – это случайно так совпало, и ФБР напрасно поторопилось усмотреть здесь «связь с экстремистами».
Невозможно узнать наверняка, была ли блондинка, замеченная вместе с Грейси 19 сентября 1987 года на автостоянке возле аптеки фирмы «Лорд» в Ариэле, штат Техас, той самой блондинкой, которую остановил патрульный на пустынном шоссе поблизости от Валлармо. Полицейский Болдуин Саллинс, пятидесяти четырех лет, сообщил по рации, что преследует синий «меркьюри-кугар» 1968 года, чтобы оштрафовать за неисправную заднюю фару. Что-то, видимо, показалось ему подозрительным – полицейский попросил женщину выйти из машины (если верить информации на сайте , он хотел заглянуть в багажник, где прятался Грейси). Кэтрин, в синих джинсах и черной футболке, выбираясь из-за руля, выхватила револьвер RG.22 – так называемый «револьвер субботнего вечера» – и дважды выстрелила полицейскому в лицо.
(А я надеялась, что Ада Харви добавила эту подробность ради пущего эффекта; могло же быть «нечаянно спустила курок» или «забыла поставить на предохранитель», но увы – Ада не приукрашивала.)
Патрульный Саллинс успел сообщить номер подозрительной машины. Она была оформлена на имя некоего Оуэна Тэкла из города Лос-Эбанос, штат Техас. Как удалось установить, за три месяца до этого Тэкл выставил автомобиль на продажу в автосалоне «Машины по дешевке» в Ариэле. Купившая машину накануне происшествия высокая блондинка назвалась Кэтрин Бейкер и расплатилась наличными. Буквально за несколько секунд до выстрела мимо проехал «линкольн-континенталь». За рулем была женщина – Ширли Лавиния, пятидесяти трех лет, – по ее показаниям и был сделан единственный существующий портрет Кэтрин Бейкер.
(Фоторобот в крайне низком разрешении выложен на сайте ; правду сказала Ада – он нисколько не похож на Ханну Шнайдер. С таким же успехом на нем мог быть изображен любимый пудель июньской букашки Филлис Миксер.)
О Мотыльке еще много чего можно прочесть в сети. На сайте говорится, что она похожа на Бетти Пейдж[475], а на – что ее часто принимали за Ким Бейсингер[476]. Я чуть в обоморок не упала от таких подробностей, не говоря уже об аптеке «Лорда» (в рассказе Ханны якобы именно там полиция задержала Джейд после ее странствий по дорогам). Но я заставила себя продолжать чтение, сохраняя полную невозмутимость, как британская исследовательница, старая дева Мэри Кингсли (1862–1900), которая не моргнув глазом отправилась в путешествие по кишащей крокодилами реке Огове в Габоне, чтобы изучать каннибализм и полигамию.
Некоторые источники уверяли, что Кэтрин Бейкер по происхождению англичанка или француженка (или даже уроженка Эквадора; по версии , ее брат-близнец умер от рака желудка, вызванного заражением речной воды по вине «Оксико», потому Кэтрин и присоединилась к «Ночным дозорным»). Однако большинство склонялось к мнению, что она – та самая тринадцатилетняя Кэтрин Бейкер из Нью-Йорка, о чьей пропаже летом 1973 года заявили родители. И конечно, «почти наверняка» именно она была та «неизвестная девочка-подросток, темноволосая, лет тринадцати-четырнадцати», с которой видели Грейси в Беркли через месяц после хьюстонского взрыва.
По сообщениям сайта , родители пропавшей Кэтрин Бейкер были сказочно богаты. Отец ее – потомок Эдвардса П. Лариотта, американского капиталиста и нефтяного магната, в свое время – второго по богатству в Соединенных Штатах (люто враждовавшего с Джоном Д. Рокфеллером). Бунтарский характер Кэтрин, ее недовольство обстановкой в доме и детская влюбленность в Грейси (вероятно, они познакомились в Нью-Йорке в начале 1973 года) заставили ее бежать без оглядки от «капиталистических привилегий и бездушной роскоши».
Такое прошлое подходило Ханне куда больше, чем описанное сержантом Харпер сиротское детство в Нью-Джерси, – точно так же соболий палантин куда лучше сидел бы на ее худых плечах, чем спортивная курточка. Если верить Аде Харви (а не верить ей я не видела причин), главная ошибка Файонетт Харпер состояла в том, что доблестный сержант расследовала прошлое пропавшей без вести Ханны Шнайдер, сиротки, чью личность Кэтрин Бейкер, очевидно, присвоила (словно, примерив пальто в магазине, так в нем и ушла, не заплатив). Но ни подтвердить это, ни опровергнуть у меня не выходило, сколько ни бейся. Поиск по словосочетаниям «Ханна Шнайдер» и «без вести пропавшие» не давал результатов. Сначала я этому удивлялась, а потом вспомнила, что говорила Ханна, когда я у нее ночевала: «Дети, сироты, сбегают из приютов, их похищают, убивают… Через год полиция прекращает поиски. От человека остается только имя, да и его в конце концов забудут».
Это и случилось с девочкой, чье имя Ханна забрала себе.
Я узнавала все новые удивительные факты из жизни Кэтрин Бейкер (особую осведомленность проявили авторы – они даже сделали библиографию со ссылками на дополнительные материалы) и с каждой очередной подробностью снова и снова возвращалась мысленно к тому ночному разговору, вспоминая каждое слово, каждый жест, смену выражений ее лица.
Когда Ханна говорила об Аристократах, вздыхая и затягиваясь сигаретой, на самом деле она рассказывала о себе. Каждому из той компании она подарила кусочек собственного прошлого, аккуратно сшила невидимыми стежками и украсила изысканными аксессуарами («проститутка», «наркотики», «провалы в памяти»), чтобы на меня подействовало безотказно. Когда детали настолько ошеломляют, реальность всей истории не вызывает сомнений.
Это у нее, а не у Джейд отец «разбогател на нефти, так что на его совести кровь и страдания тысяч бедняков». Она, а не Джейд, сбежав из дома, добралась от Нью-Йорка до Сан-Франциско, и «эти шесть дней перевернули всю ее жизнь». В тринадцать лет она, а не Лула сбежала с турком («красивым и страстным», так она выразилась). Ей, а не Мильтону необходимо было хоть во что-то верить, чтобы удержаться на плаву. Она и вступила, только не в «уличную банду», а к «ночным кому-то там» – к «Ночным дозорным». Убийство полицейского она тоже взяла из своего прошлого и прицепила к родителям Найджела, будто наряжая бумажную куклу.
«В жизни все решают одна-две секунды, и никогда не угадаешь заранее, когда они наступят», – сказала в ту ночь Ханна, и по одной ее интонации можно было бы сообразить, что она говорит о себе, и ни о ком другом.
«Интонацию мрачной задумчивости в стиле Хитклифа люди всегда приберегают для истории собственной жизни, больше ничьей, – говорил папа. – Нарциссизм сочится из всех пор западной цивилизации, как машинное масло – из „эдсела“».[477]
«Кто-то спускает курок и разносит вдребезги все вокруг, – сказала Ханна в буквальном смысле с горящими глазами. – А кто-то спасается бегством».
Выдающийся криминалист Мэттью Неймод в своей книге «Задыхаясь в одиночестве» (1999) пишет, что люди, пережившие тяжелую травму, – дети, потерявшие родителей, или преступники, совершившие одно-единственное жестокое преступление, – «часто, сознательно или подсознательно, зацикливаются на каком-либо слове или образе, связанном с обстоятельствами этой травмы» (стр. 249). «Они повторяют это слово, когда волнуются, или же, задумавшись, выводят его на листке бумаги, на подоконнике или на пыльной полке. Посторонним это слово может показаться бессмыслицей и не привлечь внимания» (стр. 250). В случае Ханны слово очень даже привлекло внимание: Лула видела, как Ханна в рассеянности несколько раз написала его на листке бумаги возле телефона, однако Ханна сразу спрятала листок, и Лула в спешке неверно прочла. Вероятно, там было не «Валерио», а «Валлармо» – название техасского городка, где Ханна убила человека.
И тут меня озарило. Я себя не помнила от азарта. Выпусти меня на беговую дорожку – побила бы все рекорды, а заставь прыгать в высоту – взмыла бы в воздух, как на крыльях. Я поняла, что скрывалось за историей о спасении человека в горах!
Поврежденное бедро, операция, одна нога короче другой… Этим человеком был Джордж Грейси! Он скрывался в Адирондаках – а может, как раз эту подробность Ханна выдумала. Он мог скрываться где угодно на протяжении Аппалачской тропы[478] или хоть в Грейт-Смоки-Маунтинс, как Зловещая Троица из романа «Беглецы» (Пилларс, 2004). Ханна доставляла ему еду и прочие припасы – потому и стала такой бывалой походницей. Сейчас он живет на острове Паксос у западного побережья Греции, а Ханна каждый раз в начале учебного года говорит Эве Брюстер, что мечтает поехать в Грецию, чтобы «любить себя».
Но с чего она вдруг решила таким окольным способом рассказать мне историю своей жизни? Почему жила в Стоктоне, а не в Греции с Грейси? И чем сейчас занимаются «Ночные дозорные» – если вообще чем-нибудь занимаются? (Разгадывать загадки, связанные с преступлением, – все равно что истреблять мышей в доме; одну прикончишь, глядь – еще полдесятка уже шмыгают по углам.)
Возможно, Ханна почуяла, что у меня одной из всей компании хватит мозгов раскрыть ее тайну (у Джейд и прочих недостаточно дисциплинированный ум; а у Мильтона так вообще и ум, и тело джерсейской коровы).
«Лет через десять будешь решать», – сказала Ханна. Очевидно, она хотела, чтобы кто-нибудь узнал правду, но не сейчас, а после того, как она разыграет свое исчезновение. В ту ночь, когда я к ней явилась без приглашения, Ханна уже, конечно, знала про Аду Харви. Наверняка она опасалась, что эта решительная южная красотка, пылающая жаждой мести за смерть Большого Па, раскопает настоящую личность Ханны и передаст эти сведения ФБР.
Ехать к Грейси было нельзя, поскольку они оба все еще находились в розыске. А может, их роман выдохся, как откупоренная бутылка минеральной воды «Пеллегрино». «Средний срок годности для великой любви – пятнадцать лет, – пишет Венди Олдридж в книге „Правда о том, как они жили долго и счастливо“ (1999). – После этого уже требуются сильнодействующие консерванты, зачастую вредные для здоровья».
Широкая общественность пребывала в убеждении, что «Ночные дозорные» живы и полны сил. (С мнением большинства соглашался и Литтлтон, хотя никаких доказательств у него не было. Папа проявлял больше скептицизма.) «Благодаря умелой вербовке их численность сейчас даже больше, чем прежде, – пишет Гийом на сайте . – Однако вступить в их ряды не так-то просто. Они наблюдают за вами и выбирают, кто им подходит. Это позволяет им оставаться невидимыми». В ноябре 2000 года Марк Лесенк, сотрудник компании, занимающий ответственный пост и замешанный в скандале с финансовыми махинациями, внезапно повесился у себя дома, в фамильном особняке к северу от Батон-Руж. Рядом на полу нашли заряженный пистолет – не хватало только одного патрона. Самоубийство Лесенка всех потрясло, потому что незадолго до этого и он сам, и его адвокаты во время телеинтервью держались спокойно и самоуверенно. Поползли слухи, что его смерть – дело рук борцов за справедливость из Les Veilleurs de Nuit.[479]
В других странах также происходили тайные убийства разных крупных шишек, промышленных магнатов и коррумпированных чиновников. Анонимный главный редактор сайта пишет, что с 1980 года по настоящее время более трехсот олигархов (чье суммарное состояние оценивается в 400 миллиардов долларов) из тридцати девяти стран, включая Саудовскую Аравию, были «тихо и четко ликвидированы» стараниями «Ночных дозорных». Неясно, правда, какую пользу внезапная кончина олигархов принесла угнетенным и обездоленным, но, по крайней мере, корпорации занялись выяснением внутренних проблем и дележкой руководящих постов, благодаря чему отвлеклись от простых людей, которыми в ином случае могли бы пожертвовать ради увеличения прибыли. Многие служащие вышеупомянутых корпораций жаловались на резкое падение производительности после гибели руководящих работников или попечителей. Некоторые употребляли даже такое выражение, как «нескончаемый бюрократический кошмар». Невозможно ничего решить и ни один проект невозможно осуществить, поскольку любой пустяк требует подписей начальников из самых разных отделов. На некоторых сайтах, особенно в Германии, высказывают гипотезу, что «Ночные дозорные» внедрились в руководство корпораций и нарочно раздували масштабы бумажной волокиты, чтобы корпорации день за днем сжигали миллионы в бесконечной игре на выжидание и «постепенно сожрали сами себя изнутри» (см. ).
Мне хотелось верить, что «Ночные дозорные» и в самом деле еще ведут активную деятельность, – это значило бы, что ежемесячные поездки Ханны в Коттонвуд были не тем, чем казались. Она не подбирала мужчин у дороги, словно старые консервные банки, а участвовала в конспиративных встречах «один на один» для платонического обмена важными сведениями. И может, именно Док, славный старый Док с лицом, похожим на макет гористой местности, и шарнирными ногами сообщил Ханне о расследовании Смока Харви. После этой встречи (в первую неделю ноября) Ханна решила убить Смока. Больше ей ничего не оставалось, если она хотела оградить от опасности убежище своего бывшего любовника на острове Паксос.
Как же она осуществила свой замысел?
Этот вопрос поставил в тупик Аду Харви, а я, прочитав о других убийствах, совершенных «Ночными дозорными», могла теперь ответить с закрытыми глазами (и с небольшой помощью книги Хелига «Незримые козни»).
Если верить слухам, получается, что «Ночные дозорные», поставив себе в январе 1974 года задачу стать невидимыми, начали и убийства совершать как можно более незаметно, не оставляя следов. Наверняка в их арсенале имеется нечто, подобное «стрекозе в полете», о которой рассказано в «Истории линчевания на американском Юге» (Киттсон, 1966). (Я уверена, что именно так был убит Марк Лесенк, чью смерть признали самоубийством.) По всей вероятности, они используют и другой, еще более надежный способ – его впервые официально задокументировал врач из Лондона Коннолт Хелиг – тот самый, кто по просьбе полиции осматривал тело Мэри Келли, пятой и последней жертвы серийного убийцы по прозвищу Кожаный Фартук, более известного широкой публике как Джек-потрошитель.
В главе 3 своей книги Хелиг, весьма уважаемый медик, подробно описывает «единственный возможный способ совершить безупречное недоказуемое убийство».
Безупречное – потому что, строго говоря, это не убийство, а цепочка специально подстроенных обстоятельств, неизбежно приводящая к смерти. Задуманное исполняется не одним лицом, а «по сговору от пяти до тринадцати единомышленников». Каждый из них в определенный день совершает заранее оговоренное действие по поручению главного «дирижера» (стр. 21). Каждое из этих действий само по себе вполне законно и даже обыденно, однако в совокупности они приводят к «такому положению вещей, при котором намеченной жертве не остается ничего иного, кроме как умереть» (стр. 22). «Каждый участник действует в одиночку, не зная других в лицо и даже не зная целей всей операции, – пишет Хелиг на стр. 21. – Такое неведение необходимо для успеха всего замысла, поскольку подтверждает невиновность каждого. Весь план от начала до конца известен только «дирижеру».
Для осуществления всего плана требуется тщательно изучить частную и профессиональную жизнь выбранной жертвы – только тогда можно подобрать «идеальный яд» (стр. 23–25). Это может быть какая-нибудь вещь, физический недостаток или давняя привычка – например, любимая коллекция оружия, крутые ступеньки у входа в особняк в Белгравии (оказавшиеся «исключительно скользкими в то морозное февральское утро»), тайное пристрастие к опиуму, лисья охота на резвом скакуне, общение с зараженными уличными проститутками под мостом через Темзу или – что удобней всего – ежедневная доза лекарства, прописанного семейным доктором. Суть идеи в том, что использованное оружие принадлежит самой жертве и, таким образом, смерть неизбежно сочтут случайной, «даже если расследование будет производить самый искусный и хитроумный сыщик» (стр. 26).
Этот способ и применила Ханна – вместе с другими, конечно. Скорее всего, на той вечеринке среди гостей присутствовали ее помощники – в масках, весьма кстати. Например, Элвис в костюме «Привет с Гавайев!» очень подозрительно на всех косился, или тот астронавт, который разговаривал по-гречески с китаянкой в костюме гориллы. («Организация набирала новых членов и за пределами Америки», – сообщает Якобус на сайте .)
«Автор преступного замысла, – в дальнейшем будем его называть „Номер Первый“ – заранее готовит яды», – пишет Хелиг на стр. 31.
Ханна и была Номером Первым. Она втерлась в доверие к Смоку и определила набор ядов: таблетки от давления – «Минипресс», любимый сорт выпивки – «Джеймсон», «Бушмилс», «Талламор Дью» («Виски он уважал, врать не стану», – говорила Ада). По данным сайта , это лекарство не сочетается с алкоголем и при их совместном приеме возможны такие симптомы, как головокружение, дизориентация, кратковременное отключение сознания и даже длительный обморок. Ханна заранее купила таблетки, а может, они у нее уже были. Возможно, те девятнадцать пузырьков в шкафчике в спальне были не для нее самой, а про запас, для будущих жертв. Она растерла в порошок энное количество лекарства (в точности соответствующее дневной дозе, чтобы при вскрытии не возникло никаких сомнений, – коронер просто предположит, что покойный по ошибке второй раз принял таблетки). Порошок всыпала в стакан виски и подала его Смоку, как только тот приехал.
На стр. 42 Хелиг пишет: «Номер Первый берет на себя задачу привести жертву в благодушное состояние, чтобы ослабить ее защиту. Весьма полезно, если Номер Первый обладает исключительной красотой и обаянием».
Смок с Ханной поднялись по лестнице, как раз мимо нас с Найджелом, недолгое время разговаривали у нее в комнате, а потом Ханна под каким-нибудь предлогом вышла – может, сказала, что принесет еще напитки. Забрав с собой оба стакана, она тщательно вымыла их в кухне и тем самым уничтожила единственную улику. Так завершился подготовительный этап – Хелиг называет его «первым актом пьесы». С этой минуты Ханна к Смоку и близко не подходила.
Второй акт состоит из якобы случайных перемещений жертвы, когда ее, словно эстафетную палочку, передают от одного заговорщика другому, «мягко направляя к неизбежному финалу» (стр. 51). Ханна, скорее всего, знала, что Смок будет одет в оливково-зеленую военную форму Китайской народно-освободительной армии, и потому ее соратники прекрасно знали не только общие приметы объекта, но и какой костюм высматривать. Второй, Третий, Четвертый номера (не знаю, сколько их всего) появлялись в условленных местах, подходили к Смоку, знакомились, начинали разговор, предлагали выпить и таким образом вели его от комнаты Ханны вниз по лестнице, в патио – все как один симпатичные, раскованные, слегка в подпитии. Возможно, среди них попадались мужчины, однако большинство составляли женщины. (Эрнест Хемингуэй, весьма суровый к женскому полу, говорил: «Барышня с красивыми глазами и очаровательной улыбкой может заставить старика сделать практически что угодно» [ «Дневники», Хемингуэй, 1947].)
Этот тщательно отрепетированный балет продолжался час или два, и в конце концов Смок очутился у самого края бассейна. Лицо его раскраснелось, в глазах мельтешили перья, чешуя и ангельские крылышки, голову словно трухой набили. Тут в общей толчее на него налетел Номер Шестой. Смок потерял равновесие и упал в воду, а уже в воде Номер Седьмой – кто-нибудь из гостей в костюмах мышек, что резвились с мячом, – придержал его голову под водой или просто подтолкнул к дальней, более глубокой части бассейна и оставил одного.
Итак, жертва погибла. Завершился второй акт – «самый примечательный акт нашей пьесы» (стр. 68). Третий акт начался, как только обнаружили тело, и к концу его все участники заговора «рассеялись по свету, как лепестки засохшего цветка, чтобы никогда более не собираться вместе» (стр. 98).
Я добавила последний кусочек к «ЗАПИСКАМ ПО ДЕЛУ» (они уже занимали двенадцать страниц в общей тетради). Отложила ручку, протерла глаза и откинула голову на спинку папиного крутящегося кресла. В доме было тихо. Темнота повисла на окне под самым потолком, словно брошенная впопыхах ночная рубашка. Обшитая деревом стена, которую когда-то украшали мамины бабочки, тупо таращилась на меня.
Стоило вспомнить Смока Харви, шаг за шагом проследить его долгий путь навстречу смерти – и все красивые идеи тайной революции против капиталистической алчности разом поблекли.
В том и беда с подобными идеями, напоминающими макдональдсовский «Счастливый обед» со спрятанной внутри дешевой игрушкой: рано или поздно они становятся точь-в-точь похожи на своего врага – того самого, с кем непримиримо борются. «Свобода» и «демократия» – громкие слова, их так удобно выкрикивать, размахивая кулаками (или скулить со слезами на глазах), а по сути это заморские невесты, приехавшие из далекой неведомой страны: спервоначалу кружат голову, а как попривыкнешь к ним да присмотришься получше, то замечаешь, что они никак не приживутся на здешней почве, никак не выучат обычаи и язык. Не получается их пересадить из учебника в реальную жизнь.
– Персонаж в книге не может быть умнее автора, – говорил папа в своей лекции «Замкнутая Швейцария». – Они могут оставаться миролюбивыми и сохранять нейтралитет исключительно потому, что страна такая крохотная. Точно так же никакое правительство не бывает умнее самих правителей. И пока у нас не случилось нашествие зеленых человечков с Марса – а читая очередной выпуск «Нью-Йорк таймс», я невольно думаю, что это было бы не так уж плохо, – правительства всегда будут состоять из обыкновенных земных людей, трогательно парадоксальных, способных как на невероятное сочувствие, так и на невероятную жестокость. Вы, наверное, удивитесь, но коммунизм, капитализм, социализм, тоталитаризм и всякие прочие «измы» не настолько и важны. Так или иначе, равновесие между человеческими крайностями всегда будет очень хрупким. Так мы и живем – осознанно выбирая то, во что верим, вот и все.
На часах было 21:12, а папа все еще не вернулся домой.
Я выключила компьютер, поставила на полку книги и «Федеральный форум», собрала «ЗАМЕТКИ ПО ДЕЛУ», выключила свет и поднялась к себе. Сгрузив бумаги на стол, натянула через голову черный свитер.
Я должна вернуться к Ханне – и не завтра, в безжалостном свете дня, который все делает смешным и жалким, а сейчас, пока истина еще корчится в конвульсиях. Расследование не закончено – о нем никому нельзя рассказать. Нужны вещественные доказательства: «Минипресс» в одном из девятнадцати пузырьков, фотография Ханны с Джорджем Грейси под ручку или статья из «Валлармо дейли» – «Убит полицейский, неизвестная скрылась» от 20 сентября 1987 года. Что-нибудь, что намертво прикует Ханну Шнайдер к Кэтрин Бейкер, Смоку Харви и к «Ночным дозорным». Я-то, конечно, уже не сомневалась. Я знала, что Ханна – это Кэтрин, так же твердо, как я знаю, что бывают черепахи весом в тысячу фунтов (см. раздел «Кожистая черепаха» в кн. «Энциклопедия живых существ», 4-е изд.). Я была с ней в гостиной и на горной вершине, я по крупинке, по осколочку собрала воедино историю ее жизни. Мне всегда мерещилось за ней что-то прекрасное и уродливое, и вот наконец это нечто робко выглянуло из мрака.
Но кто мне поверит? В последнее время я только и делала, что пыталась убедить окружающих при среднем уровне успеха – ноль из восьми. Да уж, миссионер из меня не выйдет. Аристократы уверены, что я убила Ханну, сержант Харпер – что у меня синдром свидетеля, а папа явно опасается, что я потихоньку свихиваюсь. Всем для веры нужны доказательства (оттого сейчас в католической церкви кризис, ряды верующих катастрофически редеют). И доказательства не такие, что шмыгнут по лестнице легкой тенью, а полновесные, как русская учительница, что встала прямо в луче прожектора и с места ее не сдвинешь: тройной подбородок, седые волосы кое-как прихвачены шпильками, пенсне и просторная оранжевая юбка (под которой легко спрячется взрослый орангутан).
Я хоть сдохну, а найду это доказательство!
И тут в моем плане обнаружилось слабое место: едва успев завязать шнурки на кроссовках, я услышала, как к дому подъезжает «вольво». Папа меня ни за что не отпустит, а пока я все объясню и отвечу на его каверзные вопросы (чтобы убедить папу в чем-то новом, надо вооружиться, как Господь Бог в Книге Бытия), солнце уже встанет и я буду вымотанная, словно только что сражалась с гигантским спрутом. (Если честно, хоть я и не сомневалась в своих выводах, все-таки оставался страх, что они могут в одночасье рухнуть, как постоянная Больцмана, как число Авогадро, как квантовая теория поля или модель расширяющейся Вселенной. Потому я и торопилась.)
Хлопнула входная дверь, звякнули ключи – папа их бросил на столик, напевая себе под нос «I Got Rhythm»[480].
– Эй, моя радость!
Я дико заозиралась. Бросилась к окну, изо всех сил толкнула вверх раму, потом отодвинула заржавленную сетку. Высунула голову и поглядела вниз. В отличие от кино, там не было могучего раскидистого дуба, по которому удобно спускаться, как по лестнице, или решетки, увитой розами, – только узенький карниз над эркером в столовой да пара чахлых побегов плюща, словно волоски, прилипшие к свитеру.
Папа внизу прослушивал сообщения на автоответчике: свое, насчет ужина с Арни Сандерсоном, потом Арнольда Шмидта из журнала «Проблемы внешней политики. Новый взгляд», издающегося в Сиэтле, – тот шепелявил и последние четыре цифры своего телефона произнес абсолютно неразборчиво.
– Радость моя, ты у себя? Я еду из ресторана принес!
Я нацепила рюкзак, перекинула через подоконник одну ногу, потом вторую и неуклюже съехала наружу, зацепившись локтями. Повисела так минуту, глядя на кусты далеко внизу, осознавая, что легко могу убиться насмерть или как минимум переломать руки-ноги, а может, и позвоночник. И какие преступления смогу я разгадать, сидя в инвалидной коляске, на какие вечные вопросы найти ответ? В такую минуту полагается задуматься, а стóит ли оно того, – и я задумалась. Я подумала о Ханне, о Кэтрин Бейкер и Джордже Грейси. Представила себе Грейси на Паксосе, как он сидит с бокалом «маргариты» в руке у бассейна, сбоку – загорелые красотки рядами, словно сельдерей на блюде, а за ними плещет океан. Какими далекими показались вдруг Джейд, и Мильтон, и «Сент-Голуэй», и лицо Ханны уже расплывалось и меркло, как набор исторических дат, вбитых в голову к итоговой контрольной. Как одиноко и нелепо болтаться, уцепившись за подоконник… Я вздохнула поглубже и открыла глаза. Я уже больше не та трусиха, которая чуть что спешит зажмуриться. Если это – мой последний миг, а дальше все рухнет, я хочу все это видеть до последней секунды: всю огромную ночь, и каждую дрожащую травинку, и мелькающие за темными деревьями огни проносящейся машины.
Я разжала руки.
Глава 32. «Соль земли», Фланнери О’Коннор
[481]
Выступающий, словно залитая лаком челка, козырек над окном столовой притормозил мой полет к земле. Правда, я ободрала левый бок о стену дома и кусты рододендронов, куда приземлилась, однако встала и отряхнулась, в целом вполне бодро. Теперь мне требовалась машина (если пробраться в прихожую за ключами, я рисковала столкнуться с папой). В голову приходило только одно: мне поможет Ларсон с автозаправки.
Через двадцать пять минут я ввалилась в магазинчик.
– Смотрите, кто пришел! – загремело по громкой связи. – Я уж думал, ты машину купила, а меня разлюбила.
Ларсон скрестил руки на груди и подмигнул мне из-за бронированного стекла. На нем была черная футболка с обрезанными рукавами и надписью: «Кот! Кот!» К стойке с батарейками прислонилась новая подружка: худющая, как штакетина, блондинка в коротком красном платье. Она жевала картофельные чипсы.
– Сеньорита, я по тебе скучал! – объявил Ларсон.
– Привет! – Я подошла к окошечку.
– Почему не приходишь меня навестить? Ты разбиваешь мне corazon![482]
Блондинка смотрела на меня скептически, слизывая соль с пальцев.
– Как дела в школе? – поинтересовался Ларсон.
– Нормально, – сказала я.
Он кивнул и показал мне раскрытую книгу: «Изучаем испанский» (Берлиц, 2000).
– Вот, я тоже учиться решил. Хочу взять штурмом зарубежную киноиндустрию. Если здесь сидеть, надо пробиваться с нуля. Конкурентов немерено. А за границей ты – большая рыбина в маленьком пруду. Я надумал в Испанию. Слышал, у них актеры нарасхват…
– Помогите мне, пожалуйста! – выпалила я. – Можно мне… еще раз одолжить грузовик? Через три-четыре часа верну, обещаю! Это очень важно.
– Вот они, девушки… Приходят, только если что-то надо. Опять с папулей поссорилась? Можешь не рассказывать – я и так вижу.
– Нет, не в этом дело. Кое-что случилось в школе. Слышали, учительница погибла? Ханна Шнайдер.
– Покончила с собой, – с полным ртом изрекла Штакетина.
– Ага! – Ларсон кивнул. – Я все думал об этом. Как там папка-то твой? Мужики горюют не так, как женщины. Мой перед тем, как свалил, встречался с Тиной из парикмахерской. Недели не прошло, как мачеха умерла от рака мозга, а он уже эту Тину пригласил на свиданье. Я на него наорал, а он мне объяснил, что разные люди по-разному переживают утрату, надо это уважать. Так что, если твой папка опять с кем-нибудь встречаться начнет, ты его не суди. Он, конечно, горюет про себя. Сюда разные люди заходят, а я сразу вижу, где настоящая любовь, а где так себе актеришка роль бубнит…
– Это вы о ком?
– Да о папке твоем.
– О моем папе?
– Он переживает, наверное.
– Почему? – растерялась я.
– Ну как – если твоя девушка вдруг взяла и померла…
– Его девушка?!
– А то.
– Ханна Шнайдер?
Теперь уже он на меня уставился в растерянности.
– Они же были едва знакомы…
Едва слова вылетели у меня изо рта, они вдруг закачались и рассыпались, как пустая обертка от соломинки для коктейля, если на нее попадет вода.
Ларсон смотрел неуверенно. Видно, почувствовал, что ляпнул что-то не то, и теперь не знал, продолжать или дать задний ход.
– С чего вы взяли, что они – пара? – спросила я.
– С того, как они смотрели друг на друга. – Ларсон подался вперед, чуть не стукнувшись лбом о стекло. – Один раз она сюда зашла, а он ждал в машине. Она мне улыбнулась, купила «Тамс». Другой раз они расплатились за бензин кредитной картой, не выходя из машины. Но я разглядел. А потом раз – ее фотография в газете. Красивая, такую не забудешь.
– А это точно была не… женщина с желто-оранжевыми волосами?
– А, эту я тоже видел. Голубые глаза с сумасшедшинкой. Нет, про которую я говорил – точно та, из газеты. Брюнетка. С виду нездешняя.
– И сколько раз вы их видели?
– Два. Может, три.
– Я… Мне надо… – Я сама испугалась собственного голоса. Он выходил толчками, комками. – Извините, – выговорила я.
Магазин вдруг стал давить на меня. Я резко отвернулась – не могла смотреть Ларсону в лицо. В глазах все расплывалось (а может, сила земного притяжения вдруг стала действовать как-то по-другому). Я задела рукой витрину с поздравительными открытками, потом налетела на Штакетину – та покинула свой пост около батареек, чтобы налить себе горячего кофе в кружку размером со среднего младенца. Нас обеих залило кипятком. Штакетина взвыла, что у нее ноги ошпарило, но я не стала извиняться, а кинулась дальше, опрокинув по дороге стойку с цепочками для очков и автомобильными освежителями воздуха в виде ангелочков. Звякнул колокольчик у двери, и наконец-то в лицо мне пахнуло ночным воздухом. Кажется, Ларсон что-то кричал вдогонку – «ты подумай сначала, готова ли узнать правду», – а может, это были гудки машин, еле успевавших меня объехать, или просто мои собственные слова, промелькнувшие в голове.
Глава 33. «Процесс», Франц Кафка
Папу я нашла в библиотеке.
Он не удивился, меня увидев, – на моей памяти папа вообще никогда не удивлялся, разве только однажды, когда наклонился погладить шоколадного пуделя июньской букашки Филлис Миксер, а тот вдруг взвился в воздух и чуть не отхватил папе нос.
Я стояла в дверях, смотрела на него и не могла заговорить. Папа убрал очки для чтения в футляр, как женщина убирает в шкатулку жемчужное ожерелье.
– Как я понимаю, ты не стала смотреть «Унесенных ветром»?
– Давно ты встречаешься с Ханной Шнайдер?
Папа нахмурился:
– Встречаюсь?
– Только не ври. Тебя видели с ней. – Я хотела еще кое-что добавить, но не сумела.
– Радость моя! – Он всматривался в меня, словно я была интересной концепцией разрешения конфликтов, написанной на классной доске.
– Ненавижу тебя, – сказала я дрожащим голосом.
– Прошу прощения?
– Ненавижу!!!
– Боже, – протянул он с улыбкой. – Какой интересный поворот! Смешной немного.
– Ничего смешного! Ты сам смешон!
Я швырнула в него первую попавшуюся книгу с полки. Папа заслонился рукой, и книга отлетела в сторону. Это был «Портрет художника в юности» (Джойс, 1916). Я схватила следующую книгу – «Выступления президентов США на инаугурации» (юбилейное издание в честь двухсотлетия США).
– Возьми себя в руки, черт побери!
– Ты врун! Ты макака! – заорала я, швыряя в него и эту книгу. – Ненавижу!
Он опять успел заслониться.
– Мало того что выкрики «Ненавижу!» не соответствуют действительности, – хладнокровно заметил папа, – они еще и…
Я швырнула «Повесть о двух городах» (Диккенс, 1859), целясь в голову. Папа отбил. Я сгребла еще книг, сколько могла удержать в руках, словно обезумевшая от голода беженка, которой позволили взять в столовой столько еды, сколько она унесет. Кажется, мне попались «Деятельная жизнь» (Рузвельт, 1900), «Листья травы» (Уитмен, 1891), «По эту сторону рая» (Фицджеральд, 1920), тяжеленный зеленый том в твердом переплете – «Описание Англии» (Гаррисон, 1577). Все это я отправила в полет, как очередь из пулемета. Большинство снарядов папа отразил, хотя «Англия» стукнула его по колену.
– Урод больной! Негодяй! – Я швырнула в него «Лолиту» (Набоков, 1955). – Чтоб ты сдох в мучениях!
Отбивая книги руками и даже ногами, папа не вскочил и не сделал попытки меня остановить.
– Возьми себя в руки, – повторил он. – Прекрати драматизировать. Мы с тобой не в мини-сериале…
Я швырнула ему в живот «Суть дела» (Грин, 1948), а в лицо – «Здравый смысл» (Пейн, 1776).
– Непременно нужно устраивать сцену?
Я бросила в него «Четыре текста о Сократе» (Уэст, 1998) и схватилась за «Потерянный рай» (Мильтон, 1667).
– Это редкое издание, – предупредил папа.
– Так пусть оно тебя и прикончит!
Папа вздохнул и снова заслонил руками лицо. Легко поймав книгу, аккуратно ее закрыл и положил на стол. Брошенный мною «Рип Ван Винкль и Легенда Сонной Лощины» (Ирвинг, 1819) ударил папу в бок.
– Если ты все-таки возьмешь себя в руки и начнешь вести себя как разумный человек, я, возможно, расскажу тебе, как познакомился с этой весьма неуравновешенной особой – мисс Шнайдер.
«Рассуждение о неравенстве» (Руссо, 1754) врезалось ему в левое плечо.
– Синь! Успокойся, наконец! Посмотри на себя – ты причиняешь больше вреда себе, а не мне…
Отпечатанный крупным шрифтом «Улисс» (Джойс, 1922), брошенный мною со всего размаху после отвлекающего выстрела «Библией короля Иакова», ударил папу углом обложки по лицу, совсем близко к левому глазу. Папа тронул висок и посмотрел на свою руку.
– Ты закончила бомбардировать отца западноевропейской классикой?
– Почему ты врал? – У меня сел голос. – Почему ты мне все время врешь?
– Сядь!
Он шагнул ко мне, а я замахнулась потрепанным томиком «Как живет другая половина» (Риис, 1890).
– Если ты наконец успокоишься и прекратишь истерику, тебе сразу станет легче.
Папа забрал у меня книгу. Под левым глазом – не знаю, как называется эта часть лица, – блестели бисеринки крови.
– Вот так, успокойся…
– Не уходи от темы!
Он снова сел в кресло:
– Мы можем поговорить разумно?
– Кто бы говорил о разумности! – крикнула я, но уже не так громко: горло саднило.
– Я понимаю, что ты подумала…
– Каждый раз я все узнаю от чужих людей! А ты от меня скрываешь!
– Очень хорошо понимаю, – кивнул папа. – С кем ты говорила сегодня?
– Я не раскрываю своих источников!
Папа, вздохнув, сложил руки домиком, сведя вместе кончики пальцев.
– Дело, в сущности, очень простое. Помнишь, она подвозила тебя домой – в октябре, если не ошибаюсь?
Я кивнула.
– Ну вот, вскоре после этого она мне позвонила. Сказала, что беспокоится о тебе. Мы с тобой тогда были не в лучших отношениях, и я, конечно, тоже беспокоился. Поэтому и принял ее приглашение поужинать вместе. Она выбрала, довольно некстати, весьма затейливый ресторан – «Гиацинтовая терраса» – и за обильным обедом сообщила мне, что тебе неплохо бы обратиться к детскому психиатру, чтобы решить проблемы, связанные с твоей покойной матерью. Я, естественно, обозлился. Наглость безмерная! Но потом вернулся домой, посмотрел на тебя – на твои волосы, окрашенные в естественный цвет полевого шпата… Я задумался – может, она и права? Да, это было полнейшее идиотство с моей стороны, однако меня всегда тревожило, что ты растешь без матери. Можно сказать, это моя ахиллесова пята. Поэтому я согласился еще пару раз с ней встретиться за ужином, чтобы обсудить, к кому бы тебе обратиться, и в конце концов осознал, что помощь нужна не тебе, а ей, причем срочно. – Папа вздохнул. – Я знаю, тебе она нравилась, но она не могла похвастаться крепким душевным здоровьем. Потом еще несколько раз звонила мне на работу. Я ей сказал, что мы с тобой сами разобрались и у нас все хорошо. Она смирилась. Вскоре после этого мы улетели в Париж. С тех пор я с ней не общался и ничего о ней не слышал до того, как она покончила с собой. Конечно, это трагедия, но не скажу, чтобы я был сильно удивлен.
– А когда ты ей послал барбареско-ориенталь?
– Что?
– Ясно же, что ты их купил не для Джанет Финнсброк, которая работает на факультете с палеозойской эры. Ты купил их для Ханны Шнайдер.
Папа заметно растерялся:
– Да… Видишь ли, я не хотел, чтобы ты…
– Значит, ты был в нее безумно влюблен, – перебила я. – Не ври хоть раз! Скажи прямо!
Папа засмеялся:
– Вот уж это вряд ли!
– Никто не покупает барбареско-ориенталь, если не влюблен без памяти!
– Ну, значит, я первый. Звони в компанию рекордов Гиннесса! Говорю же тебе, она скорее вызывала жалость. Я послал ей цветы после того, как однажды за ужином довольно резко ей высказал, что я о ней думаю: по-моему, она из тех отчаявшихся людей, которые выдумывают сумасшедшие теории об окружающих, чтобы расцветить свою серую, неинтересную жизнь. А люди правды не любят, и такая откровенность всегда кончается слезами. Помнишь, я тебе говорил о том, как правда стоит в углу в длинном черном платье, пятки вместе, голова опущена?
– Что она самая одинокая девушка в комнате…
– Именно! Вопреки общепринятому мнению, никто не хочет иметь с ней дело. Слишком грустно. Всякому приятней танцевать с веселой привлекательной красоткой. Поэтому я и послал цветы. Не знал, как они называются. Я попросил продавщицу в цветочном магазине подобрать что-нибудь этакое…
– Это были лилии, барбареско-ориенталь.
Папа улыбнулся:
– Теперь буду знать.
Я молчала. Освещенное сбоку, папино лицо казалось ужасно старым. Вдруг проступили морщины, изрезали его крохотными ранками.
– Значит, это ты тогда ночью звонил.
Он поднял голову:
– Что?
– В ту ночь, когда я убежала к ней. Ты позвонил.
– Кому?
– Ханне Шнайдер. Я была у нее. Она сказала, что это Джейд, но это был ты.
– Да, – тихо ответил папа. – Наверное. Я и правда ей звонил.
– Видишь? У вас б-были отношения, и ты…
– А почему я ей звонил, как ты думаешь? – заорал папа. – Эта психопатка была моей единственной ниточкой! Я не знал имен и телефонов твоих безмозглых приятелей! Когда она сказала, что ты явилась к ней, я хотел сразу приехать, но она снова завела речь о своих завиральных психологических идеях, а я, как мы уже видели, становлюсь полным кретином, когда дело касается моей дочери! «Оставь ее в покое. Нам надо поговорить. Доверительный разговор между нами, девочками». И я согласился! Господи боже, во всей западной культуре нет другого такого идиотски раздутого понятия, как «разговор»! Все забыли очаровательную поговорку, а мне она кажется весьма здравой: «Разговоры ничего не стоят».
– Тогда почему ты молчал? Ничего мне не рассказал?
– Стыдно было, наверное. – Папа уставился в пол, засыпанный книгами. – Не хотел тебя расстраивать. Ты как раз занималась поступлением в Гарвард…
– А то я сейчас не расстроилась.
– Признаю, это было не лучшее решение, но в то время я считал, что поступаю правильно. В любом случае все это уже дело прошлое. Пусть Ханна Шнайдер покоится с миром. Учебный год почти закончился… – Папа вздохнул. – История как из романа! Среди всех городов, где мы с тобой побывали, Стоктон – самый театральный. Больше страстей, чем в Пейтон-Плейс, больше безысходности, чем в Йокнапатофе. А уж причудливостью не уступает Макондо.[483] Тут тебе и секс, и всяческие грехи, и самое страшное – расставание с юношескими иллюзиями. Радость моя, ты уже стала взрослой. Тебе больше не нужен твой старенький папочка…
Руки у меня были ледяные. Я прошла через всю комнату и села на желтый диванчик у окна.
– С Ханной Шнайдер еще не закончено. У тебя кровь вот тут. – Я показала пальцем.
– Да, ты меня зацепила-таки, – смущенно отозвался он, снова трогая висок. – Что это было – Библия или «Американская трагедия»? И то и другое символично…
– Есть еще кое-что насчет Ханны Шнайдер.
– Возможно, придется накладывать швы…
– На самом деле ее звали Кэтрин Бейкер. Она состояла в «Ночных дозорных». Убила полицейского.
Мои слова подействовали на папу, как будто сквозь него прошло привидение. То есть я никогда не видела, как привидение проходит сквозь человека, но с папиного лица разом схлынули все краски, как вода вытекает из ведра. Он молча смотрел на меня.
– Я не шучу. И если ты хочешь признаться, что сам был в «Ночных дозорных», вербовал новых участников или… или взрывал своих буржуйских коллег по Гарварду… то лучше скажи сразу, потому что я все равно узнаю. Я не остановлюсь.
Решимость в моем голосе удивила папу, а я удивилась еще больше. Кажется, мой голос оказался крепче меня самой. Он ложился на землю бетонными плитами, указывая мне путь.
Папа прищурился, глядя на меня, как на незнакомого человека.
– Их же нет давно, – медленно проговорил он. – Тридцать лет уже. Это просто сказочка.
– Не обязательно. В интернете пишут…
– Ах, в интернете… Конечно, авторитетный источник. Если уж обращаться к интернету, нужно заодно признать, что Элвис жив, нужно верить всплывающей рекламе… Почему вдруг именно «Ночные дозорные»? Ты читала мои старые лекции, статьи на «Федеральном форуме»?
– Основатель, Джордж Грейси, действительно еще жив. Он живет на Паксосе. Прошлой осенью в бассейне у Ханны утонул человек, Смок Харви, он его выследил…
– Конечно! Помню, она по этому поводу ныла. Видимо, еще и это происшествие подорвало ее хрупкое душевное здоровье.
– Нет. Она его и убила. Потому что он работал над книгой о Джордже Грейси. Он собирался их всех разоблачить, всю организацию.
Папа выгнул бровь:
– Я смотрю, ты немало потрудилась над своей теорией. Что ж, продолжай.
Я заколебалась. Берт Тауэлсон в своей книге «Партизанки» (1986) пишет: занимаясь расследованием, нужно очень тщательно продумывать, кому можно открыть обнаруженную тобой страшную правду. Но если не папе, то кому доверять вообще?
Он смотрел на меня с тем выражением, с каким смотрел тысячу раз, когда мы просматривали черновик моего доклада или реферата по школьному заданию, – с интересом, но и с легким сомнением: дескать, вряд ли ты меня поразишь. И я машинально, привычно стала излагать.
Начала с того, как Ханна решила исчезнуть, потому что Ада Харви кое-что узнала. Рассказала про оставленную Ханной кассету с фильмом Антониони, о «стрекозе в полете», о вечеринке с маскарадом, о том, как убили Смока способом, очень похожим на тот, что описан у Хелига. О том, как выдуманные Ханной истории об Аристократах повторяли разные эпизоды из жизни Кэтрин Бейкер, об интересе Ханны к без вести пропавшим и, наконец, о моем телефонном разговоре с Адой. Вначале папа смотрел на меня как на сумасшедшую, но дальше слушал все внимательней и под конец ловил каждое мое слово. Я только однажды видела его таким сосредоточенным: когда он читал июньский номер «Нью рипаблик» за 1999 год, где в разделе писем напечатали его длинный сатирический ответ на статью «Магазинчик ужасов. История Афганистана».
В конце концов я замолчала, ожидая, что на меня обрушится град вопросов. Но папа тоже молчал в задумчивости. Прошла минуту, другая…
Папа нахмурился:
– Кто же убил бедную мисс Шнайдер?
Он, разумеется, задал тот единственный вопрос, на который у меня не было четкого ответа. Ада Харви считала, что Ханна покончила с собой, но я же слышала, как кто-то ломился через лес, и потому склонялась к мысли, что это сделал кто-нибудь из «Ночных дозорных». Убив полицейского, Ханна привлекла внимание властей, а значит, стала опасна для организации. Тут еще Ада собирается звонить в ФБР, а если Ханну поймают, это поставит под удар Грейси и всю подпольную группу. Но подтвердить все это я не могла, а папа всегда говорил, что «умозрительные предположения не должны течь струей, как жижа из рваного мусорного мешка».
– Не знаю точно, – сказала я.
Папа кивнул. И снова молчание.
– Ты в последнее время ничего не писал о «Ночных дозорных»? – спросила я.
– Нет, а что?
– Помнишь, как мы познакомились с Ханной Шнайдер? Она прошла мимо нас в продуктовом, а потом заговорила с тобой в обувном…
– Помню, – ответил папа после небольшой паузы.
– Точно так же она познакомилась со Смоком. Мне Ада Харви рассказывала. Все было спланировано заранее. Я беспокоилась, вдруг ты что-нибудь такое написал и она наметила тебя следующей мишенью…
– Радость моя! Конечно, я был бы весьма польщен – мишенью быть мне еще не приходилось… Однако «Ночных дозорных» давно не существует. Даже самые доверчивые политологи относят их к области фантазии. А что такое фантазия? Способ отгородиться от мира. Наш мир – жесткий паркет, спать на нем – просто убиться можно. Кроме того, мы живем не в эпоху революционеров, а в эпоху изоляционистов. Люди хотят не объединяться, а, наоборот, разорвать все связи с другими, всех растоптать и загрести как можно больше бабла. К тому же история, как известно, развивается циклично, и в ближайшие два столетия никакие восстания нам не грозят, хоть бы даже и тайные. Вдобавок я читал когда-то довольно серьезное исследование, где говорилось, что Кэтрин Бейкер по происхождению – цыганка из Парижа, так что предположить, будто она и Ханна Шнайдер – одно и то же лицо, можно только с большой натяжкой, как бы увлекательно это ни звучало. Возможно, Ханна прочитала какую-нибудь залихватскую книжечку, настоящий триллер, про таинственную Кэтрин Бейкер и дала волю воображению? Очень уж странно выглядят эти ее рассказы. Быть может, она хотела, чтобы после самоубийства все решили: такая вот у нее была бурная жизнь, она – Бонни, другой балбес – Клайд? Тогда легенда о ней будет жить в веках. Она уйдет, оставив позади захватывающий приключенческий роман, а не нудную передовицу, какой была ее жизнь на самом деле. Люди сплошь и рядом врут о себе подобным образом.
– А как же Смок?
– А что Смок? Мы знаем только, что ей нравилось знакомиться с мужчинами в продуктовых магазинах. Она искала любви среди замороженного горошка.
Я задумалась. В папиных словах действительно были крохотные крупицы истины. На сайте утверждали, будто Кэтрин Бейкер – французская цыганка. А если вспомнить постеры со сценами страсти у нее в классной комнате, вполне можно представить, что она выдумала для себя другую, более интересную жизнь. Папа играючи продырявил днище моей теории, и она сразу стала казаться слишком вычурной и непроработанной (см. DeLorean DMC-12[484] в кн. «Ошибки капитализма», Гловер, 1988).
Я сказала:
– Значит, я спятила.
– Этого я не говорил, – немедленно возразил папа. – Твоя теория, безусловно, чересчур фантастична, однако она отлично продумана. В целом вполне замечательная теория. А до чего захватывающая! Ничто так не будоражит кровь, как рассказы о тайных мятежниках…
– Ты мне веришь?
Он помолчал, глядя в потолок и обдумывая свой ответ так серьезно, как умел только папа.
– Да, – сказал он просто. – Верю.
– Правда?!
– Конечно. Ты же знаешь, у меня слабость ко всему фантастическому и абсурдному. Вероятно, можно еще доработать кое-какие детали…
– Я не сумасшедшая!
Папа улыбнулся:
– Непривычному человеку твои речи могут показаться слегка безрассудными, но для Ван Меера они до смешного банальны.
Я вскочила и крепко его обняла.
– Ага, теперь ты обнимаешься? Значит, я прощен за то, что утаил от тебя свои встречи с этой непутевой дамой, которую мы отныне, учитывая ее подрывную деятельность, будем называть кодовым именем Черная Борода?[485]
Я кивнула.
– Слава богу! – сказал папа. – Еще один книжный блицкриг я бы не пережил. Тем более что десятитомное издание «Выдающиеся ораторы мира» все еще стоит на полке. Может, поедим чего-нибудь? – Он отвел мне волосы со лба. – Отощала ты очень…
– Я думаю, об этом Ханна и хотела мне рассказать тогда, в горах. Помнишь?
– Да. Как же ты намерена распорядиться своим открытием? Напишем совместно книгу? Тут нужно этакое залихватское название, например: «Заговоры и антиамериканские диссиденты среди нас, или Некоторые вопросы теории катастроф». Или ты сочинишь бестселлер, изменив имена действующих лиц, с классической пометкой «Основано на реальных фактах», чтобы лучше раскупали? Вся страна будет дрожать от страха: спасите, безумные подпольщики работают в наших школах и отравляют умы наших драгоценных отпрысков!
– Не знаю…
– О, придумал! Запиши все это к себе в дневник, чтобы твои внуки прочли, когда будут после твоей смерти разбирать оставшийся от тебя старомодный кофр! Они будут сидеть вокруг обеденного стола и причитать: «Неужели бабушка такое совершила, а ведь ей было всего шестнадцать». Потом дневник продадут на аукционе «Кристи» никак не меньше чем за полмиллиона долларов. История об ужасах в ничем не примечательном городке будет передаваться из уст в уста и постепенно перейдет в область магического реализма. Станут рассказывать, что Синь Ван Меер родилась с поросячьим хвостиком, а безумную мисс Шнайдер толкнула на путь фанатика многовековая безответная любовь – «Любовь во время холеры». Твои друзья, Грины и Мильтоны, станут бунтовщиками, которые организовали тридцать два вооруженных восстания и все до единого проиграли. И не забудем папочку! Седой и умудренный, всегда остающийся в тени, «Генерал в своем лабиринте»[486], совершающий долгое путешествие по реке от Боготы к морю…
– Я думаю, надо пойти в полицию.
– Да ты шутишь! – хмыкнул папа.
– Я серьезно. Мы должны немедленно идти в полицию.
– С какой стати?
– Должны, и все.
– Радость моя, ты оторвалась от реальности.
– Нет.
Папа покачал головой:
– Подумай серьезно! Допустим, ты права. От тебя потребуют доказательств. Нужны показания бывших членов организации, манифесты, данные о вербовке – все это достать довольно трудно, особенно если у них теперь действительно такая тактика – не оставлять следов. Не забывай еще один важный момент: когда выступаешь с подобными заявлениями, возникает определенный риск. Строить теории – весьма увлекательно, однако, если твоя теория верна, это уже не телепередача «Колесо Фортуны». Я тебе не позволю подставляться под удар – если, конечно, твои выводы справедливы, а этого мы, по всей вероятности, никогда не узнаем. Идти в полицию – прекрасный поступок для отважных простачков, но в чем смысл? Ради чего? Чтобы шерифу было о чем рассказать коллегам за кофе с пончиками?
– Нет, – сказала я. – Ради человеческой жизни.
– Как трогательно! И чью это жизнь ты вознамерилась спасать?
– Нельзя убивать других просто потому, что тебе не нравится, как они живут. Мы люди, а не звери. Даже если… Даже если это безнадежно, все равно мы должны стремиться… – Я запнулась, потому что сама не знала точно, к чему мы должны стремиться. – К справедливости, – дрогнувшим голосом закончила я.
Папа только засмеялся:
– «Справедливость – это шлюха, не позволяющая себя облапошить и собирающая постыдную дань даже с бедняков». Карл Краус[487], австрийский эссеист.
– «Все самое хорошее в этом мире можно выразить одним словом, – отпарировала я. – Свобода, справедливость, честь, долг, милосердие. И надежда». Черчилль. «Ты хочешь правосудья? Будь уверен – его получишь больше, чем желаешь». Шекспир, «Венецианский купец»[488]. «Нетверд справдливости праведный меч, / Немногим счастливцам награда дается, / Но кто выступать за него не берется, / Тому только хаос один остается».
Папа раскрыл было рот – и запнулся, нахмурившись.
– Маккей?[489]
– Гарет Ван Меер. «Как предали революцию», «Гражданский журнал иностранных дел», том шестой, номер девятнадцатый.
Папа улыбнулся, запрокинул голову и громко сказал:
– Ха!
Я и забыла это его «Ха». Обычно папа его приберегал для факультетских совещаний с деканом во главе: если кто-нибудь из коллег произносил что-нибудь смешное или волнующее и папа огорчался, что не ему это пришло в голову, он очень громко говорил «Ха!», отчасти давая волю раздражению, а отчасти – чтобы вновь привлечь к себе общее внимание. (Когда я была слегка простужена и не ходила в школу, папа обычно брал меня с собой на такие совещания. Я сидела тихо в уголке, давя рвущиеся наружу чихи, и слушала, как бледнолицые лысеющие научные работники беседуют веско и значительно, словно рыцари Круглого стола.) Только сейчас, в отличие от тех совещаний, у папы на глазах дрожали большие неприкрытые слезы, грозя стыдливо соскользнуть вниз, как скромные девушки в купальниках, отбросив полотенце, медленно и застенчиво спускаются к воде.
Папа встал, коротко сжал мне плечо и двинулся к двери.
– Да будет так, о искательница справедливости!
Я еще посидела немного напротив пустого кресла, среди разбросанных книг. Книги величаво молчали. Их не уничтожишь простым броском в какого-то там человека. Одна только «Суть дела» отрыгнула кучку листочков, а другие лежали невредимые, злорадно распахнув страницы. Исполненные глубокой мудрости черненькие буковки выстроились идеально ровными рядами, будто примерные школьники, которых не собьют с пути всякие хулиганы. «Здравый смысл», ближе всех ко мне, распушился, как павлиний хвост.
– Хватит дуться, иди сюда! – позвал из кухни папа. – Если ты собираешься воевать с пузатыми дряблыми радикалами, надо как следует подкрепиться! Сомневаюсь, что они поддерживают хорошую физическую форму; авось, как-нибудь ты от них удерешь.
Глава 34. «Потерянный рай», Джон Мильтон
Впервые со смерти Ханны я крепко спала всю ночь. Папа это называл «сон деревьев» – не путать с «зимней спячкой» и «сном уставшего как собака». Сон деревьев – самый глубокий и освежающий. Просто темнота, без сновидений. Заснул – и сразу проснулся, будто переместился вперед во времени.
Я не пошевелилась, когда прозвонил будильник, а проснулась не от бодрого папиного крика, объявляющего словарную статью для изучения на предстоящий день: «Проснись, моя радость! Слово на сегодня – „пневмококк!“»
Звонил телефон. Часы у кровати показывали 10:36. С нижнего этажа донесся щелчок: включился автоответчик.
– Мистер Ван Меер, я хотела вам сообщить, что Синь сегодня не пришла в школу. Пожалуйста, перезвоните и объясните причину ее отсутствия.
Эва Брюстер продиктовала телефон учительской и сразу повесила трубку. Я ждала, что папа подойдет узнать, кто звонил, но шагов не было слышно, только звяканье вилок и ножей из кухни.
Я встала и поплелась в ванную. Умылась. Глаза в зеркале казались необычно большими, лицо – каким-то исхудалым. Было холодно. Я взяла одеяло с кровати и, завернувшись в него, спустилась по лестнице.
– Пап! Ты позвонил в школу?
В кухне было пусто. Оказывается, звякали не ножи и вилки, а китайские колокольчики у открытого окна.
Я включила свет на лестнице и крикнула, запрокинув голову:
– Папа!
Мне всегда было жутковато в доме, когда папы нет. Дом сразу начинал ощущаться пустым, как старая консервная банка, или раковина, или череп с пустыми глазницами на картине Джорджии О’Киф[490]. Я изобрела множество приемов, помогающих спрятаться от действительности в доме без папы – в том числе «Включить на полную громкость сериал „Больница“» (неожиданно очень успокаивает) и «Посмотреть „Это случилось однажды ночью“» (Кларк Гейбл без рубашки кого хочешь отвлечет).
В окна лился злой и яркий солнечный свет. Я заглянула в холодильник. Удивилась, найдя там миску фруктового салата. Вытащила виноградинку и съела. Еще в холодильнике обнаружилась лазанья – папа накрыл ее слишком маленьким кусочком фольги, так что два уголка и полоска сбоку вылезали наружу, словно запястья и лодыжки, если человеку мала шуба (папа никогда не умел на глаз определить, сколько нужно оторвать фольги). Я съела еще одну виноградинку и позвонила папе на работу.
Ответила Барбара, секретарь кафедры политологии.
– Здравствуйте, вы не могли бы позвать моего папу? Это Синь.
– М-м?
Я оглянулась на часы на стене. Папина лекция начиналась только в половине двенадцатого.
– Моего папу, доктора Ван Меера, позовите, пожалуйста! Это очень срочно!
– Его сегодня не будет. Он же уехал на конференцию в Атланту, правильно?
– Простите?
– Я думала, он уехал на конференцию в Атланту вместо своего коллеги, который попал в аварию?
– Что?!
– Он с утра попросил найти ему замену на лекцию. Вернется только…
Я повесила трубку.
– Папа!
Бросив одеяло в кухне, я помчалась в подвал, в кабинет. Включила свет да так и застыла перед письменным столом. На нем не было ничего – ни ноутбука, ни папок с бумагами, ни настольного календаря. Только пустая керамическая кружка – в ней папа обычно держал пять ручек с синими чернилами и пять ручек с черными чернилами. Исчезла и зеленая настольная лампа, подарок от симпатичного декана Арканзасского университета в Вильсонвилле. Книжная полочка возле стола тоже опустела – остались лишь пять экземпляров марксовского Das Kapital (1867).
Я стрелой взлетела по лестнице, пронеслась через кухню в прихожую и рванула входную дверь. Нежно-голубой «вольво» стоял на своем всегдашнем месте, перед гаражом. Блестящая поверхность, чуть-чуть ржавчины по краю, над колесами.
Я побежала в папину комнату. Занавески были отдернуты, постель застелена. Только под телевизором не валялись папины старые тапки на овечьем меху, купленные в городе Энола, штат Нью-Гемпшир, и под креслом в углу их не было. Я раздвинула дверцы платяного шкафа.
Там не было одежды. Вообще ничего не было, только вешалки трепетали, словно испуганные птицы в зоопарке, когда посетители слишком близко подходят к решетке.
Я метнулась в папину ванную: в аптечке пусто, в душевой кабинке – тоже. Я потрогала край ванны – мокро. Осмотрела умывальник – следы зубной пасты «Колгейт», на зеркале подсыхает капелька крема для бритья.
«Наверное, он снова решил переехать, – сказала я себе. – Отправился на почту, заполнить бланк о смене адреса. И в супермаркет, за коробками для вещей. „Вольво“ не завелся, поэтому папа вызвал такси».
Я вернулась в кухню и прокрутила записи на автоответчике. Там было только сообщение от Эвы Брюстер, больше ничего. Я поискала записку – не нашла. Я снова позвонила Барбаре, притворяясь, будто с самого начала знала о конференции в Атланте. Папа говорил, что у Барбары «рот как заведенный мотор, с добавкой смрадного остроумия» (он в шутку называл ее Гейзихой)[491]. Я даже произнесла заранее придуманное название конференции, – кажется, это было ОППГПП, «Организация в Поддержку Прав, Гарантированных Первой Поправкой», или что-то в этом духе.
Я спросила, не оставил ли папа номер телефона, по которому его можно найти.
– Нет, – сказала Барбара.
– Когда он вас предупредил?
– Оставил сообщение сегодня, в шесть утра. Постой, а почему ты…
Я повесила трубку.
Снова завернулась в одеяло и включила телевизор. Посмотрела на Черри Джеффрис в желтом, как дорожный знак, пиджаке с такими острыми плечами, что хоть деревья ими руби. Проверила кухонные часы и свой будильник. Вышла на улицу, посмотрела на голубой «вольво». Села за руль, повернула ключ в замке зажигания. Мотор заработал. Я провела рукой по рулевому колесу, по приборной доске, оглянулась на заднее сиденье, как будто там мог быть какой-нибудь след – револьвер, веревка, подсвечник или разводной ключ, который там оставили миссис Пикок, полковник Мастард или профессор Плам[492] после того, как прикончили папу в библиотеке, оранжерее или бильярдной. Я внимательно осмотрела персидский ковер в прихожей, ища отпечатки чужих ботинок. Проверила раковину в кухне, посудомоечную машину, однако все ложки, вилки и ножи были аккуратно убраны.
За папой пришли!
Пришли ночью, к сонному, закрыли безмятежно храпящий рот платком, пропитанным хлороформом (с вышитой красной буквой «Н» в углу). Папа не мог с ними справиться – хоть он высокий и совсем не худенький, но бойцом никогда не был. Папа предпочитал интеллектуальные споры физическим стычкам, терпеть не мог контактные виды спорта, а бокс и борьбу называл «смехотворными». Дзюдо, тхэквондо и карате уважал, но сам в жизни ими не занимался.
«Ночные дозорные» хотели, конечно, забрать меня, но папа не позволил. «Нет! Лучше меня, меня берите!» И вот Мерзкий Тип – в таких случаях всегда бывает один особенно мерзкий тип, он тиранит остальных и ни в грош не ставит человеческую жизнь, – прижав револьвер папе к виску, велел позвонить в университет. «Да смотри, разговаривай как обычно, а не то я вышибу твоей дочурке мозги у тебя на глазах!»
Папу заставили уложить вещи в две большие дорожные сумки от «Луи Вюиттон» – их ему подарила июньская букашка Элеонора Майлз, тридцати восьми лет, чтобы папа вспоминал ее (и ее торчащие зубы) каждый раз, когда пакует багаж. Ведь похитители были революционерами в классическом смысле слова – не варварами какими-нибудь, не южноафриканскими боевиками и не мусульманскими экстремистами, обожающими рубить головы при всяком удобном случае. Нет, они придерживались убеждения, что всякий человек, даже захваченный против своей воли ради выполнения неких политических требований, имеет право взять с собой личные вещи, в том числе вельветовые брюки, твидовые пиджаки, свитера из чистой шерсти, сорочки, бритвенный прибор, зубную щетку и зубную нить, отшелушивающий скраб для ног с мятным ароматом, часы «Таймекс», золотые запонки с вензелем «ГБМ», кредитные карточки, материалы к лекциям и черновики «Железной хватки».
– Чтоб тебе было удобно, – сказал Мерзкий Тип.
Прошел день, настала ночь, а папа так и не позвонил.
И никто не позвонил. Только Арнольд Лоу Шмидт из журнала «Проблемы внешней политики» сообщил автоответчику – он, мол, очень софалеет, что папа отклонил его предлофение напифать для его фурнала заметку о Кубе, однако профит иметь в виду, что они в любое время охотно напечатают будущие папины фтатьи.
Уже в темноте я раз двадцать обошла вокруг дома. Долго смотрела в пруд, где не водились золотые рыбки. Вернувшись опять в дом, села перед телевизором – смотреть Черри Джеффрис и доедать фруктовый салат, который подпольщики разрешили папе приготовить, прежде чем увезли в неизвестном направлении.
– Моей дочери необходимо питаться! – грозно заявил папа.
– Ладно, – сказал Мерзкий Тип. – Только поживее!
– Давай помогу нарезать дыню кубиками, – предложил другой похититель.
Я то и дело снимала телефонную трубку и спрашивала себя: надо ли звонить в полицию? Как будто трубка мне ответит: «Да, обязательно», или «Ни в коем случае», или «Подумай и спроси еще раз».
Можно, конечно, позвонить в управление шерифа округа Слудер и попросить А. Буна, чтобы позвал к телефону сержанта Харпер.
– Вы меня помните? Мы с вами разговаривали о Ханне Шнайдер. А теперь у меня папа пропал. Да, вот такая я растеряша, постоянно у меня люди пропадают.
Через час она явится ко мне со своими тыквенно-рыжими волосами и сахарно-белым лицом. Сощурит глаза на папино пустое кресло:
– Что он говорил, прежде чем исчезнуть? У вас в роду были душевнобольные? У тебя есть еще какие-нибудь родственники? Дядя, бабушка?
Через пару часов на меня будет заведена отдельная папочка под номером 5510-ВАНМ. В городской газете появится статья: «Местная школьница – ангел смерти. После самоубийства учительницы – пропажа отца».
Я положила трубку на рычаг.
Заново обыскала весь дом, на этот раз – не позволяя себе скулить и раскисать и ничего не пропуская. Осмотрела пластиковую занавеску в ванной, и шкафчик под умывальником, где хранились ватные палочки, и даже рулон туалетной бумаги – папа мог, улучив удобный момент, нацарапать внутри зубочисткой: «Меня похитили, не волнуйся». Пролистала все книги, которые мы накануне вернули на полку – папа мог спрятать между страницами записку: «Я выкручусь, обещаю». Каждую книгу я раскрыла и потрясла, но ничего не обнаружила, только из «Сути дела» выпала еще парочка листков.
Поиски продолжались, пока на папином будильнике не высветились цифры 02:00.
Очень много усилий требуется, чтобы не видеть очевидного. Огромный запас решимости, боевого духа и силы воли. Я потратила их все до капли и осталась ни с чем, распластавшись, как морская звезда, на черно-белых плитках пола в ванной.
Ясное дело, в конце концов мне пришлось признать, что папино похищение – из того же ряда, что и Зубная фея, и Святой Грааль, и прочие мечтания, придуманные людьми, чтобы сбежать от скучной реальности. Никакие, даже самые великодушные подпольщики не позволили бы папе взять с собой все его имущество, включая чековые книжки, кредитки и даже любимую вышивку в рамке, подарок июньской букашки Доротеи Драйзер, с цитатой «Верен будь себе», – раньше она висела в кухне у телефона, а теперь исчезла. И уж конечно, они бы не дали ему полчаса выбирать книги, которые он хочет забрать: двухтомник издательства Мориса Жиродиа «Олимпия-пресс» 1955 г. – «Лолита» и «Ада, или Радости страсти»[493]; «Потерянный рай», который папа специально меня просил не швырять; толстенный том «Деловиан. Ретроспектива» (Финн, 1998) с репродукцией любимой папиной картины под весьма уместным названием «Секрет» (см. стр. 391, № 61, 1992, холст, масло). Кроме них, исчезли еще «Гримаса», «Путь Наполеона», «По ту сторону добра и зла»[494] и ксерокопия «В исправительной колонии»[495] (Кафка, 1919).
В голове у меня стучало, щеки горели, кожа на лице как будто натянулась. Я кое-как выползла из ванной на толстый ковер в папиной комнате. Этот ковер с упругим плотным ворсом был единственной вещью в доме, которую папа ненавидел: «Ходишь, как по зефиринам». Я попробовала заплакать, но слезы очень быстро то ли заскучали, то ли отчаялись – махнули на все рукой и ушли со сцены.
Тогда я стала смотреть в потолок, такой спокойный и светлый. Он помалкивал и не лез ко мне с советами. В конце концов я заснула – просто отключилась.
После этого я три дня провела, сидя на диване, глядя на Черри Джеффрис и мысленно представляя себе папины последние мгновения в нашем доме – бесценном нашем номере 24 по Армор-стрит, любовно выбранном для моего последнего школьного года, последней главой перед тем, как я «завоюю мир».
В моем воображении папа действовал четко и рассчитанно, по-птичьи быстро поглядывая на часы, бесшумно двигаясь в предрассветных сумерках, переходя из одной комнаты в другую. Он нервничал, но заметить это могла бы я одна – я видела его раньше, перед первой лекцией в незнакомом университете (чуть заметно подрагивали папины пальцы).
Мелочь в кармане дребезжала, как его иссохшая душа. Он включил только настольные лампы – зеленую в кабинете и красную на ночном столике, наполнив комнату студенисто-красным оттенком желудков и сердец. Сборы заняли много времени. Стопка сорочек на кровати – сверху красная, дальше синяя, синяя с узором, синяя в белую полоску, белая, – словно спящие птицы, спрятавшие голову под крыло. Шесть пар серебряных и золотых запонок в бархатном мешочке от Тиффани, будто пакетик с семенами (в том числе, конечно, те, любимые, в двадцать четыре карата, с вензелем «ГБМ», – их папе подарила на сорок седьмой день рождения сорокадвухлетняя Битси Пластер, а ювелир ошибся, выгравировал не ту букву из-за вычурного почерка Битси). Дальше – стайка носков: черных, белых, коротких, длинных, шерстяных, хлопчатобумажных. Он надел коричневые мокасины (в них шагалось быстрее), золотисто-коричневый твидовый пиджак (преданный, словно старый пес) и разношенные брюки защитного цвета, настолько удобные, что в них, как он говорил, «и невозможное возможно» (в этих брюках он преодолевал «трясину итоговых формулировок» и зловонное болото «собранного материала» курсовых и дипломных работ и, не мучаясь угрызениями совести, выводил суровое «три с минусом» возле фамилии несчастного студента).
Собравшись, он погрузил коробки и дорожные сумки в машину – не знаю уж, какая машина за ним приехала. Скорее всего, простое желтое такси, мальчишка-водитель с цыпками на руках отбивает пальцами ритм по баранке в такт утреннему радио, ждет, пока из дома выйдет доктор наук Джон Рэй-младший, воображает женщину, с которой расстался, уходя из дома, тепленькую как булочка, – Альву или Дотти.
Проверив, что ничего не забыл, папа вернулся в дом и поднялся в мою комнату. Не зажигая света, не взглянув на меня, он вытащил из моего школьного рюкзака общую тетрадь с записанными в ней сведениями и выводами. Проглядел, вернул ее в рюкзак, а рюкзак повесил на спинку стула.
Повесил неправильно – я с вечера, как всегда, оставила рюкзак на полу у изножья кровати. Но папа спешил, да и мелочи эти его уже не волновали. Возможно, он посмеялся над иронией судбы. Папа в самые неожиданные моменты находил время посмеяться над иронией судьбы; а может, в этот раз времени-то ему и не хватило. Если пойти по скользкой дорожке Смеха, слишком легко свернуть на узкую тропу Чувства, оттуда скатиться к Хныканью, а там, глядишь, и к полноценному Вою – а такие лирические отступления он уж никак не мог себе позволить.
Он посмотрел на меня, спящую, запоминая мое лицо, как отрывок из необыкновенной книги, – вдруг пригодится в разговоре с деканом.
Но мне хочется думать, что, глядя на меня, папа на миг утратил самообладание. Ни одна книга не научит, как смотреть на родную дочку, уходя навсегда и зная, что больше ее не увидишь (разве что тайно, лет через тридцать пять, в бинокль, или через телеобъектив, или на сделанном со спутника снимке за 89 долларов 99 центов). В такую минуту, наверное, наклоняешься поближе, стараясь точно определить угол между лбом и носом. Считаешь веснушки, которых прежде не замечал, и крохотные складочки на веках и на лбу. Ловишь дыхание, безмятежную сонную улыбку – а если улыбки нет, старательно игнорируешь приоткрытый посапывающий рот, чтобы не портить воспоминание. Слегка увлекшись, воображаешь, будто лунный свет серебрит лицо, скрадывая темные круги под глазами, и добавляешь очаровательное стрекотание цикад, а еще лучше – сладкозвучную ночную птицу, чтобы не казалась такой холодной тюремная тишина комнаты.
Папа закрыл глаза – убедиться, что помнит все наизусть (сорок градусов, шестнадцать, три, одна, дыхание словно шелест моря, безмятежная улыбка, серебристые глаза, упоенный соловей). Подтянул повыше одеяло, поцеловал меня в лоб.
– Радость моя, у тебя все будет хорошо. Правда.
Тихо вышел из комнаты, спустился по лестнице и сел в такси.
– Мистер Рэй? – спросил водитель.
– Доктор Рэй, – поправил папа.
И уехал.
Глава 35. «Таинственный сад», Фрэнсис Ходжсон Бернетт
[496]
Дни плелись один за другим, неразличимые, словно школьницы. Только форменным платьем и отличаются: день – ночь, день – ночь. Мне было неохота принимать душ и готовить нормальную еду. В основном я лежала на полу. Детский сад сплошной, однако поверьте мне на слово: если есть возможность лежать на полу и чтобы никто тебя не видел, будешь лежать. Еще я открыла для себя эфемерное, но несомненное наслаждение: отгрызть полплитки горького шоколада, а оставшуюся половину забросить за диван в библиотеке. Еще можно читать и читать, пока не защиплет глаза и буквы не поплывут, как вермишелины в супе.
Я прогуливала школу, будто мальчишка с несвежим дыханием и липкими ладонями. С утра брала «Дон Кихота» (Сервантес, 1605) – казалось бы, скорее могла взять в видеопрокате какую-нибудь порнуху или хотя бы «Дикую орхидею» с Микки Рурком, так ведь нет – и любовный романчик в бумажной обложке, который годами прятала от папы, «Молчи, молчи, моя любовь» (Эстер, 1992).
Я думала о смерти. Не о самоубийстве, нет, никакой такой театральщины. Скорее это было, как будто я много лет подчеркнуто ее не замечала, а теперь вот вынуждена обмениваться любезностями, потому что больше поговорить не с кем. Представляла себе, как Эвита, Хавермайер, Моутс, Тра и Тру ищут меня по лесам, ночью, с факелами, дубинками и вилами (так суеверные крестьяне охотятся на чудовище) и находят мое ссохшееся тело на кухонном столе – руки бессильно свесились вниз, лицо уткнулось в пах чеховскому «Вишневому саду» (1903).
Изредка я пробовала собраться с силами, как Молли Браун в той спасательной шлюпке «Титаника»[497], или даже придумать себе какое-нибудь полезное хобби, как Птицелов из Алькатраса[498], но ничего не получалось. Я думала: «Будущее» – и видела черную дыру. Я отощала, как макаронина. В моем активе не было ни друзей, ни водительских прав, ни инстинкта выживания. Не было даже специального накопительного счета, какой ответственные родители заводят на имя ребенка, чтобы он мог лучше осмыслить, что такое Деньги. К тому же мне предстояло еще целый год оставаться несовершеннолетней (день рождения у меня 18 июля). У меня не было ни малейшего желания загреметь в приемную семью – чудный воздушный замок, где за мной будут присматривать Билл и Берта, пожилые супруги с Библией наперевес, требуя, чтобы я называла их «мамуля» и «папуля», и радостно откармливая меня, словно индейку к празднику, салатом из щавеля, клецками и пирогом с бельчатиной.
На седьмой день зазвонил телефон. Я не взяла трубку, хотя и подскочила к автоответчику. Сердце бешено колотилось: вдруг это папа?
– Гарет, у нас тут целый переполох, все тебя ищут, – сказал профессор Майк Девлин. – Куда ты пропал?
– Что происходит? Говорят, вы не вернетесь. – Это уже доктор Илайджа Мастерс, завкафедрой литературы, выпускник Гарварда и помощник гарвардской приемной комиссии. – Если так, то очень жаль! Как вы помните, у нас осталась неоконченной шахматная партия, и я намеревался разбить вас в пух и прах. Не хочется думать, что вы специально сбежали, чтобы лишить меня удовольствия сказать вам «Шах и мат»!
– Доктор Ван Меер, будьте так добры, позвоните в школу как можно скорее! Ваша дочь Синь уже целую неделю не посещает занятия. Надеюсь, вы понимаете, что, если она не нагонит пропущенный материал, получение аттестата…
– Доктор Ван Меер, это Дженни Мердок, я сижу в первом ряду на вашем семинаре «Демократия и общественные структуры». Я хотела спросить: разве руководство нашими рефератами передано Соломону? Он дает нам совершенно другие требования. Говорит, в реферате должно быть от семи до десяти страниц, а вы в программе на семестр написали: двадцать – двадцать пять. Мы ничего понять не можем. Разъясните, пожалуйста, мы очень просим! Я вам еще на электронную почту написала.
– Гарет, перезвони мне, пожалуйста, домой или на работу. – Голос декана Кушнера.
Когда я разговаривала с Барбарой, то сказала, что неправильно записала папин контактный телефон на время конференции, и попросила сразу мне сообщить, если папа проявится. Она мне не звонила, так что я позвонила ей.
– Мы по-прежнему ничего не знаем, – сказала Барбара. – Соломон Фримен взял на себя его класс до конца семестра. У декана Кушнера скоро будет сердечный приступ. Где он?!
– Ему пришлось поехать в Европу, – сказала я. – У его мамы плохо с сердцем.
– Ох, – сказала Барбара. – От всей души сочувствую! Она поправится?
– Нет.
– Боже, как грустно. А почему же тогда он?..
Я повесила трубку.
И задумалась – не схожу ли я с ума? Иначе откуда эта апатия? Всего неделю назад я считала себя абсолютно нормальной, а сейчас вдруг вспомнилась одна женщина – мы с папой несколько раз видели ее на улице, она постоянно бормотала ругательства, как будто чихала. Как она стала такой? Вступила в безумие медленно и плавно, как девушка из хорошего общества спускается по лестнице на своем первом балу, или в мозгу однажды случилась поломка, внезапная, как укус ядовитой змеи? Лицо у нее было красное, словно руки после мытья посуды, а подошвы босых ног – черные, как будто она их старательно вымазала дегтем. Проходя мимо нее, я всегда задерживала дыхание и крепче сжимала папину руку. Он тоже пожимал мне руку в ответ – безмолвно обещая, что никогда не допустит, чтобы я вот так бродила по городу, с колтуном на голове, в рваной робе, испачканной мочой и уличной грязью.
А теперь я могу сколько угодно шататься по городу с колтуном на голове и в изгаженной робе. Буду продавать себя за бублик с маком. Сбылось то самое «не смеши» и «что ты такое говоришь». Видно, я была не права насчет безумия – оно может приключиться с каждым.
* * *
Уважаемые поклонники «Марат – Сада»[499], я должна вас огорчить: в здоровом организме поддерживать депрессивное оцепенение удается десять-одиннадцать, самое большее – двенадцать дней. После этого мозг волей-неволей отмечает, что данное состояние души подобно одноногому на состязании по пинкам в зад, и если не прекратишь валять дурака, то, гори оно все огнем, дело реально пахнет керосином (см. «Поговорки народов мира», Льюис, 2001).
Я не сошла с ума. Я просто безумно разозлилась (см. Питер Финч в фильме «Телесеть»)[500]. Злость – вот великий освободитель, вовсе не Авраам Линкольн. Скоро я уже не витала бледной тенью, а носилась по дому номер 24 на Армор-стрит, расшвыривая рубашки, и вышивки июньских букашек, и библиотечные книги, и картонные коробки с пометкой «НЕ КАНТОВАТЬ», словно буйствующий Джей Гэтсби. Я искала хоть какую-нибудь, пусть самую крошечную зацепку, которая подскажет, куда девался папа и почему он сбежал. Нет, я не тешила себя надеждой найти Розеттский камень – исповедь на двадцати страницах, аккуратно запрятанную под матрас или в морозильник: «Радость моя. Теперь ты все знаешь. Прости, мое облачко! Только позволь мне объяснить. Начнем с Миссисипи…»
Вряд ли это случится. Как торжествующе объявила пингвинообразная миссис Макгилликрест, учительница в школе города Александрия: «В реальной жизни deus ex machina[501] никогда не появляется, так что лучше ищите другие варианты».
Шок от осознания, что папа сбежал (нет, шок – слишком слабо сказано; потрясение, остолбенение, остолбофонарение), что он преспокойно обманул, обдурил, облапошил (снова не то – оболванодурогорошил), и кого – меня, меня, свою дочку, «редкой силы ума и характера», как говорил обо мне доктор Ординот, «такую чуткую», которая «все замечает», по словам Ханны Шнайдер… Это настолько невероятно, ужасно, немыслимо (неужвермыслимо), что остается один возможный вывод: мой папа – безумец, гений и обманщик, самый изощренный враль на свете.
«В области секретов и тайн папа – все равно что Бетховен в музыке», – сказала я себе (то был первый из афоризмов, сочиненных мной в последующие дни). В состоянии остолбофонарения человеческий мозг вырубается напрочь, а перезагрузившись, начинает работать в самых неожиданных и нестандартных форматах. Один из них напоминает игру «Писательские ассоциации» – папа ее придумал, когда мы колесили по Америке.
Только папа все-таки не Бетховен. И даже не Брамс.
А жаль, потому что ответы оказались куда более пугающими, чем непонятные и запутанные вопросы, по которым я могла безнаказанно строить любые угодные мне теории.
Ураганом пройдясь по дому, я не нашла никаких серьезных улик, только статью о беспорядках в Западной Африке и книгу Питера Кауэра «Ангола. Взгляд изнутри» (1980) – они завалились в щель между папиной кроватью и тумбочкой – да три тысячи долларов хрустящими новенькими бумажками в кружке на холодильнике с надписью «ДУМАЮ О ТЕБЕ» (подарок июньской букашки Пенелопы Слейт). Папа нарочно мне их оставил – обычно в этой кружке хранилась мелочь. На одиннадцатый день после его бегства я вышла на улицу забрать почту: книжечку купонов на скидки, два каталога одежды, заполненный бланк заявки о создании кредитной карточки на имя мистера Меери фон Гаре с нулевым начальным вкладом и толстый деловой конверт, адресованный мисс Синь Ван Меер и надписанный великолепным почерком – гордым, как пение рожка и грохот дилижанса, запряженного породистыми скакунами.
Я сейчас же надорвала конверт и вытащила толстую пачку бумаг. Среди них я не нашла ни данных о подпольной торговле людьми в Южной Америке, ни объявленной в одностороннем порядке папиной декларации независимости («В жизни рано или поздно наступает момент, когда отцу необходимо разорвать семейные узы, привязывающие его к дочери…»). К пачке была приложена короткая записка на почтовой бумаге с монограммой.
«Ты просила эти материалы. Надеюсь, они тебе помогут», – написала Ада Харви и прибавила внизу свои инициалы с шикарным росчерком.
Я тогда трубку повесила, не попрощавшись, без слова извинения, как суши-повар оттяпывает голову угрю, – а она все-таки прислала материалы, которые собрал ее отец. Я кинулась в дом, плача на бегу. Давно копившиеся слезы хлынули сами собой. Я села за стол в кухне и принялась изучать бумаги, листок за листком.
Почерк у Смока Харви был вроде папиного – мелкусенькие буковки с сильным креном к юго-западу. На каждой странице в правом верхнем углу была надпись заглавными буквами: «ПОЛНОЧНЫЙ ЗАГОВОР». Вначале излагалась история Ночных дозорных с именами и общей методологией (интересно, где он раздобыл эти сведения, – ни папина статья, ни книга Литтлтона не упоминались). Далее следовали страниц тридцать, посвященных Грейси, – разобрать их было почти невозможно (по всему листу, словно отпечаток шин, тянулась темная полоса от ксерокса). «По происхождению грек, а не турок!», «Родился в Афинах, 12 февраля 1944 г., мать гречанка, отец американец», «причины радикальных настроений не установлены».
Я стала листать дальше. Копии двух статей из старых газет, издающихся в Западной Виргинии и в Техасе, о тех самых взрывах: «Убит сенатор, под подозрением борцы за мир», «Взрыв в „Оксико“, четверо убитых, разыскиваются „Ночные дозорные“». Статья из декабрьского номера журнала «Лайф» за 1978 год, «Прекращают политическую активность» – о роспуске подпольных организаций «Синоптики», «Студенты за демократическое общество» и других политических групп левого толка. Несколько заметок о КОИНТЕЛПРО[502] и других ухищрениях ФБР, крошечная статеечка из калифорнийской газеты – «Радикалы замечены в аптеке». Затем – информационный листок: «15 ноября 1987, ежедневный бюллетень, Управление полиции Хьюстона, секретно, только для служебного пользования. РАЗЫСКИВАЮТСЯ МЕСТНЫМИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА, ордера на арест находятся в архиве управления шерифа округа Харрис, раздел 432-6329…»
У меня сердце остановилось.
Со страницы, чуть выше текста – «Грейси, Джордж, I.R. 329573. м., белый, плотного телосложения. Ордер на арест № 78-3298. На правой груди татуировка. Ходит прихрамывая. Оба предположительно вооружены и очень опасны» – на меня смотрел Ром-баба (нагл. пос. 35.0).
[НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ 35.0]
Правда, на полицейской фотографии у Серво была густая борода, похожая на стальную мочалку, и при ней усы, что сильно искажало контуры лица, да и сам снимок (с камеры наружного наблюдения) был черно-белый и очень нечеткий. Но горящие глаза Серво, его безгубый рот, похожий на щель в коробке из-под бумажных салфеток, и посадку крошечной головы на бугрящихся плечах не узнать было невозможно.
«Он всегда хромал, – сказал мне папа в Париже. – Еще когда мы учились в Гарварде».
Я схватила листок – на нем была еще и фотография Кэтрин Бейкер, та самая, что я видела в интернете («Федеральные органы охраны правопорядка и управления шерифа округа Харрис просят общественность помочь в сборе информации, позволяющей арестовать вышеуказанных лиц и предать их суду», – прочла я на второй странце). Перерыла все ящики стола у себя в комнате и среди старых домашек и контрольных откопала посадочные талоны «Эр Франс», почтовую бумагу из отеля «Ритц» и кусочек миллиметровки, на котором папа записал домашний и мобильный телефоны Серво в тот день, когда они пошли в Сорбонну и бросили меня одну.
Сперва я перепутала код страны, переставила местами ноль и единичку, но в конце концов правильно набрала номер мобильного. Услышала шипение и потрескивание – номер больше не обслуживается. Тогда я позвонила на домашний номер. Терпеливая испанка после многих Como? и Que?[503] объяснила, что здесь не частное жилище, нет, квартира сдается внаем на понедельной основе, от фирмы «Гоу-Шато Инкорпорейтид». Она назвала адрес веб-сайта и бесплатный номер телефона (800-ILE-297, ). Я позвонила. Неприветливый мужской голос ответил, что данная квартира находится в распоряжении компании с 1981 года. Я попробовала выяснить, кто ее снимал с 26 декабря, но мне сказали, что фирма не разглашает личную информацию клиентов.
– У вас есть еще какие-либо пожелания?
– Речь идет о жизни и смерти! Людей убивают!
– Вы получили ответы на все свои вопросы?
– Нет!
– Большое спасибо за звонок.
Я повесила трубку и долго сидела на краешке кровати, не понимая, почему небо не лопнуло и не разошлось по шву, как штаны водопроводчика. Хоть бы деревья задымились, корчась в пламени… Нет, день за окном равнодушен, как наглый подросток, или старая проститутка в дешевом кабаке, или обрывок елочной мишуры. Мои миросотрясающие открытия касаются только меня, и никакого до них дела нет комнате, и солнечным лучам, похожим на девиц в золотых бесформенных платьях, скучающих у стеночки, потому что их никто не пригласил на танец, и теням от оконной рамы, растянувшимся на полу, словно загорающие дуры на пляже. Я вспомнила, как Серво прислонил свою трость к прилавку в булочной, трость упала и стукнула стоявшую за ним девушку прямо по черной туфельке, девушка ахнула и вспыхнула, точно лампочка в игровом автомате, а я подняла трость, у нее был набалдашник в форме головы орлана, горячий и влажный от жирной ладони Серво. Я поставила трость на прежнее место, у самого его локтя, а он торопливо бросил через левое плечо, словно щепотку рассыпанной соли:
– М-м-м, мерси! Эту штуку надо бы держать на поводке, верно?
Наверное, не имело смысла ругать себя за то, что раньше не свела воедино эти явно неслучайные детали. (Много ли я знала людей с переломом бедра? Одного только Серво!) И тут, естественно (хотя и против воли), я вспомнила папины слова: «Сюрприз очень редко бывает незнакомцем; чаще это безликий пациент, читающий журнал рядом с тобой в больничном коридоре: лицо скрыто журналом, но оранжевые носки на самом виду, равно как и золотые карманные часы, и обтрепанные понизу брюки».
Но если Серво – Джордж Грейси, кто же тогда папа?
Серво по отношению к Грейси – то же, что папа по отношению к… Ответ неожиданно выскочил из темного угла, поднял руки над головой, пал ниц, умоляя о прощении и упрашивая не сдирать с него заживо кожу.
Я схватила свои «ЗАМЕТКИ ПО ДЕЛУ» и стала перебирать листочки, ища тот, где были записаны странные прозвища «Ночных дозорных». В конце концов они отыскались тесной кучкой в самом низу четвертой страницы: Нерон, Бычий Глаз, Мохаве, Сократ и Франклин. Это же до смешного очевидно! Папа – Сократ, иначе – Мыслитель (по сведениям сайта ). Кем еще мог назваться папа? Маркс, Юм, Декарт, Сартр – это все для него мелко («старомодные болтуны»), а Платона он вообще не признавал («его способности как логика сильно переоценивают»). Может, кличку придумал кто-нибудь из «Ночных дозорных», но, скорее всего, папа сам небрежно предложил ее Серво перед собранием. Хотя такие тонкости папе обычно не давались; во всем, что касается Гарета-любимого, видимость равнодушия сидела на папе, как на тонкой-звонкой светской барышне – спортивная фуфайка. Я пробежала глазами мною же написанные слова: «Январь 1974, организация поменяла тактику и главной своей задачей поставила оставаться незаметной». В январе 1974-го папа поступил в Гарвардскую правительственную школу Джона Ф. Кеннеди. «В марте 1974 полиция чуть не захватила врасплох очередное сборище „Ночных дозорных“ на заброшенном складе в гроде Брейнтри, штат Массачусетс». От Брейнтри меньше получаса езды до Кембриджа – то есть от «Ночных дозорных» было меньше получаса до папы. Большая вероятность, что траектории движения двух тел во времени и пространстве пересекутся.
Должно быть, после вступления папы в организацию «Ночные дозорные» и поменяли стратегию. У читателей «Федерального форума» особенным успехом пользовались папины статьи «Свидание вслепую: преимущества незаметной гражданской войны» и «Специфика бунта в информационную эпоху» (он до сих пор еще иногда получал восторженные письма от читателей). На эту же тему он написал свою высоко оцененную диссертацию в Гарварде, в 1978 году, «Проклятие борца за свободу: ошибки партизанской войны и революций в развивающихся странах» (потому он и называл Суонна шарлатаном). Не надо еще забывать поворотный момент, о котором папа любил рассказывать в настроении «бурбон» (так он мог бы вспоминать о женщине, которую мимолетно видел на вокзале, – о женщине с шелковистыми волосами, наклонившей голову к окну, так что туманный кружок от дыхания на стекле заслонил ее губы). Это был тот самый случай в Берлине, когда папа на митинге протеста нечаянно наступил на развязавшийся шнурок Бенно Онезорга, когда полицейские застрелили ни в чем не повинного студента. Папа с тех пор усвоил: «если одиночка открыто выступит с протестом, его растерзают».
– С того момента, фигурально выражаясь, я перешел в большевизм, – говорил папа. – Именно тогда я пошел на штурм Зимнего.
Составляя карту своей жизни, я каким-то образом ухитрилась пропустить целый материк (см. «Антарктида. Самое холодное место на Земле», Тург, 1987). «Ты в своем лекционном зале прячешься и доволен?» – орал на папу Серво. Он был «подросток, у которого гормоны играют», а папа – теоретик. (Если честно, Серво попал не в бровь, а в глаз: папа терпеть не мог пачкать руки даже средством для мытья посуды, а уж тем более – человеческой кровью.) И наверняка Серво папе хорошо платил за его теории. Папа вечно жаловался на бедность, а когда дошло до дела, оказалось, что он вполне может жить как Кубла-хан: снять роскошный особняк номер 24 по Армор-стрит, останавливаться в «Ритце», доставить через всю страну тяжеленный антикварный письменный стол за 17 000 долларов и преспокойно соврать о цене. Даже папин любимый бурбон – «Джордж Т. Стэгг» – в «Библии выпивки» Стюарта Миллза (изд. 2003 г.) назван «„бентли“ всех бурбонов».
Когда я в Париже случайно подслушала, как спорили папа и Серво, говорили они о Ханне Шнайдер или о назревающей проблеме с Адой Харви? «Устраивать истерику», «откуда такая странность», «Симона де Бовуар»… Память упиралась, каждое слово надо было тащить клещами. В итоге я запуталась еще хуже. Ощущение было такое, что все мозги выскребли из головы столовой ложкой.
Вся моя прежняя жизнь – с дорогами, сонетными марафонами, настроениями «бурбон» и глубокомысленными цитатами давно умерших людей – с поразительной легкостью осыпалась бесполезной шелухой.
Сказать по правде, я сама удивлялась, какая я, оказывается, непробиваемая. Вот Вивьен Ли после съемок в фильме «Слоновья тропа» (о котором никто и никогда не слышал, кроме потомков Питера Финча) страдала истерией и галлюцинациями[504] – для лечения потребовалась шоковая терапия, обертывание ледяной простыней и диета из сырых яиц. Я, наверное, тоже должна слегка свихнуться из-за открытия, что моя жизнь – такой же обман, как фокус иллюзиониста, вопрос на 64 000 долларов, русалка с острова Фиджи[505], дневник Гитлера и «Милли Ванилли»[506] (см. гл. 3, «Мисс О’Хара», в кн. «Птицы терзаний. Прекрасные дивы экрана и их живые демоны», Ли, 1973).
Однако после откровения о Сократе дальнейшие явленные мне истины уже не так изумляли (способность к остолбофонарению через какое-то время иссякает, как деньги на кредитной карточке).
По-видимому, все десять лет, что мы колесили по стране, главной папиной заботой было не мое образование, а набор новых участников для Ночного дозора. Папа у них отвечал за кадровый вопрос, и делал это блестяще, зачаровывая людей, подобно сирене. Это и была та самая «умелая вербовка», о которой говорит Гийом на сайте . Иначе никак не объяснить с точки зрения логики череду его младших коллег-преподавателей, которые приходили к нам обедать и слушали, как под гипнозом, папину Нагорную проповедь – историю о проклятии Тобиаса Джонса и о теории целеустремленности. «Есть волки, а есть планктон», – изрекал он свой рекламный слоган. Мало того что никакие это были не преподаватели – их и вообще не существовало на свете.
Не было тугоухого доктора Люка Ординота, надежды исторического факультета Миссурийского университета в Арчере. Не было темноглазого преподавателя лингвистики Марка Хилла. Нашелся, правда, преподаватель зоологии Марк Хаббард, но с ним поговорить не удалось, поскольку он уже двенадцать лет находился в творческом отпуске в Израиле – изучал там исчезающую разновидность стрепета, Tetrax tetrax. Что еще страшнее – не было Арни Сандерсона, преподавателя всемирной истории театра и драмы, с кем папа ужинал в тот памятный вечер, когда Эва Брюстер уничтожила маминых бабочек, и потом еще раз – в ту ночь, когда папа сбежал.
– Алло?
– Здравствуйте, мне нужно поговорить с преподавателем, который работал у вас на кафедре английской литературы осенью две тысячи первого. Его зовут Ли Санджай Сун.
– Как фамилия, вы сказали?
– Сун!
Короткая пауза.
– У нас такого нет.
– Может быть, он работал на полставки…
– Я понимаю, но такого не было…
– Может быть, он уехал? В Калькутту, в Тимбукту? Или попал под автобус…
– Прошу прощения?
– Извините, я просто… Если можно поговорить хоть с кем-нибудь, кто его знает, я была бы очень благодарна…
– Я двадцать девять лет работаю на факультете и могу точно сказать – у нас никогда не было преподавателя по фамилии Сун. Сожалею, мисс, но больше ничем не могу помочь.
Естественно, я задумалась, не был ли и папа фальшивым преподавателем. Я несколько раз присутствовала на его лекциях, но в большинстве университетов, где он работал, никогда не бывала. И если бы я не видела собственными глазами тесную комнатку, которую папа называл «моя конура», «мой склеп», «и в этом чулане я должен придумывать идеи, способные вдохновить американскую молодежь», невольно вспомнила бы философскую задачку: слышен ли звук падающего дерева в лесу, если рядом никого нет? Иными словами, реальна эта комната или, может, ее тоже не существует?
Но тут я как раз ошиблась. Папу знали все, включая недавно поступивших на работу секретарш. Кажется, где бы папа ни появлялся, за ним тянулась вымощенная желтым кирпичом дорога всеобщего восхищения.
– Как у него дела, кстати? – спросил декан Ричардсон из Арканзасского университета в Вильсонвилле.
– Замечательно.
– Я часто думаю, как он и что. Вот на днях вспоминал – попалась в «Трудах» статья Вирджинии Суммы, восхваляющая нашу политику на Ближнем Востоке. Так и слышу, как Гарри хохотал бы! Кстати, давно не видел его статей. Что делать, времена меняются. Нонконформисты, кто идет не в ногу, уже не так легко находят площадку, чтобы высказываться.
– Ничего, он справляется.
Ясное дело, если в уголке твоей жизни завелась плесень, тут надо включить беспощадные флуоресцентные лампы (как в курятнике) и на карачках отдраить все углы без исключения. Соответственно, я решила расследовать еще один интересный вопрос: что, если июньские букашки тоже никакие не букашки, а роскошные павлиноглазки Изабелла (Graellsia Isabellae), самые неотразимые из всех европейских бабочек? Вдруг папа их тоже сагитировал вступить в «Ночные дозорные» и они только делают вид, будто тянутся к нему, как литий к фторопласту (см. «Странное притяжение противоположно заряженных ионов», Були, 1975)? Мне хотелось, чтобы так и было. Ужасно хотелось их спасти от чахлых фиалок на окошках, от робких телефонных звонков, как-нибудь вытащить их из тепловатой заводи, где нет жизни – ни кораллов, ни попугаев, ни разноцветных тропических рыб (и уж конечно, морских черепах). Папа посадил их корабль на мель, а я их освобожу и отправлю в свободное плавание. Пусть плывут в Касабланку, в Бомбей, в Рио-де-Жанейро (все хотят в Рио-де-Жанейро), пусть исчезают в морской дали, красиво и поэтично.
Для начала я позвонила в справочную и узнала номер телефона июньской букашки Джесси Роуз Рубимен – она все еще жила в Ньютоне, штат Техас, и по-прежнему оставалась наследницей фирмы «Ковры Рубимена».
– Если я еще раз услышу его имя… я до сих пор иногда подумываю выяснить, где он живет, пробраться в спальню и, пока спит, оттяпать ему его хозяйство напрочь! Поделом было бы.
Закончились мои изыскания тем, что я узнала в справочной номер телефона июньской букашки Шелби Холлоу.
– «Ночной дозор»? Я что, выиграла картину в лотерею?!
Если только июньские букашки не были гениальными актрисами, не хуже Дэвис и Дитрих, то Ханна Шнайдер была здесь единственной бабочкой, носившейся в душной ночи от одного огонька к другому, словно очумелый пилот-камикадзе, не отступая, даже если я совсем выключала свет и старалась смотреть в другую сторону.
Удивительная особенность такой вот одинокой жизни: когда не с кем разговаривать, мысли носятся на просторе, без помех. Я с готовностью поверила, что папа называл себя Сократом. И в «Ночных дозорных» поверила, отыскивая малейшие упоминания об их деятельности, как частный сыщик в романе отыскивает пропавшую даму. Я даже могла поверить, что Серво и Ханна были любовниками (см. «Африканская змея-яйцеед», Энциклопедия живых существ, изд. 4-е). Наверное, Ром-баба не всегда кряхтел и мычал на каждом слове; в то далекое лето 1973-го он, по всей вероятности, выглядел романтическим бунтовщиком (и достаточно напоминал Эдгара По, чтобы тринадцатилетняя Кэтрин захотела навеки стать его Вирджинией)[507].
Чего я никак не могла переварить – это сочетания «папа и Ханна». День за днем я заталкивала эту мысль поглубже в шкаф, берегла, будто старенькая бабушка, для Особого Случая, который так никогда и не наступит. Старалась отвлечься, иной раз даже успешно. Книги и пьесы не помогали, а читать наизусть Китса, конечно, вообще из рук вон глупо, все равно что спасаться от землетрясения в прогулочной лодочке. Вот телевизор помогал – реклама лосьона для бритья и мелодрамы, в которых загорелые красавцы по имени Бретт говорили: «Пришло время платить по счетам!»
И папа, и Ханна исчезли. Стали громадными бабочками под стеклом в пустой гулкой комнате. Я смотрела на них, кляня себя за тупость. Как могла я не замечать вопиющего сходства? Размер (намного больше натурального), яркие крылышки (повсюду привлекающие к себе внимание), детство в виде жалкой гусеницы (один – сирота, другая – богатая, но несчастная девочка), ночной образ жизни (оба канули в неизвестность, как во тьму), ареал обитания неизвестен.
Если мужчина так громко поносит женщину, как папа – Ханну («банальная», «непутевая», «не могла похвастаться крепким душевным здоровьем»), чаще всего за этой ширмой, как приз в телевикторине, скрывается роскошный автомобиль цвета беж под названием «Любовь», блестящий и непрактичный (наверняка через год сломается). Эта уловка стара как мир – как я могла попасться, ведь я прочитала всего Шекспира, включая поздние пьесы, а также биографию Кэри Гранта «Любовник поневоле»[508] (Мерди, 1999).
«БАБОЧКИ. ХРУПКОЕ». Почему, как только я стараюсь думать о папе и Ханне вместе, в голову лезет старая картонная коробка? Этими двумя словами папа описывал маму. После всякой мишуры вроде плие и балансе и платья невыясненного цвета вдруг являлись эти слова, будто обедневшие гости на званом обеде, смущаясь и робея, словно папа говорил о ее стеклянном глазе или ампутированной руке. Ханна Шнайдер в «Гиацинтовой террасе» произнесла те же слова, обращаясь именно ко мне, а не ко всей нашей компании. Она сказала: «Есть люди хрупкие, как… как бабочки».
Они употребили одни и те же слова, потому что думали об одном и том же человеке.
Сколько раз папа, придумав кому-нибудь броское определение, прилеплял его, как наклейку на ветровое стекло (к примеру, декан Рой в Арканзасском университете в Вильсонвилле обозначался стандартной фразой «сладкий как сироп»). Должно быть, Ханна слышала, как папа говорил о маме. И точно так же, как однажды за обедом бросила мне в лицо папину любимую цитату (счастье, собака, солнце) и оставила в видеопроигрывателе кассету с папиным любимым фильмом (рассматривая Ханну в ультрафиолетовых лучах, я отчетливо видела на ней папины отпечатки пальцев), – вот так же она швырнула мне эти два слова, обронила кусочек своей черной тайны, словно тонкую струйку песка между пальцев. Даже наедине со мной, в лесу, Ханна так и не собралась с духом отдать ее всю – подбросить в воздух, чтобы тайна просыпалась нам на головы, застревая в волосах и прилипая к губам.
Вот она, правда, которую они все это время скрывали (папа – с яростью Пятой симфонии, Ханна – беспорядочно и неаккуратно). Они знали друг друга (по моим расчетам, с 1992 года) в том самом смысле, который отражали плакаты у нее в классе. Я уже никогда не смогу установить, было это как в фильме «Афера Томаса Крауна» или же как в «Завтраке у Тиффани» или они раз триста чистили зубы у одного и того же умывальника.
Я не ахнула. Даже не всхлипнула и не захныкала.
Я всего лишь встала на колени возле старой картонной коробки и провела кончиками пальцев по бархатным спинкам, по усикам и крылышкам, по булавкам и обрывкам картона, словно надеясь, что Наташа оставила мне зашифрованное послание – предсмертную записку, указывающую на ее мужа-предателя с той же точностью, с какой сама Наташа определяла бабочку Delias pasithoe по ярко-красному пятну на крылышках, отпугивающему птиц. Объяснение, загадку, шепот из страны мертвых. (Ничего такого в коробке не было.)
К этому времени мои «ЗАМЕТКИ ПО ДЕЛУ» занимали целую общую тетрадь – страниц пятьдесят. Я вспомнила, как Найджел показал мне в комнате Ханны фотографию (наверное, Ханна ее потом уничтожила, потому что в обувной коробке я этого снимка не нашла). Маленькая Ханна с белокурой девочкой, а на обороте пометка синими чернилами: 1973. Я села в «вольво», поехала в интернет-кафе на Орландо и проверила: вышитый на кармашке школьного пиджака Ханны золотой лев совпадал с эмблемой частной школы на 81-й Восточной улице. В эту школу Наташа ходила в 1973 году, когда родители заставили ее уйти из балетного училища Ларсона (см. ). (У школы был еще дурацкий девиз: Salva veritate[509])
Потом я долго рассматривала украденную из гаража фотографию – ту, где Ханна в образе панк-рокерши с короткими ярко-красными волосами. И я поняла, почему в январе, увидев Ханну с безумной стрижкой, обкорнанную почти под ноль, испытала назойливое ощущение дежавю.
Женщина, которая забрала меня из детского сада и привезла домой в день маминой смерти, красивая, в джинсах и с короткими красными волосами, торчащими в разные стороны, как иглы у дикобраза, о которой папа сказал, что она наша соседка, – это была Ханна.
Я нарезала подходящих кусочков из всех слышанных мной разговоров и соорудила коллаж – поразительный, но и отталкивающий (см. «Обнаженная врастопырку. Мозаика XI» в кн. «Неофициальная биография Индонезии Сотто», Грейден, 1989, стр. 211). «У Джейд в детстве была любимая подруга, – сказала мне Ханна, оплетая пальцы сигаретным дымом. – Красивая девочка, очень ранимая, хрупкая. Джейд ей доверяла, как сестре, могла ей обо всем рассказать. Убей не помню, как ее звали». «Бывают такие люди – хрупкие, ты их любишь и все равно ранишь… Я жалкая, да?» – сказала она тогда в лесу. «У нее в молодости случилась какая-то драма, – сказала Эва Брюстер. – Что-то связанное с молодым человеком и с ее подругой… Она не вдавалась в подробности, но говорила – не было дня, когда бы она не терзалась из-за того, что сделала».
Неужели это из-за Ханны Серво с папой постоянно цапались, хоть и работали сообща? Оба любили одну и ту же женщину – а может, это не было такое уж большое чувство, просто короткое замыкание в электрической цепи? И мы из-за Ханны переехали в Стоктон? Ханну совесть замучила, что подруга из-за нее покончила с собой, и оттого она осыпала меня комплиментами с придыханием и прижимала к своему костлявому плечу? Ученые сумели определить границы наблюдаемой вселенной, космологический горизонт («Протяженность нашей вселенной – 13,7 миллиарда световых лет», – с изумительной уверенностью пишет Гарри Миллз Корнблоу в книге «Азбука космоса» [2003]), и в то же время люди рядом с нами остаются все такими же непостижимыми – как это возможно?
Варианты ответов: «Да», «Возможно», «Наверное» и «Черт его знает».
Пошел четырнадцатый день без папы (за два дня до этого я получила сердечное письмо от мистера Уильяма Баумгартнера из Нью-Йоркского банка, сообщившего мне номер моего счета; оказывается, в 1993-м, когда мы уехали из Миссисипи, папа открыл целевой счет на мое имя). Я в кладовке при бывшем папином кабинете перебирала барахло на полках – в основном оставшееся от владельца дома, но был там и всякий хлам, что скопился у нас с папой за годы странствий: пара настольных ламп с абажурами салатового цвета, мраморное пресс-папье, похожее на обелиск (подарок от восхищенного студента), несколько потрепанных книжек с иллюстрациями («Путеводитель по Южной Африке», Дж. К. Булрич [1968]). Я нечаянно сдвинула с места плоскую картонную коробочку – папа написал на крышке «Столовые приборы» – и увидела за ней, в самом углу, прикрытый пожелтевшей смятой газетой (с мрачноватым названием «Руанда таймс») папин костюм Бригеллы: свернутый черный плащ и облупившуюся бронзовую маску с насмешливым крючковатым носом.
Я машинально развернула плащ и прижалась к нему лицом. Стыдно, вообще-то, разнюнилась… И тут я ощутила смутно знакомый запах – запах Говарда и Уол-Марта, запах из Ханниной спальни, навязчивый аромат одеколона, который расползается по комнате и не выветривается часами.
Знаете, как бывает – увидишь лицо в толпе, узнаешь глаза, линию скул или такой характерный подбородок, словно его простегали ниткой и сильно затянули в середине. Мучительно хочешь взглянуть еще раз и не можешь, как ни продираешься к нему сквозь толчею чужих локтей, сумок и туфелек. Только-только я узнала этот одеколон, в голове пантерой промелькнуло имя – и тотчас же ускользнуло, пропало из виду.
Глава 36. «Метаморфозы», Овидий
Я так и знала, что в день окончания школы случится что-нибудь идиотски-романтическое. Небо с утра сияло застенчивым румянцем, а когда я открыла окно, в комнату хлынул обморочный воздух. Сосенки по-девчачьи толпились во дворе тесными кучками, дрожа от предвкушения. В половине седьмого я устроилась в кухне за столом с папиным «Уолл-стрит джорнал» (журнал все еще преданно появлялся каждое утро, как парень снова и снова возвращается на перекресток, где когда-то прохаживалась его любимая проститутка). Я включила новости – «Утро с Черри», – смотрю, а Черри-то и нет.
На ее месте сидел Норвел Оуэн в тесном ярко-синем пиджаке. Сцепив короткие толстые пальцы и моргая, будто ему кто-то светил фонариком в лицо, Норвел начал зачитывать новости, ни единым словом не объяснив, почему отсутствует Черри. Не обронил даже вяло-неубедительного «Пожелаем Черри удачи» или «Желаем Черри скорейшего выздоровления». Еще удивительнее было другое: когда началась рекламная пауза, я заметила, что у передачи поменялось название. Теперь она называлась «Утро с Норвелом». Руководители канала «Новости-13» просто вырезали Черри напрочь, как редакторы при монтаже вырезают из интервью с очевидцами всевозможные «значит» и «это самое».
С улыбкой, напоминающей половинку ананасного ломтика, Норвел передал слово Эшли Голдуэлл с прогнозом погоды. Она сообщила, что в Стоктоне ожидается «повышенная влажность, вероятность дождя – восемьдесят процентов».
Несмотря на эти мрачные пророчества, как только я добралась до школы (закончив сперва с последними оставшимися делами – риелторское агенство «Шервиг», вещи для Армии спасения), Эва Брюстер объявила по громкой связи, что гордым родителям предлагается занять свои места на складных стульчиках перед физкультурным корпусом Бартлби ровно в 11:00 (не более пяти стульев на каждого ученика, а родственники сверх этого количества пусть размещаются на трибунах). Церемония, как и планировалось, начнется в 11:30, не обращайте внимания на слухи, никаких изменений в программе не предвидится. Фуршет в саду также состоится по расписанию – музыку и зрелище обеспечат джаз-бенд «Сладкие булочки» и те участники танцевальной группы «Боб Фосс», кто еще не в выпускном классе, а родители, школьники и учителя будут порхать бледными мотыльками среди бокалов шипучего сидра и букетов с каллами, шепотом обсуждая, кто куда поступил.
– Я обзвонила несколько радиостанций – дождь обещают ближе к вечеру, – сообщила Эва Брюстер. – Если старшие классы вовремя построятся, мы все прекрасно успеем. Всем удачи и поздравляю с окончанием!
Я застряла в кабинете миз Симпсон («Для меня огромное счастье, что ты училась в моем классе, – всхлипывала она. – Когда встречаешь ученика с таким глубоким пониманием материала…»), потом еще зашла к мистеру Моутсу сдать накопившиеся задания, и он тоже меня задержал. Вернувшись в школу после шестнадцатидневного отсутствия, я тщательно следила за тем, чтобы говорить и выглядеть как обычно, – и одевалась как прежде, и ходила, и причесывалась (на это люди первым делом обращают внимание, когда вынюхивают следы семейных потрясений и расшатанной психики), но, видимо, папино бегство все-таки отчасти меня изменило. Подредактировало слегка – там словечко, тут запятая. И я постоянно чувствовала на себе чужие взгляды – хотя уже не завистливые, как во времена, когда я была приближена к Аристократам. Сейчас меня замечали взрослые, причем смотрели озадаченно, как будто я постарела в одночасье и они во мне узнавали себя.
– Я рад, что у тебя все наладилось, – сказал мистер Моутс.
– Спасибо.
– Мы беспокоились. Не знали, что с тобой случилось.
– Я понимаю. Просто навалилось всякое.
– Когда ты наконец объяснила Еве, в чем дело, всем стало легче. Тебе, конечно, трудно пришлось. Кстати, как папа себя чувствует?
– Прогноз неблагоприятный, – ответила я.
Эту заранее заготовленную фразу я с огромным удовольствием сказала миз Фермополис (та бодро заявила, что в наше время медицина творит чудеса и врачи наверняка поправят дело, словно рак – это вроде неудачной стрижки), и миз Гершон (она поскорее перевела разговор на мой итоговый реферат по теории струн), и даже мистеру Арчеру (он устремил взор на плакат с репродукцией картины Тициана, словно целиком поглощен созерцанием кружев на платье изображенной там девушки). А сейчас мне стало неловко – так расстроился мистер Моутс.
Он кивнул, не поднимая глаз, и тихо сказал:
– Мой папа тоже умер от рака горла. Тяжелая болезнь. Потеря голоса, невозможность общаться с окружающими… Всякому нелегко, а каково преподавателю – даже представить не могу. Знаешь, Модильяни серьезно болел. Дега. Тулуз-Лотрек. Многие из великих. – Моутс вздохнул. – Значит, на следующий год ты в Гарварде?
Я кивнула.
– Трудно будет, но ты постарайся сосредоточиться на учебе. Этого и твой папа хотел. И не бросай рисование, Синь, – прибавил он, утешая, кажется, скорее себя самого.
Поправил воротничок рубашки цвета фуксии.
– Я ведь не каждому это говорю. Некоторым лучше держаться подальше от чистого листа. Но видишь ли, по-настоящему продуманный набросок человека, животного, неодушевленного предмета – это не просто рисунок, это отпечаток души. Фотография – искусство для лентяев, а рисование – для думающих людей. Для мечтателей.
Я сказала:
– Спасибо.
Несколько минут спустя я уже бежала к спортивному корпусу, в длинном белом платье и белых туфлях на низком каблуке. Небо потемнело до оттенка оружейной стали. Родители в одеждах пастельных цветов потихоньку стекались к футбольному полю возле корпуса Бартлби, смеясь и сжимая в руках сумочку или ручку младшего ребенка. Некоторые мамы взбивали себе волосы, точно подушки, начиненные гусиным пухом.
Нам велели собраться в мемориальной комнате Натана Блая не позднее чем в 10:45 (словно быкам, которых готовятся выпустить на арену). Когда я вошла, в комнате толпился народ, – кажется, я была последней.
– Во время церемонии не безобразничать! – наставлял мистер Баттерс. – Не смеяться, не вертеться…
– Не хлопать, пока не закончат перечислять фамилии, – подхватила миз Стердс.
– Не выходить в туалет…
– Девочки, кому нужно, идите сейчас!
Тут я заметила в углу Джейд с компанией. Джейд в матово-белом костюме, волосы скручены в узел, посмотрелась в зеркальце, стерла с зубов следы помады и повозила губами друг о друга. Лу стояла сцепив руки и не поднимая глаз, чуть покачиваясь на каблуках. Чарльз, Мильтон и Найджел обсуждали разные сорта пива. «„Будвайзер“ – это верблюжья моча», – донесся до меня голос Мильтона, пока я пробиралась к дальней стенке. А я-то все думала, о чем они говорят теперь, без Ханны. Оказывается, я не много потеряла – вечных вопросов явно не обсуждают.
Я протолкалась мимо горестно хлюпающей носом Доннамары Чейз – она пыталась мокрой салфеткой оттереть с блузки синий штрих от шариковой ручки, мимо Тракера в зеленом галстуке с узором из лошадиных голов и Тра, подкалывающей английскими булавками алые лямки лифчика Тру к бретелькам платья, чтобы не были на виду.
– Не понимаю, с чего ты сказала маме одиннадцать сорок пять, – кипятилась Тра.
– А что такого?
– Как что? Процессия!
– Ну и?
– Мама не сможет ее сфотографировать! Из-за твоей тупости мама пропустит последний день нашего детства, как междугородный автобус!
– Она сказала, что придет пораньше…
– Я ее не видела, а она на торжественные мероприятия всегда надевает фиолетовый костюм, его издали заметно…
– Ты вроде ей запретила надевать слишком заметное…
– Начинается! – взвизгнула Носишка, забравшись на батарею у окна. – Идем, пора!
– Аттестат брать в правую руку, пожимать левой или наоборот? – спросил Бунтарь Уотерс.
– Зак, ты родителей видел? – долетел до меня голос Лонни.
– Я пи́сать хочу! – сказала Криста Джибсен.
– Вот и все, – торжественно проговорил у меня за спиной Сол Минео. – Конец!
Джаз-бенд заиграл «Выпускной марш»[510], но миз Стердс бессердечно объявила, что никого никуда не выпустят, пока все не успокоятся и не построятся по алфавиту. Мы выстроились в длинную глистообразную цепочку – не зря репетировали целую неделю. Мистер Баттерс дал отмашку, широким жестом распахнул дверь, и миз Стердс вывела нас наружу, словно вереницу вьючных мулов; подол цветастой юбки плясал вокруг ее лодыжек.
Небо напоминало огромный синяк, и ветер дул на редкость свирепо. Он беспардонно трепал синие флаги «Сент-Голуэя» по обеим сторонам сцены, а потом, наскучив этой забавой, взялся за музыкантов. Напрасно мистер Джонсон орал, чтобы играли громче, – ветер перехватывал мелодию и уносился с ней к воротам в дальнем конце поля, а до нас долетали только случайно уцелевшие обрывки.
Мы гуськом двинулись по проходу к сцене. Родители радостно забурлили, заулыбались и зааплодировали. Медлительные бабушки начали делать «фоточки», держа фотоаппараты, как драгоценные украшения. Официальный фотограф юркой ящеркой забежал вперед нашей вереницы, присел, зажмурил один глаз и, высунув кончик языка, нацелил на нас объектив. Быстро отщелкал несколько снимков и снова затерялся в толпе.
Почти все выпускники заняли места в первых рядах, а мы с Рэдли Клифтоном, поднявшись на сцену, сели справа от Хавермайера и его жены Глории (наконец-то она освободилась от валуна, который таскала, хотя до сих пор оставалась пугающе бледной и застывшей, словно плексигласовой). Сидевшая рядом с ней Эва Брюстер ободряюще мне улыбнулась и сразу отвела глаза – как будто предложила одолжить носовой платок, но не хотела, чтобы он испачкался.
Хавермайер подошел к микрофону и начал говорить о наших несравненных достижениях, о том, какие мы одаренные и какое блестящее будущее нас ожидает. Потом Рэдли Клифтон произнес речь как второй по успеваемости ученик выпуска. Только он ударился в философию («На голодный желудок много не навоюешь»)[511], и тут налетел ветер, с полным пренебрежением к ученым, правдоискателям, логикам – словом, ко всем, кто ищет ответы на вечные вопросы. Ветер прицепился к Рэдли и давай дергать его за красный галстук, трепать волосы (бесцветные, старательно расчесанные), а потом еще взял и переворошил чистенькие листочки его речи. Рэдли сбился, начал повторяться и запинаться, и речь в итоге получилась противоречивая и скомканная – очень созвучно нашей жизни.
К микрофону снова подошел Хавермайер. Песочного цвета прядки свисали ему на лоб, как лапки паука.
– А теперь я рад представить первую ученицу выпуска, необычайно одаренную девочку, которая приехала к нам из Огайо и в этом году училась в нашей школе. Мисс Синь Ван Меер!
Мою фамилию он проблеял по-козьи «Ме-е-ер», но я постаралась не думать об этом, пока вставала, одергивала подол платья и под скромные, но приличные аплодисменты шла к микрофону по резиновому покрытию сцены (по слухам, пару лет назад случился афронт: Мартина Филобек, не вовремя подвернувшаяся сосновая шишка и, как следствие, лечебный корсет). Я испытывала жгучую благодарность к людям, которым хватает великодушия аплодировать чужой дочке, обскакавшей – хотя бы по школьным дисциплинам – их родных детей (мой папа на их месте хмыкнул бы: «И это у них считается лучшим!»). Я положила бумаги на пюпитр, подтянула к себе микрофон и тут совершила ошибку: подняла глаза. Я увидела двести обращенных ко мне лиц, словно поле, засаженное белокочанной капустой. Мое сердце опробовало новые виды прыжков («Робот», «Молния»), и на одну кошмарную долю секунды показалось, что я не смогу выдавить ни слова. Где-то в толпе Джейд, поправляя золотые волосы, вздохнула: «О боже, только не это!» – а Мильтон повторял про себя: «Салат с тунцом, татаки из тунца». Я по мере сил гнала от себя подобные мысли. Листочки с текстом испуганно трепетали на ветру.
– В одной из первых широко известных речей по случаю выпускной церемонии… – начала я.
Мой голос бумерангом пронесся над головами слушателей и, наверное, долетел до самого дальнего ряда, до высокого человека в синем костюме – на крохотное мгновение мне показалось, что это папа (нет, конечно; разве только он без меня, как растение без света, усох и облысел).
– …в тысяча восемьсот первом году в школе «Академия Доверфилд» семнадцатилетний Майкл Финпост сказал, обращаясь к своим ровесникам: «Когда-нибудь мы вспомним школьное золотое время и поймем, что это были лучшие годы нашей жизни». Так вот, я искренне надеюсь, что с вами, кто сидит сейчас передо мной, такого не случится.
В первом ряду той части зала, где сидели родители, блондинка в мини-юбке закинула ногу на ногу, потом поменяла их местами и беспокойно взмахнула ногой, словно делала зарядку или указывала самолету в аэропорту, на какую взлетную полосу выруливать.
– И я н-не… не скажу вам: «Всего превыше – верен будь себе». Потому что большинство из вас не будут себе верны. Согласно данным криминальной статистики, в Америке растет уровень воровства и мошенничества, причем не только в городах, но и в сельской местности. Да и что значит – быть верным себе? Сомневаюсь, что за четыре года учебы в старшей школе каждому из нас удалось найти себя. Возможно, мы смогли определить, в каком полушарии находимся или в каком океане, но точные координаты остались неизвестными… Точно так же… – На долю секунды моя сосредоточенность, словно безбилетный бродяжка, выпала из товарного вагона, и я с ужасом почувствовала, как поезд проносится мимо, но, к счастью, бродяга кое-как поднялся, встряхнулся, кинулся догонять и невероятным усилием вскочил-таки на подножку. – Точно так же я не стану рекомендовать вам пользоваться кремом от загара. Большинство все равно не будет этого делать. В две тысячи втором году «Новый английский медицинский журнал» сообщил о росте заболеваемости раком кожи среди населения до тридцати лет, и тем не менее в странах Запада из каждых пятидесяти человек сорок три считают, что даже некрасивые люди выглядят в двадцать раз привлекательнее, когда они загорелые. – Я перевела дух, не веря себе: на слове «загорелые» среди зрителей серией подземных толчков пробежал смех. – Нет, я хочу сказать о другом. О том, что может принести практическую помощь, если в вашей жизни что-то случится, что собьет вас с ног, и вы не будете знать, встанете ли снова когда-нибудь.
Я заметила среди слушателей Тра и Тру – в первом ряду, с левого края. Они смотрели на меня с одинаково обалдевшими лицами. Улыбки застряли в зубах, словно подол юбки, зацепившийся за колготки.
– Я не советую вам строить свою жизнь по образцу Иисуса Христа или Далай-ламы – хоть это и хорошие образцы, конечно. Однако я советую взять в пример Carassius auratus auratus, в просторечии – золотую рыбку.
Среди зрителей кое-где просыпались вежливые смешки, но я продолжала, не обращая на них внимания.
– Все смеются над золотыми рыбками. Их даже могут запросто проглотить. В Книге рекордов Гиннесса записано, что Джонас Орната Третий, выпускник Принстонского университета тысяча девятьсот сорок второго года, за пятнадцать минут проглотил тридцать девять золотых рыбок. Скажу в его защиту – вероятно, Джонас не догадывался, как прекрасны золотые рыбки и какой замечательный урок они могут нам дать.
Я подняла глаза и наткнулась взглядом на Мильтона – первый ряд, четвертый слева. Откинувшись назад, так что стул балансировал на двух ножках, он разговаривал с кем-то в следующем ряду. С Джейд.
– Если следовать примеру золотой рыбки, можно пережить самые трудные, самые непереносимые события. Преодолеть такие трудности, от которых ваши соседи – гуппи, скалярии – всплывут брюхом кверху. В журнале Американского общества любителей золотых рыбок описан чудовищный случай: пятилетняя девочка с явной склонностью к садизму, бросив на пол золотую рыбку, наступила на нее, и не один, а два раза. К счастью, пол был покрыт пушистым ковром, поэтому подошва девочки не совсем раздавила рыбку. Через полминуты такого издевательства девочка вернула рыбку в аквариум, где та и прожила еще сорок семь лет. – Я откашлялась. – Золотые рыбки способны перезимовать в замерзшем пруду. Годами жить в немытой банке. Если их не кормить, они не умрут сразу – проживут еще три-четыре месяца.
Парочка нетерпеливых слушателей уже потихоньку пробиралась к выходу, надеясь, что я не замечу, – седовласый господин, которому захотелось размяться, и мама, ведущая за ручку малыша и нашептывающая какие-то секреты ему в макушку.
– Если жить как золотая рыбка, начинаешь приспосабливаться к меняющимся условиям – не как большинство видов за сотни и тысячи лет, посредством длительного естественного отбора, а всего лишь за месяцы или даже недели. Поселишь рыбку в тесный аквариум – она вырастет мелкой. Поселишь в просторный аквариум – вырастет крупной. В банке, в пруду, в чистой воде и в мутной воде. Может жить в сообществе, может – в одиночку.
Ветер шевелил уголки страниц.
– Но самое удивительное – как устроена их память. Принято жалеть золотых рыбок за то, что они помнят всего только последние три секунды. А на самом деле такая привязка к настоящему – это великий дар. Они свободны! Не мучаются из-за прошлых ошибок, неудач и обид. Не терзаются из-за тяжелого детства. Их скелеты гуляют на воле, а не заперты в шкафах. Что может быть прекрасней, чем смотреть на мир как впервые, обновленным взглядом, почти тридцать тысяч раз в день? Как замечательно знать, что твой золотой возраст был не сорок лет назад, когда еще голова не облысела, а всего три секунды тому назад – а значит, возможно, продолжается и сейчас.
Я мысленно сосчитала: «Раз-и, два-и, три-и», хотя, может, чуть быстрее, чем надо. Я очень волновалась.
– И сейчас.
Еще три секунды.
– И сейчас.
Еще разок.
– И сейчас тоже.
Папа не рассказывал, каково это, когда читаешь лекцию, а тебя не воспринимают. Не объяснил насчет нелепой человеческой потребности донести свою мысль до слушателей, построить мостик и помочь им перейти на другую сторону. Не говорил, что делать, если аудитория гарцует, как норовистая лошадь. Бесконечное покашливание, шмыганье носами. Взгляды пап скользят по рядам, задерживаясь около пикантной мамочки, шестое место справа. Он меня не предупредил!
По краям футбольного поля выстроились канадские ели, глядят снисходительно. Ветер треплет рукава сотни блузок. Вон тот мальчишка в третьем ряду, у дальнего края, в красной рубашке (прикусил кулак и смотрит на меня так пристально, прямо Джеймс Дин) – знает ли он, что я обманщица, сохранила только самую красивую часть правды, а остальное выбросила? На самом-то деле жизнь у золотых рыбок нелегкая, как и у всех. Они постоянно гибнут от перепада температур, а при появлении цапли дружно прячутся под камушками. А может, не так уж и важно, о чем я рассказала и о чем умолчала. (Господи, парень в красной рубашке уже все ногти себе сгрыз и так подался вперед, что чуть не пристроил подбородок на плече Сола Минео, как цветочный горшок на подоконнике. Интересно, кто это, – я его раньше не видела.) Может быть, к лекциям и теориям надо подходить так же бережно, как к произведениям искусства? Все они созданы человеком, чтобы легче было выносить ужасы и радости этого мира. Они зависят от места и времени, их надо хорошенько осмыслить, полюбить или возненавидеть, а потом сложить в коробку и убрать на верхнюю полку.
Моя речь закончилась катастрофой – в том смысле, что ничего не произошло. Я, само собой, надеялась, как все, кто раздевается на сцене, что наступит некая кульминация, просветление, небо упадет всем на головы, словно кус штукатурки в Сикстинской капелле, на котором когда-то Микеланджело изобразил указательный перст Бога, а в 1789 году этот кусок отвалился, стукнул патера Кантинолли по голове и вверг толпу монашек в истерический припадок. Очнувшись, они оправдывали свое поведение – как благочестивое, так и крайне сомнительное – словами: «Господь мне так указал» (см. «Lo Spoke Del Dio Di Giorno», Фунакезе, 1983).
Но если Бог действительно существует, сегодня Он предпочел помалкивать, как и в другие дни. Только ветер, лица и зияющее небо. Я вернулась на свое место под аплодисменты, похожие на смех в конце затянувшейся телепередачи (такие же вынужденные). Хавермайер начал зачитывать имена выпускников. Я не прислушивалась, пока не дошло до Аристократов. Один за другим они промелькнули передо мной.
– Мильтон Блэк!
Мильтон вразвалку поднялся по ступеням, держа подбородок под обманчиво-приветливым углом, приблизительно 75 градусов. (Он был скучным романом о взрослении.)
– Найджел Крич!
Найджел улыбнулся в своей обычной манере – словно циферблат наручных часов блеснул на солнце и сразу опять потускнел. (Он был циничная комедия в пяти актах, сверкающая остроумием, вожделением и болью. Финал вышел с горчинкой, но драматург отказался что-либо менять.)
– Чарльз Лорен!
Чарльз приковылял на костылях. (Он был любовным романом.)
– Поздравляю, сынок!
Небо пожелтело, с успехом выполнив непростой фокус: оставаясь пасмурным, заставило зрителей щуриться.
– Лула Малони!
Она взбежала на сцену чуть ли не вприпрыжку. Лула подстриглась – не так жестоко, как Ханна, однако результат вышел ничем не лучше. Неровные прядки задевали щеку. (Она была рифмованным стихотворением в двенадцать строк, построенным на эффекте ритмического повтора.)
По плечам хавермайеровского пиджака и по широкополой розовой шляпке какой-то из мамаш застучали капли дождя, тяжелые и жалящие, как осы. Над толпой зрителей мгновенно расцвели зонтики – черные, красные, желтые, кое-где полосатые. Джазисты начали собирать инструменты, чтобы эквакуироваться в спортзал.
– Плохо дело, да? – вздохнул Хавермайер. – Давайте-ка заканчивать побыстрее! Выпускной под дождем! Если кто-нибудь считает, что это дурной знак, у нас есть вакансии на будущий год в старшем классе, – улыбнулся директор.
Никто не засмеялся, и тогда Хавермайер стал скороговоркой зачитывать имена, дергая головой: к микрофону, к списку, снова к микрофону. Видно, Бог его прокручивал на ускоренной перемотке. Трудно было разобрать фамилии – ветер добрался до микрофона и над футбольным полем летели зловещие «ву-у-у-ш-ш-ш». Жена Хавермайера, Глория, встала рядом с мужем, держа над ним раскрытый зонт.
– Джейд Черчилль Уайтстоун!
Джейд встала, подняв над головой руку с зонтом, как статуя Свободы, приняла у Хавермайера аттестат, словно честь ему оказывала, и вернулась на свой складной стул. (Она была книга с увлекательным сюжетом, написанная до крайности небрежно. Часто не заморачивалась с ремарками, кто что сказал, – читатели, мол, сами догадаются. Но некоторые фразы были до того красивы, что дух захватывало.)
Скоро настал черед Рэдли, а затем и мой. Зонтик я забыла в кабинете мистера Моутса, а Рэдли держал свой зонт над собой и кусочком авансцены с другой стороны, так что я промокла насквозь. Дождь неожиданно успокаивал – тепленький, как каша у трех медведей. Эва Брюстер, буркнув «вот черт», сунул мне в руки свой маленький розовый зонтик с кошечками. Челка у нее тут же прилипла ко лбу. Мне стало совестно. Я поскорее пожала холодную руку Хавермайера и, проходя на свое место, вернула зонтик Эве.
Хавермайер наскоро произнес прощальное слово – что-то там насчет удачи. Зрители похлопали и двинулись прочь. Началась обычная суматоха сборов с пикника под дождем. Эй, мы ничего не забыли? Куда девалась Кимми? Что у меня с волосами, дьявол, спутались, как водоросли… Папы раздраженно отдирали малышей от стульев, мамы в намокших светлых льняных костюмах не подозревали, что показывают всему миру свое нижнее белье.
Я подождала еще минутку, исполняя номер под названием «Чрезвычайная занятость». Одинокий человек не так бросается в глаза, если окружающим кажется, что он чем-то занят. Я долго искала воображаемый камешек в туфле, потом терла руку, будто она зачесалась, потом шею (блохи, что ли, завелись). Потом притворилась, будто что-то потеряла… Хотя тут как раз и притворяться было не надо. Скоро я осталась на сцене одна среди пустых стульев. Спустившись по ступенькам, я побрела через футбольное поле.
В прошедшие недели, представляя себе этот день, я рисовала в своем воображении картину папиного торжественного выхода (только раз, только для вас). Он появится вдали, черным силуэтом на вершине холма. Или залезет на ветку раскидистого дуба, нарядившись в камуфляжный костюм, и будет незаметно наблюдать. Или спрячется в лимузине и как раз в ту секунду, когда я пойму, что это он, умчится вдаль, бросив мне в лицо мое же отражение в зеркальном стекле, исчезнет за поворотом дороги, за каменной церковью и деревянным знаком «Добро пожаловать в „Сент-Голуэй“!», как кит уходит на глубину.
Но не было ни лимузина, ни далекой темной фигурки, ни психа на дереве. Ганновер-Холл, Элтон и Барроу лежали посреди газонов неподвижно, словно дряхлые псы, которые не поднимут голову, даже если им бросить мячик.
– Синь! – окликнули сзади.
Я шла вперед не оборачиваясь, но меня позвали снова, уже ближе. Я остановилась и оглянулась. Ко мне почти бежал парень в красной рубашке. И тут я его узнала. Нет, не так. Тут я поняла, что невольно последовала примеру золотых рыбок. Передо мной был Зак Содерберг, но я как будто впервые его увидела. Он был сам на себя не похож. Со времени последнего урока углубленной физики он успел подстричься налысо. И голова у него оказалась довольно-таки симпатичная – не из тех шишковатых голов, покрытых вмятинами, которые как бы намекают, что мозг внутри слегка размяк. И уши тоже вполне ничего, не стыдно людям показать. Он был весь такой новый, что глазам больно и немножко тревожно даже. Поэтому я не сказала «сайонара[512], детка» и не удрала к своему «вольво», что поджидал меня с вещами на ученической автостоянке. Я уже попрощалась с домом номер 24 по Армор-стрит и с письменным столом гражданина Кейна, отправила риелторам три комплекта ключей в запечатанном конверте вместе с написанной от руки благодарственной запиской лично мисс Диане Сизонс, не поскупившись на восклицательные знаки. В бардачке лежала карта автомобильных дорог. Штаты, отделяющие Северную Каролину от Нью-Йорка, я аккуратно (словно именинный торт на порции) разделила на аудиокассеты из библиотеки на Элм-стрит (в основном криминальное чтиво, которое папа наверняка полил бы презрением). У меня были водительские права с отвратной фотографией, и я планировала рулить во всех смыслах.
Зак увидел, как меня поразила его новая прическа, и провел рукой по бритой макушке. Наверное, похоже на потертый бархат старинной козетки.
– Ага, – сказал он смущенно и нахмурился. – Вчера решил начать с чистого листа. А ты куда идешь?
Он держал зонт над моей головой, вытянув руку так прямо и неподвижно, что хоть полотенца на ней суши.
Я сказала:
– Домой.
Он удивился:
– Веселье только начинается… Хавермайер танцует со Стердс. Там пирожные-корзиночки.
Ярко-красная рубашка бросала отсветы ему на подбородок, и я вспомнила старую байку: поднеси лютик человеку к подбородку, и если заблестит, значит этот человек любит масло. А что значит красный отсвет?
– Не могу, – сказала я.
Самой было противно, как неискренне это прозвучало. Будь он полицейским, а я – преступницей, он бы вмиг догадался.
Зак внимательно посмотрел на меня и покачал головой, как будто у меня на лице было написано непонятное уравнение.
– Знаешь, мне понравилась твоя речь. В смысле… Круто, чувак!
Он так это сказал, что мне захотелось смеяться. Правда, смех так и не вышел наружу – иссяк где-то на уровне ключиц.
– Спасибо, – сказала я.
– Особенно тот кусок, где… Как это… Когда ты говорила об искусстве… И о том, кто ты как личность… И об искусстве… Это было потрясающе!
Я понять не могла, о чем он. В моей речи ни слова не было об искусстве и о том, кто я как личность. Но потом я посмотрела на него – какой он высокий, и почему-то я раньше не замечала крохотные морщинки у глаз. Его лицо, нарушая все школьные правила, подбрасывало мне шпаргалки – подсказывало, каким он станет, когда повзрослеет. И я вдруг поняла: когда слушаешь кого-нибудь, не так важны слова. Слышишь то, что тебе необходимо, чтобы стать ближе к этому человеку. Можно услышать про золотых рыбок, а можно – про искусство и личность. Каждый сам выбирает, из каких материалов построить свою утлую лодочку. А еще он так наклонялся вперед и вытягивал шею (куда там лампам на гибкой ноге), так старался ловить каждое брошенное мной слово, чтобы ни одно не упало на землю… Мне понравилось это мгновение истины. Будет о чем подумать позже. В дороге хорошо думается.
Зак прокашлялся. Посмотрел в сторону, на клумбу с нарциссами и ванночкой для птиц, а может, на крышу корпуса Элтон, где флюгер указывал на что-то такое за кадром.
– Я так понимаю, если я приглашу тебя и твоего папу поужинать сегодня с нами в клубе, ответ будет «нет»…
Он снова посмотрел на меня, коснулся глазами моего лица – так грустный человек, глядя в окно, прижимает ладони к стеклу. И передо мной, словно изображение в диапроекторе на уроке мистера Арчера, возникла крошечная картина, томящаяся в плену в его доме. Наверное, она и сейчас там висит – мужественно не бросает свой пост в конце коридора. Зак сказал, что я похожа на эту картину. На эту лодку без моряков.
Зак изогнул одну бровь – еще один талант, которого я за ним не замечала.
– Может, все-таки согласишься? Там готовят замечательный чизкейк.
– Мне правда надо идти.
Он безнадежно кивнул:
– Значит, если я спрошу, можно мне… как-нибудь увидеться с тобой летом… Знаешь, мне не обязательно всю тебя целиком видеть. Можно… один палец, например. Ты скажешь, что это никак не получится. Все дни расписаны до глубокой старости. Между прочим, у тебя трава к туфлям прилипла.
Растерявшись, я наклонилась и стерла с босоножек травяную зелень. Босоножки с утра были белыми, а теперь покрылись пятнами, как старческие руки.
Я сказала:
– Летом меня здесь не будет.
– Куда ты уезжаешь?
– В гости к бабушке с дедушкой. Может, еще куда-нибудь съезжу.
(«Чиппаваа, Нью-Мексико, волшебный край, родина кукушки-подорожника, мескитовой травы, красногорлой форели, ведется добыча полезных ископаемых, серебра, поташа…»)
– С папой или сама по себе?
Какая у него удивительная способность каждым вопросом попадать в точку. Папа всегда отвергал теорию о том, что не бывает неправильных вопросов. Ее придумали в утешение тупицам. Да, нравится вам это или нет, есть небольшое количество правильных вопросов и триллионы неправильных. Из них из всех Зак выбрал тот единственный, от которого у меня защипало в горле, и я испугалась, что сейчас зареву или упаду на землю. Я снова сделала вид, будто у меня ужасно чешется рука и шея. Самое смешное, что папе Зак, наверное, понравился бы. Вот этот прицельный вопрос в яблочко – папа бы оценил.
Я сказала:
– Сама по себе.
И я пошла прочь, смутно осознавая, что делаю. Поднялась на холм, перешла через дорогу. Нет, я не плакала и не грустила даже. У меня все было в норме. Ну, не то что в норме («Норма – это для дураков и дебилов»). Я не могла подобрать точное слово для своего состояния. Надо мной раскинулось пустое светло-серое небо – на нем можно было нарисовать все, что угодно: искусство или золотую рыбку, хоть крошечную, хоть громадную.
Я прошла мимо Ганновера и мимо газона перед столовой, – на нем валялись мокрые ветки. От дождя земля превратилась в кашу. А Зак не говорил «подожди» или «куда ты?» – он просто все время был рядом, чуть позади моего правого плеча. Мы обошлись без формулировок, без гипотез, теорий и выводов. Ботинки Зака размеренно ступали по лужам, рыбками в воде, и мои босоножки тоже. Он держал зонтик точно у меня над головой. Я проверила; Ван Меерам всегда надо все проверить. Я отклонялась чуть-чуть вправо, то ускоряла, то замедляла шаги, а то и вовсе останавливалась стряхнуть траву с босоножек. Мне интересно было – намочит ли дождь хотя бы локоть или коленку? Нет, зонт неизменно оставался надо мной. Пока мы дошли до автостоянки, где приплясывали деревья – совсем чуть-чуть, чтобы не отвлекать зрителей от главных действующих лиц, – на меня не упала ни одна капля дождя.
Итоговый экзамен
Здесь представлена программа экзамена по окончании учебного курса. Цель экзамена – проверить, насколько глубоко вы усвоили пройденный материал. Экзамен состоит из трех разделов, постарайтесь ответить как можно полнее (в скобках указан вклад каждого раздела в общую оценку, в процентах): 14 вопросов по типу «верно/неверно» (30 %), 7 вопросов с выбором одного правильного ответа из числа предложенных вариантов (20 %) и 1 вопрос, требующий развернутого ответа (50 %)[513]. Можно пользоваться планшетом для удобства письма, но нельзя использовать дополнительную учебную литературу, энциклопедии, справочники, тетради и другие посторонние материалы. Пожалуйста, сядьте так, чтобы между вами и другими экзаменующимися было по крайней мере одно свободное место.
Спасибо! Желаем успеха!
Раздел I. Верны или неверны приведенные ниже высказывания?
1. Синь Ван Меер слишком много читает. Да или нет?
2. Гарет Ван Меер – привлекательный, харизматичный человек, увлеченный красивыми и зачастую довольно вычурными идеями. Эти идеи, будучи воплощенными в реальность, могут иметь далекоидущие и весьма неприятные последствия. Да или нет?
3. Синь Ван Меер была слепа, но ее нельзя за это винить, потому что все мы слепы в том, что касается лично нас и наших близких. Точно так же, глядя невооруженным глазом на солнце, трудно разглядеть на нем пятна, солнечные вспышки и протуберанцы. Да или нет?
4. Июньские букашки – неисправимые романтики, способные явиться на деловую встречу с испачканными помадой зубами и растерпанными, словно бизнесмен, застрявший в пробке в час пик. Да или нет?
5. Андрео Вердуга был садовником и любителем ядреного одеколона, не больше и не меньше. Да или нет?
6. Смок Харви убивал тюленей дубинкой. Да или нет?
7. Гарет Ван Меер и Ханна Шнайдер подчеркнули одно и то же предложение в своих экземплярах книги «Черный дрозд поет ночью. Биография Чарльза Майлза Мэнсона», на стр. 481: «Мэнсон умел слушать, как никто; он словно впивался глазами в твое лицо». Синь Ван Меер напрасно придала этому такое значение. На самом деле это всего только значит, что их обоих интересовало поведение психически ненормальных людей. Да или нет?
8. «Ночные дозорные» существуют до сих пор – как минимум в головах специалистов по теории заговоров, неомарксистов, блогеров с воспаленными глазами и ярых фанатов Че Гевары, а также всех индивидуумов, независимо от национальности и вероисповедания, кому нравится думать, что в мире, хотя бы в самых крошечных масштабах, возможна если и не сама по себе справедливость (среди людей справедливость ведет себя примерно так же, как шабазит в соляной кислоте: медленно разлагается, иногда образуя осадок в виде слизи), то, по крайней мере, можно чуть-чуть выровнять небольшой кусочек вселенского футбольного поля (где в настоящее время отсутствует рефери). Да или нет?
9. На полицейской фотографии Джорджа Грейси несомненно изображен Ром-баба; Синь определила это по глазам, похожим на две маслины в тарелке с хумусом[514]. Ошибки тут быть не может, и не важно, что в остальном снимок нечеткий и значительная часть лица заслонена волосяным покровом, плотностью не меньше, чем плотность нейтрона (1018 кг/м³). Да или нет?
10. Как верно заметила Тра в разговоре со своей сестрой Тру, фильмы, которые Ханна показывала ученикам на уроках, всегда оказывались не теми, которые были перечислены в учебной программе. В сюжете каждого из них непременно присутствовали темы бунта или восстания. Это отражает своеобразные политические пристрастия Ханны. Да или нет?
11. Ханна Шнайдер с помощью других «Ночных дозорных» убила человека (притом довольно неаккуратно). Гарет Ван Меер был этим крайне недоволен. Его вполне устраивала роль Сократа (подходившая ему идеально, словно костюм от хорошего портного) – разъезжать по стране, вести беседы с новобращенными о теории целеустремленности и других увлекательных концепциях, которые подробно изложены в различных номерах «Федерального форума», в том числе «Viva Las Violence[515]. Прегрешения империи Элвиса». При всем том Гарет предпочитал оставаться теоретиком, а не активным деятелем – Троцким, а не Сталиным. Если помните, этот человек терпеть не мог любых контактных видов спорта. Да или нет?
12. По всей вероятности (хоть это и предположение, основанное всего лишь на давней фотографии), Наташа Ван Меер покончила с собой после того, как узнала, что ее лучшая подруга завела шуры-муры с ее мужем – человеком, больше всего на свете обожающим звук собственного голоса. Да или нет?
13. В это трудно поверить, но жизнь одновременно и смешна, и печальна. Да или нет?
14. Чтение огромного количества справочной литературы чрезвычайно полезно для вашего душевного здоровья. Да или нет?
Раздел II. Выберите правильный вариант ответа.
1. Ханна Шнайдер – это:
А. Сирота, выросшая в детском доме «Горизонт» в Нью-Джерси (детей там заставляли носить форменную одежду с эмблемой в виде золотого пегаса на кармашке пиджака; издали пегаса легко принять за льва). Девочка не отличалась привлекательностью. Прочтя книгу Ариэль Суафф «Освобожденная женщина» (1962), где целая глава была посвящена Кэтрин Бейкер, она захотела тоже совершить нечто грандиозное в своей жизни и, уже повзрослев, однажды в тоскливую минуту намекнула Синь, будто она и есть бесстрашная революционерка, «женщина-граната» (стр. 313). На самом же деле все шло к тому, что сбудется ее главный страх – о ней забудут, как о других без вести пропавших. Так бы и случилось, если бы Синь о ней не написала. Дом, где жила Ханна, сейчас занимает двадцать второе место в списке самых популярных адресов риелторского агентства «Шервиг».
Б. Кэтрин Бейкер – в равной мере преступница, легенда и мотылек.
В. Одна из тех женщин, что напоминают постройки забытых цивилизаций: плохо освещенные, но поражающие великолепной архитектурой; много просторных комнат и даже целый пиршественный зал; никогда не будут найдены.
Г. Понемножку всего вышеперечисленного.
2. Истинная причина смерти мисс Шнайдер:
А. Самоубийство. Однажды в сентиментальную минуту (а такие у нее случались часто), слишком долго протанцевав с бокалом вина, Ханна переспала с Чарльзом. Этот неосторожный поступок постепенно разъедал ее изнутри, заставляя выдумывать неправдоподобные истории, обкорнать себе волосы и в конце концов свести счеты с жизнью.
Б. Убийство, совершенное одним из «Ночных дозорных» (по-португальски Nunca Dormindo). Как говорили Гарет (Сократ) и Серво (Нерон, он же Грейси) во время своего бурного спора в Париже, Ханна представляла риск для всей организации. Ада Харви слишком глубоко копала и собиралась обратиться в ФБР, а это уже была реальная угроза свободе Грейси и всему движению против капиталистической алчности. Грейси принял непростое решение: Ханну необходимо ликвидировать. Синь утверждает, что слышала неизвестного человека ночью в лесу; для нее это так же несомненно, как то, что свиноносая летучая мышь – самое маленькое млекопитающее на земле (длина тела всего 1,3 дюйма). Этим человеком был опытный боевик организации, Андрео Вердуга в маскировочном костюме «ШелестТМ» (мечта охотника).
В. Убийство, совершенное бандитом по кличке Неряха Эд из шайки «Зловещая троица». Преступник до сих пор не пойман.
Г. Мы никогда не узнаем с уверенностью – бывают в жизни такие случаи (см. главу «Черная Орхидея»[516] в кн. «Убитые», Уинн, 1988).
3. Джейд Черчилль Уайтстоун…
А. Врунья.
Б. Очаровательная.
В. Раздражает, как камешек в ботинке.
Г. Обычный подросток, не умеющий за воздухом разглядеть небо.
4. Предаваться страстным ласкам с Мильтоном Блэком – все равно что…
А. Целоваться с осьминогом.
Б. Позволить, чтобы на тебя сел Octopus vulgaris[517].
В. Нырнуть с разбегу в огромную миску желе.
Г. Валяться на матрасе, набитом лобными долями головного мозга.
5. Зак Содерберг…
А. Это сэндвич с арахисовым маслом, с которого аккуратно срезана корочка.
Б. Занимался «львиным сексом» в номере 222 мотеля «Династия», после чего сразу же задрых.
В. До сих пор не может усвоить самые элементарные понятия общей теории относительности Эйнштейна, несмотря на все объяснения Синь Ван Меер с примерами и рисунками, а их за лето накопилось огромное количество, пока эти двое разъезжали по всей Америке в голубом «вольво». Сейчас он старается вызубрить число «пи» до шестьдесят пятого знака после запятой.
Г. Дельфийский оракул.
6. Гарет Ван Меер бросил свою дочь, потому что…
А. Ему надоели ее вечные истерики и паранойя.
Б. Как выразилась Джесси Роуз Рубимен, «он свинья».
В. Он наконец собрался с духом осуществить свою давнюю мечту о бессмертии и поехал изображать Че Гевару в Демократической Республике Конго. Поездку он готовил заранее, сговорившись с поддельными преподавателями по всей стране. Именно поэтому после его исчезновения в доме обнаружилось огромное количество разбросанных повсюду африканских газет, в том числе «Ангола. Взгляд изнутри».
Г. Он не мог вынести мысли, что потеряет уважение Синь, ведь она всегда им восхищалась, даже когда узнала, что он в интеллектуальном плане безнадежно устарел, как Великая Октябрьская социалистическая революция 1917-го, что он подвержен мечтаниям, чаще всего с катастрофическими последствиями, что он показушный теоретик (причем почти никому не известный), что он бабник, чьи постоянные романы на стороне довели ее мать до самоубийства, и если не поостережется, закончит как Троцкий (пешня для колки льда, удар по голове), – даже после всего этого она не может им не восхищаться. И всякий раз, опаздывая на лекцию по теме «Американское правительство. Новая точка зрения» или проходя мимо парка, где деревья о чем-то таинственно шепчутся в вышине, Синь все-таки невольно мечтает – вдруг он сидит на скамейке в своем твидовом костюме и ждет ее.
7. Разработанная Синь и записанная на пятидесяти страницах общей тетради теория любви, секса, вины и убийства…
А. Правда 100 % – как бывает «Хлопок 100 %».
Б. Смешна и бредова.
В. Непрочная паутинная сеть, сплетенная пауком не в безопасном уголке под крышей, а прямо на виду, из конца в конец двора, такая неправдоподобно громоздкая, что в нее легко поместятся два стретч-лимузина «кадиллак-девиль».
Г. Всего лишь древесина, из которой Синь построила себе лодку, чтобы преодолеть опасный участок моря (см. гл. 9, «Сцилла и Харибда», в кн. «Одиссея», Гомер, эллинистический период).
Раздел III. Напишите развернутый ответ на заданную тему.
Многие научные работы и классические кинофильмы содержат попытки пролить хоть немного света на состояние американской культуры, на свойственную людям тайную грусть, поиски себя и великую загадку бытия. Используя конкретные примеры из этих источников, постройте свое рассуждения, исходя из следующей предпосылки: хотя подобные произведения полезны, приятны, а иногда забавны и даже утешительны – особенно если человек оказался в непривычной ситуации и ему требуется отвлечься, – все же они ни в коем случае не заменят собственного опыта. Как пишет Дэнни Яргуд в своих исключительно брутальных мемуарах 1977 г. «Изучение танцев среди италиянцев»: жизнь «бьет тебя раз за разом, даже лежачего, бьет по голове, так что ты уже ничего не видишь, и в живот, так что ты не можешь вдохнуть, и нос у тебя весь в крови, потому что тебя держали двое, а третий бил кулаком в лицо, и вот ты ползешь на четвереньках, и тебе хорошо. Тебе прекрасно. Потому что ты живой».
Не спешите. Как следует обдумайте свои ответы.
Благодарности
Моя глубокая благодарность Сьюзен Голомб и Кэрол Де Санти за их бесконечный энтузиазм, ценную критику и здравые советы. Большое спасибо Кейт Баркер и Джону Мозесу за отзывы на мои первые наброски (например, бесценное предложение заменить «высокие каблуки» на «шпильки»). Кэролайн Хорст, спасибо за то, что тщательно проставила все точки над «ё». Адам Вебер, спасибо за то, что ты самый прекрасный друг на свете. Спасибо моей семье – вам, Элке, Вов и Тони! И спасибо моему замечательному мужу Нику, моему Клайду, который великодушно терпел, что жена по десять – двенадцать часов подряд просиживает в темной комнате с компьютером. А самое большое спасибо – моей маме Анне. Эта книга не могла бы появиться без ее поддержки и невероятной душевной щедрости.
От переводчика
В книге много упоминаний вымышленных писателей и много цитат из вымышленных книг. Мы не будем все их отмечать отдельно, чтобы не лишать читателя возможности принять участие в придуманной автором игре. Также оставим без пояснения всем известных классиков, таких как Шекспир, Диккенс, Лев Толстой и другие. Заметим, что все книги в оглавлении существуют на самом деле, кроме одной – какой именно, станет ясно по ходу чтения.
При работе над переводом и примечаниями несколько раз оказался очень полезен сайт – хотелось бы сказать спасибо хозяйке сайта, проделавшей большую работу по исследованию приведенных в тексте цитат, в том числе воображаемых.
Сноски
1
…как Генри Хиггинс упорными изнурительными тренировками истребил у Элизы Дулитл простонародный акцент. – Генри Хиггинс, Элиза Дулитл – персонажи пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» (1913), а также известного мюзикла Ф. Лоу и А. Лернера «Моя прекрасная леди» по этой пьесе. По пьесе и мюзиклу в 1964 г. был снят фильм «Моя прекрасная леди» (My Fair Lady) с участием Одри Хепбёрн и Рекса Харрисона, режиссер Джордж Кьюкор. Фильм получил восемь «Оскаров».
(обратно)2
Джеймс Дин – Джеймс Байрон Дин (1931–1955) – американский актер, символ душевных терзаний и отчужденности среди молодежи. Особенно ярко эти настроения выражены в его самом известном фильме, «Бунтарь без причины» (Rebel Without a Cause, 1955). Трагическая смерть, легенды и мифы вокруг его жизни придали ему культовый статус. Посмертно стал лауреатом премии «Золотой глобус» (1956). Дважды номинировался на «Оскар» (1956, 1957), оба раза посмертно.
(обратно)3
«Камушек-лапушка» (Pet Rock) – гениальное изобретение маркетолога Гэри Даля из Лос-Гатоса, Калифорния (1975). Даль начал продавать камни как домашних животных (в комплекте с домиком, инструкцией по уходу и т. п.) и, хотя мода на них продержалась всего полгода, успел стать миллионером.
(обратно)4
Одри Хепбёрн (Одри Кэтлин Растон, 1929–1993) – британская актриса, фотомодель и гуманитарный деятель. Получила премию «Оскар» в 1954 г. за лучшую женскую роль в фильме «Римские каникулы» (1953), номинировалась за фильмы «Сабрина» (1954), «История монахини» (1959), «Завтрак у Тиффани» (1961) и «Дождись темноты» (1967), а также получила премию BAFTA (Британской академии кино и телевизионных искусств, The British Academy of Film and Television Arts) за фильмы «История монахини» (1959) и «Шарада» (1963).
(обратно)5
…под конец «Завтрака у Тиффани»… – «Завтрак у Тиффани» (Breakfast at Tiffany’s, 1961) – американский комедийный кинофильм, снятый режиссером Блэйком Эдвардсом с участием Одри Хепбёрн и Джорджа Пеппарда. Экранизация одноименного романа Трумена Капоте. Роль Холли Голайтли, наивной и эксцентричной девушки, ищущей богатого кавалера, стала, по признанию самой Хепбёрн, самой яркой ролью в ее карьере и одной из самых сложных, так как актрисе-интроверту пришлось играть эксцентричного экстраверта. Исполненная ею в фильме песня «Moon River» принесла композитору Генри Манчини и автору текста Джонни Мерсеру премию «Оскар» в 1962 г. В фильме также исполнил самую заметную роль на пике своей карьеры актер Джордж Пеппард.
(обратно)6
Обсуждали смерть Гертруды Стайн. – Гертруда Стайн (1874–1946) – американская писательница, теоретик литературы, первопроходец литературы модерна. Алиса Бабетт Токлас (1877–1967) – американская писательница, многолетняя возлюбленная Гертруды Стайн. Приведенный преподавателем разговор описан в воспоминаниях Алисы Токлас (What Is Remembered; 1963).
(обратно)7
…быть в целом похожей скорее на Кэтрин Хепбёрн, а не на капитана Квига, на Сандру Ди, а не на Скруджа. – Кэтрин Хотон Хепбёрн (1907–2003) – американская актриса, выдвигавшаяся на премию «Оскар» двенадцать раз и удостоенная этой премии четырежды – больше, чем любой другой актер или актриса в истории; была признана Американским институтом кино величайшей актрисой в истории Голливуда. Капитан Квиг – персонаж романа «Бунт на „Кайне“» Германа Вука (The Caine Mutiny, 1951; удостоен Пулицеровской премии). Действие романа происходит во время Второй мировой войны на Тихом океане. В 1954 г. по роману был снят фильм с тем же названием, режиссер Эдвард Дмитрык, продюсер Стэнли Крамер, в ролях Хамфри Богарт и другие выдающиеся актеры. Семь номинаций на премию «Оскар», в том числе как лучшему фильму года. Сандра Ди (Александра Зак, 1942–2005) – американская актриса и фотомодель, более всего известная своими ролями в амплуа инженю. Эбенезер Скрудж – персонаж повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе», классический образ старого черствого скряги.
(обратно)8
Чарльз Куролт (1934–1997) – американский журналист и телеведущий. Долгое время вел передачу «В дороге» (On the Road).
(обратно)9
Нарния – волшебная страна из цикла книг Клайва Стейплза Льюиса (1898–1963).
(обратно)10
«Начало и конец» – см. Откровение Иоанна Богослова, 22: 13.
(обратно)11
Ривербенд – тюрьма особого режима в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Действует с 1989 г. Здесь содержится большинство осужденных на смерть преступников-мужчин в США.
(обратно)12
«Дестри снова в седле» (Destry Rides Again, 1939) – художественный фильм Джорджа Маршалла в жанре вестерн. В главных ролях – Марлен Дитрих и Джеймс Стюарт. Персонаж фильма Дестри – исключительно честный шериф, который никогда не носит с собой оружие, хотя прекрасно стреляет.
(обратно)13
…Скотт Фицджеральд выбрал бы его из всех одноклассников на выпускной фотографии и описал напоенными солнцем словами вроде «патрицианский» и «всеодобряющая улыбка». – Аллюзия к: «На его лице появилась понимающая улыбка – более чем понимающая. Это была одна из тех редких всеодобряющих улыбок, которые вам суждено увидеть за всю жизнь не более четырех-пяти раз» (Ф. С. Фицджеральд. Великий Гэтсби. Перевод С. Таска).
(обратно)14
«Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои – роком ведомый беглец…» – Вергилий. Энеида. Перевод С. С. Ошерова под ред. Ф. А. Петровского.
(обратно)15
…актеров «Крысиной стаи»… – «Крысиная стая» – группа актеров и деятелей шоу-бизнеса, центром которой был Хамфри Богарт. Среди них были Нат Кинг Коул, Эррол Флинн, Микки Руни, Кэтрин Хепбёрн, Кэри Грант, Спенсер Трэйси, Фрэнк Синатра и другие. Жена Богарта, Лорен Бэколл, получила почетный титул «хозяйка норы».
(обратно)16
…«связав свой долг, судьбу, красу и ум / С бродячим иноземцем, колесящим / То здесь, то там»… – Шекспир. Отелло. Действие I, сцена 1. Здесь и далее перевод М. Лозинского.
(обратно)17
…о разных случаях в морях и в поле… – «…О страшных случаях в морях и в поле…» – «Отелло». Действие I, сцена 3.
(обратно)18
Лига плюща – ассоциация восьми частных университетов северо-востока США, самых престижных в стране.
(обратно)19
«Когда на суд безмолвных, тайных дум я вызываю голоса былого…» – Шекспир. Сонет 30. Перевод С. Маршака.
(обратно)20
…разноцветных человечков из «Шоколадной фабрики». – Имеется в виду книга Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» (1964). По ней были сняты фильмы в 1971 и 2005 гг.
(обратно)21
«Дневники мотоциклиста» – документальная книга-дневник о путешествиях молодого Эрнесто Че Гевары и его друга Альберто Гранадо по Южной Америке в 1952 г. В 2004 г. по книге был снят фильм (The Motorcycle Diaries; испанское название: Diarios de motocicleta).
(обратно)22
«В дороге». – Роман Джека Керуака «В дороге», наравне с «Голым завтраком» Уильяма Берроуза и «Воплем» Аллена Гинзберга относится к числу ключевых произведений литературы бит-поколения.
(обратно)23
«…выучи наизусть „Бесплодную землю“». – «Бесплодная земля» – поэма Т. С. Элиота. Томас Стернз Элиот (более известный под сокращенным именем Т. С. Элиот, 1888–1965) – американо-английский поэт, драматург и литературный критик, один из крупнейших поэтов двадцатого века.
(обратно)24
…«А. Э. Хаусман. Стихи на обрыве Уэнлок-Эдж»… – Альфред Эдвард Хаусман (1859–1936) – один из самых популярных поэтов-эдвардианцев. «Стихи на обрыве Уэнлок-Эдж», «Когда мне был двадцать один» и «На смерть молодого атлета» – стихотворения из сборника «Шропширский парень» (1896), получившего широкую известность в годы Первой мировой войны. Строки из стихотворения приведены в переводе С. Маршака.
(обратно)25
«В поисках Годо…» – аллюзия на пьесу «В ожидании Годо». «В ожидании Годо» (фр. En attendant Godot, англ. Waiting for Godot; 1948–1949) – самая известная пьеса ирландского писателя, поэта и драматурга Сэмюэля Баркли Беккета (1906–1989), наряду с Эженом Ионеско основоположника театра абсурда, лаурета Нобелевской премии по литературе 1969 г. Пьесу «В ожидании Годо» Беккет написал на французском языке, а затем перевел ее на английский. Она признана самым влиятельным англоязычным драматургическим произведением XX века.
(обратно)26
…наблюдателем в дикой природе, подобно Джейн Гудолл… – Дама Джейн Моррис Гудолл (р. 1934) – посол мира ООН, приматолог, этолог и антрополог из Великобритании. Дама-командор ордена Британской империи. Более 45 лет изучала социальную жизнь шимпанзе в Национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании. Основательница международного Института Джейн Гудолл.
(обратно)27
Марта Джейн Каннари Берк, более известная как Бедовая Джейн (Calamity Jane, 1852/1856–1903), – американская жительница фронтира на Диком Западе, профессиональный скаут, более всего известная своими притязаниями на знакомство и даже супружество с Диким Биллом Хикоком, а также участием в Индейских войнах с коренными жителями континента. По многочисленным воспоминаниям, она была также женщиной, выказывавшей большую доброту и сострадание, особенно к больным и нуждающимся. Этот контраст сделал ее одной из самых знаменитых и вместе с тем печально известных фигур в истории Дикого Запада.
(обратно)28
«Что случилось с малышкой Джейн?» (What Ever Happened to Baby Jane?, 1962) – американский фильм, психологический триллер. Режиссер Роберт Олдрич, в главных ролях Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд.
(обратно)29
Вера Джейн Мэнсфилд (1933–1967) – американская киноактриса, добившаяся успеха как на Бродвее, так и в Голливуде. Неоднократно появлялась на страницах журнала Playboy, наряду с Мэрилин Монро была одним из секс-символов 1950-х гг.
(обратно)30
…не Простушка Джейн, не Бедовая Джейн, не «Что случилось с малышкой Джейн?» и, уж конечно, не Джейн Мэнсфилд. – «Простушка Джейн» (Plain Jane) – американское реалити-шоу, в котором участницам помогают преобразить свой облик.
(обратно)31
Шесть футов три дюйма – приблизительно 190 см (1 фут = 30,5 см; 1 дюйм = 2,54 см).
(обратно)32
Пять футов три дюйма – приблизительно 160 см.
(обратно)33
Пиньята – мексиканская по происхождению полая игрушка довольно крупных размеров из папье-маше или легкой оберточной бумаги с орнаментом и украшениями. По форме воспроизводит фигуры животных (обычно лошадей) или геометрические фигуры, которые наполняются различными угощениями или сюрпризами для детей (конфеты, хлопушки, игрушки, конфетти, орехи и т. п.).
(обратно)34
…около «Кей-марта». – «Кей-март» (Kmart, иногда пишется как K mart или kmart) – крупная сеть недорогих универмагов в США.
(обратно)35
Бутч Кэсиди и Сандэнс Кид – легендарные бандиты Дикого Запада и персонажи известного фильма (настоящие имена Роберт Лерой Паркер и Гарри Лонгебо).
(обратно)36
Фред Астер (1899–1987) и Джинджер Роджерс (1911–1995) – известнейший американский танцевальный дуэт.
(обратно)37
Английский поэт Перси Биши Шелли (1792–1822) и его жена Мэри Шелли (1797–1851), автор книги «Франкенштейн, или Современный Прометей».
(обратно)38
…Джордж и Марта, Бутч и Сандэнс, Фред и Джинджер, Мэри и Перси Биши. – Первый президент США Джордж Вашингтон и его жена Марта. Также «Джордж и Марта» (George and Martha, 1999) – детский мультсериал про двух бегемотиков.
(обратно)39
«Мистер Смит едет в Вашингтон» (Mr. Smith Goes to Washington, 1939) – кинофильм режиссера Фрэнка Капры. Трагикомедия о влиянии отдельного человека на политику Соединенных Штатов.
(обратно)40
…«На север через северо-запад» или «Мистер Смит едет в Вашингтон». – «На север через северо-запад» (North by Northwest, 1959) – приключенческо-шпионский триллер, режиссер Альфред Хичкок. В главных ролях: Кэри Грант, Эва Мари Сейнт и Джеймс Мейсон.
(обратно)41
…Марлона Брандо в роли Вито Корлеоне. – Имеется в виду известнейший фильм режиссера Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» (The Godfather, 1972). Марлон Брандо (1924–2004) – американский актер кино и телевидения, кинорежиссер и политический активист. Некоторые современные киноведы считают его одним из величайших актеров в истории.
(обратно)42
Grazie – спасибо (ит.).
(обратно)43
Prego – пожалуйста (ит.).
(обратно)44
…«Думаешь, если бы Паттон жил здесь, он бы выбросил полотенце на ринг?»… – Кейси Паттон (р. 1974) – отставной канадский боксер, пятикратный чемпион Канады, выступал в весе пера (меньше 57 кг) на летней Олимпиаде 1996 г. в г. Атланта, Джорджия. Завоевал золотую медаль на чемпионате Содружества в г. Виктория, Британская Колумбия, в 1994 г. и титул «Лучший канадский боксер-любитель» 1994 г. В 2008 г. включен в Зал Славы спорта в г. Лондон, Онтарио.
(обратно)45
Меллорс – персонаж романа Д. Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерли» (1928).
(обратно)46
Нелли, я Хитклиф! – Хитклиф и Нелли – персонажи романа Э. Бронте «Грозовой перевал» (1847).
(обратно)47
…вряд ли я осилила бы и Сирано изобразить – настрочить стихи на карточке, подписавшись чужим именем… – Сирано – главный герой романтической драмы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» (1897). Намек на сцену, когда Сирано подсказывает своему сопернику слова признания в любви.
(обратно)48
…О’Коннор, «Полное собрание рассказов»… – Фланнери О’Коннор (1925–1964) – американская писательница, написала два романа и тридцать рассказов, вошла в американскую литературу как один из наиболее ярких и глубоких мастеров южной готики. Полное собрание ее рассказов было составлено и опубликовано посмертно.
(обратно)49
¡Buenas Noches! ¡Qué sorpresa! – Добрый вечер! Какой сюрприз! (исп.)
(обратно)50
…бродить по «Уол-Марту»… – «Уол-Март» (Wal-Mart Stores, Inc) – американская компания-ритейлер, управляющая крупнейшей в мире розничной сетью, действующей под торговой маркой Walmart.
(обратно)51
…«ЛЮБОВЬ ЗАГОВОРИТ ТЧК И НЕБЕСА ТЧК БАЮКАЕТ СОГЛАСНЫЙ ХОР БОГОВ ТЧК». – Искаженная цитата из комедии Шекспира «Бесплодные усилия любви», действие IV, сцена 3, перевод Ю. Корнеева.
(обратно)52
«Дин-дон, злой ведьмы больше нет!» – песня из фильма «Волшебник страны Оз» (The Wizard of Oz, 1939); в главной роли Джуди Гарленд.
(обратно)53
…изображать Леонарда Бернстайна… – Леонард Бернстайн (1918–1990) – выдающийся американский композитор, пианист и дирижер.
(обратно)54
Индонезия и Огненное кольцо – Огненный пояс Земли, или Тихоокеанское вулканическое кольцо, – самая активная вулканическая зона Земли. Тихоокеанское ложе окаймляют более 300 активных вулканов, или 75 % всех действующих вулканов в мире. Вулканы протянулись цепью в 40 тысяч км по краям океана, образуя грандиозное кольцо диаметром около 10 тысяч км. Цепь вулканов проходит через Камчатку, Курильские, Японские, Филиппинские острова, Восточную Индонезию и Новую Зеландию, далее через Антарктиду по Южной и Северной Америке и замыкается на Аляске и Алеутских островах.
(обратно)55
…словно Джин Питерс, раздумывающая, стоит ли бросить монетку в фонтан Треви и загадать желание. – Имеется в виду американский фильм «Три монетки в фонтане» (Three Coins in the Fountain, 1954). Одну из главных ролей в нем исполнила Джин Питерс (1926–2000) – американская киноактриса, звезда студии 20th Century Fox конца 1940–1950-х гг.
(обратно)56
…и прочие излишества в духе тетушки Мэйм… – «Тетушка Мэйм» (1955) – роман Патрика Денниса о невероятных приключениях мальчика, после смерти отца оказавшегося под опекой эксцентричной тетушки. Прообразом тетушки стала родная тетя Денниса, Марион Таннер. По роману была поставлена пьеса, а также мюзикл, сняты фильм и музыкальный фильм.
(обратно)57
Фредерик Лоу (Фриц Лёве, 1901–1988) – американский композитор австро-немецкого происхождения. Созданный им совместно с А. Лернером мюзикл «Моя прекрасная леди» (1956) вошел в сокровищницу мировой музыкальной культуры.
(обратно)58
Алан Джей Лернер (1918–1986) – американский либреттист и автор текстов к песням. Работал с Фредериком Лоу, а позднее – с Бертоном Лейном. Среди прочих наград трижды удостоен премии «Тони» (Antoinette Perry Award for Excellence in Theatre) и трижды – «Оскара».
(обратно)59
Бетти Комден (1917–2006) и Адольф Грин (1914–2002) за 60 лет совместной работы создали множество песен и сценариев популярных музыкальных фильмов.
(обратно)60
…все равно что разодрать на клочки старые американские мюзиклы: разлучить Роджерса с Хаммерстайном, Лоу с Лернером, Комден с Грином. – Композитор Ричард Роджерс (1902–1979) и автор текстов к песням Оскар Хаммерстайн II (1895–1960) составляли знаменитый авторский тандем 1940–1950-х гг., специализировавшийся в жанре мюзикла. Это партнерство считается наиболее успешным в истории Бродвейского музыкального театра. Среди написанных ими совместно бродвейских мюзиклов пять таких знаменитых, знаковых, как «Оклахома!» (1943) (их первая совместная работа в новом для того времени жанре музыкальной пьесы), «Карусель» (1945), «Юг Тихого океана» (1949), «Король и я» (1951) и «Звуки музыки» (1959), оказавших огромное влияние на музыкальный театр того времени.
(обратно)61
Гарри Лиллис «Бинг» Кросби (1903–1977) – американский певец и актер, один из самых успешных исполнителей в США. Создатель и мастер эстрадно-джазовой крунерской манеры пения. Исполнитель многих известных песен в стиле свинг и диксиленд.
(обратно)62
…«Генри Киссинджер: человек и власть» (Джонс, 1982) или даже «Доктор Ритм. Жизнь Бинга Кросби»… – Обе книги, по всей вероятности, вымышлены. Генри Альфред Киссинджер (Хайнц Альфред Киссингер, р. 1923) – американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. Советник по национальной безопасности США в 1969–1975 гг. и государственный секретарь США с 1973 по 1977 г. Лауреат Нобелевской премии мира (1973).
(обратно)63
…«Портреты замечательных людей», М. Горький, 1978… – Англоязычный перевод книги М. Горького «Портреты замечательных людей» (1936).
(обратно)64
Мемориал Неистового Коня – высеченная в скале скульптура индейского вождя по имени Неистовый Конь, строится с 1948 г.
(обратно)65
…как Кубла-хан в волшебной стране Ксанад? – «Кубла-хан, или Видение во сне» – поэма Сэмюэля Тейлора Кольриджа, так и не оконченная, начата в 1797 г. Ксанаду (в переводе Бальмонта – Ксанад) – страна, где жил Кубла-хан, и в то же время поместье Чарльза Фостера Кейна из знаменитого фильма Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» (1941).
(обратно)66
…в стиле «Гражданина Кейна». – «Гражданин Кейн» (Citizen Kane, 1941) – первый полнометражный фильм 25-летнего Орсона Уэллса, который сыграл в нем главную роль. Финансировала съемки кинокомпания «РКО Радио Пикчерс» (RKO Radio Pictures). На протяжении нескольких десятилетий регулярно побеждал в масштабных опросах кинопрофессионалов как «лучший фильм всех времен и народов». Фильм рассказывает историю жизни медиамагната Чарльза Фостера Кейна, прототипом которого послужил Уильям Рэндольф Херст.
(обратно)67
Дик Ван Дайк – Ричард Уэйн «Дик» Ван Дайк (р. 1925) – американский актер, комик, сценарист и продюсер. Первого успеха добился в 1960 г. на Бродвее, когда за роль в мюзикле «Пока, пташка» был удостоен премии «Тони». Спустя три года мюзикл был экранизирован, где Ван Дайк также сыграл свою роль. В 1964 г. исполнил роль Берта в киноверсии мюзикла «Мэри Поппинс», за что был номинирован на «Золотой глобус». С 1961 по 1966 г. Дик Ван Дайк был ведущим собственного телешоу на канале CBS, которое принесло ему три премии «Эмми». В 1979 г. вместе с актрисой Кэтлин Куинлан сыграл главные роли в последнем фильме Стенли Крамера, драме «И спотыкается бегущий». В 1990-е гг. актер был исполнителем роли доктора Марка Слоана в детективном телесериале «Диагноз: убийство».
(обратно)68
Бланш Дюбуа – персонаж пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай „Желание“» (1947).
(обратно)69
…тонкое наблюдение, что джентльмены предпочитают блондинок… – «Джентльмены предпочитают блондинок» (Gentlemen Prefer Blondes, 1953) – известный фильм с участием Мэрилин Монро.
(обратно)70
«В прекрасном – правда, в правде – красота; / Вот все, что нужно помнить на земле». – Строки из стихотворения Джона Китса (1795–1821) «Ода греческой вазе», перевод Г. Кружкова.
(обратно)71
«Шато-Мармон» – отель в Лос-Анджелесе, на бульваре Сансет. Построен в 1929 г. по образцу Шато д’Амбуаз – королевской резиденции во Франции, в долине реки Луары. Сейсмоусточивый по конструкции, отель пережил крупные землетрясения в 1933, 1953, 1971, 1987 и 1994 гг., а в 1940-е служил окрестным жителям бомбоубежищем. В помещениях отеля снимались эпизоды множества фильмов.
(обратно)72
РКО (Radio-Keith-Orpheum Pictures) – последняя по времени основания и наименьшая по оборотам из пяти студий-мейджоров классического Голливуда.
(обратно)73
«Иезавель» (Jezebel, 1938) – романтическая драма. В главных ролях – Бетт Дэвис и Генри Фонда. Действие фильма происходит на американском Юге до Гражданской войны.
(обратно)74
«У Сиро» – ночной клуб в Голливуде, на бульваре Сансет, открылся в 1940 г. и существовал до 1957 г. Завсегдатаями здесь были кинознаменитости, в том числе Мэрилин Монро, Хамфри Богарт и Лорен Бэколл, Фрэнк Синатра, Ава Гарднер, Сидни Пуатье, Анита Экберг, Джоан Кроуфорд, Бетти Грейбл, Марлен Дитрих, Джинджер Роджерс, Рональд Рейган, Дин Мартин, Микки Руни, Кэри Грант, Джуди Гарленд, Лана Тернер и другие. Здесь ужинал будущий президент США Джон Ф. Кеннеди.
(обратно)75
…«Другие голоса, тридцать две комнаты. Как я работала горничной у Л. Б. Майера»… – Луис Барт Майер (Лазарь Меир, 1884–1957) – один из первых кинопродюсеров, известный как руководитель и один из основателей голливудской киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» (MGM) и американской Академии кинематографических искусств и наук, ежегодно присуждающей главную кинопремию «Оскар», также предложенную им. В названии книги – аллюзия к роману «Другие голоса, другие комнаты» (1948), первой опубликованной книге Трумена Капоте, в стиле южной готики с автобиографическими элементами.
(обратно)76
Говард Хьюз (Говард Робард Хьюз-младший, 1905–1976) – американский предприниматель, инженер, авиатор, режиссер, продюсер. В конце 1960-х гг. Хьюз считался обладателем первого или второго (после Пола Гетти) состояния в США. Режиссер и независимый продюсер известных фильмов «Ангелы ада», «Лицо со шрамом», «Вне закона» и других. С 1947 по 1954 г. владелец компании RKO Pictures.
(обратно)77
…надо было сразу вызывать тех милых заботливых людей, что появляются в финальной сцене «Трамвая „Желание“»? – Героиню пьесы Теннесси Уильямса (Streetcar Named Desire, 1947) в финале увозят в сумасшедший дом.
(обратно)78
…в духе Сильвии Платт. – Сильвия Платт (1932–1963) – американская поэтесса и писательница, считающаяся одной из основательниц жанра исповедальной поэзии в англоязычной литературе. В 1982 г. за книгу Collected Poems («Собрание стихотворений») Платт получила посмертно Пулицеровскую премию. Большую часть взрослой жизни Сильвия Платт страдала от клинической депрессии и в конце концов покончила с собой. Ее имя стало синонимом депрессии и самоубийства.
(обратно)79
…погибшего зонда «Галилей». – Зонд «Галилей» – космический зонд, отправленный к Юпитеру в октябре 1989 г. На орбиту вокруг Юпитера «Галилей» вышел в 1995 г. Когда зонд износился и в нем почти закончилось горючее, было принято решение уничтожить его, направив прямо на Юпитер, чтобы избежать возможного заражения спутников Юпитера земными микроорганизмами. Столкновение произошло в 2003 г.
(обратно)80
Nächtlich – ночной (нем.).
(обратно)81
…постаревший Роберт Митчем… – Роберт Чарльз Дэрмен Митчем (1917–1997) – американский актер, сценарист и продюсер, а также кантри-музыкант. Лауреат премии «Золотой глобус» за вклад в киноискусство (1992). Снимался в фильмах-нуар (например, «Из прошлого»), играл в основном отрицательных персонажей.
(обратно)82
…словно собрался форсировать реку Делавэр в рождественскую ночь. – Во время Войны за независимость США Джордж Вашингтон с отрядом численностью около 2400–2500 человек в рождественскую ночь с 25 на 26 декабря 1776 г. переправился через реку Делавэр. После этого отряд направился к Трентону и атаковал позиции гессенских солдат, застав их врасплох и одержав уверенную победу. Затем отряд еще раз пересек реку, вместе с пленными и захваченными боеприпасами. В третий раз Вашингтон пересек реку в конце года при еще более неблагоприятных погодных условиях и вслед за тем, 2 и 3 января 1777 г., разбил британские войска под командованием лорда Корнуоллиса под Трентоном и Принстоном. Этому событию посвящена огромная по размеру картина «Вашингтон пересекает Делавэр», написанная немецко-американским художником Эмануэлем Лойце (1816–1868) в 1851 г. Принадлежит музею Метрополитен в Нью-Йорке. В нью-йоркском Музее современного искусства находится картина 1953 г. на ту же тему художника Ларри Риверса.
(обратно)83
«Она идет во всей красе» – стихотворение Дж. Г. Байрона из цикла «Еврейские мелодии» (1815), перевод С. Маршака.
(обратно)84
Элизабет Беннет – персонаж романа Джейн Остен «Гордость и предубеждение» (1813).
(обратно)85
Грейс Келли – Грейс Патрисия Келли (1929–1982) – американская актриса, с 1956 г. – супруга князя Монако Ренье III, 10-я княгиня Монако, мать ныне правящего князя Альбера II.
(обратно)86
«Mein Kampf» – «Моя борьба» (нем.).
(обратно)87
…не то осада Аламо, не то битва при Литтл-Бигхорн. – Битва за Аламо (23 февраля – 6 марта 1836) – самая известная битва Техасской революции. После того как повстанческая армия техасских поселенцев и авантюристов, прибывших из Соединенных Штатов, выдворила все мексиканские войска из Мексиканского Техаса, президент Мексики Антонио Лопес де Санта-Анна возглавил вторжение, стремясь вернуть контроль над областью. 23 февраля мексиканские войска вошли в Бехар и осадили техасский гарнизон в миссии Аламо.
Ранним утром 6 марта мексиканская армия пошла на штурм Аламо. Техасцы (численность которых неизвестна) отразили две атаки, но не смогли отбить третью. Мексиканские солдаты вскоре установили контроль над Аламо. Пятеро или семеро техасцев сдались, но были незамедлительно казнены по приказу Санта-Анны. Большинство очевидцев события оценивают количество убитых техасцев от 182 до 257 человек, в то время как большинство историков оценивает мексиканские потери в 400–600 ранеными и убитыми. Из бойцов техасского гарнизона, участвовавших в битве, выжили только двое. Мексиканцы сохранили жизнь чернокожему рабу Джо и дезертиру мексиканской армии Бригидо Герреро, сумевшему убедить солдат, что он находился в заключении. Женщины и дети, прежде всего члены семей техасских солдат, были допрошены Санта-Анной и затем отпущены.
По приказу Санта-Анны трое из выживших были посланы в Гонсалес, чтобы донести известие о разгроме техасцев. После получения новости Сэм Хьюстон, командующий техасской армией, отдал приказ к отступлению.
Битва при Литтл-Бигхорн – сражение между индейским союзом лакота – северные шайенны и Седьмым кавалерийским полком армии США, произошедшее 25–26 июня 1876 г. у реки Литтл-Бигхорн, Монтана. Битва закончилась уничтожением пяти рот американского полка и гибелью его знаменитого командира Джорджа Кастера.
(обратно)88
…музыку из «Женитьбы Фигаро». – «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1786) – опера-буфф Моцарта на итальянском языке, написанная на либретто Лоренцо да Понте по одноименной пьесе Бомарше.
(обратно)89
«Бунтарь без причины» (Rebel Without a Cause, 1955) – американский художественный фильм Николаса Рэя (1955), молодежная драма. Главные роли исполняют Джеймс Дин, Сол Минео и Натали Вуд. Три номинации на премию «Оскар».
(обратно)90
«Копа-рум» – концертный зал в ныне не существующем отеле «Сэндс» в Лас-Вегасе (штат Невада). Здесь выступали многие известные представители шоу-бизнеса, в том числе участники «Крысиной стаи», Элла Фицджеральд, Джуди Гарленд, Нат Кинг Коул и другие. Свое название зал получил в честь знаменитого нью-йоркского клуба «Копакабана». В 1981 г. сеть отелей «Сэндс» открыла новый концертный зал под названием «Копа-рум» в Атлантик-сити, штат Нью-Джерси.
(обратно)91
Оскар Шейпли – персонаж фильма «Это случилось однажды ночью», пристает в автобусе к героине фильма. «Это случилось однажды ночью» (It Happened One Night, 1934) – романтическая комедия с Клодетт Колбер и Кларком Гейблом в главных ролях. В 1935 г. картина была удостоена пяти «Оскаров», в том числе была признана лучшим фильмом года. Фильм стал первым в истории, завоевавшим «Оскары» в пяти самых престижных номинациях, что позже удалось только двум фильмам: «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) и «Молчание ягнят» (1991).
(обратно)92
Строчки диалога из «Кошки на раскаленной крыше» (Теннесси Уильямс, 1955) расплывались у меня перед глазами. «Один из этих недоделанных уродов запустил в меня масляным бисквитом… У них нет шеи… Жирные головки налеплены на жирные тушки без малейшего промежутка». – Перевод Виталия Вульфа и Александра Дорошевича.
(обратно)93
…«Спокойной ночи, луна» (Маргарет Браун, 1947). – Детская книжка Маргарет Уайз Браун, иллюстратор Клемент Херд. Пользуется широкой популярностью для чтения перед сном. В книге крольчонок говорит «Спокойной ночи» всему, что его окружает: «Спокойной ночи, комната. Спокойной ночи, луна. Спокойной ночи, корова, которая прыгает через луну» и т. д.
(обратно)94
Эвита – Мария Эва Дуарте де Перон (1919–1952) – первая леди Аргентины, вторая жена 29-го и 41-го президента Хуана Перона. В молодости работала актрисой и моделью, участвовала в радиопостановках. Ее биографии посвящен мюзикл Э. Л. Уэббера и Тима Райса «Эвита» (1978).
(обратно)95
…показать всем, что остроумием я не уступаю Дороти Паркер, и организовать современный «Алгонкинский круглый стол». – Дороти Паркер (урожденная Ротшильд, 1893–1967), американская писательница и поэтесса, известная своим едким юмором и проницательностью в отношении пороков городской жизни XX века. «Алгонкинский круглый стол» – группа известных нью-йоркских писателей, критиков и актеров. Они в шутку называли себя «порочный круг». Группа собиралась за обедом в отеле «Алгонкин» каждый день с 1919-го примерно до 1929 г.
(обратно)96
«Голубая лагуна» (The Blue Lagoon) – фильмы 1949 и 1981 гг. по одноименному роману (1908) Генри де Вер Стэкпула. Двое детей, мальчик и девочка, оказываются на необитаемом острове, среди роскошной тропической природы, и, подрастая, влюбляются друг в друга.
(обратно)97
…в память Бенно Онезорга, застреленного берлинскими полицейскими во время студенческих волнений 1967 года. – Бенно Онезорг (1940–1967) – немецкий студент по специальностям «романистика» и «германистика». По политическим взглядам пацифист. Присутствовал в качестве зрителя на демонстрации против визита главы Ирана шаха Мохаммеда Реза Пехлеви в Западный Берлин и ФРГ. Во время разгона демонстрации был смертельно ранен выстрелом в затылок с близкого расстояния западноберлинским полицейским Карл-Хайнцем Куррасом. Санитары прибыли лишь через 15 минут. В больницу Онезорг был доставлен через час после ранения. Он умер в машине «скорой помощи». У убитого осталась беременная жена. Суд оправдал Карл-Хайнца Курраса «за недостаточностью улик». Убийство Онезорга стало одной из причин активизации немецкой молодежи, раскола немецкого общества и радикализации студенческого движения в стране.
(обратно)98
Шамбре – легкая хлопчатобумажная ткань, обычно синего или голубого цвета.
(обратно)99
…строгая весталка тишины… – Цитата из стихотворения Джона Китса «Ода к греческой вазе» (1819), перевод Г. Кружкова.
(обратно)100
…по основным темам «Человека-невидимки»… – «Человек-невидимка» (Invisible Man, 1953) – роман Ральфа Эллисона. Написан от лица безымянного афроамериканца, живущего в Нью-Йорке в 1940-е г.
(обратно)101
Калибан – неотесанный дикарь, персонаж комедии Шекспира «Буря».
(обратно)102
Une grande dame manqué – несостоявшаяся гранд-дама (фр.).
(обратно)103
«Les Faits Perdu» – «Утраченные факты» (фр.).
(обратно)104
Бостонское чаепитие (Boston Tea Party) – акция протеста американских колонистов 16 декабря 1773 г. в ответ на действия британского правительства, в результате которой в Бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший английской Ост-Индской компании. Это событие положило начало Американской революции.
(обратно)105
Liberté, égalité, fraternité – свобода, равенство, братство (фр.).
(обратно)106
«Большие надежды» (1860–1861) – роман Чарльза Диккенса.
(обратно)107
– Ты – Джейд? – спросила я с надеждой одну из девочек. / Гипотеза не совсем беспочвенная: у девочки… волосы были зеленые, как сушеный шпинат. – «Джейд» (jade) по-английски означает «нефрит».
(обратно)108
«В порту» (On the Waterfront, 1954) – классическая американская драма Элиа Казана о коррупции в профсоюзах портовых грузчиков. Главную роль исполняет Марлон Брандо. Картина завоевала восемь премий «Оскар» (1955), включая премию за лучший фильм года, четыре «Золотых глобуса» (1955), специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля (1954) и множество других наград.
(обратно)109
Лорен Бэколл (1924–2014) – американская актриса, признанная Американским институтом кино одной из величайших кинозвезд в истории Голливуда. Вдова Хамфри Богарта, «хозяйка норы» Крысиной стаи. Обладательница почетного «Оскара» (2009), двух «Золотых глобусов» и двух премий «Тони».
(обратно)110
Энн Райнкинг (р. 1949) – американская актриса, танцовщица и хореограф. В фильме «Энни» (1982) исполнила роль Грейс Фаррелл, секретарши миллиардера Уорбекса (в конце фильма он влюбляется в Грейс и удочеряет сиротку Энни).
(обратно)111
Шуберт Кёниг Бонхоффер (1862–1937) – вымышленный автор.
(обратно)112
…в клубе «Аист»… – Клуб «Аист» (Stork Club) – ночной клуб на Манхэттене в Нью-Йорке. В годы своего существования (1929–1965) был одним из самых престижных клубов в мире.
(обратно)113
«Эль Морокко» (также сокращенно «Элмо» и «Элмер») – популярный ночной клуб на Манхэттене в 1930–1950-х гг. Упоминается во многих кинофильмах, таких как «Сабрина», и литературных произведениях (например, в романах «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, «Тени в раю» Ремарка).
(обратно)114
Кристабель – героиня неоконченной поэмы С. Т. Кольриджа «Кристабель» (1797–1800), идеальная, любящая и послушная дочь.
(обратно)115
– Обожаю Дару и «Баунсинг Чекс»! – Певица и рок-группа вымышленные.
(обратно)116
…вокалист орал так, словно его топчут быки в Памплоне. – Во время фиесты в Памплоне перед корридой пускают по специально выделенным улицам города несколько быков – как правило, шесть. Желающие могут попытаться убежать от разъяренных быков. Этот обычай описан в романе Э. Хемингуэя «И восходит солнце». Бег быков почти каждый год сопровождается травмами, а иногда и человеческими жертвами.
(обратно)117
…не знакома лично с Фрэнком, Эрролом или Сэмми… – Фрэнк Синатра (Фрэнсис Альберт Синатра, 1915–1998) – американский певец, актер и шоумен, легенда не только музыкального мира, но и всей американской культуры в целом. Эррол Лесли Томсон Флинн (1909–1959) – голливудский актер австралийского происхождения, кинозвезда и секс-символ 1930-х и 1940-х гг., прославился в амплуа отважных героев и благородных разбойников. Сэмюел Джордж «Сэмми» Дэвис-младший (1925–1990) – американский эстрадный артист, киноактер и певец. Выступать на сцене начал уже в трехлетнем возрасте.
(обратно)118
Нина Симон (Юнис Кэтлин Уэймон, 1933–2003) – выдающаяся американская певица, пианистка, композитор, аранжировщица. Придерживалась джазовой традиции, однако использовала самый разный исполняемый материал, сочетала джаз, соул, поп-музыку, госпел и блюз, записывала песни с большим оркестром.
(обратно)119
Фугатий – легендарный епископ и святой II века, присланный папой римским проповедовать христианство в Британии.
(обратно)120
…Лана и Тернер… – Лана Тернер (Джулия Джин Милфред Фрэнсис Тернер, 1921–1995) – американская актриса, одна из самых чувственных звезд классического Голливуда.
(обратно)121
…блистательную Норму Десмонд… – Норма Десмонд – персонаж фильма-нуар «Бульвар Сансет» (Sunset Boulevard, 1950) в исполнении Глории Свенсон, стареющая звезда Голливуда.
(обратно)122
…пяти футов восьми дюймов росту… – 1 м 73 см.
(обратно)123
…пяти футов пяти дюймов… – 1 м 65 см.
(обратно)124
…«Джульетта», Дж. У. Уотерхаус, 1898… – «Джульетта» (1898) – картина английского художника-прерафаэлита Джона Уильяма Уотерхауса (1849–1917).
(обратно)125
«Пейтон-Плейс» (Peyton Place, 1957) – фильм на основе одноименного романа Грейс Металиус (1956) о сложных взаимоотношениях жителей маленького городка. Одну из главных ролей исполняет Лана Тернер. Позднее (1964–1969) по книге был снят телесериал с тем же названием. Он стал первой американской мыльной оперой, транслировавшейся в прайм-тайм.
(обратно)126
…Трейси Лорд в фильме «Филадельфийская история». – «Филадельфийская история» (The Philadelphia Story) – романтическая комедия, снятая американским режиссером Джорджем Кьюкором в 1940 г., в главных ролях Кэри Грант, Кэтрин Хепбёрн (исполняет роль Трейси Лорд) и Джеймс Стюарт. Фильм считается своеобразным эталоном жанра. Основой сценария послужила пьеса Филипа Бэрри «Филадельфийская история». Позже, в 1956-м, режиссер Чарльз Уолтерс снял второй вариант фильма, в жанре музыкальной комедии, с Грейс Келли, Фрэнком Синатрой, Бингом Кросби и Луи Армстронгом. Картина вышла под названием «Высшее общество».
(обратно)127
Басби Беркли (Уильям Энос, 1895–1976) – американский кинорежиссер и хореограф. Известен постановкой масштабных костюмированных танцевальных номеров с большим количеством участников и неожиданными перестроениями их по принципу калейдоскопа.
(обратно)128
…«Квини» [1985] Майкла Корды… – Майкл Корда (р. 1933) – писатель английского происхождения, какое-то время работал главным редактором издательства «Саймон и Шустер» в Нью-Йорке. Роман «Квини» основан на биографии его тети, актрисы Мерль Оберон. Позднее на основе романа был снят телевизионный мини-сериал.
(обратно)129
«Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» (They Shoot Horses, Don’t They?) – вышедшая на экран в 1969 г. драма режиссера Сидни Поллака о танцевальном марафоне времен Великой депрессии 1930-х гг. в США. Фильм поставлен по одноименному роману Хораса Маккоя (1935). В главных ролях – Джейн Фонда, Майкл Сарразин, Сюзанна Йорк и Гиг Янг.
(обратно)130
Non dinero! Kein Geld! – Нет денег! (исп., нем.)
(обратно)131
«Красный омар» – сеть американских недорогих ресторанов. За пределами Соединенных Штатов их филиалы есть в Канаде, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре и Японии.
(обратно)132
…снаряжение, достойное Пола Баньяна… – Пол Баньян – дровосек огромного роста, персонаж американского фольклора. Самое раннее напечатанное произведение о Баньяне, которое сейчас известно, создано Джеймсом Макгилливреем в 1910 (по другим сведениям, в 1906) г. Несколько лет спустя, в 1916 г., Уильям Лонгхед придумывал рекламу и решил использовать образ Баньяна, сделав его великаном.
(обратно)133
«Скрэббл» – настольная игра, в которой участники составляют слова из фишек с буквами. В СССР продавалась под названием «Эрудит».
(обратно)134
…Нат Кинг Коул, требующий, чтобы его перенесли на луну, Пегги Ли, поучающая, что ты никто, пока тебя не полюбят… – Нат Кинг Коул (Натаниэль Адамс Коулз, 1919–1965) – американский джазовый пианист и певец, отец певицы Натали Коул; одна из его песен называется «Забери меня на луну» («Fly Me to the Moon»). Пегги Ли (Норма Делорис Эгстром, 1920–2002) – американская джазовая певица, автор песен и актриса, в начале своей карьеры выступала на радио с оркестром Бенни Гудмена. У нее есть песня «Ты никто, пока тебя не полюбят» («You’re Nobody Till Somebody Loves You»).
(обратно)135
Мел Торме сообщал слушателям, что ты входишь у него в привычку… – Мел Торме по прозвищу The Velvet Fog (Бархатный Туман) (1925–1999) – американский музыкант (барабанщик и пианист), джазовый певец, композитор, автор песен, аранжировщик, актер, писатель. Более всего известен как автор одной из самых популярных в США праздничных песен «The Christmas Song» («Рождественская песня»), написанной в 1946 г.
(обратно)136
«Ты входишь у меня в привычку» (You’re Getting to Be a Habit with Me) – популярная песня 1932 г. на музыку Гарри Уоррена, слова Эла Дубина, из музыкального фильма студии «Уорнер Бразерс» – «Сорок вторая улица» (42nd Street). В фильме ее исполняет главная героиня. Толчком к созданию песни послужил случай – одна сотрудница киностудии на вопрос, почему она все еще встречается с неким человеком, ответила, что он вошел у нее в привычку.
(обратно)137
Флоренс Франкенберг по прозвищу Фредди-фурия – вероятно, вымышленный персонаж.
(обратно)138
Эл Джолсон (Аса Йоэлсон, 1886–1950) – американский артист, стоявший у истоков популярной музыки США. Сейчас его помнят прежде всего как исполнителя главной роли в первом звуковом фильме «Певец джаза» (1927).
(обратно)139
Близнецы Червенка – вероятно, вымышленные персонажи. Ассоциируются с Иксиной Червенка (р. 1956) – басисткой лос-анджелесской панк-группы X.
(обратно)140
Уна О’Нил, леди Чаплин (1925–1991) – дочь американского писателя Юджина О’Нила, лауреата Нобелевской премии по литературе и Пулицеровской премии, и писательницы Агнес Боултон; жена режиссера и актера Чарльза Чаплина.
(обратно)141
…в клубе «Аист», в знаменитом «Логове»… – О клубе «Аист» см. примеч. к с. 106. «Логово» (Cub Room) – ВИП-зал клуба, его посещали кинозвезды и другие знаменитости. Кто из посетителей достоин быть туда допущен, определял метрдотель по прозвищу Святой Петр.
(обратно)142
Рудольф Валентино (1895–1926) – американский киноактер итальянского происхождения, секс-символ эпохи немого кино. Его внезапная смерть на пике карьеры породила беспрецедентную истерию среди поклонниц.
(обратно)143
Гейбл, Уильям Кларк (1901–1960) – американский актер, кинозвезда и секс-символ 1930–1940-х гг., носивший прозвище Король Голливуда. Лауреат премии «Оскар» (1935).
(обратно)144
Грейбл, Бетти (Элизабет Рут Грейбл, 1916–1973) – американская актриса, танцовщица и певица. Ее знаменитое фото в купальном костюме принесло ей в годы Второй мировой войны славу одной из самых очаровательных девушек того времени. Позднее этот снимок был включен журналом Life в список «100 фотографий, которые изменили мир». В Голливуде Грейбл была известна прежде всего из-за своих красивых ног, которые всячески выделялись во множестве различных фотосессий, устраиваемых актрисе студией 20th Century Fox, и к тому же были застрахованы британской компанией «Ллойд» на 1 000 000 долларов. Как говорила сама Грейбл: «У моего успеха есть две причины, и я стою на обеих».
(обратно)145
Хейворт, Рита (1918–1987) – американская киноактриса и танцовщица, одна из самых знаменитых звезд Голливуда 1940-х гг. Особенно известна ее роль в фильме-нуар 1946 г. «Джильда».
(обратно)146
Иногда возникало ощущение, что Ханна – это Дж. Дж. Хансекер, а каждый в компании, как Сидни Фалько, из кожи вон лезет, лишь бы стать ее приближенным подручным и любимой игрушкой. – «Сладкий запах успеха» (Sweet Smell of Success, 1957) – черно-белый фильм-нуар о теневых сторонах популярной журналистики, снятый зимой 1956–1957 гг. в центре Манхэттена британским режиссером А. Маккендриком по заказу независимой студии Берта Ланкастера и его агента Харольда Хекта. Считается одним из самых едких в своем сарказме произведений классического Голливуда. Дж. Дж. Хансекер и Сидни Фалько – персонажи фильма.
(обратно)147
…гражданскую войну между сандинистами и пользующимися поддержкой США контрас. – Сандинистский фронт национального освобождения (аббр. СФНО, исп. Frente Sandinista de Liberación Nacional, аббр. FSLN) – левая политическая партия Никарагуа. Название «сандинисты» происходит от имени никарагуанского революционера 1920–1930-х гг. Аугусто Сесара Сандино. Сандинистам пришлось вести гражданскую войну с так называемыми контрас, группами вооруженной оппозиции, базировавшимися в соседних странах при поддержке главным образом США.
(обратно)148
…словно Сесил Блаунт Демилль пригласил их сниматься в фильме «Величайшее шоу мира». – Сесил Блаунт Демилль (1881–1959) – американский кинорежиссер и продюсер, лауреат премии «Оскар» за картину «Величайшее шоу мира» в 1952 г. За годы с 1913 по 1956-й создал семьдесят немых и звуковых фильмов. Признан одним из отцов-основателей голливудской киноиндустрии. Долгие годы считался в США эталоном кинематографического успеха. Фильм «Величайшее шоу мира» (The Greatest Show on Earth) создан при участии легендарного американского цирка Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. Продюсером, режиссером и рассказчиком фильма является Сесил Блаунт Демилль. Фильм получил две премии «Оскар», в том числе и за лучший фильм года. Кроме сюжета, в киноленте рассказывается о значении цирковой индустрии, о том, как живут за кулисами артисты, а также есть документальные кадры, которые показывают, как цирк путешествует на гастролях. По мотивам фильма в 1963–1964 гг. на канале ABC был выпущен одноименный телесериал.
(обратно)149
Микки Руни (Джозеф Юл-мл., 1920–2014) – американский актер, четырежды был номинирован на «Оскар» и дважды (в 1939 и 1983 гг.) получил его за особый вклад в развитие кино. Внесен в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен по продолжительности актерской карьеры. Выступал в водевилях еще в раннем детстве, а в шесть лет впервые снялся в кино. В тринадцать исполнял роль Пака в театральной постановке комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» и позднее – в экранизации этой пьесы 1935 г.
(обратно)150
Bête noire – нечто особенно неприятное; букв.: черная тварь (фр.).
(обратно)151
«Ямочки на щечках» (Dimples, 1936) – музыкальный фильм режиссера Уильяма А. Сейтера по сценарию Ната Перрина и Артура Шикмана. Действие фильма происходит в середине XIX века. Героиня – маленькая уличная артистка в исполнении Ширли Темпл.
(обратно)152
«Потерянный уик-энд» (The Lost Weekend, 1945) – фильм-нуар режиссера Билли Уайлдера. Сценарий к фильму написан Чарльзом Брэкеттом и Билли Уайлдером на основе одноименного романа, выпущенного американским писателем Чарльзом Джексоном в 1944 г. Главные роли исполняют Рэй Милланд и Джейн Уайман. «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля, четыре премии «Оскар», в том числе как лучшему фильму года.
(обратно)153
«Дракула» (Dracula, 1931) – классический фильм ужасов Тода Браунинга, экранизация сценической версии одноименного романа Брэма Стокера. Считается одной из вершин жанра, а образ графа Дракулы, воплощенный Белой Лугоши, стал каноническим.
(обратно)154
Уж если мои дорогие соученики время от времени являли собой «Нельсона Детское Личико» и «Ямочки на щечках», они просто обязаны были хоть иногда воплощать «Потерянный уик-энд» и «Дракулу»… – Нельсон Детское Личико, или Малыш Нельсон (Baby Face Nelson), – Лестер Джозеф Гиллис (1908–1934), американский гангстер, грабивший банки, совершил множество убийств. На основе его биографии был снят фильм-нуар в 1957 г., режиссер Дон Зигель, соавтор сценария – Дэниэл Мейнверинг. Главную роль – Нельсона – исполнил Микки Руни.
(обратно)155
Дарси – персонаж романа Джейн Остен «Гордость и предубеждение».
(обратно)156
«О капитан! Мой капитан!» (1865) – стихотворение Уолта Уитмена на смерть Авраама Линкольна.
(обратно)157
«В постели с врагом» (Sleeping with the Enemy, 1991) – психологический триллер режиссера Джозефа Рубена, в главных ролях Джулия Робертс и Патрик Берджин. Героиня фильма убегает от жестокого мужа, не выдержав постоянных издевательств.
(обратно)158
Тогда я решила взять дело в свои руки (см. роман «Эмма», Остен, 1816). – Главная героиня романа Джейн Остен «Эмма» постоянно пытается всех вокруг сватать.
(обратно)159
Сара Воан (1924–1990) – афроамериканская джазовая певица, одна из наиболее известных в XX веке. Премия «Грэмми» в номинации «Лучшая джазовая вокалистка» (1982).
(обратно)160
La Serpiente Negra – Черная Змея (исп.).
(обратно)161
…высказывание Мэй Уэст, приведенное в книге «Или вы просто рады меня видеть»… – Книга, скорее всего, вымышленная, однако в ее названии содержится намек на известную присказку знаменитой актрисы, певицы, сценариста и секс-символа Мэй Уэст (1893–1980): «Это у тебя пистолет в кармане брюк или ты просто рад меня видеть?»
(обратно)162
По плану мы должны были смотреть «Бродягу», а она приволокла «Апокалипсис сегодня». – «Бродяга» (The Tramp, другие названия – Charlie on the Farm, Charlie the Hobo, Charlie the Tramp, 1915) – короткометражный немой фильм Чарльза Чаплина. «Апокалипсис сегодня» (Apocalypse Now, 1979) – художественный фильм, построенный на теме войны во Вьетнаме, снятый Фрэнсисом Фордом Копполой по сценарию самого Копполы, Джона Милиуса и Майкла Герра. Отправной точкой для сценаристов послужила повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы» (1902). Фильм был удостоен премии «Оскар» за лучшую операторскую работу и лучший звук, а на Каннском фестивале разделил «Золотую пальмовую ветвь» с лентой Ф. Шлёндорфа «Жестяной барабан».
(обратно)163
«Дебби покоряет Даллас» (Debbie Does Dallas, 1978) – порнографический фильм с Бемби Вудс в главной роли. В 2002 г. по мотивам фильма был поставлен мюзикл.
(обратно)164
В один прекрасный день возьмет и нас всех перестреляет, как Клеболд. – Эрик Дэвид Харрис (1981–1999) и Дилан Беннет Клеболд (1981–1999) – двое старшеклассников, совершивших массовое убийство в школе «Колумбайн Хай», штат Колорадо. Они застрелили тринадцать человек и еще двадцать четыре ранили, а затем покончили с собой.
(обратно)165
Холли Голайтли – персонаж фильма «Завтрак у Тиффани» (Breakfast at Tiffany’s, 1961) по одноименной повести Трумена Капоте. Холли Голайтли в исполнении Одри Хепбёрн очень изысканно одевается.
(обратно)166
…почитать ему вслух «Обитателей холмов»… – «Обитатели холмов» (Watership Down, 1972) – роман-сказка британского писателя Ричарда Адамса в жанре героического фэнтези о приключениях группы диких кроликов. Роман является переработанным собранием сказок, которые писатель рассказывал своим детям во время поездок по стране, и назван в честь реально существующего холма на севере Хэмпшира, недалеко от места, где вырос Адамс. В различных переводах на русский язык роман имеет названия: «На Уотершипском холме», «Корабельный холм», «Удивительные приключения кроликов», «Великое путешествие кроликов». Несмотря на то что животные в романе описаны в своем естественном окружении, они имеют ярко выраженные антропоморфные черты, а также близкие к человеческим социальные отношения, язык и культуру.
(обратно)167
Отца из «Звуков музыки». – Господин фон Трапп – отец семейства из фильма «Звуки музыки» (The Sound of Music, 1965), режиссер Роберт Уайз, роль главной героини исполнила Джули Эндрюс. Лента представляет собой экранизацию одноименного бродвейского мюзикла, музыку и слова для которого написали Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстайн II, авторы либретто Говард Линдсей и Рассел Круз. Киносценарий написан Эрнестом Леманом. Фильм удостоен пяти премий Американской академии киноискусств. В основу мюзикла легла книга Марии фон Трапп «Семья певцов фон Трапп» (The Story of the Trapp Family Singers).
(обратно)168
Аспен – очень дорогой лыжный курорт в штате Колорадо. Основан в 1879 г. В Аспене регулярно проходят крупнейшие горнолыжные соревнования, включая этапы Кубка мира, а также соревнования по фристайлу и сноуборду. Дома в Аспене есть у многих известных американцев – Майкла Дугласа, Мартины Навратиловой, Джека Николсона, Дона Джонсона и других.
(обратно)169
«Белый русский» – коктейль из группы коктейлей со сливками, на основе водки. Любимый напиток Джеффри «Чувака» Лебовски из фильма «Большой Лебовски». После выхода фильма коктейль набрал популярность, считается «женским» коктейлем.
(обратно)170
«Розовая леди» – классический коктейль на основе джина. Розовый цвет возникает при добавлении в коктейль гренадина. Все вариации рецепта включают джин, гренадин и яичный белок.
(обратно)171
…в кожаных куртках с надписями «ТИ-БЁРД» и «РОЗОВАЯ ЛЕДИ»… – Ford Thunderbird (также широко известен под аббревиатурой T-Bird, «Ти-бёрд») – американский заднеприводный люксовый автомобиль с кузовом купе, а в ряде поколений – также кабриолет и седан, выпускавшийся на протяжении многих лет подразделением Ford компании Ford Motor Company. Название модели позаимствовано из мифологии североамериканских индейцев, у некоторых племен которых Громовая Птица (Thunderbird) – дух грозы, молнии и дождя.
(обратно)172
Текучие часы – образ из картины Сальвадора Дали «Постоянство памяти» (1931).
(обратно)173
«Тара» – поместье главных героев в романе Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» (1936).
(обратно)174
…чтобы температура в доме не поднималась выше сорока. – По Фаренгейту, то есть примерно 4,5 градуса Цельсия.
(обратно)175
«Клеветник» (mudslinger) – коктейль из персикового ликера с апельсиновым соком и кока-колой; по-русски так же называют иногда совсем другой коктейль, из ликера «Кэроланс Айриш Крим», кофейного ликера и водки – по-английски это коктейль mudslide.
(обратно)176
Джим Джонс – Джеймс Уоррен «Джим» Джонс (1931–1978) – американский проповедник, основатель религиозной организации «Храм народов», последователи которой совершили в 1978 г. массовое самоубийство.
(обратно)177
Мамуля дружила с Энди Уорхолом. – Энди Уорхол (Эндрю Вархола, 1928–1987) – американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссер, одна из ключевых фигур в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом.
(обратно)178
«Барбарелла» (Barbarella, 1968) – франко-итальянский научно-фантастический фильм на основе комикса Жан-Клода Форе с тем же названием. В главной роли – Джейн Фонда, режиссер – Роже Вадим, в то время ее муж. Поначалу фильм не пользовался большой популярностью, но после повторного выхода на экраны в 1977 г. стал культовым.
(обратно)179
«Две маленькие девочки из Литтл-Рока» («Just Two Little Girls from Little Rock») – музыкальный номер Мэрилин Монро и Джейн Расселл из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок».
(обратно)180
«Грязный мартини» – коктейль мартини с добавлением рассола из-под оливок, обычно его украшают оливкой.
(обратно)181
Ширли Темпл (1928–2014) – американская актриса, обладательница «Молодежной награды академии» за 1934 г. (самый молодой человек, получивший «Оскар»), наиболее известна по своим детским ролям в 1930-х гг. Коктейль «Ширли Темпл» – безалкогольный напиток на основе имбирного пива и гренадина, а иногда – лимонада или апельсинового сока.
(обратно)182
«Космо» («Космополитен») – коктейль из водки, ликера «Трипл-Сек» (разновидность «Кюрасао»), клюквенного сока и сока лимона или лайма.
(обратно)183
«Ноги мои желты, и мысли мои черны» – вероятно, вымышленная книга. Ее название – искаженная цитата из комедии Шекспира «Двенадцатая ночь» (действие III, сцена 4, реплика Мальволио; в переводе М. Лозинского: «Мысли мои не черны, хоть ноги мои желты»).
(обратно)184
«…как Томми Ли на презентации альбома „Театр боли“». – Томми Ли (Томас Ли Басс, р. 1962) – барабанщик американской хеви-метал-группы Mötley Crüe, диджей. Также известен как участник проектов Methods of Mayhem и Rock Star Supernova. «Театр боли» («Theatre of Pain») – третий студийный альбом группы Mötley Crüe, изданный в 1985 г.
(обратно)185
«Les Salopes Vampires et Lesbiennes de Cherbourg» – «Шлюхи-вампиры и шербурские лесбиянки» (фр.).
(обратно)186
…как Джин Келли обнимает фонарный столб в фильме «Поющие под дождем»… – Джин Келли (Юджин Каррен Келли, 1912–1996) – американский актер, хореограф, режиссер, певец и продюсер. Известен прежде всего своей ролью в знаменитом мюзикле «Поющие под дождем» (Singin’ in the Rain, 1952), хотя он был звездой Голливуда в 1940-е и 1950-е гг., создав за это время десятки замечательных фильмов, вошедших в золотой фонд мирового кинематографа. Фильм «Поющие под дождем» поставлен режиссером Стэнли Доненом и Джином Келли. В фильм входит большое количество музыкальных номеров, песен, танцев. Фильм является практически автобиографией Голливуда эпохи перехода от немого к звуковому кино.
(обратно)187
Тупак – Тупак Амару Шакур (выступал также под псевдонимами MC New York, 2Pac и Makaveli; при рождении Лесэйн Пэриш Крукс, 1971–1996) – американский рэпер, киноактер и общественный деятель. Тупак был убит в 1996 г., убийцы так и не были найдены. Первый рэпер, которому поставили памятник.
(обратно)188
…Джуэл после исправления прикуса… – Джуэл Килчер (р. 1974) – американская певица, композитор, актриса и автор песен.
(обратно)189
«Джильи» (Gigli, 2003) – кинокомедия режиссера Мартина Бреста с Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес в главных ролях. Фильм получил шесть антипремий «Золотая малина», в том числе в таких номинациях, как «Худший фильм», «Худший режиссер», «Худший актер» и «Худшая актриса».
(обратно)190
Мэтт – вероятно, Мэтт Деймон, или Мэтью Стивен Лебланк, более всего известный своей ролью в сериале «Друзья».
(обратно)191
Тед Денсон после трансплантации волос на лысину, Дженнифер Лопес до «Джильи», Бен Аффлек до Дженнифер Лопес, но после психиатрического лечения по поводу азартных игр, Мэтт после… – Эдвард Бридж «Тед» Денсон III (р. 1947) – американский актер, наиболее известный по главным ролям в ситкомах «Чирс» и «Беккер». Он также снялся в ситкомах «Умерь свой энтузиазм» и «Смертельно скучающий» и в драме «Схватка». За свою карьеру протяженностью более чем в тридцать лет Денсон был номинирован на четырнадцать премий «Эмми», выиграв две, десятикратно номинировался на «Золотой глобус», трижды победив, а также получил собственную звезду на голливудской Аллее Славы в 1999 г. Также снялся в нескольких кинофильмах, самые известные из которых «Трое мужчин и младенец» и его продолжение «Трое мужчин и маленькая леди».
(обратно)192
…занимались каким-то «львиным сексом»… – «Львиный секс» (жарг.) – секс, при котором половой акт продолжается не больше пятнадцати секунд.
(обратно)193
У них с Джейд была такая шуточка – будто бы я «сохну по Блэку», мое любимое сочетание цветов – «черно-синее»… – «Блэк» (black) по-английски означает «черный».
(обратно)194
Болеадорас (boleadoras) – род лассо, оружие индейцев и гаучо в Южной Америке (исп.).
(обратно)195
Cimarrón – беглый, одичавший (о скоте) (исп.).
(обратно)196
Estancias – участок, усадьба (исп.).
(обратно)197
Hombre – мужчина (исп.).
(обратно)198
Chiquito – малыш (исп.).
(обратно)199
Cabron – козел (исп.).
(обратно)200
Asado – мясо, жаренное на угольях, национальное аргентинское блюдо.
(обратно)201
Muchacho – мальчик (исп.).
(обратно)202
Vamos – уходим (исп.).
(обратно)203
Pampas – пампасы (исп.).
(обратно)204
Muchachas – девочки (исп.).
(обратно)205
Putas – потаскухи (исп.).
(обратно)206
…вычислили число «пи» до последнего десятичного знака… – Десятичная запись числа «пи» содержит бесконечное количество десятичных знаков.
(обратно)207
…когда парень предлагает купить ей «Ураган»… – «Ураган» – сладкий алкогольный напиток на основе рома с добавлением фруктового сока и сиропа или гренадина. Популярен в Новом Орлеане. Есть также коктейль «ураган», распространенный на Багамах, – делается из равных долей кофейного ликера, рома, ликеров «Айриш крим» и «Гран марнье».
(обратно)208
…на четырехдюймовом каблуке… – То есть высотой 10 см.
(обратно)209
…«Дарсель» в кн. «Вспоминая „Чистое золото“»… – Дарсель Леонард Уинн (р. 1951) – афроамериканская танцовщица, хореограф, автор и продюсер. Более всего известна как глава танцевальной группы «Чистое золото» (Solid Gold Dancers) из серии телепередач 1980-х с тем же названием (Solid Gold).
(обратно)210
Словно два фильма грубо слепили в один: «Гильду» и «Кокон». – «Гильда» (Gilda, 1946) – фильм-нуар, снятый режиссером Чарльзом Видором. Один из нашумевших кинофильмов золотой эпохи Голливуда, в котором Рита Хейворт исполнила свою коронную роль. «Кокон» (Cocoon, США, 1985) – фантастический фильм, лауреат премии «Оскар». Действие фильма разворачивается в доме престарелых. Его обитатели обнаруживают, что если искупаешься в бассейне соседнего дома, то начинаешь чувствовать себя совсем молодым. Но вдруг выясняется, что на дне бассейна хранятся чудодейственные коконы, поднятые из глубин океана и принадлежащие инопланетянам, когда-то навестившим Землю, а теперь вернувшимся.
(обратно)211
Anis del Toro – сорт анисовой водки, упоминается в романе Хемингуэя «Фиеста» («И восходит солнце») и в его коротком рассказе «Белые слоны».
(обратно)212
…папа заставил меня выучить наизусть… «Песни невинности и опыта» Уильяма Блейка. С тех пор я не могу спокойно смотреть, как муха вьется около гамбургера, – сразу вспоминаю: «Я тоже муха: / Мой краток век. / А чем ты, муха, / Не человек?» – Цит. по переводу С. Я. Маршака.
(обратно)213
…плыть по течению, «глядя на дальний Камелот» и не думая о последствиях (см. «Волшебница Шалот», Теннисон, 1842). – Цит. по переводу К. Д. Бальмонта.
(обратно)214
Госпожа Эдна. – Госпожа Эдна Эвередж – персонаж австралийского комика Барри Хамфриса. Ее сценический образ включает фиолетовые волосы, очки в драгоценной оправе и яркие платья с блестками.
(обратно)215
Соус А1 – соус к бифштексам производства компании Kraft Foods. Продается в Великобритании с 1831 г., позднее стал популярен также в США и Канаде.
(обратно)216
Пусси Галор – одна из «девушек Бонда», персонаж романа Яна Флеминга «Голдфингер» (Goldfinger; 1959) и фильма (1964) с тем же названием.
(обратно)217
«Дикая индейка» (Wild Turkey) – марка виски (бурбон).
(обратно)218
…из тех, на которые семейство Ларраби могло бы посмотреть сквозь пальцы, из тех, за которыми наблюдала Сабрина… – Ларраби – семейство из фильма «Сабрина». «Сабрина» (Sabrina, 1954) – американская романтическая кинокомедия Билли Уайлдера с участием Одри Хепбёрн, Хамфри Богарта и Уильяма Холдена. Вариация на сюжет «Золушки». В 1995 г. Сидни Поллак сделал римейк с тем же названием. Премия «Оскар» за дизайн костюмов Эдит Хэд и еще в пяти номинациях.
(обратно)219
«Энтерпрайз» – космический корабль из сериала «Стартрек», или «Звездный путь» (Star Treck). На сегодняшний день франшиза включает шесть телевизионных сериалов (в том числе мультипликационный), 12 полнометражных фильмов, сотни книг и рассказов, огромное количество компьютерных игр. По мотивам киноэпопеи создано множество фан-арта. «Звездный путь» внес существенный вклад в американскую массовую культуру и породил оригинальную субкультуру. Автор идеи и основатель вселенной «Звездного пути» начиная с выхода на экраны в 1966 г. сериала «Звездный путь: Оригинальный сериал» (Star Trek: The Original Series, или просто TOS) – Джин Родденберри.
(обратно)220
Чудо-женщина (Wonder Woman) – супергероиня из комиксов DC Comics. Впервые появилась в 8-м выпуске комикса «All Star Comics», вышедшем в декабре 1941 г., и стала постоянным персонажем DC, появлявшимся в комиксах на протяжении 70 лет, за исключением небольшого периода после Кризиса на Бесконечных Землях в 1986 г. Ее характерный костюм выдержан в цветах американского флага: красный корсаж и синие шортики со звездочками.
(обратно)221
…Леопольда и Лёба… – Натан Фрейденталь Леопольд (1904–1971) и Ричард Альберт Лёб (1905–1936) – преступники, совершившие в 1924 г. одно из самых знаменитых в США убийств: они похитили и убили 14-летнего Роберта Фрэнкса.
(обратно)222
…успела сменить Дока на Большого Па… – Большой Па – персонаж пьесы Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше» (1955).
(обратно)223
А может, она читала сонет Шекспира номер 116… «Не допускаю я преград к слиянью двух верных душ…» – Цит. по переводу М. Чайковского.
(обратно)224
…private dancer, a dancer for money… – Строчка из песни Тины Тернер Private Dancer. Песню написал специально для ее альбома с тем же названием (1984), пятого в ее сольной карьере, лидер английской группы Dire Straits Марк Нопфлер.
(обратно)225
…именно это чувство испытали Мэри и Луис Лики, впервые обследуя Олдувайское ущелье в восточной части равнин Серенгети в Танзании… – Луис Лики (1903–1972) – британский антрополог и археолог, его работы имеют большую ценность в изучении эволюции человека в Африке. Сделал важные палеоантропологические открытия в Восточной Африке (презинджантроп, зинджантроп). Также он сыграл значительную роль в создании организаций для дальнейших исследований в Африке и защиты ее дикой природы. Полностью поддерживал теорию эволюционного развития Чарльза Дарвина и нашел подтверждения дарвиновской гипотезы о том, что человек появился в Африке; в то же время являлся набожным христианином. Мэри Дуглас Лики (1913–1996) – его жена, британский и кенийский антрополог и археолог. Луис и Мэри Лики и их сын Джонатан Лики вели масштабные раскопки на территории Олдувайского ущелья на севере Танзании на протяжении 1930–1960-х гг.
(обратно)226
«И Цзин. Книга перемен» – один из древних китайских философских текстов. Наиболее ранний слой, традиционно датируемый ок. 700 г. до. н. э. и предназначавшийся для гадания, состоит из 64 гексаграмм. Во II веке до н. э. был принят конфуцианской традицией как один из канонов конфуцианского Пятикнижия. «Книга перемен» – название, закрепившееся за «И Цзин» на Западе. Более точный вариант – «Канон перемен».
(обратно)227
…как в сериале «Семейка Брэди» или в «Военно-полевом госпитале»… – «Семейка Брэди» (The Brady Bunch, 1969–1974) – американский комедийный телесериал о многодетном овдовевшем отце, который женится на вдове с тремя детьми. «Военно-полевой госпиталь» (MASH; от английской аббревиатуры Mobile Army Surgical Hospital – передвижной армейский хирургический госпиталь) – американская черная комедия, снятая Робертом Олтменом по роману Ричарда Хукера. Признан многими критиками как один из самых ярких антивоенных и антиавторитарных фильмов в современной истории Голливуда. Фильм повествует о жизни полевого госпиталя в условиях корейской войны, разбит на эпизоды главным образом о шутках и розыгрышах персонала госпиталя, а также их повседневной службе, связанной со спасением жизни раненых. Картина удостоена ряда наград, в том числе «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 1970 г. и премии «Оскар». Фильм послужил основой для франшизы MASH, и прежде всего одноименного телесериала.
(обратно)228
…завтра Ханна впадет в кому, как Санни фон Бюлов? А я тогда получаюсь скользкий тип Клаус, и придется нанимать Алана Дершовица… – Имеется в виду фильм «Изнанка судьбы» (Reversal of Fortune, 1990) на основе документальной книги адвоката Алана Дершовица. Аристократ Клаус фон Бюлов обвинен в попытке убийства своей жены Санни. Санни (за кадром) рассказывает о процессе, когда Клауса (Айронс) осудили, но выпустили под залог до рассмотрения апелляции. Он обращается к профессору юридического факультета Гарвардского университета Алану Дершовицу с просьбой представлять его в суде. Сначала Дершовиц не хочет защищать Клауса – наглого декадентствующего мультимиллионера, но потом увлекается идеей совершить невозможное и опровергает обвинение, строившееся на том, что Клаус сознательно вколол жене дозу инсулина, вызвавшую кому. Клаус был оправдан. Остается неизвестным, виновен ли он на самом деле.
(обратно)229
«Он красный, и я тоже». – Биография знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, вероятно, вымышлена, однако в названии цитируется настоящее высказывание Айседоры Дункан, которая часто бросала вызов общепринятым условностям, в том числе открыто говорила о своей симпатии к коммунистам. Во время своего последнего турне по Соединенным Штатам в 1922–1923 гг., выступая в Бостоне, она обнажила грудь и взмахнула алым шарфом со словами: «Он красный, и я тоже».
(обратно)230
…серебряный нож-мачете дюймов восемнадцати в длину. – То есть 45 см.
(обратно)231
«Национальный Бархат» (National Velvet, 1944) – спортивная драма режиссера Кларенса Брауна по одноименному роману Энид Багнольд. Роль главной героини – девочки, увлеченной лошадьми, – сыграла двенадцатилетняя Элизабет Тейлор. Национальный Бархат – имя лошади.
(обратно)232
Почему-то мне пришли на память Холлоуэй Барнс и Элеонор Тилден. В леденящей кровь документальной книге Артура Льюиса «Девочки» (1988) рассказано, как в 1964 году в Гонолулу две подружки сговорились убить своих родителей. – Имена и книга, по-видимому, вымышлены, однако здесь скрывается аллюзия на реальное преступление, совершенное в Новой Зеландии. Полин Ивонн Паркер (р. 1938) и ее подруга Джулиет Хьюм (сегодня – писательница Энн Перри) убили мать Полин, Хонору Рипер, в 1954 г., когда были еще подростками. Считается, что эти две девочки убили Хонору, потому что Джулиет и ее отец собирались уезжать в Южно-Африканскую Республику, и хотя Полин хотела уехать вместе с ними, мать ей запретила. По мотивам этой истории был снят фильм «Небесные создания» (Heavenly Creatures, 1994) режиссера Питера Джексона. Роль Полин в фильме сыграла Мелани Лински, роль Джулиет – Кейт Уинслет.
(обратно)233
Waisenhaus – сиротский приют (нем.).
(обратно)234
…Рене Баррьентос подписал приказ о его казни. – Рене Баррьентос Ортуньо (1919–1969) – боливийский государственный деятель, президент Боливии в 1964–1969 гг.
(обратно)235
…Пэм Андерсон! Джинджер Линн!.. – Памела Дениз Андерсон (р. 1967) – американская актриса и фотомодель канадского происхождения. Джинджер Линн (Джинджер Линн Аллен, р. 1962) – американская порномодель, более всего известная своим участием в видеофильмах 1980-х.
(обратно)236
…подобно Полу Ревиру, летел впереди… – Пол Ревир (1734–1818) – американский ремесленник, серебряных дел мастер во втором поколении. Один из самых прославленных героев Американской революции. Более всего известен тем, что предупредил повстанцев о приближении британских войск перед битвами при Лексингтоне и Конкорде – первыми вооруженными столкновениями в ходе Войны за независимость США. Они произошли 19 апреля 1775 г. в Мидлсексе, Массачусетс, в городах Лексингтон, Конкорд, Линкольн, Менотми (ныне Арлингтон) и Кембридж, недалеко от Бостона. Подвиг Ревира был воспет американским поэтом Генри Лонгфелло в стихотворении «Скачка Пола Ревира».
(обратно)237
«Зуд седьмого года» (The Seven Year Itch, 1955) – кинокомедия режиссера Билли Уайлдера. (Иногда переводится как «Семь лет желания», «Семилетний зуд».) Экранизация пьесы Джорджа Аксельрода. Фильм содержит знаменитый эпизод, когда поток воздуха из решетки вентиляционной системы нью-йоркского метро раздувает юбку белого плиссированного платья главной героини.
(обратно)238
…маску Халка. – Халк (доктор Роберт Брюс Беннер) – вымышленный супергерой, появляющийся в изданиях Marvel Comics. Созданный Стэном Ли и Джеком Кирби, он впервые появился в комиксе «Невероятный Халк» (The Incredible Hulk) #1 (май 1962 г.). С тех пор он стал одним из самых узнаваемых персонажей Marvel Comics. После облучения при взрыве созданной им гамма-бомбы физик Брюс Беннер, если его сильно разозлить, превращается в Халка, неистового монстра (облучению он подвергся, спасая своего лучшего друга, мотоциклиста Рика Джонса). Хотя цвет кожи персонажа изменялся в процессе его истории публикаций, Халк чаще всего изображается зеленым.
(обратно)239
«Человек, который хотел быть королем» (The Man Who Would Be King, 1975) – кинофильм, снятый по одноименному рассказу Редьярда Киплинга. Режиссер Джон Хьюстон, в ролях Шон Коннери, Майкл Кейн, Кристофер Пламмер.
(обратно)240
Либераче (Владзи Валентино Либераче, 1919–1987) – американский пианист, певец и шоумен. В 1950–1970-е гг. самый высокооплачиваемый артист в мире. Либераче широко известен виртуозной техникой игры на фортепиано и ярким сценическим имиджем.
(обратно)241
…и давай наяривать Коула Портера. – Коул Портер (1891–1964) – американский композитор, писавший наряду с музыкой и тексты к собственным песням. Портер прославился музыкальными комедиями: Kiss Me, Kate (1948) (по «Укрощению строптивой» Шекспира), Fifty Million Frenchmen, DuBarry Was a Lady, Anything Goes, а также песнями: «Night and Day», «I Get a Kick out of You», «I’ve Got You Under My Skin», «Begin the Beguine» и др. Критики отмечали изощренное поэтическое мастерство Портера (с оригинальными рифмами и двусмысленной игрой слов), а также необычную для жанра сложность его композиций. В числе фильмов, музыку к которым написал Портер, – Born to Dance (1936), Rosalie (1937), You’ll Never Get Rich (1941), Stage Fright (1950). Специалисты считают Коула Портера одним из выдающихся (наряду с Ирвингом Берлином) композиторов легкого жанра в американской истории.
(обратно)242
Бледность, свидетельствующая о тяжелой бессоннице, постоянной печали или неведомой болезни, из-за которой приходится держать в тумбочке целую аптеку.
(обратно)243
Напряженная поза, напоминающая жесткий стул в углу ее спальни.
(обратно)244
Устало-задумчивое выражение лица производило странное впечатление – как будто она мысленно заполняет пробелы, и я подумала: может, я тогда ошиблась, Ханна и в самом деле та девочка с круглыми глазами на трех фотографиях в рамочках? Но почему она держит их на виду? Ни отца, ни матери на снимках нет. Выходит, она была не в лучших отношениях со своими родителями? С другой стороны, папа говорил, что выставленные на всеобщее обозрение снимки радостных моментов далеко не всегда показатель подлинного чувства. Если человеку, мол, постоянно требуется напоминать себе о «старых добрых временах», значит «не такая уж сильная была любовь». Замечу для протокола: у нас в доме никогда не было моих фотографий в рамочке, а из школьных групповых снимков папа хранил только один, сделанный в начальной школе «Спарта». Я там сижу, плотно сдвинув коленки, в розовом комбинезончике и с сонным видом, а на заднем плане какие-то живописные горы, вроде национального парка Йосемити.
– Как характерно! – говорил папа. – Содрали шестьдесят девять долларов девяносто пять центов за увеличенные и обычные отпечатки фотографии, на которой у моей дочери такой вид, словно ее основательно стукнули по голове. Вся страна – просто огромный конвейер, а мы намертво к нему пристегнуты. Плати и помалкивай, не то выбросят как бракованную деталь.
(обратно)245
Он его назвал «Мургейт». – Мургейт – ворота в лондонской городской стене, первоначально римской работы. В 1762 г. ворота снесли, а название осталось. Его сейчас носит улица в лондонском Сити, соединяющая районы Ислингтон и Хакни. Есть также станция метро «Мургейт». В 1975 г. там произошла крупная авария – поезд не смог остановиться и врезался в кирпичную стену, погибло 43 человека. После этого в метро ввели системы безопасности, которые автоматически останавливают поезд в тупике, – их называют «мургейтский контроль».
(обратно)246
…утраченной речи… – Имеется в виду известная речь, произнесенная Авраамом Линкольном 29 мая 1856 г. Линкольн страстно обличал рабство. Считается, что репортеры, заслушавшись, позабыли записывать. По другой версии, речь показалась слишком смелой, и ее «забыли» записать нарочно.
(обратно)247
…в течение четырех лет побыть падшей женщиной, коварной злодейкой и старой девой. – Перечислены роли Бетт Дэвис в фильмах: «Иезавель» (Jesebel, 1938), «Меченая женщина» (Marked Woman, 1937), «Лисички» (The Little Foxes, 1941) и «Старая дева» (The Old Maid, 1939).
(обратно)248
«Я танцевать хочу до самого утра» («I Could Have Danced All Night») – песня из мюзикла «Моя прекрасная леди».
(обратно)249
Словно греческую вазу Китса… – Имеется в виду стихотворение Дж. Китса «Ода к греческой вазе», см. примечание выше.
(обратно)250
«Почему женщины так не похожи на нас?» («Why Can’t a Woman Be More Like a Man?») – песня из мюзикла «Моя прекрасная леди».
(обратно)251
…так напивался хефевайзеном… – Хефевайзен – пшеничное пиво.
(обратно)252
Он весил, я думаю, фунтов двести пятьдесят? – Примерно 113 кг.
(обратно)253
…«Мне случается потерять терпение, да так, что и не найдешь» или «В кино все постоянно целуются». – Фразы из мемуаров Авы Гарднер. Ава Гарднер (1922–1990) – актриса и певица, одна из ярчайших звезд Голливуда 1940-х и 1950-х. Говорили, что у нее «лицо ангела и тело богини».
(обратно)254
…музыкальная пьеса миссис Хардинг… – Возможно, намек на жену 29-го президента США Уоррена Г. Хардинга, Флоренс Хардинг (1860–1924). В молодости она училась в Консерватории Цинциннати и собиралась стать пианисткой, но не закончила учебу.
(обратно)255
«Путеводный свет» – самая продолжительная мыльная опера в США, в 1930–1950-х гг. транслировалась как радиошоу, а с 1952 по 2009 г. выходила в телеэфир на канале CBS. Весь сюжет сериала построен на эпизодах из жизни священника в одном из вымышленных пригородов Чикаго. С начала создания сериал был 375 раз номинирован на различные премии и получил 98 наград. За 57 лет было выпущено 18 262 серии.
(обратно)256
«Энигма» (от др.-греч. αἴνιγμα – загадка) – портативная шифровальная машина, использовавшаяся для шифрования и дешифрования секретных сообщений. Точнее, «Энигма» – целое семейство электромеханических роторных машин, применявшихся с 1920-х гг. «Энигма» использовалась в коммерческих целях, а также в военных и государственных службах во многих странах мира, но наибольшее распространение получила в нацистской Германии во время Второй мировой войны. Впервые шифр «Энигмы» удалось расшифровать в польском Бюро шифров в декабре 1932 г. Трое сотрудников разведки, Мариан Реевский, Ежи Рожицкий и Генрих Зыгальский, с помощью данных французской разведки, математической теории и методов обратной разработки сконструировали специальное устройство для расшифровки закодированных сообщений, которое окрестили криптологической бомбой (по названию французского десерта, bombe glacée). В результате этого немецкие инженеры усложнили устройство «Энигмы» и в 1938 г. выпустили обновленную версию, для расшифровки которой требовалось построить более сложные механизмы. Во время Второй мировой войны в Англии ключевую роль в разгадке шифра «Энигмы» сыграл математик Алан Тьюринг, будущий отец кибернетики.
(обратно)257
«Let’s Groove» – песня с альбома «Raise!» (1981) группы Earth, Wind & Fire.
(обратно)258
Линди-хоп – танец, который зародился в Гарлеме (Нью-Йорк) в 1920-х и 1930-х. Относится к классу свинговых танцев, включает элементы джаза, степа, чарльстона и других танцев. Интерес к линди-хопу возродился в 1980-х. Существуют разные легенды о том, откуда произошло его название. Согласно одной из них, знаменитый танцор Джордж Шоуден про прозвищу Коротышка в шутку назвал новый танец Lindy hop, увидев газеты с заголовками «Lindy hops the Atlantic» («Линди прыгает через Атлантику») о первом трансатлантическом перелете Чарльза Линдберга.
(обратно)259
«Ребенок Розмари» (Rosemary’s Baby, 1968) – фильм Романа Полански по одноименной книге Айры Левина (1967).
(обратно)260
«Наш городок» (Our Town) – пьеса Торнтона Уайлдера 1938 г. и фильм режиссера Сэма Вуда 1940 г. Действие происходит в вымышленном городке Говерз-Корнерс между 1901 и 1913 гг.
(обратно)261
…работает в «Дикой лошади»? – «Дикая лошадь» (фр. Le Crazy Horse de Paris) – знаменитое парижское кабаре, основанное в 1951 г.
(обратно)262
…идеальная счастливая парочка, вроде как Ньюман и Вудворд. – Джоан Вудворд (Джоан Джигниллиет Триммьер Вудворд, р. 1930) – актриса, в активе которой имеются премии «Оскар» (1958) и «Эмми» (1978, 1985, 1990), а также награда Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль (1973). Особенно известна ее роль в фильме «Три лица Евы» (The Three Faces of Eve, 1957). Пол Леонард Ньюман (1925–2008) – актер, кинорежиссер, продюсер, которого называют одним из столпов Голливуда и обладателем самых знаменитых голубых глаз в истории кино. Десять раз выдвигался на премию «Оскар», из них восемь – в номинации за лучшую мужскую роль. Бизнесмен и общественный деятель, собрал и пожертвовал более 250 миллионов долларов на образование и благотворительность как владелец-основатель крупной продовольственной фирмы «Newman’s Own». Известен также как спортсмен-автогонщик, выигравший гонку «24 часа Ле-Мана» в классе IMSA+2.5 и несколько национальных чемпионатов США по автогонкам как водитель, а также как глава и владелец лучшей команды в чемпионатах Champ Car. Муж и жена Ньюман и Вудворд много снимались вместе. Кроме того, Ньюман поставил четыре фильма с Вудворд в главной роли.
(обратно)263
«Собачий полдень» (в другом переводе – «Самое жаркое время дня»; Dog Day Afternoon, 1975) – кинофильм, драма режиссера Сидни Люмета. Главную роль исполняет Аль Пачино. Сюжет фильма основан на статье П. Ф. Клуджа и Томаса Мура «Ребята в банке» (The Boys in the Bank) об ограблении Бруклинского банка Джоном Войтовицем и Сальваторе Натурале 22 августа 1972 г.
(обратно)264
Тако – горячие свернутые маисовые лепешки с начинкой из рубленого мяса, сыра, лука и бобов и острой подливкой.
(обратно)265
«Студия-54» (Studio 54) – ночной клуб в Нью-Йорке и всемирно известная дискотека, прославившаяся легендарными вечеринками, жестким фейсконтролем, беспорядочными связями и непомерным употреблением наркотиков.
(обратно)266
Начнешь якшаться с нимродами… – Нимрод (Немрод, Немврод; др.-евр. – букв.: «восстанем») – в Пятикнижии, агадических преданиях и легендах Ближнего Востока герой, воитель-охотник и царь. По родословию, приведенному в Бытии, – сын Куша и внук Хама. Упоминается как «сильный зверолов перед Господом»; его царство помещено в Месопотамии (Быт. 10: 9, 10). В различных легендах акцентируется образ Нимрода-тирана и богоборца; ему приписывается строительство Вавилонской башни, крайняя жестокость, идолопоклонство, преследования Авраама, соперничество с Богом.
(обратно)267
Парчизи (также парчис, лудо) – настольная игра для четырех игроков, с четырьмя фишками у каждого и двумя кубиками. В начале XX века была известна в России под названием «Не сердись, дружок» и «Рич-рач». Во второй половине XX века в Советском Союзе существовал вариант этой игры под названием «Выкинь его».
(обратно)268
«Зима тревоги нашей» – цитата из трагедии Шекспира «Ричард III» (действие I, сцена 1) и название романа Джона Стейнбека (1961).
(обратно)269
«Стреляй, не щади мою седую голову» – цитата из стихотворения, посвященного Барбаре Фритчи (урожденной Хауэр, 1766–1862). Рассказывают, что она в возрасте 95 лет вышла на главную улицу своего города – Фредерика – и встала на пути у войска генерала Джексона. Джон Гринлиф Уиттьер написал об этом стихотворение «Барбара Фритчи». В 1943 г., когда Уинстон Черчилль вместе с президентом Рузвельтом проезжал через Фредерик по пути в Шангри-Ла (ныне Кемп-Дэвид), он прочел наизусть это стихотворение. Джон Гринлиф Уиттьер (1807–1892) – американский поэт и аболиционист.
(обратно)270
…«Неимущий художник, рожденный в Англии»… – Книга, вероятно, вымышлена, однако ее название основано на реальной формулировке из завещания художника Дж. Э. М. Тернера (1775–1851). Тернер завещал, чтобы все его личное имущество было продано ради создания благотворительного учреждения для поддержки «неимущих художников, рожденных в Англии от родителей-англичан в законном браке». Свои картины, рисунки и наброски он завещал государству с тем, чтобы они хранились в специальной художественной галерее. Первое условие не было выполнено – родственники художника воспользовались формальной зацепкой и забрали наследство себе. Отдельную галерею для работ Тернера так и не построили, но через десять лет после его смерти всю коллекцию передали лондонской Национальной галерее. Сейчас произведения Тернера хранятся в Национальной галерее, в галерее Тейт и в Британском музее.
(обратно)271
Bête noire – нечто особенно неприятное; букв.: черная тварь (фр.).
(обратно)272
Финеас Т. Барнум – Финеас Тейлор Барнум (1810–1891) – американский шоумен, антрепренер, крупнейшая фигура американского шоу-бизнеса XIX века. Прославился своими мистификациями, организовал цирк, названный в его честь.
(обратно)273
И твоего песика! – Искаженная цитата из фильма «Волшебник страны Оз», где злая ведьма Запада говорит Дороти: «Я доберусь до тебя, душечка, и до твоего песика!»
(обратно)274
…смотрят «Небо и землю». – «Небо и земля» (Heaven & Earth, 1993) – фильм режиссера Оливера Стоуна о вьетнамской войне.
(обратно)275
…из книг Роджера Поупа Лавеля… – Роджер Поуп Лавель – вероятно, вымышленный автор, однако его детективный роман, о котором речь ниже, «Путь мотылька», возможно, связан с действительно существующей книгой Линтона Блоу «Убийство на „мотыльке“» (The «Moth» Murder; первое издание – до 1923 г.).
(обратно)276
«Нашу малышку съела собака динго!» – Фразу приписывают Линди Чемберлен, послужившей прообразом персонажа в исполнении Мерил Стрип из фильма «Крик в темноте» (другое название – «Крик во тьме»; A Cry in the Dark, 1988). Фильм на документальной основе рассказывает о гибели австралийской девочки Азарии Чемберлен в 1980 г. Младенца утащила из палатки дикая собака динго. Власти не поверили рассказу родителей. Линди Чемберлен осудили за убийство, а ее мужа Майкла Чемберлена – как соучастника. Позднее обоих признали невиновными. На самом деле и в жизни, и в фильме фраза звучала иначе. Насколько известно, Линди Чемберлен крикнула мужу: «Нашу малышку схватила собака динго», а персонаж Мерил Стрип, обнаружив пропажу дочери, кричит: «Нашу малышку утащила собака динго».
(обратно)277
Эггног – сладкий напиток на основе сырых куриных яиц и молока, немного напоминает гоголь-моголь. Происходит из Шотландии, популярен в США, странах Южной и Центральной Америки, Европе. Состоит обычно из крепкого алкогольного напитка или вина, сиропов, ликеров, яиц, молока.
(обратно)278
…в безумии нет системы… – Перевернутая цитата из трагедии Шекспира «Гамлет», акт II, сцена 2: «Хотя это и безумие, но в нем есть система» (перевод А. Радловой).
(обратно)279
Ольмеки – название племени, упоминающееся в ацтекских исторических хрониках. Ольмеки обитали в тропических долинах южной и центральной Мексики на территории современных штатов Веракрус и Табаско. Цивилизация ольмеков процветала в течение периода становления Мезоамерики примерно с 1500 г. до н. э. до 400 г. до н. э.
(обратно)280
«Что ж, снова ринемся, друзья, в пролом»… – У. Шекспир. Генрих V. Акт III, сцена 1. Перевод Е. Бируковой.
(обратно)281
…объявлениями о школьной постановке «Лысой певицы» (Ионеско, 1950). – «Лысая певица» (фр. La Cantatrice Chauve) – первая пьеса франко-румынского драматурга Эжена Ионеско, одного из основоположников театра абсурда. Написана в 1948 г., впервые поставлена Николя Батаем в парижском Théâtre des Noctambules (Театре полуночников); премьера состоялась 11 мая 1950 г. Пьеса не имела успеха до тех пор, пока ее не поддержали знаменитые писатели и критики, в числе которых Жан Ануй и Раймон Кено. С 1957 г. постоянно шла в Théâtre de la Huchette (Театре на улице Юшет). Пьеса стала одной из самых часто играемых во Франции.
(обратно)282
«Касабланка» (Casablanca, 1942) – романтическая кинодрама, поставленная режиссером Майклом Кертисом с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман в главных ролях. Действие фильма разворачивается в начале Второй мировой войны в марокканском городе Касабланке, находившемся в то время под контролем вишистской Франции. В центре сюжета – внутренний конфликт человека, которому приходится выбирать между долгом и чувством, между любимой женщиной и необходимостью помочь ей и ее мужу, лидеру движения Сопротивления, бежать из Касабланки для продолжения борьбы с нацистами. Поначалу считалось, что это один из десятков проходных фильмов, ежегодно штамповавшихся в Голливуде. Несмотря на неоднократную замену сценаристов и на то, что для Богарта это была первая романтическая роль, фильм «Касабланка» получил три «Оскара», в том числе в категории «лучший фильм». Популярность фильма выросла до такого масштаба, что его до сих пор часто называют среди лучших фильмов в истории Голливуда.
(обратно)283
«Per un Pugno di Dollari» (ит.) – «За пригоршню долларов» (англ. «A Fistful of Dollars», 1964) – классический фильм Серджо Леоне, первый «спагетти-вестерн» из так называемой «долларовой трилогии». Главную роль исполняет Клинт Иствуд.
(обратно)284
«Fronte del Porto» (ит.) – «В порту». «В порту» (On the Waterfront, 1954) – классическая американская драма Элиа Казана о коррупции в профсоюзах портовых грузчиков. Главную роль исполняет Марлон Брандо. Картина завоевала восемь премий «Оскар» (1955), включая премию за лучший фильм года, четыре «Золотых глобуса» (1955), специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля (1954) и множество других наград.
(обратно)285
«Colazione da Tiffany» (ит.) – «Завтрак у Тиффани». «Завтрак у Тиффани» (Breakfast at Tiffany’s, 1961) – американский комедийный кинофильм, снятый режиссером Блэйком Эдвардсом с участием Одри Хепбёрн и Джорджа Пеппарда. Экранизация одноименного романа Трумена Капоте. Роль Холли Голайтли, наивной и эксцентричной девушки, ищущей богатого кавалера, стала, по признанию самой Хепбёрн, самой яркой ролью в ее карьере и одной из самых сложных, так как актрисе-интроверту пришлось играть эксцентричного экстраверта. Исполненная ею в фильме песня «Moon River» принесла композитору Генри Манчини и автору текста Джонни Мерсеру премию «Оскар» в 1962 г. В фильме также исполнил самую заметную роль на пике своей карьеры актер Джордж Пеппард.
(обратно)286
«Historia del Amore» (ит.) – «История любви» (англ. «Love Story», 1970) – кинофильм в жанре любовной драмы, режиссер Артур Хиллер. Экранизация одноименного романа Эрика Сигала. Лента получила премию «Оскар» за лучшую музыку, ряд других наград и номинаций. Исполнители главных ролей – Райан О’Нил и Эли Макгроу.
(обратно)287
«La Soif du Mal» (фр.) – «Печать зла» (англ. «Touch of Evil», 1958) – фильм-нуар режиссера Орсона Уэллса. Считается одним из последних классических нуаров.
(обратно)288
Берт Ланкастер и Дебора Керр снимались в американском фильме режиссера Фреда Циннемана «Отныне и во веки веков» (англ. «From Here to Eternity»). Фильм рассказывает о буднях солдат накануне нападения на Перл-Харбор. Снят в 1953 г. по одноименному бестселлеру (1951) Джеймса Джонса. Входит в десятку самых кассовых голливудских фильмов 1950-х. Номинирован на тринадцать «Оскаров» и получил восемь, в том числе как лучший фильм года. Известная любовная сцена в фильме происходит на пляже.
(обратно)289
…я чуть-чуть сдвинула постер к фильму «Il Caso Thomas Crown»… а Берт Ланкастер с Деборой Керр явно нагребли песка в свои купальные костюмы. – «Il Caso Thomas Crown» (ит.) – «Афера Томаса Крауна» (англ. «The Thomas Crown Affair») – фильм 1968 г., в главных ролях Стив Маккуин и Фэй Данауэй. В 1999 г. был снят римейк с участием Пирса Броснана, Рене Руссо и Дениса Лири. По-английски и по-русски римейк носит то же название, но по-итальянски он называется иначе: Gioco a due («Игра для двоих»).
(обратно)290
…от Нормы Ширер до Говарда Кила. – Эдит Норма Ширер (1902–1983) – канадско-американская актриса, звезда Голливуда 1925–1942 гг. Играла вначале бойких инженю, затем (до введения цензуры) – сексуально раскрепощенных женщин. Получала хорошие отзывы за исполнение ролей в произведениях Шекспира, Ноэля Кауарда и Юджина О’Нила. Шесть раз номинировалась на премию «Оскар» и один раз получила ее за исполнение главной роли в фильме «Разведенная» (The Divorcee, 1930). Говард Кил (наст. имя Гарри Клиффорд Кил; 1919–2004) – американский актер и певец. Снялся в нескольких десятках голливудских мюзиклов производства Metro-Goldwyn-Mayer в пятидесятые годы, самые известные из которых «Энни, бери ружье» (1950) с Бетти Хаттон, «Плавучий театр» (1951), «Целуй меня, Кэт» (1953) с Кэтрин Грэйсон, «Семь невест для семи братьев» с Джейн Пауэлл и «Кисмет» (1955) с Энн Блит. После расторжения контракта с MGM он вернулся на бродвейскую сцену и последующие два десятилетия в основном работал в театре, изредка появляясь в различных телешоу и вестернах. Современному зрителю он лучше всего известен по своей роли в телесериале «Даллас». В 1958 г. был избран президентом Гильдии киноактеров США.
(обратно)291
…постер к Bella di giorno… – «Bella di giorno» (ит.) – «Дневная красавица» (фр. «Belle de jour»), кинофильм режиссера Луиса Бунюэля, снятый в 1967 г. Экранизация романа Жозефа Кесселя. Премия «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. В главной роли Катрин Денёв.
(обратно)292
«Черный дрозд поет ночью. Биография Чарльза Майлза Мэнсона» – книга, вероятно, вымышленная. Чарльз Майлз Мэнсон (р. 1934) – американский преступник, музыкант, лидер коммуны «Семья», отдельные члены которой в 1969 г. совершили ряд жестоких убийств. В названии книги использована строчка из битловской песни «Blackbird» (1968).
(обратно)293
Сапата – Эмилиано Сапата Саласар (1879–1919) – лидер Мексиканской революции против диктатуры Порфирио Диаса 1910 г. Один из национальных героев Мексики. Младший брат Эуфемио Сапаты. Был убит Хесусом Гуахардо по приказу генерала Пабло Гонсалеса. Эуфемио Сапата Саласар (1873–1917) – мексиканский революционер, генерал Армии освобождения Юга и брат Эмилиано Сапаты. О жизни и деятельности Эмилиано Сапаты был снят фильм «Вива, Сапата!» (Viva Zapata!, 1952), режиссер Элиа Казан, в роли Эмилиано Сапаты – Марлон Брандо, в роли Эуфемио Сапаты – Энтони Куинн.
(обратно)294
Хейт-Эшбери – район Сан-Франциско, на пересечении улиц Хейт и Эшбери, известный тем, что здесь зародилась субкультура хиппи.
(обратно)295
Je ne sais quoi – неопределимое словами; букв.: «не знаю что» (фр.).
(обратно)296
«Вся королевская рать» (All the King’s Men, 2006) – фильм американского режиссера армянского происхождения Стивена Заилляна по мотивам одноименного романа Роберта Пенна Уоррена, беспощадно, мрачно и реалистично показывающий взлет и падение политического деятеля. В главной роли Шон Пенн. Три премии «Оскар» (1950).
(обратно)297
«Охотник на оленей» (The Deer Hunter) – фильм режиссера Майкла Чимино, премьера которого состоялась 8 декабря 1978 г., пять лет спустя после вывода американских войск из Вьетнама. Картина повествует о судьбе трех молодых американцев славянского происхождения, призванных на войну во Вьетнаме, о некоторых событиях до и после этого. Фильм получил 5 премий «Оскар», в том числе как лучший фильм года.
(обратно)298
«Официальная версия» (исп. «La historia official», англ. «The Official Story») – фильм режиссера Луиса Пуэнсо. Историческая драма о событиях «грязной войны» – волны репрессий военно-политических режимов Аргентины конца 1970-х – начала 1980-х гг. Картина получила премию «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм, 9 премий «Серебряный кондор» и еще несколько высоких кинематографических наград.
(обратно)299
«Чарльз придумал для Сьюзен Аткинс прозвище Секси Сейди»… – Сьюзен Денис Аткинс (1948–2009) – американская преступница, член «Семьи», которую возглавлял Чарльз Мэнсон. В течение пяти недель летом 1969 г. «Семья» совершила девять убийств в четырех различных местах Калифорнии. Известная в пределах «Семьи» как Сейди Мэй Глатц, Аткинс была обвинена в восьми из девяти убийств, самым известным из которых было убийство голливудской актрисы Шерон Тейт. Изначально Аткинс вместе со всеми была приговорена к смертной казни, но потом казнь была заменена на пожизненное заключение. Оказавшись в тюрьме 1 октября 1969 г. и находясь там вплоть до смерти, Аткинс в калифорнийской пенитенциарной системе стала единственным заключенным, которому за весь период отсидки было отказано в досрочном освобождении 18 раз. Прозвище дано в честь песни Битлз «Sexy Sadie» с так называемого «Белого альбома» (1968), написанной Джоном Ленноном во время пребывания группы в Индии.
(обратно)300
«Caccia al ladro» – «Поймать вора» (To Catch a Thief, 1955) – романтический детектив Альфреда Хичкока по роману Дэвида Доджа «Поймать вора» (1952). Главные роли в фильме исполняют Грейс Келли и Кэри Грант. Постоянный оператор режиссера Роберт Беркс был удостоен премии «Оскар» за эту работу.
(обратно)301
…слывет затворником наподобие Сэлинджера… – Американский писатель Джером Дэвид Сэлинджер (1919–2010) больше всего известен своим романом «Над пропастью во ржи» (1951). После 1965 г. Сэлинджер перестал публиковаться и вел затворнический образ жизни.
(обратно)302
L’Idiot – «Идиот» (фр.).
(обратно)303
…взяли пару громадных «вопперов»… – «Воппер» (англ. Whopper, «громадина») – гамбургер, главный продукт американской сети быстрого питания «Бургер-кинг». Наряду с бигмаком из «Макдональдса» является одним из наиболее известных гамбургеров в фастфуд-индустрии.
(обратно)304
Organización Panamericana de la Ayuda – Всеамериканская организация помощи (исп.). Вероятно, вымышленная организация.
(обратно)305
Café con leche – кофе с молоком (исп.).
(обратно)306
Gente de guarandabia – крутые парни (кубинский криминальный жаргон).
(обратно)307
…в больнице имени Хулио Триго… – Хулио Триго Лопес (1925–1953) – кубинский революционный деятель, участвовал в штурме казарм Монкада вместе с Фиделем Кастро.
(обратно)308
…с той же страстью, с какой Кристофер Пламмер произносит «Дальше – тишина»… – Артур Кристофер Орм Пламмер (р. 1929) – канадский актер театра, кино и телевидения. Двукратный лауреат премий «Эмми» (1977, 1994) и «Тони» (1974, 1997), лауреат премии Гильдии киноактеров США (2012), премий «Оскар» (2012), BAFTA (2012), «Золотой глобус» (2012) и «Независимый дух» (2012). Наиболее известен по участию в фильмах «Звуки музыки», «Возвращение Розовой Пантеры», «12 обезьян», «Свой человек», «Игры разума», «Сокровище нации», «Воображариум доктора Парнаса», «Последнее воскресение», «Начинающие» и «Девушка с татуировкой дракона». Кристофер Пламмер исполнил роль Гамлета в телевизионной постановке Би-би-си совместо с Датским радио «Гамлет в Эльсиноре» (Hamlet at Elsinore, 1964), отсюда и цитата. За эту роль Пламмера номинировали на премию «Эмми».
(обратно)309
… в эпоху основания буддийской империи Маурьев… – Империя Маурьев – государство в Древней Индии (317–180 до н. э.) со столицей в Паталипутре. Достигла наивысшего расцвета при императоре Ашоке, который подчинил огромную территорию с населением в 40 миллионов человек и распространил буддизм. Империя пала примерно через 50 лет после смерти Ашоки в результате заговора Шунга, когда была установлена новая династия.
(обратно)310
Эрнест Шеклтон – сэр Эрнест Генри Шеклтон (1874–1922), англо-ирландский исследователь Антарктики, деятель героического века антарктических исследований. Участник четырех антарктических экспедиций, тремя из которых командовал. За свои достижения был возведен королем Эдуардом VII в рыцарское достоинство.
(обратно)311
Миямото Мусаси (1584–1645), также известен как Симмэн Такэдзо, Миямото Бэнносукэ, Симмэн Мусаси-но-Ками Фудзивара-но-Гэнсин или под своим буддийским именем Нитэн Дораку, – легендарный японский ронин, считается одним из самых известных фехтовальщиков в истории Японии. Основоположник школы Хёхо Нитэн Ити-рю, или самурайского искусства боя на двух мечах нито-рю (школа «Земли и Неба»). Ввел понятие боккэна как вполне реального боевого оружия, а не тренировочного. Изобрел и сам успешно использовал технику боя двумя мечами, длинным – катаной и коротким – вакидзаси. Также за два года до смерти, удалившись в пещеру на горе Кимпо неподалеку от города Кумамото, он написал «Книгу пяти колец» о тактике, стратегии и философии военного ремесла, которая пользуется популярностью и в настоящее время.
(обратно)312
Арчибальд Лич – Кэри Грант (настоящее имя Арчибальд Александр Лич, 1904–1986) – англо-американский актер, дважды номинант на премию «Оскар». На протяжении своей жизни Грант был воплощением неизменного остроумия, невозмутимости и хладнокровия. Свои самые известные роли сыграл в бурлескных комедиях, особенно довоенных, и на склоне лет, в фильмах Альфреда Хичкока. Американский институт киноискусства признал его величайшим киноактером в истории после Хамфри Богарта.
(обратно)313
«Весь город говорит…» – «Весь город говорит» (The Talk of the Town, 1942) – американский фильм, комедийная драма режиссера Джорджа Стивенса, в главных ролях Кэри Грант, Джин Артур и Рональд Колман.
(обратно)314
…книжечки о свойствах власти под названием «Гримаса», опубликованной в 1824 году. – Вероятно, книга вымышлена, однако тут может скрываться аллюзия на книжку карикатур «Гримасы» (фр. Les Grimaces, 1823) французского художника Луи Леопольда Буайи (1761–1845).
(обратно)315
…перефразируя Карла фон Клаузевица… – Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц (1780–1831) – прусский офицер и военный теоретик. Его труд «О войне» произвел переворот в теории и основах военных наук.
(обратно)316
…в стиле Джона Бэрримора (барон Феликс фон Гайгерн, «Гранд-отель»). – «Гранд-отель» (Grand Hotel, 1932) – классический американский драматический фильм режиссера Эдмунда Гулдинга в стиле ар-деко. Основан на романе австрийской писательницы Вики Баум «Люди в отеле» (Menschen im Hotel, 1929), адаптирован Уильямом Дрейком и Белой Балажем. Лауреат премии «Оскар» как лучший фильм года. Роль барона Феликса фон Гайгерна в фильме исполняет Джон Бэрримор (Джон Сидни Блайт, 1882–1942) – легенда американского театра, знаменитый исполнитель шекспировских ролей на сцене и звезда немого и звукового кино, младший брат Лайонела Бэрримора и дед Дрю Бэрримор.
(обратно)317
…процитировала бы «Гамлета»: «О, если б ты, моя тугая плоть, / Могла растаять, сгинуть, испариться!» – Перевод Б. Пастернака.
(обратно)318
Scio me nihil scire! – Я знаю, что я ничего не знаю! (лат.)
(обратно)319
…с лицом, как из книжки про братьев Харди (сейчас таких уже не делают)… – «Братья Харди» – серия детских детективов, выпускавшаяся под псевдонимом Франклин У. Диксон издательским синдикатом Стратемейера с 1927 г.
(обратно)320
Чарли Маккарти – марионетка, персонаж выступлений актера Эдгара Бергена (1903–1978).
(обратно)321
…красной футболке с надписью MEAN REDS. – Имеется в виду аризонско-калифорнийская рок-группа The Mean Reds (2003–2005), позаимствовавшая свое название из повести Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани»: так Холли Голайтли называет свои приступы тревожности. В фильме она говорит, что это чувство, когда боишься непонятно чего. В русском переводе фильма: «Когда вам становится невмоготу – это ужасно».
(обратно)322
Слаш – замороженный десерт на основе фруктового напитка.
(обратно)323
…серьезный, как фотография Сунь Ятсена. – Сунь Ятсен (Сунь Вэнь – литературный псевдоним; Сунь Чжуншань – имя в эмиграции; 1866–1925) – китайский революционер, основатель партии Гоминьдан, один из наиболее почитаемых в Китае политических деятелей. В 1940 г. Сунь Ятсен посмертно получил титул «Отец нации».
(обратно)324
«Смех в темноте» – переработанный вариант романа Владимира Набокова «Камера обскура». Роман «Камера обскура» впервые опубликован издательствами «Современные записки» и «Парабола» (Берлин – Париж) в декабре 1933 г. Отдельные эпизоды выходили в журнале «Современные записки» в 1932–1933 гг. На английском языке роман был издан в январе 1936 г. под названием Camera Obscura лондонским издательством «John Long» в переводе Уинфреда Роя. Позднее сам писатель подготовил другую английскую версию, Laughter in the Dark («Смех в темноте») с переработанным сюжетом, которая вышла 6 мая 1938 г. в американском издательстве «New Directions». В частности, Набоков переименовал Магду в Марго (ее возраст был поднят до 18 лет), Бруно Кречмара – в Альберта Альбинуса, а Горна – в Акселя Рекса. В 1960 г. в том же издательстве вышла незначительно отредактированная версия.
(обратно)325
…на скорости сорок миль в час… – Около 65 км/ч.
(обратно)326
…наблюдение буллерова скворца (Aplonis marvornata)… – Буллеров скворец (лат. Aplonis marvornata) – вымерший вид птиц из рода скворцов-аплонисов (Aplonis), обитавший на островах Кука и на острове Мауке, где он был открыт английским натуралистом Блоксхэмом. Известен по единственному экземпляру, обнаруженному в коллекции птиц, привезенной экспедицией Дж. Кука. В природе его никто не видел. Неизвестно даже, на каком острове был убит этот экземпляр. Поиски буллерова скворца на островах Общества и Кука результатов не дали. По-видимому, вымер в середине XIX века.
(обратно)327
«Зыбучие пески» (Shifting Sands, 1918) – американский немой фильм режиссера Альберта Паркера с Глорией Свенсон в главной роли.
(обратно)328
…безоглядно, как Сципион Африканский во время разграбления Карфагена… – Публий Корнелий Сципион Африканский Старший (235–183 до н. э.) – римский военачальник и политический деятель из патрицианского рода Корнелиев, консул в 205 и 194 гг. до н. э. Одержал ряд крупных побед в войне с карфагенянами, а в решающей битве при Заме разгромил Ганнибала (202), после чего заключил мир, по которому Карфаген уступил Риму Испанию, потерял флот и право вести самостоятельную внешнюю политику.
(обратно)329
«Спящая красавица и другие сказки» – сборник французских сказок в переводе сэра Артура Квиллер-Коуча. Артур Квиллер-Коуч (1863–1944) – британский писатель. Окончил Тринити-колледж Оксфордского университета, непродолжительное время в конце 1880-х гг. преподавал там же, затем работал в Лондоне как журналист, а в 1891 г. обосновался в Корнуолле, в городе Фой, где и провел почти всю жизнь. С 1912 г. Квиллер-Коуч был профессором английской литературы в Кембриджском университете. Дебютировал в литературе на рубеже 1880–1890-х гг. серией приключенческих романов, близких к манере Роберта Льюиса Стивенсона, дописал также неоконченный роман Стивенсона «Сент-Ив». В дальнейшем написал целый ряд романов из истории Корнуолла, собранных в 1928 г. в 30-томное собрание сочинений. Также опубликовал несколько стихотворных сборников, книгу французских сказок в собственном переводе, множество критических статей, подготовил академическое издание пьес Уильяма Шекспира. Наибольшее значение в наследии Квиллера-Коуча имеет, однако, составленная им поэтическая антология – «Оксфордская книга английского стиха» (Oxford Book of English Verse, 1250–1900), впервые изданная в 1900 г., а при переиздании дополненная материалами вплоть до 1918 г.: эта книга оставалась стандартным собранием классической английской поэзии на протяжении более чем полувека. Квиллер-Коуч был дружен с Кеннетом Грэмом и, как считается, послужил прототипом для дядюшки Крысси из книги «Ветер в ивах». Дочь Квиллер-Коуча Фой была подругой Дафны Дюморье.
(обратно)330
…«Цорилла», «Трубкозуб», «Ярбуа», «Кинкажу» и «Короткоухий зорро»… – Африканский хорек, или цорилла, или зорилла (лат. Ictonyx striatus), – хищное млекопитающее семейства куньих. Название цорилла произошло от испанского слова zorro (лиса). Трубкозуб, или африканский (капский) трубкозуб (лат. Orycteropus afer), – млекопитающее, единственный современный представитель отряда трубкозубых (Tubulidentata). Эволюционное происхождение отряда трубкозубых остается неясным; вероятно, он близок к сиренам, даманам и хоботным. Старейшие ископаемые остатки трубкозубых, найденные в Кении, датируют ранним миоценом. В конце миоцена и начале плейстоцена представители отряда, схожие с современным видом, проживали в Южной Европе и Западной Азии, а также на Мадагаскаре (Plesiorycteropus). К началу XXI века трубкозубы сохранились только в Африке, где распространены повсеместно к югу от Сахары, за исключением джунглей Центральной Африки. Популяции в долине Нила и в горном массиве Тассили (Алжир) вымерли. Ярбуа (араб. – тушканчик) – арабское название, означает распространенный в пустыне вид грызуна карликовую песчанку (лат. Gerbillus perpallidus). В арабско-русском словаре название Ярбуа не имеет этимологического корня, но по содержанию является близким к арабскому слову «джербоа» (араб.). «Джербоа» является общим названием для всех представителей семейства тушканчиковых, а в переносном смысле может означать «бродяга». В иврите слово «ярбуа» тоже означает «тушканчик». Кинкажу (лат. Potos flavus) – хищное млекопитающее из семейства енотовых, обитающее в Центральной и Южной Америке. Вид выделяется в монотипный род Potos. Короткоухий зорро (Atelocynus microtis) известен также под названиями короткоухая собака и малая лисица; хищное млекопитающее семейства псовых, единственный представитель рода Atelocynus. Обитает в бассейне реки Амазонки.
(обратно)331
«Das unglaubliche Leben der Wolfgang Becker» («Несчастная жизнь Вольфганга Беккера», нем.). – Книга, вероятно, вымышленная, но в ее названии упомянуто реальное лицо: Вольфганг Беккер (р. 1954), немецкий режиссер и писатель. Более всего известен его фильм «Прощай, Ленин!» (Good Bye Lenin!, 2003).
(обратно)332
…изображать Марлона Брандо в роли полковника Курца. – Полковник Уолтер Курц в исполнении Марлона Брандо – персонаж фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».
(обратно)333
Что-то из «Храброго сердца». – «Храброе сердце» (Braveheart, 1995) – фильм, рассказывающий о борьбе Шотландии за независимость против английского господства. Главный герой фильма – историческое лицо XIII века, Уильям Уоллес по прозвищу Храброе Сердце, предводитель шотландцев, в исполнении Мела Гибсона. В 1995 г. фильм «Храброе сердце» был выдвинут на 10 номинаций премии «Оскар» и выиграл 5 из них, включая награды за лучший фильм, за лучший грим, режиссуру, работу оператора и звуковые эффекты.
(обратно)334
«Кто боится, тот бежит». – Здесь настоящая цитата из статьи Роберта Соломона «Философия ужаса» (Robert C. Solomon, «The Philosophy of Horror, or Why Did Godzilla Cross the Road?», в сб. Entertaining Ideas: Popular Philosophical Essays (Prometheus Books, 1992), 119–130). В статье говорится о том, что страх еще не лишает человека способности действовать – например, спасаться бегством, а ужас парализует.
(обратно)335
«Raised in Hell» (дословно: «Выросли в аду») – песня группы Venom с альбома «Cast in Stone» (1997).
(обратно)336
…папа… не переваривает… фильм «Инопланетянин» и заодно ореховое драже Reese’s Pieces. – Это ореховое драже в разноцветной глазури получило широкую известность после скрытой рекламы в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин» (1982).
(обратно)337
…стать Ричардом Бертоном. – Ричард Бертон (Ричард Уолтер Дженкинс, 1925–1984) – британский актер, семикратный номинант на премию «Оскар», а также обладатель «Золотого глобуса», «Грэмми», «Тони» и BAFTA. По данным опроса, проведенного в 2002 г. вещательной компанией Би-би-си, был признан одним из величайших британцев в истории.
(обратно)338
«Синоптики» (Weather Underground Organization или Weathermen) – леворадикальная организация, действовавшая в США с 1969 по 1977 г. Была сформирована из радикального крыла движения «Студенты за демократическое общество» (SDS), выступавшего против войны во Вьетнаме. Название организации происходит от фразы «You don’t need a weatherman to know which way the wind blows» («Вам не нужен синоптик, чтобы узнать, куда дует ветер») из песни «Subterranean Homesick Blues» Боба Дилана. Эту фразу активисты организации использовали в своем манифесте, который они распространили на съезде SDS в Чикаго 18 июня 1969 г.
(обратно)339
Хорэс Ллойд Суизин (ниже цитируются и другие его книги) – вымышленная фигура.
(обратно)340
Небольшое Abenteuer – или лучше было бы сказать, aventure… – То есть «приключение» по-немецки и по-французски.
(обратно)341
La vie parisienne – парижская жизнь (фр.).
(обратно)342
Au sixième étage – шестой этаж (фр.).
(обратно)343
…тракторные гонки «Месиво монстров»… – «Месиво монстров» (Monster Mash) – песня 1962 г., самая известная песня Бобби «Бориса» Пикета. Также анимационные фильмы 1995 и 2000 гг. Тракторные гонки – популярный вид соревнований в США, Европе (особенно Нидерландах, Дании и Германии), Бразилии, Австралии и Новой Зеландии. В России такие гонки проходят ежегодно начиная с 2002 г. под Ростовом-на-Дону, это «Бизон-Трек-Шоу».
(обратно)344
Paris, Pour Le Voyageur Distingué – «Париж, для изысканных путешественников» (фр.).
(обратно)345
…будто они только что сошли с фотографий Дуано… – Робер Дуано (1912–1994) – французский фотограф, мастер гуманистической французской фотографии. За свою долгую жизнь Робер Дуано так и не вписался ни в один из стилей. Он сближался с сюрреалистами, авангардистами, пробовал себя даже в пикториализме. Наиболее известен его кадр «Поцелуй у Отель-де-Виль» (Le Baiser de l’Hôtel de Ville), где изображена пара, целующаяся на фоне парижской ратуши. В 1984 г. получил звание рыцаря ордена Почетного легиона.
(обратно)346
«La Salle Conversation Classroom» – «Класс застольной беседы» (фр., англ.).
(обратно)347
…в каком-нибудь джаз-клубе вроде «au Caveau de la Huchette»… Буквально: в пещере на улице Юшетт. Le Caveau de la Huchette – самый известный джаз-клуб в Латинском квартале в Париже. Здание XVI века стало джаз-клубом в 1946 г. Планировка помещений напоминает лабиринт; рассказывают, что раньше здание использовали розенкрейцеры.
(обратно)348
Джим Моррисон (Джеймс Дуглас Моррисон, 1943–1971) – американский певец, поэт, автор песен, лидер и вокалист группы The Doors.
(обратно)349
S’il vous plaît – пожалуйста (фр.).
(обратно)350
«Оливер!» (Oliver!, 1968) – музыкальный художественный фильм режиссера Кэрола Рида, производство Великобритании. Экранизация одноименного мюзикла Лайонела Барта по мотивам романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Фильм завоевал 5 премий «Оскар» в основных номинациях, в том числе в категории «Лучший фильм», и один так называемый «Почетный „Оскар“». Рон Муди за исполнение роли Феджина получил приз VI Московского кинофестиваля.
(обратно)351
Je ne sais pas, madame. / – Что значит «tu ne sais pas»? / – Je ne sais pas. – Я не знаю, мадам. / – Что значит «ты не знаешь»? / – Я не знаю (фр.).
(обратно)352
Un pain au chocolat – слоеная булочка с шоколадом (из такого же теста, что и круассаны) (фр.).
(обратно)353
Excusez-moi – извините (фр.).
(обратно)354
«Мы любим красоту, состоящую в простоте, и мудрость без изнеженности»… – Перикл (Фукидид. Из речи Перикла над могилами воинов; перевод Ф. Мищенко и С. Жебелева).
(обратно)355
…позавидовал бы Мис ван дер Роэ. – Людвиг Мис ван дер Роэ (Мария Людвиг Михаэль Мис, 1886–1969) – один из основателей школы «Баухауз», немецкий архитектор-модернист, ведущий представитель «интернационального стиля», один из художников, определивших облик городской архитектуры в XX веке.
(обратно)356
…см. статью «Херст, Патрисия»… – Патрисия Кэмпбелл Херст (р. 1954) – внучка Уильяма Рэндольфа Херста, американского миллиардера и газетного магната, жертва политического киднепинга, террористка, судимая за ограбление банка. В феврале 1974 г. в возрасте 19 лет была захвачена в университетском городке Беркли (Калифорния) американской леворадикальной террористической группировкой «Симбионистская армия освобождения». После перенесенного насилия и угроз объявила о своем вступлении в С. А. О., вместе с группой участвовала в нескольких ограблениях. Была арестована и в 1976 г. приговорена к семи годам тюрьмы. Благодаря вмешательству президента США Джимми Картера срок был сокращен, а 1 февраля 1979 г. приговор был отменен. 20 января 2001 г. Херст получила полное президентское помилование указом Билла Клинтона. Случай Патрисии Херст считается классическим примером стокгольмского синдрома.
(обратно)357
Панч и Джуди – персонажи английского народного театра кукол.
(обратно)358
…у Чарлтона Хестона в фильме «Десять заповедей»… – «Десять заповедей» (The Ten Commandments, 1956) – кинофильм Сесила Б. Демилля, экранизация произведения Дж. Х. Ингрэма. Премия «Оскар» за лучшие спецэффекты. Римейк одноименного немого фильма 1923 г. Чарлтон Хестон исполняет в этом фильме главную роль – пророка Моисея.
(обратно)359
Симона де Бовуар (1908–1986) – французская писательница, представительница экзистенциальной философии, идеолог феминистского движения. Подруга (оба они были против брака) и единомышленница Жан-Поля Сартра.
(обратно)360
La vie en rose – жизнь в розовом цвете (фр.). Так называется песня Эдит Пиаф, исполнявшаяся певицей с 1945 г. и записанная в 1947-м. Самые известные кавер-версии: Луиса Армстронга (1950), Грейс Джонс (1977), Донны Саммер (1993).
(обратно)361
En noir – в черном цвете (фр.).
(обратно)362
«Вопль» и другие стихотворения. – Ирвин Аллен Гинзберг (1926–1997) – американский поэт второй половины XX века, основатель битничества и ключевой представитель бит-поколения наряду с Д. Керуаком и У. Берроузом. Автор знаменитой поэмы «Вопль» (1956). Принимал участие в работе над романом Уильяма С. Берроуза «Джанки». Поэма «Вопль» (название иногда переводилось как «Вой», англ. Howl) считается самым известным произведением бит-поколения (наравне с романами «В дороге» Д. Керуака и «Голым завтраком» У. Берроуза). Публикация поэмы считается поворотным пунктом в истории современной литературы.
(обратно)363
…Джин Сиберг в фильме «Здравствуй, грусть»… – «Здравствуй, грусть» (1958) – британо-американский фильм режиссера Отто Премингера по одноименному роману Франсуазы Саган (1954). Главную роль исполняет Джин Сиберг.
(обратно)364
…под пение Саймона и Гарфанкела… – Популярный во второй половине 1960-х гг. американский фолк-дуэт, состоявший из Пола Саймона и Арта Гарфанкела.
(обратно)365
…лохматого байкера, мчащегося в Новый Орлеан в поисках истинной Америки, братаясь по дороге с фермерами, работягами, проститутками и бродячими артистами? – Возможно, намек на фильм «Беспечный ездок» (Easy Rider, 1969), созданный Питером Фондой, Деннисом Хоппером и Терри Сазерном. Фильм стоит у истоков жанров роуд-муви и «кислотного вестерна», традиций американского независимого кино и школы Нового Голливуда. Премьера состоялась на Каннском фестивале, где Хоппер был удостоен приза за лучший дебют. Это первый фильм, за который Джек Николсон был номинирован на «Оскар».
(обратно)366
…каталась на лыжах с родителями в Санкт-Антоне… – Санкт-Антон-ам-Арльберг – коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль, центр горнолыжного спорта и горнолыжный курорт.
(обратно)367
…достанет выкидной нож – с такими танцуют и поют «Акулы» в «Вестсайдской истории»… – «Вестсайдская история» (West Side Story, 1957) – американский мюзикл, сценарий к которому создал Артур Лорентс, музыку – Леонард Бернстайн, слова – Стивен Сондхайм, а хореографию поставил Джером Роббинс. В 1961 г. по этому мюзиклу был снят фильм. Адаптация классической пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1950-х гг., в центре сюжета противостояние двух уличных банд – «Ракет» (Jets), потомков белых эмигрантов, и «Акул» (Sharks), пуэрториканцев. Главный герой, бывший член «Ракет» Тони, влюбляется в Марию, сестру Бернардо, лидера «Акул».
(обратно)368
…превратил в робота вроде степфордских жен… – «Степфордские жены» (The Stepford Wives, 1972) – фантастический триллер, написанный известным писателем Айрой Левином. По нему были сняты два фильма – в 1975 и 2004 гг. Джоанна Эберхарт переезжает вместе со своим мужем и двумя детьми в идиллический городок Степфорд. Там каждая домохозяйка – идеальная мать и жена, горничная и любовница в одном лице. Все они на редкость замкнуты и необщительны. Естественной кажется только одна женщина, Бобби Марковиц, но и она постепенно меняется. Джоанна решает, что нужно срочно переезжать из Степфорда, пока она сама не изменилась до неузнаваемости… Выражение «степфордская жена» стало нарицательным.
(обратно)369
…то я – Бо Дерек в фильме «Десятка». – «Десятка» («10», 1979) – романтическая кинокомедия. Роль Бо Дерек в этом фильме принесла ей известность.
(обратно)370
«Последний раз, когда я видел Париж» (The Last Time I Saw Paris, 1954) – романтическая драма по мотивам рассказа Ф. Скотта Фицджеральда «Снова в Вавилоне».
(обратно)371
Джин Тирни (1920–1991) – американская актриса. Считалась одной из самых красивых голливудских актрис, наиболее известна по ролям в фильмах «Лора» (1944) и «Бог ей судья» (1945), за роль в котором она была номинирована на «Оскар». Помимо этого, она снялась в таких фильмах, как «Небеса могут подождать» (1943), «Призрак и миссис Мьюр» (1947), «Брачный сезон» (1951), «Египтянин» (1954), «Левая рука Бога» (1955) и других. Тирни продолжала сниматься до середины 1960-х гг., после чего ушла на покой и впоследствии лишь несколько раз появилась в небольших ролях на телевидении.
(обратно)372
…схватила с полки «Беглых каторжников» [Де Винтер, 1979] – старую биографию Дэррила Занука. – Книга, вероятно, вымышлена. Дэррил Ф. Занук (1902–1979) – американский продюсер, сценарист, режиссер и актер, сыгравший одну из важнейших ролей в становлении и развитии американской киноиндустрии. «Я – беглый каторжник» (I Am a Fugitive from a Chain Gang, 1932) – остросюжетный фильм Мервина Лероя по автобиографическому произведению Роберта Эллиотта Бернса «Я – беглый каторжник из Джорджии».
(обратно)373
Жизнь Джеймса Кэгни. – Джеймс Фрэнсис Кэгни-мл. (1899–1986) – один из наиболее востребованных актеров классического Голливуда, удостоенный в 1943 г. «Оскара» за лучшую мужскую роль. По итогам XX века Американский институт киноискусства включил Кэгни в десятку величайших актеров в голливудской истории. Кэгни с успехом воплотил в классическом Голливуде типаж «плохого парня». Его хрипловатый раскатистый голос выдавал неистощимые запасы взрывного темперамента. Его актерский диапазон простирался от ролей в экранизациях Шекспира («Сон в летнюю ночь» Макса Рейнхардта) до сатирических комедий («Один, два, три» Билли Уайлдера). Свой единственный «Оскар» он получил за мюзикл «Янки Дудл Денди» (1942).
(обратно)374
Вы в школе проходили «Уолдена» Торо? – «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854) – главная книга американского поэта и мыслителя Генри Дэвида Торо. Весной 1845 г. двадцатисемилетний автор, проникнувшись трансценденталистскими идеями Эмерсона, решил поставить эксперимент по изоляции от общества, сосредоточившись на самом себе и своих нуждах. Он поселился на окраине Конкорда (штат Массачусетс) в построенной им самим хижине на берегу Уолденского пруда. Все необходимое для жизни он обеспечивал самостоятельно, проводя большую часть времени за огородничеством, рыбалкой, чтением классиков, плаванием и греблей. В общей сложности в уединении Торо провел два года, два месяца и два дня. При этом он не прятался от людей и регулярно общался с жителями Конкорда, включая самого владельца пруда – Эмерсона. Описание жизни Торо в лесу не вполне соответствует действительным обстоятельствам его биографии. Так, главы расположены в хронологическом порядке в соответствии со сменой времен года и создают впечатление, что автор прожил на берегу пруда ровно год.
(обратно)375
…как голова Джимми Стюарта в «Головокружении»… – «Головокружение» (Vertigo; 1958) – один из классических фильмов Альфреда Хичкока. Его жанр можно определить как триллер с элементами детектива. Сюжет основан на романе Буало и Нарсежака «Из мира мертвых». Джеймс Стюарт исполняет в фильме главную роль – бывшего детектива Джона Фергюсона. «Головокружение» занимает первое место в списке величайших фильмов по версии Sight & Sound (по итогам опроса 846 кинокритиков, составляется с 1952 г.) и в списке лучших детективов по версии Американского киноинститута.
(обратно)376
«Я ушел в лес, потому что хотел жить разумно, – процитировала она. – Хотел погрузиться в самую суть жизни и добраться до ее сердцевины, чтобы… чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе и не жил… чтобы… что-то такое разумно…» – Обрывочные искаженные цитаты из книги Генри Дэвида Торо «Уолден, или Жизнь в лесу»; перевод З. Александровой.
(обратно)377
«Твой женский лик – Природы дар бесценный / Тебе, царица-царь моих страстей». – У. Шекспир. Сонет 20. Перевод А. Финкеля.
(обратно)378
…дюймов на шесть выше меня… – То есть на 15 см.
(обратно)379
…«Всего превыше – верен будь себе». – У. Шекспир. Гамлет, из наставления Полония Лаэрту (действие I, сцена 3); перевод Б. Пастернака.
(обратно)380
…игрушечных дел мастер при дворе Николая и Александры, Саша Лурин-Кузнецов. – Вымышленное лицо (неясно, имеется в виду царь Николай I или II – их жен после крещения в православие обеих звали Александрами). Прообразом игрушечных дел мастера могли быть, например, Левша или Фаберже.
(обратно)381
…утешительный приз, как в «Голливудских квадратах». – «Голливудские квадраты» – популярная в США телевикторина, российский аналог – «Проще простого».
(обратно)382
…коробка конфет «Уитмен»… – «Уитмен» – самая старая и до сих пор популярная марка американских шоколадных конфет, продающихся в коробках. Производится с 1842 г.
(обратно)383
Барбареско-ориенталь – сорт лилии.
(обратно)384
Жара была девяносто градусов по Фаренгейту… – То есть 32 градуса по Цельсию.
(обратно)385
Уоллес Стивенс (1879–1955) – американский поэт. Первая большая подборка стихов Стивенса была опубликована в 1914 г. в чикагском журнале «Поэтри», первая книга стихов появилась, когда автору исполнилось 44 года. Однако читательская известность пришла к нему еще позже, под конец жизни, когда он получил Национальную книжную премию (1951) и Пулицеровскую премию (1955). Между тем критики уже к 1940-м гг. включали его в число виднейших современных поэтов.
(обратно)386
…высказалась бы о том, как людям необходима Любовь (избитая тема, которую только веская поддержка русских авторов спасает от сползания в непроходимую пошлость [ «Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю»]… – Цитата из романа Льва Толстого «Война и мир».
(обратно)387
…и чуть-чуть Ирвинга Берлина… Говорят, любовь – это чудо! – Ирвинг Берлин (Израиль Исидор Бейлин, Израиль Моисеевич Бейлин, 1888–1989) – американский композитор, который написал более 900 песен, 19 мюзиклов и музыку к 18 кинофильмам. Американский композитор Джером Керн сказал: «Говорить о месте Ирвинга Берлина в истории американской музыки невозможно, ибо он сам – эта история!» «Говорят, любовь – это чудо» (They Say It’s Wonderful) – популярная песня, написанная Ирвингом Берлином для мюзикла «Энни, бери ружье» (Annie Get Your Gun, 1946).
(обратно)388
Помнишь тот милый фильм с Гейблом и Дорис, «Любимец учителя»? – «Любимец учителя» (Teacher’s Pet, 1958) – романтическая комедия режиссера Джорджа Ситона с Кларком Гейблом и Дорис Дэй в главных ролях.
(обратно)389
«Роковое влечение» (Fatal Attraction, 1987) – психологический триллер режиссера Эдриана Лайна, в главных ролях Майкл Дуглас, Гленн Клоуз и Энн Арчер. Преуспевающий адвокат, проведя два дня с женщиной, которая выказала к нему благосклонность, хочет вернуться к семье, но одержимая страстью героиня Гленн Клоуз не отпускает его и превращает его жизнь в кошмар.
(обратно)390
«По ком звонит колокол» (For Whom the Bell Tolls, 1943) – фильм режиссера Сэма Вуда по одноименному роману (1940) Эрнеста Хемингуэя.
(обратно)391
Избавление. – Джеймс Лафайетт Дикки (1923–1997) – американский поэт и писатель. В 1970 г. Джеймс Дикки издал роман «Избавление», который стал бестселлером и через два года был экранизирован. Сам Дикки снялся в эпизодической роли шерифа. Фильм получил три номинации на премию «Оскар». Четверо мужчин средних лет из большого города отправляются на выходные в путешествие на лодках по вымышленной реке в Северной Джорджии, но неожиданно им приходится бороться за свою жизнь.
(обратно)392
«Не допускаю я преград слиянью двух верных душ!» – У. Шекспир. Сонет 116. Перевод М. Чайковского.
(обратно)393
Дженна Джеймсон (Дженнифер Мари Массоли, р. 1974) – американская порноактриса, фотомодель и предприниматель, провозглашенная как самая известная порноактриса, обладательница неофициального титула «Королева порноиндустрии».
(обратно)394
Джанет Джакме (р. 1967) – американская порноактриса, начала сниматься в начале 1990-х.
(обратно)395
Ригатони – макароны в виде коротких рифленых трубочек.
(обратно)396
Это про обезьянью лапку… Страшный рассказ, его в четвертом классе проходят… – «Обезьянья лапка» (1902) – знаменитый мистический рассказ ужасов английского писателя Уильяма Уаймарка Джекобса (1863–1943), при жизни известного как юморист. По сюжету рассказа, владелец обезьяньей лапки может исполнить три своих желания, но за вмешательство в судьбу приходится заплатить страшную цену.
(обратно)397
…ярдов десять… – Примерно 9 м (1 ярд = 91,4 см).
(обратно)398
«Не уходи безропотно во тьму» – строка из стихотворения Дилана Томаса, перевод В. Бетаки. Дилан Марлайс Томас (1914–1953) – валлийский поэт, прозаик, драматург, публицист.
(обратно)399
«Где Уолли?» (Where’s Wally?; в США и Канаде – Where’s Waldo?) – серия детских книг, созданная британским художником Мартином Хендфордом. В них нужно найти определенного человека – Уолли – на картинке, где изображено много людей. Уолли одет в полосатую красно-белую кофту, носит очки, шапку с кисточкой и опирается на деревянную трость. Он постоянно теряет свои вещи, например книги, которые тоже нужно найти на картинке.
(обратно)400
Том Смартс? / – Вообще-то, без второго «с». / – Это у вас что, псевдоним? – Smart (англ.) – умный.
(обратно)401
…в стиле поэзии э. э. каммингса. – Эдвард Эстлин Каммингс (1894–1962) – американский поэт, писатель, художник, драматург. Принято считать, что Каммингс предпочитал писать свою фамилию и инициалы с маленькой буквы (как e.e. cummings), однако не существует никаких документальных подтверждений этого факта. В своей поэтической работе Каммингс проводил радикальные эксперименты с формой, пунктуацией, синтаксисом и правописанием. В некоторых его стихах заглавные буквы не используются; строки, фразы и даже отдельные слова часто прерываются в самых неожиданных местах; знаки препинания или отсутствуют, или расставлены странным образом. Кроме того, Каммингс зачастую нарушал свойственный английскому языку порядок слов в предложении. Многие его произведения можно понять только при чтении с листа, но не на слух.
(обратно)402
…«Пикассо наслаждается жизнью в парижском кабаре „Проворный кролик“» в кн. «Уважая дьявола»… – «Проворный кролик» (фр. «Le Lapin Agile») – знаменитое парижское кабаре на холме Монмартр (18-й аррондисман), в котором с XIX века начинающие поэты декламируют стихи собственного сочинения или исполняют песни. В начале XX века «Проворный кролик» был излюбленным местом встречи молодых и бедных художников и писателей, тогда еще никому не известных. В их числе Пикассо, Модильяни, Аполлинер, Утрилло. «Уважая дьявола» – книга, скорее всего, вымышленная, но здесь, возможно, скрыт намек на пьесу Стива Мартина «Пикассо в „Проворном кролике“» (1993). В пьесе Альберт Эйнштейн и Пабло Пикассо встречаются в «Проворном кролике» в 1904 г. и ведут долгую беседу о значении таланта, общаясь при этом с многочисленными другими персонажами.
(обратно)403
…«противник заходит с юга», «бинго, Скиталец убит»… – Отрывочные цитаты из фильма «Лучший стрелок». «Лучший стрелок» (Top Gun; также известен как «Топ Ган», «Выше крыши», «Воздушная гвардия» и «Школа асов»; 1986) – американский фильм режиссера Тони Скотта с участием Тома Круза, Келли Макгиллис, Вэла Килмера, Энтони Эдвардса и Тома Скерритта. Четыре номинации на премию «Оскар», премия в категории «Лучшая песня» группе Berlin за песню «Take My Breath Away».
(обратно)404
Я не хотела быть единственной выжившей, как Отто Франк, как Анастасия, как Кудряшка, как Тревор Рис-Джонс. – Отто Генрих Франк – отец Анны Франк, которая с 1942 по 1944 г. вела в оккупированном нацистской Германией Амстердаме свой знаменитый дневник. Отто – единственный из героев дневника, который выжил во время депортации. Его жена, обе дочери и друзья погибли в концентрационных лагерях.
Анастасия – великая княжна Анастасия, одна из дочерей Николая II. Существует легенда, что она спаслась после расстрела царской семьи.
Кудряшка – один из персонажей серии коротких комических водевильных сценок, а затем фильмов середины XX века, которая продолжилась на телевидении. Последним исполнителем роли Кудряшки стал комический актер Джо ДеРита. Он прожил дольше других участников.
Тревор Рис-Джонс – телохранитель принцессы Дианы, получил тяжелые травмы во время автоаварии 1997 г., когда погибла принцесса.
(обратно)405
Опра – Опра Гэйл Уинфри (р. 1954) – американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель, ведущая ток-шоу «Шоу Опры Уинфри» (1986–2011). Журнал Forbes назвал ее девятой по влиятельности женщиной в 2005 г. и первой – в 2007 г., самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе в 2009 г., самой влиятельной знаменитостью в 2010 и 2013 гг.
(обратно)406
De Profundis («Из глубины»; выражение восходит к 129-му псалму: De profundis clamavi ad te Domine – «Из глубины воззвав к тебе, Господи») – письмо-исповедь Оскара Уайльда. Написано в Редингской тюрьме в период с января по март 1897 г.
(обратно)407
Цветом лица он напоминал восточное блюдо баба-гануш… – Баба-гануш – популярное блюдо восточной кухни, закуска, состоящая главным образом из пюрированных готовых баклажанов, смешанных с приправами (например, с кунжутной пастой, оливковым маслом, лимонным соком). Баклажаны предварительно целиком запекаются или жарятся над огнем или углями, отчего мякоть становится мягкой и приобретает запах гриля. Цвет блюда – бледный серовато-бежевый.
(обратно)408
…доброго доктора Фрейзера Крейна… – «Фрейзер» (Frasier) – американский ситком, выходивший на телеканале NBC с 1993 по 2004 г. В нем рассказывается о жизни психиатра Фрейзера Крейна.
(обратно)409
…вашему директору – как его, Оскар Майерс?.. – «Оскар Майер» (владелец – «Крафт Хайнц») – известная американская фирма, производит различные мясные изделия: сосиски, колбасы, ветчину и т. д.
(обратно)410
…сидел рядом с ними в Большом цирке… – Большой цирк (лат. Circus Maximus) – в Древнем Риме самый обширный ипподром. Располагался в долине между холмами Авентином и Палатином. В соревнованиях на ипподроме могло одновременно принимать участие 12 колесниц. Согласно легенде, именно на этом месте произошло похищение сабинянок, а также похищение скота Геркулеса.
(обратно)411
Она – лесбиянка… Такая, как «Эллен», а не вроде Энн Хеч… – «Эллен» – известный комедийный сериал Эллен Дедженерес (р. 1958). Энн Хеч (р. 1969) – американская актриса, режиссер и сценарист.
(обратно)412
«Место преступления: Майами» – американо-канадский детективный сериал, выходил в 2002–2012 гг.
(обратно)413
Bueno – хорошо (исп.).
(обратно)414
Muerto – мертвый (исп.).
(обратно)415
Нечего тут изображать Грету Ван Сустерен. Я тебя разочарую: ты не она. И не Вольф Блитцер. – Грета Ван Сустерен (р. 1954) – американская телеведущая. В прошлом – адвокат по уголовным и гражданским делам, она выступала на канале CNN в качестве юриста-аналитика; в 2015 г. журнал Forbes назвал ее 99-й по влиятельности женщиной мира. Вольф Исаак Блитцер (р. 1948) – американский журналист, телеведущий, политический обозреватель. С 1990 г. работает на канале CNN.
(обратно)416
…сделала то же, что Сильвия Платт. – То есть покончила с собой. Сильвия Платт (1932–1963) – американская поэтесса и писательница, считающаяся одной из основательниц жанра исповедальной поэзии в англоязычной литературе. В 1982 г. за книгу Collected Poems («Собрание стихотворений») Платт получила посмертно Пулицеровскую премию. Большую часть взрослой жизни Сильвия Платт страдала от клинической депрессии и в конце концов покончила с собой. Ее имя стало синонимом депрессии и самоубийства.
(обратно)417
И быстренько ставит «Красных»… – «Красные» (Reds, 1981) – фильм Уоррена Битти о жизни американского писателя, журналиста и коммуниста Джона Рида, автора хроники Октябрьской революции 1917 г. «Десять дней, которые потрясли мир». Завоевал три премии «Оскар», в том числе за лучшую режиссуру (Уоррен Битти), и две премии BAFTA. Также номинировался на «Оскар» за лучший фильм, но проиграл «Огненным колесницам». Сценарий фильма является адаптацией мемуаров Джона Рида.
(обратно)418
К сожалению, на разговоры в подобном духе я реагировала не в стиле Аль Пачино (месть крестного отца), или Пеши (воткнуть кому-нибудь в горло авторучку), или Костнера (насмешливая невозмутимость первых переселенцев), или Спейси (убийственно-едкие ответы, произносимые с невозмутимым лицом), или Пенна (возмущенный ор простого работяги). – Аль Пачино – имеется в виду его роль в фильме Френсиса Форда Копполы «Крестный отец». Пеши и авторучка – имеется в виду сцена из фильма Мартина Скорсезе «Казино» (Casino, 1995) с участием Роберта Де Ниро и Джо Пеши. Кевин Майкл Костнер (р. 1955) – американский актер, продюсер, режиссер и музыкант, обладатель премий «Золотой глобус» (1991, 2013) и «Эмми» (2012), в 1991 г. отмечен двумя «Оскарами» – за лучшую режиссуру и за лучший фильм; Костнер – один из шести режиссеров в истории мирового кинематографа, получивших эту награду за дебютный фильм. Удостоен Звезды на голливудской Аллее Славы. Кевин Спейси (Кевин Спейси Фаулер, р. 1959) – американский актер, режиссер, сценарист, продюсер и певец-крунер. Начинал свою актерскую карьеру в театре. Лауреат многочисленных наград, в том числе премий «Оскар» (1996, 2000), BAFTA (2000), «Золотой глобус» (2015), «Тони» (1991), номинант на премии «Эмми» (2008, 2013, 2014) и «Грэмми» (2006). В настоящее время – художественный руководитель одного из престижнейших и старейших британских театров «Олд-Вик», в котором, помимо руководящей должности, является еще и одним из ключевых артистов. Шон Джастин Пенн (р. 1960) – американский актер и кинорежиссер. Лауреат премии «Оскар» за главные роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк». Один из самых титулованных актеров современности, призер трех крупнейших кинофестивалей мира – Каннского, Венецианского (дважды) и Берлинского.
(обратно)419
«Нортоновская антология поэзии» – одна из нескольких литературных антологий издательства W.W. Norton and Company. Стандартное издание для изучения поэзии в школе, своего рода канон. Впервые вышла в 1979 г., сейчас опубликовано пятое издание.
(обратно)420
…психопатка или там братья Менендес… – Джозеф Лайл Менендес (р. 1968) и Эрик Гален Менендес (р. 1970) в 1994 г. были осуждены на пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения за убийство своих богатых родителей в Беверли-Хиллз, Калифорния, совершенное в 1989 г.
(обратно)421
«Живые» (также «Выжить»; Alive, 1993) – фильм Фрэнка Маршалла, реконструкция печально знаменитого крушения уругвайского самолета над Андами в 1972 г. Фильм снят по книге Пирса Пола Рида «Живые. История спасшихся в Андах», основанной на документальном материале.
(обратно)422
«Глубокий сон» (The Big Sleep, 1939) – роман Рэймонда Чандлера, первый из цикла книг о частном сыщике Филипе Марлоу.
(обратно)423
«Могущий смотреть – да увидит, могущий видеть – да заметит». – Книга Наставлений; эпиграф к книге Ж. Сарамаго «Слепота», перевод А. Богдановского.
(обратно)424
«Cosi fan tutte» – «Так поступают все женщины» (ит.).
(обратно)425
«Жюстина» – «Жюстина, или Несчастная судьба добродетели» – вторая редакция романа маркиза де Сада «Несчастья добродетели». Это третье произведение, им написанное, и первое, опубликованное при его жизни (1791). В 1797 г. была издана третья редакция: «Новая Жюстина, или Несчастная судьба добродетели».
(обратно)426
…Жаклин Кеннеди на Арлингтонском кладбище… и Джон-Джона… – На военном кладбище в Арлингтоне, пригороде Вашингтона, похоронен 35-й президент США Джон Ф. Кеннеди. Джон Фицджеральд Кеннеди-младший (1960–1999) – американский журналист и адвокат, третий ребенок и первый сын 35-го президента США Джона Кеннеди и Жаклин Кеннеди. В американской прессе его также называли Джон-младший, Джон-Джон или Сын Америки, поскольку он был одним из немногих президентских детей, в раннем возрасте оказавшихся и воспитывавшихся в Белом доме, фактически на виду у всей страны.
(обратно)427
«Там, где живут чудовища» – детская книжка с картинками американского писателя и художника Мориса Сендака. Вышла в 1963 г. в издательстве Harper & Row и вскоре стала классикой современной детской литературы США. Книга переведена на множество языков. По ней снят мультфильм, поставлена опера, а в 2009 г. выпущен полнометражный фильм, имевший большой успех. В русском переводе книга вышла в конце 2014 г., уже после смерти автора и спустя более полувека после ее оригинальной публикации.
(обратно)428
…под «Лихорадку» Пегги Ли… – «Лихорадка» («Fever») – песня Эдди Кули и Отиса Блэкуэлла, впервые исполненная ритм-энд-блюз-певцом Литтл Уилли Джоном в 1956 г. и ставшая хитом в исполнении Пегги Ли двумя годами позже. Песню исполняли и многие другие, в том числе Элвис Пресли, Бейонсе и Мадонна.
(обратно)429
Ты что, «Джуда Незаметного» начиталась? – «Джуд Незаметный» (1895) – последний роман Томаса Гарди (1840–1928). Одна из главных тем книги – роковая страсть. Герой и героиня, несчастные каждый в своем браке, решают жить вместе, но заканчивается это трагически.
(обратно)430
Старый Брехун? – «Старый Брехун» (Old Yeller, 1957) – семейный фильм-драма. События фильма происходят в Техасе, в конце XIX века.
(обратно)431
…как в фильмах Оливера Стоуна. – Уильям Оливер Стоун (р. 1946) – американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель множества кинопремий (в том числе трех «Оскаров»). Многие его фильмы посвящены трагическим страницам современной истории – «Сальвадор» (1986) о гражданской войне в Сальвадоре, трилогия о вьетнамской войне («Взвод» [1986], «Рожденный четвертого июля» [1989], «Небо и земля» [1993]), и другие. Трагически заканчивается и его фильм «Лицо со шрамом» (1983), который многие критики считают одним из лучших гангстерских фильмов. Стоун снял несколько документальных фильмов, среди них «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» (1991), в котором отображено независимое расследование убийства президента. В сатирическом фильме Стоуна «Прирожденные убийцы» (1994) показано, как средства массовой информации ради повышения рейтингов превращают любое, даже самое ужасное происшествие в сенсацию.
(обратно)432
«Мария-Роза» – английская трехпалубная каракка, флагман английского военного флота при короле Генрихе VIII Тюдоре. Это крупное для своего времени судно было спущено на воду в Портсмуте в 1510 г. Свое название каракка получила, вероятно, в честь французской королевы Марии Тюдор (сестры короля) и розы как геральдического символа дома Тюдоров.
В 1545 г. французский король Франциск I высадился на острове Уайт. Англичане направили в пролив Те-Солент на защиту острова 80 кораблей во главе с «Марией-Розой». Перегруженная артиллерией каракка, никогда не отличавшаяся остойчивостью, из-за порыва ветра неожиданно стала крениться на правый борт и, заполнившись водой через орудийные порты, затонула вместе с большей частью экипажа и адмиралом Джорджем Кэрью. Спастись удалось только 35 морякам из четырех сотен. В последующие 20 лет предпринималось несколько попыток поднять корабль, но при уровне технологий того времени они потерпели неудачу. Была поднята лишь часть пушек. До конца XVI века при отливе начавший разрушаться корабль был хорошо виден с поверхности воды, а затем его полностью занесло илом. Интерес современных морских археологов к кораблю проснулся в конце 1960-х гг. К 1982 г. со дна Солента удалось по частям поднять большую часть корабельных останков. Выставленные в портсмутском порту в музее «Марии-Розы», они иллюстрируют жизнь моряков первой половины XVI века.
(обратно)433
L’Avventura – «Приключение» (ит.).
(обратно)434
«Любовь во время холеры» – роман Габриэля Гарсиа Маркеса, впервые опубликованный на испанском языке в 1985 г. В России роман также выходил под названием «Любовь во время чумы».
(обратно)435
Proconsul africanus – Проконсул (лат. Proconsul) – род ископаемых приматов эпохи миоцена, существовавший 17–21 млн лет назад в Африке. Выделяют 3–5 видов. Первая находка, часть челюсти проконсула, была сделана в Кении в 1909 г. Наименование было дано в 1933 г. Артуром Хопвудом и означает «до Консула». В то время кличка Консул часто использовалась в цирке для дрессированных шимпанзе. Хопвуд во время экспедиции в Африку вместе с Луисом Лики в окрестностях озера Виктория нашел останки еще трех особей этого рода и дал им видовое название (africanus), полагая, что имеет дело с предком шимпанзе.
(обратно)436
…мой американец в Париже, мой Бригадун. – «Американец в Париже» (An American in Paris, 1951) – музыкальный фильм по мотивам одноименной симфонической поэмы Джорджа Гершвина (1928). Помимо инструментальной музыки из этой поэмы в фильме были использованы песни из других мюзиклов Гершвина. Хореография Джина Келли. В главных ролях Джин Келли и Лесли Кэрон. «Бригадун» (Brigadoon, 1954) – музыкальный фильм киностудии Metro-Goldwyn-Mayer на основе мюзикла А. Лернера и Ф. Лоу. По сюжету, двое американских туристов нечаянно попадают в Бригадун – таинственную шотландскую деревушку, которая появляется раз в сто лет всего на день. Один из туристов, Томми, влюбляется в Фиону, девушку из Бригадуна.
(обратно)437
«Пренеприятнейшее происшествие на улице Мерулана» – рассказ итальянского писателя Карло Эмилио Гадды (1893–1973). «Творчество Карло Эмилио Гадды – „великана Гадды“ (Ф. Феллини), „несравненного Гадды“ (И. Кальвино) – практически незнакомо российскому читателю. Причиной тому исключительная сложность встающих перед переводчиком задач. Гадда выработал литературную манеру, названную критикой „плюрилингвизмом“. Впрочем, это лишь самое известное из множества определений; так, крупнейший литературовед Джанфранко Контини отнес Гадду к макароническим авторам и охарактеризовал его стиль как „экспрессионистический маньеризм“. Суть его манеры – в сплетении в единую словесную ткань архаизмов, латинизмов, диалектальных речений (порой это контаминация различных диалектов), неологизмов, научных терминов, жаргонизмов, слов из других языков и прочая, и прочая, не говоря уж о симбиозе просторечия с высоким штилем…» (Н. Ставровская, из вступления к ее же переводу книги «Театр»).
(обратно)438
…роль Джозефа Уэйла по прозвищу Желтый Парень… – Джозеф Уэйл по прозвищу Желтый Парень (Yellow Kid) был мошенником по убеждению, таланту и вдохновению. Он родился в 1875 г. в Чикаго и ничем другим в своей жизни, кроме мошенничества, не занимался. Говорят, что его суммарный доход за всю жизнь составил более 8 миллионов долларов.
(обратно)439
Марчелло Мастроянни – Марчелло Винченцо Доменико Мастроянни (1924–1996) – итальянский актер, который чаще других снимался у Федерико Феллини и Витторио де Сики. Его сосредоточенная, сдержанная и несколько эксцентричная манера актерской игры послужила идеальным фоном для художественных поисков этих режиссеров.
(обратно)440
«La Dolce Vita» – «Сладкая жизнь» (ит.); фильм Федерико Феллини, выпущенный в 1959 г.
(обратно)441
«Tu sei la prima donna del primo giorno della creazione, sei la madre, la sorella, l’amante, l’amica, l’angelo, il diavolo, la terra, la casa…» – «Ты – первая женщина первого дня творения. Ты – мать, сестра, любовница, подруга, ангел, дьявол, земля, дом» (ит.).
(обратно)442
Paparazzi, puttane, cognoscenti, tappisti – папарацци; проститутки, знакомые или знатоки (ит.). Слова tappisti в итальянском нет, есть слово teppisti – «бандиты»; как уже упоминалось, папа героини на самом деле не так уж силен в итальянском.
(обратно)443
«Распад» (или «И пришло разрушение»; Things Fall Apart, 1958) – роман нигерийского прозаика Чинуа Ачебе (Альберт Чинуалумогу Ачебе, 1930–2013). Этот роман на сегодняшний день является самой читаемой и переводимой книгой современного африканского писателя. За него писатель в 2007 г. получил Международную Букеровскую премию. В романе описан приход европейцев на африканскую землю и его разрушительные последствия.
(обратно)444
– Это был бы первый в мире живой кроссворд. / – Если бы родился мальчик, его бы назвали Воскресный Выпуск Таймс… – В воскресном выпуске газеты «Таймс» публикается особенно сложный кроссворд.
(обратно)445
«Камикадзе» – коктейль из равных частей водки, ликера кюрасао Triple sec и сока лайма. Подается охлажденным без льда в высоком стакане, обычно украшается долькой или корочкой лайма.
(обратно)446
«Белое золото». – Здесь и дальше Синь переплетает свои впечатления от Эвы Брюстер с подробностями жизни Эвы Дуарте де Перон («Эвиты»). В 1937 г. Эва Дуарте получила свою первую роль в радиоспектакле. Он транслировался Радио Бельграно, назывался «Белое золото» и рассказывал о трудовых буднях собирателей и обработчиков хлопка.
(обратно)447
…увидела обнаженного Агустина Магальди… – В мюзикле «Эвита» Агустин Магальди показан как человек, который привез Эву в Буэнос-Айрес и тем самым изменил ее судьбу, но на самом деле его роль в жизни Эвы точно не установлена.
(обратно)448
…круглосуточная работа в Министерстве труда… – Летом 1946 г. Эва Перон начала посещать предприятия и выступать перед рабочими. Помощь беднякам стала одним из важнейших направлений ее деятельности. В борьбе за влияние в этой сфере возник конфликт между Эвой, представлявшей интересы правительства, и Благотворительным обществом, отражавшим мнение оппозиции. Нежелание дам-аристократок избрать жену президента почетным председателем общества привело к скорой развязке. В сентябре 1946 г. декретом исполнительной власти общество было закрыто, а его имущество конфисковано в пользу государства. Взамен был создан Фонд социальной помощи под руководством Марии Эвы Дуарте де Перон. Официально Эва не занимала никаких государственных должностей. Однако уже в 1946 г. она вела прием граждан в Министерстве труда (бывшем секретариате), обосновавшись в старом кабинете Перона. Отныне контакты рабочих с лидером движения должны были осуществляться через нее как его личного представителя. В министерстве Эва вела профсоюзно-политическую и социальную работу, по несколько раз в неделю принимая всех, кто нуждался в срочной помощи или хотел передать просьбу президенту.
(обратно)449
Рок Хадсон (Рой Гарольд Шерер-младший, 1925–1985) – американский актер кино и телевидения, известен главным образом ролями в мелодрамах Дугласа Сирка и в серии фильмов, где его партнершей выступала Дорис Дэй. Среди партнеров Хадсона по съемочной площадке – Джина Лоллобриджида, Бобби Дарин, Сандра Ди, Джоэл Грей, Анджела Лэнсбери, Элизабет Тейлор, Тони Кертис, Ким Новак, Джули Эндрюс и многие другие.
(обратно)450
«Timex Datalink» – одна из первых моделей смарт-часов.
(обратно)451
…сцену из «Бриолина»… – «Бриолин» (Grease, 1978) – мюзикл, сделавший Джона Траволту и Оливию Ньютон-Джон кинозвездами.
(обратно)452
…или когда миссис Робинсон говорит Элейн, что не соблазняла Бенджамена… – Миссис Робинсон, Элейн, Бенджамен – персонажи «Выпускника» (The Graduate, 1967) – комедийного «фильма воспитания» американского режиссера Майка Николса с Дастином Хоффманом в главной роли. Один из самых кассовых фильмов 1960-х гг., сделавший Хоффмана голливудской звездой. Огромный успех «Выпускника» у молодежи подтолкнул Голливуд к исследованию прежде табуированных тем и ускорил наступление эпохи Нового Голливуда. Ныне считается одним из величайших комедийных кинофильмов. Семь номинаций на премию «Оскар», в том числе как лучшему фильму года, одна из которых оказалась победной – за лучшую режиссуру Николса.
(обратно)453
…или когда Дейзи выбирает нудного Тома, а не Гэтсби… – Дейзи, Том, Гэтсби – персонажи романа Ф. Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» (1925).
(обратно)454
…как красный огненный муравей… – Красный огненный муравей, муравей огненный импортный красный (лат. Solenopsis invicta) – один из самых опасных в мире инвазивных видов муравьев, обладающих сильным жалом и ядом, которые могут стать смертельно опасными для людей, страдающих от аллергии. Относится к группе огненных муравьев.
(обратно)455
«Три лица Евы» (The Three Faces of Eve, 1957) – американский кинофильм режиссера Наннэлли Джонсона. Экранизация документальной книги докторов Корбетта Тигпена и Харви Клекли, основанной на случае раздвоения личности Крис Костнер Сайзмор. Главные роли исполнили Джоан Вудворд и Ли Джей Кобб. Джоан Вудворд получила премию «Оскар», став первой актрисой, получившей «Оскара» за исполнений трех разных ролей – трех личностей пациентки.
(обратно)456
…«Малыш» или «Толстяк»… – «Малыш» (Little Boy) и «Толстяк» (Fat Man) – кодовые имена атомных бомб, сброшенных на Хиросиму (6 августа 1945) и Нагасаки (9 августа 1945).
(обратно)457
«История – это ложь, с которой все согласны», – сказал Наполеон. – Изначально афоризм принадлежит Вольтеру, Наполеон его только повторил.
(обратно)458
Джордж Паттон (1885–1945) – американский генерал, во время Второй мировой войны главнокомандующий нового танкового корпуса, воевавшего во Франции. Принимал активное участие в кампаниях в Северной Африке, на Сицилии, во Франции и Германии с 1943 по 1945 г. Погиб в автокатастрофе 21 декабря 1945 г. в Германии, недалеко от Мангейма.
(обратно)459
Дженис Джоплин (1943–1970) – американская рок-певица, выступавшая сначала в составе Big Brother and the Holding Company, затем в Kozmic Blues Band и Full Tilt Boogie Band. Джоплин, выпустившая лишь четыре студийных альбома (один из которых – посмертный релиз), считается лучшей белой исполнительницей блюза и одной из величайших вокалисток в истории рок-музыки. В 1995 г. Дженис Джоплин была посмертно введена в Зал Славы рок-н-ролла; в 2005 г. – удостоена Grammy Lifetime Achievement Award за выдающиеся достижения; в 2013 г. получила звезду на голливудской Аллее Славы.
(обратно)460
«Все мы – насекомые, – раздельно проговорила я. – Но я верю, что я – светлячок»! – Автор афоризма про светлячка – Уинстон Черчилль.
(обратно)461
…даже такой рысак-чемпион, как Счастливей Некуда, выигравший в 1971 году и Дерби, и Прикнесс, может вдруг на Бельмонтских скачках прийти последним. – Самые значимые скачки в США объединены в серию «Тройная корона» – Кентукки-дерби (в Луисвилле, штат Кентукки), «Прикнесс Стэйкс» (в Балтиморе, штат Мэриленд) и «Бельмонт Стэйкс» (в парке Бельмонт, штат Нью-Йорк).
(обратно)462
Сэм Спейд – вымышленный частный детектив, главный герой романа-нуар «Мальтийский сокол» (1930) и ряда рассказов американского писателя Дэшила Хэммета, неоднократно экранизированных и воссозданных в театральных постановках.
(обратно)463
…от «Опры» и «Лено» до программ «Сегодня» и «Точка зрения»… – «Шоу Опры Уинфри» – см. примечание выше. Джей Лено (Джеймс Дуглас Муир Лено, р. 1950) – лауреат «Эмми», американский стенд-ап-комик, телеведущий и писатель, наиболее известный как ведущий телепередачи The Tonight Show на канале NBC. «Сегодня» (Today или The Today Show) – американская утренняя программа новостей и ток-шоу на канале NBC. Выходит в эфир с 1952 г. Программа занимала лидирующие позиции в сетке телевещания американских каналов до конца 1980-х гг., пока не появилась передача «С добрым утром, Америка» (Good Morning America) телеканала ABC. Программа Today, согласно рейтингу Нильсена, вернула себе лидирующее положение 11 декабря 1995 г. и удерживалась на этой позиции до 9 апреля 2012 г. (последняя информация). «Точка зрения» (The View) – американское дневное ток-шоу, созданное Барбарой Уолтерс и выходящее на телеканале ABC с 1997 г. по настоящее время. Задумывалось как развлекательное дневное шоу, в котором ансамбль женщин-ведущих разговаривает на разные темы: от светских новостей до политических проблем. В каждом выпуске также появляются приглашенные звездные гости. В 2003 г. проект выиграл премию «Эмми» в категории «Лучшее ток-шоу». Был неоднократно спародирован в Saturday Night Live, The Simpsons и других телешоу.
(обратно)464
Отец весил двести сорок фунтов. – То есть 109 кг.
(обратно)465
«Mai addormentati» – «Неспящие» (ит.).
(обратно)466
Малкольм Икс (эль-Хадж Малик эш-Шабазз, араб.; имя при рождении Малкольм Литтл, 1925–1965) – афроамериканский исламский духовный лидер и борец за права человека. Среди сторонников Икс известен как защитник прав чернокожего населения США, резкий критик американцев европейского происхождения, виновных, по его мнению, в преступлениях против афроамериканцев. Противники Икса обвиняли его в апологии расизма и насилия. Икс был назван одним из наиболее влиятельных афроамериканцев в истории.
(обратно)467
Эрин Брокович – правозащитница, боровшаяся за права жителей Хинкли, штат Калифорния, против корпорации Pacific Gas and Electric Company, загрязнявшей грунтовые воды города канцерогенным шестивалентным хромом, вызывающим онкологические заболевания у горожан. О ее деятельности был снят фильм «Эрин Брокович» (Erin Brockovich, 2000) режиссера Стивена Содерберга. Главную героиню сыграла Джулия Робертс, удостоенная за эту роль многочисленных кинопремий, включая «Оскар» и «Золотой глобус». Реальная Эрин Брокович исполнила в начале фильма эпизодическую роль официантки по имени Джулия.
(обратно)468
…точно саркофаг фараона Хетераамеса в 1927 году, когда Карлсон Кей Мид исследовал захоронение с мумиями в Долине Царей… – И фараон, и исследователь, по всей вероятности, выдуманы автором.
(обратно)469
…написан кровью на двери дома на Сьело-драйв… – 10050 Сьело-драйв – особняк, который был расположен в районе Бенедикт-Кэньон, к северу от Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, штат Калифорния. В 1969 г. в этом доме была убита актриса Шерон Тейт членами банды Чарли Мэнсона. После этих трагических событий в нем проживали различные голливудские знаменитости – деятели кино– и музыкальной индустрии. Особняк был снесен в 1994 г., на его месте был построен новый дом, который имеет другой адрес.
(обратно)470
…тут тебе и «Синоптики», и «Черные пантеры», и «Студенты за демократическое общество»… – «Синоптики» – см. примечание выше. «Партия черных пантер» (Black Panther Party for Self-Defense) – афроамериканская леворадикальная организация, ставившая своей целью продвижение гражданских прав чернокожего населения. Была активна в США с середины 1960-х по 1970-е гг. Организация «Студенты за демократическое общество» (Students for a Democratic Society, SDS) была создана в 1960 г. Среди ее участников были как весьма умеренные либералы, так и радикалы, в том числе анархисты. «Движение является сообществом бунтарей, обладающих общими радикальными ценностями» – так характеризовал SDS один из его лидеров Том Хейден.
(обратно)471
…вроде Гордона Гекко… вроде Бада Фокса… – Гордон Гекко – один из главных персонажей фильмов «Уолл-стрит» (1987) и «Уолл-стрит-2. Деньги не спят» (2010) в исполнении Майкла Дугласа. Бад Фокс – персонаж тех же фильмов, помощник Гордона Гекко, его роль исполняет Чарли Шин.
(обратно)472
…гибелью за три месяца четырех руководящих работников, непосредственно отвечавших за конструирование и продажу модели «форд-пинто». – Субкомпактный легковой автомобиль, выпускавшийся компанией Ford Motor Company для покупателей в Северной Америке начиная с 11 сентября 1970 г. по 1980 модельный год. За это время было произведено более 3 миллионов машин. В 1977 г. Национальное управление безопасностью движения на трассах объявило о том, что конструкция топливного бака «форда-пинто» небезопасна. В результате нескольких судебных исков были выплачены крупные суммы для возмещения убытков. Компания-изготовитель отозвала более полутора миллионов машин, чтобы внести изменения, снижающие риск возгорания.
(обратно)473
Die Motte – мотылек, ночная бабочка (нем.).
(обратно)474
Мохаве (англ. Mohave/Mojave, самоназвание Aha macave, букв. «живущие вдоль воды») – племя индейцев, проживающее в настоящее время в двух резервациях на реке Колорадо. Резервация Форт-Мохаве занимает части штатов Калифорния, Аризона и Невада, а резервация Колорадо-Ривер занимает части штатов Калифорния и Аризона. В последней, наряду с мохаве, проживают индейцы из племен чемеуэви, хопи и навахо.
(обратно)475
Бетти Пейдж (1923–2008) – знаменитая американская фотомодель, секс-символ конца 1950-х г.; как считается, стала предтечей сексуальной революции 1960-х.
(обратно)476
Ким Бейсингер (Кимила Энн Бейсингер, р. 1953) – американская актриса. Получила известность, сыграв роль «девушки Бонда» в фильме «Никогда не говори никогда» (Never Say Never Again, 1983) с Шоном Коннери. Также известна ролью Элизабет в эротической драме Эдриана Лайна «Девять с половиной недель» (9½ Weeks, или Nine ½ Weeks, 1986) с Микки Рурком. Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме «Секреты Лос-Анджелеса» (L. A. Confidential, 1997).
(обратно)477
«…сочится… как машинное масло – из „эдсела“»… – «Эдсел» (Edsel) – дочерняя марка и самостоятельное подразделение Ford Motor Company, в 1958–1960 модельных годах безуспешно пытавшиеся занять на североамериканском рынке нишу «среднедорогих» автомобилей. Запуск марки «Эдсел» – один из крупнейших провалов в истории автомобилестроения, считающийся классическим примером маркетинговой ошибки. В Соединенных Штатах слово «эдсел» стало нарицательным и совершенно однозначно ассоциируется с полным провалом.
(обратно)478
Аппалачская тропа – размеченный маршрут для пешеходного туризма в североамериканской горной системе Аппалачи. Аппалачская тропа имеет протяженность около 3,5 тыс. км от горы Катадин (Мэн) на севере до горы Спрингер (Джорджия) на юге. Точную длину определить практически невозможно, так как существует несколько альтернативных путей. В настоящее время туризм по этому маршруту имеет огромную популярность.
(обратно)479
Les Veilleurs de Nuit – Ночные дозорные (фр.).
(обратно)480
I Got Rhythm («Я ощущаю ритм»; 1930) – произведение Джорджа Гершвина на стихи Айры Гершвина, относится к числу джазовых стандартов.
(обратно)481
«Соль земли» – рассказ Фланнери О’Коннор. Фланнери О’Коннор (1925–1964) – писательница Юга США, мастер южной готики.
(обратно)482
Corazon – сердце (исп.).
(обратно)483
Больше страстей, чем в Пейтон-Плейс, больше безысходности, чем в Йокнапатофе. А уж причудливостью не уступает Макондо. – Пейтон-Плейс – см. примечание выше. Йокнапатофа – вымышленный округ на юге США, в котором разворачиваются события большинства произведений Уильяма Фолкнера. Макондо – вымышленный город, основное место действия романа «Сто лет одиночества» (1967) Габриэля Гарсиа Маркеса. Его прообразом стал родной город писателя – Аракатака в Колумбии.
(обратно)484
DeLoreanDMC-12 – спортивный автомобиль, который выпускался в Северной Ирландии для американской автомобильной компании «DeLorean Motor Company» с 1981 по 1983 г. В данный момент производится под заказ или восстанавливается в «DMC Texas». Обычно его называют просто «DeLorean», поскольку это была единственная модель, выпускавшаяся компанией. Автомобиль имеет интересный дизайн и наиболее известен тем, что фигурировал в качестве машины времени в кинотрилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее».
(обратно)485
…называть кодовым именем Черная Борода? – Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода (предположительно 1680–1718) – английский пират, действовавший в районе Карибского моря в 1716–1718 гг.
(обратно)486
…Синь Ван Меер родилась с поросячьим хвостиком, а безумную мисс Шнайдер толкнула на путь фанатика многовековая безответная любовь – «Любовь во время холеры»…. «Генерал в своем лабиринте»… – Здесь папа героини ссылается на романы Габриэля Гарсии Маркеса.
(обратно)487
Карл Краус (1874–1936) – австрийский писатель, поэт-сатирик, литературный и художественный критик, фельетонист, публицист, уникальная фигура немецкоязычной общественной и культурной жизни первой трети XX века.
(обратно)488
– «Все самое хорошее в этом мире можно выразить одним словом, – отпарировала я. – Свобода, справедливость, честь, долг, милосердие. И надежда». Черчилль. «Ты хочешь правосудья? Будь уверен – его получишь больше, чем желаешь». Шекспир, «Венецианский купец». – Шекспир цитируется в переводе Т. Щепкиной-Куперник; по-английски справедливость и правосудие обозначаются одним и тем же словом – justice.
(обратно)489
Маккей? – Чарльз Маккей (1814–1889) – шотландский поэт, журналист и автор песен. В 1841 г. он выпустил свой самый известный, ставший классическим труд о массовых маниях «Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы».
(обратно)490
…как… череп с пустыми глазницами на картине Джорджии О’Киф. – Джорджия Тотто О’Киф (1887–1986) – американская художница. Особенно известны ее картины с изображением огромных цветов, нью-йоркских небоскребов и пейзажей Нью-Мексико. Ее называют «матерью американского модернизма».
(обратно)491
…в шутку называл ее Гейзихой… – Гейзиха – так Гумберт Гумберт в романе Набокова «Лолита» называет мать Лолиты, миссис Гейз.
(обратно)492
… какой-нибудь след – револьвер, веревка, подсвечник или разводной ключ, который там оставили миссис Пикок, полковник Мастард или профессор Плам… – Имеются в виду персонажи комедийного детектива «Улика» (Clue, 1985), основанного на одноименной игре. И в игре, и в фильме обыгрывается классическая ситуация: группа людей, труп, гигантский дом и извечный вопрос «Кто же убийца?».
(обратно)493
…двухтомник издательства Мориса Жиродиа «Олимпия-пресс» 1955 г. – «Лолита» и «Ада, или Радости страсти»… – В скандально известном парижском издательстве «Олимпия-пресс» выходила в 1955 г., конечно же, только «Лолита», причем именно что двухтомником; роман «Ада» был выпущен американским издательством «Макгроу-Хилл» в 1969 г.
(обратно)494
«По ту сторону добра и зла» – «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего» (1886) – произведение немецкого философа Фридриха Ницше.
(обратно)495
«В исправительной колонии» (1919) – рассказ Франца Кафки, написанный в 1914 г., доработан в 1918-м и впервые опубликован в 1919 г. Вместе с новеллами «Приговор» и «Превращение» три рассказа составляют сборник «Кара».
(обратно)496
«Таинственный сад» – классическая детская повесть англо-американской писательницы Фрэнсис Элизы Ходжсон Бёрнетт (1849–1924), опубликованная в 1911 г.
(обратно)497
…как Молли Браун в той спасательной шлюпке «Титаника»… – Маргарет Браун (Маргарет Тобин, 1867–1932) – американская светская дама, филантроп и активист, одна из выживших пассажиров «Титаника». Во время крушения помогала другим пассажирам и уговорила команду спасательной шлюпки, где находилась, вернуться на поиски выживших. После смерти ее стали называть «непотопляемая Молли Браун», хотя друзья звали ее Мегги. О ее жизни был поставлен мюзикл на Бродвее (1960), а затем снят фильм (1964) – оба под названием «Непотопляемая Молли Браун».
(обратно)498
Птицелов из Алькатраса (Роберт Франклин Страуд, 1890–1963) – американский преступник. Сидя за решеткой, нашел утешение и призвание в ловле и продаже птиц. Отбывал наказание в Алькатрасе. Несмотря на прозвище, он никогда не держал птиц в Алькатрасе и занимался этим только до тех пор, пока его не перевели в Алькатрас из Ливенуорта. Его истории посвящен фильм «Любитель птиц из Алькатраса» (Birdman of Alcatraz, 1962) режиссера Джона Франкенхаймера. Главную роль исполнил Берт Ланкастер. Четыре номинации на премию «Оскар».
(обратно)499
Уважаемые поклонники «Марат – Сада»… – «Преследование и убийство Жан-Поля Марата, представленное актерской труппой госпиталя в Шарантоне под руководством господина де Сада» (сокращенное название «Марат – Сад» или «Марат/Сад»; 1963) – пьеса в двух актах западногерманского драматурга Петера Вайса. В основе пьесы – вымышленный спор непосредственных участников Великой французской революции, излагающих свои взгляды на происшедшие события через пятнадцать лет после убийства Жан-Поля Марата. Премьера пьесы состоялась в Театре Шиллера в Западном Берлине 29 апреля 1964 г. и имела громкий успех, затем ее поставили на сценах Восточной Германии, Великобритании, США и других стран. В 1967 г. английский режиссер Питер Брук выпустил кинематографическую адаптацию спектакля. Пьеса остается востребованной и регулярно появляется в репертуаре театров, включая Royal Shakespeare Company (2011), Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки (2008) и Театр на Таганке (1998).
(обратно)500
…Питер Финч в фильме «Телесеть»… – «Телесеть» (Network, 1976) – фильм Сидни Люмета, едкая сатира на американское телевидение. В основе фильма лежит история вымышленной телекомпании Union Broadcasting System (UBS) и ее обозревателя Говарда Била (Питер Финч). Фильм получил четыре «Оскара»: за лучшую мужскую роль (Финч), за лучшую женскую роль (Фэй Данауэй), за лучшую женскую роль второго плана (Беатрис Стрейт) и за лучший оригинальный сценарий (Пэдди Чаефски).
(обратно)501
Deus ex machina – бог из машины (лат.).
(обратно)502
КОИНТЕЛПРО – COINTELPRO (Counter Intelligence Program, «контрразведывательная программа») – секретная, зачастую незаконная программа Федерального бюро расследований (ФБР) по подавлению деятельности ряда политических и общественных организаций США. Официально действовала в 1956–1976 гг. Первоначально программа была направлена на Коммунистическую партию США, однако впоследствии ее действие распространилось на другие политические организации левого толка: сторонников Мартина Лютера Кинга и Джесси Джексона из движения за гражданские права, антивоенное движение, студенческое движение («Студенты за демократическое общество»), троцкистскую Социалистическую рабочую партию, «Новых левых», прочие социалистические и анархистские группы.
(обратно)503
Como? Que? – Как? Что? (исп.)
(обратно)504
…Вивьен Ли после съемок в фильме «Слоновья тропа» (о котором никто и никогда не слышал, кроме потомков Питера Финча) страдала истерией и галлюцинациями… – «Слоновья тропа» (Elephant Walk, 1954) – фильм режиссера Уильяма Дитерле на основе одноименного романа Роберта Стэндиша (Дигби Джордж Герати, 1898–1981). В главных ролях: Элизабет Тейлор, Дана Эндрюс, Питер Финч и Абрахам Соуфер. Вначале в фильме должны были сниматься муж и жена Лоуренс Оливье и Вивьен Ли, но Оливье был занят на съемках «Оперы нищих». Вивьен Ли с энтузиазмом взялась за роль, но вскоре после начала съемок в Коломбо (Шри-Ланка) вынуждена была прервать работу в связи с тяжелым состоянием психики. Ее можно видеть на нескольких кадрах общего плана, которые не переснимали после замены актрисы.
(обратно)505
…русалка с острова Фиджи… – Фиджийская русалка – общее название популярного в XIX веке экспоната всевозможных бродячих «выставок диковин» и уличных шоу. Объект представлял собой туловище и голову небольшой обезьяны, пришитые к задней части туловища крупной рыбы и покрытые папье-маше. На выставках этот объект был представлен как мумифицированное тело реального существа – «русалки», которое якобы было наполовину млекопитающим и наполовину рыбой. Термин «фиджийская» в название попал из-за того, что Финеас Барнум (см. выше) популяризировал версию о том, будто такие существа отлавливаются у берегов острова Фиджи.
(обратно)506
«Милли Ванилли» – немецкий поп-дуэт, проект Фрэнка Фариана. Их дебютный альбом разошелся многомиллионным тиражом по всему миру и принес им «Грэмми». «Милли Ванилли» являлись одной из самых популярных групп конца 1980-х – начала 1990-х, пока не разразился скандал, в результате которого выяснилось, что записанные на альбоме вокальные партии вообще не принадлежат участникам группы.
(обратно)507
…и достаточно напоминал Эдгара По, чтобы тринадцатилетняя Кэтрин захотела навеки стать его Вирджинией. – Вирджиния Элиза По (в девичестве Клемм; 1822–1847) – жена Эдгара Аллана По. Вирджиния приходилась По двоюродной сестрой. Они поженились, когда ей исполнилось 13, а По – 26. В январе 1842 г. Вирджиния заболела туберкулезом, от которого и умерла 30 января 1847 г. в семейном коттедже недалеко от Нью-Йорка.
(обратно)508
…биографию Кэри Гранта «Любовник поневоле»… – На самом деле книга с таким названием существует, но она не о Кэри Гранте, а о Шарле Буайе. Автор Ларри Суинделл, книга вышла в 1983 г. Шарль Буайе (1899–1978) – американский актер французского происхождения, четырежды номинировался на премию «Оскар».
(обратно)509
Salva veritate – спасайте истину (лат.).
(обратно)510
«Выпускной марш» – мелодия из сборника маршей для оркестра английского композитора Эдуарда Элгара «Торжественные и церемониальные марши» (Pomp and Circumstance Marches). В заглавии цикла использована цитата из пьесы Шекспира «Отелло» (в переводе М. Лозинского: «Блеск и пышность славных войн»). Марш № 1, самый известный в цикле, исполняется на заключительном концерте ежегодного лондонского музыкального фестиваля BBC Proms. Отрывок из этого марша, известный под названием «Выпускной марш», повсеместно используется в США на церемониях вручения дипломов в школах и университетах.
(обратно)511
«На голодный желудок много не навоюешь». – Это высказывание приписывают как Наполеону, так и прусскому королю Фридриху Великому.
(обратно)512
Сайонара – до свидания (яп.).
(обратно)513
Советуем заполнять экзаменационный лист простым карандашом, лучше всего ТМ. Если вы заметите у себя ошибку, то за оставшееся время, возможно, еще успеете ее исправить.
(обратно)514
…похожие на две маслины в тарелке с хумусом… – Хумус (ивр., араб., греч. χούμους) – закуска из нутового пюре, в состав которой обычно входят оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка, кунжутная (сезамовая) паста (тахини). В арабском языке и на иврите «хуммус» означает как просто горох нут, так и саму закуску.
(обратно)515
Viva Las Violence – «Да здравствует насилие» (фраза составлена на смеси испанского и английского; перекликается с названием песни Элвиса Пресли «Viva Las Vegas»).
(обратно)516
Черная Орхидея (англ. Black Dahlia, букв.: черный георгин) – так прозвали жертву сенсационного убийства в Лос-Анджелесе. Ее настоящее имя – Элизабет Шорт (1924–1947). Тело, разрубленное пополам по талии и дополнительно изуродованное, обнаружили на бесхозном земельном участке недалеко от границы города. Преступника так и не нашли. Этот случай – одно из самых давних нераскрытых убийств в истории Лос-Анджелеса. Ему посвящены несколько книг и фильмов, в том числе фильм Брайана де Пальмы «Черная Орхидея» (2006) – экранизация одноименного романа Джеймса Эллроя, выпущенного в 1987 г. и явившегося первой книгой «Лос-Анджелесского квартета».
(обратно)517
Octopus vulgaris – осьминог обыкновенный (лат.).
(обратно)


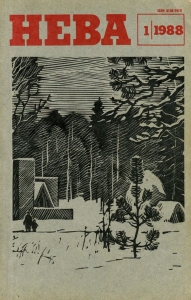




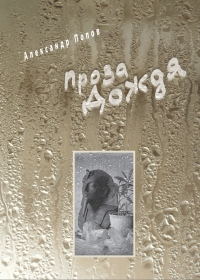
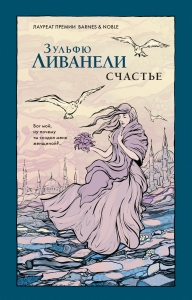

Комментарии к книге «Некоторые вопросы теории катастроф», Мариша Пессл
Всего 0 комментариев