Олег Михалевич Ночь с Марией. Рассказы
© Олег Михалевич, 2016.
© Елена Данилова, дизайн обложки, 2016.
© ООО «Библос», 2017.
* * *
Бомба
– Не клюет, проклятая! – Турунов с сожалением посмотрел на новенький японский спиннинг, словно это именно он был виноват в неудачной рыбалке, перевел взгляд на скользящую по водной дорожке блесну. Она ярко отсвечивала на солнце серебристой спинкой, вращалась, как живая, и непременно должна была привлечь любую проплывавшую мимо хищно ориентированную живность, желательно размером покрупнее. Но не привлекала.
Конечно, неудачу можно было списать на то, что окуньки да щучки в глухой российской глубинке не научились еще реагировать на хитроумные японские поделки. Не привыкли. Однако рядом в бережок воткнуты были два удилища из орехового прута, с их кончиков добротно свисала бело-желтая отечественная леска, переходящая в неподвижные поплавки из гусиных перьев и пробки, под ними, невидимые отсюда, вяло подергивались на каленых крючках выкопанные на ближнем огороде сугубо российско-черноземные черви, добросовестно оплеванные сидящими рядом аборигенами, а результат был тот же. То есть никакого.
Турунов отложил спиннинг в сторону, встал, смачно, до хруста костей потянулся и подошел к стоящему поодаль раскладному походному столику, возле которого на легких складных стульях разместились шеф крупной московской газеты Сергей Степняков и известный финансист Витя Граков, ради которого, собственно, и была затеяна рыбалка. Еще один член их компании, Вова Симов, главный редактор степняковской газеты, возился у самой воды с аквалангом, на котором красовалась нанесенная несмываемой краской подпись самого Жака Ива Кусто. Всем им было под сорок, все имели чуть поплывшие фигуры бывших спортсменов и каждый успел кое-чего достигнуть в жизни. Хотя и в разной степени.
– Тост имею, мужики! – зычно сказал Турунов и взял наполненный водкой стакан. Двое местных, караулящих бесполезные удилища, сразу повернулись на зов, полагая, что под определение «мужики» они точно подходят, и Турунов сделал приглашающий жест. Один из них, сухонький бодрячок шестидесяти пяти лет отроду, был не только их сегодняшним проводником, но и приходился Гракову родственником, кем-то вроде двоюродного дяди, о котором Витя вспомнил, едва речь зашла о рыбалке, и предложенное им место было тут же безоговорочно принято, хотя и пришлось затем гнать сюда на двух машинах целых три часа. Но цель оправдывала средства.
Родственник Гракова и его пятидесятилетний напарник Петя, не заставляя себя просить дважды, мигом оказались у стола, и даже Симов, бросив акваланг, переместился поближе. Все они с чрезвычайным вниманием уставились на Турунова, и он вдруг понял, что задуманный им довольно-таки витиеватый тост о женщинах вряд ли будет понят всеми в достаточной степени, а потому и не совсем уместен и ему захотелось сказать нечто более важное, более значительное. Выдержав паузу, он широким жестом повел рукой со стаканом вокруг себя и постарался вложить в голос как можно больше задушевности:
– Друзья! Главное на рыбалке – не то, сколько рыбы удастся выудить из воды. Хотя она, скажем прямо, не помешала бы. И не то, в какой компании ты на эту рыбалку отправился. И даже не то, куда ты приехал. Главное – во всем вместе взятом. И когда такая компания, как наша, приезжает в такое место – а я хочу отдельно сказать за это огромное спасибо нашему Вите – то она, компания, просто обязана выпить за поразительную красоту русской природы!
И «мужики», дружно крякнув, быстро опорожнили тяжелые круглые стаканы, сконструированные для питья виски так, чтобы толстое стекло подольше удерживало температуру охлажденного льдом напитка; но и водка, кристально прозрачный Smirnoff, воспринималась из них неплохо, о чем красноречиво свидетельствовали уже две порожние бутыли, составленные под столом. Пили все одно, а вот закусывали по индивидуальному плану: кто задумчиво прожевывал бутерброд с красной икрой, кто изящным движением отправлял в недра желудка соленый огурчик, кто вгрызался в увесистый бочок копченой курицы. Витя Граков ловко выловил в полулитровой банке последний маринованный шампиньон, мгновенно втянул его в себя и сожалеюще чмокнул:
– Хороший тост. Оторвались мы от природы. А красотища-то вокруг – ох, загляденье!
И все тотчас, словно только теперь осознав до конца значение тоста, с восхищенным видом оглянулись вокруг. Да и посмотреть, надо сказать, было на что.
Речка, да скорей речушка просто, метров десять всей ширины-то, а вода в самом глубоком месте не поднималась выше пояса, неспешно струилась в низинке между убегающих вдаль холмов. Их склоны покрывал редкий вблизи лиственный лес, залитый солнцем и сливающийся на горизонте в сплошную синюю полосу. На ближних подступах к невидимой с этой точки деревни хорошо различались заросшие высокой травой проплешины полян, тонкой змейкой сбегала с них почти к самому месту рыбалки проселочная дорога, на обочине которой пристроились черный шестисотый мерседес Гракова и серебристый BMW–730 Степнякова. Но запах нагретого металла и бензина плотно перекрывался терпким настоем свежескошенной травы. Журчания воды почти не было слышно, ни единый листок на могучих березах не колыхался в раскаленном воздухе, и тишину нарушал только стрекот кузнечиков и неутомимое вжик-вжик – на ближней поляне, совсем рядом, не перекликаясь и не поднимая голов, неутомимо косили траву шесть плотно сбитых баб в пестрых ситцевых платках.
Вжик-вжик.
Степнякову было скучно. Водку он не пил, так как сегодня ему еще предстояло везти назад в Москву всю компанию за исключением Гракова – тот никуда не спешил и собирался остаться до утра у своего родственника, чтобы вспомнить годы молодые и хорошенько отоспаться на сеновале, – а пиво успело основательно нагреться и превратилось в противную, начисто лишенную признаков пены бурду, которую он брезгливо подносил ко рту, трогал кончиками губ и отодвигал обратно. Перед поездкой он надеялся, что клев будет хороший и можно будет всласть поколдовать над костерком, блеснуть кулинарным мастерством, а уж затем под ушицу, под запеченного в фольге окунька или щучку исподволь подвести дело к разговору о финансировании газеты.
Однако пока все было не так, рыба не шла, мужики в азарт не входили и начинать запланированный разговор не стоило – такие вещи он чувствовал тонко. И сейчас ему было просто скучно.
– Хоть бы шашки у вас были, – скрыв рукой зевок, сказал он.
– О, блин! – оживился вдруг родственник Гракова. – Точно! Есть у меня одна шашка! Дома припрятана.
– Да что толку – с одной?
– Как что? Рванем – вся рыба наша!
От внезапного возбуждения Витя Граков вскочил на ноги, оглушительно захохотал и в нетерпении прошелся к речушке и обратно.
– Каков дядя Миша, а? Граковская порода! Шашка – так тротиловая! – он победно оглядел оживившуюся компанию. – Ну, теперь дело будет! В деревне, говоришь, дядь Миш? Давай, сгоняем.
Не дожидаясь ответа, Граков двинулся к «мерседесу», но Степняков остановил его:
– Постой, Витя! Давай лучше на моей. Я ж не пил…
– Ладно, – сразу согласился Граков, но не удержался и вслед за дядей Мишей забрался в БМВ.
Дядя Миша жил в небольшом, но крепеньком, как боровичок, доме из белого силикатного кирпича с выкрашенными ядовитой синей краской дверьми и ставнями – такими же, впрочем, как и во всей деревне. Забравшись в подпол, он сначала нацедил гостям по кружке настоенного на грибе и хорошо охлаждающего кваса, вновь нырнул вниз и, не успели они выпить по полкружки, выбрался из люка с аккуратно замотанным свертком.
– Откуда это у вас? – поинтересовался Степняков, но вопрос, кажется, прозвучал неуместно. Дядя Миша отвел взгляд в сторону, поскреб в затылке большой морщинистой пятерней, неопределенно хмыкнул, но из уважения к гостю все же ответил:
– Так мы ж не лаптем деланные… Война была.
И замолк надолго. Но на подробностях Степняков и не настаивал.
Когда они вернулись назад, вся компания в нетерпении прогуливалась по берегу, обсуждая предстоящее развлечение. Граков сам примотал синей изолентой тридцатисантиметровый отрезок бикфордова шнура к тротиловой шашке, поджег шнур, размахнувшись, швырнул заряд на середину речки и ничком нырнул за толстый ствол ближайшей березы. Остальные уже осторожно выглядывали из-за схожих укрытий.
Полминуты прошло в напряженном молчании, прерываемом лишь работой бабьих кос.
Вжик-вжик, Вжик-вжик.
Потом над водой взметнулся небольшой фонтанчик, раздался негромкий хлопок, и вновь все стихло. Только вжик-вжик, вжик-вжик.
Выждав, рыболовы выбрались из укрытий, подошли к воде и стали напряженно всматриваться в поверхность. Прошло несколько минут. Ни одна рыба не всплыла.
– Слабовата шашка, – заметил Турунов. – Только пукнула. Ладно, черт с ней, давайте лучше еще по рюмахе.
На этот раз выпили без тостов, разочарование переросло в неловкость, натянутость. Да и закуска подходила к концу – надеясь на рыбу, ее хорошенько не рассчитали. Впору было сматывать удочки.
– У меня покрепче есть, – внезапно подал голос молчавший до сих пор и неясно с какой целью взятый сюда Петя.
– Самогонка, что ли? – хмыкнул Вова Симов. Выпил он заметно меньше других, так как не меньше часа провел под водой, пытаясь разглядеть что-либо на илистом дне, заигрывание с Граковым ему не нравилось, но надо было терпеть, и он тоже начал скучать. Возможность врезать покрепче, чтобы день не прошел совсем уже зря и заодно посмотреть поближе, что за гусь этот Граков, его немного оживила.
– Зачем самогонка? – Петя неторопливо обсосал последнее куриное крылышко и обтер пальцы о пучок травы, не обращая внимания на толстую пачку красных бумажных салфеток. – Бомба.
– Что еще за бомба? – не понял Симов, предполагая нарваться на очередной эвфемизм. Если для местных «шашка» – это просто тротиловый заряд, то «бомбой» вполне может оказаться какая-нибудь горячительная смесь, покруче самогонки.
– Обыкновенно, какая. Самолетная. На огороде в позапрошлом годе нашел, схоронил на всякий случай. Рванем, может?
– Конечно, рванем! – Граков и сам ощущал некую ответственность за выбранное им место, прямо сказать, не самое удачное. А неудач он не любил. Зато любил говорить, что из любого поражения надо уметь выклевать зерна победы, сам, применял эту формулу давно и удачно, и теперь вновь оживился. – Где она у тебя? Давай, Серега, сгоняем.
– Ну уж нет! – Степняков протестующе поднял вверх сразу обе руки. – Тут я пас. Вы что, ребята, не хватало еще бомбы в машине возить. Давайте, искупаемся лучше.
– К черту! Сам повезу! Кто со мной?
Упрямо набычившись, Граков, не оглядываясь, двинул к своему мерсу, за ним послушно засеменил Петя, а секундой позже, с виноватой улыбкой бросив, что надо малость подсобить племяшу, к машине поспешил и дядя Миша. Нетерпеливо рыкнув, мерседес взметнул из-под колес облако пыли и быстро запетлял по ухабистой дороге.
– Охота пуще неволи, – Турунов проводил взглядом скрывающуюся за поворотом машину и, щурясь от солнца, повернулся в другую сторону. – А эти-то, эти, гляньте, как пашут!
Мужчины завороженно уставились на косарей. Вжик-вжик. Платки скрывали лица баб так, что определить их возраст было невозможно, и только фигуры говорили о том, что их обладательницы далеко не девчонки. Платья их взмокли, плотно облепив крупные, плавно покачивающиеся в такт движениям груди, могучие ягодицы, широкие, не женской силой налитые плечи. Вжик-вжик. Неспешно размашистые, но и не остановимые ничем движения. Казалось, окажись на их дороге лес, с той же неодолимой силой снесут женские косы, как траву, стволы берез, все, что окажется на пути. А когда закончат они свой труд и, стянув пропахшие потом платья, войдут в реку, та, ожегшись о раскаленные тела, зашипит, выйдет из берегов…
Но пока до конца поляны было далеко и ни одна из них и не помышляла об отдыхе. Только вжик-вжик. Вжик-вжик.
Вскоре на дороге показался мерседес. На этот раз он едва полз, тщательно обходя ямы на дороге, мягко переваливаясь через ухабы.
– Везут! – вдруг пересохшими губами прошептал Турунов.
Никто и не заметил в какой момент остановился могучий автомобиль – настолько плавным и осторожным было его торможение. И только когда опустилось стекло со стороны водителя и Граков хриплым голосом позвал на помощь, все кинулись к медленно открывающейся дверце. На заднем, пахнувщем дорогой кожей диване сидели красные от напряжения Петя с дядей Мишей и, как ребенка-переростка, плотно прижимали словно впечатанный в их животы сверток, завернутый в байковое одеяло. Турунов и Степняков осторожно подхватили увесистую, килограммов на сорок, ношу, перенесли ближе к речке, развернули и уставились на черную стальную капсулу с помятым стабилизатором. На корпусе неразборчиво проступали непонятные готические буквы.
– Вот это штучка! – то ли с восхищением, то ли с осуждением сказал Степняков и подумал, что рыбалку и впрямь еще можно спасти. – Дальше-то что делать будем?
Вариантов получалось как бы два. Один – это кинуть бомбу с берега, что, учитывая ее вес, было, конечно, не просто. Второй – использовать наполовину вытянутую на берег небольшую лодку-плоскодонку, хозяином которой как раз и был Петя. Но тут брало сомнение: удастся ли до взрыва отгрести на берег, пусть и близкий.
– А че такого, – доказывал дядя Миша, – шнур три минуты горит, за это время туда и обратно сплавать можно. Сбултыхнем на середине – и с Богом!
– Три минуты? – Турунов взял в руки последний отрезок бикфордова шнура, как и в первом случае сантиметров в трицать, и пояснил:
– Скорость сгорания – один сантиметр в секунду. Значит, рванет через полминуты. Куда тут, к черту, грести?
– Да в воде-то, небось, гореть помедленней будет, – не сдавался дядя Миша.
– Тут ты прав, – поддержал Турунова изрядно протрезвевший после поездки Граков, показал на участок пообрывистей и предложил:
– Отсюда бросим!
Турунов вернулся к бомбе и на миг остолбенел. Петя пристроился над бомбой, зажав ее между коленей и налегая плечом на рукоятку ручной дрели. Сверло упорно соскальзывало с круглой поверхности, но Петя не сдавался.
– Т-ты, ты что?!
– Да я дырочку просверлю, будет куда шнур вставить, невозмутимо ответил Петя, продолжая работу. Сверло царапало корпус, искрило.
– Прекрати немедленно!
Турунов с трудом оттащил Петю от бомбы и вытер вспотевший лоб. Ох уж эта деревенщина! Припомнив навыки саперной работы двадцатилетней давности, он взялся за бомбу сам. Когда минут через пятнадцать работа была закончена, от хмеля, похоже, не осталось и следа.
Подняв снаряженную бомбу на руки, Турунов вместе с Граковым подошли к намеченному месту у обрыва и опустили ее на берег. Турунов достал зажигалку и огляделся. Остальная компания столпилась всего в двух метрах, у самой воды. Во всем этом была какая-то неправильность.
– Э, нет, мужики, – сказал он, – так не пойдет. Спрячьтесь где-нибудь. А то ж, не ровен час…
Наконец он поднес зажигалку к свободному концу бикфордового шнура, и огонек, слегка зашипев, побежал по дорожке к бомбе. Подхватив ее тулово с двух сторон, они с Граковым дважды качнули бомбу и изо всех сил метнули в речку. Пролетев метра три, она бултыхнулась в воду, подняла фонтан брызг, и Турунов, вдруг истошно заорав «Ложись!», рванул за руку Гракова, отбежал на несколько шагов и, прикрыв голову руками, упал за ствол толстой березы. Но ничего не происходило.
Подумав, что бомба вновь, как и полсотни лет назад, не сработала, он поднял голову и в тот же миг увидел, как над речкой прямо вверх, к самому небу взмывается огромный водяной смерч. Словно могучий гром пророкотал на небе и тугая волна ударила по ушам. Вслед за смерчем зеленым облаком взлетели сорванные с деревьев листья. С гулким шумом, ухнув, обрушилось рядом что-то тяжелое, накрыв Турунова зеленой пеленой.
Когда он, царапаясь об острые сучки, выбрался из-под кучи облепивших его ветвей, вновь мирно светило солнце. Вокруг было пусто и ни один звук не нарушал мертвящую тишину. Сердце Турунова наполнилось ужасом. С мгновенным прозрением он понял, что жизнь его уже никогда больше не будет такой, как прежде. Его, как человека с явно выраженными восточными чертами лица, и без того за три – четыре последних года добрый десяток раз укладывали на асфальт или прижимали к стене с поднятыми руками доблестные московские милиционеры, или ОМОН, или камуфляжные формирования с малопонятными названиями, подолгу изучали документы, перепроверяли, и втихомолку, а иногда и не очень выражали изумление по поводу того, что узкоглазым еще доверяют такие ответственные посты в уважаемой газете. Легко предположить, что будет, когда выяснится, что из всей компании остался один он, бывший сапер… И мысль эта пришла к Турунову даже раньше, чем чувство скорби по старинному другу Сергею Степнякову, блестящему журналисту Симову, ко всем остальным, так нелепо оказавшимся вместе в ненужном месте и в ненужное время.
Ему остро захотелось выпить. Он повернулся к столику, но его даже не было видно, не говоря уже о стоявшей на нем посуде. БМВ, повернутый к реке носом, устоял, а огромный мерс опрокинуло на бок. В остальном пейзаж был вполне мирным, и Турунов услышал, как где-то позади запела, зачирикала что-то привычное первая птица. Он повернулся на ее зов и заметил, как зашевелилась густо осыпанная листьями земля, вздыбилась резко и, отряхивая прилипший сор, на свет Божий явился закадычный друг Степняков.
На призыв первой птахи откликнулись две другие. И тотчас, в унисон с ними, из-за ближних берез показались Граков, левую щеку которого пересекала длинная царапина, и его родственник, дядя Миша. Пропела свое «ку-ку» кукушка и к компании присоединился потрясенно улыбающийся Симов. Он смотрел на Турунова, но куда-то вбок, мимо левого плеча. Не было только Пети, владельца бомбы. Но, кроме Турунова, никто пока не обратил на это внимания, и вся компания вслед за Граковым рванулась к воде.
Речка изменилась. Водяной столб, взметнувшись, осел широким радиусом и теперь вода мутными ручейками сбегала с отлогого берега обратно. По поверхности кружили обломанные ветки, листья. Вода перемешалась с медленно оседающим илом и речка больше напоминала сточную канаву. По поверхности плыли несколько целлофановых пакетов, невесть откуда взявшаяся бутылка из-под шампанского.
– А рыба, рыба-то куда делась? – возбуждение Гракова еще не прошло, и он пока не замечал ни царапины, ни случившегося с его машиной.
– Да ее и не было тут, – неожиданно для всех сказал Симов.
– То есть как это?
Граков уставился на главного редактора так, словно это он был виновником всех, пока еще не проясненных бед. И Симов, усугубляя ситуацию, виновато улыбнулся:
– Да так. Я в воде час пролежал – ни одна мимо не проплыла.
– Точно! – вспомнил вдруг дядя Миша. – Нету тут рыбы. Раньше была, а как в верховьях спиртозавод поставили – все, писец ей пришел. Да я ж, Витек, писал тебе про то, еще в прошлом годе. Думал, ты начальник большой, порядок наведешь.
– Писал, говоришь? А Петя? Петя где? – побледнев от нехорошего предчувствия, Граков повернулся и увидел свой автомобиль. Откуда-то сбоку, перекидывая что-то с руки на руку, шел Петя. Турунов облегченно вздохнул. Петя поднял ладонь, показал лежащий на ней кусок зазубренного металла и сказал:
– Горячий еще. Вот это рвануло, блин, а?
Турунов подумал, что Граков сейчас ударит неказистого мужичка и шагнул вперед, чтобы оттеснить Петю от греха подальше, но вдруг понял, что не хватает еще чего-то. Ощутили это и другие. Не все звуки вернулись к жизни.
Мужики повернулись в сторону покоса и увидали, что бабы-косари стоят, застыв, как грубо вытесанные из большого камня статуи, и смотрят в их сторону. Но не на них, а выше, вверх, в безоблачное небо, так внезапно прокатившееся громом и порывом ветра, взметнувшим только что скошенную траву. Ничего, однако, больше не происходило. И бабы-статуи, словно повинуясь единой, неслышной отсюда команде, ожили. Медленно повернулись к мужикам в профиль. Взмахнули косами. И природа наполнилась привычным.
Вжик-вжик.
Морской гормон
Задница
По старинному поверью, женщина на корабле приносит несчастье. Правда, к членам экипажа это не относится.
На морском буксире «Стремительный» женщин было две. Но мы, несмотря на самые весенние настроения, воспринимали их исключительно как товарищей по работе. Нам, трем курсантам, проходящим первую штурманскую практику, не было еще и двадцати. Поварихе же Яне стукнуло сорок, а тридцатидвухлетняя буфетчица Люба, веселая рыжеволосая одесситка, была женой второго штурмана Дзюбы. На любом другом флоте родство в экипаже не допускалось, но в Заполярье были свои порядки. К тому же, как и все остальные на Крайнем Севере, каждый из нас работал на полторы ставки, минимальный рабочий день длился по двенадцать часов. Как говорится, не до женщин. Поэтому все остальное произошло из-за боцмана.
Мы называли его по отчеству – Иваныч. Боцман был невысок, коренаст и выглядел заметно старше своих двадцати восьми лет. Два года он проучился в мореходном училище, пока трезво не оценил, что командирами могут быть не все, кому-то и работать надо. Особенно с такой нечеловеческой силой, как у него. Если он не спал или не ел, то работал. На этот раз мы всей палубной командой красили фальшборта. Саша Никифоров по прозвищу Гидрофор, которое он получил отчасти из-за созвучия с фамилией, но больше благодаря постоянной и неистребимой жажде, прокрасил очередную секцию и присел отдохнуть на бухту швартового каната. Устраиваясь поудобней, Гидрофор сдвинул канат и соскользнул в центр бухты до подмышек. «Эй, – закричал он, – помогите кто-нибудь выбраться!». Саша беспомощно дергал в воздухе руками и ногами. Зрелище было забавным, и мы не спешили его прерывать. Первым возле него оказался боцман. Ухватив Гидрофора за шкирку, он одной рукой выдернул его из ловушки и поставил на ноги.
– Хорош моряк! – сказал он. – Прямо как повариха наша.
– Яна, что ли? – спросил я.
– Да нет, это до нее еще было. Ту Катей звали.
– А было-то что? Тоже в бухту провалилась? – предвкушая незапланированную передышку, мы дружно обступили боцмана. Он потыкал кистью в банку с краской, но кисть поднялась сухой, и это значило, что все равно придется открывать очередную емкость с густотертой краской, перерыва в работе не избежать, и с сожалением вздохнул.
– Если бы… Там посерьезней вышло. А хорошая такая баба была, веселая, вот с такой задницей!
Иваныч задумчиво склонил голову набок, словно воссоздавая в мыслях ускользающий образ, широко развел руки и нарисовал в воздухе две волнообразных линии, выражающих, почему-то подумалось мне, его идеал женской красоты.
– Ну! – попытался подтолкнуть я, опасаясь, что на этом все и закончится.
– А ты не запрягал, не нукай! В общем, захотелось ей ночью пописать. Спала она голой, одеваться, чтобы в гальюн выйти, было лень. Она и решила отлить в иллюминатор. Залезла на стол, высунулась, только начала, а тут судно качнуло. Она задом наружу плюх! Туда протолкнулась, а назад ни в какую, как Саня сейчас. Сидит себе, и на помощь позвать боится. Представляете, в таком виде на людях показаться! По борту то волной плеснет, то ветерком подует, а Катя терпит. Знала, что скоро в порт должны зайти. И у нее расчет был, что на швартовке судно к причалу прижмется, и ее обратно в каюту протолкнет. Да не повезло. Каюта ее на левом борту была, а мы правым пришвартовались. Вот тут уж она не выдержала! Стала кричать, а я как раз мимо по коридору проходил. Ну, зашел, вижу, голова, руки, сиськи, ноги – все в один комок сжато, как у краба-отшельника в раковине. Попытался вытащить за руки – никак! Застряла, как пробка в бутылке. «Иваныч, – говорит она мне, – ты уж, миленький, сделай все сам, чтобы никто не знал». Пришлось спустить под ее иллюминатор беседку, вроде как борт красить, забрался я на нее, на беседку, то есть, и потихонечку, чтобы не повредить, протолкнул поварихину попу обратно. Зрелище было!
– А дальше-то что? – не выдержал Гидрофор.
– А что дальше? – боцман задумчиво разгладил густые черные усы. – Больше она с нами в море не пошла. Говорят, совсем с флота списалась. А жаль.
– Точно не Яна?
– Сказал же – нет, – боцман, похоже, уже жалел, что вообще затронул эту тему. – Хватит сачка давить. Работаешь – работай. Беритесь за кисти.
Боцман ушел за новой краской. Но гормон нашего воображения уже был посеян.
– Слушай, а я ее, кажется, знаю, – сказал мне Гидрофор.
– Кого? – не сразу понял я. После рассказа боцмана прошло две недели. Позади остался первый рейс по реке Лена в далекий Жиганск. «Стремительный» был пришвартован кормой к причалу в порту Тикси. Мы сидели в каюте и пили белое полусладкое вино, раздобытое по случаю, практически за бесценок, с соседнего парохода. Вином был забит целый трюм, и вахтенный матрос в отсутствие начальства распродавал его по пять рублей за ящик.
– Да эту, повариху, про которую боцман рассказывал. Я как раз у трапа был, когда боцман на грузовике подъехал. Он сам в кузове сидел, а когда вылез, вывел из кабины молодую бабенку, кругленькую, вот с такой задницей, и в свою каюту отвел. Наверное, как задницу в иллюминатор протолкнул, так от нее оторваться и не может. Да и я бы тоже…
– Чушь, – отрезал я. – Обычная морская байка, вроде той, как новички напильником якоря затачивают. Сам посуди. Мы же не в тропиках. Попробуй, посиди с голой задницей в иллюминаторе, тебе через полчаса уже и запихивать назад ничего не надо будет, сама отвалится.
С последним аргументом спорить было трудно. В начале июля термометр показывал плюс три по Цельсию, по бухте плавали льдины, на небе висело не заходящее на ночь за горизонт, но и почти не греющее заполярное солнце.
Гидрофор задумчиво допил стакан.
– В Жиганске до тридцати градусов доходило, купались даже. Там зад не то что не отвалился бы – еще и загорел. Точно она.
Мы открыли новую бутылку.
– Да такая, как ты показал, все равно в иллюминатор не пролезет! – убежденно сказал я.
– Почему не пролезет? Пролезет!
– Да ты трезво посмотри. У него диаметр, какой?
Для убедительности я встал, открутил барашки иллюминатора и распахнул его настежь, впустив в каюту поток свежего воздуха.
– А я что, по-твоему, по-пьяному смотрю? Может, с этого компота? – завелся Гидрофор, презрительно кивнув на сладкое, почти не пьянящее вино. Он встал с места и выглянул за борт. – Видишь, голова проходит спокойно. Значит, и весь человек пролезет. Иллюминаторы специально такого размера делают, на случай пожара.
– Сложенная задница – не голова.
– Конечно, ей думать не надо! Высунул наружу – и вперед! Да я сам элементарно! Смотри!
Гидрофор сдвинул бутылку в сторону, залез на стол, выпятил тощий зад в иллюминатор и для убедительности подергал им из стороны в сторону.
– Все, что хочешь можно сделать! Без проблем! Не соврал Иваныч. Точно сейчас к заднице прилип, не оторвешь.
– Может, ты и прав, – согласился я и протянул Гидрофору руку, чтобы помочь выбраться обратно. В этот момент по корпусу «Стремительного» что-то сильно ударило, буксир закачался.
– Что это было?
– Не знаю. Вылезай скорей, – сказал я, глядя в расширившиеся зрачки Гидрофора. Я едва успел ощутить прикосновение его ладони, когда он внезапно, под воздействием какой-то внешней, неодолимой силы вылетел из иллюминатора мне навстречу, и мы оба оказались на полу. Я внизу, Гидрофор на мне.
– Эй, вы что, напились и деретесь? Между прочим, твоя вахта началась!
Я с трудом спихнул с себя Гидрофора, поднялся и сел на койку. В дверях стоял наш сокурсник Имант Сармулис. Гидрофор поднимался медленно, словно в ступоре, с все так же расширенными зрачками.
– Что это было? Кто меня толкнул сзади? – спросил он, и я только теперь заметил, что в каюте заметно потемнело. Вплотную к иллюминатору был прижат черный корпус чужого корабля.
– Да это «Мощный» к нам пришвартовался, – объяснил Имант. – Долбанули нас так, что метра полтора привального бруса выдрали, гады. В общем, принимай вахту.
Свой
По приходу в Тикси все начальство мгновенно перемещалось в свои жилища на тверди земной, а буксир оставался под наш присмотр. Посмотрев на Гидрофора, Имант, как закоренелый трезвенник, определил, что вывести из ментального столбняка нашего товарища сможет только прогулка в город. Ребята быстро натянули высокие прорезиненные сапоги, без которых перемещаться по раскисшим улицам Тикси было невозможно, и ушли. А мне досталось скучнейшее из всех морских занятий – нести шестичасовую стояночную вахту.
Три недели подряд мы работали, как одержимые, и теперь «Стремительный» сверкал свежей краской, словно только что сошел со стапелей верфи. Буксир был пришвартован по всем правилам морского искусства: обращенный к открытой бухте нос удерживали два якоря, корму накрепко притягивали к причалу продольные и шпринги. Никто другой такими сложностями себя не утруждал, но штурман Дзюба как руководитель нашей практики настоял на показательной швартовке. С кормы на причал вел трап с натянутой под ним страховочной сетью. Диссонансом в достойной кисти Айвазовского картине было только одно – притертый к нашему правому борту «Мощный». По его внешнему виду проще всего было предположить, что он прямым ходом прибыл с кладбища кораблей Корпус «Мощного» пестрел пятнами застаревшей ржавчины, когда-то белая надстройка приобрела мрачно-серый, с черными протеками цвет, палубу покрывал толстый слой угольной пыли. В отличие от наших дизелей, на «Мощном» была одна из немногих уцелевших к тому времени на флоте паровых машин с настоящими кочегарами и ручной угольной топкой. В Северо-Восточном управлении он считался чем-то вроде исправительной колонии, последним прибежищем для провинившихся моряков. Удерживался буксир единственным, небрежно наброшенным на наш кнехт канатом.
– А это еще что за явление природы? – услыхал я голос боцмана. Иваныч стоял в домашних шлепанцах, без носков, в старых тренировочных штанах и в распирающей мощную грудь тельняшке, волосы на голове сбились во влажные космы, от открытых частей тела исходил легкий пар, словно боцман только что выбрался из парилки. Только пар этот не отдавал банной свежестью.
– Да вот, швартанулись к нам, – повторил я рассказ своего предшественника по вахте, Иманта. – Кусок привального бруса вырвали, гады.
– Понятно… – шея Иваныча начала краснеть. – А начальство их где?
– Да кто их знает. На палубе никого не видно. Как пришвартовались, так народ сразу на берег рванул.
– Ах, рванул… Ну, сукины дети, они у меня попляшут! – Иваныч подошел к кнехту и одним движением скинул петлю швартова. – И больше не буди меня по пустякам!
– Да я вроде и не…
– Работаешь – работай! Вон, палуба затоптана, – заключил боцман и ушел.
Я подбежал к скинутому канату и попытался водрузить его на место, но «Мощный» уже сдвинулся метра на полтора, и сделать это оказалось невозможно. Затем корпус буксира переместился еще, канат вырвался из моих рук и упал в воду.
– Эй, на «Мощном»! – изо всех сил заорал я, но на палубе никто не появился. Больше я кричать не стал – чтобы не сердить боцмана. Или не отвлекать. Убежденность Гидрофора начинала уже действовать и на меня.
«Мощный» медленно относило от причала в сторону моря.
Я поднялся в штурманскую рубку, отыскал мегафон, прошел на нос «Стремительного», подальше от боцманской каюты, и еще раз попытался вызвать вахтенного на «Мощном», который был теперь от нас метрах в двадцати, но все так же безуспешно. Как следует поступить в такой ситуации, я не знал, а по какой-то изощренной особенности моего организма, момент нерешительности вызывал у меня острое чувство голода. Причем организм точно подсказывал, чем именно следует его заглушить. Последовать его указанию было легко: судовая артелка со всеми ее запасами съестного находилась в моем заведовании.
Я взял в холодильнике сырое яйцо, спустился в каюту, налил в полулитровую стеклянную банку воду и включил самодельный кипятильник, сооруженный из лезвия бритвы Нева и двух проволочек. Вода закипела, я подлил в кипяток уксусной эссенции, чтобы скорлупа не лопнула от контраста температур, опустил яйцо и засек время. Дверь моей каюты была распахнута. Три минуты спустя в коридоре раздались шаги. Выглянув наружу, я увидел моториста Курочкина, тоже курсанта нашей мореходки, но с механического отделения и курсом постарше. Он обладал довольно крупным телосложением и удивительно застенчивым характером.
– Извини, если помешал, – сказал он, – у нас как, все по-прежнему?
– Вроде бы… А что?
– Да так. Просто подумал, что, может, пополнение в экипаже, кого-нибудь нового прислали.
– Никого не присылали. А ты о чем, собственно?
– Нет-нет, ничего. Просто я из города сейчас вернулся, зашел к себе в каюту, а там на моей койке спит кто-то незнакомый. Вот и подумал…
Каюта Курочкина располагалась с другого борта, и в ней висел устойчивый запах застарелого перегара. На койке, не сняв начищенные туфли на тонкой подошве, лежал давно небритый парень в потертой курсантской шинели без двух с корнем отодранных пуговиц и слегка похрапывал.
– Эй! – я потряс его за плечо, затем переместил в сидячее положение и потряс еще, пока он не открыл глаза. – Ты кто?
– Ам-м… Ик. Ш-ш… Вот! – заключил он. И вновь закрыл глаза.
Я попытался включить метод дедукции. Лицо парня не выглядело знакомым, особенно с учетом довольно приметной, в виде большой запятой, родинки на левой щеке. На практику в Тикси нас отправляли в конце мая, когда формой одежды становится бушлат, а шинели надежно покоятся в баталерке до следующего сезона. Стало быть, на курсанта из нашей мореходки он не тянул. Кроме того, народ месил полуметровую городскую грязь исключительно в сапогах. Чистые туфли были абсолютным нонсенсом. Но эту, не находящую объяснения деталь, я отбросил.
– Ясно. Алкаш приблудный. Вставай!
Парень не двигался.
Мы с Курочкиным подхватили его под мышки и вытащили на палубу, а затем и на причал, усадили на потемневший от времени брус. И еще раз попытались разговорить незнакомца. Парень сидел с открытыми, глядящими в никуда глазами и на слова не реагировал. Курочкин отозвал меня в сторону.
– Слушай, нельзя оставлять его так. Он же невменяемый. Часа не протянет, замерзнет. Может, вытрезвитель вызвать?
– Да откуда здесь вытрезвитель? А если и есть, ему потом такую характеристику вкатят! Но в тепло его надо, это верно. Только куда?
Стационарный пирс выдвигался перпендикулярно берегу вглубь обширной Тиксинской бухты. С обеих сторон были пришвартованы буксиры, лихтеры и транспортные пароходы. Ближе всех стоял «Новокузнецк», с которого шла подпольная торговля белым вином. Вахтенный у трапа отсутствовал. Мы с Курочкиным переглянулись и подхватили парня под руки.
Когда мы с гордым чувством хорошо выполненного гражданского долга вернулись на «Стремительный», Курочкин сказал, что ему надо поковыряться с генератором в машинном отделении и ушел. Есть захотелось еще больше. Я вспомнил о вареном яйце всмятку и кинулся в каюту. В коридоре стоял запах гари. Из дверей валил дым. Я влетел внутрь, выдернул провода из розетки и распахнул иллюминатор. Вода в банке выкипела, яйцо треснуло, втянуло в себя лезвие и из-под потемневшей скорлупы лезло наружу шипящими черными пузырями. Из иллюминатора, теперь метрах в двухстах, был виден «Мощный». Я поднялся в штурманскую рубку, включил радиотелефон, после долгих попыток связался с диспетчером порта и постарался объяснить, что по бухте по направлению к морю дрейфует бесхозное судно.
– Да и хрен с ним! – сказал диспетчер. – Откуда ты все это знаешь?
– Говорю же, видел, как швартовый конец с кнехта свалился в воду. Я пытался им кричать, никто не реагирует. Команда на берегу, а вахтенный спит, наверное, ничего не видит.
– Проснется – увидит, – успокоил диспетчер. Ему явно не хотелось ввязываться в нештатную ситуацию.
– А если на камни к тому времени вынесет? И разборка полетов пойдет?
– Во, блин, свалился ты на мою голову, – подосадовал диспетчер. – Не мог позже на связь выйти, самаритянин, хренов. У меня смена через полчаса кончается. Ладно, сейчас пошлю грузовик в Тошниловку, чтобы команду собрали. И катер выделю. Отбой.
Отыскать нужного человека в Тикси, несмотря на его двадцатитысячное в период навигации население, было несложно. Город состоял из двух поселков, разделенных пустынной дорогой, огибающей берег залива. Северный поселок, Тикси 2, рядом с аэропортом, считался «режимным», в нем обитали лишь авиаторы и пограничники, рейсовый автобус ходил два раза в сутки. «Южане», состоящие из моряков и грузчиков-сезонников, без особой нужды в него не совались. Да и зачем? Единственное в Тикси питейное заведение без вывески, но с народным названием Тошниловка, в которой подавали вонючее местное пойло, разливая его в стеклянные банки с покореженными краями, стояло в центре города, возле сквера с памятником. Вытянутая рука бронзового истукана в пролетарской кепке, добродушно щурясь, указывала на вход в винно-водочный магазин. К фронтону расположенного за памятником дома, видимо, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в точности избранного курса, был прикреплен большой щит с надписью: «Правильной дорогой идете, товарищи. В. И. Ленин». Тошниловка располагалась с задней стороны магазина. Так что в успехе поисков экипажа с «Мощного» можно было не сомневаться.
Я отключил рацию и спустился в каюту.
Запах гари еще не выветрился. Чувство голода тоже. Я достал новое яйцо, пожертвовал для кипятильника еще одним лезвием и засек время. По трапу загрохотали чьи-то торопливые шаги. Я выглянул в коридор и увидел Курочкина.
– Человек за бортом! – растерянно сказал он.
В одно мгновение мы с мотористом вылетели на кормовую палубу и перегнулись через фальшборт. Под нами на приблудившейся льдине лежал человек. В потертой курсантской шинели и туфлях на тонкой подошве. Человек пошевелился.
– Опять этот алкаш гребаный! Под трапом же сетка страховочная!
– Наверное, из сетки выбираться стал и уже тогда дальше громыхнул, – предположил Курочкин. – Как вытаскивать-то его? Может, тревогу объявить?
– Так ведь никого нет, – быстро среагировал я, прикинув, что лишние разборки мне, вахтенному у трапа, с которого свалился человек, совсем ни к чему. – Сами вытащим.
Мы опустили с борта веревочный штормтрап, я выбрал в кладовой моток тонкого сизальского троса, спустился к льдине и обвязал алкаша под мышками беседочным узлом. Парень весил немного – несколько секунд спустя мы совместными усилиями вытащили его на причал и усадили на привычный уже для него брус. Я похлопал утопленника по щекам, он открыл глаза и вновь уставился на нас пустым, ничего не выражающим взглядом.
– Как звать-то тебя хотя бы, – спросил я, чувствуя, что начинаю к нему привыкать.
Парень подергал родинкой-запятой:
– М-м-м…
– Понятно. А документы-то есть?
Я поискал в карманах шинели, выудил хорошо потертый курсантский билет Рижского мореходного училища. Фотография в билете отсутствовала, часть текста под воздействием влаги расплылась и стала почти не читаемой. Странно, как с таким документом его владельцу удавалось перемещаться по, как ни крути, но все же пограничному городу, а вдобавок еще попадать в порт. Я удовлетворенно кивнул:
– Ясно, наш. Федор. То есть бывший наш. Срок годности окончился год назад, отчислили, наверное. Похоже, так и остался здесь с прошлогодней практики. Да еще спился совсем, исхудал, вон шинель как висит. Что же с тобой делать, Федя?
– Может, пока обратно к нам завести, черт с ним, пусть проспится? – предложил Курочкин.
– И как мне это потом объяснять капитану? Мы с этим Федей уже сколько возимся, а он никакой. И отход у нас через три часа намечен, скоро народ возвращаться начнет. Давай, еще куда-нибудь его пристроим.
– Куда? Пристраивали уже… Да его все равно через полчаса обнаружат и обратно вытащат, а он опять к нам нацелится, что тогда?
– А если не вытащат?
– Конечно, вытащат! Чего ради им с ним возиться?
И тут меня осенило.
– Чего ради? Да ты же гений! – сказал я Курочкину. – Последи за ним минутку, я сейчас!
Я кинулся обратно на «Стремительный». Вода в банке выкипела вновь, из скорлупы лезли черные пузыри. Я выдернул проволочки из розетки, выкинул все сооружение вместе с банкой за борт и с сомнением посмотрел на наш запас из двух последних бутылок белого вина. Для моих целей требовалось что-то более убедительное.
На причале я еще раз внимательно оглядел пирс и ближайшую акваторию. «Мощный» отнесло еще дальше вглубь бухты по направлению к острову Бруснева. У трапа «Новокузнецка» стоял вахтенный и старательно делал вид, что не смотрит в нашу сторону. С другой стороны пирса был пришвартован большой несамоходный лихтер «Амбарчик». Лихтеров в Северо-Восточном управлении было ровно в два раза больше, чем буксиров. Подразумевалось, что пока один лихтер разгружается, буксир спокойно перетаскивает в нужное место другой и возвращается к концу выгрузки. Сейчас «Амбарчик» ожидал очередной буксировки, но на его палубе было пусто.
– Туда! – показал я на лихтер. Курочкин с сомнением покачал головой, но спорить не стал. Мы подняли Федора, и он почти самостоятельно начал переставлять ноги в нужном направлении. На «Амбарчике» проходили практику двое наших сокурсников, и наше вторжение объяснить можно было довольно просто. Впрочем, давать объяснения было некому. Мы спокойно вошли в надстройку и оказались в большом, обитом деревом квадратном помещении, напоминающем деревенскую избу. Посреди комнаты стоял стол и несколько стульев. Две двери на дальней стене вели вглубь надстройки. Мы усадили Федю на придвинутый к столу стул, я достал из кармана прихваченную из личных запасов полулитровую бутылку питьевого спирта, купленную изначально как экзотический сувенир с Севера, и стакан, сколупнул крышку с бутылки. В воздухе остро запахло спиртным. Федя вздрогнул, с невероятной скоростью, как лягушка за комаром, выкинул вперед правую клешню и цепко ухватил бутылку.
– Эй, это не для тебя, – негромко, чтобы не поднять шума, предупредил я и попытался разжать Федину руку, но проще было разделить сиамских близнецов – рука словно срослась со стеклом. За одной из дверей послышались звуки, и мы с Курочкиным рванулись к выходу.
Вновь у трапа «Стремительного» мы оказались ровно в тот момент, когда на пирс въехал грузовик с кузовом, заполненным беглой командой «Мощного». К причалу подошел лоцманский катер, и хмурый, довольно еще трезвый экипаж отправился на отлов своего летучего голландца. Минут десять я честно наблюдал за происходящим, но желудок вновь настоятельно напомнил о себе. Я взялся за сооружение нового кипятильника. В коридоре прозвучали шаги. Одолеваемый тяжелым предчувствием, я выглянул в дверь и опять увидел Курочкина.
– Опять за борт упал?
– За борт? Да нет, нет, – замахал руками Курочкин. Типун тебе на язык. Извини, но просто чайку попить захотелось. А ты, говорят, большой спец по части кипятильников?
Якорь
Шторм был несильный, баллов на шесть – семь, но «Стремительный» заметно качало. Небо плотно затягивали тяжелые облака, было по-вечернему сумрачно, и мы шли с включенными ходовыми огнями. Для большой устойчивости я расклинился на ходовом мостике между задней переборкой и рулевой колонкой, опираясь руками на вертикальный костыль гидравлического руля. Несмотря на качку, удерживать курс было несложно. Дополнительную устойчивость придавал километровой длины буксирный трос за кормой. К тросу был прицеплен лихтер «Амбарчик».
Картушка компаса побежала вправо, я привычно прижал костыль, и стрелка положения руля на циферблате переместилась, но курс не восстанавливался, а корпус «Стремительного» судорожно завибрировал.
– Что такое, что такое? – капитан Приходько, крупный и рыхлый мужчина лет сорока пяти, встревожено повернулся ко мне. Я пожал плечами.
– Не знаю. Руль перестал слушаться.
По корпусу прошла новая волна вибрации. Противно заскрежетал телефон связи с машинным отделением. Капитан схватил трубку.
– Что там еще у вас? Что значит, левая машина встала? Так чините быстрей! Каких еще два часа!
Приходько в сердцах бросил трубку.
– Маслопупы долбанные. Два часа им надо! На стоянке пропьянствовали, а теперь трудовой героизм проявляют! А что у нас всего две мили до полутораметровой банки и ветер в ту сторону – им наплевать.
– А одна машина не вытянет? – осторожно спросил я.
– Нас одних вытянет. А с лихтером – разве что на месте удержит. На якорь становится надо.
Капитан подошел к радиотелефону и нажал кнопку вызова.
«„Амбарчик“, „Амбарчик“, я „Стремительный“, срочно выйдите на связь. Прием».
Некоторое время мы вслушивались в потрескивающий эфир, затем капитан повторил вызов.
– Электричество экономят, – предположил он. – Попробую прожектором посигналить.
Он распахнул дверь на крыло, расчехлил прожектор, включил его и, поиграв светом, нацелил мощный луч точно в окна рулевой рубки «Амбарчика». Вернувшись в рубку, он еще раз попробовал радиотелефон. «Амбарчик» не отвечал. Капитан понаблюдал в локатор за чертой далекого берега и с удовлетворением отметил, что мы, хотя и медленно, но все же продвигаемся вперед на одной машине. И в этот момент корпус буксира вновь задергался, словно в эпилептическом припадке, а еще через несколько секунд наступила тишина. На этот раз полная. Если не считать свиста ветра и плеска волн. Одновременно на «Стремительном» исчезло электричество. Секунду спустя тусклым светом засветились лампы аварийного освещения. В полной тишине по трапу прогрохотали торопливые шаги, и на мостик вбежал штурман Дзюба.
В прошлой, до Заполярной, жизни Дзюба был капитаном китобойного судна, по восемь месяцев подряд проводил в море, штурманское дело знал в совершенстве. На Север, по словам его супруги и нашей буфетчицы Аллы, он попал за то, что начистил физиономию помощнику по политической части, начистил по делу, но при разборке у начальства не сдержался и откровенно высказался о партийной работе на флоте вообще. Капитан, бывший речник, в присутствии Дзюбы явно тушевался.
– Вот так, вот так, доплавались! – сказал он при виде штурмана. – Сначала одна машина встала, стармех два часа на ремонт потребовал, а теперь – все! Все! Полный ноль. Даже света нет.
Дзюба склонился над картой.
– Гнилое место.
– Да, да, да, я и говорю! Максимум полтора часа у нас есть. Один выход – встать на якорь. Да вот как с «Амбарчиком» быть?
– А что с ним?
– Не отвечает! Нажрались, видно, даже вахтенного на мостик не выставили, и спят мертвым сном.
Капитан со штурманом вышли на крыло, и я, бросив бесполезный теперь руль, присоединился к ним. Масса «Амбарчика» с двумя тысячами тонн груза на борту превышала нашу в несколько раз, инерция движения все еще отодвигала нашу связку от скалистой банки, но сила ее воздействия на лихтер была намного мощней, и мы довольно быстро сближались.
– Нашим якорям обоих не выдержать, – согласился с капитаном Дзюба. – Если не разбудим, придется буксир рубить. Значит, на свет они не реагируют. А на звук?
– Да-да-да!
По указанию капитана я вернулся в рубку и до конца вдавил тугую кнопку горна.
– У-у-у-у… – мощный надсадный звук, вплетаясь в рев моря и ветра, понесся над водой. Через несколько секунд я отпустил кнопку, нажал вновь. Горн, чередуя длину сигнала, то тянул заунывную мелодию, то рассыпался стаккато. Капитан бил лучом прожектора в иллюминаторы «Амбарчика». Ответа не было.
Вскоре капитан остановил мои звуковые эскапады, от которых у всех присутствующих уже были заложены уши. Экипаж «Стремительного», за исключением машинной команды, собрался на шлюпочной палубе. До «Амбарчика» оставалось не более сотни метров, и мы отчетливо различали огромный по сравнению с нами корпус лихтера. Не вместившийся в трюмы груз для заполярных поселков в разнокалиберных деревянных ящиках был принайтован металлическими тросами к крышкам трюмов и к палубе.
– Кажется, навалимся прямо на него, – заметил Дзюба. – Надо бы кранцы приготовить.
– Да-да-да! – капитан повернулся к боцману и приказал палубной команде стоять с кранцами наготове.
– Может, я их разбужу, – предложил я, подумав, что в состоянии экипажа лихтера, возможно, есть и моя доля вины.
– Что ты сказал? – Дзюба повернулся ко мне. До «Амбарчика» оставалось пятьдесят метров.
– Что разбужу их там. Мы сейчас навалим на них, и я перепрыгну на лихтер. А там или разбужу вахтенного, или сам их якорь отдам.
– Нет-нет-нет! – услышал мое предложение и капитан. – Слишком рискованно. Море штормит, а если с курсантом что-нибудь случится… Нет, такого распоряжения я дать не могу.
– Если «Амбарчик» окажется на камнях, спрос будет не меньше, – заметил Дзюба.
– Не знаю, не знаю, не знаю…
– По правилам морской практики, буксируемый объект полностью на нашей ответственности.
– Но они же свои обязанности не выполняют! На наши сигналы не реагируют! Что мы можем сделать?
– А давайте так, – предложил я, – как будто я сам, если что, прыгнул, без распоряжения? И в судовой журнал ничего не пишите.
– Ну… – капитан неопределенно покрутил в воздухе рукой и отвернулся от меня.
До «Амбарчика» оставалось десять метров. Его борт в носовой части приходился почти вровень с нашей шлюпочной палубой. Я спустился по наружному трапу и отодвинул женщин. Боцман с Имантом и Гидрофором рассредоточились с кранцами вдоль борта. «Стремительный» приблизился еще, очередная волна подхватила буксир и кинула на корпус лихтера. Принимая удар, заскрежетал привальный брус. От края шлюпочной палубы до «Амбарчика» было не больше метра. И я просто перешагнул с борта на борт…
Сначала мне показалось, что качка прекратилась. Потом я понял, что это не так, просто на массивном, заполненным грузом лихтере она ощущалась значительно меньше. Мои пальцы судорожно сжимали стальной, покрытый наледью крепежный трос и уже ощущали его холод. Я оглянулся. От удара «Стремительный» отбросило на несколько метров, и теперь он медленно отходил от еще не потерявшего инерцию «Амбарчика» в сторону его кормы. Я посмотрел на полубак лихтера, заполненный механизмами мало понятного для меня назначения, и вспомнил, что самостоятельно отдавать якорь мне не приходилось ни разу в жизни, а когда эту операцию на «Стремительном» проделывал боцман, я каждый раз оказывался в лучшем случае за рулем на ходовом мостике и за всей процедурой наблюдал очень издалека. До жилой надстройки, в свою очередь, было метров пятьдесят – шестьдесят, заполненных обледеневшими ящиками. Чуть подумав, я двинулся к надстройке. Чтобы пробежаться по ящикам на стоянке, наверное, не потребовалось бы и минуты. В море, в качку, под порывами шквалистого ветра дистанция выглядела бесконечной. Я пробежал два шага, поскользнулся, упал, оценил надежность четырех точек опоры и очередной ящик преодолел на четвереньках. Потом подумал, что за мной наверняка наблюдают с борта «Стремительного», выпрямился, чтобы через три секунды согнуться вновь. Наверное, так перемещаются под обстрелом. Когда я добрался до надстройки, моя спина была мокрой от пота, а пальцы задубели и почти потеряли чувствительность от холода. Я с трудом отодвинул задвижку наружной двери и вошел внутрь.
Со времени моего последнего визита здесь все так же пахло спиртным, табаком и потом. Чуть поскрипывали от качки туго принайтованные к полу стол и стулья в центре помещения. С легким постукиванием с борта на борт перекатывались две пустых бутыли из-под спирта. На гвозде висела до боли знакомая курсантская шинель без двух, с корнем выдранных пуговиц.
– Эй, есть кто живой?! – во весь голос позвал я.
В глубине помещений послышалось движение, одна из внутренних дверей распахнулась, и на пороге нарисовался коренастый рыжеволосый парень, Эдик Бабург, мой однокурсник.
– Чего кричишь? Людей разбудишь, – недовольно бросил он, ничуть, похоже, не удивляясь моему появлению на лихтере прямо посреди моря. – Чего надо-то?
– Ты, что ли, вахтенный? Якорь надо срочно отдать. Капитана разбуди. Или как у вас правильно, шкипера?
– Надо – отдадим. – Эдик лениво потянулся и поскреб себе затылок. – А на хрена?
– Да я же объясняю. У нас двигатель сломался. Сейчас нас на камни несет. Не отдадите якорь – мы буксир отрубим, и вас расколошматит к чертовой матери. Пошли быстрей!
– Как скажешь.
Эдик снял с гвоздя шинель, кое-как натянул ее на тугие плечи, и мы вышли наружу. Морозный ветер окончательно выбил у Бабурга остатки сна, и он легко, не сгибаясь, зашагал по ящикам так, что я едва поспевал за ним. На полубаке Эдик еще раз повернулся ко мне.
– Точно отдавать надо якорь?
– Я что, по-твоему, для своего удовольствия на ваше корыто посреди моря прыгал? Что за проблема – якорь отдать?
– Отдать можно. – Эдик повозился у якорной лебедки и взялся за ленточный стопор. – А назад потом как вытащить?
– Что значит – как?
– Да вот то и значит. Электричества у нас нет. Чтобы брашпиль заработал, надо дизель запускать. А механик в отрубе. Если что – утоплю! Следи за маркировками. Ну, с богом…
Эдик крутанул стопор, и стальная махина якоря рухнула в воду, увлекая за собой тяжелую цепь. На одном из звеньев мелькнула обмотка из белой проволоки, еще через несколько секунд вторая. На третьей я поднял ладонь вверх и вернулся к Эдику. Он уже плотно закручивал ленточный стопор. Шестидесяти метров якорной цепи, по моему разумению, для двадцатиметровой глубины было достаточно.
– А тебе не влетит, – спросил я, – что ты шкипера не разбудил?
– Легко сказать. Попробуй, разбуди! Он тоже в отрубе. Сутки уже. Как ушел к вам на «Стремительный» о буксировке договариваться, так и… Да еще и вернулся с бутылкой. Тут уже и остальных подкосило. А ты его там не видел?
– Это мордастого такого, с седыми усами?
– Да нет, – пояснил Эдик. – Наш без усов. Разве что небритый. И молодой еще, худой, родинка на щеке приметная.
– Нет, – сказал я, – такого не видел. А шинель у тебя откуда, мы же в бушлатах приехали.
– Да черт ее знает. С давних пор на лихтере. Кому наружу выскочить надо ненадолго, тот и одевает. Ладно, пошли в надстройку, пока не околели.
«Эй, на „Амбарчике“!» – прозвучал за спиной усиленный мегафоном голос и нас осветил луч мощного прожектора. Я обернулся и увидел сияющий яркими огнями «Стремительный». Буксир быстро и определенно под воздействием собственных двигателей приближался к лихтеру. – «У нас все в порядке, можем идти дальше. Выбирайте якорь!».
«Стремительный» подошел вплотную, я подошел к борту и, не оглядываясь на Бабурга, легко перешагнул на шлюпочную палубу.
Плохие парни
«Амбарчик» мы оставили под разгрузку плоскодонными речными плашкоутами на внешнем рейде реки Яны, и в устье Колымы вошли налегке. По пути двигатели еще дважды давали сбой, и механики потребовали спокойной, без качки, стоянки. Капитан привел «Стремительный» к причалу ссыльного поселка Михайловка. Ничего привлекательного на берегу не было. По склону полого сходящей к воде сопки расползлись нескольких десятков некрашеных деревянных домов, или скорее бараков. Для пешеходов по поселку традиционно протянулись приподнятые над землей деревянные мостки. Транспорта не наблюдалось вообще – да и куда ездить на одном из многочисленных островов в дельте Колымы?
Самым значительным лицом Михайловки была, конечно, заведующая единственным местным магазином, и она первой, едва мы пришвартовались, нанесла нам официальный визит. Капитан встретил ее у трапа. Женщина трудно различимого из-за многочисленности одежд возраста опустила на палубу увесистый мешок с главной местной валютой – омулем холодного копчения и деловито спросила:
– Водка или спирт есть?
Увы, спиртного на «Стремительном» не нашлось. Единственную бутылку спирта я еще в Тикси оставил в каюте «Амбарчика», а две бутылки белого вина с «Новокузнецка» на Севере явно не котировались. От запаха омуля сосало под ложечкой. Натуральный обмен произвели на два ящика компота из персиков. Капитан галантно распорядился отнести ящики в магазин. С грузом отправили Гидрофора и Иманта. Некоторое время спустя я навел порядок в слегка потрепанной штормом артелке, вышел к трапу и увидел вернувшихся с задания ребят. Они отдувались, как после спринтерской дистанции.
– Что случилось? Не в ту юрту вошли? – спросил я.
– Наших бьют, а тебе все шуточки, – обиделся Имант. – Мы из магазина вышли, а тут два поддавших мордоворота. Попросите, говорят, у завмага водяры для нас, местным она не дает. Мы вернулись, попросили. А та нас на смех – у них с прошлого сезона пустота. Ну, мы парням объяснили вежливо, нет в магазине водки. А те, вы, мол, плохие парни, не уважили нас. И один за ворот меня схватил. Я рванулся. Результат сам видишь.
Результат был на лице. У Гидрофора под глазом красовался синяк. У Иманта из разбитой губы сочилась кровь, ворот ватника был наполовину оторван. Если уж даже самый рассудительный из нас Имант не сумел разрулить ситуацию миром… Неписаный кодекс курсантской чести оставлять такую ситуацию безнаказанной не позволял. В Риге схватки между курсантами мореходки и авиационного училища случались как минимум раз в месяц. По субботам любители танцев дрались с местной шпаной в городских клубах. Если силы противника оказывались превосходящими, курсанты наматывали на руки ремни с тяжелыми бляхами, становились в круг и отмахивались, пока нападавшие не разбегались из-за приближения милиции. Курсантам убегать не полагалось.
– Мордовороты эти – и правда такие большие?
– Один с тебя, – признался Гидрофор, – но пошире. А второй на полголовы выше будет.
Я критически оглядел нашу ударную силу. Телосложением Имант и Гидрофор практически не различались, но миротворцы в данной ситуации были ни к чему. Расплывающийся под глазом Гидроформа фонарь казался более сильной мотивацией, чем оторванный воротник. На палубу вышел моторист Курочкин. Самый внушительный вид в нашей компании был у него.
– Имант, подмени меня на вахте, – попросил я Сармулиса. – А мы с Гидрофором пошли. Веня, ты с нами.
– Куда с вами? – удивился Курочкин. – Мне работать надо.
– Это ненадолго. Вопрос чести. Курсантской, – добавил я, хорошо зная, что Курочкин патологически не способен отказывать просьбам товарищей.
Долго искать противников не пришлось. Мы шагали по деревянным тротуарам мимо безликих бараков, главным украшением которых были развешанные на высоких шестах связки омулей. Где-то залаяла собака. «Мордовороты» вышли из покосившегося барака и, слегка покачиваясь, направились к нам. Эти, шепнул Гидрофор. Оба они, как и мы, были одеты в ватники и сапоги с высокими голенищами. Наши курсы пересеклись.
– Смотри, Петюня, – удивился высокий, – опять они здесь.
Я сделал шаг вперед.
– За что вы побили наших ребят?
– Он еще спрашивает?! Местное население уважать надо.
Высокий тоже ступил вперед и широко, по-деревенски, размахнулся. Я слегка присел, уклоняясь от тяжелого кулака, и легко, как на ринге, поймал его челюсть на встречном движении. Высокий кулем свалился у моих ног, а Петюня, неожиданно развернувшись, со всех ног кинулся наутек. Курсантская честь была спасена. Бить лежачих у нас было не принято. Мы не спеша, с подчеркнутым достоинством, зашагали назад. Ребята возбужденно комментировали мой удар, но сам я им не гордился. Для перворазрядника движение было не слишком чистым. Я оглянулся. Высокий уже встал и тоже куда-то побежал. В поселке захлопали двери. Что-то явно происходило. До «Стремительного» оставалось метров сто. Внезапно тишину со стороны буксира взорвал усиленный мегафоном капитанский голос:
«Команде срочно вернуться на борт! Судно отходит».
– Блин! – заволновался Курочкин. – У меня генератор недособран!
Мы прибавили шагу.
«Срочно бегом, быстро!» – опять загремел мегафон. Из трубы «Стремительного» повалил густой столб черного дыма. Мы побежали. Трап был убран, боцман придерживал последний швартовый конец. Мы запрыгнули на палубу, в ту же секунду на полную мощь взревели оба двигателя, и буксир без обычных осторожных маневров рванулся от причала. Иманта не было, очевидно, он стоял на руле. Курочкин помчался в машинное отделение. Все еще не понимая, чем вызвана такая спешка, мы с Гидрофором взялись складывать швартовы.
– Ложись! – заорал вдруг боцман. Мы застыли в недоумении, он прыгнул, загребая нас могучими руками, и упал вместе с нами на палубу.
– Да что… – возмущенно начал я, тщетно пытаясь выбраться из-под боцманских объятий, и вдруг совсем рядом услышал звонкие щелчки. В тот же миг стеклянным гейзером взорвался иллюминатор кормовой кладовки.
– Не двигаться! – приказал боцман, отползая от нас. – Стреляют, суки.
Я осторожно выглянул в отверстие клюза. Берег быстро отдалялся, но на причале было отчетливо видно группу людей, человек пять, с ружьями в руках. Трое целились в нас. Я спрятал голову, и мощный, ледового класса корпус буксира легко отразил новый залп свинца. Я выглянул опять и увидал, как двое других, с Петюней во главе, возятся на катере с подвесным лодочным мотором. Дым из нашей трубы повалил еще сильней и движение замедлилось. Опять полетел один движок, догадался я.
– Ну, что там?
Иваныч вновь оказался рядом, но теперь в руках его был двуствольный охотничий карабин.
– Моторку заводят.
– Плохо. Догонят в момент. Иллюминатор, сволочи, выбили. Ну, сейчас я им…
Боцман выставил дуло карабина в клюз. Над водой разнесся рев мощного движка. Моторка отошла от причала.
– Иваныч, ты что, убить же можешь…
– Спокойно, – отмахнулся он. И спустил курок. Потом второй.
Охота
– Ну, орлы, доигрались, доигрались! Теперь нам в Михайловку хода не будет, не будет. Хорошо, с мостика все ваши подвиги как на ладони видны были. А за иллюминатор вообще с вас высчитать надо! Надо, надо, надо!
Капитан возмущенно попыхтел в затухшую папиросу и в сердцах выбросил ее за борт. Мы, понурив головы, выстроились на ходовом мостике. Выстрел боцмана был точным. Мотор взорвался, оба «мордоворота» вылетели в воду. Оставшиеся стрелки кинулись спасать своих товарищей, и им стало не до нас. Увядающий движок «Стремительного» вывел нас из забитой островами дельты Колымы и кое-как тянул вдоль берега. В тундре появились первые признаки растительности. Низкий стланец постепенно переходил в карликовые березы и ели, высота которых увеличивалась по мере нашего продвижения к югу.
– Значит, так. Властям ничего сообщать не будем. Тем парням все равно терять нечего, а нам только лишние приключения на жо… на голову, то есть. Чтобы к нашему возвращению ни одного следа от пуль не осталось! Все, свободны, свободны!
После выволочки мы уходили с легким сердцем. Раз не будет сообщения властям, не будет, соответственно, и нежелательных замечаний в характеристиках. Боцман раздал нам краску и кисти, а сам вытащил моток тонкого, миллиметра в два толщиной металлического троса, приладил к нему большую блестящую блесну с огромным, как на акулу, крючком, вытравил трос за борт и свободный конец закрепил на приваренной к фальшборту утке.
– Приглядывай за снастью, – велел он мне. – Идем медленно, может, кто клюнет. Тут такие рыбины водятся!
Гидрофор стоял на руле, а мы с Имантом взялись за работу. Время от времени я подходил к тросу, подтягивал его на метр или два, убеждался, что блесна не вызывает ни малейшего интереса у представителей местной фауны и отпускал трос обратно. Мы отскребали краску вокруг пулевых отметин широкими заплатами, и затем покрывали их быстро просыхающим грунтом из свинцового сурика, только теперь начиная понимать, что могло произойти, если бы боцман своевременно не завалил нас на палубу.
Я очередной раз потрогал трос с наживкой. Мне показалось, что на этот раз он ведет себя по-другому. Кажется, у нас появлялась возможность реабилитироваться. На руках у меня были надеты рабочие рукавицы. Я осторожно начал выборку снасти. Первый метр троса поддался без особых усилий, но затем рыбина, ощутив, очевидно, мое вмешательство, рванула, и трос вернулся в прежнее состояние.
– Попалась! – закричал я. – Здоровенная! Имант, тащи опорный крюк, сейчас мы ее…
На поверхности воды рыбина пока не показывалась. Я потянул заново. Теперь трос не просто противостоял моим усилиям, а еще и пульсировал короткими и ритмичными рывками. На этот раз мне удалось выбрать почти полтора метра, но новый мощный рывок пустил все мои усилия насмарку. Наконец, появился Имант с крюком.
– Делать-то что? – спросил он.
– Помоги. Слишком большая, зараза, одному не вытащить.
Мы потянули в четыре руки. Трос пошел легче, но после полутора метров рыба рванула так, что мы оба упали на палубу, а одна из моих рукавиц улетела за борт.
– Закреплять надо сразу, что вытащили. Сразу, сразу.
Я обернулся на голос капитана. Рядом с ним стояли обе судовых женщины – Яна и Алла.
– Может, на лебедку трос перенести и брашпилем вытащить? – предположил Имант.
– Не получится на лебедку. Пока переносить будем, можем не удержать, совсем уйдет. Подожди, мне рукавицу новую надо.
Я кинулся к кладовой, внутри которой боцман отесывал топором деревяшку, приспосабливая ее для размешивания густотертой краски.
– Клюнула, Иваныч! Громадина! Вытащить не можем. Дай рукавицы новые, у меня одна за борт улетела!
– Клюнула, говоришь?
Не выпуская топора, боцман прошел к корме, подергал трос и одним взмахом топора перерубил его.
– Не было там никакой рыбины, – коротко объяснил он. – Тоже мне, рыболовы. Трос на винт намотало.
Больше всех расстроился капитан. Недовольно пофыркивая, он походил по корме, и я расслышал, как подрагивающие от возбуждения щеки выталкивают пулеметную дробь слов:
– Да-да-да! Должна тут быть рыба, должна! Да-да-да!
Полчаса спустя «Стремительный» застопорил двигатель и встал на якорь. По берегу, насколько хватало глаз, расстилалась тайга. По указанию начальства мы спустили маленький трехместный ялик, капитан и Дзюба, захватив сеть из боцманского запаса, забрались в него, установили мотор Вихрь и покатили к берегу, к малозаметной протоке или впадающей в Колыму речушке. Боцман, недовольный тем, что его оставили на борту, наблюдал за ними в бинокль.
– Ну, блин, кто же так сеть ставит, – комментировал он. – А еще штурмана… Да сейчас в воду свалятся!
– Иваныч, дай посмотреть, – не выдержал я.
– Да было бы на что! – боцман протянул мне бинокль. – Хреново у нас в мореходках учеба построена. Вот вы тоже дипломы скоро получите, придете людьми командовать, а сами ничего толком не умеете.
Я подкрутил окуляры. Начальство изо всех сил пыталось распутать сеть, но усилия приводили к обратному результату. Оба, ожесточенно жестикулируя, о чем-то спорили. Потом капитан указал на что-то рукой. Я переместил окуляры в сторону и увидел плывущего по реке лося с огромными ветвистыми рогами.
– Что там еще? – нетерпеливо спросил боцман.
– Лось, кажется.
Иваныч забрал у меня бинокль, всмотрелся внимательно.
– Огромный! На полтонны потянет. С другого берега перебирается. Жаль, далековато. Не вовремя ялик отвалил. Пока шлюпку спустишь – уйдет. А свежее мясо не помешало бы.
Я посмотрел на ялик. Капитан сидел на банке, возле подвесного мотора, а Дзюба стоял в полный рост, лицом к «Стремительному» и махал руками. Я подхватил с палубы кусок белой ветоши и в ответ покрутил ею в воздухе. Тогда Дэюба взял в руки весло, приставил к плечу, как ружье наизготовку, направил его в сторону лося и выразительно подергал. Потом похлопал по веслу, по борту ялика и энергично стал загребать воздух правой рукой.
– На помощь зовет. С ружьем. Шлюпку спустить надо, – расшифровал я его знаки.
– Не успеем!
Боцман кинулся на шлюпочную палубу, мы с Имантом следом за ним. Ялик рванулся наперерез лосю.
– Срочный спуск шлюпки! – крикнул я Гидрофору. – Вызывай Курочкина на мотор.
Иваныч отдал крепления и начал стравливать фал. Шлюпка покатилась к воде. Имант раскручивал штормтрап. Курочкин прилаживал на плечо сумку с инструментами. Перед спуском я посмотрел в сторону ялика, который кружил возле лося, пытаясь отвлечь от недалекого уже берега. Боцман спрыгнул в шлюпку, и Имант подал ему двустволку.
Ровно застучал дизельный движок спасательной шлюпки, и мы отвалили от борта. Боцман с двустволкой устроился на носовой банке. Я сел за руль и вновь посмотрел в сторону берега. Ни ялика, ни лося не было.
– Где они? – удивился я.
– Ты рули, рули! – от нетерпения боцман барабанил пальцами по борту. – Упремся – разберемся. На фоне леса не видно. Да куда им деться?
Движок быстро набрал обороты. Низкий, густо заросший лиственным лесом берег приближался, но ялика по-прежнему не было видно. В двух метрах от узкой песчаной полоски днище проскрежетало по дну, и шлюпка встала. Курочкин остановил движок. Иваныч выскочил в воду со швартовым в руках, выбрался на сушу, зацепил конец за ствол ближайший березы и повернулся к нам.
– Курочкин остается на шлюпке, матросы за мной!
Мы с Имантом зашагали за боцманом вдоль берега. В небе безмятежно сияло солнце, и здесь, вдали от моря, его лучи вполне по-летнему прогревали землю, отвечающую на тепло буйной растительностью. Река в месте нашей высадки изогнулась излучиной, позволяя довольно хорошо просматривать ближайшую акваторию. Вдалеке на якоре мирно дожидался нашего возвращения «Стремительный». Мимо нас по течению медленно проносило несколько бревен, утерянных, наверное, за тысячу километров еще в верховьях Колымы. Звенящую тишину нарушало только жужжание насекомых. Боцман внезапно остановился и поднял руку.
– Тс-с… – прошептал он. – Тихо. Там зверь. Крупный.
Мы уставились на сплошную стену зелени и тоже услышали шорох шагов и треск ломающихся веток. С каждой секундой звук нарастал, и теперь в него вплетались свистящее дыхание и пофыркивание. Зверь, возможно, услышал наши шаги и уверенный в этом непуганом человеком краю в своих силах, рванулся за легкой добычей. Боцман взвел курки и встал наизготовку. Мы чуть присели за его спиной. Зверь вылетел из кустов и…
… мы с трудом узнали в нем капитана Приходько.
При виде двустволки капитан бросил покореженный мотор Вихрь и поднял руки. Боцман опустил ружье.
– Что с вами, Валерий Федорович?
– А что со мной, что со мной? Ничего со мной нет, кроме мотора. – Капитан провел ладонью по кроваво красному лицу, сминая полчища облепившего его гнуса. – Там он, там, там он. Там.
Приходько сбежал к реке, встал на четвереньки, сунул голову и руки в воду, пофыркал, похлопал себя по телу, избавляясь от остатков гнуса, и полез по откосу к нам. Но на его пути стоял боцман.
– Где ялик? Дзюба где?
– Да ты что Иваныч, ты что, ты что?
Капитан помолчал, посмотрел в сторону чащи, из которой он только что выбрался, и вяло махнул в ее направлении рукой.
– Нет ялика. И Дзюбы нет. Там они.
– Что значит, нет? Да скажите вы толком, наконец. Что произошло?
Приходько повертел еще головой, усеянной теперь сверкающими на солнце каплями воды, увидал в отдалении стоящий на якоре «Стремительный» и, похоже, вспомнил, наконец, о своей капитанской должности.
– В общем, так… Мы, когда к лосю подскочили, до берега уже недалеко было. Он нас увидел, только быстрей поплыл. Не остановить. И близко не подберешься, рога у него – во! – Капитан во всю ширь развел руки. – Того и гляди – долбанет. Ну, Дзюба на носу был, схватил швартовый конец и метнул. Петля точно на рога села. А лось в этот момент дно под ногами почувствовал. Как рванул на берег – и ялик за ним. И прямо в тайгу. На бешеной скорости. Мотор цепанул за что-то, а я за его ручку держался. Нас обоих и выкинуло. А их, то есть Дзюбу и ялик, так и унес за собой. С концами.
– С какими концами! – от возмущения боцман на миг захлебнулся словами. – С какими концами, товарищ капитан! Лось – это вам не трактор. И ялик… Да сколько он протащить его мог! Наверняка уже что-нибудь случилось. Или с лосем, или с яликом, или…
Боцман запнулся, и капитан горестно кивнул головой.
– Вот-вот, я и говорю… Одного гнуса хватит, чтобы заживо сожрать человека. Я-то рядом вылетел, мне сквозь листву просвет на реку виден был. А он?
– Верно, – согласился боцман. – Ждать некогда. Парни, делайте как я.
Иваныч наклонился, набрал в ладони влажную землю и начал размазывать ее по лицу, шее, тыльной стороне рук, быстро приобретая боевую раскраску. Помешкав, мы последовали его примеру. Капитан смотрел на нас в недоумении.
– Идем на поиски, – объяснил боцман. – А вы ждите нас у шлюпки, она там.
Мы зашагали за боцманом, и я, присмотревшись, увидел прочерченный по земле след ялика неподалеку от места, откуда вышел капитан. В этот момент в чаще перед нами раздался треск веток, мы остановились и нам навстречу вышел Дзюба. Лицо его, как и наши физиономии, покрывал толстый слой грязи. В руках он держал обломанный лосиный рог.
Морская любовь
Командиром на «Стремительном» с двумя механиками и двумя женщинами остался Гидрофор. Механики, впрочем, были не в счет. Для нас они выглядели фантомами, которые мелькают иногда в судовых коридорах или на трапе при сходе на берег, но не более того. На стоянках буксир пустел, оба механика пускались в беспробудный загул, а на ходу занимались бесконечным сражением с нежелающими им подчиняться двигателями. Даже обеды повариха Яна, чтобы механикам не приходилось тратить драгоценное время на переодевание, относила им прямо в каюты. Переборкой двигателя они занимались и на этот раз.
Ярко, не по северному, светило солнце. Гидрофор вышел на крыло ходового мостика и снял бушлат. Потом стянул через голову форменку и остался в тельняшке. Приближалось время обеда. Под ложечкой привычно засосало. Гидрофор вспомнил, что вся судовая власть теперь сосредоточена в его руках и решил наведаться на камбуз. Плита, к его удивлению, оказалась холодной, да и сама повариха отсутствовала. Тогда он заглянул к Яне в каюту, но и там было пусто. Еще больше удивившись и даже встревожившись, он прошелся по другим судовым помещениям, проверил душевые и гальюны, но не нашел ни единой живой души. Не было и буфетчицы Аллы. Он снова поднялся на мостик, внимательно осмотрел девственно пустынную реку. Никого не удалось различить и на берегу. Чтобы увеличить дальность обзора, он зацепил ремешок бинокля на шею и полез по вертикальному трапу на сигнальный мостик, располагающийся на крыше ходовой рубки. Гидрофор поднялся над срезом рубки по пояс и застыл.
На деревянном настиле лежали два верблюжьих одеяла. Поверх них, воспользовавшись редчайшей для этих широт возможностью, на животах, как две морские звезды, раскинулись Яна и Алла. Глаза женщин были плотно закрыты. Рядом, аккуратной стопкой, было сложено их нижнее белье.
Когда столбняк прошел, Гидрофор начал замечать подробности. Особенно его заинтересовала Яна. Ему очень хотелось подойти ближе, но он опасался, что его услышат, и женщины проснутся. Поэтому он стоял на неудобном трапе и терпел.
– Ну, насмотрелся? – не открывая глаз, спросила Яна.
– Да я… – от неожиданности Гидрофор чуть не упал. – Я… я проверить хотел, почему обед не делается, вот! – нашелся он.
– А что, мужики с охоты возвращаются?
– Да нет, не видно пока. Но порядок есть порядок, а я сейчас за старшего. За капитана, то есть.
– Так ты теперь капитан… – как-то странно промурлыкала Яна и стала переворачиваться. Гидрофор поспешно спустился с трапа и ретировался в рулевую рубку. Уже там он вновь взялся за бинокль и, наконец, разглядел судовую шлюпку.
На берегу что-то происходило. Шлюпка была нацелена носом к «Стремительному» и за ее кормой бурлила вода, но движения не замечалось. В шлюпке при этом наблюдался только один человек, судя по всему, Курочкин, а остальные топтались на берегу возле крупного предмета.
– Яна! – закричал Гидрофор, выскакивая на крыло. – Мужики лося завалили! Здоровенного! Растапливай плиту!
– Здоровенного, говоришь…
Гидрофор посмотрел наверх и едва не уронил бинокль. Яна стояла над его головой у рейлингов верхнего мостика и, не спеша, прилаживала к объемистой груди лифчик. Солнце из-за ее спины било Гидрофору прямо в глаза так, что вокруг плотно сбитого тела Яны расплывался светящийся ореол.
– Капитан… Не поможешь мне… на камбузе?
Наша охотничья команда вернулась к буксиру на одной спасательной шлюпке. Унесенный лосем в чащобу ялик мы отыскали метрах в ста от береговой линии, и кое-как оттащили обратно к воде. Бока его были основательно покорежены, транцевая доска отлетела вместе с мотором, плыть на нем было слишком рискованно, и мы прикрепили его к борту шлюпки. Когда мы добуксировали его до «Стремительного», ялик был на две трети затоплен.
– А где же лосина? – разочарованно спросила Яна.
Гидрофор помог ей на скорую руку соорудить немудреный обед из макарон по-флотски, с тушенкой, а затем и вымыть кастрюли. После чего у него появилось устойчивое хобби. Отстояв вахту, он чистил картошку на ужин. После завтрака складывал на полки чистые тарелки. После обеда вышвыривал за борт камбузные отходы.
Несмотря на нашу небогатую пока морскую практику и юный возраст, каждый четвертый курсант уже был женат. Остальные, пусть и на теоретическом уровне, твердо знали, что в море после недельного плавания все женщины допенсионного возраста становятся желанными солнышками и ласточками, а многим из них, несмотря на любые возрастные соотношения, удается увязать достигнутое на долгие годы в крепкий морской узел супружеской жизни. Поэтому женский вопрос лучше сразу решать на берегу, не затягивая с выбором. Лучше все равно не будет. И я подумал, что друга надо спасать.
В поселке золотоискателей Черский нам предстояло взять на буксир очередной лихтер. Мы с Гидрофором вышли в поселок, чтобы закупить свежего хлеба на предстоящий рейс. В отличие от других северных поселений, в которых нам удалось до сих пор побывать, Черский выделялся особенной ухоженностью и добротностью. Чувствовалось, что сезонников здесь немного, жители обосновались всерьез и надолго. Навстречу нам шли две местных красавицы, облаченные в легкие ситцевые платья.
– Девушки, где у вас хлеб продают, – спросил я и добавил жалобным голосом: – Очень кушать хочется…
Они остановились и с подозрением осмотрели наше не слишком презентабельное, полукурсантское, полугражданское облачение.
– Вы че, и правда не знаете? Вот же он! – одна из красавиц с темными, свободно раскиданными по плечам волосами, указала на ближайший дом.
– Правда? А где же вывеска?
– Да зачем нам вывеска? – Мы и так все знаем. А вы откуда такие, из Среднеколымска, что ли? Или из самого Якутска? Хотя нет, не похоже…
Мне показалось, что в ее голосе зазвучал неподдельный интерес, что, по моим соображениям было вполне логично – каждая из местных незамужних обитательниц должна спать и видеть заезжего принца из областного центра. И лучше такого лекарства для Гидрофора просто не существовало.
Гидрофор гордо выпятил грудь.
– Вообще-то мы из Риги, – как можно более небрежно, обронил он.
– А это еще где? – удивилась вторая красавица, в мелких кудряшках.
– Да как вам сказать, – в свою очередь удивился я и махнул рукой на левый берег Колымы. – Отсюда километров тысяч семь или восемь, наверное, будет. Туда, на запад. А давайте, мы вам объясним поподробнее. У вас кафе тут какое-нибудь есть? Или можно к нам на пароход, на экскурсию.
Девушки моментально потеряли к нам интерес.
– Семь тысяч километров! – прокомментировала кудрявая. – У-у, какая глушь…
– Погодите, – я еще пытался спасти положение, – говорят, у вас, золотоискателей, глаза на метр под землю проникают. И уж если ваша девушка на кого посмотрит, как вы сейчас на нас…
– Не трудись, – закончила длинноволосая. – Уже посмотрели. И поняли, что искать вам здесь нечего. Адью!
Красавицы развернулись и, ни разу не обернувшись, скрылись за поворотом.
– Не поняли нас, – посетовал я. – Не то, что наши женщины на «Стремительном», верно?
– Да причем тут… – Гидрофор покраснел. – Не знаю, о чем ты… Они и правда хорошие. И внимания заслуживают. Особенно Яна.
– Особенно?
– Ну да! У нее, между прочим, день рождения сегодня. Юбилей!
– Неужели уже пятьдесят стукнуло? Никогда бы не дал!
– Да сорок всего! Ну, хлеб-то будем брать?
Юбилей отмечали вечером, в узком кругу. Извещать начальство Яна постеснялась. И у капитана, и у Дзюбы с Аллой в Черском оказались знакомые, к которым они отправились погостить, по всей видимости, до утра. Боцман исчез, никого не предупредив. Каюта его была заперта, на стуки он не отзывался. Яна принарядилась, накрасила губы и принесла в нашу с Гидрофором каюту бутылку спирта. Мы в ответ честно выставили две оставшихся бутылки вина. Трезвенник Имант покрутил носом и ушел на палубу, где ему и полагалось нести вахту. Курочкин расцеловал Яну и подарил ей самолично сооруженный из толстой проволоки держатель для кастрюль, чтобы руки не обжигала. Яна растрогалась и погладила симметричные ожоги на тыльной стороне предплечий обеих рук. Мы попробовали коктейль из спирта и сладкого белого вина, но пришли к выводу, что с томатным соком спирт гораздо приятней.
– Не думайте, – сказала Яна и плотней прижала ногу к Гидрофору. Правда, сидеть в тесной каюте, не касаясь соседей, было невозможно. – Я не такая простая, как выгляжу. У меня сестра знаете, кто? Жена самого министра торговли! Живет в Москве, как сыр в масле! А меня и знать не хочет, стерва! Компрометирую ее, видите ли! И все потому, что я двенадцать лет в лагере откатала. И за что? Пятнадцать лет мне было, булку с голодухи в булочной сперла! Ну, ничего, я ей еще о себе напомню!
Она вновь погладила ожоги и пытливо заглянула мне в глаза, словно пытаясь понять, знаю ли я, что на самом деле это вытравленные татуировки, коих на других частях тела еще предостаточно, и о которых мне под большим секретом поведал Гидрофор.
В распахнутый иллюминатор струился свежий колымский ветерок. Застенчивый Курочкин, вдруг разговорившись, поведал о московской студентке, с которой уже полгода поддерживает переписку и как недостает ему этих писем сейчас, во время скитаний по бесконечным морским просторам. Яна раскраснелась и похорошела. Даже помолодела как будто. Я расслабился и предложил выпить за любовь.
Празднование прекратили, когда закончилось спиртное, незадолго до полуночи. Ночная вахта выпадала мне. Солнце, не скатываясь полностью за горизонт, спряталось за ближайшим лесом, и на окрестности опустился мягкий сумрак. Ночных гостей мы не ожидали, трап был убран, и я в полудреме сидел на крыле ходового мостика. Нагретая за день земля отдавала накопленное тепло легким, стелющимся туманом, который заканчивался у моих ног, и мне казалось, что я плыву на облаке. Или от этого ощущения, или от спиртного, кружилась голова. Время от времени я проваливался в сон. И, то читал тщательно выписанные по телу Яны клятвы не забыть мать родную и умереть за любовь, то прятался от разгневанного Бабурга среди ящиков на палубе лихтера, то несся по тайге на ялике с запряженным в него лосем. В какой-то момент мне показалось, что по палубе внизу ступают чьи-то осторожные шаги. Я встал и увидел, как боцман помогает перебраться на берег молодой толстушке с хорошо развитой филейной частью, которой, без сомнений, могла бы плотно, как пробка, заткнуть судовой иллюминатор. Она перешагнула через борт, ступила на привальный брус и пошатнулась. Мне показалось, что она сейчас свалится за борт, между причалом и корпусом буксира, и я хотел броситься на помощь, но мощные руки боцмана уже подхватили объемное тело и легко, как подъемным краном, перенесли на причал.
Я закрыл глаза.
Следующий раз меня разбудили какие-то голоса, идущие снизу. Я перегнулся через рейлинг. В иллюминатор Яниной каюты выглядывала голова Гидрофора.
– Да нет никого. Да и туман, – сказал он невидимому собеседнику и исчез.
Какое-то время уже неразличимый гул голосов внизу продолжался. Затем в иллюминатор высунулось что-то белое и объемное, вроде подушки, и звуки прекратились. Я сел на прежнее место. Когда я вновь открыл глаза, передо мной стоял Гидрофор в семейных трусах и тельняшке.
– Слушай, – прерывисто дыша, сказал он, – помоги беседку спустить, только быстро.
– Какую еще, на фиг, беседку. У тебя что, крыша от полового возбуждения съехала?
– Да при чем тут… У нее тело знаешь, какое молодое! Только… Я сдуру про задницу в иллюминаторе рассказал, ну, мы заспорили, она попробовала и застряла. Вот!
– Понятно, – ответил я и закрыл глаза, подумав, что вновь вижу сон.
Пальто
Это нам только кажется, что мы управляем вещами. На самом деле все происходит с точностью до наоборот. Во всяком случае, мой характер полностью сформировался под воздействием вещей. Заявляю об этом прямо и откровенно.
Природа с детства одарила меня хорошей памятью и довольно крупным телосложением. Поэтому в классе я был больше похож на второгодника, сидел на последней парте и читал на уроках приключенческие романы. Иногда, чтобы застать врасплох, учитель задавал мне коварный вопрос по текущей теме, надо было вскакивать и отвечать. Поэтому у меня хорошо развился периферийный слух и громкий голос – на задней парте мямлить не полагалось. В пятом или шестом классе я перерос очередной костюм, и моя мать отправилась на поиски замены для донельзя обносившихся брюк и куцего пиджачка. Работала она в Старой Риге, рядом с Театром русской драмы и самым престижным в городе ателье мод. Выйдя из конторы в обеденный перерыв, она увидала, как в ателье заканчивают оформление витрины, прилаживая к роскошному черному вечернему костюму ярлычок с неприлично смешной ценой. Она, что называется, не поверила своим глазам и вошла в ателье. Приемщица объяснила, что клиент отказался от почти полностью оплаченного авансом заказа, и костюм выставлен за остаточную стоимость. Так в моем гардеробе появилась невероятная обнова.
На следующий день я пришел в школу. Первый урок весь класс, особенно девчонки, смотрел не на доску, а на меня. На перемене Ваня Кошкин, злостный второгодник и мелкий бандюган с московского форштадта, или, как чаще говорили тогда, с Москачки, впечатал мне в центр пиджака подошву своего грязного башмака. Рассвирепев, я разбил ему нос, и нас обоих потащили на разборку к директору школы. Отпустив Кошкина, директор долго рассматривал мой костюм, потом спросил классную учительницу, как я учусь, на что та неопределенно покрутила в воздухе рукой, и вынес вердикт:
– Будешь представлять школу на районном смотре самодеятельности.
– Но у меня нет музыкального слуха…
– Ведущим будешь! Если не хочешь из школы вылететь.
С этого момента я стал в школе популярным человеком. Мне пришлось учиться искусству конферанса, готовить шутки и репризы, развивать голос так, чтобы он легко, без микрофона, покрывал шумы многолюдных школьных сборищ. Характер мой изменился радикально. Из увальня-флегматика, озабоченного лишь проблемами героев Майна Рида, я превратился в ярко выраженного сангвиника, способного за считанные минуты стать своим в любой компании. Пышущий жаждой мести Кошкин несколько раз пытался со своими дружбанами с Москачки организовать для меня засаду по дороге из школы, но каждый раз многочисленные доброжелатели предупреждали меня о коварном замысле недруга и уводили другими путями.
Два года спустя мой костюм начисто потерял сценический лоск, я опять подрос, но в витрине ателье ничего подходящего больше не выставлялось. Моя карьера конферансье пришла к закату. Тем более, что появилась новая проблема. На этот раз с обувью. Нога росла пропорционально с телом, а советские обувные фабрики, наверное, для экономии кожи предпочитали выпускать обувь малых размеров. Мой сорок третий был настоящим раритетом. Не мог же я выходить на сцену в перманентно просящим кашу ботинке! В человеке все должно быть красиво: и костюм, и туфли. И как быть в компании, если нос твоего ботинка, отклеиваясь, цепляет за тротуар! Мне пришлось изобрести множество способов отвлекать внимание собеседников от того, что происходит ниже пояса, и у меня развилась привычка размахивать при разговоре руками.
Первые самостоятельные деньги я заработал на практике в порту после второго курса мореходного училища. В это время в моду вошли туфли с длинными острыми носами. В магазинах такие не продавались, производили их только подпольные сапожники и продавали по высокой для тех времен цене, по сорок рублей. Первую зарплату я отдал посреднику за туфли. О примерках тогда никто и не думал, назывался лишь размер. Но колодки у подпольных сапожников, как выяснилось, были рассчитаны только на сорок первый. Это меня не смутило. Уж очень хотелось выглядеть красиво. Подумаешь – на два размера меньше. Длинный носок должен был компенсировать недостающее пространство для пальцев ног, а остальным неудобствам можно было не придавать значения. Кое-как натянув туфли, я отправился на танцы. Ноги стягивало так, словно меня пытали испанским сапогом. Гордиться остальной одеждой не приходилось, но туфли! Я выплясывал так, что видно было только их. Девчонки хохотали над моими шутками. После танцев я пошел провожать одну из них домой, и ноги были единственной заметной частью моего тела. Форма моей ноги изменилась по форме туфлей с длинными носами, и я научился стойко переносить любую боль.
Не удивительно, что, когда я стал штурманом торгового флота, самыми значимыми для меня покупками стала обувь. Я заходил в роскошные обувные магазины загнивающей Западной Европы, и у меня перехватывало дыхание. На полках бесконечными рядами стояли туфли с острыми носами, с носами круглыми и прямоугольными, прошитые и проклеенные, с заклепками и без, на тонких кожаных подошвах и на толстых платформах, всех красок и оттенков, настоящий обувной рай! И при этом – любого, даже самого моего дефицитного сорок третьего размера! Проблема была только в одном – стоила обувь по меркам заработка советского моряка непомерно дорого. Приемлемыми для наших зарплат были лишь специальные магазины колониальных товаров. Дикарям в колониях предприимчивые торговцы продавали бусы и цветные побрякушки. Для советских моряков – умещающиеся в карман плащи из болоньи, гипюр, похожий на покрытый позолотой тюль, мохеровую пряжу красочных тонов, уродливые женские парики и дешевые складные зонтики. На родной земле все это пользовалось невероятным спросом, и жить морякам позволяло безбедно. Но купить для себя обувь… Я, однако, помятуя о былом костюме, надежды не оставлял. И не напрасно.
Постепенно мой обувной гардероб начал пополняться. Последним приобретением стали роскошнейшие туфли на только что вошедшей в моду платформе с широкими, красиво округленными носами. Рост мой сразу увеличился сантиметров на семь. Туфли сложного, коричнево-зеленого оттенка отливали всеми цветами радуги и сами, без малейших моих ухищрений притягивали взгляды прохожих. В Ленинграде я одел их для культурной прогулки в Эрмитаж. Незадолго до этого прошел дождь, воздух был чистым и свежим, светило солнце, отражаясь от лакированной поверхности туфель, и мы с другом не спеша шагали к музею вдоль Невы. Перед входом в музей растеклась лужа. Я прыгнул через нее и, приземлившись, ощутил на правой ноге дискомфорт. Посмотрев вниз, я с ужасом обнаружил, что заостренный несколько лет назад палец насквозь пробил поверхность новой туфли и нахально выглядывает из нее, как мышь из норы. Изучив повреждение ближе, я понял, что верх десятидолларового башмака изготовили из простого картона, который все равно расползся бы при первом же дожде, и предназначались туфли скорей всего для манекенов, что, возможно, и пытался объяснить мне при продаже продавец на непонятном для меня языке. Второй же мой вывод заключался в том, что на действительно добротные вещи заработка советского моряка недостаточно.
Искать что-либо подходящее в советских магазинах было бессмысленно. Единственная возможность придать своему облику индивидуальность возникала лишь при покупке вещей в комиссионных магазинах или с рук. Поэтому, оказавшись в Риге в очередном отпуске, я с интересом разглядывал рукописные по большей части объявления на деревянном стенде у центрального железнодорожного вокзала. Спрос определенно превышал предложение. Люди мечтали снять комнату или квартиру для молодой бездетной пары, купить педали для велосипеда «Спутник» или женские сапоги сорок седьмого размера. Вместо этого, охотникам за удачей предлагались беспородные котята, репетиторство по французскому языку и старые чугунные ванны с самовывозом. Объявления писались на крохотных клочках бумаги, вырезанных их клетчатой бумаги школьных тетрадок по математике, и снабжались бахромой телефонов с указанием звонить в рабочее время. Квартирные телефоны были роскошью, и в объявлениях, как правило, отсутствовали. То ли их счастливые обладатели уже обеспечили себя всем необходимым для дальнейшей жизни, то ли осторожничали. Зато к доске время от времени подходили неприметные бабульки в серых байковых платках и заговорщицки спрашивали, не хочу ли я снять комнату по сходной цене.
Комната меня не интересовала. Так и не найдя ничего любопытного, я уже собирался уходить, когда возле меня, благоухая духами «Южная ночь», остановилась красотка в красном приталенном пальто. Запах был мне хорошо знаком, потому что точно такие духи я накануне подарил девушке, с которой нас связывали странные, очень переменчивые отношения. Раскрывая флакон, она умудрилась его уронить и разбить так, что большая часть духов оказалась на моих ботинках. Сделала она это случайно или с досады, что вместо ожидаемых Шанель номер 5 ей досталась продукция местной парфюмерной фабрики «Дзинтарс», я так и не успел понять, потому что сразу после неудачи с подарком она вспылила и ушла. Возможно, запахи влияли на ее характер не меньше, чем на мой – одежда. Но сейчас, когда у остановившейся возле меня красотки упала перчатка, я наклонился и легко сумел сравнить аромат ее духов с запахом, все еще источаемым моей обувью. Рядом с перчаткой лежал листок.
– Это тоже ваш? – спросил я, протягивая незнакомке листок вместе с перчаткой из мягкой, хорошо выделанной кожи.
– Спасибо. Вы такой внимательный… – она улыбнулась, блеснув золотой коронкой. – Нет, листок не мой. Похож на объявление. А что на нем написано?
Я быстро прочитал про себя короткий текст и посмотрел на элегантно, явно не из магазина одетую красотку. У нее была завораживающая улыбка и неплохая фигура, я располагал свободным временем и, наверное, свободой для отношений, ситуация для знакомства складывалась более, чем благоприятная. Но что, если…
– Да так, чушь какая-то, – ответил я, сминая листок и кидая его в урну. Точнее, делая вид, что кидаю, потому что на самом деле я зажал его пальцем и как можно более незаметно опустил в карман. – Однако, мне пора. Приятно было познакомиться.
– Так ведь мы не…
Но я уже шагал прочь. Красоток в городе было много, с духами или без. А подобное предложение – единственно и неповторимо. Судьба подала мне знак, и упавшая перчатка определенно была лишь составляющей частью ее плана. Листок мог отклеиться и упасть сам, но мог быть и обронен заинтересованной стороной, поэтому вопрос, как учили правила хорошей морской практики, надо было решать сразу, решительно и последовательно. И потенциальная конкурентка в таком деликатном вопросе мне была совсем ни к чему.
Отойдя от доски объявлений подальше, я развернул смятую бумагу и еще раз прочитал записку. Стандартный, ничем не примечательный листок был заполнен крупным и неровным, как у школьника, почерком с сильным наклоном влево. Телефон на объявлении не обозначался, зато был указан адрес для обращения – судя по всему, домашний. Идти от вокзала было недалеко. Осень выдалась сухой и морозной, в воздух пахло близким снегом, улицы были чисто выметены. Не так чисто, конечно, как в период моего детства, когда дворники по утрам намыливали тротуары и выдраивали их щеткой, как матросы палубу, но от опавших листьев уже не оставалось и следа. Порыв ветра прорвался под мою щегольскую бельгийскую куртку, выглядевшую как настоящая кожаная, и я напряг мышцы спины. Говорят, таким способом греются охотники в засаде. И я мало чем отличался в эти минуты от охотника.
Улица называлась Сарканармияс, что в переводе с латышского означало Красноармейская, и относилась к центральным и наиболее респектабельным. Правда, в последних двух кварталах, примыкающих к железной дороге, от респектабельности не оставалось и следа. Четырех – пятиэтажные дома не ремонтировались, наверное, с досоветских времен и были пристанищем так называемых неблагополучных семей. Можно было только догадываться, что в этом определении было первично: то ли жилищные комитеты специально подбирали неблагополучных жильцов, то ли они становились таковыми, пожив в неуютных маленьких квартирах с окнами, выходящими в узкие дворы-колодцы, и с пропахшими кошками подъездами. Я поднялся на второй этаж и позвонил. Дверь приоткрылась на цепочке, и я поспешно объяснил, что пришел по объявлению.
– А деньги с собой есть? – неожиданно спросил хозяин.
– Есть, не волнуйтесь.
– Покажи!
События, по моему разумению, развивались не совсем в правильную сторону, и я засомневался. Разглядеть хозяина в узкую щель было сложно, но он уже был в возрасте, мощностью сложения не отличался и больше походил на стандартного алкаша. Откуда у него такая вещь? Стащил где-нибудь? Из квартиры тянуло спертым, прокуренным воздухом, аромат которого не перебивала даже «Южная ночь», но запаха спиртного я не ощутил. Хозяину мое замешательство не понравилось.
– А раз нет, так и…
– Стойте, вот!
Я достал из кармана пачку купюр, незадолго то того полученную за отрез гипюра, купленного в магазине для советских моряков в городе Антверпен, и помахал ею в воздухе. Дверь все-таки закрылась, но потом открылась вновь, уже во всю ширь, и хозяин, мужчина лет пятидесяти, довольно рослый, но с худым, изможденным лицом и опавшими плечами, впустил меня внутрь.
– Садись! – отрывистым, неожиданно резким голосом не предложил, а скорей приказал он, указывая на рассохшийся табурет возле кухонного, накрытого протертой клеенкой стола. Квартира, собственно, и начиналась прямо с кухни, без прихожей. В углу стояла дровяная плита, и на полу лежала вязанка дров в металлическом обруче. Дверь в комнату отсутствовала, и мне отчетливо была видна узкая, застеленная серым солдатским одеялом кровать, скромный двухдверный шкаф и еще одна табуретка. На этом меблировка квартиры заканчивалась, а к описанию оставалось лишь добавить давно потемневший от никотина потолок и выщербленный деревянный пол.
– Ничего, я постою.
– Садись! Поговорим сначала. Я, может, еще и не решил о продаже. Такую вещь сегодня днем с огнем не сыщешь. А ты – постою! Ты в армии-то служил?
– Да как вам сказать… На стажировке был. Я вообще-то офицер, – зачем-то похвастал я, – лейтенант, только запаса. А теперь в море хожу, штурманом.
– Ну, значит, другой разговор! Флот – это почти армия, свой человек будешь. Так зачем тебе вещь такая? – хозяин пригладил правой рукой сбившиеся, давно не стриженные седые вихры. Левая, скрученная в кисти и словно высохшая, висела неподвижно. Угадать в нем бывшего военного можно было разве что по командному голосу и колючему взгляду из-под кустистых, врастопырку бровей.
– Понимаете, я же в загранплавание хожу. Мне надо страну достойно представлять, чтобы уважение капиталисты чувствовали. А кто тебя в нашем ширпотребе уважать будет?
– Это верно… Так что, может, чайку попьем? – предложил он. Я представил, как прикасаюсь к засаленной кружке из грязной раковины и меня передернуло.
– Знаете, только что пил… Да и… Может, покажете все-таки, что продаете?
– А и ладно, – разочарованно вздохнул хозяин. – Заварка-то все-равно кончилась.
Повздыхав еще немного, покряхтев под стать табурету, на котором мне досталось сидеть, он, наконец, вышел в спальню и вытащил из шкафа объемистый рюкзак цвета хаки, поставил его возле меня и еще раз сходил в спальню за табуреткой. И лишь усевшись на нее и, не спуская с меня серых, чуть на выкате пронзительных глаз, разрешил:
– Доставай. Может, тебе еще и не подойдет. Сейчас-то таких давно не делают. Лет двадцать ему уже, считай, будет.
– Как, двадцать?! – у меня отвалилась челюсть. – Вы же написали в объявлении, вот оно, что новое!
– Да оно и есть новое! Не волнуйся! Я его всего один или два раза одел, а остальное время оно в рюкзаке пролежало. Да если бы деньги не нужны были… Такая вещь! Доставай, не сомневайся.
Уже заранее ощущая себя одураченным, я вытряхнул рюкзак и достал на свет Божий пальто из натуральной коричневой кожи. Хотя назвать его пальто не поворачивался язык. Это была Вещь, в которую я влюбился сразу и безоговорочно. Годы, действительно, не оставили на поверхности сияющей благородным матовым блеском коже ни малейшего следа. Я сразу понял, что купил бы это пальто даже в случае, если бы хозяин запрашивал вдвое больше. Второй такой Вещи просто не существовало в природе, в этом я был уверен, и теперь боялся только, чтобы хозяин не передумал. И чтобы пальто оказалось мне впору.
Скинув куртку из кожзама, я не одел пальто, а скорей вставил себя в его теплые, облегающие объятия. Зеркала в квартире не оказалось, но я уже воспарил над собой, отчетливо представляя со стороны уверенную, комиссарскую походку с развевающимися фалдами… хотя нет, фалды, пожалуй, были слишком тяжелыми, чтобы развеваться. Они будут раскидываться обширными, не сминаемыми складками, когда я буду сидеть на заднем сиденье такси… Да какого, к черту, такси! Теперь, когда морякам разрешили привозить из Европы подержанные автомобили, я подыщу себе огромный, метров на шесть линкольн, потому что на меньшее в таком пальто представить себя невозможно. Пальто доставало до пола, но на такую мелочь я даже не хотел обращать внимания. В ближайшем же ателье мне обрежут лишнее под нужный размер, и щегольские ковбойские сапоги великолепно дополнят одеяние, в котором, несомненно, меня будут пропускать в любой ресторан под завистливыми взглядами безнадежно томящейся очереди.
– Беру! – выдохнул я, стараясь не высказать слишком сильного восторга.
– Постой, это еще не все.
Хозяин, словно чародей, достал из шкафа второй рюкзак и сам вытащил из него натуральную дубленку.
– Держи, эта штуковина пристегивается к пальто как подкладка. В полном комплекте можешь смело ехать в экспедицию на Северный полюс, никакой мороз не возьмет!
Я не верил своим глазам. Чтобы хозяин не передумал, я был готов даже на чай из засаленной кружки. Надо было поддержать разговор.
– А вы что, на Севере служили?
– Служил, ха! – отчеканил он. – Двадцать лет, как из пушки. До полковника дошел. Ну это, правда, уже при выходе на пенсию дали. У нас там, как-никак, год за два шел. Кагэбэ – это тебе не фунт лиха!
– КГБ? – упавшим голосом переспросил я. Мне стало не по себе. В семидесятые годы КГБ в сознании широкой публики уже не носил прежнего пугающего значения, но по привычке от людей из этой организации принято было держаться подальше. Я представил сибирский лагерь для политзаключенных и подумал, что вполне проживу оставшуюся часть жизни и без такого пальто, но потом вспомнил, что лагеря охраняли войска внутренних войск, а не КГБ. На Севере они скорее имели отношение к погранохране.
– Представь себе. Там мне пальто и досталось. – Хозяин посмотрел в темный потолок, и лицо его вдруг разгладилось, помолодело, словно он только что вернулся в лучшие годы своей жизни. Судя по обстановке, гости в этой квартире появлялись нечасто, и он явно был рад неожиданному собеседнику. – Я, когда приехал, лейтенантом еще был, только из училища. И вот, представь, прилетаю из Москвы на Таймыр, выхожу из самолета на летное поле, а тут прямо к трапу подкатывает черный ЗИМ и из него выходит генерал, начальник округа. Лично! Я стою, ни жив, ни мертв и трясусь весь. Да еще мороз градусов под тридцать, метель метет, а я в шинельке на рыбьем меху. Генерал подходит, жмет мне руку и приглашает в машину. Ну, говорит, поздравляю с началом службы, нам такие нужны. Обживайся. Открываю я заднюю дверь, а там женщина. Познакомься, говорит генерал, с моей дочерью. Может, породнимся еще. Чем тебе не жена? Глянул я на нее, сидит деваха с круглой мордой, да и сама, как колобок, а я-то худой, мне на таких, как она, и смотреть страшно. Да попробуй генералу поперечь! Сел я с ней рядом, и молчим оба. И духами от нее на весь салон! Что-то мне запах этот сейчас вспомнился, не пойму, с чего… Приехали прямо в генеральский дом. Заходим, и он своей супружнице, с порога прямо, знакомься, мол, жених для нашей дочери прибыл на службу. А потом снимает с вешалки новенькое пальто, вот это самое, и вручает мне. Ты, говорит, промерз весь, вот тебе от моих щедрот генеральский подарок. Словом, окрутил он меня, как два пальца.
– И потом вы в этом пальто…
– Да при чем тут пальто! – полковник крякнул с досады, встал, прошелся по комнате, достал пачку примы, раскурил новую сигарету и закашлялся. Правая, здоровая рука, которой он держал сигарету, задрожала, и я пожалел, что затронул больную для него тему. – Пальто… В таком кожане только генерал мог ходить. А я же военный, мне форма полагалась. Через неделю свадьбу сыграли. Вообще-то я непьющий. Но тут выпил, конечно, попробуй не выпить, когда такой тесть тебе наливает. Одну ночь мы с женой переспали. Поерзал я на ней, свинье жирной, даже и не понял, чего было. А на следующий день генерал ее в Москву отправил, по состоянию здоровья, как бы. И с концами. Это я уже потом узнал, что ее, сучку, старшина один из нашей части имел, от него она и забрюхатела. Да и генерала я потом только издали видел, тем более, его тоже вскоре в Москву перевели. Перед отъездом вызвал меня, глаза прячет. Ты, говорит, потерпи пару годиков, все у тебя нормально будет. Ну, я терпел. Может, даже рад был. Развели нас с его дочерью заочно, лет через пять. По службе меня, правда, продвигали неплохо. Наверное, чтобы молчал. Да я и молчал, что я, враг самому себе? А пальто так и лежало. Ну, а когда на пенсию отправили, рука малость вот подвела, квартиру предложили в любом городе, кроме Москвы. Я и взял в Риге. Зато теперь – вольный казак. У меня же после жены ни одной женщины не было. Откуда их на Крайнем Севере найдешь? Так что силы у меня не растраченные, а теперь я холостяк и со своей квартирой. Да любая баба за меня пойдет! Но я их, подлюг, теперь на нюх брать буду. Попадется с такими духами как у моей бывшей – к чертям собачьим!
Подергав носом, полковник с подозрением посмотрел на меня, и я поспешно выложил деньги на стол, добавив к обещанной сумме десятку за рваный рюкзак.
– Так я пойду, товарищ полковник?
– Иди, лейтенант… А то заходи еще, чайку попьем, а?
Выйдя от полковника, я с облегчением набрал полную грудь свежего морозного воздуха и бодро зашагал к ближайшему ателье. Шитье на заказ не слишком сильно отличалось от магазинного, выбор лекал был ограничен, но мне всего-то надо было укоротить непомерно длинное пальто, какие тут проблемы? Увы, при первой же попытке меня огорошили. Полы пальто надо было не только обрезать, но и подшить, при том, что ни одна советская машинка, объяснила приемщица, кожу такой толщины взять не в состоянии.
– Здесь, знаете ли, старый зингер нужен, – авторитетно заметил старик-скорняк, к которому после долгих уговоров меня допустили на аудиенцию. – Только где такой сейчас взять?
– Может быть, вы подскажете?
– Ну что я могу вам подсказать, молодой человек! – мастер театрально воздел руки к небу. – Я же противозаконным частным подпольным бизнесом не занимаюсь. А в ателье у нас план, нормативы, графики, расценки, все, как полагается.
– Мне не важно, как полагается. И расценки меня не интересуют.
– Вам не важно! Как могут быть не важны расценки? Вы что, подпольный миллионер? Да только мы никаких цен и не обсуждаем. А говорим только о старом зингере. Верно?
– Конечно, – подтвердил я. – Просто, вдруг вы знаете кого-нибудь, у кого есть такой старый зингер, чтобы можно было…
– Так с этого надо было и начинать, что вам нужен мой дальний знакомый Зяма, у которого, кажется, или у его знакомого, как я слышал, таки есть такая машинка. А вещь у вас, правда, знатная, даже жаль такую резать будет. Прямо как шагреневая кожа.
– Шагреневая кожа, – припомнил я, – уменьшалась, когда исполняла желания своего хозяина. А мою пока никак уменьшить не удается…
– Именно про это я и говорю, – подтвердил скорняк, подвигая ко мне бумажку с телефоном.
Получить подшитое пальто от Зямы мне удалось только через неделю, в последний день отпуска. Обладатель старой машинки зингер был похож на давшего мне его телефон скорняка, как две капли воды. Долгий срок для обрезания пальто он объяснял то поломкой иглы при прошивание действительно непомерно толстой, как у носорога, кожи, то заеданием какой-то детали в машинке, но во мне сидело твердое убеждение, что он просто не в силах расстаться с замечательной, оказавшейся в его распоряжении вещью. По крайней мере пока не покажет ее всем своим многочисленным друзьям и родственникам, которых я постоянно заставал выходящими из его квартиры. В последний раз я пришел к нему прямо из военкомата, в который был вызван повесткой. Время от времени офицеров запаса приглашали на военные сборы, длиться они могли от одного до трех месяцев, но военком сразу рассеял мои опасения, объяснив, что действующих моряков на переподготовку не забирают, и поздравил меня с присвоением очередного воинского звания – старшего лейтенанта. Это все равно, что малый полковник, пошутил он. А будешь по своей службе успешно продвигаться – и до настоящего полковника дорастешь!
– Это вряд ли, – возразил я.
– Почему? – удивился военком. – Служебным ростом не интересуешься?
– На флоте мне будет положено звание капитана первого ранга! – гордо объяснил я, жалея только, что пришел к военкому не в генеральском пальто.
Когда я, наконец, забрал у Зямы пальто, на улице выпал снег, температура упала до минус десяти. Я примерил обнову перед большим зеркалом в прихожей под восхищенное цоканье скорняка. В зеркальном отображении был уже не я, а лишь похожий на меня, но явно старше, серьезней и значительней человек с жестким, немного надменным и проникающим насквозь взглядом. Такие люди не ходят сами, они перемещаются в пространстве в окружении почтительной свиты, готовой уловить малейшее желание повелителя – по меньшей мере, генерала армии. Небрежно вручив Зяме заслуженный гонорар, я оставил старую куртку из кожзаменителя и рюкзак в его квартире. Появляться в новом кожаном пальто на улице со старым рюкзаком за спиной было все равно, что идти одетому во фрак и нести в руках авоську с картошкой. Такси не было видно, а садиться в общественный транспорт мне теперь казалось не солидным. Три километра до квартиры, в которой я снимал комнату, где, предполагалось, буду жить с девушкой, вылившей на мои ботинки духи «Южная ночь», я одолел пешком. За последнюю неделю мы то ссорились, то мирились, и я уже не мог понять, в какой именно стадии отношений мы находимся сейчас. По дороге мне попалась группа оживленно дискутирующей шпаны из шестнадцатилетних подростков. Прохожие старательно обтекали их широким полукругом или переходили на другую сторону улицы. Я прошел вплотную, и подростки замолкли и рассыпались в стороны, словно занимая стартовые позиции, чтобы дать стрекача от неминуемой угрозы. Двумя кварталами позже мне повстречалась молодая мамаша с годовалым малышом в коляске, который посмотрел на меня и заревел во весь голос.
В квартире было пусто. Я подошел к зеркалу. На лбу моем, несмотря на уличный мороз, проступала испарина. Спина была мокрой. Собрав чемодан, я подумал немного перед тем как одевать пальто, и решительно отстегнул подкладку, только теперь, по сути, обратив внимание на десятикилограммовый, если не более, вес изделия. Без подкладки пальто немного съежилось, совсем как шагреневая кожа, подумалось мне. До порта я добрался на такси, за которое отдал последние оставшиеся после отпуска деньги.
Штурман, мой старый приятель Слава Курочкин, которого мне предстояло сменить, встретил меня понимающей усмешкой:
– Ну, старик, выглядишь шикарно…
Я гордо приосанился.
– Видать, с подругой только что расстался?
– Почему ты так думаешь? – удивился я.
– И думать нечего. Вон у тебя вид какой замученный. Небось, до последней секунды не отпускала из постели, а? Ну, да теперь и я в отпуске оттянусь, не сомневайся!
Я принял дела, мы выпили по бокалу коньяка и распрощались. О пальто Славик ни разу не спросил, словно его и не было, и я не стал ему рассказывать ни о полковнике, ни о своем новом воинском звании.
В Лондон мы попали 7 ноября в день, который почему-то упорно сохранял название праздника октября. По этому случаю советский консул пригласил руководство судна к себе. Мы поехали втроем. Капитан был в черном советском пыльнике, первый помощник в красной синтетической куртке, а я, конечно, несмотря на довольно теплую погоду, в кожаном пальто. Собственно, ничего другого у меня и не было. Консул вышел нас встречать и со словами «Здравствуйте, капитан!» подошел ко мне. С этого момента наши отношения с капитаном стали стремительно ухудшаться. В море на моей вахте мы слишком близко, по его мнению, прошли к ограждающему фарватер бую. Он сделал мне внушение, не преминув заметить, что я, вопреки уставу, отвлекаюсь на мостике посторонними разговорами. Хотя замечание было совершенно напрасным. Я и без того заметил, что во мне происходят какие-то перемены. Я стал нетерпимей, раздражительней, резче в суждениях, но и молчаливей. Значительный человек не болтает лишнего.
По возвращению в Ригу таможенник, заглянув в мою каюту и обнаружив на вешалке пальто, начал досмотр с раскручивания шурупов на переборках каюты. В это же время под пайолами машинного отделения обнаружили два порнографических журнала, и команду начали поочередно вызывать на допрос в КГБ. Дольше всех продержали меня. Похоже, мое пальто никому не доставляло радости.
Выйдя после допроса, я прошелся до железнодорожного вокзала и остановился возле щита объявлений. Может быть, судьба действительно подавала мне в тот раз знак, но я его неправильно понял? Объявления по-прежнему выражали готовность приобрести зонтики и подержанные детские коляски, примусы и бобинные магнитофоны. Кожаные изделия не интересовали никого.
Через две минуты ко мне стала выстраиваться очередь бабулек в байковых платках, предлагающих по сходной цене комнату на месяц, день, или час, и я поспешно ретировался до ближайшей комиссионки, где, почти не примеряя, купил неброское серое пальто из похожего на войлок материала. Одев его, я тут же сдал кожаное пальто на продажу и охотно согласился на скромную цену, названную приемщицей, которая предложила заплатить мне сразу, не выставляя Вещь на продажу. На душе и плечах сразу полегчало. Уже на выходе из магазина я столкнулся с девушкой, пахнущей «Южной ночью». От неожиданности она уронила перчатку, и моя душа взлетела под облака.
Тревога
Ветер дул с берега, со стороны огромной угольной груды. Белоснежная надстройка «Иркутсклеса» понемногу покрывалась непрезентабельной вязью темных разводов. Впрочем, разглядывать судно было некому. Два портовых крана с большими электромагнитными тарелками на месте привычного крюка захватывали на берегу разнокалиберные куски искореженного металла, нацеливали тарелки с грузом на разверстые судовые люки, отключали электромагнит, и в трюмы с высоты в несколько метров сыпался металлолом. Грохот стоял невообразимый. Едва началась погрузка, судно опустело. Остались лишь те, кто обязан был находиться на борту по долгу службы – вахтенные. Благовидный предлог для ухода на берег нашел даже грузовой помощник Лобанов. Полноправным командиром «Иркутсклеса» остался третий помощник капитана Игорь Сенечкин, или Игорь Петрович, как начали называть его с недавних пор.
Штурманский китель с двумя полосками золотистых шевронов Сенечкин носил лишь третий месяц и к обязанностям своим относился крайне серьезно. Сейчас его жена Люба сидела в небольшой, но довольно комфортабельной каюте, зажимала руками уши и смотрела на мужа. Время от времени она отнимала от уха правую руку, чтобы прикрыть подавляемый зевок. Разговаривать из-за шума было почти невозможно. Она скучала, и ей хотелось спать. Остановиться в Риге было негде, своя квартира пока не светила, найти съемную комнату не удавалось, и две последних ночи она провела в дороге, в поезде из Воронежа, в плацкартном вагоне. Чтобы скрасить ситуацию, Сенечкин открыл бутылку вина, подливал понемногу в Любин бокал, но сам не пил. Зато каждые полчаса вставал и обходил судно.
Металлолом сыпался исправно. Металлическая стружка, дырявые чайники, детали станков, электромоторы, железные листы, проволока, паровозные колеса, гнутые рельсы, водопроводные трубы – найти здесь можно было все, что с явным удовольствием и делали при разгрузке испанские докеры, охотники за дорогим цветным металлом. Сенечкин заглядывал в трюмы, проверял натяжение швартовых канатов, проходил мимо запертых дверей жилой надстройки и возвращался в свою каюту, к жене.
Больше всего на свете ему хотелось сейчас повернуть ключ в дверном замке, скинуть китель, прижать жену покрепче и… Но устав морской службы говорил о том, что дверь каюты вахтенного штурмана должна быть всегда открыта, а право спать в ночное время он имеет, но не раздеваясь, и он уже трижды объяснил это Любе. Наступала ночь.
– Может, я лягу уже? – сказала она в короткое мгновение тишины.
– Конечно, конечно, – покивал он, и отвел глаза, когда она начала медленно расстегивать кофточку. – Ложись, ложись, а я еще обход сделаю и тоже прилягу.
Крановщики работали неутомимо. На борту все было в полном порядке. Вахтенный у трапа исправно нес службу. В конце концов, вполне можно было немного отдохнуть. На всякий случай Сенечкин еще раз прошелся по пустым коридорам, и ощутил естественный позыв организма. Игорь Петрович зашел в ближайший туалет, гальюн по-морскому, и запер дверь. Перед уходом он умыл руки в крохотном умывальнике и внимательно осмотрел себя в тусклое зеркальце над раковиной. Щеки его с нежной, нечасто еще тревожимой электробритвой кожей, слегка зарделись в предчувствии нарушения устава, которое он сейчас собирался совершить. Потому как служба службой, но когда в постели ждет любимая женщина, да еще после двухмесячной разлуки…
Сенечкин резко дернул щеколду и нажал плечом на дверь. Дверь не открылась.
Поначалу он даже не понял, что случилось, а попросту крутнул щеколду еще раз. Дверь стояла незыблемо.
«Только спокойно, спокойно», – вслух сам себя урезонил Сенечкин и попытался сосредоточиться. Замок состоял из трех частей, а именно из насаженных на одну ось двух ручек и стального язычка внутри. Судя по всему, внутренняя ручка сорвалась с оси и на механизм больше не воздействовала. Выйти из ситуации можно было двумя способами: дождаться, чтобы кто-либо повернул ручку снаружи или попытаться вышибить дверь. Сенечкин несколько раз с силой ударил кулаком по дверному полотнищу и понял, что грохот падающего в трюмы металлолома надежно перекрывает любые другие звуки. Сама же дверь при конструировании, возможно, предназначалась для какой-то иной надобности и была сделана из двух скрученных между собой массивных металлических пластин и при попытках выдавить ее стояла незыблемо, как скала.
Он еще попробовал покрутить ручку в слабой надежде, что вдруг все образуется само собой, но чуда не произошло. Тогда Сенечкин внимательно осмотрел помещение. Три стенки граничили с машинным отделением, а четвертая, с дверью, отсекала гальюн от нижнего коридора судовой надстройки. В этот коридор выходили двери кают рядового состава. Все переборки были сделаны из металла, из такого же материала состоял потолок, к которому прикреплялся датчик пожарной сигнализации, а пол покрывала выщербленная кафельная плитка. Все оборудование состояло из унитаза, умывальника и прикрученного к переборке зеркала. В море судно постоянно испытывает вибрации от работы двигателя. В штормовую погоду гребной винт может оголиться, и в такие моменты корпус сотрясает сильнейшая вибрация. Центробежная сила качки готова сорвать любой предмет. Поэтому все на судне прикрепляется крепко, намертво, на года. И гальюн не был исключением.
Сенечкин опустил крышку унитаза, сел поверху и попытался представить, как на его месте поступил бы грузовой помощник. Лобанов был старше Сенечкина на четыре года, но выглядел намного обстоятельней. Он никогда никуда не спешил, но все успевал. Он никогда не уклонялся от сложных проблем и всегда выходил из них с блеском. И у него были незыблемые правила. «Бесполезное – вредно» любил приговаривать он, особенно, когда его пытались втягивать в сомнительные общественные мероприятия, будь то пышущий энтузиазмом комсомольский лидер моторист Венькин или первый помощник капитана Берзиньш. И оказывался прав.
Стучать, размышлял Сенечкин, было бесполезно, все равно никто не услышит. Оставалась надежда, что кто-то пройдет по коридору в момент затишья. Например, сменяющийся с вахты матрос Козлов. Но его вахта длится до четырех утра, а сейчас была только половина первого. Сенечкин представил, как на следующее утро Козлов с гаденькой кривоватой улыбкой начнет рассказывать, как он вызволял из гальюна молодого штурмана, этого салагу, и тихо застонал. Позор будет на весь флот. И еще Люба. Что подумает она? Как вообще можно объяснить женщине, ожидающей его в постели, что он по дороге к ней застрял в… гальюне!
С Любой они познакомились на выпускном вечере в мореходном училище, куда ее привела подруга Ольга, невеста его сокурсника Гриши Коломенского. Игорь и Люба не пропустили ни одного танца, и в каждом из них Игорь все тесней прижимал к себе необыкновенно красивую и умную девушку из Воронежа, студентку консерватории. Люба гостила у Ольги, и курсанты провожали девушек к Ольгиному дому вдвоем. Тогда Сенечкин впервые поцеловал Любу, на прощание. На обратном пути Гриша долго, словно ожидая одобрения, рассуждал о своей замечательной невесте, с которой он знаком уже целый год, о том, что решения в их морской жизни принимать надо быстро, на трезвую голову и пока ты еще курсант. Гриша с Ольгой договорились, что они поженятся, как только Коломенский получит первый отпуск после предстоящего выхода в море, чтобы денег хватило и на красивую свадьбу, и на медовый месяц. На следующий день они решили отметить новенькие дипломы в узкой компании, вчетвером, и поехали с девушками в Петергоф, в Петродворец. Разбившись по парам, они долго ходили по дорожкам между раззолоченных фонтанов, Сенечкин по памяти декларировал сонеты Шекспира и все больше понимал, что Люба именно та, единственная и неповторимая, и что на поиски подобной у него никогда в его морской жизни больше не будет времени. Вечером он сделал предложение.
Свадьбу, очень скромную, они сыграли в родном Любином Воронеже, неделю спустя. Так Сенечкин воспользовался привилегией ускоренной регистрации брака, доступной только для моряков. Еще через неделю он получил назначение на «Иркутсклес». А теперь он сидел взаперти и …
Ему стало жарко. Он стянул с шеи галстук и расстегнул ворот рубашки. Снял китель. Вскоре он расстегнул пуговицы рубашки полностью, посмотрел на покрывающие ее пятна пота и подумал, что помещение нагревается слишком быстро. Из-за угольной пыли механики отключили вентиляцию, и ограниченное пространство гальюна быстро перенимало температуру человеческого тела. Помещение оказалось почти герметичным, а это означало, что и количество кислорода в нем ограничено… знать бы насколько!
Сенечкин разделся до трусов, снова сел на крышку унитаза и постарался дышать как можно реже. Какое-то время это удавалось, но потом сердце забилось в ускоренном темпе, и легкие затребовали недополученное количество воздуха. В ушах загудело.
Ему стало грустно. Жизнь заканчивалась слишком рано и глупо, не успев, по сути, даже начаться. Когда-то, по рассказам матери, она гуляла с ним по улице и возле его коляски, всего в нескольких сантиметрах, упал кирпич. Ты везунчик, родился в рубашке, говорила она ему потом. В первом классе он прогуливался вдоль реки во время ледохода и решил оттолкнуть от берега льдину. Она отъехала вместе с его ногой, и он оказался в воде. К счастью, рядом были двое ребят чуть постарше возрастом. Они вытащили его за воротник тяжелого, быстро набирающего воду ватного пальто, и у него впрямь появился повод уверовать в свою «рубашку». Теперь, похоже, она стала ему чересчур узка.
Шум в ушах не прекращался, и Сенечкин подумал, что он уж очень похож на звук… пожарной тревоги! Он вскочил с унитаза и прижал ухо к двери. «Уу-уу-уу» – надрывно и нескончаемо завывала судовая сирена. Временами звук ее сливался с грохотом металла, но в промежутки тишины ее слышно было четко и отчетливо. Теперь уже точно будет никому не уснуть, народ побежит по своим заведованиям, а он сам должен подняться в рулевую рубку и оттуда руководить борьбой за живучесть. Сенечкин напряженно вслушивался в происходящее за дверью, но никто никуда бежал, и он вспомнил, что людей на судне практически нет. Кроме его жены Любы и вахтенного Козлова, который, скотина, скорей всего напился и спит у трапа беспробудным сном, не пробиваемым даже пожарной сиреной! А это значит, что ему вовсе не суждено задохнуться в гальюне, потому что он просто сгорит в нем вместе со всем «Иркутсклесом».
Сенечкин еще раз изо всех сил вжался в упрямую дверь и… услышал посторонний звук в коридоре.
– Эй! – во весь голос закричал он, стуча по металлу руками и ногой, – Эй, сюда!
– Кто там? – прозвучал за дверью удивленный мужской голос.
– Это ты, Янис? – опознал Сенечкин старшего матроса. – А это я, вахтенный штурман, третий помощник. Слышишь меня?
– Ах, вахтенный… Там сирена пожарная гудит, спать не дает. А вы чего не выходите?
– Не могу потому что! Замок сломался. Поверни наружную ручку.
– Понял. Поворачиваю. Э, да она сломалась.
– Сам знаю, что сломалась. Черт с ней. Ты вот что. Быстро беги в штурманскую рубку, там на стене стенд такой пожарный с судовым планом и лампочками. Посмотри, в каком помещении горит. Только бегом!
Определить по звуку, бежит неторопливый старший матрос или нет, Сенечкин не мог, но на душе его стало спокойней, и он натянул брюки. Вой сирены прекратился.
– Штурман! – раздалось за дверью. – Я посмотрел.
– Ну, и?
– Это у вас горит.
– Что?! В моей каюте?! Но там…
– Да нет, не в каюте. Лампочка мигала над нижним коридором в надстройке, помещение номер 48. Я сигнализацию отключил.
– Черт, где это?
– Да в гальюне. Там, где вы сидите. Вы чего там, курите, что ли?
– Да не курю я здесь, я вообще не курю! А просто задыхаюсь. Ты же видишь, что замок сломался. Открой меня. И поскорей.
– Поскорей не получится. Дверь железная, едрить ее в Дарданеллы. И на кой черт такие делают? Тут инструмент серьезный нужен.
– Так возьми серьезный!
– Послушай, штурман, – сказал Янис. – Ты у нас недавно. А я десять лет на флоте. Стоянка у нас короткая, у меня жена приехала, мы с ней выпили. Понимать надо. Утром встану пораньше, возьму инструмент, и все будет оки доки.
– Постой! – закричал Сенечкин. – Оки доки ему! Я на данный момент не просто штурман, а вахтенный, старший на судне, все равно, что капитан. Не откроешь сейчас, утром подам рапорт за неподчинение вахтенному штурману и о флоте можешь забыть.
– Да пошел ты… капитан сраный! Пиши, что хочешь. А я пошел…
– Постой!
Сенечкин вслушался в звуки за дверью. Шагов Яниса не было слышно. «Трах-ба-ба-бах» в очередной раз раскатились по трюмам куски металлолома.
– Постой. Я тут и вправду задыхаюсь, да хрен с ним. Но у меня тоже жена приехала. Перед самым рейсом мы с ней расписались. Понимаешь…
За дверью стояла тишина. Крановщики устроили перекур.
– Да понимаю, – раздалось за дверью. – Так бы сразу и сказал.
Спустя полчаса Янис докрутил последний винт, и дверь распахнулась. Сенечкин вышел на палубу, устроил короткий разнос Козлову, который и впрямь безмятежно дремал, стоя при этом на ногах и уткнувшись носом в спасательный круг. Постоял, остывая, на свежем воздухе. И поднялся в свою каюту.
Дверь он открывал осторожно, стараясь не шуметь. Над столом горела настольная лампа, остальной свет был потушен, а закрывающие койку шторки задернуты. Он потихоньку отодвинул одну шторку и… увидал пустую постель со слегка смятой подушкой. Любы не было.
Хорошее настроение быстро улетучивалось. Поезд пришел в Ригу по расписанию, ровно в десять ноль пять, но ее никто не встречал, и она решила сразу поехать в порт. На привокзальной площади стояли цветочницы, и Люба купила три крупных белых хризантемы. Потом она взяла такси. Денег было в обрез, но с чемоданом и цветами добираться до порта на переполненном общественном транспорте, да еще в малознакомом городе, казалось слишком сложным. Огромный торговый порт растянулся по правому берегу Даугавы на много километров, но проходная была только одна, недалеко от центра города, и дорога, вопреки ожиданиям, заняла не более пяти минут. Люба расплатилась с водителем, забрала вещи и протянула охраннице, плотной женщине лет сорока в синем форменном кителе, свой паспорт.
– Что это? – охранница демонстративно щелкнула блокиратором вертушки и уставилась на Лену большими, навыкате, как у жабы, глазами.
– Паспорт, – ответила Люба, робея.
– Сама вижу, что не трамвайный билет. А пропуск где?
– Нет у меня пропуска. А…
– Так выпиши! Бюро пропусков за углом. Куда попасть-то хочешь?
– К мужу… То есть на корабль. На «Иркутсклес».
– Нет у нас такого, – теперь охранница смотрела на нее с явным подозрением.
– То есть как это, нет? – заволновалась Люба. – У меня муж штурман, я только с поезда, у меня телеграмма вот, там ясно сказано…
– Ладно, ладно, не суетись, – немного смягчилась охранница. – Иди к тому окошку, там разберутся.
В бюро пропусков действительно подтвердили, что «Иркутсклеса» в порту нет, но смилостивились и позвонили диспетчеру, выяснив, что судно еще на подходе, прибытие ожидается через час.
Часа полтора Люба, поставив чемодан на землю, терпеливо выхаживала между проходной и бюро пропусков. Десять метров в одну сторону. Десять в другую. Хотелось есть. Время от времени через ворота порта въезжали и выезжали машины, большей частью легковые, в том числе такси, и каждый раз Люба с надеждой вглядывалась в лица выезжающих пассажиров. Наконец она вновь подошла к окошку бюро.
– Прибыл ваш «Иркутсклес», – ободряюще сказала ей миниатюрная женщина в зеленой форменной рубашке с погонами. – На четырнадцатом причале стоит, сразу за угольной горой.
– Значит, – с надеждой спросила Люба, – я могу получить пропуск?
Женщина сочувственно улыбнулась.
– Нет пока. Сначала пройдет комиссия, потом на проходную доставят судовую роль на родственников и экипаж, и вот тогда…
«Тогда» растянулось еще на два часа. Наконец, долгожданный пропуск был получен, и Люба, приободрившись, зашагала в указанном направлении. По разбитым дорогам носились автомобили и какие-то странные устройства, похожие на четырехлапых механических пауков, иногда с прицепленными к брюху контейнерами. По путанице рельсов медленно перемещались товарные составы и огромные портовые краны. Дорожки для пешеходов, там, где они присутствовали, были разбиты еще больше, и каблуки новеньких Любиных туфель то и дело проваливались в бесконечные выбоины. Чемодан оттягивал плечи. Стебли хризантем от беспрестанного их перекладывания из руки в руку обмякли и понуро склонили цветочные головы.
Еще полчаса спустя, окончательно измученная, она увидала огромный, сияющий свежей серой краской корпус «Иркутсклеса» с высокими, воткнутыми прямо в небо желтыми мачтами-кранами, с белоснежной надстройкой. Портовые краны, чем-то напоминающие гигантских болотных цапель, скармливали ему свою добычу из большой черной горы, наполняя пространство лязгом и грохотом. Возле трапа стояли несколько такси.
Вид судна придал Любе новых сил. Стебли хризантем размочалились окончательно, и она положила цветы на большой брикет аккуратно упакованного листового металла. Как на крышку гроба, подумалось ей. Подхватив чемодан, она бодро отшагала оставшийся отрезок пути и остановилась у трапа, с сомнением посмотрев на изогнутые рифленые дюралюминиевые ступени, круто убегающие высоко вверх. Трап со скрипом покачивался над темной щелью между корпусом судна и причалом. Наверху во всей красе стоял Сенечкин. Муж, одетый в парадный штурманский мундир, о чем-то разговаривал с седым человеком в светлых брюках и рубашке с коротким рукавом. Увидав Любу, Сенечкин быстро кивнул ей, улыбнулся и сделал рукой какой-то непонятный знак, но не бросился навстречу, а продолжил разговор с седовласым собеседником. Мимо Сенечкина протиснулась, задев его заметным бюстом, девушка с тяжелой копной иссиня-черных волос. Она что-то сказала Игорю, улыбнулась, спустилась, помахивая туго набитым ярким полиэтиленовым пакетом, вниз, коротко взглянула на Любу и забралась в поджидающее ее такси.
Помедлив, Люба нерешительно ступила на нижнюю площадку трапа, но та вдруг отъехала в сторону, и Люба поспешно отдернула ногу. По трапу сбежал молодой парень в разношенных кроссовках и хорошо вытертых джинсах, взял у Любы чемодан, ободряюще улыбнулся ей и протянул руку:
– Здравствуйте. Я Вася. В туфлях трудно будет. Я вам помогу. Вы новенькая?
Вот так, не отпуская крепкой Васиной руки, она впервые поднялась по судовому трапу и подошла к мужу.
– Это моя супруга, Люба, – сказал он седовласому и только тогда повернулся к жене. – А это…
– Константин Львович, – галантно представился тот. – Очень приятно. Ну ладно, не буду вам мешать. Только смотрите, Игорь Петрович, не увлекайтесь.
Константин Львович поднял с палубы небольшой саквояж и легко сбежал с трапа.
– Это капитан, – сказал Сенечкин, и обнял Любу, увлекая ее за собой в коридор надстройки, где было чуть тише, чем снаружи. – Ну, здравствуй, родная. Ты не обижайся, субординация…
– Я понимаю, – ответила она.
Каюта у Игоря оказалась небольшая, но уютная. В дальнем углу стояла высокая, закрытая шторой кровать, точно такая же штора отделяла в углу за дверью умывальник с зеркалом. Под довольно большим окном, или иллюминатором, вспомнила Люба, был прикручен письменный стол, с боковой стороны которого располагался небольшой кожаный диван.
По-настоящему они поцеловались только в каюте. Потом Игорь отстранился, усадил ее на диван и куда-то заторопился. Она приняла его объяснения в отношении сваленных на него обязанностей вахтенного штурмана, но ей показалось, что говорит он слишком поспешно и много, словно пытаясь скрыть за словами вызванную чем-то неловкость, и ощутила, как внутри ее начинает шевелиться червячок сомнения. Она вспомнила Ольгу и Гришу. Просто я не хочу спешить, объясняла ей подруга. Мужчины врут искренне, потому что верят в свои слова. Это даже нельзя назвать враньем. Но измени вокруг них обстановку, и они начинают думать по-другому. В море-то у них тоже там, знаешь, буфетчицы, поварихи, докторши… А нам-то хочется сделать выбор на всю жизнь. Вот если Гриша, когда уйдет в море уже не курсантом, а штурманом, поймет, что он без меня не может и предложит пойти в загс, то я… еще подумаю!
Игорь зашел в каюту в очередной раз и принес огорчительное известие: по случаю шума и короткой стоянки всех отпустили на берег, в том числе повара, и питание для вахты выделено сухим пайком. Поэтому они дважды пили кофе, закусывая сыром, копченой колбасой и шпротами. Шум не прекращался. Ближе к вечеру Игорь открыл бутылку сладкого красного вина и начал подливать ей, но сам не пил, ссылаясь на ту же вахту, и это тоже было довольно подозрительно. Спать при этом хотелось отчаянно, и она с трудом подавляла зевки.
– Может, я лягу уже? – сказала она в короткое мгновение тишины.
– Конечно, конечно, – покивал он, и отвел глаза, когда она начала медленно расстегивать кофточку. – Ложись, ложись, а я еще обход сделаю и тоже прилягу.
Крановщики работали неутомимо. Она разделась, легла в кровать на правый бок так, чтобы вторая подушка закрывала левое ухо, подумала, что пролежит в таком положении до прихода Игоря, и мгновенно уснула.
Проснувшись, она не сразу поняла, где находится. Через плотную штору пробивал слабый свет. Она отодвинула штору и посмотрела на часы. Шел второй час ночи. Игоря не было.
Люба натянула на голое тело легкий халат, вставила ноги в шлепанцы и пошла искать мужа.
Она поднялась по ближайшему трапу наверх и оказалась в рулевой рубке, в которую некоторое время назад Игорь приводил ее на короткую обзорную экскурсию. Яркие светильники наружного освещения заливали рубку мягким янтарным светом. Тени от оконных переплетов протянулись по светлому полу, как клавиши рояля и слегка подрагивали, словно в такт лязгающей в трюмах какофонии звуков, создаваемых гигантскими пальцами кранов, и ей показалось, что она различает диссонансы Карла Орфа. Вслушиваясь, она прошлась вдоль раскинутых от борта до борта окон и вжалась в уголок за корпусом радара, где, подумалось ей, наверное не раз выстаивал на долгих морских вахтах ее супруг. Лязг металла смешивался с каким-то странным подвывающим звуком, чем-то напоминающим волынку. Потом она ощутила за спиной движение, обернулась и увидала средних лет незнакомого темноволосого мужчину в одних трусах. У него крепкое жилистое тело, грудь покрывала плотная волосяная поросль. Она вспомнила, что на ней тоже только тоненький, почти ничего не скрывающий халатик, представила, что может подумать Игорь, если тоже зайдет сейчас на мостик, и еще больше задвинулась за радар.
Мужчина подошел к какому-то устройству на стене, открыл дверку, повозился внутри и подвывающий звук прекратился. Мужчина потянулся, запустил руку в трусы, поскреб там, и, так и не заметив Любы, ушел. Но она еще долго не решалась выбраться из укрытия. Ей было жаль себя. В консерватории, а точнее в институте искусств, как называлось заведение на самом деле, ей оставалось проучиться еще один год, но уже было ясно, что ни Рихтера, ни Плетнева из нее не получится, самое большое, на что она может рассчитывать, это место преподавателя музыки, и то, если повезет. Личная жизнь тоже вдруг поворачивалась не тем боком. Если муж даже сейчас, после долгой разлуки и ее двух ночей на жесткой полке поезда, не хочет уделить ей внимания, чего ожидать дальше?
Сверху хорошо просматривалась носовая часть судна и причал, даже металлический брикет с увядшими хризантемами. Людей не было. Чуть поплакав, она спустилась с мостика и пошла по пустынным коридорам, пытаясь различить малейшие звуки за каждой из попадающихся на пути дверей. Тишина, если не считать лязга падающего металла, была полная. Лишь в нижнем коридоре за одной из дверей, казалось, ощущалось движение и были слышны голоса – глухой, совсем неразличимый, мужской и более отчетливый, как будто стонущий, женский. Люба застыла, пытаясь уловить в мужском голосе знакомые интонации Игоря. Где-то хлопнула дверь.
Запаниковав, Люба поднялась по трапу в другой коридор, двери которого выглядели солидней, а на полу вместо вытертого линолеума лежала красная ковровая дорожка. Шум погрузки затих, и совсем рядом на трапе раздались шаги. Люба прижалась к стене, зацепилась за ручку, нажала на нее и дверь открылась. Она вошла внутрь.
Любы не было. Сенечкин сразу вспомнил ходящие среди моряков рассказы о возвращении с рейса, когда муж забывает дать радиограмму о приходе… Или о том, как жена оказывается в чужой каюте пока муж стоит на вахте у трапа… Или… Что, собственно, он знает на самом деле о Любе, они и знакомы-то, по сути, всего несколько дней! Но не на пустом же судне!
Он выскочил в коридор и подумал, что спрашивать Козлова все равно бесполезно. А значит – вредно. Попытаться еще раз пройтись мимо кают, пытаясь услышать звуки внутри? Пошло и унизительно. Ему захотелось подняться в рулевую рубку, постоять среди мерцающих лампочек контрольных приборов, сразу и точно определяющих, где происходит отклонение от нормы.
Конечно, приехать к мужу из дальних краев после долгой разлуки и потом сидеть целый день в каюте не слишком весело, но всему же есть предел! Он спустился в нижний коридор и пошел мимо кают рядового состава, внимательно вслушиваясь в происходящее за дверьми. Крановщики все еще не приступали к работе, и на судне царила тишина. Звуки доносились только из каюты Яниса. В голове штурмана мелькнуло страшное подозрение. А вдруг Янис дождался, когда Сенечкин зайдет в гальюн и скрутил ручку специально, чтобы спокойно провести время с Любой? Не зря же он не хотел открывать до самого утра и передумал только потому, что побоялся, как бы штурман не задохнулся на самом деле? В какой-то момент Сенечкину хотел ворваться в каюту матроса, чтобы разобраться с ситуацией, не откладывая, но потом одернул себя. Предположение было глупое. Во-первых, он сам вписывал данные на жену Яниса в судовую роль. Во-вторых, Янис полностью контролировал ситуацию с дверью, и Люба давным-давно бы уже была на месте. Нет, искать надо в другом месте.
Он поднялся на следующую палубу и пошел по скрадывающей шаги ковровой дорожке, пытаясь вспомнить, кто из командного состава мог остаться на борту. Судно подключили к береговой электролинии, и присутствие вахтенного механика не требовалось. С другой стороны, четвертый механик Брамудов был не женат и вполне мог остаться ночевать на судне, или вернуться ночевать, если не смог найти подходящего развлечения на берегу.
Сенечкин осторожно надавил на ручку. Дверь была заперта. Тогда он нащупал в кармане мастер-ключ, открывающий любую судовую дверь. Других вариантов просто не могло быть. Сенечкин вставил ключ в скважину, повернул дважды, осторожно открыл дверь, вошел и застыл, давая глазам время адаптироваться к сумраку каюту, лишь слегка подсвеченному отблеском береговых огней. Полог над койкой был слегка отдернут и за ним угадывались очертания человеческого тела. Или двух?
В трюм грохнулась очередная партия металлолома, и корпус содрогнулся, разнося по судну уже привычную какофонию звуков. Сенечкин ощутил за спиной движение, и кто-то толкнул его в спину. Чтобы не упасть, он взмахнул руками, уцепился за полог над койкой и сдернул его. Койка, если не считать небрежно брошенной куртки Брамудова, была пуста. Он развернулся и увидал силуэт женщины в легком ночном халатике. По иллюминатору скользнул луч прожектора от разворачивающегося крана, и Сенечкин узнал Любу.
– Что ты здесь делаешь!? – закричал он.
– Я искала… А что тут делаешь ты? – закричала она в ответ.
– Я… Я – по долгу службы! Ну, сирена пожарная сработала, когда я… словом, проверить надо было. Вот.
– А я, я… просто захотела в туалет. И заблудилась. Двери все одинаковые. И не надо на меня кричать.
– Так шум же.
У Сенечкиных начиналась семейная жизнь.
На спор
Труднее всего не свихнуться со скуки…
Из песни Андрея Макаревича1
Моряки – народ суеверный, и я не составляю исключения. Если солнце село в воду, я, как и полагается по примете, сообщаю интересующимся, не заглядывая в прогноз, а то и вопреки ему, что назавтра погода будет просто блеск. И наоборот. Если солнце село в тучу, значит, что бы ни пророчили синоптики, природа на завтра непременно устроит какую-нибудь пакость. Злую бучу, если точно следовать стихотворному изложению. Пока народная мудрость не подводила.
Подобного рода приметы и поговорки у моряков придуманы на любые события, и я тешу себя надеждой, что когда-нибудь сяду за письменный стол и составлю целый сборник, который станет основой для нового курса обучения молодых навигаторов. Пока же точность поговорки «бойся в море старых пароходов и молодых капитанов» я проверял на собственной шкуре.
Пароход «Александр Невский» был рудиментарным остатком грузового флота времен второй мировой войны, выстроенный на американских стапелях по программе «ленд-лиз» всего за полтора месяца. Строился пароход предельно просто и дешево. Фактически, на один переход с грузом из Америки в осажденный Советский Союз. Но пароходу повезло. Он не попал в перископ немецкой субмарины, не был обстрелян с воздуха, не натолкнулся на минное поле. Раз за разом он набивал обширные трюмы грузом и выходил в очередной рейс. Последний, пророчили ему в Дальневосточном пароходстве. Тридцать два года спустя пароход пришел в Ригу.
Капитан Пахомов был ровесником парохода. Рейс с металлоломом из Владивостока в Испанию, а затем с углем из Риги на Кубу стал для него первым самостоятельным плаванием. Подразумевалось, что по возвращению на Дальний Восток пароход пойдет на переплавку, а для капитана за это время подыщут что-нибудь поновей.
Мне было двадцать два, и на пароход я попал случайно. В июле перед уходом в свой первый трудовой отпуск я зашел в отдел кадров, и начальник отдела встретил меня радостной улыбкой, которую я на тот момент еще не научился распознавать.
– Вот кто вам нужен! – сказал он крепко сбитому молодому мужчине в рубашке с коротким рукавом.
– Капитан Пахомов, – представился тот, пожимая мне руку. – Скажите, а вы были в Бразилии? Мне нужен третий помощник.
Увы, на планете Земля осталось еще множество мест, в которых мне не удалось, а скорей всего уже и не удастся побывать. В те же годы Бразилия была сказочной экзотикой даже для моряка торгового флота. И я вспомнил поговорку «никуда не просись, ни от чего не отказывайся».
За три месяца мы дошли до Кубы, выгрузили десять тысяч тонн угля, заполнили трюмы мешками с желтым сахаром-сырцом, прошли Панамский канал и взяли курс на Ханой. Расчетное время перехода через Тихий океан составляло сорок пять суток. Бразилия осталась несбыточной мечтой.
Жизнь на пароходе стала совсем скучной. Библиотеки на борту не было, а каждая лента из небольшого запаса кинофильмов была прокручена по много раз. Кино смотрели по вечерам, во время моей вахты, на кормовой палубе. Действие фильма отчетливо просматривалось на оборотной стороне экрана с крыльев рулевой рубки. Капитан пытался контролировать каждое действие штурманов, а я на Балтике привык к самостоятельности, и наши отношения разладились. Пахомов то и дело давал мне скучные и, на мой взгляд, ненужные задания по ревизии карт и лоций. В отместку я поджидал, когда экипаж на киносеансах замирал в предвкушении самых любимых сцен, и вызывал капитана на мостик, чтобы поделиться сомнениями в отношении до бесконечности отдаленного от нас огонька на горизонте.
Но уже несколько дней не появлялись даже встречные суда. К этому времени я прослушал все житейские истории тех, с кем поддерживал способствующие душевному излиянию контакты, и изучил привычки тех, с кем такие контакты не получались. Однако, что с таким вниманием второй день подряд разглядывает на палубе в одном и том же месте дед, как по флотской традиции называют всех старших механиков, я понять не мог. Поэтому сразу после дневной вахты отыскал Алика Гафарова, главного источника местной информации.
Мы подошли к заинтересовавшему меня месту в промежутке между двумя трюмами, и я спросил, что может здесь делать старший механик.
– А ты не знаешь? – удивился Алик. – Ну да, ты же не был с нами в Индийском океане! Нас там малость потрепало штормом, и дед заметил, что по палубе поперек парохода пошла трещина. Ну, объявили тревогу, наварили на трещину всяких железяк, а в Испании заказали стальные листы и приварили поверху культурненько. Видишь? А то бы, сам понимаешь, кранты нам всем. Спас нас дед. И теперь, видно, следит.
Я внимательно рассмотрел место разлома. Листы метра в полтора шириною были приварены поперек всего корпуса от борта до борта, выкрашены в цвет палубы и до объяснения Гафарова я воспринимал их как элемент конструкции. Ветра практически не было, но судно мерно покачивало на океанской зыби – предвестие либо последствие отдаленного шторма. В отличие от современных судов с дизельными двигателями, пароходы раздвигают воду практически бесшумно. В этой, почти полной тишине, я явственно различил легкое поскрипывание и попытался освежить в голове остатки знаний из учебного курса о напряжениях в корпусе судна.
– А потом что было? Ну, я имею в виду в порту, после того, как заварили трещину?
– Да ничего не было! – удивился моей непонятливости Гафаров. – Трещины же не видно стало.
– Понятно, – сказал я, легко представив, как прореагировали бы на событие представители любой инспекции по безопасности мореплавания. Прежде всего, в таких случаях выясняют причины происшедшего. По логической цепочке, трещина могла возникнуть или из-за усталости металла, или по причине излишнего напряжения. А оно могло случиться из-за неправильного распределения груза в трюмах. Такие выводы молодому капитану были ни к чему. Мотивация деда выглядела еще сильней. Образование его складывалось из тридцатилетней давности трехмесячных курсов кочегара, а должность старшего механика досталась исключительно за выслугу лет на «Александре Невском», на котором дед работал с момента постройки парохода. При оформлении выхода из Риги, чтобы посмотреть на экзотическое свидетельство, подменяющее диплом механика, сбежалось все управление капитана порта. До ухода на пенсию деду оставалось полгода. Место на другом судне ему не светило – других пароходов на флоте к этому времени больше не существовало.
Гафаров склонил голову и, похоже, тоже услышал поскрипывание.
– А ты что, думаешь, пластины могут не выдержать?
– Трудно сказать. Все может быть. Тут серьезные расчеты нужны. Вас после заварки трещины штормило?
– После Испании, что ли? Да вроде нет…
– Ну, естественно, – авторитетно заявил я. – Все переходы выпали на весенне-летний период, какие там шторма. А теперь у нас наступает осенне-зимний.
– Да ладно пугать, – сказал Гафаров. – Мы уже сколько месяцев с этой заплатой идем. Дед свое дело знает. Могу поспорить, что палуба не лопнет. Лопнет – ты выиграл. А если до Владивостока палуба дотянет целенькой, моя победа. Ну, спорим?
– А что ты готов поставить? – спросил я и взглянул за борт. Впереди, у самого горизонта, скапливалась тонкая полоска облаков.
2
Каюта Гафарова находилась по соседству с моей. Морского образования он не имел, но для исполняемой им должности хозяйственного помощника капитана этого и не требовалось. В его заведовании находились продукты, которые он ежедневно выдавал судовому коку. Доступ в продуктовые кладовые, артелку, по-морскому, имел самый ограниченный круг людей, в число которых в качестве личного друга входил и я. Хранить, правда, в последнее время оставалось немногое. Запас продуктов мы рассчитывали пополнить в Панаме, при проходе канала. Однако наш экипаж оказался заложником большой политики. Шипчандлер, а иначе агент по снабжению, едва взглянув на судовые документы, выпучил глаза:
– Вы идете с грузом из Кубы? С назначением на Северную Корею!? Да на обе эти страны у США объявлена экономическая блокада!
– Может, вы что-то не так поняли. Спросите еще раз, – потребовал капитан. Сам он, как и остальной экипаж, английским не владел и вынужден был целиком полагаться на меня.
– Мы политикой не занимаемся, – сказал я. – Нам бы продукты получить. Согласно заказу.
Агент с тоской посмотрел в иллюминатор. По всему, ему хотелось запретить проход по каналу как таковому, вынудив идти в обход Южной Америки, мимо мыса Горн, удлинив наш переход месяца на полтора. Но мы уже стояли в быстро заполняющемся водой шлюзе, на рейде очереди ожидали другие суда, и развернуть нас, не вызвав серьезных перебоев в отлаженном механизме перемещения из Атлантического океана в Тихий, не было никакой возможности. В силах администрации было только одно: не дать нам продуктов. И их не дали.
Так что дружба с Гафаровым оказалась как нельзя более кстати. Хотя выбор в судовой артелке был невелик. В сильно опустевших закромах стояли несколько мешков с рисом, гречкой и перловой крупой, два мешка сухофруктов, мука для выпечки белого хлеба, ящики с давно осточертевшей тушенкой, сухое вино рислинг и… несколько больших, двухкилограммовых банок черной икры.
– Ставлю сто граммов икры! – гордо предложил Гафаров.
– Сто граммов за целую палубу!?
Я изобразил предельное возмущение. Моему молодому организму требовался белок. И не только моему. У Гафарова в каюте отыскалась затасканная книжонка с названием «Атлетизм», и мы с четвертым механиком Юрой Антоненко усердно осваивали премудрости наращивания мышц. Один из существенных разделов книжонки, особенно для нашего тощего послевоенного поколения, посвящался правильному питанию. Есть нам хотелось почти непрестанно. По флотским правилам, исключая спиртное, для дополнительного питания мы могли закупать в артелке все, что заблагорассудится. Капитан, однако, распорядился икру никому не выдавать.
– Сам посуди, – объяснил я. – Если палуба расколется, на что шансов у нас пятьдесят на пятьдесят, второй раз ее могут и не заварить. Где же ты собираешься выдавать мне выигранную икру, в спасательной шлюпке, что ли? А выиграешь – результаты только через два месяца известны будут. Какой интерес?
– Ну и как же тогда спорить? – огорчился Алик. На флоте каждый сходит с ума по-своему. Гафаров был патологический спорщик, готовый заключать пари по любому поводу, будь то, какой борт выберет капитан для швартовки, сколько добавок компота попросит в обед старший механик, или какое из двух платьев наденет сегодня буфетчица Катя для обслуживания кают-компании. Ситуацию надо было использовать сразу, по-морскому. Последовательно и решительно.
– А давай так. Все листы приварены аккуратно, сплошным швом. Если завтра после моей вахты увидим, что шов в каком-нибудь месте треснул, выставляешь сто граммов икры. Если нет, выставляюсь я. По рукам?
Алик захватил мою пятерню.
– Годится! По – ру, Стоп! Про меня понятно. А где возьмешь икру ты?
– У тебя, где еще? Все равно есть вместе будем. Запишешь на мой счет.
– Не, не, так я не могу. Капитан не велел.
– Да он и не заметит. Банки-то запечатаны клейкой лентой, я видел. Откроешь, возьмешь порцию и заклеишь обратно. Икру от воздуха разопрет, еще больше выглядеть будет. По рукам?
И наши ладони сомкнулись.
3
Вечером солнце село в тучу. Зыбь усилилась. Кривая на барографе медленно, но устойчиво тянулась вниз. Утром дед нервно вышагивал по палубе. Пароход неспешно переваливался по длинным океанским волнам. После моей дневной вахты ветер зашел в корму, и на носовую палубу долетали лишь редкие брызги. Мы с Гафаровым стояли у заваренной трещины. Скрип за шумом ветра был слышен хуже, но листы держали крепко, и лишь в одном уголочке, показалось мне, маленький кусочек шва начал крошиться.
– Ладно, – сказал я Алику. – Твоя взяла. Пошли за икрой. За мой счет, конечно.
Последний аргумент прозвучал достаточно убедительно. Дальневосточные моряки тратить деньги на продукты не привыкли. Рейсы им выдавались дальние, жизнь текла размеренно, казенного четырехразового питания хватало. Молодое и суетное пополнение с Балтики внесло в привычный уклад сумятицу. Я и Юра Антоненко, которого тоже соблазнили Бразилией, стали единственными регулярными посетителями артелки. Доппайком мы стали пользоваться, как только пароход вошел в тропики.
По морскому уставу, в тропических водах морякам торгового флота полагалось ежедневно выдавать по двести граммов сухого вина. Артелка была плотно забита ящиками с рислингом в бутылках емкостью по семьсот граммов. Вопрос дележа Алик решил просто. Раз в неделю, по субботам, каждому выдавалось по две бутылки. Жизнь на несколько часов становилась веселей, а Гафаров сговорчивей.
Мы спустились в артелку, Алик запер за нами массивную, как в банковском хранилище, дверь, распечатал банку, отмерил в граненый стакан порцию икры, сделал в замусоленной амбарной книге напротив моей фамилии очередную запись и вновь заклеил банку.
– А точно, незаметно, – признал он.
– Ну, я же говорил! Да из этой банки еще пару раз можно брать, без вопроса.
– Да нет, тогда капитан просечет… – Алик с сомнением покачал головой.
– Не просечет! – у меня уже разыгралась фантазия. – Ты в последний момент банку разогрей слегка, икра от нагрева расширится. Закон физики! Капитан в жизни не догадается!
Мы поднялись в мою каюту, к нам присоединился Юра, и мы выставили на стол шесть бутылок вина. Икра нежными солеными комочками проваливалась в неисповедимые глубины наших желудков, откуда ценный белок должен был без промедления устремиться на восстановление наших измученных атлетическими упражнениями мышц.
– Хорошо сидим, – мечтательно протянул Юра, слизывая с ложечки последние икринки. – Но я бы еще от порции не отказался.
Гафаров даже поперхнулся.
– Да вы что, корефаны! Не, сегодня и разговора на эту тему не может быть. Вот в следующую субботу…
– А если пароход треснет?
– Это уже шантаж.
– Да ладно, – сказал я. – На самом деле, Алик, мы тебя понимаем. Это так, шутка. К тому же, неудачная. Говорить в море о катастрофах – плохая примета. Лучше сменим тему. Вот, к примеру, как ты думаешь, может человек управлять, скажем… тараканами?
– Нет, конечно.
– Точно не может?
– Да о чем тут говорить?
– Хорошо, а если я, допустим, постучу сейчас по столу, и на его середину выползет таракан?
– Не выползет.
– А на спор? На сто граммов икры?
– Не пойдет так, – решительно отмел предложение Гафаров. – Опять вы меня разводите. Я соглашусь, ты проиграешь, а мне за икрой идти?
– Хорошо. Если я проигрываю, ты списываешь на меня сто граммов, но икра остается тебе. А выигрываю – тащишь. По рукам?
Алик торжествующе улыбнулся.
– Согласен!
Мы пожали руки, я поднес руку к столу и осторожно постучал по столешнице ногтем. Несколько секунд ничего не происходило. Затем из щели между столом и переборкой высунулись тоненькие усики, за ними вытянулось длинное, сантиметра три длиной темно-коричневое туловище и на середину стола выбежал таракан. Точно к оставленной мною для него икринке. У Алика отвалилась челюсть.
– Ешь, Васька, ешь, – сказал я.
4
Шторм начался на вечерней вахте. Волны уже не катили ровным, убаюкивающим потоком, а остервенело, с воем и грохотом, бились о корпус, обрушивались на палубу, взметались гейзерами до окон рулевой рубки, висели в воздухе соленой водяной пылью. Шторм бил с прицелом. Восемь водяных валов подряд, толкая друг друга, словно испытывали пароход на прочность. Но лишь для того, чтобы дать место рвущемуся за ними девятому валу. Он подлетал неожиданно и незаметно, исподтишка, сначала растекаясь ровной, почти плоской, успокаивающей качку полосой, и вдруг резко вздымал пароход вверх, выталкивая его из воды к близкому небу; гребной винт оголялся, и тогда весь корпус «Александра Невского» содрогался от судорожной дрожи.
Я расклинился между локатором и судовым телеграфом, безуспешно пытаясь разглядеть швы сварки на залитой водой палубе. Качка не доставляет удовольствия никому, и каждый по-своему подвержен воздействию морской болезни. У меня она выражается в повышенном аппетите.
Трюк с Васькой был беспроигрышным. Тараканы и крысы водились на пароходе в изобилии, и с ними, по воспоминаниям деда, безуспешно боролись с момента приемки судна от американцев. Поэтому традиционные методы я отверг сразу. И придумал свой – иерархический. Проще говоря, выделил из числа тараканов, прогуливающихся по поверхности стола в моей каюте, самого крупного и осторожно пододвинул к нему крохотную крошку сыра. Таракан присел от неожиданности на все свои лапы, но не убежал, а, обнаглев, стал грызть сыр прямо у меня на глазах. Я нарек его Васькой. И тут же прихлопнул нескольких его конкурентов. Подобную процедуру мы повторяли две недели подряд. Я кормил Ваську сыром, поил яблочным соком, и он позволял мне осторожно прикасаться к его спине кончиком пальца. Васька быстро подрастал, и его уже было не спутать с недокормленными сородичами. Постепенно все остальные тараканы из поля моего зрения исчезли. И я подумывал уже о следующем этапе: организации тараканьих бегов.
Быстро сгущался сумрак, чтобы уступить место темной тропической ночи. Авторулевой не успевал уследить за выкрутасами девятого вала, и за штурвал поставили вахтенного матроса, двухметрового Колю Гудкова.
– Игоревич! – вдруг позвал он меня. – А вот вы как думаете, корпус выдержит шторм или нет?
Вопрос мне не понравился.
– Ты о чем это? – спросил я, хмурясь.
– Ну, как же, – ответил он. – О трещине все знают. И дед неспокойный ходит. Кое-кто нервничать начинает. А другие так нет, ерунда все, говорят. А вы, какого мнения?
– Простого. Нечего панику на пустом месте сеять. Тоже, нашли тему. Чтобы судить о чем-то, надо разбираться в сути вопроса. Наука такая есть – сопротивление материалов. Все легко просчитывается. Вектор напряжения надо помножить на стрелку прогиба и по таблице коэффициентов с учетом интеграла и закона Гука… А народ-то к чему больше склоняется?
5
Двое суток спустя стрелка барометра застыла на одной, хотя и крайне низкой, отметке, шторм вновь уступил место ровной зыби. Дед и капитан нервно вышагивали по палубе вокруг наваренных листов, о чем-то спорили, сразу замолкая, если к ним приближался кто-либо из членов экипажа. Вахты третьего штурмана и четвертого механика заканчиваются одновременно, в полдень, поэтому мы с Юрой обедали, поглощая скудную пайку, одновременно, позже всех. В кают-компании мы были вдвоем, и я напомнил, что мы давненько, с начала шторма, не брали в руки штангу.
– Не получится сегодня, – огорошил меня Юра. – Дед велел сварочный аппарат приготовить, будем листы над трещиной подваривать.
Я сразу оживился.
– А что, лопнула-таки старая сварка? Можем Гафарова трясти? Давненько я черной икрой не баловался…
Юра огорченно потряс головой.
– И не побалуешься. Все на месте. Разве что несколько крупинок отлетело, почти незаметно. Но деду что-то не нравится, хочет дополнительно укрепиться. Какой тут спор после этого?
– Жаль… А как здорово все начиналось! Ладно, пойду, придавлю свои законные шестьдесят.
Я поднялся к себе, открыл дверь и замер. Посреди каюты сидела огромная крыса и в упор смотрела на меня черными бусинками глаз, явно не желая уступать место. Мне стало не по себе. Крыс было много, но обычно они старались не попадаться людям на глаза, разгуливая в основном по ночам. Но чтобы так, средь бела дня… Должно быть, сильно оголодала, подумалось мне. Стоит повернуться спиной, чтобы открыть дверь и… Главное, не показать, что ее боишься. Пусть знает, кто здесь хозяин положения!
Для настоящего овладения положением мне, однако, не хватало какого-нибудь инструмента. Я был в шлепанцах, шортах и в легкой рубашке. В обозримой близости ничего не просматривалось. Я осторожно, не делая резких движений, протянул руку к ближайшему рундуку, медленно выдвинул его и вытянул полуметровый стеклянный термометр для замера воды. Крыса не двигалась. Видимо, отступать ей было некуда. Но оружие в руках придавало мне уверенности.
– А-а! – закричал я, делая выпад термометром, как шпагой.
Крыса метнулась вбок, к переборке с прикрученной к ней батареей центрального отопления, и исчезла. Я осторожно потыкал за батареей градусником и обнаружил прогрызенную в переборке дыру.
Успокоившись, я покормил Ваську и прилег на койку. Сон не шел. Глаза то и дело обращались к батарее, и я понял, что пока не увижу на дыре надежной заплаты, сну в этой каюте меня не одолеть. Да и мотивация поведения крысы меня все еще озадачивала. Какой там голод, если трюмы забиты сахаром! И даже если допустить, что в трюм ей не пробраться, при чем тут моя каюта? Появление Юры я встретил с облегчением.
– Ну, как, пан спортсмен, – сказал он, – пойдем, штангой побалуемся?
– А что, сварочные работы уже закончились?
– Не совсем.
Юра загадочно улыбнулся.
– Аппарат-то я притащил, как дед велел. Да вот беда – электродов не оказалось. Предшественник мой, оказывается, забыл в Союзе заказ сделать, а дед не проконтролировал. Так что где там Гафаров? Жизнь продолжается!
6
Штанга, полуторапудовые гири и гантели водились на пароходе с незапамятных времен. Площадку для спорта мы оборудовали в кормовой части, на полуюте. Как должны выглядеть настоящие тренажеры мы и не подозревали, но книжка была рассчитана именно на не избалованного советского человека. Гимнастическую скамейку заменяла отшлифованная доска, которую мы закрепляли в разных положениях, а упражнения делали по очереди: один подавал или принимал штангу, или придерживал партнера за ноги на наклонной доске. Мы размялись, используя гантели и гири, и перешли к более основательным упражнениям. Юра устроился на доске, я вытащил из ящика восьмидесятикилограммовую штангу, встал над его головой и опустил снаряд на Юрины руки. Он напрягся, принимая вес, и я отпустил металлическую ось. В этот момент судно накренило, штанга пошла вбок, я кинулся на перехват, но скамейка уже качнулась и упала. Штанга покатилась по наклоненной палубе и ударилась об ограждение площадки. Пароход перевалился на другой борт. Штанга покатилась назад. Прямо на лежащего Антоненко.
– Юра!
Я кинулся на помощь, но Антоненко уже и сам оценил ситуацию. Он взлетел с необыкновенной скоростью, штанга прокатилась мимо, ударилась о скамейку, подпрыгнула и одним концом врезалась в ящик с гирями. Стенка треснула. Я с ужасом представил, что нас ожидает среди груды разбушевавшихся спортивных снарядов, и мельком взглянул за борт. Поверхность океана была спокойной. Пароход не качало. Не сговариваясь, мы разобрали коварную штангу и убрали ее подальше. Юра отделался легкими ссадинами на животе и локте.
– Что это было? – спросил он.
– Черт его знает, – признался я. – Прикатило откуда-то. Может, цунами?
– Скажешь тоже. Тут бы такая гора воды прошла – мало не покажется! И штанга бы нам не так врезала!
– Да нет, – объяснил я. – В океане цунами ничем не грозит. Качнет, как сейчас, и все. Волна только возле берега поднимается.
– А берег-то далеко?
– Относительно… Гавайские острова прошли неделю назад. Они ближе всего. До Японии еще недели две.
– А штормить нас будет?
– Ну, сразу и не скажешь. По прогнозу, вроде, все в порядке. А что?
– Да я так. – Юра потрогал ссадину на животе, потянулся. Полюбовался рельефным бицепсом. – Что-то есть захотелось. А не заглянуть ли нам к Гафарову?
– Попробуем, – легко согласился я.
Мы спустились с юта и зашагали к надстройке. Я подумал, что сейчас самое время будет заделать дыру в переборке.
По крышке трюма разгуливали несколько чаек. Откуда они взялись здесь, посреди океана? Кто-то придумал красивую легенду, что в чаек переселяются души моряков. Но мне не очень хотелось бы, чтобы моя душа оказалась в этом кричащем и гадящем создании.
– Рыбаки рассказывают, – сказал я, – что в дальних рейсах, когда рыба надоедает, они ловят чаек на крючок, как рыбу, и едят. Говорят, неплохое мясо получается, хотя и черное.
– Не очень-то они аппетитные, – усомнился Юра. – Конечно, это как приготовить… Интересно, а наш повар справится?
И я не стал его огорчать напоминанием об еще одной примете:
Чайка ходит по песку, моряку сулит тоску.
7
Вечером шторм разыгрался с новой силой. Направление ветра изменилось, волна била в правый борт, перекатывалась через трюмы, бурными потоками проносилась по палубным проходам между трюмами и бортом. Фильм крутили в столовые команды, но из-за духоты и постоянной качки зрителей не оказалось. Смотреть кино в одиночку Пахомов не захотел. Он поднялся на мостик, включил громкую связь и запретил любое перемещение по открытой палубе. Затем подошел к барометру, постучал пальцем по стеклу, словно надеясь вернуть на нужное место застрявшую в нижней части прибора стрелку, и повернулся ко мне:
– И сколько, по вашему мнению, продлится шторм?
Сводка погоды, которую ежедневно принимал начальник радиостанции, была путанная и касалась всей территории огромного Тихого океана, а никак не точки, в которой с неспешной десятиузловой скоростью перемещался наш пароход.
– Закат был багрово-красный, тяжелый, горизонт сильно размыт, – ответил я. – Барометр долго не менялся, но был внизу. Похоже, мы оказались в центре циклона. В лучшем случае штормить будет двое суток. Но это оптимистичный прогноз.
– Пессимистам лучше сидеть дома, – буркнул капитан и ушел к себе в каюту, где, по моим предположениям, его поджидала буфетчица, и я сомневался, что при этом на ней надето одно из знакомых всей команде платьев.
На третий день ветер зашел в корму, стало чуть тише, вахтенный машинист Карташов поленился добираться до юта через узкий туннель гребного вала, выбежал на палубу, был сбит волной и при падении разбил голову. По уставу, при отсутствии на пароходе доктора, медицинские обязанности возлагаются на третьего помощника капитана. Очевидно, считается, что молодой штурман должен еще хоть что-то помнить из нескольких часов училищного курса по оказанию первой медицинской помощи. Недостаток знаний компенсировался книгой «Медицинский справочник капитана» с грифом «Для служебного пользования».
От удара кожа на голове Карташова лопнула, образовав рану длиной сантиметров в семь, медленно набухающую пузыристой кровью. Я отыскал в справочнике нужную страницу в главе «Рассечение кожи головы», вручил книгу Юре и усадил его рядом с пациентом. Вместо анестезии Карташову выдали стакан водки. Чтобы стянуть разошедшуюся кожу, надо было наложить три скрепки.
Полчаса спустя операция успешно завершилась, пациент с перевязанной головой отправился на отдых.
– А мы? – спросил Юра?
– Что мы? – не сразу понял я. – Анестезию допить предлагаешь?
– Да нет, на вахту скоро. Есть хочется.
– Давай к Гафарову сходим.
– А что у него возьмешь? Ты здесь пошуруй, в аптечке. Вот в справочнике написано, что глюкоза является главным источником энергии в человеческом организме. Есть у нас глюкоза?
– У нас?
– Да ладно, не придирайся к словам. Она в ампулах должна быть.
Глюкозы оказалось много, и я не стал придираться. Мы выпили по две ампулы сладковатой жидкости. Энергии прибавилось, чувство голода не прошло.
– Еще по одной? – с надеждой предложил Юра.
– Хватит, пожалуй, – сказал я. – Еще неизвестно, что с этой энергией делать будем.
Я запер амбулаторный блок, и мы вышли подышать свежим воздухом на шкафут подветренного борта. Несмотря на неутихающий шторм, качка заметно уменьшилась. Чтобы не мешать моей операции, капитан развернул пароход так, чтобы он находился в наиболее стабильном состоянии. Пора было доложить, что мы можем ложиться на нужный курс. Но Пахомов уже сам вышел ко мне навстречу со стороны палубы, по которой им же было запрещено хождение. За ним с встревоженным лицом следовал старший механик. Не дослушав мои объяснения, капитан кивнул и ушел на мостик. Что-то было не так. Переглянувшись, мы с Юрой спустились на палубу. Сварка на одном из приваренных листов лопнула, совсем как на голове у Карташова, подумалось мне, и между стальным листом и палубой образовалась заметная щель.
– Ну, теперь Гафаров не отделается! – сказал Юра.
8
Икру мы намазывали плотным слоем на ломти свежевыпеченного в судовой пекарне белого хлеба. Гафаров нервничал, но ел. Щель с каждым днем становилась шире, и сварка отваливалась на втором листе. Чтобы уменьшить качку, мы шли переменным курсом, и время нашего прибытия все больше откладывалось в неопределенность. Единственным прибором для определения местонахождения судна был секстант, но и им мы вторую неделю не могли воспользоваться из-за нечеткости горизонта.
Юра слизнул с пальца несколько прилепившихся к коже икринок и задумчиво посмотрел в иллюминатор.
– А если палуба треснет, и пароход расколется на две половины… нет, ну я так, чисто теоретически, сколько мы продержимся на плаву?
– Тьфу, типун тебе на язык! – отозвался Гафаров и посмотрел на меня, словно ожидая поддержки.
Я задумчиво дожевал бутерброд и увлажнил горло глотком рислинга. Мне вспомнилась поговорка «упрежден, значит, вооружен».
– Смотря, какая половина! – авторитетно ответил я. – Учитывая место разлома, носовая часть долго не продержится. Сахар из трюма быстро вывалится или вымоется, вода через вентиляционные патрубки заполнит второе дно, внутренние переборки долго не выдержат. На мой взгляд, часа три – четыре протянет, не больше.
– А кормовая часть? – с надеждой спросил Гафаров.
– Здесь все зависит от искусства капитана. Переборка машинного отделения сделана прочней. К тому же корма остается управляемой. Если дать задний ход, чтобы снизить давление воды… Думаю, сутки, как минимум, протянуть можно. А то и больше. От погоды зависит. Так что в носовую часть лучше не ходите. Чтобы артелка оставалась в нашем распоряжении.
– Нет, кроме шуток, – сказал Алик. – Сколько времени надо спасателям, чтобы добраться до нас?
– А действительно, сколько? – присоединился к нему Юра.
Икра закончилась, вино тоже. Последнюю икринку и крошку хлеба я выдвинул на середину стола, но Ваську пока предусмотрительно не вызывал. Кто знает, вдруг эту карту удастся разыграть еще раз?
– Вот это, парни, самый сложный вопрос. Если поблизости есть другой пароход, добраться до нас можно довольно быстро, за несколько часов. Но вообще-то мы в стороне от традиционных морских путей. До берега, как минимум, неделя хода. Сомневаюсь, что вертолет может одолеть такое расстояние. Да и не слыхал я о вертолетах, которые способны взять на борт тридцать пять человек. К тому же нас еще найти надо.
– Что значит, найти? – напрягся Гафаров.
– Да мы уже вторую неделю идем по счислению, – признался я. – Горизонт плохой, звезды сажать некуда, точное место определить невозможно. В конце каждой вахты мы просто отмечаем на прямой линии очередные сорок миль, и все. А сколько раз мы курс меняли, чтобы качку уменьшить, плюс ветер, течения… За это время легко могло отнести миль на пятьдесят, а то и на сто в сторону. Знать бы, в какую.
– Это называется – приехали! – Гафаров в сердцах вскочил с места. – А у меня, корефаны, для вас тоже неприятное известие. – Все банки с икрой уже на четверть пустые. Крышки больше не вздуваются, лафа для нас кончилась. Конечно, если пароход и вправду развалится… Не зря же эта крыса чертова…
– Какая крыса? – встревожился я.
– Да вчера вечером. Я на камбуз зашел, а та себе так спокойненько по перекладине у переборки чешет. Совсем обнаглели. Ну, я швабру схватил, шварк ее, она метнулась, и прямо в бак с компотом.
– И?
– Ну, компот-то холодный, она туда-сюда, выскочила и сбежала.
– Понятно, – сказал Юра, тоже поднимаясь. – Так вот почему ты сегодня от компота отказался! А нам сказать…
– Да ладно вам, – попытался успокоить друзей я, и в этот момент в динамиках прозвучал сигнал шлюпочной тревоги.
9
Минуту спустя весь экипаж, натягивая по пути спасательные жилеты, собрался на шлюпочной палубе. В руках радиста был объемистый чемодан.
– Что это? – хмурясь, спросил Пахомов.
– Так это, э-э-э, я вещички собрал…
– Отставить! По шлюпочной тревоге полагается приходить одетому в спасательный жилет, и только. Тревога учебная, нечего панику разводить. Сварка на наваренных листах на палубе действительно трескается, это, наверное, уже все знают. Но это еще не значит, что из-за этого должен развалиться корпус. Но и на авось полагаться не будем. Поэтому мы с де… со старшим механиком, то есть, продумали превентивные меры. Сейчас вся команда, за исключением женщин, конечно, под руководством штурманов займется стяжкой парохода канатами. Приступить к работе!
Решительный тон капитана мне понравился. По правилам хорошей морской практики, худшее из всех действий – это бездействие. И в решении Пахомова, по крайней мере, проглядывала какая-то логика. Хотя я сильно сомневался, что несколько стальных и синтетических канатов могут серьезно повлиять на прочность корпуса.
По швартовому расписанию место третьего помощника капитана на полубаке, поэтому я сразу направился в носовую часть. За мной следовали матросы с боцманом, и Юра со своим подвахтенным. У разлома мы помедлили. Сварка на одном из листов отвалилась полностью с трех сторон и освободившийся лист медленно, но заметно, перемещался взад-вперед, словно одеяло над телом ровно дышащего человека. Кусок сварки на втором листе стрельнул маленькой серебристой пулькой и упал к моим ногам. На полубаке боцман отпер двери форпика, в котором хранились канаты, и мы взялись за работу. Гафаров сразу напросился добровольцем в кормовую команду. Юра должен был быть рядом со мной, но тоже исчез.
– До берега-то далеко еще? – спросил Гудков, оглядывая с высоты своего роста пенистую поверхность океана. – А если на шлюпке добираться?
– Держи канат, шлюпочник, – сердито оборвал я.
Главное было – не допустить паники. Особенной надежды на шлюпки в бушующем океане у меня не было. Гораздо больше шансов на выживание дают надувные спасательные плоты, но все они находились на палубах надстройки, отчего на полубаке я чувствовал себя особенно неуютно. Я изо всех сил подгонял моряков и хватался за работу сам. Мы протянули по четыре каната с каждого борта до середины парохода, к месту разлома, и передали их кормовой команде, чтобы оттащить обратно на нос канаты, притянутые с кормы. За нашими действиями наблюдали капитан и старший механик, обсуждая, что будет, если сквозь листы и палубу просверлить дырки и притянуть листы к палубе болтами.
Щель расширялась.
И тут я увидел Юру. С пакетом в руках.
– Евсей Кондратьич, – позвал он деда.
– Да погоди ты! – отмахнулся тот. – Потом. Не видишь, я занят.
Юра пожал плечами и отошел в сторону.
– Ты где был? – спросил я. – Берись за канат. Да брось ты этот пакет! Что там?
– Ладно.
Юра опустил тяжелый пакет на крышку трюма, бумага разошлась и сквозь нее посыпались электроды.
Дед повернулся к нам, и его лицо, а затем шея и даже руки начали медленно наливаться краской.
– Вот, – сказал Юра, – я случайно, тали в кладовке доставал, и обнаружил…
10
Атлетизмом мы больше не занимались. Юру я видел по большей части мельком, за обедом. После вахты он вооружался сварочным аппаратом и наваривал новые и новые заплаты поверх ненадежных листов. Мы благополучно добрались до Японии, продуктов стало в избытке и, по правилам того времени, съесть мы их должны были до возвращения в Союз. Судовой кок вместе с буфетчицей уговаривали едоков взять еще по одной порции. Экипаж ходил сытый и подобревший. Мы удивлялись гигантским, размером с арбуз, но совершено безвкусным японским яблокам, жирным бройлерам, вместо воблы посасывали сушеных каракатиц и кальмаров. О трещине не вспоминали. Об электродах тоже.
Через несколько дней мы выгрузили сахар в Хайфоне и пришли во Владивосток. Экипаж расформировывали. Я складывал чемодан, когда ко мне в каюту заглянул Гафаров.
– Капитан икру потребовал, – сказал он.
– Ну, и?
Гафаров вздохнул.
– Я попробовал банку подогреть, как ты советовал. На плите.
– А! – вспомнил я. – И как, расширилась?
– Хрена! Вот, посмотри, какая фигня получилась.
Он, как маг из коробочки, извлек из-за спины банку икры, снял крышку и показал на жидкую темно-серую кашицу. Я обмакнул в нее палец, слизнул плотно облепившую его субстанцию, скривился и соскреб остатки на середину стола. Ваське на память.
– И чего мне теперь делать? – растерянно спросил Алик.
Я подумал.
– Ты уже назначение получил?
– В общем, да. Сейчас иду в отпуск, а через месяц вернётся «Артемск», так меня на него.
– А капитан?
– Его, я слышал, назначают на «Находку».
– Значит, он тобой больше не будет командовать?
– Ну, не будет…
– Ну и плюнь, – сказал я. – ничего он тебе не сделает. На спор?
Сделка
1
Иногда ужасно не хочется идти на компромиссы. Даже в самых пустяшных, ничего не значащих обстоятельствах. Что само по себе глупо. Но разве не из таких глупостей состоит вся наша жизнь?
Конечно, мне надо было предложить капитану присесть. Но шел второй час ночи, мне отчаянно хотелось спать, и я понимал, что, если Яков Наумович Штейн сядет в удобное кресло, беседа, а скорей монолог, на который я пытался не отвечать вообще, растянется на неопределенное время. А утром, которое я собирался потратить на прогулку по Копенгагену, все мои лучшие душевные качества окажутся в глубокой дреме. Зато проснутся самые темные, сдерживаемые в узде силы, и я буду хмурым, раздражительным или просто злым. Между тем операция, которую я собирался провернуть, требовала особого душевного настроя и спокойного расположения духа.
Но сказать об этом капитану я не мог. По уставу, на стоянке вахтенный штурман торгового флота имеет право на отдых в ночное время, что подразумевает возможность спать, не раздеваясь, чтобы в любой момент быть готовым к любым непредвиденным обстоятельствам. И я не знал, относится ли к ним желание подвыпившего капитана поговорить по душам. И даже то, что в подобном состоянии я видел капитана впервые, меня не насторожило. Поэтому Яков Наумович, невысокий и круглый, с лицом, удивительно похожим на лицо моего любимого артиста Леонова, стоял надо мной, привалясь плечом к шкафу, и дышал свежим перегаром.
– Иногда кажется, что личные качества не так уж важны, – неспешно продолжал он. – Главное, быть не хорошим человеком, а хорошим специалистом. Но, если вдуматься глубже, все не так. Мы же не роботы. У нас у всех свои слабости. Хорошему человеку, который никогда не подведет в трудную минуту, простить можно многое, даже, если это идет вразрез с нормами или уставом, или в отношениях с женщинами… вы не согласны?
Я неопределенно пожал плечами, не очень понимая, к какой категории капитан относит меня. Вообще, капитаны – люди особенные, и это не фигуральное выражение. Нельзя же сказать, что генсеки, президенты или премьер-министры люди обыкновенные. Безграничная власть перемалывает душу человека, накладывает на нее неизгладимый отпечаток, какую-то сумасшедшинку. А что может быть безграничнее власти капитана в море?
Штурманскую жизнь я начинал с капитаном Бурковым. Всегда подтянутый, педантичный, службист до мозга костей он требовал от штурманов неукоснительного выполнения устава в любых мелочах, особенно в отношении одежды. На вахту и в кают-компанию приходить разрешалось лишь в полном форменном облачении, с белой рубашкой и галстуком. На мостике, с которого в море Бурков почти не сходил, любые разговоры были строго запрещены, а в штурманскую рубку вахтенный штурман мог заскочить лишь на краткий миг, чтобы нанести на карту очередные координаты по пеленгам маяков. Самым большим преступлением было распитие спиртного. Бурков был ярым трезвенником. Говорили, что он пришел к нам после длительного лечения от белой горячки. Моряк старой закалки, к новинкам техники Бурков относился с большим подозрением и считал, что нет ничего надежнее зоркого морского глаза и чуткого морского уха.
Проводя судно по Ирбенскому проливу в густом тумане, он, презрев локатор, взялся определять место по радиопеленгатору, на слух. Запуганный старший помощник не решался указать на несусветность решения прямого начальства и стоял на крыле мостика, с которого едва проглядывала носовая мачта. Капитан, не покидая штурманской рубки, с наушниками на голове, давал указания рулевому. Судно дернулось. Бурков продолжал командовать. Старпом увидал, как из вентиляционных патрубков на палубу побежала вода, и, удивленный странностью происходящего, позвонил в машинное отделение. Ему ответили, что ничего не предпринимали. Наконец, он решился сообщить о воде капитану. Бурков нанес на карту определенное им новое место положения, приказал рулевому повернуть еще на двадцать градусов влево и, только услыхав, что судно не слушается руля, разъяренный, выскочил в рулевую рубку. Некоторое время он молча вглядывался в потоки воды на палубе, затем подошел к судовому телеграфу и перевел ручку на «Стоп». Как выяснилось, последние двадцать минут судно с работающей машиной стояло на камнях. Пробоина протянулась по всему корпусу на восемьдесят метров. Капитана отдали под суд.
Следующим моим капитаном был Житков. В юности он мечтал стать морским офицером, ходить в позолоченных погонах и с настоящим кортиком. Конкурс в военно-морское училище был огромный. Один из доброхотов объяснил ему, что главная трудность – правильно определить на медицинской комиссии знаки по цветовой таблице, в которой все на самом деле не так, как кажется на первый взгляд. Всю ночь Житков зубрил добытый тем же доброхотом список знаков. Наутро с красными от недосыпа глазами он смотрел не на разноцветные изображения, а только на номера страниц, отвечал по памяти, был признан дальтоником и непригодным к морской службе. Разобравшись в чем дело, он начистил доброхоту физиономию, легко поступил в мореходное училище торгового флота и навсегда невзлюбил любые уставы и регламентации. Штурманы капитана обожали. Едва мы выходили в море, Житков запирался в каюте, наедине с ящиком водки, и появлялся вновь, когда судно уже стояло у причала. Мы возили уголь из Риги в Швецию. Однажды он спросил у меня, когда заканчивается погрузка. Я замешкался. Неловко было упоминать, что грузились мы пять дней назад в Риге, а сейчас готовимся к возвращению из шведского порта Лулео. Штурманы знали, что полагаться могут лишь на самих себя, оперативно принимали решения в любых ситуациях, и судно работало как швейцарские часы: точно, без сбоев и поломок.
Хрусталев был капитаном шагающим. Полный сил, ему не было еще сорока, он был не в состоянии усидеть или устоять на месте более двух минут подряд и постоянно перемещался по судну. В рулевой рубке он появлялся редко, всегда с неожиданной стороны. Остальные члены экипажа видели его везде и повсюду. В любой момент дверь любой из кают могла без стука распахнуться, в проеме появлялся Хрусталев, садился без приглашения, задавал ничего не значащий вопрос и, не дожидаясь ответа, исчезал. Как-то в датских проливах радист принес мне сообщение об упавшем за борт человеке. Я сверился с координатами. Получалось, что полчаса назад мы как раз прошли мимо обозначенного места. Я вызвал капитана на ходовой мостик по громкой связи. Хрусталев энергично взбежал на крыло мостика со стороны ботдека, выслушал мой доклад и невозмутимо заметил: «А, это, наверное, тот чудила, что махал из воды руками, когда мы с буфетчицей на корме стояли…».
В чем заключается сумасшедшинка Наума Яковлевича, я пока не разобрался. Одевать форму он требовал от штурманов только в родном порту, где всегда могло пожаловать пароходское начальство, к алкоголю относился спокойно, по чужим каютам не разгуливал. Работа капитана ему нравилась. В Копенгаген мы пришли из Эмпедокле, маленького порта на юге Сицилии с похожим на соду белым порошком неизвестного происхождения и назначения. Порошок засыпали прямо в трюмы по ленте элеватора, рейс ничем не отличался от других, и проблем было только две. Первая заключалась в том, что весы на элеваторе не работали и определить количество погруженного мы могли только на глазок, по осадке судна. Причем «глазок» у нас и у итальянцев значительно различался. Вторая проблема заключалась в контракте на перевозку. Контракт, коносамент по-морскому, представлял собой пять страниц мелкого, типографским способом распечатанного текста на итальянском языке. Штейн вызвал меня к себе и спросил, понимаю ли я по-итальянски. Перед заходом в каждую новую страну я и в самом деле заучивал десяток важнейших слов на местном языке и не упускал возможности блеснуть познаниями в выражениях типа «здравствуйте», «спасибо», «налейте мне еще рюмку» или «как пройти в центр города». При виде коносамента я честно признался в ограниченности моих познаний, и мне показалось, что Яков Наумович улыбнулся с особым удовлетворением.
– Вот видите, – сказал он сидящему на диване в его каюте судовому агенту, определенно не внушающему доверия щуплому человечку средних лет с бегающим взглядом, – мой грузовой помощник тоже не знает итальянского языка. Как же я могу подписать коносамент? Принесите мне заверенный нотариусом английский перевод.
– Mamma Mia! – человечек в отчаянье всплеснул руками и ожесточенно зажестикулировал. – Где же я вам возьму перевод? Сегодня пятница. К нотариусу надо ехать в Палермо. Если мы не подпишем сегодня, ждать придется до понедельника. Это такой стандартный коносамент. А кто заплатит за простой судна? Давайте я сам переведу вам коносамент, каждое слово! Чего вам бояться?
– А вдруг я подписываю сам себе судебный приговор, – непреклонно ответил Штейн. Агент умчался звонить своему начальству, а капитан поднялся в радиорубку и связался с коммерческим отделом пароходства. Его действия одобрили и пообещали разобраться. Через час, однако, мы получили новое указание: не выпендриваться и подписать коносамент, как есть.
Впрочем, все это было уже позади. Или почти позади. Ковш портового крана подхватывал порошок, предназначенье которого так и осталось для нас тайной за семью печатями, засыпал его в грузовики, и они быстро укатывали в место дальнейшего назначения. Не забывая, правда, тщательно взвесить погруженное. Палуба выглядела покрытой снегом. Порошок скапливался и на причале, но ненадолго. Каждые два часа докеры устраивали кофе-тайм, на причале появлялся трактор с грейдером и спихивал просыпанное в воду. К счастью, по ночам, как и в других европейских портах, выгрузка не велась. Работы оставалось в лучшем случае на одну рабочую смену. И у меня еще была возможность поспать часиков пять.
– Наверное, вы правы, – на всякий случай согласился я, надеясь, что уж теперь-то капитан успокоится и уйдет.
– Ага! – Штейн торжествующе ткнул пальцем куда-то вверх и чуть вбок от своего уха и удобней привалился плечом к шкафу. – Значит, в чем-то мы с вами все-таки можем найти общий язык! А то обычно вы все мои слова подвергаете сомнению. Да-да, я же вижу, даже если вы ничего при этом не говорите!
Я вздохнул и, чтобы успокоиться, незаметно провел рукой по карману, чтобы еще раз ощутить маленькую твердую выпуклость кольца с бриллиантом в полтора карата.
2
К четырем часам ночи капитан, наконец, ушел, и я рухнул в койку. Утром Штейн на завтраке не появился. Я побрился, сдал вахту, принял душ и приготовился к выходу в город. Компанию мне, по замыслу помощника капитана по политической части, должны были составить электромеханик Голубков и моторист Венькин, что меня вполне устраивало. Выгрузка шла полным ходом. Мы спустились с трапа, и Венькин предложил нашей компании сфотографироваться. Стоял июнь, одеты мы были в джинсы и рубашки с коротким рукавом.
– Классно получится, – объяснил моторист. – Мы в рубашках, а вокруг как будто снег.
Я осмотрелся. Действительно, белый порошок покрывал весь причал, и мы вполне могли сойти на снимках за заправских моржей. Маленький трактор начинал первую за сегодняшний день очистку причала.
В качестве первой достопримечательности Копенгагена мы выбрали бар с русалкой на вывеске и взяли по бокалу пива. Голубков отпил глоток и посмотрел на меня серыми и прозрачными, слегка затуманенными не сбывшейся пока мечтой глазами.
– Машины-то найдем, где посмотреть?
В середине семидесятых годов прошлого века советским морякам разрешили покупать и ввозить на не избалованную импортным товаром родину подержанные автомобили. Шел четвертый месяц с момента исторического постановления, и другой темы для разговоров среди моряков просто не существовало. Купить машину в Союзе было нереально, очереди растягивались на десять и более лет. Социальное положение владельца любого авто, даже самого древнего, резко взлетало на заоблачную высоту. Автомобильные свалки Европы быстро опустошались. По слухам, за сотню валютных рублей можно было купить шикарный, почти не проржавевший американский автомобиль десятилетнего возраста, еще не потерявший способность самостоятельно передвигаться. Впрочем, авто находилось и для обладателей в два – три раза меньшей суммы, о чем по флоту ходили настоящие легенды, которые мы охотно друг другу пересказывали. Хотя воочию увидеть хотя бы одно предложение по таким ценам мне ни разу так и не удалось.
– О чем разговор, – ответил я. – Мне стивидор подкинул кое-какие координаты, пиво допьем и двинем.
– Но чтобы тачки не такие были, как у старпома с «Порхова», – напомнил Голубков, и мы понимающе улыбнулись. Старпом с «Порхова» Черкасов, по рассказам, купил подержанную, не очень даже старую волгу, благополучно довез ее до Риги, растаможил и выехал на автопроменад перед пароходством, где, как правило, перед входом болтались ожидающие очередных назначений на судно моряки. Старпом гордо тормознул перед группкой наблюдателей, и проржавевшее днище волги, не выдержав нагрузки, рухнуло на асфальт.
Притча широко распространилась по флоту. Выводы моряки сделали соответствующие. У каждого потенциального покупателя в заначке оказывалось что-нибудь для пополнения валютного бюджета, но говорить об этом было не принято. Кто-то в каждый очередной рейс выходил с новеньким фотоаппаратом Киев, кто-то затоваривался баночками с черной икрой или распихивал по тайникам десяток – другой бутылок столичной, кто-то, что было самым опасным, еще в Союзе разживался валютой.
Автодилеры Копенгагена располагались на окраине города, добираться к ним надо было через центр. Мы, почти не отвлекаясь, проходили мимо сверкающих витрин, кинотеатров, ресторанов, музеев, и Венькин, забегая вперед, неустанно щелкал затвором фотоаппарата, пока у него не закончилась пленка. У фотоателье он попросил подождать его минутку и скрылся внутри. Нумизмат Голубков тут же приклеился к витрине с редкими монетами, а я отошел к ювелирному магазинчику. Минут через десять мы вновь соединились на улице в одну группу, как и полагалось по правилам поведения советского моряка за границей, в явно приподнятом настроении. Венькин теперь был без фотоаппарата, но мы с Голубковым делали вид, что этого не замечаем, и теперь ничто не отвлекало нас от продвижения к цели.
– Я хочу маленькую машину, – объяснял Голубков. – У меня дома, у родителей, сарайчик есть, я промерил, там четыре метра в длину, как раз тачку держать можно будет, пока в рейсе нахожусь. А так, без гаража, за месяц по винтикам растащат. У меня сосед купил жигуль, у дома на два часа оставил – так выходит, а дворников нет, антенна сломана, а на правой дверце, со стороны тротуара, четкий слет вмятины от подошвы ботинка. А маленькой машине меньше завидовать будут.
– Хозяев маленьких машин меньше боятся, – авторитетно заявил Венькин. – Но если под заднее стекло положить милицейскую фуражку, вообще никто не тронет. Да я сам и рисковать не буду, сразу продам. Мне армянин один, Ашот, десять тысяч обещал за большую машину. Я ему говорю про запчасти, а он мне, какие, к черту, запчасти! Ему главное по своему городку, по центральной улице один раз проехать, чтобы все его за рулем увидели. А потом пусть себе во дворе стоит, все равно ездить некуда. А вы какую взять хотите?
– Сейчас посмотрим, – ответил я.
Мы уже подошли к площадке. Металлический забор с панцирной сеткой поверху был украшен разноцветными флажками, ограждая несколько десятков разномастных, не первой свежести автомобилей. Еще дальше тянулось новое ограждение, за которым автомобили в гораздо большем количестве были накиданы друг поверх друга на высоту по меньшей мере двухэтажного дома. Между обеими площадками находились ворота, судя по всему, довольно часто используемые.
Толком ни один из нас в машинах, тем более в заграничных, не разбирался. Курсы автовождения длились по три месяца, продолжительности отпуска для их прохождения не хватало. Мой персональный объем знаний ограничивался самостоятельно прочитанным учебником, а практика заключалась в сидении на стуле и мысленном переключении передач. Конечно, это было лучше, чем ничего. Я представил себя за рулем синего крайслера с огромным, как взлетная площадка, капотом и уже взялся за ручку его дверцы, но вспомнил рассказ Венькина о покупателе – армянине и убрал руку. Дальше стоял фольксваген жук – его габариты идеально подходили Голубкову для четырехметрового сарая-гаража. Черная высокая машина без опознавательных фирменных знаков с кузовом пикап слишком напоминала гроб, а первое впечатление всегда самое верное. Я оглянулся. От маленькой деревянной конторки к нам подходил крупный круглолицый мужчина в аккуратном оранжевом комбинезоне, из-под которого выглядывала желтая рубашка с красным галстуком, очевидно, владелец площадки. Лицо его украшала заранее приклеенная улыбка.
– Хотите посмотреть этот автомобиль? – предложил он, и я непроизвольно ответил, что она похожа на гроб (it’s like a coffin).
– Would you like coffee? (Вы хотите кофе?) – удивился он, и я спохватился.
– Ну что вы, вам послышалось. Мы хотим купить три машины.
– Три машины?!
Улыбка с лица владельца площадки сползла, и он растерянно оглянулся, очевидно, начиная подозревать, что на него совершает налет банда автомобильных гангстеров. Может быть, мы и в самом деле производили такое впечатление, особенно Венькин. Сложение у него было под стать продавцу, но мне трудно было бы представить галстук на его мощной шее, сразу переходящей в небольшую, наголо выбритую голову, украшенную далеко разнесенными ушами-локаторами и широким приплюснутым носом.
– Чего продавец-то говорит? – спросил он.
– Радуется, что ему достались такие хорошие покупатели, – объяснил я мотористу. – Скидки обещает.
– Скидки – это хорошо. Мне крайслер понравился. Только надо договориться, чтобы в придачу дал запасные колеса и еще запчасти.
Продавец понемногу успокаивался. Он, должно быть, вспомнил, что мы находимся не в салоне люкс, а на площадке, соседствующей со свалкой, откуда, как все больше казалось мне, и брались предлагаемые к продаже автомобили, а потому грабить нам у него нечего, зато перспектива избавиться сразу от весьма заметной части товара у него вырисовывалась весьма соблазнительная.
– Вы, наверное, поляки, – на всякий случай уточнил он и, услыхав, что мы советские моряки, облегченно вздохнул. – Ну, тогда, панове, я полностью к вашим услугам.
Электромеханик Голубков попросил открыть капот жука и долго всматривался в хитросплетение шлангов, механизмов и проводов, пока не отыскал коробку с предохранителями и удовлетворенно покивал головой. Предохранители были на месте. Венькина больше заинтересовал багажник крайслера, который открывался прямо из салона. Раз за разом он дергал скрытую на полу возле водителя ручку и с восхищением наблюдал, как крышка багажника самостоятельно поднимается вверх.
– Да Ашот мне за один этот рычажок тыщу добавит! – наконец, подытожил он.
Меня больше привлек форд мустанг. Размером он проигрывал крайслеру, но это была солидная машина с благородным экстерьером дикого покорителя прерий и потрясающе красивым, нестандартно обшитым кожей рулем. На желтую, совсем свежую на вид кожу была нанесена искусная татуировка в виде извивающегося дракона, внутреннюю часть оплетки украшали разноцветные, похожие на драгоценные, камешки. К остальным частям автомобиля прежний хозяин относился с заметно меньшим интересом. Краска снаружи облупилась и определить изначальный цвет авто не представлялось возможным, но прямой ржавчины не было, по корпусу кто-то, скорей всего сам владелец площадки, уже прошелся наждачной бумагой и даже зашпаклевал и загрунтовал сомнительные места, но это меня беспокоило меньше всего. Краски для металла на судне хватало, и я был уверен, что за время перехода сам или с помощью кого-либо из матросов выкрашу машину так, словно она только что вышла из салона.
– А как движок? – на всякий случай поинтересовался я.
– Идеальный! Хотите тест-драйв? Прошу!
Продавец гостеприимно распахнул передо мной водительскую дверцу, а сам забрался с пассажирской стороны на широкий диван, заменяющий привычные сидения, и завел движок. Мустанг довольно заржал, и я стал лихорадочно вспоминать отработанные на стуле движения. Под ногами должно было быть три педали – тормоз, газ и сцепление, но в этой машине их оказалось всего две. Или я что-то позабыл, или продавец пытается вдуть мне авто с отсутствующей частью. Дальше – больше. Под правой рукой должна была оказаться ручка передач, но и она отсутствовала! О каком тест-драйве тут можно говорить? Я выразительно посмотрел на продавца, но он истолковал мой взгляд по-своему.
– Это американец! Все на руле.
Продавец перевел рычажок на колонке руля, и отпущенный с привязи мустанг двинулся вперед. Прямо на жук Голубкова. Я нажал на педаль. Это было инстинктивное движение, то ли в надежде затормозить, то ли в поиске точки опоры для тела перед неизбежным ударом. Пришпоренный мустанг взревел во всю мощь пятилитрового движка, прыгнул на жука, вгрызся в него зубами бампера и застыл. Капот мустанга открылся и поднялся вверх, полностью перекрыв панораму происходящего перед нами.
Быстрее всех отреагировал хозяин стоянки. Судорожным движением он перевел ручку скоростей на паркинг, выдернул из зажигания ключ и откинулся на сиденье. Некоторое время он сидел, как в столбняке, по его лбу катились крупные капли пота. Потом он повернулся ко мне, и я, поежившись, убрал ногу с педали.
– Что это было?
Странный вопрос продавца вывел мой мозг из ступора, переключив его в привычную область решения нештатных ситуаций, коими в полной мере изобиловала жизнь штурмана торгового флота. Самой излюбленной палочкой-выручалочкой для объяснения непоправимых происшествий являлась ссылка на форс-мажор. Сорвало с борта и разбило шлюпку или расколошматило плохо закрепленный груз в трюме и надо определить виноватого, – штурман составляет морской протест на непреодолимые силы природы, на неподвластную человеку силу. Конечно, если по всем сводкам погоды стоит штиль под безоблачным небом, убедить кого-либо в том, что судно оторвало от причала ветром, невозможно. А вот заявить, что во всем виновато слишком быстро и близко проходящий пароход под либерийским флагом – вполне. Находить объяснения убедительно и быстро считалось особым искусством. И правило номер один гласило, что инициативу следует брать в свои руки.
– Зачем вы это сделали? – спросил я, прикидывая, во что может вылиться вся эта история.
– Я?! – от возмущения мой визави, казалось, лишился дара речи.
– А разве не вы завели машину и повернули вот эту ручку? Да еще усадили меня за руль, даже не спросив, умею ли я водить и есть ли у меня вообще водительские права? Которых, кстати говоря, у меня нет!
– Но я, но мы… Мы должны вызвать полицию!
Лицо и шея продавца стали наливаться краской, я распахнул дверцу и вышел наружу. Упоминание полиции мне не понравилось. Можно было не сомневаться, что продавцу на родном датском языке объясниться с блюстителями порядка будет несравненно легче. Сама разборка могла растянуться на несколько часов, а выгрузка белой итальянской субстанции подходила к концу, и мне уже теперь следовало возвращаться на судно. К тому же нас постоянно накачивали лекциями о том, что злодеи-капиталисты только и ищут повода, чтобы скомпрометировать советского человека и заставить его продать родину. А мне, после того как мое кольцо с бриллиантом осталось в ювелирном магазине, продавать больше было нечего. Но, прежде всего, следовало разобраться, что же произошло.
От удара жук отбросило назад, к сверх длинному капоту крайслера. В тот самый момент, когда Венькин, по примеру Голубкова, решил посмотреть, на что похож двигатель. Я увидел моториста, медленно поднимающимся с асфальта. На его виске проступала сочащаяся сукровицей царапина.
– Живой?
– Да чо мне сделается… Вот, висок слегка цепануло, когда падал. Да хрен с ним!
– Стой! – приказал я. – Этот мудила хочет вызвать полицию. Вся надежда на тебя. Надо сделать вид, что тебя трахнуло по-настоящему, и ты встал в шоке, но теперь тебе опять становится плохо. Сумеешь?
– А то!
В этот момент продавец, вспомнив, что ему тоже не мешало бы взглянуть на повреждения, присоединился ко мне, и Венькин начал представление. Он театрально поднял руку ко лбу, коснулся кровоточащего виска, закатил глаза вверх, зашатался и, цепляясь за крайслер, начал медленно сползать на асфальт.
– Help! – крикнул я, кидаясь на помощь, и продавец подхватил моториста с другой стороны. Мы бережно опустили Венькина так, чтобы он сидел, прислонясь спиной к машине, и я с укором посмотрел на продавца.
– Ambulance? – предположил он. Теперь в его голосе не было прежней, как при упоминании о полиции, уверенности. Стоимость оплаты лечения могла оказаться куда выше цены нескольких помятых автомобильных крыльев. Месяцем ранее мы всей командой наблюдали, как при погрузке металла в Генте одному из рабочих в трюме слегка защемило указательный палец, и из него закапала кровь. Случись такое с нашим грузчиком, он бы засунул палец в рот, облизал, проговорил вслух несколько крепких магических слов и продолжил работу. Бельгиец, очевидно, магических слов не знал. Он позвал бригадира, вся бригада из десяти человек и крановщик бросили погрузку, в порт вызвали скорую помощь, после прибытия которой в трюм спустили носилки, пристегнули к ним раненого докера и краном осторожно вынесли наружу. Все это время раненый лежал, не шелохнувшись, и держал палец, уже забинтованный медиками, вертикально вверх. Но я наблюдал за его лицом. Оно выражало абсолютное счастье и безмятежность. Вся процедура заняла не менее часа, все это время он был в центре внимания, а впереди еще ожидала отлежка в больничной палате и немалая медицинская страховка. Удовольствие от передышки получили и остальные докеры. За исключением стивидора. Начальник всегда виноват.
В нашей ситуации начальником был хозяин площадки.
– Кто оплатит медицинскую страховку? – в свою очередь спросил я.
– Но вы… – продавец стал заикаться, краска полностью отлила от лица, и я забеспокоился, что сейчас он начнет говорить об адвокате, и весь мой план провалится безвозвратно.
– Давайте подумаем о компромиссе.
– Compromise! Yes! That is good!
– Вот и хорошо, что гуд. Мы купим у вас эти машины, но так как они теперь битые, вы дадите нам хорошую скидку. Сорок процентов. А потом мы поедем на судно, там у нас есть доктор, и мы забудем о происшествии. Договорились? Deal?
Продавец вновь начал краснеть. Возвращение к привычной теме оживило его, и он вывел на еще влажном от утренней росы вертикально стоящем капоте мустанга цифру 10. Венькин поднялся, зашатался и вновь начал заваливаться набок. Я исправил единицу на тройку. Продавец заменил ее на 2. В конце концов, мы сошлись на двадцати пяти процентах, пожали руки, и продавец, подводя черту, захлопнул капот. Точнее, попытался это сделать. Смятый металл ни за что не хотел возвращаться на место. А одно из условий в правилах провоза автомобилей гласило, что они не должны быть битыми или ржавыми, должны иметь товарный вид и быть на ходу. Таможенники, обозленные внезапно возросшим благосостоянием моряков, цеплялись за этот пункт мертвой хваткой. Мелкие отклонения от товарного вида можно было устранить на ходу, но в этом еще надо было убедить капитана и помполита, а надежды на лояльность капитана после сегодняшней ночи у меня сильно пошатнулись. Между тем, из пробитого радиатора мустанга уже полным ходом растекалась лужа.
Досталось и жуку. Крошка фольксваген сжался между двумя американскими монстрами, словно сделав вдох, и внешне почти не пострадал. Но двери его не открывались, несмотря на все усилия Голубкова. И убедить электромеханика, что на такую мелочь и внимания обращать не стоит, продавцу никак не удавалось. Я посмотрел на часы. Время приближалось к критической отметке. Маленькая вмятина на крайслере была почти незаметна, двери его открывались, капот держался на отведенном ему месте.
– Давайте, сделаем так, – предложил я продавцу. – Вы садитесь за руль крайслера, и мы все едем к нам на судно. Все равно прав на вождение ни у одного из нас нет. Там мы выплачиваем вам деньги и забираем машину, а вы гоните за следующей. Я постараюсь максимально задержать отход судна. Часа четыре я вам гарантирую. Если вы успеваете пригнать эти или такие же машины в приличном состоянии до нашего отхода, мы покупаем и их. Deal?
Некоторое время продавец еще сопротивлялся, доказывая, что не может бросить продажу в разгар рабочего дня. Но потом вспомнил, что за два часа нашего пребывания на площадке ни один другой покупатель так и не появился, махнул рукой, загрузил во вместительный багажник крайслера старые покрышки и еще какие-то железяки, уселся за руль, и мы покатили в порт.
Я как старший группы и Венькин в качестве пострадавшего и как будущий владелец авто сидели на переднем диване, рядом с водителем. Теперь мы расслабились и с удовольствием рассматривали попутные машины, обсуждая их достоинства. Точнее – недостатки. Мелкие и невзрачные, они не шли ни в какое сравнение с огромным крайслером. Видимо, догадавшись, о чем идет речь, продавец указал на небольшой сааб перед нами:
– Хорошая машина. Экономичная очень. Только восемь литров бензина берет на сто километров. Не то что – американские.
– А эта как?
– Ну, литров двадцать, наверное, будет. Она для богатых. Американцы экономить на бензине не привыкли.
– Мы тоже, – успокоил я. – Главное – удобство.
Удобств в машине хватало. Мы медленно ехали по запруженному автомобилями центру, то и дело надолго застревая в пробках. Пожалуй, слишком надолго. Я забеспокоился и посмотрел на часы. Время поджимало.
– Надо же, – удивился Венькин, – как двигатель тихо работает.
Я прислушался.
– Действительно, не слышно. Да и вообще стоим почему-то.
– Черт! – продавец ударил по рулю ладонью. – Наверное, бензин кончился. Зря мы на эту тему заговорили.
– А что же вы сразу не посмотрели, сколько бензина?
– Да смотрел я. Стрелка показывала, что должно хватить. Да вот, она и сейчас показывает!
– Так, может, мотор сломался?
– С чего бы ему ломаться, – запротестовал продавец. – Сейчас посмотрю, разберусь.
Он включил аварийные огни, вышел из машины, открыл капот и уставился на двигатель. Мы вышли следом.
– Вот что, – сказал я. – Нам срочно надо на судно, мы больше не можем ждать. Подъезжайте к нашему причалу, и все решим. А пока мы пошли.
3
Выгрузка заканчивалась. Ковш поднимался из трюма с большой задержкой, видимо, субстанцию понемногу выгребали из последних закоулков. Судно уже высоко возвышалось над причалом, парадный трап круто вздымался вверх, на его верхней площадке стоял капитан.
– Наконец-то, – саркастически произнес он, – у нас появился грузовой помощник. Специалист по всем ситуациям. Настоящий джентльмен. Любопытно, что вы скажете на этот раз.
Что-то было не так. Над головой ярко сияло солнце, по причалу с ворохом бумаг расхаживал улыбающийся стивидор, более умиротворяющую картину трудно было представить. Но у меня под ложечкой, то ли от пропущенного обеда, то ли от неприятного предчувствия неприятно засосало. Голубков и Венькин, старательно прикрывающий ссадину на виске, как можно более незаметно проскользнули мимо.
– О чем вы, Яков Наумович?
– И вы еще спрашиваете! – Капитан воздел взор к безоблачному небу, словно призывая его в свидетели, и, видимо, ободренный поддержкой, обрушил объединенный гнев на меня. – А разве не предполагается, что грузовой помощник должен следить за грузовыми операциями в порту?!
– Так я и слежу. Сейчас вахта старпома, он не хуже меня в грузовых операциях разбирается. Да и что с порошком сделается?
– А вот вы его спросите!
В этот момент донельзя довольный стивидор, жизнерадостный мужичок лет пятидесяти с крупным, пробитым мелкими кровяными жилками носом, попыхивая вонючей коричневой сигариллой, поднялся к нам на борт и, стараясь придать лицу озабоченное выражение, потряс исписанными чернильным карандашом тальманскими расписками.
– Хорошо, что вы оба здесь. Я все еще раз перепроверил. На борту осталась сущая ерунда, на пару грузовиков, не более. У нас весы точные. Двести пятьдесят тонн не хватает. Грузополучатель очень расстроен, такого у нас еще не было. Давайте, будем подписывать акт.
– Что значит, не хватает, – возмутился я. – Вы что, считаете, мы эту дрянь по дороге съели? И какой акт, перевозчик не несет ответственности за количество погруженного в Италии.
– Ошибаетесь, чиф. Я уже объяснил капитану. В коносаменте черным по белому на ясном итальянском языке сказано, что перевозчик напрямую отвечает за качество и количество перевезенного груза. К качеству у нас претензий нет. А вот стоит груз, к которому вы так пренебрежительно относитесь, между прочим, 900 долларов за тонну!
Капитан испепелял меня взглядом. Сумма получалась огромная, заметно превышающая стоимость фрахта. Без серьезных последствий для капитана, а, стало быть, и для меня, пройти такое не могло. При разборке в коммерческом отделе пароходства легко откажутся от указаний, переданных нам по телефону. Слова к двумстам тысячам долларов не подошьешь. Для нас с капитаном рейс мог оказаться последним. Срочно надо было что-то придумывать, но в голову ничего не лезло. Мне требовался тайм-аут.
– Послушайте, сэр, – сказал я. – Мне надо свериться со своими записями. К тому же, как вы сказали, в трюмах еще остался груз, и мы должны получить окончательные цифры, разве нет?
– Согласен, – на губах стивидора вновь заиграла довольная улыбка. – Только это ничего не изменит. Через полчаса я буду у вас и тогда уже никаких отсрочек! Иначе мы начнем отсчет простоя судна по вине экипажа.
Еще раз пыхнув на прощание сигариллой, стивидор ушел в конторку на берегу.
– У вас есть ровно полчаса, – резюмировал капитан.
4
Сидя в своей каюте, я старательно прокручивал в голове всевозможные коммерческие уловки. Месяца три назад, при погрузке мешков с удобрениями в польском порту Гдыня, на борту между докерами произошла драка, которую разнимала полиция. В стране что-то происходило. Нас об этом в известность не ставили, но на берег сходить не рекомендовали. Докеры ходили нервные, привычная приветливость куда-то улетучилась. Мешки считали польские тальманы, но для контроля мы поставили своих. Счет не сходился. Я сообщил об этом капитану, и мы отправили в пароходство радиограмму о происходящем. Нам письменно ответили, чтобы мы не встревали в международный конфликт. Уследить при выгрузке в Греции за местными тальманами вообще не было никакой возможности. В результате мы не досчитались двух тысяч мешков, и… получили премии за то, что грамотно и своевременно просигнализировали о происходящем начальству. Увы, в Дании все было спокойно. Датчане с итальянцами, похоже, развели нас по полной. В том, что акция была спланирована заранее, я даже не сомневался. Надо было нанести ответный удар, но как?
В дверь постучали, и в проеме нарисовалась голова Венькина.
– Игоревич, – сказал он – а вы точно стоянку еще четыре часа протяните? Трюма-то пустые. А продавец все не едет. Может, позвонить ему, сказать, что у меня сотрясение мозга и, если он не появится, мы на него телегу накатаем?
– Накатаешь тут… Да плюнь ты, в другом месте купишь, если что.
– А на хрен ж я тогда фотоаппарат этому сквалыге… То есть, я хотел сказать, крайслер уж очень классный, да и Ашот ждет. А вдруг он у кого другого купит?
– Слушай, не до тебя… шел бы ты со своим крайслером и фото… фото… фото…
– Что это с вами? – забеспокоился Венькин.
– У тебя пленка осталась?
– Какая пленка?
– Та, на которую ты снимал сегодня. Ведь ты же снимал, не для вида щелкал?
– Ну, осталась…
– Сколько времени надо, чтобы снимки отпечатать?
– Да какие снимки-то?
– Сегодняшние! Крайслер дождаться хочешь? Тогда бросай все – и иди печатать. А мне некогда.
Бросив растерянного Венькина, я выскочил на палубу. Штейн нервно вышагивал вдоль трюмов, поглядывая как докеры метлами и лопатами доскребают остатки порошка в грузовой ковш портового крана. Я остановился рядом и крикнул бригадиру докеров, что за вертикальной металлической стойкой под названием пиллерс остались незамеченными килограммов двадцать порошка.
– Не поможет, – раздраженно прокомментировал Штейн. – Вы бы им еще пакет талька из лазарета для веса подсыпали.
– А если получится?
– Что? Тальк подсыпать?
– Не подсыпать. Ситуацию переломить.
– Как переломить? У вас что, идея имеется?
Я решил, что надо подпустить тумана.
– Не знаю еще. Только мне для этого надо сходить в конторку к стивидору, поговорить.
Штейн посмотрел на часы.
– Да он сам тут через десять минут объявится.
– Мне сейчас надо, – упрямо повторил я.
– Ну, идите…
Я энергично сбежал по трапу и пошел на поиски стивидора. Докер на причале сметал в воду просыпанные остатки порошка. Стивидор сидел на стуле перед столом с разложенными на нем бумагами и глотал какую-то жидкость из плоской металлической фляги. Увидав меня, он удивленно посмотрел на часы и убрал флягу в карман.
– Привет, чиф. Ну что, готовы подписывать? Это правильно.
– Подпишем, конечно, – как можно равнодушнее согласился я. – Только вы мне, будьте любезны, дайте позвонить сначала. Или сами звякните. Нам агента на судно вызвать надо.
– Хорошо, позвоню. А зачем вам агент, если спросит?
– Акт подписать.
– Но по количеству груза подпись агента не нужна, – стивидор нахмурился. – Какое отношение…
– Как свидетель, – прервал я. – Акт о том, что при выгрузке часть порошка просыпалась на причал и в воду, а ту часть, что была на причале, тоже в воду спихивали. Грейдером. Отсюда и недостача. Но по вине выгружающей стороны.
– Ну, это же не смешно! – стивидор аж подскочил на месте. – Вы что, хотите сказать, что мы высыпали в воду двести пятьдесят тонн груза?
– Не знаю. Цифру вы определяли сами, я не проверял. Да, чуть не забыл, скажите еще агенту, чтобы пригласил представителя природоохранной службы и прессу. Вдруг порошок вреден для экологии.
– Да кто ж поверит, что…
– А мы фотографии приложим. Я, кстати, там на первом плане буду, давно у меня фоток таких красивых не было.
Я вернулся на судно. Последний ковш выплыл из трюма, и докеры потянулись с борта вниз. Последний из них отсалютовал мне, приложив два пальца к пластиковой каске, и я с удовольствием ответил. Капитан поджидал меня наверху.
– Ну, получилось что-нибудь? – спросил он.
Я пожал плечами.
– Не знаю. Давайте дождемся стивидора с коносаментом. Посмотрим.
Боцман с матросами отправились закрывать трюмы, механики с мотористами готовили к отходу главный двигатель. Я вернулся в свою каюту и сел писать рейсовый отчет. Это всегда лучше делать по горячим следам, не упуская подзабывающиеся потом детали. Я описал сложности с погрузкой в Италии, показал, как эффективно мы выбирали курс, чтобы, несмотря на два дня штормовой погоды, прийти в порт на три часа раньше намеченного времени и сэкономить две тонны дизельного топлива. К отчету прилагались расчеты и схемы. Прошло два часа. Стивидор с документами не появлялся. Потом ко мне ворвался взволнованный Венькин. Продавец все-таки довез крайслер и началась эпопея с его погрузкой и закреплением между двумя трюмами. Я как раз разглядывал почти не помявшийся после перегрузки на самодельных устройствах автомобиль, когда к трапу подкатила новенькая ауди. Из нее выбрались стивидор и агент. В руках у стивидора был увесистый картонный ящик. Я встретил их у трапа и проводил к капитану, который последние два часа не выходил из каюты. Впустив гостей, я уже собирался откланяться, но Штейн остановил меня.
– Ну, уж нет! – сказал он. – Пусть позор падет не только на мою седую голову.
Я присел на край дивана. Стивидор опустил ящик на пол и вытер пот.
– Это презент вам от владельца груза, – сказал он. – Очень хороший коньяк. XQ. Хозяин благодарен вам за доставку груза в полном объеме. А вот и подписанный коносамент, все в порядке, никаких недостач.
– А акт о…
– Зачем нам нужны какие-то акты? – вмешался агент. – Зачем портить друг другу нервы? Мы с вами люди одного круга, нам еще вместе работать и работать. Кстати, господин капитан, владелец груза сказал, что у вас очень хороший чиф, и вообще с вами приятно иметь дело.
После ухода гостей капитан вызвал меня к себе, усадил на диван и долго молча смотрел в иллюминатор.
– Что вы им сказали? – спросил он, наконец.
– Знаете ли, у каждого могут быть маленькие профессиональные секреты.
– Но не от капитана!
Я молчал.
Подумав еще, Штейн поднялся, открыл ящик, достал литровую бутылку Henessy XQ и протянул мне. Я скептически улыбнулся. Штейн нахмурился и присоединил к моей доле литр коньяка Otard в красивой бордовой коробке.
– Ну?
– Спасибо. Я намекнул им, что мы собираемся сообщить экологам и местным журналистам, что их бульдозер столкнул в воду двести пятьдесят тонн порошка неизвестного происхождения.
– И они поверили?
– А куда им деваться было, мы же фотографии делали.
– Что?! Значит, вы все это время знали, что происходит, готовились к этому и ни слова… А тогда, ночью, даже сесть мне не предложили!
– Мне вернуть? – спросил я, протягивая бутылки назад.
Судно отдало швартовы и вышло в море. У каюты меня поджидал расстроенный Венькин.
– Что, колеса отвалились? – полюбопытствовал я.
– Да нет, с колесами в порядке. Спасибо вам. А вот с фотками…
– Какими фотками?
– Да теми, что вы просили. Я уже и растворы все развел, и увеличитель приготовил. Да пленка засвеченной оказалась. Уж извините.
Офугенная женщина
Кому-то нравятся русские, кому-то китайцы или жители Берега слоновой кости – и ничего с этим не поделаешь. Кате нравились югославы.
Но лучше все по порядку.
Сама Катя походила на одуванчик в пору цветения. Русо-рыжие, с легкими завитками на концах волосы постоянно стремились вверх и, казалось, готовы были разлететься невесомыми парашютиками от малейшего дуновения ветерка. Она пыталась прижать, придавить непокорную поросль повязкой-бандажом, но удавалось это лишь отчасти. Парашютики прикреплялись к голове-чашечке с тонким, полупрозрачным и оттого всегда розовым носом. Держалась голова на тонкой, как стебелек, шее, незаметно переходящей в такое же легкое стебельковое тело. Ветер судьбы так и переносил это неземное создание по жизни. Пока не закинул Катю на железный плавучий остров. Остров под названием «Иркутслес».
Судно перевозило лес из Ленинграда или из Игарки в английские порты, но чаще перемещало по свету, что подвернется и куда придется: уголь, целлюлозу, удобрения, зерно, металл и тому подобное. А потому больше подходило под определение не лесовоз, а «трамп», то есть бродяга.
Для доктора, а тем более для фельдшера, коим на самом деле являлась Катя, оказаться на таком судне в должности судового врача, по всем меркам, было большой удачей. По нормативам Минздрава, в поликлинике один терапевт полагался на одну – две тысячи местного населения. Между тем команда «Иркутсклеса» состояла всего из тридцати человек, к которым в переменчивых морских условиях не приклеивался даже насморк. Не то чтобы все члены экипажа обладали каким-то исключительным здоровьем. Просто в море организмы моряков каким-то чудодейственным образом мобилизуются, оставляя всевозможные болячки исключительно на потом, на период отпусков. Поэтому Кате по прямому врачебному назначению заниматься на судне было абсолютно нечем. Зарплата же при этом, которую в море и потратить негде, поступала исправно, плюс бесплатное питание и командировочные – два доллара в день – деньги, по советским меркам, более чем приличные.
Свалившуюся на нее удачу Катя оценивала правильно. От иллюзий по поводу собственной внешности она к двадцати пяти годам, как и пристало медицинскому работнику, избавилась давно и окончательно. Мужчины, даже неприхотливые мореплаватели, о которых в незамужней женской среде ходили самые невероятные легенды, любят глазами, но смотрят ниже шеи. Туда, где у нее почти и не было ничего. Поэтому глаза морякам она понапрасну не мозолила, с медицинскими лекциями или профилактическими затеями не высовывалась. По вечерам, скромно забившись в уголок, смотрела кино в столовой команды, а остальное время читала или отлеживалась в своей каюте, научившись спать по шестнадцать часов в сутки. Иногда, вспомнив о своем предназначении, она заглядывала в обширный, но никем не востребованный лазарет в тайной надежде, что раздастся стук в дверь и на прием попросится первый пациент.
Но пациентов не было.
В Гавре «Иркутслес» выгружал целлюлозу из Швеции. Половина груза была уже на берегу, когда профсоюз французских докеров объявил забастовку. Портовые краны печально склонили журавлиные головы и застыли. Стоял теплый и солнечный майский день, делать на судне было нечего, и первый помощник капитана, помполит, быстро разбил желающих уйти в город по группам из трех человек. Судно опустело. Я был вахтенным штурманом и, услыхав звонок, сразу вышел к трапу. Возле него стоял худощавый парень в джинсах и белой рубашке, придающей ему официальный вид.
– Я штурман с Vito, – представился он, кивнув на пришвартованный к соседнему причалу небольшой югославский «трамп» с изрядно проржавевшими бортами. – Скажите, нет ли у вас случайно на борту доктора?
– Что-то серьезное случилось?
– Да как вам сказать… С механиком проблема. Точнее, с его головой. Забыл собственное имя. Может, ваш доктор…
– Имя? – удивился я.
Югослав переступил с ноги на ногу и тоскливо посмотрел в сторону своего судна. По Сене прошел скоростной катер и оба наших «трампа» слегка заколыхало на поднятой им волне.
– Без имени мы бы, конечно, обошлись. Но он еще и должность забыл. А нам в море завтра.
Гость говорил неспешно, видимо, не слишком рассчитывая на нашу помощь, но, как человек обстоятельный, исследовал любую возможность. Я невольно проникся к нему симпатией.
– Да вы не расстраивайтесь. Не знаю, на борту доктор или нет. Пойду, проверю.
Двери кают на ключ закрывают только на стоянках. Коротко стукнув и не дождавшись ответа, я нажал на ручку. В каюте стоял полумрак, и в первый момент мне показалось, что внутри никого нет. В воздухе витал характерный женский аромат – смесь крема, духов, помады, к которому примешивался легкий запах лекарств. На обитом кожзаменителем диванчике, однако, были аккуратно разложены предметы женского туалета. Ничего примечательного, между прочим.
– Катерина… Екатерина Марковна! – позвал я.
– Да. Я здесь, – не сразу донеслось в ответ со стороны не до конца зашторенной койки. Голос звучал слабо и слегка испуганно. – Я что-нибудь пропустила? Обед, наверное? Ну, ничего, мне не очень…
– О, по такой мелочи я не стал бы вас беспокоить, – заверил я. – Но вот здесь один больной у нас образовался, у него с головой…
– Что!? И вы молчите!
В ту же секунду прикроватная шторка с легким шипением отлетела в сторону, невесомое тельце словно сквозняком смело на вытертый коврик, и я с изумлением воззрился на обнаженную, если не считать белой полоски кружевных трусиков, фигуру фельдшерицы. Виделись мы с ней не часто, разве что за ужином в кают-компании или на киносеансе в столовой команды и за два месяца ее пребывания в составе нашего экипажа едва перебросились несколькими словами. Ни малейших намеков на какой-либо взаимный интерес у нас никогда не возникало, и подобной эскапады я никак не ожидал. Все еще не отрывая взгляда от тощего тельца с едва заметными бугорками грудей, я сделал полшага назад.
– И чего уставились? – возмутилась она, даже не пытаясь прикрыться, после чего, как должное, подняла лифчик и повернулась ко мне спиной. – Помогите застегнуть. Кто он?
– Он?
– Да больной ваш. Пациент. Что с головой случилось?
– Случилось? Не знаю. – Я с трудом попадал непослушными пальцами в крохотные металлические петельки. – Да и не наш он вовсе. Югослав. Больной на голову. Имя свое забыл. Как это у вас, амнезией называется, кажется?
– О, так вы уже и диагноз поставили?
– А вы в таких вопросах разбираетесь? – мне удалось попасть в последнюю петельку, и я раздраженно отвернулся.
– Наконец-то! – прокомментировала она мою неловкость или бестактность, а возможно, то и другое вместе взятое. Неприметная серая мышка в мгновение ока превратилась во властную львицу. – Ведите!
– В таком виде?
– А, так теперь вам мой вид не нравится?
– Нет, но…
Я повернулся и обнаружил Катю уже в белом медицинском халатике. Наклонившись над пухлым медицинским чемоданчиком из коричневой кожи, она быстро набивала его упаковками таблеток.
По уставу покидать судно мне не полагалось, но Vito был рядом, русским языком ни штурман, ни потерявший память механик не владели, а в медицинском техникуме считали, что по части языкознания для фельдшера вполне достаточно знать несколько слов на латыни, и я пошел вместе с Катей. Пациент, черноволосый парень лет двадцати восьми, сидел у себя в каюте и рассеянно улыбался. Катя внимательно вгляделась в зрачки механика, посчитала его пульс и взялась за интервью. Она задавала вопрос, я переводил его на английский, штурман пересказывал вопрос на югославском, пациент отвечал и ответ перемещался по обратной цепочке. Мы выяснили, что механик не пьет и не курит, на берег сходит редко, в отпуске не был три года, в связь с женщинами не вступал уже давно.
– Как давно, – поинтересовалась Катя.
Югославский штурман посовещался с пациентом и ответил, что за время работы на этом судне – ни разу. Катя, однако, на этом не успокоилась.
– А до того? Спросите его, может ли он вспомнить, когда это было последний раз, с кем и как?
Югославы опять затеяли разговор между собой, и я заметил, как в его процессе улыбка сползла с лица пациента, зрачки расширились, а тело глубже вдавилось в спинку дивана. Очевидно, эти признаки не ускользнули и от внимания Кати. Не дожидаясь легко прогнозируемого перевода о том, что тема вызывает очевидное неудовольствие больного, она сосредоточенно покивала головой и русо-рыжие парашютики послушно заколыхались на ее голове, как ржаное поле под действием ветра. Потом Катя согнала со лба к переносице две упрямых складки, порылась в своем чемоданчике, вытащила оттуда две пачки таблеток и вынесла вердикт:
– Все ясно. У больного ярко выраженная диссоциативная фуга. Не смертельно, но это довольно сложная форма психологической амнезии. Ее вызывает сильное психологическое расстройство, какое-то неприятное воспоминание, вероятно, как-то связанное с отторгнувшей его женщиной. Пусть выпьет одну красненькую и две белых сейчас, и мне надо будет понаблюдать за ним полчасика. Потом прием таблеток надо будет повторять каждые три часа. Постепенно он все вспомнит. За исключением, кстати, процесса лечения.
– Постепенно – это как? – уточнил я.
– Ну, не знаю… Недели за две. Или за месяц. Как пойдет.
– Две недели! – югославский штурман в ужасе схватился за голову. – За две недели у меня самого психологическое расстройство начнется. У второго механика жена рожает, он сегодня отпросился и улетел на неделю. А нам уходить завтра! У нас жесткий график. Кто двигатель запустит? Где мне ему замену искать? И что – совсем, совсем ничего сделать нельзя?
– Может, какое-то альтернативное лечение есть, нетрадиционное? – предположил я. – Ребята хорошие, наши, можно сказать, морское братство и все такое, как не помочь?
Катя задумалась. В лице ее что-то изменилось, щеки порозовели, к переносице опять сбежали две решительные складки.
– Я могла бы попробовать. Но тогда мне надо исследовать больного основательней, в своем лазарете, да и в справочнике кое-что посмотреть. Давайте перейдем на «Иркутсклес». Только сразу предупреждаю: быстро не получится, все часа два может занять, это минимум.
Я перевел.
– Да ладно, – добавила она, взглянув на наши кислые лица, – я же буду наблюдать за реакциями, перевода мне особо не потребуется, можете со мной не сидеть. А если что – позову.
Мы вернулись на «Иркутсклес». Катя взялась за обследование пациента в просторном двухкомнатном судовом лазарете, а я пригласил югославского штурмана по имени Милан к себе в каюту. Он вытащил из прихваченного с собой пакета пузатую бутылку коньяка, и у нас сразу образовалась очень любопытная тема для разговора. О Кате и ее пациенте я вспомнил только к вечеру, когда в мою дверь постучала буфетчица и пригласила на ужин. Лазарет располагался двумя палубами выше, подниматься мне было лень, я снял с рычага трубку телефона и набрал двузначный номер. После четвертого гудка мне стало ясно, что сеанс терапии давно закончился, видимо, безуспешно, и публика, то есть наш фельдшер и ее безымянный пациент, разошлись, порешив нас попросту не беспокоить. На пятом гудке я оторвал трубку от уха и вдруг услыхал в ней взволнованный, как мне показалось, женский голос: «Алле, это кто?».
Я даже поперхнулся и отставил бокал с недопитым коньяком в сторону.
«Простите, Екатерина Марковна, что побеспокоил. Просто вспомнилось вдруг, что вы давеча обед пропустили. Поэтому осмелился напомнить об ужине. И как там, кстати, ваш пациент?».
«А вы откуда звоните, из своей каюты? Подождите минутку».
Трубка отключилась, я вернул ее на рычаги и растерянно посмотрел на Милана. Он допил свой бокал и встал. Я поднялся тоже, и в этот момент дверь каюты без стука растворилась. Катя, не спрашиваясь, деловито прошла внутрь и втянула за собой за руку пациента. Щеки судового врача раскраснелись, волосы-парашютики взмыли высоко вверх, повязка-бандаж чудом держалась на чем-то в районе затылка, что было ей очень к лицу. Она подошла к столу, плеснула в опустевший бокал Милана коньяку, выпила залпом и повернулась к нам.
– Его зовут Обрен, верно?
– Об… – я повернулся к Милану, но тот уже кинулся поочередно обнимать вновь обретшего имя Обрена, Катю, меня, снова Катю.
– Obren – that is correct! – подтвердил он. – You are super doctor!
Щеки Кати зарделись еще больше.
– Поговорите с ним. Думаю, он вспомнил все, – сказала она. – Кроме, конечно, сеанса лечения. Приведите его мне завтра еще раз на обследование – так, на всякий случай.
С этого момента я Екатерину Марковну глубоко зауважал. На следующий день забастовка докеров завершилась, Vito отдал швартовы и ушел в море, Милан и Орлен занятые, судя по всему, предотходной суетой, попрощаться к нам не зашли. Катя задумчиво гуляла по ботдеку, на котором располагался ее лазарет. К вечеру мы тоже закончили выгрузку и покинули Гавр. Вместо возвращения домой мы получили новое задание идти под погрузку на Средиземное море, и это означало, что рейс удлиняется недели на три. После ужина Катя поднялась на ходовой мостик во время моей вахты, мы вместе выпили кофе из металлической венгерской кофеварки с длинным фыркающим носиком и поговорили о медицине, об удивительных организмах моряков и об амнезии, в частности.
– Дело в том, – объяснила она, – что судно под дизельным двигателем постоянно испытывает вибрацию. А она порождает электромагнитные волны, которые намагничивают корпус и все, что на нем находится. В том числе и нас с вами. Как это влияет на мозг, точно сказать невозможно. Но когда мы выпиваем, сходим на берег, вступаем в интимные отношения – организм расслабляется и магнетизм уходит. Кстати, ты не в курсе, куда пошел Vito?
– Кажется, тоже на Средиземку куда-то. Значит, судно – не самое здоровое место для жизни? – я даже не заметил, как мы перешли на «ты».
– Если это можно назвать жизнью. Не зря же морякам полагается пенсия на пять лет раньше. Любое ограничение естественных потребностей человека ведет к психическим расстройствам, которые тянут за собой цепочку самых неожиданных болезней.
Я представил эту коварную цепочку и поежился.
– Понятно. Значит, отсутствие на судах женщин крайне вредит здоровью моряка?
– То есть как – отсутствие?
– Ну, так ведь… – я спохватился, но было уже поздно. Катя резко повернулась и ушла. Однако на следующий вечер появилась вновь, и мы побеседовали с ней почти час. С ней явно что-то происходило. Днем она больше не спала, постоянно перемещалась по всему судну и даже внешне как будто изменилась. Сначала я приписывал это просто смене туалетов, но потом понял, что только платьями метаморфозу объяснить невозможно. Серая мышка, походив в шкуре львицы, быстро превращалась в грациозную кошку. И заметно это было не только мне.
Как только известие о том, что возвращение домой откладывается почти на месяц, распространилось по судну, котировки женской части экипажа резко подскочили вверх. Легенды приобретали вполне реальные очертания. Бывшие буфетчицы, которым, по слухам, уже в отделе кадров давали понять, что их отношение к капитану должно быть особым, чтобы с главным властителем экипажа не приключилась какая-нибудь непредсказуемая фуга, порой после затяжных рейсов становились капитаншами. Остальным – дневальным, поварихам или уборщицам доставались члены экипажа попроще, но доставались же! И отбою от молодого женского населения, желающего выйти в море на любой, самой завалящей должности, не было.
На судне женщины редко держались вместе. Какой смысл было терять драгоценное время на болтовню с подругами или давать возможность выбирать в сравнении? Для успеха требовалось просто быть единственной и неповторимой. Каждое морское судно потенциально становилось быстрой и надежной кузницей невест. Проблема заключалась только в одном: холостые моряки в экипажах оказывались большой редкостью. И «Иркутсклес» в этом отношении не представлял исключения.
Осторожные, из уважения к капитану, комментарии по отношению аппетитных форм буфетчицы Надежды слышать среди моряков приходилось регулярно. Удостаивались их и две другие женщины – самая старшая, тридцатипятилетняя повариха Бася, и самая молодая – двадцатилетняя дневальная Маша. Чем ближе мы приближались к теплому Средиземному морю, тем меньше плоти скрывали от мужских глаз женские наряды. Катя чаще всего располагалась на ботдеке, поближе к лазарету, тем более что у нее вдруг появились новые пациенты. Обжег руку моторист Венькин. Ни с того ни с сего захромал матрос Басов, и оказалось, что у него в паху образовался чирей, а идти на прием к молодой докторше с болячкой у самого причинного места он стеснялся, на операцию согласился только после того, как его припугнули, что может остаться без ноги. За Гибралтаром температура в тени подскочила до тридцати градусов, и народ все свободное время проводил на как-никак продуваемых палубах. Я тоже вышел прохладиться и невольно подслушал, как один из моряков, обсуждая болезнь Басова, не без зависти высказался, что и сам бы не прочь, чтобы ему докторица пощекотала в нужном месте.
– Не свалилась бы за борт. Жалко будет, если свалится. Глянь, какая попка – такие бы ножки да мне на плечи…
Над нами, на излюбленном ею ботдеке, пряталась от солнца в тени шлюпки Катя. В мало что скрывающем купальнике она опиралась на низкий планширь руками и грудью, выставив попку в нашем направлении, и слегка двигала ею из стороны в сторону для компенсации покачивания судна. И я подумал, что кое для кого гормональные расстройства явно гарантированы.
В Алжире народ присмирел. Местные женщины прятались под паранджой, прямо в порту у нас на глазах заковали в кандалы и увели болгарского моряка, которого местный араб уговорил продать бутылку водки – сухой закон! – на берегу было грязно, жарко, противно. Нас застращали рассказами о местных порядках, и наши женщины ходили одетыми по максимуму, предпочитая не сходить на берег вообще.
Катя металась по судну и, похоже, испускала какие-то флюиды, далеко разносящиеся вокруг «Иркутсклеса». В последний день к нашему борту подошел моряк и спросил, нет ли у нас доктора. У капитана очередного «трампа» сломался зуб, острый конец третий день впивается в щеку, бедолага в мрачнейшем настроении, не ест, но обращаться к арабскому эскулапу отказывается наотрез.
– Доктор у нас имеется, – ответил я, – но зубы, по-моему, не по ее части. Хотя зубы, если подумать, тоже в голове размещаются… Ладно, пойду, спрошу.
Я хотел подняться к Катиной каюте, но, вспомнив былой опыт, передумал и просто позвонил. И сказал, что вот тут с братского югославского судна просят помочь по части…
Договорить мне не удалось. Десять секунд спустя Катя стояла у трапа с плотно набитым кожаным чемоданчикам в полной готовности.
– Куда идти?
Я представил ее моему югославскому коллеге и объяснил, что судно стоит довольно далеко, отсюда не видно, поэтому сопроводить я ее не могу, но это не беда, потому как коллега прекрасно говорит по-русски, но вот сможет ли она что-нибудь зафугачить по части сломанного зуба – вопрос другой.
– Кстати, это хотя и югослав, но не «Vito», – зачем-то добавил я, и Катя посмотрела на меня так, что мне стало не по себе.
Грузовые операции заканчивались, я пошел включать гирокомпас, затем занялся картами на предстоящий переход, и о Кате вспомнил только, когда механики переключились с берегового питания на судовой дизель, и корпус привычно задрожал, наполняя наши недоразмагниченные организмы новым излучением.
Катина каюта была закрыта, на телефон она тоже не отвечала, я спустился к трапу и благополучно излеченный от чирея в паху вахтенный матрос Басов подтвердил, что докторица еще не возвращалась. Забеспокоившись, я сошел на берег и отправился на ее поиски.
Порт был довольно большой и сине-бело-красный югославский флаг обнаружился только в добром километре от нас. Я поднялся по трапу и огляделся. На борту не наблюдалось ни единой живой души. Вторгаться без спроса в чужие владения нехорошо, но выбора у меня не оставалось. Подождав минутку, я решительно отворил дверь надстройки. Внутри стояла абсолютная тишина, словно судно было покинуто подобно «Летучему Голландцу». Я старался производить как можно больше шума, громко топал, стучал в запертые двери кают, но тщетно. Ситуация была абсурдная. Я начал дергать все дверные ручки подряд, затем решил обойти судно по открытой палубе и уже спускался по трапу, когда дверь одной из нижних кают распахнулась, и мой путь преградили два не слишком дружелюбно настроенных парня.
– Что ты здесь делаешь? – спросил один из них на английском, и я, не утруждая себя переводом, ответил по-русски, что ищу капитана.
– Капитан просил его не беспокоить. Ты кто?
Разговор все больше действовал мне на нервы.
– Да плевать мне, что он просил. Мне нужен наш доктор. Женщина. Она лечила капитану зуб. Катя.
– Ах, Катя! Доктор! – один из парней злорадно, как показалось мне, улыбнулся и ушел. Второй остался меня караулить. Минуты две прошло в молчании, затем дверь каюты за моей спиной распахнулась, и первый из парней пригласил меня войти. В просторной капитанской каюте, утопая в подушках на широком диване, сидела Катя. Ее щеки раскраснелись, она заметно похорошела, повязка-бандаж на ее голове сбилась, в воздухе отчетливо витал тонкий запах запретного здесь спиртного. На столе лежал маленький напильник.
– Почему так долго? Пойдем, – не слишком приветливо сказал я, – у нас скоро отход.
– Правда? – потянулась она и по-свойски потеребила рукав сидящего с ней рядом хозяина каюты. – Ну, вот, мой босс пришел за мной. Кажется, надо идти.
В ее голосе звучала вопросительная интонация. И капитан отреагировал мгновенно.
– Она так помогла мне, так помогла! Огромное ей спасибо. Может быть, это было долго, но надо было хорошо прокипятить напильник, чтобы не занести инфекцию. Зато теперь мой зуб, как новый! Пусть она побудет еще немного, хотя бы полчасика, я потом ее провожу.
– У нас нет ни полчасика, ни даже пяти минут. Судно отходит, нам надо срочно вернуться на борт. Пошли.
Я требовательно протянул к Кате руку, и она послушно встала.
На обратном пути Катю слегка покачивало, я придерживал ее за руку чуть выше локтя и молчал, стараясь не слишком вслушиваться в сбивчивые слова о том, что она, в конце концов, свободная женщина и ее долг врача помогать всем, чем она может, каждому пациенту, какой бы национальности он не был. И что югославы, хотя и тоже люди соцлагеря, но не такие зануды, как наши, и вообще, разве человек не вправе сам выбирать, что ему и с кем…
– Ну ладно, ладно, это я так, пошутила, – замахала она руками, когда я остановился и в упор посмотрел на нее, – не сердись. Ну не могу я ловить женихов на «Иркутсклесе», как остальные, не-мо-гу! Да и кого? Ты же меня не возьмешь, правда?
– Послушай, Катя, ты на самом деле классная девушка, можно даже сказать, э-э…
– …офугенная женщина! – подхватила она, а затем приподнялась на цыпочки, обхватила меня руками и поцеловала в шею, выше было не достать, потом расхохоталась и быстро зашагала к поджидавшему нас судну.
Я не сердился.
Последним нашим пунктом назначения перед возвращением домой был Гент, где мы загружали металл для корпусов отечественных автомобилей жигули. При маневрировании в порту мне показалось, что на одном из «трампов», чем-то похожих на Vito, развевается югославский флаг, но не придал этому особого значения и вспомнил о нем, только когда после отхода из порта обнаружилось, что нашего доктора на судне нет.
Все ее вещи оказались на борту, признаваться, что, вопреки инструкции, перед отходом из Гента полное наличие экипажа не проверили, никому не хотелось, зато вспомнили, что она любила подолгу выстаивать, опираясь на низкий планширь ботдека, и официальной версией стало ее предполагаемое в результате качки падение за борт. Для порядка «Иркутсклес» даже вернулся миль на десять назад, и весь экипаж в быстро наступающей темноте внимательно вглядывался в холодные воды Северного моря.
Я эту версию не оспаривал, и об отсутствии в ее каюте маленького кожаного чемодана с медикаментами не распространялся. А просто верил в ветер Катиной удачи. И в то, что ее парашютики обеспечат нашему доктору мягкую посадку и наши пути с ней когда-нибудь еще обязательно пересекутся.
Холостой выстрел
– Знаешь, что это такое?
Саша выжидающе смотрел на меня. На нем был заметно укрупняющий тощую фигуру просторный пиджак с накладными плечами в желто-черную клетку поверх красной битловки и зауженные коричневые брюки. Коротко стриженные волосы русого цвета, словно вздыбленные ветром, стояли затейливым хохолком. Ноги украшали замысловатые коричневые штиблеты. Наверное, именно так и должен был выглядеть спецкор очень популярного журнала «Огонек». Днем ранее он взял у меня интервью, я покатал его по Риге на новенькой девятке, потом мы часа два посидели в только-только появившемся кооперативном кафе и, казалось, сдружились навеки. Но парень он был зубастый, палец в рот не клади, и в вопросе его определенно таился подвох.
– Модифицированный автомат Калашникова, – предположил я, протягивая руку, но Саша испуганно отдернул невзрачную авторучку из поля моего достижения.
– Ты что, это опасно. На самом деле это – смотри, только тебе говорю, я расписку дал о неразглашении – экспериментальная ракетница для спецопераций. Личный подарок вашего министра внутренних дел. Я у него сегодня интервью брал о борьбе с преступностью, у вас тут разгул полный, он мне подарил. Для защиты. Подходят, к примеру, тебя грабить, ты в карман лезешь, вроде за деньгами, авторучку достаешь, жмешь на кнопку, а оттуда ракета прямо в лоб. Ну, в лоб вообще-то нельзя, убить может. И беременным женщинам в живот нельзя, а в остальные места шваркнет – мало не покажется. И звук, как у пистолета.
– А если бандюганов несколько?
– Так перезаряжается! У меня целый комплект запасных ракет. Слушай, а давай испытаем!
– На ком? – усомнился я. Мы находились на 17-м этаже Дома печати, в редакции литературного журнала, в котором я работал редактором, каким-то образом совмещая это занятие с кооперативной деятельностью, никто на нас не нападал. Куда стрелять?
– Пойдем!
Саша вскочил с места, удержать его было невозможно. Мы прошли по длинному пустынному коридору и зашли в туалет.
– Подожди, – сказал я, давай лучше на улицу выйдем, тут слишком тесно.
– Именно! – подтвердил Саша. – Обстановка, приближенная к боевой. На улице мы силу удара не ощутим, а на звук выстрела милиция может примчаться.
Туалет на нашем этаже имел г-образную форму. Саша, оставаясь в предбаннике с раковиной, выставил руку с авторучкой за угол и нажал кнопку. Прозвучал оглушительный выстрел, затем звон, воздух наполнился дымом и запахом пороха. Мы заглянули за угол. Одна из плиток над писсуаром раскололась и отлетела от стены. Или сначала отлетела, а потом раскололась, кто знает?
– Вот это удар! – восхитился Саша. – Пошли отсюда скорей, пока не застукали.
Пару месяцев спустя Саша снова объявился в Риге. На смену пиджаку пришла прошитая многочисленными карманами куртка. Плечи в ней казались еще шире, грудь выпуклей.
– У меня классный проект, – объяснил он. – Ты с семьей едешь в Америку, не переживай, всего на три месяца, и вселяешься в дом американца. Ищешь там работу, общаешься с людьми, живешь, осваиваешься. Ну, ты же советский человек, в любой обстановке выживешь. Американец – взамен – вселяется в твою квартиру. Ну, и осваивается здесь, соответственно. Мы все это дело снимаем на кинопленку и делаем кассовый фильм! Народ валом пойдет! Ах, да, забыл совсем, по проекту еще бонус полагается – десять тысяч долларов на ремонт квартиры, чтобы перед американцем в грязь лицом не ударить.
– Но почему выбрали меня? – еще слабо, не веря своему счастью, сопротивлялся я.
– Ну как же! Ты человек активный, предприимчивый, у тебя первое в стране частное издательство, интересно же, как ты проявишься среди акул загнивающего капитализма. И по-английски говоришь, как бывший морской штурман. Ведь говоришь?
– В общем-то, да… – я покрутил в воздухе рукой.
– Ну и отлично! Да, и еще… – Саша немного поскучнел. – На проект, конечно, деньги нужны для начала, немного, тысяч двести… Но если у тебя нет, не расстраивайся, я тут кое с кем поговорю.
Затея казалась мне вполне реальной. Жизнь в конце восьмидесятых менялась быстрее, чем о ней успевали думать. Саша уехал, а я в мечтах ходил по Манхеттену, создавал международную корпорацию, придумывал хлесткие и запоминающиеся фразы для кинокамеры. Что-то вроде «мистер Джонс, я предлагаю вам новый рынок на двести миллионов человек, такой шанс выпадает раз в жизни. Давайте, сделаем бизнес вместе». Или нет, лучше я скажу: «Ваши предки открывали Америку. Откроем вместе с вами для Америки Советский Союз».
Я уже видел себя полпредом огромной голодной страны с миллионами бабушек, продающих на улицах никому не нужный домашний хлам, потому что иначе не прожить на мизерную пенсию, страны, еще не знающей макдональдса, хот-догов, сникерсов, кока-колы, фордов, индукционных кухонных плит…
Семья готовилась тоже. Десять тысяч долларов для ремонта серийной трешки по тем временам были сумасшедшие деньги, жена присматривала мебель подороже, подыскивала маляров. Дети разучивали выражения типа My name is… I am from the Soviet Union.
Саша, однако, куда-то пропал, и я понял, что мечтать не вредно, вредно не мечтать. Но однажды ночью мой домашний телефон зазвонил новым, непривычно долгим и звонким голосом. Впрочем, к ночным звонкам я привык, кооперативные книги шли нарасхват, покупатели находили меня даже из Владивостока. Полусонный, я поднял трубку и услышал приглушенный огромным расстоянием голос:
«Mister Oleg? Do you have a little time to speak with me about your visit to America?»
«Of course!» – с трудом подыскивая подзабытые слова, ответил я. Мечта сбывалась. Теперь птицу удачи надо было держать обеими руками!
На следующий день мне позвонил некий Володя, как выяснилось, сосед по нашему многоквартирному дому, и предложил встретиться по поводу будущего фильма. Мы беседовали, сидя в моей машине. Володя сказал, что их организация даст денег, не разорять же мне собственную фирму, за что они хотят 50 процентов от проката фильма. И еще я должен встретиться с его шефом, к чему, собственно говоря, он и должен меня подготовить.
– Валяй, – согласился я, – готовь.
Инструкция оказалась несложной. Мне надо было понравиться шефу с первого взгляда, для чего я должен был: отвечать на вопросы уверенно, не задумываясь, знать предмет разговора и не спорить по мелочам.
Казалось, чего может быть легче?
Встреча состоялась на левом берегу Даугавы, в трехэтажном офисе, построенном, как гордо объяснил мне Володя, всего за четыре месяца. Здание еще пахло свежей краской, коридоры были пустыми, с голыми стенами, без привычных в учреждениях схем эвакуаций, плакатов с призывами к ударному труду и доски объявлений. Таблички с указаниями фамилий или должности на дверях тоже отсутствовали. Плечистый парень в черном костюме проводил меня на третий этаж, завел в просторную приемную и попросил подождать – шеф еще не прибыл.
Секретарша выглядела безупречно. Лет двадцати на вид, стройная, с высокой, плотно обтянутой полупрозрачной тканью грудью и обворожительной улыбкой. Но кофе она не предлагала. Обслуживать ей приходилось сразу двух начальников, двери в кабинеты которых располагались друг напротив друга, и к тому, что слева, судя по всему, заместителю, парню лет тридцати с маленькой бородкой и в строгом деловом костюме, постоянно рвались посетители. Периодически он, не доверяясь интеркому, энергично выглядывал из кабинета, давал секретарше короткие распоряжения, и она лихорадочно разыскивала для него какие-то бумаги на полке за ее спиной или звонила по телефону.
Я жадно впитывал обстановку. Если в этой компании, о которой я знал абсолютно ничего, сумели построить такое здание за четыре месяца, значит, они смотрят на мир иначе, чем большинство моих соотечественников, и мне очень хотелось понять, как именно.
Вычислить шефа среди посетителей мне не удалось. В приемную вошел очередной коротко стриженный крепкий парень лет тридцати пяти, одетый в джинсы и кожаную куртку, секретарь указала ему на меня, он с сомнением, как показалось мне, осмотрел мой лучший венгерский костюм и пригласил к себе.
Просторный в два окна кабинет был обставлен стандартным, но хорошего качества гарнитуром: большой т-образный стол со стульями для доброго десятка посетителей, просторная книжная полка, кресло хозяина, телефон с интеркомом. Все функционально, ничего лишнего. Ну, совсем ничего. Ни единой картины или диплома на голых стенах, ни единой бумажки на полках или столе, словно мебель только что занесли в помещение, и хозяин пока сам не знает, с какого конца к ней подходить.
Наконец, расположившись в кресле, шеф осуждающе посмотрел на меня и спросил, по какому я вопросу. Я вспомнил наставления Володи.
– По поводу фильма, на который вы обещали дать денег.
– Я? Дать денег? – удивился он. – Обычно мы не…
– Инвестировать, – поспешно подобрал я новое, еще непривычное слово. – Фильм об Америке. О том, как наш человек может выжить там, а американец – здесь. Если у него получится.
– Наш человек – это вы? И у вас все должно получится?
– Предложили мне. Я владею английским и вообще… А вам дается право на 50 процентов от поступлений за прокат.
– А инвестируем только мы?
– Так мне сказали.
– Почему же тогда только 50 процентов? Так мы не работаем. 80 на 20 при таком раскладе было бы нормально. Идет?
Мне надо было что-то сказать, и я подумал, что, если начну ссылаться на собственную неуполномоченность вести переговоры на такую тему, вопрос, скорее всего, закроется сам по себе. Саша стрелял из авторучки-ракетницы не спрашивая моего согласия, пусть это будет мой выстрел.
– Семьдесят на тридцать, – выпалил я. «Deal?» – еще хотелось добавить мне уверенным тоном, так, как я предполагал делать это в Америке с акулами Уолл-стрита, но у меня не было уверенности, что сидящий передо мной парень с приплюснутым по-боксерски носом говорит по-английски и поймет меня правильно.
– Ну, ты нахал… – шеф перешел на ты, и я подумал, что это хороший признак. – Так сколько, ты сказал, надо инвестировать?
Услыхав о двухстах тысячах долларов шеф о чем-то задумался, с тоской посмотрел на пустые полки, на голые стены и сказал:
– Деньги дадим. Полмиллиона. В кредит. Получишь в банке. Двести пятьдесят отдашь мне, остальное на проект. Кое-что и тебе останется. В общем, детали тебе Володя объяснит. Deal?
Иногда я вижу сны об Америке. Одного моего приятеля, товарища по прежней журналистской работе, пригласили на временную работу в Нью-Йорк. Он вернулся через шесть месяцев и рассказал, что каждый день у него был заполнен работой, часов по 12 в день. Остальное время уходило на то, чтобы добраться до работы и обратно, в тесную квартирку под крышей не в самом шикарном районе, поэтому кроме метро, редакции, в которой ему пришлось работать, и продовольственной лавки возле дома он практически ничего не видел.
– А Empaire State Building? А статую свободы? А…
– Я же тебе говорю, что добирался до своей комнаты и у меня ноги отваливались. Но статую свободы все-таки один раз… Ты-то, наверно, там посвободней был?
– Да как тебе сказать…
В конце восьмидесятых годов информацию черпали из различных источников, что у кого было. Начинающим журналистам на занятиях давали тесты: как отыскать в городе заезжую знаменитость, чтобы взять интервью? Мэтры пера заводили осведомителей в милиции, больницах, гостиницах.
Я начал наводить справки о компании, пообещавшей мне щедрую поддержку. Цепочка рассуждений была не слишком сложной. Кредит в банке давали только по поручению исключительно влиятельных людей. Как минимум, исключительно богатых. Таких было не слишком много. От требования сделать откат на половину кредита и вовсе попахивало криминалом. Брать такую ответственность на себя я не хотел. Меня свели с неприметным человеком в сером костюме и сером галстуке. Он долго мялся, намекая на конфиденциальность и оперативность сведений без следственных доказательств, толком ничего не сказал, но посоветовал держаться от пардаугавских подальше. Тогда я дозвонился до Саши в Москву и вкратце объяснил обстановку.
– Ну, старик, ты меня удивляешь, – ответил он. – У нас вон все Кобзона мафиози называют, как будто свечку над ним держали, так что теперь, на его концерты не ходить? Главное, ничего сам не предпринимай, я на днях приеду в Ригу.
Я ничего не предпринимал и размышлял над термином «презумпция невиновности». Кобзон не сходил с экрана телевизора в каждом доме, популярные шансоне пели «Таганка, я твой бессменный арестант», криминальная хроника печаталась на первых полосах газет, книги о ворах в законе расходились миллионными тиражами. Вскоре Саша объявился в Риге. Мы встретились днем. Осеннее солнце ярко расцвечивало порыжевшую листву и настраивало на элегический лад. Вид у Саши был взъерошенный, хохолок торчал круче обычного, глаза лихорадочно блестели. Но куртка была другая, из серой плащевки, без затей. В новом облачении Саша как-будто сжался, растерял столичный лоск, и я не сразу его узнал. Он сел ко мне в машину и сказал, что ему надо срочно возвращаться в Москву, но не хотелось бы делать это из Риги, к тому же поезд уходит через двадцать минут, и мы даже поговорить не успеем. Я повез его в Огре, на промежуточную станцию, с которой можно было подсесть на московский поезд.
Разговора не получалось. Саша нервничал, часто оглядывался. На шоссе за нами пристроилась серая волга с двумя пассажирами.
– По-моему, они за нами следят, – сказал Саша. – Ты можешь от них оторваться?
В Саласпилсе я свернул с шоссе в город, волга уехала дальше, мы немного покружили по улицам, вновь выехали на шоссе и добрались до вокзала в Огре. До прибытия поезда оставалось пять минут, а Саша все еще не приступал к главному разговору. Наконец, он вытащил из кармана авторучку и протянул мне.
– Это тебе, на всякий случай. Наверное, насчет сомнительной репутации спонсоров ты был прав. С проектом пока не все ясно, надо подождать, но волна идет, не сомневайся.
Кажется, это были именно те слова, которых я ожидал. А авторучка-ракетница должна была стать своего рода компенсацией. Я представил, где мне придется хранить опасное устройство, чтобы до него не добрались вездесущие дети, называющие меня теперь не иначе как father, с нью-йоркским прононсом, и отдернул руку.
– Наверное, тебе это сейчас нужней.
Сны об Америке мне снятся по-прежнему. Саша, по слухам, превратился в уважаемого редактора некогда очень популярного журнала, но мы с ним больше не встречались. За последующие годы я побывал во многих странах мира, по делам или для удовольствия. Иногда пролистываю книгу «1000 Places to See Before You Die», разглядываю картинки Empire State Building, Statue of Freedom и говорю себе, что вот-вот, совсем скоро посещу эти места просто так, без спонсорства, как турист, без напыщенных и никому не нужных фраз. Потом возникает реальная возможность отправиться в дорогу, но каждый я по каким-то причинам откладываю поездку в Америку на потом.
Может быть, потому, что осуществленная мечта уже не мечта.
Мечта
Люди делятся на живых, мертвых и тех, кто ушел в море.
Древнегреческая поговорка1
Волна набежала сзади, чуть слева.
Когда-то, очень давно, Петров читал о волнах-убийцах, вызревающих, по неведомому капризу природы, в недрах Атлантики или Тихого океана. Не девятый, или поддающийся какому-то математическому исчислению вал, а гигантская, среди общей толчеи волн стена воды вырастает вдруг с вздыбленными к самому небу когтями пены и беззвучным, одиночным тараном несется по поверхности. Несется, пока океан и ветер не рассосут, не развеют ее неукротимую силу. И горе тому, кто окажется на ее пути!
Однако за восемь лет, проведенных на штурманском мостике в самых экзотических закоулках планеты, ничего подобного наблюдать или слышать от других моряков ему так и не довелось. А в последующие пятнадцать лет жизни уже сухопутной, тем более. Упоминание о волне-убийце оставалось в глубине подсознания, как ни разу не востребованный файл в давно заброшенной директории. Но сейчас, когда странное ощущение заставило его обернуться, чтобы увидеть беззвучно догоняющую яхту «Мечта» гору воды, файл открылся мгновенно, в долю секунды.
Говорят, в минуты смертельной опасности перед глазами человека проносится вся его жизнь. У Петрова времени хватило лишь на то, чтобы вспомнить, что он находится не на штурманском мостике океанского лайнера, а за румпелем тринадцатиметровой деревянной яхты, бросить этот самый румпель, прыгнуть на четвереньки в кокпит и изо всех сил вцепиться в решетку пайолов. Волна обрушилась на яхту, на его дугой согнутую спину, превратив кокпит в кипящую пеной ванну, на закрытый люк во внутренние помещения, даже на зарифованный штормовой парус. На миг Петрова вжало, впрессовало в палубу. Окажись на пути волны дом, силы удара хватило бы, чтобы разнести его на кирпичи или щепки. Яхта содрогнулась. Натруженные за сорокалетнюю службу доски из красного дерева прогнулись под чудовищным напором воды, раздвинулись в сочлененьях, пропуская воду внутрь, заскрипели в полный голос, жалуясь на невыносимую тяжесть.
Но морские суда не принимают удары воды, как дом. Втиснутая в центр волны, яхта понеслась вместе с ней, выбиваясь на самую вершину. Петрову стало не хватать дыхания, он рванулся наверх, открыл глаза и увидел, что все еще находится в кокпите яхты, но сама она парит над морем, словно внезапно обретя крылья. Вокруг все так же бушевал шторм, но яхта была над ним!
Может быть, так, вместе с судном, уходят не в пучину, а ввысь, в последнее в жизни плаванье-полет моряки?
Наваждение длилось несколько секунд. Яхта сильно накренилась, соскальзывая с крутого склона, выпрямилась вновь, и волна-убийца пронеслась дальше, вперед, выискивая новую жертву. А Петров вновь вцепился в румпель, приводя яхту на курс.
Люк распахнулся, и в его проеме появился капитан «Мечты». Волосы на его голове сбились в седые космы, на щеке четко отпечатался рубец от смятой подушки. Впалые щеки покрывала двухдневная, тоже седая щетина.
– Что это было? – хрипло спросил он и закашлялся. Последние дни Кашице, отставному полковнику, не здоровилось, он больше отлеживался на нижней койке по левому борту кают-компании, на палубу выбирался лишь в случае крайней необходимости, передав управление Петрову и Паше Подникову.
– Да так, девятый вал, не удержал против волны.
Яхта, по разумению Петрова, выдержала схватку с волной-убийцей, которая уже бесследно исчезла вдали, дважды в одну воронку бомба не падает, и упоминать о волне было все равно, что рассказывать байку о морском змее. Все равно никто не поверит. А раны можно будет зализать потом, на берегу. До которого надо еще добраться.
Шторм не утихал. Волны перехлестывали низкий кормовой транец, прокатывались, не встречая препятствий, по палубе, и вода из кокпита едва успевала уходить за борт через невозвратные клапана. Берег был отчетливо виден, в бинокль проглядывались даже полоски на маяке Даугавгрива. Но мощный юго-западный ветер дул со стороны берега, навстречу, и Петров понимал, что и на этот раз яхта легла на левый галс слишком рано, ее вновь выносит мимо входных створов Даугавы в сторону Саулкрастского берега, и возвращение в Ригу откладывается на неопределенное время.
Щуря слезящиеся глаза, Кашица посмотрел в сторону берега.
– На новый заход идем? Хреново дело. Воды в каюте больше стало, помпа не справляется. А вся я, старый дурак, сглазил!
Капитан с досадой сплюнул за борт и нырнул обратно в люк, закрывая его за собой, чтобы уберечь себя и каюту от новой волны. О сглазе капитан за последние сутки упомянул второй раз.
К полуночи яхта вышла из Ирбенского пролива и на траверзе маяка Колка легла на правый галс, прямым курсом на Ригу. Двухнедельное путешествие подходило к концу. После поворота все кроме рулевого спустились в кают-компанию, и Кашица выставил бутылку Русского стандарта.
– Ну что, мужики, – сказал он. – Когда придем, наверное, некогда будет. Поэтому скажу сейчас. С командой без опыта сразу в дальнее плавание – такое у меня первый раз. Но проявили вы себя молодцом, на пять баллов. Даже Младший. Словом – за благополучное возвращение домой!
– И за Кэпа! – вставил Младший.
– Не гони волну, молодой. Тост уже был. И вообще тебе на руль заступать.
– Да ничего, там Васек сейчас.
Кашица нахмурился. С первого дня он пытался сделать из Младшего, по его выражению, настоящего яхтенного матроса, но все его усилия разбивались, как волна о каменный утес. Львиную долю поручений Младшего безотказно выполнял Васек.
«Мужики» дружно сдвинули стопки с водкой, но звона не получилось. Вся посуда на яхте была небьющейся, из пластика. Игорь, старший из братьев, прижал к уху мобильник.
– Алена, – закричал он, – привет, дорогая, это я… Что значит, кто я? Твой муж… Каких груш? Чего объелся? Связь плохая, не пойму ничего. Скоро дома буду! Васильич, во сколько придем?
– Да к утру где-то, часам к десяти-одиннадцати… Как потянет.
– К одиннадцати утра будем в яхт-клубе! Приезжай! Водилу из клиники возьми! И еще… Черт, совсем связь пропала.
Игорь сокрушенно повертел в руках телефон, даже потряс, словно надеясь вернуть пропавшую радиоволну на место, и улыбнулся, очевидно, вспоминая прерванный разговор.
– Не знаю, как вы, а я по жене точно соскучился. Алена у меня такая, с приколами, с язычком. Скажет, как отрежет. Я ей, когда рассказал, что в поход на «Мечте» собираюсь, она мне сразу: «Мечта идиота!». Здорово, правда?
– Зря ты про приход все-таки, – не одобрил Кашица и пососал незажженную трубку. – Плохая примета. И пить за приход, пока не подошли к причалу, кстати, тоже. В море у меня всегда сухой закон был. Расслабился я тут с вами что-то.
– Да ладно, Кэп, мы уже, считай, что дома. Какие там приметы!
– Эй! Сами пьете, а меня забыли? – мощная фигура Васька заполнила проем входного люка. – Уже четверть первого, где моя смена? Младший!
– А ты что руль бросил?
– Да что с ним сделается!
– Что сделается? – От возмущения Кашица привстал. Стопки и тарелка с закуской поползли к краю стола. Яхту тряхнуло.
– Блин! – заорал Васек и кинулся обратно к рулю. Толкаясь и мешая друг другу, остальные рванулись вслед за ним.
Справа по корме выбивал световую морзянку маяк Колка. Три коротких проблеска и один длинный, привычно сосчитал Петров. Небо было затянуто облаками, но в промежутках четко просвечивали знакомые созвездия. Впереди, у горизонта, угадывалось далекое еще свечение ночной Риги. И только невесть откуда налетевший ветер вытягивал по темной воде длинные белые полосы пены. Вовчик вцепился в румпель, длинный деревянный шток, заменяющий на «Мечте» более привычный круглый штурвал. Яхта накренилась градусов на тридцать, по палубе правого борта побежала вода, паруса загудели гулко и угрожающе.
– Шквал налетел? – предположил Петров.
– Если бы! – Кашица вгляделся в небо. Навстречу, со стороны Риги, стремительно набегало облако, и ночные светила, которых касались его рыхлые контуры, исчезали, словно поглощаемые черной дырой.
– Погода меняется. Что-то мне это сильно не нравится. Вот и не верь после этого приметам. Короче, грот будем на рифы брать. И стаксель поменяем – на штормовой. Сглазили, сукины дети.
2
Самым мудрым из своих приятелей Петров считал Володю. Заработав приличную по его понятиям сумму, он плюнул на формулу «деньги должны делать новые деньги», отрастил шкиперскую бородку, поменял сигареты на дорогую трубку из бриара работы Савинелли и взялся за изучение навигации. Жесты его стали вальяжными, речь неспешной, слова глубокомысленными. Помимо этого, он бросил работу, передал бизнес детям и заказал на голландской верфи роскошную семнадцатиметровую яхту «Viva» с четырьмя каютами. А на перегон ее из Амстердама пригласил Петрова.
В марине, из которой им предстояло выйти, яхта выделялась безупречностью линий и свежей краской. Володя устроился в кокпите за штурвалом, а Петров взял багор, который моряки называют опорным крюком, и прошел на бак, чтобы оттолкнуть носовую часть. Выбрав швартовый конец, он приготовил крюк, но под ним внезапно забурлила вода, и яхта самостоятельно, боком, отодвинулась от причала. Триумфально улыбаясь, Володя отключил подруливающий носовой движок. Яхта вышла из ворот марины на узкий судовой ход, и Петров спросил, где у Володи находится пеленгатор.
– Что-что? – переспросил он.
– Ну, такая штука с окуляром. Устанавливается на картушку компаса.
– А для чего это?
В голосе Володи зазвучала озабоченность. Он был уверен, что яхта оборудована под завязку и вдруг выясняется, что нет какого-то пеленгатора…
– Да чтобы брать пеленги на маяки и другие приметные знаки и по ним определять место.
– А-а, – вспомнил Володя, – точно, я читал про такие штуки. Их использовали в прошлом. А сейчас для них и места на компасе не предусмотрено. Да и зачем? Вот, смотри.
Он откинул крышку с плоского прибора и открыл монитор с красочной морской картой. В центре ее светилась яхта. Красной ниткой тянулась линия курса. Край экрана занимала табличка с текущими координатами, скоростью, указанием времени и расстояния до поворота и до конечной цели, с обозначением силы ветра, глубины под килем и еще с целым рядом непонятных для Петрова, несмотря на штурманское образование, данных. Кроме яхты на экране отражались и все остальные плавательные средства в радиусе тридцати морских миль. Как подручное средство компьютер предлагал не только информацию о направлении их движения, но и названия судов, их позывные и даже фамилию капитана…
– А если компьютер откажет или зависнет? – со слабой надеждой предположил Петров.
– Есть еще дублирующие системы, с автономным питанием. Одна в штурманской, другая в моей каюте, на ноутбуке… Да, кстати. Недавно стихотворение одно по радио слышал. То ли о пеленгаторе, то ли о навигаторе… А, вспомнил:
А обычный парикмахер Никому не нужен на…Яхта вышла в открытое море. С северо-востока дул ветер силой в четыре балла, слегка покачивало. Володя предложил поставить парус. Петров с готовностью схватился за стаксель-шкот, накинул на лебедку три шлага и приготовился тянуть канат, но Володя остановил его. Он нажал кнопку, едва слышно запел электромотор, и на носу во всей красе развернулся стаксель. Со следующей кнопки на всю двадцати пятиметровую высоту вытянулся грот. Паруса мгновенно наполнились ветром, качка прекратилась, уступив место плавному переваливанию по покатым спинам волн.
– С Богом, красавица, – сказал Володя, любовно оглядывая свое приобретение, и потянулся. – Ну, ты постой тут, посмотри вокруг, а я пока в каюту спущусь, за трубкой. Курить хочется.
Петров встал, чтобы занять Володино место за рулем, но тот уже щелкнул рычажком управления авторулевого. Паруса были наполнены ветром, авторулевой четко выдерживал проложенный на компьютере курс, электроника предугадывала любую проблему. Петрову непонятно было только одно: что делает на яхте он.
На «Мечте» подобных мыслей не возникало ни разу. Единственным действующим навигационным прибором на ней оказался тот самый пресловутый пеленгатор, маленькое оптическое устройство, выставляемое поверх картушки компаса. Петров сутками с наслаждением возился с картами, выискивал на берегу маяки, водонапорные вышки и другие приметные знаки, вел прокладку и счисление курса, выстаивал на руле без гидроусилителя ходовые вахты, всем телом ощущая, как перо руля передает усилие его рук набегающему потоку воды. И даже сейчас, когда изнуряющая качка двенадцать часов подряд расшатывала ветхую конструкцию яхты, отзывающейся на каждый новый удар волн надсадным скрипом, а для того, чтобы удержать ее на курсе, надо было изо всех сил тянуть на себя румпель, упираясь ногами в противоположную банку кокпита, в голове вновь и вновь прокручивались слышанные где-то строки:
Палубу рвет под ногами, мачту сгибает в дугу Как жаль мне всех этих, оставшихся на берегу3
Несмотря на сверхнадежный, по уверению продавца, штормовой водоотталкивающий костюм, вода все-таки нашла лазейку внутрь и противными струйками холодила ноющую от напряжения спину. Поэтому появление Паши Петров воспринял как манну небесную.
Особо впечатляюще Паша выглядел за рулем большого черного паджеро. Если бы золотая цепь на мощной шее бывшего мастера спорта по подводному плаванию была толще, с него можно было бы рисовать картину «Браток на свободе». Бритая голова идеально дополняла образ, весьма позитивно воспринимаемый в финансовых кругах. Особенно среди работников принадлежащей ему сети обменных валютных пунктов. Во всяком случае, кражи в его сети происходили заметно реже, чем у конкурентов. Свободное от зарабатывания денег время Паша посвящал экзотическим путешествиям, иногда вместе с Петровым. Идея двухнедельного похода принадлежала ему. В качестве испытания самой яхты и собственной готовности выкупить ее у подуставшего от морской жизни Кашицы. Впрочем, яхта подходила Паше не хуже, чем паджеро.
– Ты как, живой? Подменить не надо? Что случилось-то? Внутри ощущение жуткое было, но Кэп темнит, все в порядке, говорит.
– Да вот, волна здоровенная налетела откуда-то, – Петров кивнул в сторону моря. – С головой накрыла. Но яхта ничего, держится. А вот костюмчик мой не слишком герметичный оказался. Переодеться бы надо, промерзать начинаю.
– Без проблем. Куда держим?
– Пока вдоль берега. Потом надо будет уйти мористее, чтобы снова заходить со стороны Юрмалы, но намного ближе к берегу. Иначе опять не вытянем.
Передав румпель в крепкие Пашины руки, Петров спустился в кают-компанию.
Влад Решетилов лежал в гробу.
Прыгающий утренний свет из узкого иллюминатора падал на рыжую, тщательно ухоженную артистическую бородку с проседью, клином устремленную вверх, и, казалось, она живет какой-то своей, отдельной от лица жизнью. Потолок, по-морскому подволок, над головой Решетилова сочился влагой. Время от времени она скатывалась в оцинкованный тазик, который, словно рыцарский щит, прикрывал грудь Влада. Гробом на яхте называлось спальное место над штурманским столиком, выполненное в виде ящика, из которого наружу торчали только голова и плечи.
Петров скинул штормовку, стянул мокрый свитер и крепко, до красноты, растер задубевшую кожу махровым полотенцем. Переодевшись, он вспомнил о своей общественной нагрузке, доставшейся ему как бывшему журналисту, и достал с полочки видеокамеру. Отснято было уже немало, но кадры, ясно понимал Петров, были большей частью постановочные, слишком лакированные, без изюминки. Вместо приключения на видео получалась простая морская увеселительная прогулка. Вот если бы можно было со стороны снять волну-убийцу, или как яхта падает в провалы волн! Или как Паша, пристегнувшись к носовому штагу, чтобы противостоять сбивающим с ног волнам, ставит штормовой стаксель! Или, как при первой постановке паруса Младший сваливается за борт и Васек одной рукой выхватывает его обратно! Увы, в горячие минуты было не до камеры, а в штормовую погоду оптика быстро забрызгивалась водой, или запотевала и, за отсутствием гербовой, писать приходилось на простой.
В рассказе о яхте с поэтическим названием «Мечта» каждый был просто обязан поделиться своей сугубо персональной мечтой. Видеоряд должен был сделать эти высказывания контрастными и выпуклыми. В начале путешествия и в его конце. На практике, правда, пошло не так. А капитан и вовсе отказался позировать перед камерой.
– Начальник под документом подписывается последним, – весомо и немногословно заметил он. – Начни с молодых.
После первой постановки парусов главным хобби Младшего стало вылеживание на спине в носовой каюте или, если позволяла погода, на палубе. За этим занятием Петров его и застал.
– О чем мечтаю? – настороженно переспросил Младший. – А чего другие говорят? Правильней было бы со старших товарищей начинать.
– На военном совете первое слово всегда имеет младший офицер. Прошу, маэстро.
– Правда? Не знал. Ну, тогда… – лицо Младшего на миг озарилось светлой мыслью. – Хочу, чтобы в Риге началась всеобщая эпидемия кариеса! И пародонтоза.
– Это как? – опешил Петров.
– А просто. Чтобы бабок насшибать на приличный джип. Такой, как у Паши. А то у нас из четырех кабинетов два все время простаивают.
Заковыристей всех выразился Влад, выразив желание нарисовать закат, как у Куинджи.
– Погоди, – удивился Петров. – Ты же рисуешь абстракции.
Влад осторожно потрогал бородку и, убедившись, что она по-прежнему на месте, снисходительно посмотрел на собеседника.
– Мы, художники, видим мир по-своему, не так, как обычные люди. Куинджи бы меня понял.
Довольно предсказуемо высказался Паша.
– О чем еще можно мечтать на «Мечте»? Мы уже здесь – а это самое главное. И Петров был с ним полностью согласен.
Он нажал кнопку на запись и медленным круговым движением повел объектив по кают-компании. Над пустой Пашиной постелью в такт качке перемещалась страховочная веревка. Напротив, над капитаном, крепко зацепив рукой поручень, мирно посапывал Игорь. В сильную качку самое комфортное положение моряка – на спине лежа. Лежать и смотреть в потолок скучно, читать невозможно. В любой момент твое участие может срочно понадобиться в самых непредвиденных обстоятельствах. Поэтому моряки быстро привыкают отсыпаться впрок. Тем более, что сон получается неполноценным, мышцы спины и рук постоянно в работе, не давая телу перекатываться по койке в такт качке. И экипаж «Мечты», судя по этому признаку, уже превратился в настоящих морских волков. Чтобы ничего не упустить, Петров приоткрыл дверь в каюту форпика, и на крохотном дисплее отразилась вжатая в левый борт фигура младшего из братьев. Одеяло на нем было сбито до пояса, а его плечи обнимала могучая рука Васька.
Петров осторожно прикрыл дверь, подумав, что эти кадры, наверное, лучше будет вырезать.
С основной частью команды Петрова познакомил Паша. Было это в Болдераи, на территории непрезентабельной марины с разбитым асфальтом и неухоженными эллингами. Остальные участники предполагаемого похода уже прибыли, и Петров сразу распознал пышную рыжеволосую шевелюру, обрамляющую кадаврообразный череп Влада Решетилова, известного организатора камерных концертов и художника-абстракциониста по совместительству. Одну из его картин Петров совсем недавно разглядывал, ожидая приема в стоматологической клинике братьев Елисеевых. По замыслу автора, зеленое, с красными и желтыми искорками пятно должно было отвлекать от зубной боли. Сами братья тоже были здесь. Старший, Игорь, невысокий, сухощавый, с глубокими залысинами, всегда чем-то озабоченный. И младший, абсолютно на него непохожий, Олег, высокий и рыхлый, с пухлыми нежно-розовыми щеками, почти не тронутыми еще бритвой и навсегда приклеенной, как бывает у работников сферы обслуживания, улыбкой.
– А это, – представил ему Паша большого мосластого парня лет сорока, – Васек, известный ювелир. И вообще на все руки.
– Очень приятно. Я так и понял, – ответил Петров, разминая ладонь после стального пожатия ювелира.
Владелец яхты, седовласый и элегантный, как и полагается морскому капитану, в светлых брюках и фуражке с якорем на кокарде, встречал гостей на берегу. «Мечта» стояла в ряду других кормой к старому, давно требующему ремонта причалу, выделяясь среди стандартных пластиковых яхт соседей старомодным дизайном и корпусом из лакированного, потемневшего от времени красного дерева.
– По трапу перебирайтесь аккуратней, по одному, – честно предупредил капитан. – Доски подгнившие, никак не заменю, могут не выдержать.
На столе в кают-компании, занимавшем почти всю ее площадь, стояли когда-то белые, но хорошо пожелтевшие от долгого употребления кружки для чая, в тарелке посередине возвышалась горка печенья. Сиденья заменяли койки нижнего яруса. Сидеть приходилось полусогнувшись, чтобы не втыкаться головой в верхний ярус. Капитан обвел руками помещение.
– Чем богаты, тем и рады. Поход я планирую дальний, недели две занять может, подойдет ли вам такое, приглядывайтесь сразу. Под столом у нас двигатель, но им пользуемся не часто, только на отходах-заходах. Здесь, в углу, кухня. Видите шкафчик с посудой и две газовых конфорки? Еще есть носовой кубрик, там разместиться могут двое. А всего семь мест. Эта дверь в гальюн, но при таком количестве народа им пользоваться не получится. У меня там паруса хранятся, да еще ваши вещи куда-то запихнуть надо будет.
– А как же тогда по нужде? – удивился младший из Елисеевых.
– На стоянке туалеты имеются на берегу. А на ходу – очко прямого действия.
– Это как?
– Показать, что ли? – капитан сверкнул золотой коронкой. – На носу вывешиваешься за борт на рострах и – впрямую к рыбам.
– Как на бидэ. Заодно и подмоет волной, – добавил умудренный опытом Паша.
– Понятно… А навигационное оборудование какое? – поинтересовался Петров. – Ну, локатор там, эхолот, лаг…
– Разбираешься, что ли? – капитан прищурил глаза. – Какое, к черту, оборудование на пенсию купишь. Вон рация старенькая к полке прикручена, миль на двадцать тянет. Карты, конечно. И магнитный компас наверху. Ничего, сорок лет уже по морю ходим, не заблудились до сих пор. Да и яхта еще крепкая. Подтекает слегка, но держит. С каждого участника хотелось бы получить по двести латов. Если вам по карману…
– По сто восемьдесят.
– Что?
– По сто восемьдесят, – твердо повторил Игорь Елисеев. – Без удобств, все-таки.
– А… Ну, пусть будет по сто восемьдесят, раз такое дело. Так что вы решайте, а я пока выйду, покурю.
Капитан ступил на ступеньку трапа и повернулся к гостям.
– Да, вспомнил, из оборудования еще пеленгатор есть. Здесь, в ящике валяется.
Некоторое время гости сидели молча. Парни выглядели явно разочарованными.
– Погорячился я, – вздохнул Игорь. – Надо было сразу на сто пятьдесят опускать. Все равно ему деться некуда. Да и рискованно это все, кажется.
– Без риска даже улицу не перейти! Я с Васильичем на «Мечте» уже ходил в Вентспилс, все нормально было. – Паша осуждающе посмотрел на Игоря и тот, вероятно вспомнив о не возвращенном до сих пор кредите, по которому он большей частью рассчитывался стоматологическими услугами для Паши, членов его семьи и его друзей, в орбиту которых входил и Петров, как-то стушевался.
– Пусть специалист выскажется, – сказал Влад.
Петров выпрямился и ударился головой о край верхней койки. После лечения зуба второй раз обращаться в елисеевскую клинику он зарекся, но это вовсе не означало, что нельзя прожить несколько дней в одной каюте с ее хозяевами. Особенно, когда в твоем распоряжении оказывается настоящий пеленгатор.
– В общем, мужики, – сказал он тогда, поглаживая ушибленное место, – если хотите, чтобы у вас в жизни хоть раз было настоящее Приключение, с большой буквы, раздумывать нечего.
Приключение, похоже, разворачивалось во всю.
Напоследок Петров нацелил камеру на Влада.
Тоненькая струйка сорвалась точно на кончик носа художника. Влад вздрогнул, стер воду рукавом фуфайки и открыл глаза.
– Как там? Корпус выдержит? Дойдем?
Человек привыкает ко всему. С камерой Петрова видели постоянно и уже перестали обращать на нее внимание, как в сериале «Дом–2», на что он, собственно, и рассчитывал. Голос Влада звучал испуганно, и Петрову захотелось добавить драматизма.
– Гарантировать ничего не могу. Да тебе-то чего волноваться, ты и так в гробу. А вообще, – посуровев голосом, добавил он, – в море такие вопросы задавать нельзя. Плохая примета. Ты же художник, человек творческий, сам понимать должен. Чтобы не получилось, как вчера.
– Конечно, конечно, – торопливо согласился Влад, уворачиваясь от новой струйки воды. Чтобы подавить смех, Петров отвернулся. Яхту качнуло очередной раз и на центр каюты выкатились, а скорее выплыли на гуляющей по пайолам воде его раздолбанные кроссовки. Окончательно порвались они еще два дня назад, но для невзыскательного перемещения по яхте подходили намного лучше, чем шлепанцы. Подумав, что теперь самое время от них избавиться, Петров убрал камеру, подхватил обувь одной рукой, и шагнул на трап.
– Эй! – остановил его Влад. – А кроссовки зачем берешь?
– Ну… Понимаешь, плохую примету перебить можно только другой, хорошей. Говорят, если Нептун не пускает в порт, надо ему отдать любимые ботинки. Вот так.
Петров приоткрыл люк, швырнул кроссовки за борт и выбрался наружу сам.
4
Паша, увидав Петрова, замахал рукой.
– Давай скорей сюда! Смотри, тут к нам пилит кто-то! Может, помочь хотят?
С левого борта к яхте на огромной скорости несся торпедный катер. Подойдя метров на двадцать, катер затормозил, на его палубу вышел моряк в штормовке и с мегафоном в руках. За кормой катера развевался американский военно-морской флаг.
– Надо же? – удивился Паша. – Америкосам-то чего здесь надо?
Над водой, едва пробиваясь сквозь свист ветра, разнеслась английская речь, в которой Петров с трудом разобрал слова о том, что им следует немедленно покинуть зону военно-морских учений. «Бойся в море рыбака и вояку – дурака», гласит известная морская поговорка.
– Помощь пока не предлагает, – ответил Петров. – Погоди, я с ним поговорю.
Он спустился обратно в кают-компанию к штурманскому столику, включил рацию и попытался вызвать катер на международном шестнадцатом канале. Наушники ответили мрачным шипением и треском. Такой же треск стоял на канале Рижского порта. Вариантов было два – либо рация вышла из строя, либо военные на период учений включили подавление радиообмена. Мегафона на яхте не было. Петров вновь выбрался на палубу. Катер держался на прежнем месте.
– Hi! – попробовал крикнуть Петров, но сразу понял, что его голос вряд ли бы услыхали сейчас даже в носовой части «Мечты», если предположить, что кто-то мог бы оказаться там в такую погоду, И он повернулся к Паше, перехватывая у него румпель.
– Не работает рация. У тебя глотка мощней, попробуй ты объяснить этому мудиле, что мегафона нет, движок не вытягивает, да и вообще яхта протекает и все у нас хреново и нам, может быть, не помешала бы их «Help».
– Не проблема, – согласился Паша, вставая на ноги и набирая в легкие побольше воздуха.
– How do you do? Янки! Go home! – неожиданным фальцетом закричал он. Выждав немного, Паша с сожалением повернулся к Петрову. – Не слышит, гад. Наверное, слух плохой. Ничего, я по-другому попробую.
Правой рукой Паша держался за рейлинг у входного люка, а левой оживленно жестикулировал. В завершение он отвел руку в сторону, сжал ладонь в кулак и оттопырил большой палец, указывая куда-то вниз.
Некоторое время моряк вглядывался в Пашины жесты, потом повернулся, подошел к зенитной установке и завозился с рычагами управления.
– Ну, как? – спросил Паша у Петрова.
– Отлично. Лучше тебя с этим не справился бы никто. Вот я только не понял, зачем ты показал ему «Fuck you!».
– Разве? – удивился Паша. – Я же объяснял, что ветер слишком сильный. Да и… Чего они, сволочи, Белград бомбили! А Ирак! Учения у них тут, видите ли! Нашли, где пушками размахивать!
Моряк на торпедном катере покрутил ручки и дуло развернулось в сторону яхты.
Петров замер. Когда-то еще до падения Берлинской стены, летним солнечным днем он гулял по Западному Берлину. Выйдя к покатому берегу Шпрее недалеко от Рейхстага, Петров обратил внимание на красивую пару, устроившую маленький пикничок. Светловолосая фрау достала из плетеной корзинки салфетку, разложила нарезанный сыр, а ее спутник разлил по пластиковым стаканчикам вино. По противоположному берегу проходила граница ГДР. Среди бетонных заборов и рядов колючей проволоки стояли танки, напротив возвышалась вышка с вооруженным ручным пулеметом часовым. Пара подняла бокалы. Часовой смотрел на них. Парень отсалютовал ему стаканчиком. Часовой навел на них дуло пулемета. Парень с девушкой замерли. Несколько секунд спустя они встали и, не допив вино, поспешно зашагали прочь.
Уйти с «Мечты» было некуда.
Петров передал Паше румпель, поднялся и сделал несколько успокаивающих жестов, напоминающих замедленные балетные па. Американец отошел от зенитки и потряс руками, имитируя отдачу при стрельбе. Потом вновь поднес мегафон к губам, выдал еще одну гневную тираду, и скрылся в надстройке. Катер взревел и, мгновенно набирая скорость, исчез из виду.
– А сейчас он чего сказал? – спросил Паша.
– Удачи пожелал. И еще сказал, что если мы к едреной фене отсюда сейчас же не уберемся, то из нас получится отличная мишень для стрельбы по движущейся цели.
– Ну, сволота! Ну, ничего, русские не сдаются. Мы бы ему…
– На абордаж бы взяли? Трави шкот, поворачивать будем.
«Мечта» отвернула от берега вглубь залива. Ветер зашел в корму, и качка усилилась. Люк приоткрылся, и в нем возникла голова Влада.
– Ну, как там? – прокричал он.
– Сражаемся! – ответил Паша.
Волна догнала яхту и перекатилась через транец, оставив под ногами кипящую массу воды. Голова Влада исчезла, потом показалась вновь. На этот раз он высунулся по пояс. В правой руке он сжимал новенькие, несколько дней назад купленные в Стокгольме кроссовки. Стой, хотел сказать Петров, но Влад уже взмахнул рукой, и кроссовки полетели за борт.
Через минуту в люк выглянул Младший, и в воду унеслись кожаные туфли. Вовчик выкинул стоптанные сапоги. Игорь расстался со старыми шлепанцами. Петров с замиранием сердца ожидал появления Кашицы.
Яхта набрала скорость и пошла ровнее.
– А я и не знал, что такая примета есть, – сказал Паша. – Погоди тут один, я сейчас тоже что-нибудь найду.
5
Три часа спустя, сделав круг, яхта вновь неслась к приемному бую со стороны Юрмалы, но на этот раз намного ближе к берегу. Румпель вырывался из рук, мышцы сводило от напряжения, и Петров с Пашей менялись каждые полчаса. Петров напряженно вглядывался в воду, пытаясь угадать возможные мели. Ветер не утихал, но волны под берегом были спокойней. Кашица ожидал сигнала у приоткрытого люка. Конечно, движок можно было запустить и раньше, но дизельного топлива на яхте оставалось в обрез. Входные створы быстро сближались.
– Включай! – заорал Петров, поворачивая руль. Парус забило, заполоскало набегающим ветром, но Паша уже стягивал полотнище зарифленного паруса вниз, а Васек мощными рывками придавливал освобождающиеся шкаторины к гику. Над яхтой взметнулось облачко дыма, движок застучал на полную мощь. Створные знаки сошлись в одну, ведущую по судовому фарватеру линию. Паша кинулся убирать стаксель. Кашица перебрался к Петрову в кокпит.
– Надо вытянуть, – сказал он. – Помпа полетела, хоть ведрами воду черпай. Но если в такую качку пайолы поднимать…
– Вытянем!
Яхта скрипела и стонала, но входные ворота с каждым мигом становились ближе и ближе. Паша убрал парус. Один за другим наружу выбирались остальные члены команды. И потом случилось чудо. Яхта вошла в ворота, и мгновенно наступила тишина. На гигантских глыбах волнолома сидели рыбаки с удочками. Над головой палило солнце. По мирной глади реки скользили яхты и небольшие катера. Даже ветер, казалось, почти исчез и его хватает лишь на то, чтобы достойно и устойчиво держать развернутым на кормовом флагштоке государственный флаг.
– Слава Богу, добрались. – Олег Васильевич скинул штормовку, надел светлые брюки и капитанскую фуражку и даже морщины на его лице, казалось, внезапно разгладились. – Ну что, парни, до Болдераи близко, давайте, на палубе быстренько приборку организуем, чтобы войти достойно.
Петров спустился в каюту, чтобы тоже переодеться, и вспомнил о своей незавершенной видео миссии. По завершению похода он собирался повторно опросить каждого члена команды об их мечте, но прекрасно понимал, что теперь, когда издалека уже проглядывали причалы Болдерайской марины с встречающими на берегу, парням будет не до интервью. Да и выскажутся они, наверное, слишком одинаковым образом. Уже завтра их, как и его самого, ожидал привычный круговорот повседневных дел, зависящих уже не столько от его мастерства, знаний и крепости рук, а от множества других людей, конкурентов и партнеров, от их настроений, характеров, совпадений и накладок, стечений обстоятельств и капризов, от всего того, что почему-то принято называть деловой жизнью. И главное ощущение, которое он сейчас испытывал, было сожалением, что все уже кончилось.
Когда Петров вновь выбрался на палубу с камерой в руках, народ толпился на корме, разглядывая флаг. Что-то происходило, и он поспешно включил камеру на запись.
– Не может такого быть! – голос капитана громыхал праведным гневом. – Я только вчера повесил новенький флаг. Самый лучший, из крепкого материала. Да и не могло такого от ветра произойти, сами посмотрите!
Кэп развернул флаг полотнищем на обозрение остальным. В центре его зияла ровная, словно специально вырезанная дыра диаметром сантиметров в семь.
– Да все понятно, Васильич, – успокоил отставного полковника Паша. – Это тот америкос из зенитки саданул, больше некому. Точно он. Мы же видели, как он целился, гад.
– Что?! – лицо Кэпа начало наливаться краской, и Петрову захотелось разрядить обстановку.
– Олег Васильич, – спросил он, поднимая камеру, – скажи, пожалуйста, о чем ты сейчас больше всего мечтаешь?
– О чем? Да чтобы у америкосов этих гребаных!..
Ночь с Марией
1
– Идите за мной, я вам все покажу.
– Все покажите?
На вид ей еще не было тридцати. Симпатичное лицо с чуть раскосыми, серо-зелеными глазами. Светло-русые, слегка вьющиеся волосы двумя пенными волнами свободно падали на плечи. Легкое розовое летнее платье с вышивкой на высокой груди почти не скрывало хорошо развитые бедра. Такое платье не самая удобная одежда для хождения по крутым яхтенным трапам. Или, наоборот, удобная – как посмотреть… Девушка ободряюще раздвинула в улыбке чувственные, красиво очерченные губы, распахнула дверь в кокпит и шагнула через высокий комингс.
– Ну, покажу. Идем же!
На причале Паша что-то оживленно обсуждал с капитаном местного порта. По соседству одинокий портовый кран сиротливо склонил голову, словно журавль в ожидании добычи. Но у высокого, рассчитанного на океанские суда причала, стояла только сорокафутовая моторная яхта «Мария».
Мимо промчался прогулочный катер, и палуба под ногами заходила так, что пришлось ухватиться рукой за ближайший поручень. Над головой ярко сияло августовское солнце, но маленькие бортовые иллюминаторы пропускали не слишком много света, и в кают-компании царил полумрак. Может быть, эта девушка – жена владельца яхты? Или его дочь? Яхты нередко называют женскими именами, и затем они ведут себя в соответствии с характерами тех, чье имя несут на борту. Строптивые, покорные, ласковые или вздорные, удачливые и наоборот. С каждой секундой это маленькое приключение становилось все интересней.
– Мария? – предположил Петров.
– Что? – удивленно обернулась она. – Откуда вы знаете?
– Имя на борту. Наверное, яхту назвали в вашу честь.
– В мою? – она на секунду задумалась, словно взвешивая такую возможность, и легко рассмеялась. – Если бы… Но вы угадали. Имя.
Справа по борту размещалась консоль с навигационными приборами и кухонька, слева традиционный стол с подковообразным диваном, но Мария, не обращая внимания на столь незначительные детали интерьера, уверенно вела дальше. По дороге она распахнула дверь крохотной боковой каюты с койкой под низким подволоком, этакую капсулу, пригодную для неприхотливого спанья, но никак не больше, еще одну дверь в туалет с душевой кабинкой, но сразу же сделала шаг дальше и открыла носовую каюту с широкой двуспальной кроватью.
– Вот! – гордо и победоносно обозначила она.
– А…
– Видите?
– Вижу. Только…
– Ой! – она неожиданно ступила назад, едва не сбив его с ног, и Петров вынужден был крепко ухватить ее за плечи. Тело девушки на миг прижалось к нему всеми изгибами, и он с сожалением отпустил его. – Извините. Потолок протекает!
– Подволок, – машинально поправил он, стряхивая с себя мысль, что путешествие с такой попутчицей было бы гораздо интересней и, осторожно отодвинув Марию, взялся задраивать верхний световой люк, из которого прямо в центр кровати лилась обильная струя воды из шланга, с помощью которого на верхней палубе наводили окончательный глянец.
– Извините, – еще раз сказала Мария. – Я не знала.
– Бывает. Не переживайте. Вы хотели мне показать…
– Ну, конечно! Я хотела сдать вам свою работу. Видите, как я убрала внутри? Вам нравится?
– Да, – скрывая разочарование, ответил он. – Мне очень нравится, как вы убрали. А теперь, извините, мне надо принять всю яхту.
2
Огромный трапецеидальный матрас, выкроенный по форме форпика, промок насквозь. Петров вытащил его в кокпит и кое-как пристроил на кормовых рейлингах в надежде на солнце и ветер. Мария взялась за уборку натекшей в каюту воды. Он подумал, что, закончив свое занятие, она еще раз пригласит его оценить ее работу. Но когда Петров, некоторое время спустя, заглянул в кают-компанию, девушки уже не было, и он на секунду подосадовал, что даже не заметил, как Мария перебиралась с палубы яхты на высокий бетонный причал. Паша начал передавать с берега пакеты с провизией, и капитан порта, жилистый эстонец лет семидесяти, понаблюдав за манипуляциями принимающей яхту команды, предупредил:
– Продукты испортятся.
– Почему? – сразу всем стокилограммовым организмом встревожился Паша.
– Холодильник не работает. Вчера работал, а сегодня выключился. Не успели починить. Мастер может прийти завтра. Хотя завтра суббота. Тогда в понедельник. Вы когда хотите выйти в море?
Петров и Паша переглянулись. На перегон яхты от Палдиски до Риги они для себя выделили всего два дня. Первый из них проистекал прямо сейчас.
– Холодильник мы переживем, – сказал Петров. – Но в акте приемки отметим. Вообще-то мы вас предупреждали, что приедем сегодня утром. Так что мы планируем выйти через час. Через два, в крайнем случае. Чтобы по световому дню добраться до Хийумы, а там заправимся и переночуем.
– На Хийуме хороший ресторан есть, – сообщил капитан порта. Паша сразу успокоился. На нем была майка, джинсы и кроссовки, и он, не переодеваясь, взялся за приемку материальной части.
Петров к экипировке всегда относился продуманно. Для поездки на дорогую яхту он надел светлую рубашку-поло с крокодильчиком на груди, легкие кремовые брюки и мягкие мокасины с белой подошвой, не оставляющей на палубе следов, а в яхтенном мире сомнений – кто есть кто. Представитель продавца по имени Эдик, парень лет сорока с пижонской трехдневной щетиной подвел его к штурманскому столу и показал датчики приборов, подробней всего останавливаясь на спидометре, показывающем всего 800 километров пробега. Судя по всему, это должно было означать, что яхта, несмотря на трехлетний возраст, еще совсем новая и необъезженная. Хотя ощущения новизны она почему-то не оставляла.
– А это что такое?
– Это, вроде… – Эдик замялся и махнул рукой. – Да это вам не надо, датчик все равно не работает. И эти тоже. А эти на случай дополнительного оборудования… Да, вот, самое главное – тахометры двигателей, смотрите, чтобы стрелка в красный сектор не залезала. Скорость яхта может развить сумасшедшую, но топливо будет жрать в два раза больше и движок быстро нагревается, как бы ни заклинило. А это плоттер Garmin. Ну, вы, наверное, и сами знаете, как им пользоваться.
– Знаю, – подтвердил Петров. – Но давайте все-таки включим, вдруг тут особенности какие-то.
Эдик пощелкал включателями и нахмурился. Наверное, предохранитель сгорел, предположил он, и полез осматривать предохранители, а Петров выбрался на палубу. На баке Паша и капитан порта сосредоточенно разглядывали якорную лебедку, и Петров подошел ближе.
– Но она же работала! – убеждал Пашу капитан порта.
– Согласен. Я вчера обедал, а сегодня еще нет. И что, мне теперь вчерашний день вспоминать? Я кнопку нажал, якорь опустился на двадцать сантиметров. А назад не идет. И вперед тоже. Может, в лебедке предохранитель полетел?
– Нет у нее предохранителей. Там же просто. Где-то контакт в кнопке отошел. Черт, чтобы ее открутить надо в цепной ящик лезть.
Капитан с сомнением оценил Пашины габариты, перевел взгляд на светлые, тщательно отутюженные брюки Петрова и, кряхтя, стал примериваться к узкому люку в ящик размером чуть больше дорожного чемодана. Добром такое закончиться не могло. В конце концов, прикинул Петров, якорь не выглядел слишком тяжелым.
– Бог с ней, с кнопкой, – сказал он. – Давайте ручку, если что, покрутим вручную.
Пока капитан искал ручку, справившийся-таки с предохранителем Эдик показал, как запускаются двигатели. Для этого надо было нажать красную кнопку и придержать ее пять секунд, затем перещелкнуть тумблер и дождаться, чтобы загорелась зеленая лампочка, затем нажать зеленую кнопку и перевести рычаг с позиции «стоп» в позицию «холостой ход», потом нажать…
– Постойте, – перебил Петров объяснения Эдика. – Кажется, все понятно. Только дайте мне все-таки мануал, а мы, если что, разберемся.
Эдик немного скис.
– Нет у нас мануала. Вообще бумаг нет, кроме сертификата. Понимаете, чтобы документы не пропали, их на берег отнесли, в контору, на борту-то они ни к чему. А контора уже закрыта, до понедельника надо ждать. Мы их почтой вышлем. Да вы и так запомните. Видите, теперь я отпускаю эту кнопку и двигатель… завелся!
Лицо Эдика озарилось счастливой улыбкой, но на лбу почему-то выступила испарина. Впрочем, это был жаркий день.
3
Три часа спустя солнце заметно скатилось к закату. По палубе были раскиданы провода, гайки, болты, тестер, отвертки. Из якорного ящика торчали ноги капитана порта, так и не сумевшего найти ручку от лебедки (кажется, вчера еще была!) в неработающем холодильнике тихо притухали продукты. Петров с Пашей уединились в кают-компании и провели совещание. От Палдиски до Риги около двухсот морских миль, которые крейсерским ходом можно одолеть часов за двенадцать. Топлива на такой переход не хватит, поэтому заход в промежуточный порт на дозаправку, а заодно и ночевку был неизбежен. Встать на якорь в случае необходимости можно было и без использования лебедки. Двигатели по-прежнему работали на холостом ходу, сжигая драгоценное топливо, но Эдик упорно отказывался их останавливать, убеждая перегонщиков, что перед серьезным переходом дизеля должны хорошенько разогреться.
Петров посмотрел на Пашу.
– Рискнем?
С моря потянуло вечерним бризом, яхту слегка покачивало. Возвращаться в Ригу сегодня было уже не на чем. Утром большую часть продуктов придется выкинуть. Да и что изменится за это время?
– А корма у нее ничего, – загадочно отметил Паша.
4
Полчаса спустя «Мария» вышла в море. Нос ее взмыл вверх, за кормой потянулись пенные буруны. Сразу за волноломом волна усилилась, но яхта, вопреки ожиданиям, качку держала хорошо. Паша расположился на верхнем мостике за рулем, а Петров, отслеживая точки поворота, рядом.
Гуляя по лесу, он мог думать о неоплаченном счете или чьем-то косом взгляде, валяясь на песчаном пляже – о женской ласке или рыбалке, на свидании с женщиной – о грязных ботинках. Управляя яхтой, он забывал обо всем. Кроме обстановки вокруг. Мозг с величайшей внимательностью регистрировал мельчайшие изменения в цвете воды или высоты волны, направление и силу ветра, характер скольжения яхты по поверхности, линию горизонта, водоросли, чаек. А еще лодки, буи, высокие строения на берегу, плавающие предметы – вплоть до бутылки из темного, под стать воде стекла с чьим-то возможным посланием, одновременно просчитывая точки поворота, ветровой снос, подводные опасности, риск столкновения с проходящими судами. И словно сам сливался с окружающим, постоянно меняющимся пространством. Но все остальное оставалось на берегу, за горизонтом.
Поэтому, когда внезапно разбогатевший товарищ его товарища по имени Семен сказал, что присмотрел яхту для фишинга на Канарских островах, но для начала хотел бы научиться ею управлять, а яхта в Эстонии и не согласится ли он взять на себя труд… Конечно, соглашусь, ответил Петров!
– Паша, – спросил он, – а что ты имел в виду, когда про корму говорил?
– Про корму?
Паша многозначительно оглянулся, словно проверяя о какой корме может идти речь, повернулся назад и загадочно усмехнулся. Ради любого выхода на яхте он готов был бросить все, даже, подозревал Петров, любимую женщину. На время, конечно. Пока яхта не будет надежно пришвартована. А еще лучше вытащена на берег и установлена на кильблоки, как сорокадвухфутовая «Мечта» с пробоиной в районе ватерлинии.
– Женщины – существа загадочные. Никогда не знаешь… А мы где ночевать будем? Солнце уже низко.
– Сейчас посмотрим.
Петров потыкал кнопки на плоттере, но экран никак не отреагировал на его усилия.
– Ну что за дела! Сначала лебедка, теперь плоттер. Наверное, опять предохранители. Они где стоят, не помнишь?
– Помню. В ящике слева от трапа в кают-компании. Только смотреть бесполезно, запасных все равно нет.
– Нет?
Петров подавил рвущиеся наружу эмоции. Слишком красив был пейзаж вокруг – с неровной полоской берега милях в десяти к югу, с рваными, окрашенными заходящим солнцем облаками, с опрокидывающимися гребешками пляшущих вокруг яхты волн.
Второй плоттер был вмонтирован в штурманскую консоль в кают-компании. На его экране четко обозначилась линия движения яхты, под килем было сорок метров морской воды без малейших признаков навигационных опасностей, за кормой остались двадцать пять морских миль, впереди, почти по линии движения просматривался остров Осмусаар, на траверзе которого их ожидал поворот на Моозундский пролив. Петров постоял над изображением. В морских картах, бумажных или электронных, для него всегда было что-то необъяснимо притягательное. За штурвалом видна только вода, другие суда, буи или вехи, возможно, линия берега. Морская карта испещрена бесконечными линиями, цифрами, символами. На карте управляемое штурманом судно не просто движется – оно пробирается мимо мелководных банок, камней, минных полей, учебных полигонов, подводных кабелей и трубопроводов, затонувших кораблей, коварных течений и сбивающих с курса магнитных склонений. Штурман впитывает информацию, как губка, чтобы вообразить ее в четырехмерном пространстве и, в случае необходимости, принимать решения моментально, не тратя драгоценное время на размышления. Петров разглядывал предстоящий путь в Моозундском проливе, когда корпус «Марии» судорожно вздрогнул, словно натолкнувшись на неожиданное препятствие. Петров рванулся на верхний мостик.
– Что это было? Сети?
Яхта по-прежнему двигалась вперед. Паша, придерживаясь одной рукой за сиденье рулевого, стоял и с растерянным видом вглядывался в воду за кормой.
– Не могу понять. Может, и сети. Впереди ничего не было видно. Или мель.
– Нет здесь мелей. Топляк мог попасться.
– Топляк бы при таком ударе корпус пробил. Сеть скорей. Руль чего-то плохо слушаться стал, – пожаловался Паша.
Петров подошел к приборам и посмотрел на тахометры. Правый из них по-прежнему показывал полные обороты, зато второй стоял на нуле.
– Кажется, намотали. Винт не вращается.
– Точно, не вращается. Чего делать-то будем?
– Попробуем запустить заново.
– Можно заново.
Паша нажал красную кнопку, перещелкнул тумблер, нажал зеленую и перевел ручку левого двигателя на холостой ход. Стрелка тахометра не шевелилась.
– Хорошо бы винт осмотреть, – с неприятным предчувствием сказал Петров. Предчувствия его чаще всего не обманывали, и сейчас он был готов к худшему сценарию.
– Осмотреть – всегда пожалуйста!
Паша с готовностью начал стягивать майку, плотно охватывающую могучие плечи, и Петров перевел правую ручку телеграфа на «стоп». Некоторое время яхта еще двигалась по инерции, но вскоре и это движение прекратилось. Характер качки заметно изменился.
Море уже не выглядело столь же дружественным, как до остановки винта. Солнце над горизонтом зарылось в низкие облака, окрашивая их зловещим кроваво-красным цветом, гребни волн опрокидывались под усиливающимся ветром, и по их склонам протягивались все более длинные пенные дорожки. Под действием двигателя, пусть и одного, яхта прорезала их в заданном направлении и мерно покачивалась в отлаженном ритме. При полной остановке ритм превратился в хаотичную толкотню.
– Погоди, Паша, – остановил напарника Петров. – Слишком опасно. Кажется, мы с этой яхтой немного заигрались.
Он достал мобильный телефон, набрал номер Семена и рассказал ему про холодильник, якорную лебедку, навигационные приборы и остановившийся двигатель. Некоторое время в трубке что-то хрипело и сопело, а затем зазвучало так, что Петров отодвинул телефон подальше от уха. «Вот как чувствовал, блин! Молодец, вовремя позвонил, пока я аванс не перевел. Да пошли бы они с этой яхтой… ну, ты понял, куда. Главное, сами выбирайтесь. А на остальное плевать. Может, помощь вызвать?».
«Без помощи обойдемся», – ответил Петров.
Он прикрыл глаза и попытался восстановить в памяти последнюю картинку с плоттера. Увы, предвкушаемое путешествие не удалось. Остается повернуть назад. Но двигаться придется против ветра, а это означает, что скорость на одном дизеле будет раза в три ниже прежней и дорога в лучшем случае займет пять – шесть часов, идти придется в темноте, швартоваться ночью. Если второй движок не остановится. Самым правильным было бы срочно подыскать порт-убежище.
Петров выбрал в журнале звонков телефон капитана порта и нажал кнопку вызова, но телефон никак не отреагировал. Только что связь была, в ушах еще звенели выразительные слова Семена, и вот уже лесенка зоны приема застыла на нулевой отметке.
– Запускай, Паша, правый движок, – сказал он. – А я пока спущусь, взгляну на карту.
5
Экран плоттера на штурманском столе не светился. Петров потыкал кнопками, уже заранее понимая, что результата не будет, и чертыхнулся. Сейчас бы этого Эдика сюда – то ли про себя, то ли вслух подумал он.
– А где Эдик?
– Что?!
Голос, странный, с хрипотцой, раздавался откуда-то из-за спины. Петров резко обернулся и застыл. Прыгающий луч заходящего солнца отыскал в море крохотный иллюминатор, ворвался в сумрак кают-компании яхты, осветил на миг стоящую перед Петровым русалку и умчался на поиски новых целей.
– Вы… Вы… Вы как сюда попали?!
Русалка опустила руку, которой только что защищала глаза от солнечного света, и смущенно улыбнулась.
– Извините, я, кажется, заснула в каюте. А где все? Почему нас так качает?
– Нас? Вы заснули в каюте? Невероятно! – Петров расхохотался. Немного истерически, отметил он про себя.
– Но я прилегла только на минутку! Почему вы смеетесь? Я целый день делала уборку, а потом пришлось убирать всю эту воду из каюты, и никто меня не звал. Я прилегла на несколько минут. Что в этом смешного? Ладно, я пойду.
– Куда?
– Что значит, куда?
Мария шагнула мимо Петрова к выходу в кокпит, в тот самый момент, когда дверной проем загородила фигура Паши. На лице его отразилась сложная гамма чувств, а затем оно расплылось в широкой улыбке.
– Ласточка, и ты тут… А я думал, мне голоса послышались. Извините, не знал, я потом зайду. Я только хотел сказать, что правый движок тоже не запускается.
– Это не то, что ты подумал… – начал было Петров, но фигура Паши уже исчезла.
– И что он подумал? – насторожилась Мария.
– Да нет, ничего особенного, просто у вас прическа и… платье слегка… Да нет, все нормально.
– Платье? – опустив глаза, Мария поспешно оправила смятый, задранный едва не до пояса подол платья, распахнула дверцу бара, за которой пряталось зеркало, и увидала свои спутанные волосы. – Боже! И вы молчали! Любовались, да? Он мог подумать, что мы… И Эдик, если войдет сейчас…
– Эдик не войдет, – успокоил ее Петров.
– Что значит, не войдет? Он что, уехал?
– Я бы выразился чуть-чуть иначе. Он не ухал. Это мы ушли.
– Ушли?
Кажется, Мария начала что-то подозревать, и Петров выразительно нарисовал пальцем в воздухе круг.
– Вокруг нас море. Мы вышли два часа назад. И никак не ожидали увидеть вас здесь.
– В море?! – Мария кинулась к почти вертикальному трапу в кокпит, но, вспомнив, очевидно, о своем платье и наблюдающем за ней Петрове, обессилено опустилась на кожаный диван. – Верните меня обратно. Немедленно.
– С удовольствием, – согласился Петров. – Эта посудина нам тоже начала немного надоедать. Благодаря вашему Эдику, мы теперь болтаемся посреди моря, как… В общем, это неважно. Важно, что на яхте ничего не работает, в том числе двигатели.
– И, и что теперь? Надо позвонить Эдику.
Петрову показалось, что на глазах Марии наворачиваются слезы, и он с готовность протянул ей свой мобильник:
– Попробуйте. Может быть, вам больше повезет, чем мне. Но лучше это делать наверху.
И он первый выбрался наружу.
6
Солнце опустилось в тонкую полоску облаков горизонте и расплылось кроваво-красным закатом.
– Если солнце село в тучу, жди, получишь злую бучу, – машинально продекламировал Петров.
Ветер, словно в ответ на его слова, задул сильнее, и Мария зябко поежилась. Связи не было. Петров еще раз вернулся в кают-компанию и принес девушке свою куртку, а сам натянул поверх рубашки шерстяной свитер – в море, даже в самую что ни на есть летнюю погоду, надо было быть готовым ко всему. И он был готов. Или думал, что был готов.
– Что будем делать, капитан? – Паша, наконец, озвучил одолевающий всех вопрос, и Петров, как он любил это делать, начал размышлять вслух.
– Сегодня нас искать никто не будет. Разве что Марию. Будут или нет?
– Вообще-то я живу одна… – как-то неуверенно ответила она. – Эдик, если не дозвонится, будет думать, что я обиделась и отключила телефон.
– Обиделась? Я думал, что он твой босс. Или я опять что-то… Впрочем, это, конечно, не наше дело. В Риге нас ждут в воскресенье, тоже не повод беспокоиться. По худшему сценарию, в ближайшие сутки – двое рассчитывать не на кого, раньше воскресенья поиски не начнут. Продукты у нас кое-какие есть, только готовить не на чем, но это переживем. В темноте все равно ничего не сделаем, а с утра попробуем в машине поковыряться, может, запустимся. Вот погода мне не очень нравится… Ветер заходит на северный – северо-западный, волну разогнать может. Если будет бить в бок, мало не покажется.
– Якорь кинуть? – предположил Паша.
– Глубина великовата. Даже если опустим без лебедки, цепи шестьдесят метров всего, а под нами минимум сороковник, держать не будет. Остается плавучий якорь кинуть. Паша, ты снаряжение принимал, было у нас такое дело?
– Черта с два! Яхта голая, как корова языком слизала.
– Это меня тоже удивило. Даже ни одной бумажки! Ну не бывает так!
– Просто унесли все на просушку, а назад принести забыли.
– Какую просушку? – Петров повернулся к Марии.
– Ну… Мокрое все было.
– Отчего это мокрое? – Паша выразительно прищурил глаза и придвинулся ближе. – Ну-ка, ласточка, колись.
– Да не знаю я ничего! Какая я вам ласточка. Чего вы от меня хотите?
– Мария! – сделал еще одну попытку Петров. – Мы и так уже оказались в непростой ситуации. Фактически, на кону наши жизни. В такие моменты мы должны быть откровенными друг с другом. Любая мелочь может оказать решающее значение.
– И вы со мной будете такими же откровенными?
– Конечно! А теперь скажи, – незаметно для себя перешел на «ты» Петров, – почему вещи были мокрыми?
– Из-за меня, наверное, – упавшим голосом сказала Мария.
7
Хорошо сложенный мужчина лет сорока в потертых джинсах и рубашке поло навыпуск, чуть покачиваясь с пяток на носки, уже несколько минут вглядывался в картину. У него была привлекательное, окаймленное легкой курчавой бородкой лицо и тонкий нос с едва заметной горбинкой. Картина изображала морской пейзаж. Не банальное фотографическое отображение куска пляжа в Пирите с парой парусников на залитой солнцем водной поверхности и пенными барашками, как у всех остальных продавцов картин, выстроившихся на пляжном променаде. Вместо этого море на картине было феерическое, волны смешивались с небом, солнце пробивалось прямо из центра, сквозь толщу воды, сверху и снизу яркими радужными пятнами светились пучеглазые рыбы, парус на закрученной волне смотрел вниз, но смотрел уверенно, не символом отчаянья, а безграничной уверенностью, которой Марии так не хватало в обычной жизни.
– Вам нравится? – робко спросила она.
Прежде чем ответить, мужчина внимательно, так же как картину, осмотрел девушку и уверенным жестом объединил все выставленные на продажу картины, живопись и акварели:
– На фоне всей этой мазни – просто шедевр. Кстати, меня зовут Эдуард. Но для вас – просто Эдик. Сколько вы хотите за эту картину?
– Я…
– А вы когда-нибудь выходили в море на настоящей яхте?
Денег у Эдика не оказалось, зато планов и перспектив было целое море. И еще яхта-тезка с многообещающим именем на борту «Мария». Яхта тоже была не его. Но уже на второй день, после того как они остались в его холостяцкой, несмотря на многочисленные следы женского присутствия, квартиры, которую, по его словам, его бывшая покинула вместе с восьмилетней дочерью, Эдик сделал ей предложение. Не руки и сердца, правда, а всего лишь возможности неплохо подзаработать, но и этого в ее положении было немало. Картины в галерее не продавались, квартирная хозяйка уже грозилась выставить за задержку платежей, и Эдик казался настоящим спасательным буем в море преследующих ее неудач.
Предложение заключалось в том, чтобы как следует подготовить яхту к продаже. Хозяин, крутой портовый стивидор, на которого работал Эдик, выделил ему кругленькую сумму, в яхтенном мире ничего дешевого не предлагалось, и Эдик быстро сделал несложную калькуляцию.
– Смотри, – объяснил он. – Я сам по профессии механик и неплохо разбираюсь в движках. Сделаю им кое-какую профилактику, выдраю, чтобы блестели, как новенькие. Ты выдраишь помещения и снаружи все, где надо, подкрасишь, ты же художница. За пару дней справимся и денежки наши. Чего их кому-то на сторону отдавать, верно? Шеф отвалил на все пять тысяч.
– Пять?
– Евро! – поспешно уточнил он, заметив ее разочарование. – Не крон же! Будут деньги, мы еще на чем-нибудь раскрутимся. Сделаем для тебя персональную выставку, прессу организуем. Буду у тебя продюсером. Или антрепренером, как у вас, художников, правильно называется?
– Ты уверен? – на всякий случай спросила она. – Боюсь, я приношу людям несчастья.
– Не со мной! – уверенно ответил он.
Эдик, несмотря на то, что о живописи ни ее личной, ни об искусстве вообще, они больше не разговаривали, с его хваткой, напористостью, уверенностью нравился ей все больше. Они закупили краску, моющие средства, машинное масло и кое-какой инструмент. Первый день работали допоздна, так, что к концу дня руки и ноги едва двигались. За день она израсходовала на яхте всю воду, и Эдик воткнул в горловину водоприемника шланг, чтобы пополнить запасы. Темнело, и подкрашивать покорябанное название на борту яхты Мария не стала, наметив это занятие как первую утреннюю работу назавтра. Эдик с трудом оттер пропитанные маслом руки, они сели в его виды видавший форд фокус и поехали к нему.
Утро выдалось по-настоящему летнее. Из окна Эдиковой квартиры на девятом этаже проглядывала полоска Таллиннского залива. На небе не было ни единого облачка, с моря тянуло слабым, приятно освежающим ветром. Они быстро позавтракали и покатили на яхту в Палдиски. Вчерашняя усталость улетучилась сама собой, настроение было прекрасное. У ворот встретили капитана порта, который приходился ее новому другу каким-то дальним родственником, и к месту швартовки подъехали вместе с ним. Эдик что-то выбирал из багажника, а она направилась к яхте и застыла на месте. «Марии» не было.
Рядом стоял все тот же портовый кран, у ноги которого они только вчера складывали принесенные на яхту припасы, здесь же был металлический ящик, на котором она вчера сидела в ожидании Эдика. Не было только одного.
– Извините, – повернулась она к капитану порта. – А вы не скажите, куда делась яхта. Ее переставили?
Мария сама оглядела пустынный причал во всю его ширь. По словам капитана порта, месяц назад здесь еще разгружалось одно небольшое судно, но сейчас порт со всеми его сооружениями стоял абсолютно пустым.
– Что значит, переставили? – пожилой эстонец повернулся к причалу, и в его голосе зазвучало ничем неприкрытое беспокойство. – Не мог ее никто переставлять, кроме вас, я бы знал. Неужели угнали?
– Не может такого быть! – Эдик первым подбежал к кромке причала и стал внимательно вглядываться вдаль, словно надеясь, что яхта каким-то чудодейственным способом отвязалась, отошла от причала и сейчас болтается потихоньку на акватории порта. – Не может такого быть. Угнали, блин! Даже шланг не вытащили, смотрите!
Он потянул за свисающий в воду шланг и вытянул его на поверхность. Из шланга вытекала устойчивая струя воды. Эдик отошел к вентилю пресной воды, перекрыл его, вернулся к причалу и сделал новое открытие.
– И швартов, смотрите! Обрезали, что ли? – он потянул за коричневый швартовый канат, но тот, в отличие от шланга, и не думал поддаваться. Эдик потянул сильнее, потом склонился над водой и застыл.
– Что там?
Мария и капитан порта тоже подошли к кромке причала и уставились на кончик торчащей из воды мачты.
– В общем, – рассказала Мария, – тогда мы и поняли, что, когда уходили, забыли закрыть кран, вода заполнила цистерну, пошла через край, попала в помещения, может быть, через ту же дырку в потолке, то есть в подволоке, – поспешно поправилась она, – и яхта затонула. Хорошо, мы полицию не успели вызвать. При угоне мы бы ни при чем были. А так все на нас сыпалось. Ну вот, сели, стали думать, что делать. Шеф у Эдика – тот еще тип, лучше не связываться. Работы бы Эдик лишился однозначно, да еще и штраф такой навесил – в жизни не рассчитаешься. Ну, мы и надумали: вытащить быстренько, подсушить, привести в порядок, чтобы никто ничего не узнал. Эдик нырял, веревки привязывал, капитан сам на подъемный кран забрался. И вытащили. Вот, почти неделю ее и сушили. Только бумаги все размокли. Мы их на копирование в одну контору отдали, а те в срок не уложились.
– История, – озадаченно резюмировал Паша. Яхту сильно качнуло, и он, схватившись за поручни, едва удержался на ногах. Марию сорвало с места, и Петров подхватил ее одной рукой. Не отпуская поручней, Паша повернулся к новоявленной парочке. – Ладно, я все понимаю. Кроме одного. Вы-то вдвоем когда успели… Или я что-то упустил?
Мария напряглась, и Петров поспешно отпустил девушку.
– Мы ничего не успевали. Она нечаянно заснула в каюте, и я увидел ее на две минуты раньше тебя. И довольно об этом. Пока еще что-то видно, надо срочно сооружать плавучий якорь, иначе нас просто опрокинет.
– Из чего сооружать?
– Да хотя бы… – Петров оглядел лаконичные обводы корпуса, консоль управления и белый пластиковый диван на верхней палубе, небольшую, обшитую деревом площадку на главной палубе, так называемый сандек, кокпит со входом в кают-компанию с одной стороны и с воротцами для выхода на низкую, почти вровень с линией воды кормовую площадку для купания, и его взгляд остановился на единственной не предусмотренной яхтенным регламентом вещи. К кормовым рейлингам по-прежнему был прикреплен выставленный на просушку матрас.
Паша быстро притащил бухту плетеного каната в палец толщиной и большой нож для разделки мяса. Освободив матрас, он ухватил его за края с двух сторон и потянул на себя. К этому моменту яхту развернуло кормой на волну. Резкий шквал вдавил матрас в Пашу. Под напором ветра он шагнул назад, зацепился пяткой за палубный рым и спиной вперед упал на Петрова и Марию, сбив их с ног.
– Извините, никого не ушиб? Ну, матрасище! Как парус подхватило! Как парус… Постойте, а может, его как парус и приспособить?
– Парус нас опрокинет в два счета. – Петров осторожно отодвинулся от вжатой между ним и комингсом кают-компании Марии, поднялся сам и помог встать девушке. – У яхты осадка один метр, а надстройка на все три тянет. Как она вообще ветер выдер…
Он осекся и посмотрел на и без того перепуганную Марию.
– Вы что, – голос ее заметно дрожал, – вы хотите сказать, что вышли в море на яхте, которая может в любой момент перевернуться? Вы же мореходы, вы же профессионалы, вы…
– Да ты не волнуйся, ласточка, – Паша, наконец, справился с матрасом, всем корпусом прижав его к переборке надстройки. – У нее движок внизу тяжеленный, она как ванька-встанька, куда ей деться? А про парус? Я про спинакер подумал.
– Классная идея! – Петров постарался придать голосу как можно более энтузиазма. Ситуацию надо было брать под контроль и, как учили его когда-то, худшее из действий это бездействие. К тому же Пашино предложение начало приобретать в его воображении четкие формы. – Только бы веревок хватило. В крайнем случае, используем швартовы. Давай, режь дырки по углам.
Работу начали в кокпите, но сильный ветер и водяные брызги уж очень затрудняли это занятие, поэтому матрас перетащили вниз, в кают-компанию. Быстро темнело, и Мария подсвечивала им мобильным телефоном, которому нашлось, наконец, единственно возможное применение.
– А за это у вас из зарплаты вычтут? – спросила она, когда Паша начал буравить ножом дырки по углам матраса.
– За что? – не понял Петров.
– Ну, за матрас испорченный. Он же, наверное, дорогой.
– Наверное, – равнодушно пожал плечами Петров. – Только у нас высчитывать не из чего. Мы за перегон гонорар не получаем.
– Не поняла… Совсем-совсем?
– Совсем. А за что тут платить?
– Но это же крейзи! Вы беретесь за работу, берете на себя ответственность за яхту, рискуете жизнью, и все это просто так? Вы что, сумасшедшие?
– Гм. – Петров задумчиво почесал затылок. – Мария, а какое у тебя самое любимое блюдо?
– Да при чем тут блюдо? Стрелки переводите? Ну… суши люблю.
– С приправой?
– Конечно! С соевым соусом. И с васаби. Он острый, но такой… возбуждающий аппетит, – нашла она нужное слово.
– Вот! – подхватил Петров. – Яхта – это наше васаби. Спроси Пашу, что было у него в жизни, и первое, что он вспомнит, это как его парусная яхта сидела на камнях в пяти километрах от берега и надвигался шторм, совсем как у нас! Или, когда нашу яхту перепутали с мишенью на военных учениях. Или, когда волна-убийца… Посвети сюда. Ну, вот, кажется, готово.
К углам огромного матраса прикрепили четыре пятиметровых конца легкого синтетического троса, сведя их в единый пучок по подобию плавучего якоря, присоединили пучок к длинной веревке и закрепили ее конец на кормовом кнехте. Солнце село, небо затянуло тяжелыми тучами, с каждой минутой тьма становилась непроглядней. Качка усиливалась, и каждое движение давалось с большим трудом. Вспомнив, что, по морским приметам, в море лучше не говорить о происшествиях, Петров переключился на другую тему, объясняя их действия Марии:
– Матрас легкий, но объемистый. Мы его выпустим на веревке подальше в море. Ветер подхватит его, возможно, как парус, и будет тянуть в одну сторону, по направлению волн. Он, соответственно, потянет за собой нашу корму, яхту развернет, и мы будем встречать волну носом, в самом устойчивом положении.
– Так мы что, так и будем теперь с этой штуковиной болтаться в море до воскресенья или понедельника?
– Ну почему обязательно до понедельника? Место судоходное, кто-нибудь будет проходить мимо, заметит нас и возьмет на буксир. Не переживай, все будет хорошо.
– Кажется, готово.
Паша с некоторым сомнением осмотрел громоздкую конструкцию. Яхту развернуло боком к волне, и они с Петровым потащили импровизированный парус наружу.
8
Темнота, словно ненасытное чудище, поглотила горизонт, спазмами выталкивая из своего чрева на ночную охоту стаи волн. Северный ветер, еще по-летнему теплый, срывался со скалистых берегов Скандинавии, в бессильной ярости плутал в запутанном лабиринте шхер, вырывался в огромную трубу Финского залива и уж тут расходился во всю мочь. Море у северного берега еще долгое время оставалось спокойным, понемногу сначала, но с каждым разом чуть сильней, подталкивая волны к югу, в сторону Эстонии. И чем дальше от берега, тем мощней новые и новые порывы ветра подхватывали водяные валы, бросая их на все, что попадается по пути.
Для огромных, в много тысяч тонн океанских кораблей длиной в сто – двести метров, наскоки коротких балтийских волн, как правило, не более, чем досадная помеха, замедляющая движение и вызывающая повышенный расход дорогого дизельного топлива. Для малых судов – рыбацких шхун, яхт, катеров штормовые волны – одна из основных опасностей. На ходу яхта приноравливается к коварным ударам воды, скользит по поверхности, как серфинг, примеряется к скорости, к углу атаки. Яхта, потерявшая способность двигаться, превращается в легкую добычу. Это Петров, сам в прошлом штурман дальнего плавания, осознавал прекрасно. А если бы и не знал – усиливающаяся качка быстро впечатывала в сознание нехитрую науку.
Едва Паша распахнул дверь кают-компании, ее тут же силой инерции и ветра бросило назад, припечатав прорвавшей в кокпит волной.
– Однако! – Паша с сомнением поскреб бритый затылок. – Так и зашибить может. Представляешь заголовок в газете: «Мужественно погиб от удара дверью…»
– Всем надеть спасательные жилеты, – распорядился Петров. – Мария, тебе тоже.
– М-мы тонем? Мы… – голос девушки испуганно задрожал, и Петрову показалось, что она готова впасть в истерику.
– На яхте действует несколько правил, – жестко сказал он. – Первое – в штормовую погоду все должны находиться в спасательных жилетах, внутри или снаружи, потому что в любую минуту может потребоваться присутствие члена команды наверху, на открытой палубе. Второе правило – на борту яхты нет пассажиров, каждый считается членом команды. И третье правило – в плавании команды капитана выполняются немедленно, без обсуждения.
– Есть, капитан! – с готовностью отозвался Паша. – Жилеты здесь, под столом.
Он первый взялся напяливать на себя неудобный жилет, а Петров взялся помогать Марии. В темноте, при качке, делать это было совсем непросто, и руки его постоянно натыкались на части обжигающего женского тела так, что ему становилось не по себе. Уже долгое время его контакты с женщинами были случайными и хаотичными, после последнего из них прошло месяца два и мужское либидо давало о себе знать. При других обстоятельствах такое знакомство могло стать многообещающим. Тем более, что Мария, как будто, не совсем противилась его прикосновениям. Но сейчас лучше было думать о другом.
– Движениям не мешает? – наконец спросил он. – Ну и отлично.
Выбрав момент, когда яхта находилась в относительно спокойном состоянии, они распахнули дверь и протолкнули свое сооружение наружу, вылетев следом за ним, словно пробка из горлышка бутылки.
– С Богом! – крикнул Петров. Они с Пашей метнули матрас за борт с подветренного борта, что-то хлестнуло Петрова по лицу, и он упал на мокрую палубу, а канат вырвало из его рук. Шквал ветра, встретив на своем пути новую преграду, взвыл в возмущении, вгрызся в нее всей нагулянной на морских просторах мощью, метнул хлипкую конструкцию вперед и вверх, словно рассчитывая избавиться от нее в мгновение. Но не тут-то было: перепоясанный прочными веревками матрас и не думал сдаваться; взмыв вверх он, словно воздушный змей, потянул за собой привязанную к нему кормой яхту вверх, в облака, но уж слишком непосилен оказался груз. «Марию» развернуло носом навстречу волнам, качка уменьшилась, стала предсказуемой. Чьи-то руки подхватили Петрова, помогая подняться с палубы, и он увидел девушку.
– Вы в порядке? – с неприкрытой тревогой спросила она, и он, поднеся руку к саднящей щеке, небрежно обронил:
– Конечно. Зацепился за что-то, все нормально. Теперь можем спокойно ждать помощи. А пока хорошо бы перекусить.
– Перекусить – это в самый раз, – подхватил Паша. – У меня от всех этих дел такой аппетит разыгрался. Сгрыз бы даже ласточкино гнездо.
– Ласточкино гнездо – это дорогой деликатес, – сочла нужным ответить Мария. – А разве не надо наблюдать за окрестностями? Мало ли что может случиться. Я думала вы такие предусмотрительные. А если помощь объявится, а мы…
– По-моему, самое худшее у нас уже случилось, когда твоему Эдику доверили яхту, – обиделся Паша. – Он тебе кто, бойфренд?
– А вот это уже мое личное дело.
– Личное-то личное, только я бы свою девушку на уходящей в море яхте не забыл.
– Он не забыл, он…
Петрову показалось, что Мария сейчас расплачется.
– Кто-то из нас, конечно, должен будет нести вахту, хотя смотреть пока практически не на что, – сказал он. – Первым будет…
– Ой, а что у вас на лице?
– Я же говорил, ничего страшного. – Петров поднес руку с саднящему виску, но Мария перехватила его ладонь.
– Не трогайте. Там кровь. Рану надо обработать.
– Да пустяки.
– Там рядом со штурманским столом аптечка, – подсказал Паша. – Идите, а я тут покараулю.
9
Экран мобильника, лежащего на штурманском столе, бросал неяркий свет, и Мария, чтобы лучше разглядеть рану, приблизилась так, что их тела разделяли только спасательные жилеты. Женские руки уверенно скользили по его лицу Петрова, и он, вдруг поймав себя на мысли, что впервые в этом путешествии, полностью доверившись другому человеку, чувствует себя совершенно спокойно, улыбнулся.
– Больно? – встревожилась она. – Кажется, там только кожа рассечена. Ну, может, синяк еще будет.
– Хорошо.
– Что же тут хорошего?
– Извини, это я так, своим мыслям.
– Своим? Эй, а кто совсем недавно обещал быть откровенным?
– Гм. Иногда откровенность – опасное оружие. Помнишь, к чему привело любопытство жены Синей Бороды?
– Помню. Только это я дважды выдраивала эту яхту и знаю, что тут нет трупов его бывших жен. И ты уже выдал мне лицензию на откровенность, не так ли?
– Так. И что на самом деле хочет знать мой инквизитор?
– О, это не будет больно. Начнем с малого. К чему относилось твое «хорошо»?
– К тебе. Мне было хорошо в твоем присутствии, и слово сорвалось. Только и всего.
– Было? А сейчас уже… Нет, ну какие вы все-таки… Сначала Паша, а теперь ты. Даже там, у причала, ты смотрел на меня так, словно… Ну, ты понял. Что с вами со всеми?
– А что с нами?
– И ты еще спрашиваешь! Почему, куда ни придешь, а уж мне в поисках работы пришлось походить, мужики пялятся так, словно видят только то, что у меня под одеждой? При том, что у каждого дома жены или любимые женщины, каждый, получается, хотя бы в мыслях изменяет им. Почему?
– Ну, это уже не личный, а экзистенциальный вопрос. И насчет каждого ты, наверное, горячишься. И что плохого, если люди любуются красотой, в том числе красотой женского тела? И живем мы вчера и не завтра, а в каждый конкретный миг, даже в самый экстремальный.
– Мне принимать это как искусно отточенный комплимент? Интересно, что сказала бы на этот счет твоя жена, окажись она сейчас здесь.
– Она никак не могла бы оказаться здесь. Уже два года не могла бы, – вдруг изменившимся голосом сказал Петров.
– Она… извини, я не знала.
– Ладно, проехали. А сама ты, где живешь, в Палдиски?
– Нет, в Таллинне.
– Вот как?
– Что значит, «вот как»?
– Только то, что каждый из нас чего-то не договаривает. Ты же сказала, что приехала вместе с Эдиком, а потом он мог подумать, что ты обиделась и уехала… на чем, интересно? Уж очень крепкая обида должна быть. И ты такая, на взводе. Кажется, не только потому, что оказалась с нами на яхте. Впрочем, если не хочешь…
– Он врал мне все это время.
– Врал?
– Эдик. – подтвердила она. – Вчера он сказал, что у него действительно была ссора с женой и она уехала к своей матери в Россию… на две недели. А сейчас возвращается, и поэтому мне надо забрать свои вещи, но что это ничего не значит, и мы можем по-прежнему…
– Понятно.
– Не знаю, почему я тебе это рассказываю. Как подружке. Мне почему-то даже легче стало. У тебя хорошее лицо. Как у человека, которому можно довериться.
– Ты определяешь это по лицам?
– Я же художница. Говорят, глаза – зеркало души человека. По-моему, это лицо зеркало. У молодых этого не видно, а постарше, годам к сорока, вся его жизнь прорисовывается, как на чертеже. Вот, например, эта складка… – кончиком пальца она сверху вниз провела по переносице Петрова, – говорит о…
– Эй, внизу! – закричал Паша. – Вижу судно!
10
После первого курса будущие штурмана проходили практику на трехмачтовой баркентине. Солнечным летним днем, при полном безветрии, «Капелла» со спущенными парусами и ведомая дизельным двигателем подходила к причалу Рижского морского вокзала. На причале собралась толпа встречающих, некоторые из них с цветами ожидали возвращения сыновей из первого морского похода. Место Петрова во время швартовых операций было на баке – в носовой части парусника. Он стоял со швартовым в руках, готовясь выполнить команду третьего штурмана. «Капелла» скользила к низкому бетонному причалу. Прямо на острый выступ перед входом в Андреевскую гавань. И со скоростью, при которой избежать навала деревянного корпуса на бетонный таран было просто невозможно. Неужели ни стоящий рядом штурман, ни капитан на не столь уж отдаленном от бака мостике не видят очевидного?
– Смотрите, мы же сейчас врежемся! – крикнул он третьему штурману.
– Ты что, салага, думаешь самый умный! – дыхнув на Петрова винными парами, ответил тот.
Спустя минуту капитан «Капеллы» дал двигателям задний ход, за кормой вскипели пенные буруны, но парусник с оглушительным треском уже наваливал на бетонный причал, выдирая доски обшивки корпуса и ломая брусья шпангоутов на высоте всего в полметра выше ватерлинии. Сквозь двухметровую дыру легко было пробраться прямо вглубь парусника.
С тех пор курсант Петров увлекся изучением морских катастроф. По какой логике суда не находят достаточного места для маневров на бескрайних морских просторах? Умом такого понять невозможно. Во время одного из самых громких столкновений между двумя пассажирскими лайнерами «Андреа Дориа» и «Стокгольм» на мостике первого из них находились сразу три штурмана и капитан. Во время тумана младший из штурманов отслеживал движение встречного судна по радару, постоянно нанося данные на планшет и каждый раз убеждаясь, что взаимное сближение ведет к катастрофе. Но сообщить об этом капитану он почему-то не решился.
Вникая в детали расследования каждой из катастроф, Петров представлял себя на месте капитана или штурмана и проигрывал в уме порядок правильных решений. Почему эти решения не видели люди на мостике? Уже потом, годы спустя, самостоятельно управляя большими морскими судами, он оценил значение человеческого фактора даже при самом совершенном электронном оборудовании.
В открытом море штурман чаще всего находится на мостике один. Иногда ему хочется выйти в туалет или выскочить в соседнее помещение, чтобы приготовить чашечку кофе. Морским уставом такое не допускается, но кто вспоминает об уставе на грузовом судне с экипажем в пятнадцать человек? С минуту Петров молча наблюдал за движением безликого монстра, быстро надвигающегося в полной темноте на яхту, затем повернулся к товарищам по несчастью.
– У меня две новости, – сказал он. – Хорошая в том, что судно идет точно на нас. Но есть и плохая. Они нас не видят.
– Почему-то я ждал, что ты скажешь об этом именно такими словами. Из классики, – уточнил Паша.
– Эй, это что, он может налететь прямо на нас? Он… он же большой! Он нас раздавит! А мы будем просто так стоять и смотреть? – Мария требовательно схватила Петрова за спасательный жилет.
Худшее из действий – это бездействие, опять вспомнил Петров. Он осторожно отстранил девушку, подошел к удерживающему импровизированный парус канату и подергал его. Руками его было уже не вытянуть.
– Мы стоим поперек движения этого судна. Вместе с парусом из нас получается цель, в которую трудно промахнуться. Надо развернуться. Паша, у нас есть еще веревки?
– Откуда? Все ушло на матрас.
– Надо найти. У нас мало времени.
– Я же говорю…
– А эти не годятся?
– Эти? – Петров посмотрел на девушку. Она вытянула руку вверх, словно указывая на ниспосланный свыше, с затянутого рваными тучами неба знак. Пустого неба. Если не считать возвышающейся над их головами мачты. И двух спускающихся по обеим ее сторонам фалов для сигнальных флагов.
– Мария, ты гений! – крикнул Петров, видаясь к одному из фалов. Ко второму уже подлетал Паша.
– Хочешь поставить яхту на шпринг? – догадался он.
– Единственный вариант. А дальше по ситуации.
Длины двух соединенных фалов должно было хватить, На конце одного из них он соорудил замысловатую петлю, надетую на убегающую к летучему матрасу веревку, и посмотрел на приближающееся судно. Теперь это был не просто набор сигнальных ходовых огней. Под ним четко прорисовывался силуэт высоко поднятого над водой корпуса и массивной надстройки. И мощный, быстро надвигающийся точно на яхту форштевень. Слишком быстро. А накинутая на веревку петля, которая, по замыслу, должна была под действием ветра вознестись к матрасу, стояла на месте.
– Не скользит! – отчаянно крикнул он. – Парусности не хватает. Тряпка нужна, срочно, любая!
– Сейчас. Майку сдеру!! – понял его Паша и взялся расстегивать спасательный жилет. Петли жилета не поддавались.
– Быстрей! – Петров в отчаянье оглянулся. Вокруг по-прежнему была лишь голая палуба яхты. Корпус стремительно надвигающегося судна занимал, казалось, уже половину горизонта. Времени бежать за вещами в каюту просто не оставалось. Мария резко согнулась и пошатнулась, он инстинктивно шагнул к ней, чтобы поддержать девушку, но она уже выпрямилась и протянула руку ему навстречу.
– Вот, это подойдет?
Не раздумывая, он схватил переданную ей тряпку из мягкой, скользящей ткани, кинулся обратно к петле, одним движением ввязал ткань в веревку и вновь вернул петлю за борт. Когда-то, в детстве, точно таким образом он с отцом отправляли записки носящемуся над головой воздушному змею. Бесконечно долгую секунду ничего не происходило. Потом свободный край тряпки резко, словно набравший воздуха шарик, вздулся и петля стремительно заскользила вверх.
– Все кранцы на правый борт, – скомандовал Петров и помчался со свободным концом фала в носовую часть яхты. – Мария, включай на мобильнике видеосъемку. Целься на пароход. И держись за поручни. Крепче.
Сам он уже изо всех сил тянул фал. Яхта начала разворачиваться. Медленно, слишком медленно, отчетливо понимал он. До фатального столкновения оставались секунды. Растянувшиеся настолько, что успели вместить в себя и понимание, что взлетевшая к матрасу тряпка была трусиками Марии, и сожаление, что он и она находятся сейчас не рядом, а в разных концах яхты, и огромную массу другого о сделанном и несделанном из немалой, но и не такой уж долгой, оставшейся за его плечами жизни. Потом он отчетливо увидел над головой надпись латиницей «Viking» и отпустил фал.
11
Капитан «Викинга» Густав Ротенберг был человеком пунктуальным, предусмотрительным, а за последний год, когда начало пошаливать сердце, и активным приверженцем правильного образа жизни. Спать он ложился ровно в 23.30, а вставал в 7.30. Разумеется, если не возникало каких-либо чрезвычайных обстоятельств, коими, по убеждению большинства его коллег по ремеслу, морская жизнь была перенасыщена. Но не на его «Викинге». В 23.20 он, как обычно, поднялся на мостик, окинул взглядом горизонт, посмотрел на развертку радара. Ветер усилился до 8 баллов по шкале Бофорта, точно до обозначенного в прогнозе предела. На радаре высвечивались несколько отметок встречных судов, но все в безопасном отдалении, в районе рекомендованного фарватера. В отличие от «Викинга», для которого мудрый Густав выбрал путь намного южней, в стороне от общих путей, а главное, на 15 миль короче, потому что 15 миль – это час пути, а это две тонны топлива, а все сэкономленное – все равно, что заработанное. О настоящей причине изменения курса с короткой остановкой в море, где часть груза перекочевала в трюм небольшого эстонского судна, он предпочитал даже не вспоминать.
– Если что – я у себя, – привычно буркнул он вахтенному штурману и спустился в свою каюту. Оставшихся до намеченного времени семи минут ему хватило, чтобы сглотнуть привычную порцию виски, почистить зубы, раздеться и забраться в койку, привычно зарегистрировав на электронных часах 23.30. Обычно сон наваливался сразу, мгновенно проглатывая сознание, но сегодня в уме все еще прокручивались детали последней, довольно-таки рискованной операции, а главное – цифры вырученных за нее денег. Еще два – три таких рейса – и можно спокойно уходить на заслуженный отдых в домик на берегу теплого моря. Домик виделся все отчетливей. Четыре окна по фасаду, мансарда, персональный причал с пришвартованной к нему моторной яхтой… Домик почему-то начал качаться, словно сама почва заходила под ним ходуном, а затем начал быстро сближаться с причалом и яхтой, Густав отчаянно вращал невесть откуда появившийся штурвал, чтобы отвести дом от столкновения, но уже понимал, что маневр начат слишком поздно…
Он проснулся в холодном поту, некоторое время еще витая в зыбких границах сна и реальности, не в силах понять, к чему относится явственное ощущение удара. На часах было 00:17. Сонливость исчезла окончательно. Полежав еще немного, он подумал, что уже давно не инспектировал, как несут вахту штурмана в ночное время, особенно этот пройдоха-украинец с его странной фамилией. Натянув брюки и накинув на голый торс легкую куртку, он вставил ноги в мягкие шлепанцы и вышел из каюты на ботдек, чтобы забраться на мостик незамеченным, по наружному трапу. Северный, но довольно теплый ветер взметнул расстегнутую куртку вверх, и застежкой молнии чувствительно хлестнуло по лицу. Поморщившись, капитан застегнул куртку, привычно провел глазами по горизонту за кормой, взялся рукой за поручень ведущего на мостик трапа, но внезапно остановился и повернулся назад. В полной темноте над головой по-прежнему висели тяжелые тучи, надежно скрывая небесные светила, но за кормой, на востоке, между тучами и линией горизонта уже пробивался первый отблеск раннего рассвета. Часть горизонта, однако, была перекрыта посторонним объектом. Еще больше воодушевленный обнаруженным, наконец, непорядком, Густав решительно зашагал по палубе, освещенной слабым фонарем наружного освещения, в сторону кормы. Спуск на ют, однако, оказался плотно перекрыт странным, перетянутым веревками предметом, над которым ветер трепал ткань, очень напоминающую по форме то ли укороченную трубу колдуна для определения направления ветра, то ли женские трусики. Рейлинги, ограждающие ботдек, были сильно погнуты. Капитану стало не по себе. Осторожно приблизившись, он вгляделся в конструкцию и увидел, как от нее тянется заклинившийся на кормовой лебедке канат, ко второму концу которого привязана яхта. Такая, как из недавнего сна. На ее палубе довольно отчетливо был виден плотного телосложения мужчина в спасательном жилете.
12
Матрас вновь рванулся в свободный полет, вперед и вверх, увлекая за собой, вдоль по ветру и в сторону от надвигающегося на них судна, корму яхты. Но мореплавателям было уже не до него. Острый форштевень скользнул мимо «Марии», но проносящийся мимо правого борта корпус, как магнит, все же притянул к себе на миг яхту, боднул ее походя так, что на яхте все загудело, вновь притянул к себе, но уже не успел нанести второй сокрушительный удар – мощная пенная струя воды от винтов десяти тысячетонного монстра оказалась сильней притяжения, яхту отбросило вновь, уже за корму «Викинга». Отбросило – и оставило в кильватерной струе!
Ветер бесновался по-прежнему, но качка прекратилась почти полностью. Веревка с матрасом крепко зацепилась за корму грузового судна, и невольный буксир, как огромный утюг, сглаживал за собой поверхность моря. Яхта неслась следом. Правда, вопреки всем законам мореплавания, с одной странностью – кормой вперед.
– Вы в порядке? – спросил Петров, поднимаясь с палубы, на которую его бросило ударом о корпус судна.
– Кажется. – Паша помог подняться оказавшейся рядом с ним Марии. – Ты как, ласточка?
– Сама не знаю. Но приключений мне уже, кажется, более чем достаточно. До конца жизни. Но до этого, по-моему, не так уж и долго осталось. Кстати, куда мы плывем?
– Пока – на запад, – машинально ответил Петров.
– Ребята, а ведь мы целы! Это фантастика какая-то! – Паша с восхищением посмотрел на капитана крохотной команды. – Нет, правда. Как говорится, шляпу долой! Такой маневр – во сне не приснится. Да еще и на буксире оказались! Как ты такое рассчитал – ума не приложу.
– Я тоже, – признался Петров. – Рассчитать такое невозможно. Матрасом я просто надеялся отвести яхту от прямого удара. А за корпус матрас зацепился чисто случайно. Вопрос в другом: что нам делать теперь?
– Да это же просто! – Мария, удивленная таким очевидным непониманием ситуации, даже всплеснула руками. – Теперь-то мы в безопасности! Судно идет в порт, они нас и дотащат. Даже если не заметят. Да скоро заметят, смотрите, уже светает! Да все хорошо, что вы.
– Правда?
– Ну, если не считать, конечно, моей испорченной репутации. Да и… Бог с ней. Эй? Что тебе не нравится, капитан?
– Хотя бы то, что нас до сих пор не заметили. И потом…
– Что потом?
– Не знаю, сколько выдержит эта веревка. Если порвется, останемся и без буксира, и без плавучего якоря.
13
Штурман с фамилией Наливайвода, которого капитан в зависимости от настроения называл или по должности, мэйт, или, в более благостном состоянии духа, мистер Нал, развалясь в предназначенном исключительно для капитана кресле, причем развернутом так, что штурман сидел спиной к лобовым окнам, хлебал кофе из большой пластмассовой кружки. На голове его были надеты наушники, и, прихлебывая кофе, штурман в такт только ему слышимой музыке подергивал левой рукой. Дверь с подветренного борта была открыта, и Густаву удалось подобраться к помощнику незамеченным.
– Как обстановка, мэйт? – громко спросил он, удовлетворенно хмыкнув, когда штурман от неожиданности дернулся и пролил кофе на новые джинсы.
Пробормотав что-то на непонятном капитану языке, штурман нехотя стянул с кресла объемистое тело и ответил на английском:
– Все в порядке, сэр. Не ожидал вас увидеть в такое время. Боюсь, джинсы надо срочно замочить, а то потом не отстираются.
Густав нахмурился. После маленькой перегрузочной операции, в которой пронырливый штурман играл ключевую роль, он, похоже, решил, что субординации для него более не существует, а вот этого допускать на судне ни в коем случае нельзя.
– Боюсь, мистер мэйт, вам сейчас будет не до запачканных брюк. Потрудитесь мне объяснить, почему мы буксируем чужое судно?!
– Что? – схватив по дороге бинокль, Наливайвода кинулся на крыло и посмотрел за корму. – Но, сэр, там ничего нет!
– Что значит, нет? Бегом на корму и сразу с докладом ко мне.
– Есть, сэр!
Наливайвода спустился на ботдек, подошел к искореженным рейлингам, потрогал матрас и внимательно рассмотрел яхту, которую с мостика из-за высокого среза кормы просто не было видно. Первым его побуждением было скинуть буксир в воду и сказать этому придурку капитану, что тому все померещилось, он даже взялся за канат, но сложная веревочная конструкция переплелась с рейлингами и кормовой лебедкой немыслимым образом, без ножа было не обойтись, а такового под рукой не оказалось. На яхте, привязанной почему-то кормой вперед, стоял плотного сложения парень и что-то кричал, а затем к нему присоединились еще двое – парень и девушка. Наливайвода помахал им рукой, широко улыбнулся и вернулся на мостик.
– Сэр, у них эстонская прописка.
– Что?! Вы хотите сказать…
– А как еще они могли прицепиться к нам? Не на ходу же! И ни при мне. Определенно на вахте третьего помощника.
– Понятно, что не на ходу. Но с какой целью? Мы решили все вопросы, эстонцы расплатились сполна. И они заинтересованы, чтобы в следующий раз… Нет, здесь что-то не так. И они не отвечают на запросы по рации.
– А если они сбежали?
– Откуда сбежали? – машинально спросил капитан, пораженный неистощимой фантазией помощника.
– Из Эстонии, например. Из тюрьмы. Там один лысый такой, вполне похож. Или от наших компаньонов. Яхтой управлять не умеют и решили к нам прицепиться. Может, они их захватили, а потом…
– Мистер Нал, хватит фантазировать.
– Сэр, если позволите, я только хочу сказать, что у нас два выхода.
– А именно?
– Первый – это просто обрезать буксирный канат и забыть об этом.
– Забыть? Гм… Любопытно, какой же, по вашему мнению, второй выход?
– Остановить двигатели и спросить их, как они оказались в таком положении. Мне показалось, что они просят помощи. А в этом случае…
– Да-да, я понял вашу мысль. Разбудите боцмана. И еще матроса этого, самого здорового, с бородкой. Ну, вы понимаете, о ком я говорю.
Имена капитан запоминал плохо.
14
Мария готовила бутерброды, раскладывая на них нарезку лососины, поверх которой она размещала кружочки лимона и ломтики авокадо. Петров подсвечивал ей мобильником и разливал вино в стоящие в специальных держателях стаканы. Яхту почти не качало. Паша присматривал за обстановкой снаружи.
– И чем ты занимаешься, когда не готовишь бутерброды и не топишь яхты? – спросил Петров.
– Рисую картины. Которые никто не покупает. Только я вам уже почти всю свою жизнь рассказала, а про вас ничего не знаю. Кроме того, что вы крейзи. Симпатичные, но крейзи. Почему Паша называет меня ласточкой.
– Не обижайся на него. Он хороший парень и никогда бы не всучил клиенту утопленника. Паша! – крикнул Петров. – Почему ты называешь Марию ласточкой.
Паша с готовностью забрался в кают-компанию, и взял наполненный до половины небьющийся стакан с вином.
– Я всех красивых женщин так называю. Чтобы не перепутать имена. И потом они все такие… ласточки. Так что за вас!
– Минуточку. – Мария опустила бокал. – Мне все-таки интересно. Как женщине. Вы обещали быть откровенными. Почему вы боитесь их перепутать? Их так много и у вас плохая память? Вы меняете женщин, как перчатки?
– Упаси Боже! У меня всего одна пара перчаток. И две любимых женщины. Жена и… не жена.
– Так. А теперь с этого места подробней.
– Куда уж подробней. Только сначала выпьем, чтобы не расплескать. За знакомство! – Паша одним движением опрокинул в горло стакан вина, со смаком закусил бутербродом со щедрым куском лососины и блаженно улыбнулся. – Из тебя, ласточка, получится хорошая хозяйка, уж поверь мне на слово. Я как-то в Эмиратах познакомился с человеком, у него три жены, и он всех любит. Геи и лесбиянки устраивают парады, гордятся собой – это считается нормой. Что противоестественного в том, что я люблю сразу двоих?
– Значит, ты считаешь это нормальным?
– Конечно. Иногда я думаю, как могло быть хорошо, если бы мы жили втроем. Так и представляю: просыпаешься утром, слева тебя одна жена греет, в справа вторая. И все счастливы. Вот жизнь!
– Интересно… А если бы наоборот?
– В каком смысле?
– Ну, если бы ваша жена любила сразу двоих?
Паша счастливо улыбнулся.
– Ласточка, история не терпит сослагательного наклонения. Воспринимай жизнь такой, какая она есть! А теперь, извини, мне пора на наверх, на вахту. Наш капитан уже косо на меня смотрит.
Мария обескуражено повернулась к Петрову.
– Теперь, наверное, он на меня обиделся. Я сама виновата, что попала в эту переделку как непрошеная гостья, так еще и дурацкие вопросы задаю.
– Не вижу в них ничего дурацкого. Мне и самому было интересно, что Паша ответит.
– И еще он постоянно намекает, как будто у нас с вами какие-то отношения. Хотя мы едва знакомы.
– Ну, это дело поправимое, – то ли в шутку, то всерьез сказал он, не сразу оценив двусмысленность собственного ответа.
– Ребята, – закричал из кокпита Паша. – Они нас заметили.
15
«Викинг» замедлял ход. Какое-то время он еще скользил по инерции, потом винты под кормой завращались в обратную сторону, натяжение буксира ослабло, и корма судна стала приближаться. Казалось, еще миг и яхту затянет в гигантскую мясорубку. На долю секунды Петрову показалось, что «Викинг» решил таким образом избавиться от ненужных хлопот. Но капитан судна знал свое дело. Винты опять изменили характер вращения, корпус судна начал смещаться вбок, яхта переместилась к левому борту, и Паша принял сброшенный сверху толстый швартовый конец. «Марию» к этому моменту развернуло так, что оба судна, огромное и крохотное, стояли, наконец в одном направлении, и большое надежно прикрывало маленького соседа от убийственных ударов волн.
Кто-то из экипажа «Викинга» спустил с высокого борта судна прямо на палубу яхты веревочный штормтрап.
– Ну вот, кажется, все наши проблемы на сегодня окончились! – Паша ликующе ухватил трап за деревянную балясину и сделал приглашающий жест: женщины и дети вперед.
В этот момент яхту качнуло, и Мария, едва взявшись за убегающую вверх балясину, испуганно отдернула руку.
– Ой, я никогда не забиралась по таким лестницам!
– Ласточка, в жизни все бывает в первый раз. Хватайся, когда яхта будет в высшей точке, и сразу поднимайся. Только быстро. Мы тебя подстрахуем. Главное, запомни правило трех точек. В любой момент у тебя не должно быть меньше трех точек соприкосновения с трапом. Две руки и нога или две ноги и рука. И ни в коем случае не цепляйся руками за балясины, то есть за ступеньки, только за боковые веревки. Запомнила? Тогда вперед!
– Да, только…
– Только что?
– Мне страшно подниматься первой. Давайте, я после вас.
– Так не годится. Если что, мы тебя подхватим.
– Она стесняется, – догадался Петров. – Верно?
– Ну, просто не хочу, чтобы вы снизу подглядывали. И не говорите мне, что не будете.
– Так темно же…
– Темно?
Короткая летняя ночь уже сдавала позиции наступающему с востока рассвету, и они довольно отчетливо различали друг друга. Вдобавок ко всему на «Густаве» прямо над их головами зажглась люстра и трудно различимая в бьющем сверху свете фигура замахала руками:
– Come on, come on, faster.
– Нас торопят, – сказал Петров. – Сделаем так. Паша поднимается первым и договаривается, чтобы сверху спустили страховочный пояс для Марии. Давай, Паша. Только… говори с ними только о поясе, и ни о чем другом, лады?
– Как скажешь, капитан!
Паша с готовностью прыгнул на штормтрап и с неожиданной легкостью вскарабкался на высокий борт грузового судна. Петрова тем не менее не оставляло тревожное чувство, что что-то происходит не так. Он попытался представить себя на месте капитана грузового судна в рядовом коммерческом рейсе, когда основная задача – это провести судно из пункта А в пункт В кратчайшим способом, с минимальными затратами топлива и времени. Любая непредвиденная задержка не сулит ничего хорошего. Тем более разборка с невесть откуда взявшейся яхтой…
– Спасибо. – Мария улыбнулась. – Кажется, я по-другому начинаю смотреть на мир. Спасибо.
– Здесь не за что говорить спасибо. Это был вопрос целесообразности или, если хочешь, логики, не более того. Капитан покидает судно последним, с этим не спорят. Да еще и непонятно, как нас на этом судне встретят. Мы для них можем оказаться еще тем подарочком. Кстати, когда спустят страховочный пояс, тебе все равно придется выбираться первой.
– Все равно спасибо. И…
Мария неожиданно потянулась в нему и поцеловала в щеку влажными от морских брызг губами.
– Эй, – раздалось сверху, и вместо ожидаемого страховочного пояса по штормтрапу спустился Паша. – Я ничего не пропустил?
16
– Что-то ты быстро. Не понравилось наверху?
– Наверху житье не худо… – Паша озадаченно почесал бритый затылок. – Кажется, тебе лучше слазить туда самому. Они спрашивали капитана, хотели, чтобы я им подписал какую-то бумагу. Мутные они. Я чего-то не понял. У тебя английский получше будет. Может, все вместе пойдем?
– А страховочный пояс?
– До пояса как-то не дошло. Я же говорю, они мне лабуду про спасение стали вешать и все хотели, чтобы я им что-то подписал. Но я сказал, что капитан остался на «Марии», только тогда отстали.
– Если мутные, кому-то лучше остаться здесь. Я схожу один, поговорю.
Петров замешкался, прикидывая, надо ли взять с собой документы на яхту, но решил, что с этим лучше не спешить. Он убедился, что мобильный телефон размещается, как обычно, в правом кармане джинсов, а бумажник с личными документами в левом, повернулся к трапу и с изумлением увидел на нем Марию. Девушка, как заправский моряк, быстро перемещалась вверх, точно следуя инструкции: две руки держатся за боковые веревки, одна нога на нижней балясине, другая идет вверх, затем… Он поймал себя на мысли, что его контроль за продвижением Марии уж слишком сконцентрировался на ее ногах и посмотрел на напарника. Паша, перехватив его взгляд, тоже перестал пялиться на женское тело, широко улыбнулся и поднял вверх большой палец.
Несколько секунд спустя Петров, следом за Марией, оказался на палубе грузового судна.
– Добро пожаловать на борт «Викинга», капитан! – Одутловатый, с слегка отвисшим брюшком мужчина лет пятидесяти от роду или старше в растоптанных шлепанцах на босу ногу расплылся в улыбке так, словно пытался продемонстрировать все свои, недавно обновленные зубы. – Ловко вы ко мне прицепились. Да еще кормой вперед. Это что, удобней?
– Да как вам сказать… – Петров, то ли подтверждая слова собеседника, то ли отвергая, неопределенно покачал головой. Паша был прав. Меньше всего ему верилось в искренность улыбки. С чего бы это, скорей всего, поднятому среди ночи капитану грузового судна радоваться невесть откуда свалившейся проблеме?
– Ну, капитану всегда легче понять другого капитана. Кстати, куда вы хотите попасть, в конечном счете? Извините, мне, конечно, следовало бы пригласить вас и вашу леди, – капитан «Викинга» картинно поклонился Марии, – на чашечку кофе, но сначала я хотел бы уладить кое-какие формальности. Может быть, для начала вытащить яхту на палубу? Давайте я отведу леди в каюту, а затем мы с вами…
– Нет! – на неожиданно хорошо поставленном английском заявила Мария и взяла Петрова под руку. – Я подожду здесь. С моим капитаном.
– Как скажите, как скажите… – Петрову показалось, что в словах шведа прозвучала нотка сожаления, и он решил сразу расставить точки над i.
– Какие именно формальности вы имеете в виду?
– О, ну это же просто! – лицо шведского капитана вновь озарилось улыбкой. – Мы все-таки в море, любая ситуация должна фиксироваться сразу, чтобы избежать недопонимания в будущем. Спасательная операция вызывает задержку рейса, а вы еще и повреждения нам нанесли. Я же должен потом как-то оправдываться перед судовладельцем.
– О каких повреждениях вы говорите?
– А я покажу!
Капитан отвел их к надстройке с выгнутыми от рывка швартового каната «Марии» рейлингами, и к ним присоединился еще один человек с плутоватой физиономией, которую Петров, если бы не время и место, без раздумий отнес к хохляцкой.
– Это незначительное повреждение, – сказал Петров.
– А я и не говорю, что значительное. Но ведь есть! – капитан повернулся к вновь прибывшему. – Чиф, приготовьтесь к подъему яхты на борт. Где-нибудь в районе третьего трюма.
– Есть сэр!
– Подождите, – остановил рвение штурмана Петров. – Разве мы говорили о подъеме? К тому же вы нанесли нам гораздо большие повреждения. Я думал, это и есть реальная тема нашего разговора.
– Мы – вам?
– Разрешите мне, сэр? – обратился к опешившему от такой наглости капитану штурман. Не дожидаясь ответа, он повернулся к Петрову с Марией и на чистейшем русском с совсем небольшой примесью украинского акцента сказал:
– Вы чего, ребята, совсем поляну не просекаете? Не знаю, что у вас за проблемы были с этим эстонцем, но раз уж вы от него ушли с нашей помощью, хоть не выпендривайтесь. Кстати, куда вам надо? Нам вас проще всего в Киле высадить.
Рука Марии, просунутая под предплечье Петрова, напряглась.
– В Киль мы и без вашей помощи доберемся, если надо будет, – ответил он. – Только нам туда не надо.
– Говорите по-английски, – не выдержал капитан «Викинга». О чем вы там договариваетесь.
– Сэр, яхтсмены, похоже, чего-то не понимают. Они не хотят в Киль.
– О’кей, чего же они тогда… Тьфу, чего вы тогда хотите? – переспросил капитан.
– Дайте нам с леди две минуты.
Петров повернулся и отошел по ботдеку на несколько метров в сторону, так, чтобы их не могли подслушать, и не отпускающая его предплечья Мария послушно последовала за ним.
– Я не очень поняла, в чем смысл происходящего, но я не слишком бы доверялась их словам, – призналась она. – Да еще два этих типа, которые стоят и молчат. У них такие рожи. И у одного из них, мордастого, ломик в руке, но он его прячет. Зачем он его прячет?
– Значит, мы думаем одинаково. Дело в том, что, по морскому праву, если мы подпишем просьбу о помощи, а яхта окажется на борту, она просто перейдет в их собственность. Конечно, это не так просто, владельцы могут подать иск в суд, но тогда половину моей оставшейся жизни мне придется нанимать адвокатов и сидеть на судебных заседаниях где-нибудь в Гернси или в Стокгольме пока адвокаты не вытрясут оставшиеся деньги из всех участников. Как-то меня такая перспектива не радует. К тому же здесь какая-то темная история с эстонцами. Кажется, они не очень верят, что мы прицепились к ним на ходу. Да я и сам бы, наверное, не поверил. Значит, они имели дело с эстонцами совсем недавно, явно не в порту, иначе яхта не могла быть не замечена. Скорей всего, они перегрузили какую-то контрабанду или левый груз прямо в море, такое случается. А это только осложняет ситуацию.
– И что тогда нам остается?
– Тебе надо остаться. Дойдешь с ними до Киля, там сядешь на самолет и вернешься домой.
– Но я…
– Я дам тебе денег, не беспокойся. А мы с Пашей как-нибудь разберемся с яхтой, не первый раз.
– Нет.
– Нет – что? – Петров повернулся к девушке так, что их лица разделяло не более двадцати сантиметров, и посмотрел ей в глаза. Мария не отводила взгляда.
– Я знаю, вы с Пашей крейзи. Но я не останусь с этими рожами. Вам я верю, а им нет. Принимай решение, капитан. Я буду с тобой.
На секунду их лица сблизились еще больше, и Петров вспомнил утверждение Паши, что все отношения между мужчиной и женщиной зависят от химии, точнее от флюидов, излучаемых спрятанной возле носа секрецией. И что поиск своего мужчины или своей женщины зависит исключительно от совпадения этого состава этих флюидов. Больше всего ему сейчас хотелось проверить это утверждение. Вместо этого он повернулся и направился к поджидающим их командирам «Викинга».
– Мы готовы сформулировать свои требования.
– Требования? – изумился капитан.
– А как иначе сформулировать, когда судно не ведет соответствующего наблюдения за морской обстановкой и налетает на яхту, у которой были небольшие проблемы с двигателем и горели огни, требовавшие повышенного внимания. Счастье, что нам удалось отвернуться на нашей уменьшенной скорости. Хотя и не настолько, чтобы на борту яхты не осталась заметная вмятина.
– Готов поклясться, что вы придумали это прямо сейчас, – вмешался украинец.
– Вмятину?
– Или видео наезда, которое мы уже отправили нашим друзьям в фейсбуке? – неожиданно добавила Марпия. – На YouTube будет смотреться просто классно.
– Тогда, может быть, посмотрим вместе? – украинец требовательно протянул руку к Марии, и она испуганно отступила. – Ну-ка, красавица, дай мне свой мобильник.
– Чего это?
– Давай, не ерепенься.
– А то что?
– Не хочешь мне, передай вон тому симпатичному хлопцу, – он указал на мордастого парня с короткой бородкой, который, уже не пряча ломика, сделал шаг вперед.
– Хенде хох! Не двигаться!
Петров неверяще уставился на источник громогласного требования. Из-за борта, там, где к «Марии» был спущен штормтрап, по пояс выглядывала массивная фигура Паши. Одной рукой он придерживался за планширь. Вторая рука направляла на мордатого моряка ствол пистолета.
– Всем два шага назад. Живо. Петров, переведи этим придуркам, если не понимают.
– Кажется, понимают.
– Вы кто, пираты? – первым обрел дал речи капитан «Викинга». – Вы хоть представляете, во что ввязываетесь? Мы предложили вам помощь, ничего другого. Давайте разберемся, мы же цивилизованные люди. Чего вы от нас хотите?
– А вот это мы сейчас сформулируем, – ответил Петров.
17
На этот раз Мария спустилась на яхту первой, за ней последовал Петров. Паша дождался, пока матросы «Викинга» не распутали и не передали на яхту матрас со всей его веревочной конструкцией, предохранители и термос с горячим кофе. Все это время он держал капитана судна под прицелом. Лишь когда все затребованное оказалось на борту «Марии» Паша соскользнул по штормтрапу и изо всех сил оттолкнул яхту от борта судна.
– Ребята, валим отсюда, пока эти пиндосы не очухались.
– А валить как будем? – поинтересовался Петров. – Ладонями загребать?
Яхта отошла от борта на несколько метров, но расстояние это больше не увеличивалось.
– Предохранители! – бросил Паша, словно одно это слово объясняло все остальное и, схватив полученную на «Викинге» коробку, кинулся в каюту. Рядом раздались удары по металлу. Мордатый матрос «Викинга», стараясь не высовываться наружу, вытаскивал на борт штормтрап.
– Может, опять матрас? – предположила Мария.
– На этот раз не поможет. В смысле, не поможет, если…
– Если что?
– Тихо, – сказал Петров. – Не сейчас. На воде очень хорошо разносятся голоса. Пошли внутрь, там сейчас будет безопасней.
– Но они уже уходят!
– Дай Бог.
– Они правда уходят. Посмотри.
«Викинг», наконец, начал удаляться. С востока сквозь кроваво-красные облака пробивался рассвет, и теперь было отчетливо видно, как огромный корпус медленно, но ускоряясь с каждой секундой, отдаляется от яхты, открывая ее на волю волн и ветра, и это означало, что импровизированный плавучий якорь или воздушного змея, как получится, вновь надо выпускать за борт. Но делать это на виду «Викинга» очень не хотелось. А в том, что за ними сейчас тщательнейшим образом наблюдают, он не сомневался ни на секунду. Качка усиливалась, но Петрова по-прежнему разрывали сомнения. Выкидывать в такой обстановке матрас означало дать четкое представление о полной беспомощности. Ветер захлестывал на палубу фонтаны брызг и, несмотря на удивительно теплую ночь, вода быстро охлаждала открытые части тела. Вспомнив, что именно теперь открыто у его спутницы, он постарался заслонить ее очередной от порции воды.
– Спрячься в каюту. Замерзнешь.
– Нет, – упрямо мотнула она головой. – Меня укачает. На свежем воздухе лучше, я знаю. И я хочу видеть.
– Видеть, что?
– Что они ушли. Ты же этого ждешь, верно?
– Кому-то же надо наблюдать за обстановкой.
– А почему они разворачиваются?
– Что?
Петров пристально вгляделся в отдаляющиеся очертания «Викинга». Освещенная палубными люстрами корма сместилась вправо, с каждой секундой открывая надстройку и грузовые стрелы.
– Может быть, просто меняют курс.
– Не надо меня успокаивать. Что они могут сделать на этот раз?
– Трудно сказать. Они рассчитывали на приз. Вместо этого мы их унизили.
– Но мы просто защищались, отстаивали свое.
– Кое-кто может думать иначе. И они думают, что у нас есть запись наезда, с которой мы можем сделать невесть что… Кстати, она есть?
– Кажется, была.
– Что значит, кажется?
– Мобильник, – объяснила она. – Наверху он был. Но где он сейчас… Боюсь, он мог свалиться в воду, когда я спускалась на яхту.
– Понятно.
– Видишь, я опять все сделал не так. Скажи, только честно, мы еще можем сделать хоть что-то?
Корпус «Викинга», хотя и в заметном отдалении, как минимум в миле, на глаз определил Петров, продолжал разворачиваться так, что уже отчетливо был виден красный бортовой и первый из топовых огней.
– Трудно даже предположить, что можно сделать с пистолетом, когда на тебя в море прет такая махина, – честно ответил он, все еще не в силах понять, откуда вообще у Паши мог появиться пистолет.
18
«Викинг» набирал ход. Некоторое время капитан Густав молча стоял на мостике, вглядываясь в пустой горизонт. Сердце его бешено колотилось, в груди щемило, и он подумал, что сейчас было бы самое время спуститься в каюту и принять заветную таблетку, прибегать к которой в последнее время приходилось все чаще. Но для этого надо было спуститься по трапу на одну палубу ниже, добраться до аптечки, набрать стакан воды, сесть в кресло, принять лекарство и несколько минут дожидаться, пока по телу не распространиться успокаивающее тепло. А ноги плохо держали уже сейчас. Кажется, таких приключений, да еще под дулом пистолета с него довольно.
Стараясь не показать слабости штурману и мордастому матросу, он кое-как доковылял до диванчика в штурманской рубке и подозвал нерадивого помощника.
– Слушаю, сэр. Кстати, развели они нас с телефоном. Я проверил. Нет тут никакой зоны, ничего они отправить не могли.
– Вот как? Сволочи. Сразу проверить надо было. В общем… я пока побуду тут. А вы разберитесь с обстановкой… – в груди опять кольнуло, и он с задержкой вытолкнул последнее слово, – сами. Вы поняли меня?
– Конечно, господин капитан, – слишком энергично ответил штурман с трудно выговариваемой фамилией. – Я вас понял. Отправить не могли. Но запись видео у них осталась. Возможно и запись нашей грузовой операции. Можете на меня положиться.
Меньше всего он был готов полагаться на этого пройдошистого… Нала, вспомнил капитан, но на еще какие-то слова не оставалось сил, он на миг опустил странно тяжелые веки и словно провалился в черное небытие.
Очнулся Густав от бьющего прямо в глаза света. Откуда мог взяться этот луч? Поморщившись, капитан отодвинулся в сторону, и свет исчез. Вновь открыв глаза, он потер ладонью лоб. В груди еще щемило, но боль уже отступала. Он посмотрел на спинку дивана в том месте, где только что находился сам и увидал четкую полоску солнечного луча. Так до заветного домика у моря можно и не дожить. Сколько же времени надо было провести в рубке, чтобы солнце… Черт, неужели уже вечер? Иначе откуда луч солнца мог взяться здесь, у идущего на запад судна? Встав с дивана, он выбрался в ходовую рубку и вновь вынужден был зажмуриться от бьющего прямо в глаза света.
– Мистер Нал, что это значит? – тревожно спросил он. – Куда мы идем?
– Все, как вы сказали, – бодро ответил штурман. – Разбираемся.
– Разбираетесь? – переспросил капитан, но теперь уже и сам прямо по курсу увидел все ту же злосчастную яхту «Мария». – Вы, вы, вы что задумали, черт вас подери! Мы сейчас столкнемся!
– Но, – уже без прежней уверенности отозвался штурман, – разве не вы сами сказали…
– Я сам – что? Приказал совершить катастрофу и убить людей? Да вы с ума сошли. Я бывший офицер королевского флота! Право на борт!
Не дожидаясь, пока его команда будет выполнена, он сам кинулся к рулю и до отказа нажал штурвал в правую сторону, уже отчетливо понимая, что делает это слишком поздно.
19
Единственным союзником «Марии» было восходящее солнце. Прорвав облака, поток света прямой наводкой бил по утопающей в сверкающей бриллиантами пене яхте, по гребням разгулявшихся волн, чудодейственно сглаживая их, успокаивая разгулявшийся в темноте ветер. Чуть меньше становилась хаотичная качка, чуть больше тепла доставалось обращенным к солнцу спинам Петрова и Марии. И слепящим потоком вливалось оно в высоко вознесенные над водой окна ходовой рубки «Викинга», делая почти невидимыми его бортовые огни, зеленый и красный. Но и без них четко выверенное направление надвигающейся на яхту махины не вызывало сомнений.
Петров и Мария взялись за руки.
– Поцелуй меня, – сказала она, но он и сам уже тянулся к ее губам, почти не испытывая сожаления, что все кончается так быстро и так нелепо. Но разве это не лучше, чем умирать старым и немощным в больничной палате, пропитанной запахами лекарств и смерти? В конце концов, он прожил неплохую жизнь, и уйти из нее так, в борьбе с волнами, в схватке, рядом с красивой женщиной, под платьем которой нет даже трусиков… Но ощущение чего-то незавершенного из того, что он еще мог и должен был сделать в этой жизни, не оставляло его.
Прижав к себе Марию, он повернул ее так, чтобы она могла видеть только его лицо или игру волн за бортом, а сам, даже сливаясь с ней в прощальном поцелуе, не отрывал взгляда от стремительно летящего на них форштевня кровожадного «Викинга». В нижней его части воду для ускорения движения судна раздвигала огромная бульба. Большая ее часть выступом уходила вперед и под воду, и это означало, что основной удар придется на подводную часть яхты, ее подкинет в воздух и уже тогда «Викинг» всей мощью ударит второй раз то, что осталось после первого контакта. И Петров вспомнил. Чуть отстранившись от девушки, он повернул голову к входу в кают-компанию и во весь голос крикнул:
– Паша, пора, наверх, быстрей!
– Уже! – прозвучало в ответ, и палуба под ногами завибрировала. В ту же секунду в кокпит вылетел Паша. Руки и лицо его, даже лысину пересекали темные полосы, как у закамуфлированного перед атакой спецназовца, глаза лихорадочно блестели.
– Завелась ласточка! Куда рулить?
– Куда? – оттолкнув девушку, Петров рванулся к рулю и до отказа вдавил рукоятку телеграфа. Форштевень, увенчанный двумя огромными якорями, уже нависал над ними, и Петров вспомнил когда-то вычитанную историю о том, как пассажиру раздавленной грузовым судном лодки удалось уцепиться за якорь и тем самым спастись, но сразу отмел абсурдность такого предположения. Яхта завибрировала от ощущения вновь обретенной мощи, и рванулась вперед. На долю секунды позже, чем нужно было, чтобы уклониться от удара, безошибочным внутренним счетчиком отметил Петров. Но в тот же миг что-то, вмешавшееся в эти расчеты, заставило форштевень «Викинга» вильнуть в сторону, противоположную движению «Марии», и яхта вылетела из-под навеса форштевня на всю ширь открытого перед ней моря.
– Что, суки, промазали! – торжествующе взревел Паша и в издевательском жесте согнул в локте правую руку. – Хрена вам лысого! Не на тех напали!
– Пальни в гадов, – едва отходя от шока, сказал Петров.
– Пальнуть?
– Чтобы помнили. Высади им пару иллюминаторов.
– Только пару?
– Ну, можешь… погоди, – спохватился Петров. – Не надо стрелять. Кстати, откуда у тебя вообще пистолет?
– Нет у меня никакого пистолета.
– Извини, если выбрал неправильный термин. Револьвер. Шмайсер. Или что там еще у тебя было.
– Только это. – Паша нагнулся и поднял согнутую под прямым углом ручку для якорной лебедки. – Я когда веревки для матраса вытаскивал, натолкнулся на нее. Забыл тебе сказать. В темноте сошла за пистолет. Да и сейчас…
Паша выставил руку с рукояткой в сторону проносящегося мимо «Викинга», и Петров живо представил, как наблюдатели на шведском судне плашмя кидаются на палубу, чтобы избежать шальной пули.
20
– Что это было? – спросила Мария.
Один из движков оказался заклинен, но и на оставшемся яхта довольно бодро тянула в сторону берега по направлению к крохотному эстонскому порту с экзотическим средиземноморским названием Дирхами. Нужный курс держал авторулевой. Паша отмывал с лысины машинное масло в душевой, а может, подозревал по долгому времени отсутствия старого друга Петров, просто спал без задних ног в каюте-пенале или на диванчике в кают-компании. Ветер стихал, и море по инерции все еще неустанно перекатывало тяжелые валы, но уже без пенных гребней, по которым легко, почти не раскачиваясь скользила яхта. Облака разбегались, с каждой минутой сильней и сильней припекало летнее солнце. Мария сидела на верхнем мостике на просторном белом диване рядом с Петровым и, как бабочка из кокона, постепенно освобождалась от покрывающего ее одеяла.
Она не спала. Берега еще не было видно, но он знал, что скоро откроется скалистое побережье Дирхами, в котором уже не раз бывал, и его встретит кряжистый и рассудительный эстонец – владелец причала, ресторанчика и домика-контейнера, в котором он коротает перед телевизором дни, когда в крохотном порту нет пришедших на бункеровку рыбацких траулеров или случайных яхт, с которым они наверняка посидят, рассуждая о жизни, за стаканчиком хорошего виски. И что потом они с Пашей подрядят какой-нибудь автомобиль, чтобы добраться до Пярну и уже там пересесть на автобус, идущий в Ригу, в которой их ждут неотложные, как казалось до последнего момента, дела. Но сначала, конечно, надо будет вернуть яхту прежнему владельцу, скорей всего через того же Эдика и… И он во всех этих рассуждениях не находилось места только для одного – для Марии.
– Это? – отчего-то нервничая, переспросил он. – Ну, Паша вставил новые предохранители, движок завелся. Часа через два будем в порту, оттуда до Таллина час на машине.
– Я не об этом.
– Понимаю. Кажется.
– Вся эта ночь. Это… это как целая жизнь. Как будто я раньше вообще не жила. Не жила, а подавала надежды. В школе, в художественной студии, в академии, на студенческих выставках, у мольберта, на свиданиях. И вдруг, вдруг…
– Все хорошо, – он обнял ее за плечо и тесней прижал к себе.
– Я знаю. Или нет. Но тогда, когда корабль должен был нас ударить…
– Он не ударил.
– Он должен был ударить, у нас не было шансов.
– Шанс всегда есть.
– Мы не знали этого. И в последний момент, который оставляют для самого важного, этот поцелуй. Это… это и было самое важное?
– В последний момент этот поцелуй мог утянуть всех нас в могилу. Но это была бы самая приятная смерть, какую только можно себе вообразить, – попробовал отшутиться он.
– Ты не ответил.
– Ты замечательная девушка, с которой, которая… – Петров запнулся, подыскивая правильные слова, но не находя их, и Мария закончила за него:
– Которая приносит несчастья.
– Напротив. Идти в море мы решили сами, ты здесь ни при чем. Мне… то есть нам с Пашей очень повезло, что ты оказалась на борту. Мы тебе обязаны жизнью. Если бы не ты…
– Если бы не я? Что ты имеешь в виду?
– Ну, я про это… Если бы не твои трусики…
– Знаешь, джентльмен, – вспыхнула румянцем Мария, – мог бы и промолчать.
– Но ты сама настаивала. А шведы их так и не вернули. Почему-то я так и не могу об этом забыть. И…
Петров обвел взглядом горизонт, словно ожидая от него подсказки. Но горизонт был по-прежнему пуст, и даже Паша не появлялся, чтобы прервать затянувшееся молчание, и он вновь повернулся к девушке.
Порыв ветра взметнул ее волосы, полностью закрыв лицо, Петров наклонился ближе, осторожно отвел непокорные пряди в сторону, и ему показалось, что глаза Марии наполнились слезами.
Или это в них отражалось солнце?
Пробитая чакра
1
– Сидите спокойно. Мне надо сосредоточиться. Кстати, моему коллеге тоже!
Карнаухов вздрогнул и поспешно опустил на колени руки, одной из которых он до этого, облокотясь на стол, подпирал скулу, а второй пощипывал ушную мочку. Скосив глаза на жену, он увидал, что и Верочка, чуть сутулясь, застыла в напряженной позе, после чего переключил внимание на экстрасенса. Это был рыхлый мужчина лет тридцати пяти с румяными, по-бабьи свисающими щеками и прозрачно-голубыми глазами. В пухлых кулачках он сжимал полые металлические цилиндры, в которые втыкались изогнутые под прямым углом проволочные стержни. Свободные концы проволоки чутко, как тараканьи усики, покачивались из стороны в сторону. В их движении Карнаухову чудилось что-то недоброе, угрожающее. Да и без того вся обстановка внушала ему не слишком много доверия.
Начать с того, что на враче-экстрасенсе был не подобающий его профессии белый халат или хотя бы пиджак, а шерстяная, крупной вязки кофта с двумя рядами пуговиц, натянутая поверх голубой, не первой свежести рубашки с распахнутым воротом, и мятые домашние брюки. Впрочем, и сам прием велся не в кабинете поликлиники, а в квартире, в тесной гостиной, плотно обрамленной со всех сторон секциями, полками и полочками, главное и единственное предназначение которых заключалось в размещении на их поверхности множества разноцветных фарфоровых статуэток.
Пара таких статуэток, пастух и пастушка, лихо отплясывающие одним им ведомый танец, покоилась в Верочкиной сумке в качестве платы за лечение, поскольку денег, как объяснила порекомендовавшая его соседка Карнауховых, Варвара Васильевна, экстрасенс не брал, и как отблагодарить врача каждый из пациентов думал сам – кто чем богат. И хотя статуэтки, по настоянию упрежденной Верочки, куплены были в антикварном магазине за сумму, весьма ощутимую для семейного бюджета, Карнаухов, мельком обозрев диковинную коллекцию, подумал, что на этих полках наверняка наберется не менее десятка подобных танцоров, а значит врач, на которого так надеется Верочка, может остаться недоволен.
Еще хуже было то, что экстрасенсов оказалось двое. Второй, незапланированный, худощавый до костлявости мужчина с длинным лошадиным лицом, окруженном черной кустистой порослью, был одет в странного покроя вельветовый костюм ядовито-фиолетового цвета. И вот этот второй, наверняка чародей почище первого и тоже с проволоками в руках, очевидно, догадался, что для него не припасено даже статуэтки (разве что разделить пару, терялся в догадках Карнаухов), и мрачно поглядывал на супругов глубоко посаженными темными глазами-буравчиками.
Между экстрасенсами на подлокотнике кресла лежала книга, скрытая краем стола так, что пациентам виден был только край ее страниц. Время от времени они склонялись над ней и о чем-то неразборчиво перешептывались, как студенты на экзамене. Представив вдруг всю их странную компанию со стороны, Карнаухов насмешливо улыбнулся. Черта с два его затащили бы к этим шарлатанам, если бы не младшенькая! Но факт оставался фактом: пятилетняя малышка невесть с чего уже второй месяц таяла на глазах, жаловалась на головную боль, а лучшие медицинские светила города только разводили руками. Где уж этим двоим!
Карнаухов склонил голову набок и в этот момент чернявый, перехватив его ухмылку, мстительно обнажил крупные желтые зубы и, как два пистолета, нацелив на Карнаухова проволоки, сказал:
– В принципе девочка здорова. Но теперь ясно, что на нее оказывается вредное и очень сильное воздействие извне. Поэтому главная наша задача – обнаружить и уничтожить его источник!
– Да, доктор, да! – с надеждой воскликнула Верочка, еще больше подаваясь вперед.
– Нередко виновниками становятся самые близкие люди. Давайте проверим, так ли это?
Чернявый поднял кулаки повыше и проволоки, дрогнув, покатились навстречу друг другу.
– Вот! – торжествующе резюмировал чернявый, и тогда рыхлый, Леонид Ипполитович, повторил проделанную коллегой процедуру и, когда биосенсорные рамки сомкнулись, скорбно покачал головой:
– Видите сами. А теперь поищем точнее. Может быть, все идет от матери?
Он повернулся к женщине, и проволочки разбежались в разные стороны. Верочка облегченно вздохнула. А Леонид Ипполитович уже смотрел на Карнаухова:
– Оказывает ли вредное воздействие отец?
Стрелки скрестились.
– Да что же это такое! – от возмущения Карнаухов даже вскочил со стула. – Я нашу Ляльку люблю больше всего на свете, а вы, вы… уничтожить меня хотите!
Голос его срывался, он широко размахивал руками, и Леонид Ипполитович, быстро опустив рамки на стол, выставил перед собой розовые ладони и закачал ими в воздухе, словно отталкивая невидимую преграду между ним и пациентом:
– Ради Бога, не надо все принимать так близко к сердцу! Поймите, никто вас ни в чем не обвиняет! Здесь нет вашего злого умысла. Все происходит вне вашего сознания и нам вполне по силам разобраться в причинах. И уничтожать мы будем не вас персонально, а эти причины!
– На нем наработанная карма. И три чакры пробито, – подсказал чернявый.
– В самом деле?
Леонид Ипполитович снова подхватил проволоки, поколдовал с ними и сокрушенно кивнул.
– Что, вы сказали, у меня пробито? – спросил Карнаухов и посмотрел на свой свитер и отутюженные, но слегка уже подмятые в коленях серые парадные брюки, будто надеясь отыскать входные отверстия.
– Чакры, – охотно объяснил Леонид Ипполитович. – В переводе с санскрита – колеса. А вообще это такие энергетические вихри, которые снабжают нас энергией из космоса. Кстати, всего по семи каналам. В результате все мы окружены энергетическим коконом, как яйцо скорлупой. А если каналы пробиты, поле вокруг нас искажается и начинает оказывать на ближайшее окружение, особенно на детей, вредное воздействие. Причинами же такого пробития могут быть… Собственно, в этом мы сейчас разберемся.
Карнаухов почувствовал, что вся эта чертовщина вот-вот затянет его в неведомые сети, из которых будет уже не выбраться. Спасение было в одном. И он посмотрел на Верочку, ожидая увидеть в ее глазах так любимую им смешинку, порой доводящую его до сумасшествия. Собственно, и сама Верочка за восемь лет супружества ни былой живости, ни красоты не растеряла; напротив того – чуть раздалась, окрепла, словно соком налилась. Тронь – брызнет! И он трогал, не сомневался, он и сам мужик в силе был, порой в избыточной даже… И все бы у них ладно шло, если бы не болезнь эта Лялькина!
Он смотрел на жену и – вместо ожидаемой смешинки – увидел в ее строгом и чужом, подурневшем вдруг лице бесконечную усталость и укор. А, обреченно подумал он, бабы они и есть бабы, если ребенку плохо, во что угодно поверят. Ладно, перетерпим и это.
– Валяйте! – разрешающе махнул он экстрасенсам и откинулся на спинку стула.
2
Теперь на Карнаухова были нацелены сразу четыре проволоки.
– Определяем, когда была пробита первая чакра!
Голос чернявого звучал гулко и торжественно, словно рождался не в гортани худого, неряшливо одетого человека, сидящего в тесной комнате с дурацкими статуэтками, а под сводами храма, стекая на благоговейно внимающих слушателей с убегающих в поднебесье куполов.
– Произошло ли это в период между пятнадцатью и десятью годами назад? Нет. Между пятью и десятью?
Проволоки скрестились.
– Семь лет назад? Шесть? Так… Зимой? Весной? В марте? В апреле? В мае? Ага… Сзязано ли это воздействие с мужчиной? С женщиной? Понятно.
Карнаухов лихорадочно соображал… Лялька родилась в июле. Значит, в мае Верочка была на сносях. Беременность давалась ей тяжело, пришлось лечь на сохранение, целый месяц он был вольный казак. Кажется, именно тогда они с друзьями и забурились обмывать только что отстроенный огромный Лешкин дом, где среди гостей оказалась и Жанна, весь вечер не сводившая с него черных, как у цыганки, и много-много обещающих глаз. Обещания она в тот же вечер сдержала. А заодно, чертова баба, и сглазила? Да так, что теперь это на Ляльку… Да нет, чушь все это, совпадение, не больше, откуда этим духарикам знать про такое! А и впрямь – откуда?
Карнаухов с подозрением посмотрел на Верочку – не она ли подсказала, в какие точки бить? Но взгляд жены и на этот раз перехватить не удалось: она сидела, выпрямив спину, натянутая, как струна, лицо ее покрывали красные пятна. В такие минуты от нее лучше держаться подальше. Что он и сделал. Фигурально выражаясь, конечно. И даже на стуле сместился чуть в сторону. Но чернявый передышки не давал.
– Эту чакру мы закрыли. Теперь вторая. Пробита ли она четыре года назад? Три? Два? Хорошо. Зимой? Весной? Летом? В августе?
Проволоки безжалостно выволакивали Карнаухова на чистую воду. Но он уже ощутил облегчение. Все-таки первый раз было чистое совпадение. Или наводка. Не было ничего такого позапрошлым летом. Лето тогда вообще выдалось классное. Две недели всей семьей провели в доме отдыха, в выходные на надувной лодке по Гауе сплавлялись, за грибами ходили… нечего тут мозги людям впаривать!
Он победно посмотрел на чернявого. И вздрогнул.
… – воздействие от мужчины? Близкого? Постороннего? Дал ли для этого повод сам?
Проволоки изобразили два креста.
Карнаухов оторопело смотрел на них, не в силах оторвать глаз. Что еще за мужчина? Уж не Верочка ли удружила? Но ведь повод должен был дать я сам. А если…
И он вспомнил.
В тот день, как раз накануне своего дня рождения, Верочка оставалась с детьми дома, а он поехал за подарком во дворец спорта, уже давно превращенный в торговые ряды. Товаров было много, денег мало, и он долго бродил по этажам от прилавка к прилавку. Все, что случилось потом, происходило как бы помимо его сознания и воли. Парень в большом, модном в этом сезоне мешковатом двубортном пиджаке быстро шагал мимо, на ходу вытаскивая носовой платок. Вместе с платком из кармана вытянулся прозрачный полиэтиленовый пакетик, плотно перехваченный черной резинкой, и свалился на пол.
– Эй! – позвал Карнаухов, но парень, не услышав, растворился в толпе. Зато другой, худой и вертлявый, в потертой джинсовой курточке, мгновенно нагнулся, поднял пакетик, сквозь который ясно просвечивали зеленоватые купюры, и, выпрямляясь, наткнулся на взгляд Карнаухова.
– Во подфартило! Хоть раз в жизни! Нет, ну надо же! – голос вертлявого звучал радостно, но с ясно проскальзывающей ноткой сожаления, что радость, по всей видимости, придется с кем-то разделить.
– Отдать бы надо, – не очень уверенно сказал Карнаухов, но собеседник, кажется, даже не слышал.
– Там поделим! – уверенно бросил он, показывая на закуток под лестницей в конце зала, и быстро, не оглядываясь, пошел вперед. Карнаухов, стараясь не отстать, двинулся следом. Пачка была толщиной сантиметра в полтора и тянула, наверное, никак не меньше, чем на тысячу баксов. А если купюры сотенные? Ох бы кстати…
День был выходной, пасмурный, плотные ряды покупателей текли навстречу нескончаемой рекой, но вертлявый лихо протискивался в любую щель, вот-вот исчезнет, поспевать за ним было трудно и, когда тот юркнул в намеченный закуток, Карнаухов почувствовал, что изрядно взмок.
– Ну, наконец! – вертлявый настороженно осмотрелся и с явным облегчением улыбнулся. – Нет, ну чтоб так повезло! Представляешь! Как в кино! Только давай по-быстрому. Пересчитать надо. Здесь или еще куда пойдем, как думаешь? Тебя как звать?
– Неважно. Считай, давай.
Карнаухову было не по себе. Он оглянулся и увидал парня в мешковатом пиджаке. Тот уже явно обнаружил пропажу. Выставив вперед правое плечо, он стремительно рассекал людской поток, цепко охватывая взглядом каждого встречного, и Карнаухов поспешно отвернулся, на всякий случай еще и задвинулся вглубь закутка вплотную к груде пустых картонных ящиков.
– А и верно, ни к чему это, – охотно согласился подельник. – Поделим – и разбежались, верно? А сейчас…
Не докончив фразы, он по инерции проследил карнауховский взгляд, охнул, хлопнул себя по карману, выхватил початую пачку сигарет, впихнул на ее место деньги, тут же выщипнул одну штуку себе и протянул пачку Карнаухову: – Тихо. Атас. Покурим пока.
Карнаухов сжал мятую сигарету губами, нагнулся над зажигалкой, сильно втянул воздух, а когда выпрямился, владелец денег уже стоял возле них.
– Пацаны, вы, случаем, ничего не находили? – прерывистым от волнения голосом спросил он. Грудь его тяжело вздымалась, глаза настороженно перебегали с одного на другого. – Я пакет с деньгами обронил. С баксами. Три тысячи. Не мои они, фирме принадлежат. Не видали?
Взгляд у потерпевшего был жесткий, колючий, вызывал неприятный холодок в спине.
– Да ты чего, братан, откуда! – вертлявый нервно выдохнул сигаретный дым и отодвинулся в сторону. Карнаухов отрицательно покачал головой.
– Баксы у меня, между прочим, все меченые. И номера переписаны.
– Бывает, – Карнаухов развел руками.
– А у вас, пацаны, что за деньги? Покажите! У меня список номеров с собой. Сверим.
– У меня чужого нет, – ответил Карнаухов.
– Нет – так и чего тебе бояться? Посмотрим – и все!
– Говорю же – нет у меня чужого. Что за фокусы еще такие!
– Пацаны! – парень в пиджаке ниже склонил голову, открывая коротко стриженый затылок, вросший в толстую мускулистую шею. – Бабки чужие. И нешуточные. На вас показали. Мне что – братанов созывать? Покажите деньги – и нет вопросов.
– Ладно. Черт с тобой!
Карнаухов нехотя вытащил из кармана бумажник, отнюдь не распухший, раскрыл его и, не выпуская из рук, листнул тощенькую стопку пятилатовиков. В тот же миг пострадавший прогладил ладонями его куртку-плащевку и переместился к вертлявому:
– Нет у меня ничего! – угрюмо бросил тот, отодвигаясь, но владелец денег не отставал:
– Нет – так и бояться нечего! Ну-ка!
– Отдай ему! – сказал Карнаухов.
– Что?
– Отдай!
Но пострадавший уже и сам нащупал свою пропажу. Запустив руку в карман джинсовой куртки, он вытащил пакет, хотел что-то сказать, но вместо этого просто пристально оглядел обоих, повернулся и вышел из закутка. Карнаухов выбрался тоже и направился в противоположную сторону.
С пробитой чакрой!
Он передернулся. После происшествия с деньгами и так несколько дней ходил сам не свой, а тут еще и чакра. Ну ладно, если виноват – так самому и исстрадаться до конца надо! Но ребенок-то здесь при чем?
И эта чакра закрыта! – торжественно заявил Леонид Ипполитович и, словно подслушав карнауховские мысли, туманно объяснил: – Вообще-то мы часто недооцениваем значение раскаивания или, если угодно, покаяния в содеянном, которое определяет нашу судьбу. Карма – это наши психические или этические долги, а любой долг давит на нас грузом, утяжеляет или даже делает невозможным движение по жизни…, впрочем, нам осталось разобраться в последней пробитой чакре. Судя по всему, случилось это совсем недавно, не так ли?
Он кивнул чернявому, и четыре проволоки вновь нацелились на Карнаухова.
– Два месяца назад! – определил чернявый (как раз тогда начала болеть Лялька, вспомнил Карнаухов, и незаметно для самого себя кивнул). – И связано это было сразу с группой людей, мужчин и женщин. Воздействие очень сильное, ощутимо до сих пор. Избавиться от него довольно сложно, надо, чтобы вы сами пришли на помощь… вот, так уже лучше… и, кажется, все!
– Все! – подтвердил Леонид Ипполитович, опуская проволоки на стол и устало потягиваясь. – девочка должна выздороветь за несколько дней. Разумеется, если не возникнет новых факторов. Ну и питание… Ей, да и вам тоже, лучше не есть бананов, бараньего мяса, черной икры и меда. Зато очень благоприятно подействуют орехи, изюм, красная икра, рыба, косточки от яблок – в них много йода, шоколад без начинки.
– Спасибо, доктор! – Верочка порывисто встала и, заметно волнуясь, вытащила из сумочки завернутые в мягкую белую бумагу статуэтки. Осторожно развернув их, она протянула пастушку Леониду Ипполитовичу, а пастуха чернявому экстрасенсу. – Большое вам спасибо за лечение, за ваш труд! У вас такая замечательная коллекция и, может быть… – окончательно смешавшись и покраснев, она тронула за плечо все еще сидящего на прежнем месте супруга, и Карнаухов медленно поднялся. Его покачивало, по лбу обильно струился пот. Тупо проследив взглядом, как хозяин квартиры втискивает фарфоровых болванчиков в хоровод их собратьев, он склонил голову в прощальном жесте, пробормотал нечто невразумительное и вышел следом за Верочкой.
Дом экстрасенса стоял неподалеку от реки, с которой остро тянуло холодом и сыростью, только что прошел дождь, и остатки дождинок, подзадержавшиеся в долгом поднебесном пути, плавно спускались в виде крохотных снежинок, мгновенно исчезающих на мокрой земле и на разгоряченных лицах Карнауховых. Они молча дошли до автобусной остановки, на которой в этот полуденный час не было почти никого, молча проехали весь бесконечно долгий маршрут из Вецмилгрависа до центра города, пересели на идущий в Иманту трамвай и только после того, как сошли на свой остановке и до дома оставалось каких-нибудь триста метров, Верочка спросила:
– Так кто была эта женщина?
– Какая женщина? – оторопело, хотя и для виду больше (в душе он и ждал, и боялся этого вопроса), переспросил Карнаухов.
– Та самая. Шесть лет назад. Когда я лежала в больнице.
– Да ты… Ты что – и вправду всерьез принимаешь все, что эти… – Карнаухов нервно хохотнул и потянулся к жене, как бы желая то ли обнять, то ли встряхнуть ее в подтверждение своих слов, но Верочка решительно отстранилась:
– Не надо, Григорий. Вот этого – не надо! Было – так было, чего уж теперь. Но…
– Да ведь и не было ничего…
– …сейчас речь идет о здоровье нашей дочери, – будто и не слыша возражений продолжала она. – Поэтому мы должны забыть о наших личных обидах и помнить только об одном – о нашей Ляльке. А для этого… Ты помнишь, как сказал доктор: только покаянием, только чистой душой. Кто она?
– Верочка! – Карнаухов, пораженный непробиваемой женской логикой, остановился и, широко открыв глаза, чтобы придать взгляду максимальную искренность и все еще надеясь перевести разговор в шутку, посмотрел на жену. – Давай я завтра же с утра схожу в церковь и покаюсь во всех-всех грехах, прошлых и будущих, и будет душа моя чистой, прозрачной и невесомой!
По Верочкиной щеке побежала слеза.
– Не юродствуй! Для Ляльки это, может быть, последняя надежда, а ты…
И Верочка безудержно, со всхлипами, заплакала.
– Ну что ты, что ты, – пытался ее успокоить Карнаухов, ясно понимая, что это бесполезно и деться ему некуда. – Да ты только скажи – я все, все…
– Кто она?
– Да ты не думай, ничего такого и не было. Мы и виделись всего два раза. У Лешки.
– Кто она?
– Я и забыл… Жанна, кажется. Лешка нас познакомил. Ну, дом мы его обмывали, выпивший я был, притиснул ее разок – она сама пялилась. Ну, и все!
– Не ври! – строго потребовала Верочка. – Ты сам сказал – пару раз. Когда второй был?
– Бог ты мой – да ведь лет прошло сколько! Ну, в кино мы с ней на следующий день сходили. Делать мне все равно нечего было, а фильм шел какой-то… Вот.
– А потом?
– Что потом?
– Не прикидывайся! После кино что было?
– Говорю же – ничего! Домой ее проводил. До дому, то есть. Она с матерью жила, мы заходить не стали.
– В подъезде целовались?
– Да так… на прощание только. А после того я ей и не звонил ни разу! – уже совершенно искренне сказал Карнаухов и невольно расслабился. Уточнений о дне, точнее вечере первом Верочка не потребовала, а во второй все так и было: фильм, несмотря на весь ажиотаж, оказался скучным, погода – мерзкой, Лешка укатил за запчастями в Тольятти, больше идти было некуда, а желания знакомиться с матерью Жанны у него как-то не возникло. А днем позже он с букетом цветов караулил Верочку у ворот роддома, и бумажка с номером телефона случайной подруги словно сама собой вылетела из его кармана.
– Значит, пока я в больнице Ляльку вынашивала, ты… – и Верочка с разворота влепила мужу оплеуху так, что он покачнулся.
Домой супруги вошли, не глядя друг на друга. Левая щека у Карнаухова пылала огнем. Лялька, впервые за последние недели оживленная и непоседливая, встретила их у дверей.
– Мамуля! Папуля! – она по очереди повисела на шее у каждого. – А где вы так долго были? А я, знаете, чего нарисовала? А шоколадку вы мне принесли? А Катька мой домик сломала! А еще…
Карнаухов посмотрел на Верочку и смущенно отвел взгляд.
3
На следующий день Карнаухов отпросился с работы пораньше, зашел в универсам, купил пакетик с нарезанной копченой колбасой в вакуумной упаковке, баночку с махонькими, один к одному, маринованными огурчиками и, потоптавшись у стенда со спиртным, выбрал дорогую шведскую водку Absolut. Уложив покупки в полиэтиленовый пакет, он спустился в подземный переход, выбрался из него перед входом на Центральный вокзал, купил билет и прошел к платформе, от которой отходила электричка на Вецмилгравис.
Ехать было недолго, но погода за это время успела основательно испортиться, воздух потеплел, но пошел сильный дождь, зонта у Карнаухова не было, и он основательно промок. Уже нажимая кнопку звонка перед знакомой дверью, он запоздало подумал, что надо было, наверное, созвониться с доктором, а уж потом приезжать, тем более что экстрасенса может попросту не оказаться дома. Но ему повезло: послышались шаги, дверь приоткрылась, и Леонид Ипполитович недоуменно уставился на нежданного гостя.
– Здравствуйте, доктор! – поспешно сказал Карнаухов. – Я у вас вчера был на приеме. Вместе с женой, помните?
– Ну как же, как же… – не очень радостно подтвердил Леонид Ипполитович и пропустил оставляющего за собой мокрые следы гостя в квартиру. – Где это вас так угораздило?
– Вы о чем?
– Вымокли – где? – уточнил доктор, брезгливо тыча в исходящее паром шерстяное пальто Карнаухова.
– То есть как, где? На улице льет, как из ведра.
– Правда? – Леонид Ипполитович посмотрел в сторону окна и недоуменно пожал плечами. – Не похоже что-то.
– Не похоже?
Карнаухов торопливо зацепил пальто вешалкой за крючок, и петля тут же оторвалась. Он кое-как приспособил пальто на крючке и, не снимая ботинок, метнулся к окну, за которым, сквозь редкие тучи, по-летнему ярко светило солнце. Озадаченно почесав затылок, Карнаухов вернулся, снял промокшие башмаки, поднял с пола пакет с недавними покупками и в нем явственно звякнуло.
– Осторожней! – немного испуганно сказал Леонид Ипполитович. – Фарфор – вещь очень хрупкая, а любой скол сразу сводит его ценность на нет. Поэтому при переноске он требует особого внимания. Даже бумага…
– Это не фарфор! – успокоил Карнаухов, и с заметным звяком водрузил пакет на стол, а затем с гордым видом выставил на обозрение и колбасу, и огурчики, и, естественно, бутылку.
– Что это?
– Вы не волнуйтесь. Водка хорошая, дорогая, из фирменного магазина. Сам я, по правде, такой еще не пробовал, но, говорят, от нее голова не болит.
– Я не о голове. И вообще я не употребляю… Да и по какому, позвольте вас спросить, поводу… – голос Леонида Ипполитовича звучал растерянно, и Карнаухов ободряюще улыбнулся:
– Во-первых, Лялька наша поправляться стала, спасибо вам. А во-вторых… Разговор у меня к вам есть. Такой, чтобы между нами.
– Деликатный, значит? – подсказал экстрасенс.
– Именно!
Карнаухов отодвинул стул, уселся поудобней и убрал пакет со стола. При этом в нем опять что-то явственно звякнуло, и Леонид Ипполитович по инерции повторил:
– Осторожней!
– А нечему биться больше. Это у меня для вас подарок. Сам мастерил! Я ведь вам поначалу, уж извините, не верил, думал, к шарлатанам попал. Сейчас таких – на каждом шагу. И то – виданное ли дело, чтобы две гнутых проволоки на вопросы отвечали! Вот я и думал: крутят, мол, они проволоку сами, куда вздумается, головы нам дурят. И только потом, когда Ляльку увидел, понял… А сегодня утром мысль ко мне пришла: надо сделать так, чтобы уж никто и никогда в деле вашем святом не сомневался! Ну, время у меня сегодня свободное было, я и смастерил.
Рассказывая, Карнаухов достал из пакета две покрытых никелем струбцины с приваренными к ним цилиндриками, отогнул край скатерти со стороны, где сидел Леонид Ипполитович, и прикрутил струбцины к столешнице так, как прикручивают мясорубку. Затем вытащил две согнутых под прямым углом проволоки, вставил их в цилиндры и пояснил:
– Если рамки будут установлены стационарно, уже никто не скажет, что вращение вы создаете сами. А когда пациент полностью доверяет врачу, лечение происходит более эффективно, ведь верно? Так что – попробуем?
– Но рамки должны ощущать руки экстрасенса, по ним передается космическая энергия, – без особого восторга прозвучало в ответ.
– Они и будут ощущать. Беритесь за цилиндрики и задавайте вопросы. Ну?!
– Тут надо подумать… – голос Леонида Ипполитовича звучал хрипло, лоб побледнел, в то время как щеки приняли ярко выраженный морковный цвет, отчего экстрасенс сразу стал выглядеть моложе, и Карнаухов подумал, что они вполне могли бы перейти на «ты». – А водка эта… Голова, говорите, не болит?
– Еще бы она болела! – возмущенно ответил Карнаухов. – За десять латов-то! Так что – попробуем?
– П-попробовать, – начал заикаться экстрасенс, – п-пожалуй, можно. С-сейчас п-принесу рюмки.
Пока Карнаухов скручивал у бутылки головку, Леонид Ипполитович принес две фарфоровые статуэтки в виде аиста с полым, граммов на пятьдесят, бочонком на спине и, ставя их на стол, свободной рукой попытался сдвинуть карнауховские приспособления. Но струбцины были прикручены крепко и не думали поддаваться.
Карнаухов разлил водку в бочонки, поднес своего аиста к носу, понюхал и не обнаружил хорошо знакомого сивушного запаха. Вместо него от водки струился аромат черносмородинного листа. Карнаухов поднял сосуд повыше, протянул его в сторону экстрасенса, но сообразил, что антикварным журавлем чокаться не с руки, и предложил тост за здоровье медиков и их пациентов. Выпив, Леонид Ипполитович закашлялся, на глазах его выступили слезы, и он, словно сгоняя муху, замахал ладошкой. Карнаухов пододвинул к нему банку с огурчиками, и врач тут же отправил парочку в рот.
– Задиристая! – смахнув слезу, сказал он и начал сосредоточенно прожевывать кружок колбасы.
– Не скажи! – возразил гость, добирая огурчик. – Против нашей ей не потянуть. А вот на вкус она, конечно, получше будет. Я и не заметил, как первая проскочила. Повторим?
Леонид Ипполитович опасливо покосился на торчащее перед ним приспособление и согласно кивнул. После третьей Карнаухов приступил к делу.
– Я ведь, Леня, чего пришел. Нелады у меня с этой, как ее… с кармой! Вчера по физиономии мне, извиняюсь, заехала.
– Карма – по физиономии? – изумился экстрасенс.
– Да нет. Заехала Верочка, супружница моя. А перед этим ты меня с этим другом твоим чернявым, можно сказать, при людях раздел. Я уже и сам забыл, а вы… Нет, ну тут я все понимаю. Виновен был, каюсь, а перед даром вашим вообще преклоняться готов! Получил по морде – и поделом! Не о том речь. Но вот ты скажи: получается, что любой плохой поступок сразу сказывается на тебе или твоих близких, так?
– Так.
– Но тогда, получается, плохие люди вообще все вымереть должны! А откуда вокруг нас бандитов да жулья всякого столько?
– Видишь ли, Гриша, – задумавшись, экстрасенс понюхал пустую стопку и отодвинул ее поближе к бутылке. – По большому счету, так оно и есть. Плохими поступками люди вредят себе или своим близким. Но сказывается этот вред не сразу. Да и само понятие – «хорошо – плохо»… Есть среди нас, к примеру, энергетические вампиры. Они вытягивают из нас жизненную энергию, что для нас, конечно, очень плохо. Но для них-то – естественно, им-то на пользу идет! Как тут разобраться? Не знаю! Надо просто научиться их распознавать и держаться от них подальше.
– А как распознавать?
– Для меня это несложно. Я их сразу отличаю. И даже внешне… Чаще всего у них черные волосы и черные глаза – будто насквозь пронзают.
– Знаю! – вскинулся Карнаухов. – У нас бухгалтерша такая – точно вампирша. Как глянет, гадюка! Слушай, а этот, дружок твой, чернявый – он-то как?
– Этот в порядке. Он, кстати, в соседнем подъезде живет. Может, позвать? Ты как, Гриша?
Карнаухов отмерил глазами уровень водки. Снизился он, считая от горлышка, всего на треть, остаток выглядел более, чем внушительно и вызывал сомнение, что управиться с ним удастся вдвоем. И разрешающе кивнул.
4
Звали чернявого изысканным именем Эдуард. На нем был прежний вельветовый костюм и домашние тапочки, а в руках увесистый батон докторской колбасы. Он с сомнением осмотрел фарфоровых аистов, презрительно скривил губы, по-хозяйски прошел на кухню и вернулся с тремя гранеными стаканами.
– Ты чего, Эдик? – взволновался Леонид Ипполитович, но чернявый даже не посмотрел на него. Отодвинув аистов, он деловито разлил водку тремя точно выверенными дозами, отчего уровень в бутылке сразу заметно сократился, выпил, крякнул, смачно схрумкал огурчик, а следом за ним крупно нарезанный ломоть докторской колбасы и только тогда обратил внимание ан прикрученное к столу приспособление.
– А это еще что такое?
– Гриша подарок для экстрасенсов придумал, – сказал Леонид Ипполитович. – Чтобы у пациентов сомнений не оставалось, будто мы сами рамки вращаем.
– Ловко! – Эдуард щелкнул по цилиндру-держателю пальцем, подергал его посильней. Усики рамки не шелохнулись. – Ловко. Сам делал?
– А как же! – гордо подтвердил Карнаухов. – Я механиком в автомастерской, у нас там и сварка точечная, и диагностика. Если с тачкой проблемы будут – приезжай, всегда помогу.
– В автомастерской, значит… И платят у вас там, похоже, неплохо.
Эдуард выразительно кивнул на бутылку и наполнил стаканы. Карнаухов поднял свой, посмотрел на свет, вспомнил, что с экстрасенсами лучше не лукавить, и раздумчиво сказал:
– Врать не стану. Особо теперь, когда Лялька выздоравливает. Так вот – насчет заработка хвастать нечем. Но по такому случаю…
– Вот-вот. Случай-то в чем? Экстрасенсов решил на чистую воду вывести?
– Стал бы я из-за этого на Absolut тратиться! – обиженно буркнул Карнаухов и замкнулся. Принесла же нелегкая Эдика! Только что разговор так душевно развивался, естественно, сам собой к главному подходил… он даже отвернулся с досады, взглянул в окно и вздрогнул, сообразив, что сидят они при сильном электрическом свете в окружении фарфоровых истуканов, а за окном повисла глубокая темнота, хотя вроде только что солнце светило… И ведь Верочку не предупредил, что задержаться может, опять дома проблем не оберешься.
Эдуард заглянул в банку с огурчиками, пошарил вилкой среди зеленых водорослей, ничего не нашел, сокрушенно покачал головой, прошел на кухню, вернулся с банкой белых маринованных грибов, тут же выловил самый крупный, втянул в себя и уставился на Карнаухова.
– Ну!
– Что «ну»?
– Выкладывай. Про случай свой. Мы ждем.
– Вот это ты, Эдик, зря, – заступился Леонид Ипполитович. – Григорий – отличный парень, прекрасно соображает, что к чему и очень нас уважает. Правда, Гриша?
– Я тебя уважаю, Леня, – подтвердил Карнаухов. – Но все равно скажу. Да, есть у меня свой интерес. А у кого бы не было на моем месте? На рабочем, я хочу сказать. У нас два месяца назад завезли в мастерскую партию комплектов сигнализации. Каждый комплект по три сотни баксов. Skorpio называется. Слыхали, может? Ну так вот: днем, после обеда привезли, а к утру на склад сунулись – пусто! Вся партия тысяч на десять тянула. Народу у нас немного работает, пятнадцать человек всего, посторонние на склад проникнуть не могли. Так после того случая все друг на друга волками смотрят. Ни премий теперь, ни… Шеф нам раньше, чтобы налогов меньше платить, часть зарплаты черными выдавал, а теперь, говорит, и тех нет. Пришла беда – отворяй ворота. А тут и Лялька…
– Все понятно, – Эдуард заполнил паузу грибочком и пояснил:
– Ребята ваши начали друг на друга думать, а на тебя особенно, вот и сглазили. Я же говорил в прошлый раз – группа мужчин и женщин. Есть у вас там женщины?
– Две.
– Ну, вот! Да ты не расстраивайся, чакру пробитую мы тебе закрыли, живи спокойно.
– Легко сказать – спокойно, когда вокруг такое. Братцы, Христом – Богом прошу, помогите!
– Да я для тебя, Гриша… – Леонид Ипполитович, выпятив губы трубочкой, потянулся к Карнаухову, но Эдуард силой усадил его на место.
– В чем конкретно тебе надо помочь?
– С сигнализацией этой. Кто ее увел? Определите, что вам стоит. Проволоками вашими.
– Пожалуйста!
Леонид Ипполитович выхватил свои проверенные рамки, направил их на Карнаухова, начал было задавать первый вопрос, но тут же замолк. С проволоками происходило что-то непонятное. Они то скрещивались, то начинали метаться из стороны в сторону, то, вращаясь в одном направлении, будто гнались друг за дружкой, ухитряясь одновременно перемещаться и по вертикали.
– Что это с ними? – спросил изумленный экстрасенс. – Второй раз вижу такое. Первый был, когда Лена ушла…
– … и мы с тобой поддали, как следует, – закончил за него Эдуард. И пояснил: – Жену его Леной звали. Бывшую. Это она начало фарфоровой коллекции положила. А потом… Давай, Леня, я попробую.
Эдуард потянулся к своему коллеге за рамками, но теперь уже Карнаухов остановил его:
– Подождите, мужики. Мне выйти надо.
Григорий поднялся из-за стола и, старательно удерживая равновесие, вышел в коридор. Сюда выходило несколько дверей. Открыв одну, он обнаружил, что она скрывает за собой встроенный платяной шкаф. Другая вела в маленькую спальню с неряшливо заправленной двухместной кроватью. Подумав, что рыскать по всей квартире в поисках туалета не слишком уместно, Карнаухов решил призвать на помощь хозяина или Эдуарда. Вернувшись к гостиной, дверь в которую была прикрыта неплотно, он уже взялся за ручку, но сразу отпустил ее. Сквозь щель было отчетливо видно, как экстрасенсы, сгрудясь у прикрученных к столу рамок, по очереди охватывали ладонями цилиндрические основания и что-то горячо нашептывали. Концы же проволок при этом, несмотря на все увещевания, оставались неподвижными.
Стараясь шагать бесшумно, Карнаухов вернулся к неисследованным еще дверям и сразу отыскал ведущую в туалет. Возвращаясь, он нарочито громко сдернул ручку сливного бачка, зацепил ногой тазик у стенки, со стуком захлопнул дверь. Экстрасенсы, как ни в чем не бывало, сидели на своих местах и с отсутствующим видом, смотрели в разные стороны. Не присаживаясь, Канаухов разлил остатки и предложил выпить за крепкую мужскую дружбу, которая надежней и верней любых лекарств. Оба врача с готовностью вскочили и сдвинули стаканы. Три последних кружка колбасы мгновенно перемололись в крепких мужских челюстях. Эдуард внимательно осмотрел опустевшую посуду и поднял глаза на Карнаухова.
– Видишь ли, Григорий, мы тут немного посовещались и решили, что определять с помощью рамок злоумышленника, стащившего в твоей мастерской несколько железяк, пусть и дорогих, не вполне этично. Помогающая нам сила дана для исцеления, а не для обличения, и если использовать ее не по назначению… К тому же экстрасенсорное провиденье не может служить доказательством. Представь, что ты придешь и на такой основе укажешь на конкретного человека. Тут не только пробой в чакре, тут и по физиономии схлопотать недолго! Так что…
– Все верно, мужики! – Карнаухов поднял руку с раскрытой ладонью – жестом понимания. – Я и сам так подумал. Вы и без того мне очень помогли. Спасибо. А теперь мне пора. Верочка у меня – женщина строгая.
– Ни пуха! – пожелал Эдуард, а Леонид Ипполитович обнял Карнаухова и таки чмокнул его мокрыми губами в щеку.
Все трое, толпясь, направились в коридор. Карнаухов выходил последним и, уже на пороге, вдруг ощутив за спиной какое-то движение, оглянулся. Люстра под потолком ярко освещала гостиную, блики от фарфора слепили глаза, и статуэтки казались ожившими. Взмахнула крыльями нахохлившаяся сова. Пастушка на серванте переступила с ноги на ногу и – Карнаухов готов был поклясться – опустив правую руку с платочком, подняла вверх левую, пустую. Ее партнер присел ниже. Аист запустил клюв в бочонок своего соседа…
Карнаухов отвел глаза от фарфорового безумия и увидел, как за опустевшим столом трижды сошлись и разошлись, словно в прощальном приветствии, оставленные им рамки.
Англетер
– За твою удачу! – сказал Фельдман, поднимая бокал с шампанским.
– За нашу! – скромно поправил я.
– За нашу, конечно, тоже. Но нам всем повезло, что мостике оказался именно ты. Удача – редкая птица. И уж если родился в рубашке – не вылезай из нее.
– Спасибо. Не буду.
Мы выпили, и я невольно, словно пробуя на ошупь, пригладил пальцами волосы на голове чуть выше правой височной части. Ровно там, где неделю назад, в одночасье, прямо на капитанском мостике, у меня появилась первая в моей жизни седая прядка.
Заметил я ее, конечно, не сразу, фактически лишь на следующее утро, когда с электробритвой в руках подошел к зеркалу над умывальником в моей каюте. Возникла же она, без сомнения, накануне вечером, когда мы при сильном тумане, подходили к датским проливам. На экране радара возникало все больше отметок, но особых помех для нашего теплохода они не вызывали, и я не нервничал. Пока на экране прямо по курсу и всего в трех морских милях от нас не возникла яркая, быстро приближающаяся световая отметка. Капитана на мостике не было, вызывать его по мелочам, как мне казалось, я не стал и, чуть подумав, дал команду рулевому отвернуть вправо на десять градусов. Минуту спустя отметка вновь отбивалась прямо по курсу, но уже значительно ближе. Мы отвернули еще на десять градусов. Отметка каким-то мистическим образом вновь оказалась прямо перед нами. Оторвавшись от экрана, я посмотрел вперед и в тот же миг увидел огни идущего на нас, словно в лобовую атаку, корабля.
– Право на борт! – заорал я, прыгая к судовому телеграфу и переводя ручку в положение «Полный назад». Несколько секунд мы еще двигались по-прежнему, потом палуба под ногами отчаянно задрожала, будто ровная водная гладь превратилась в ухабистую дорогу, по бортам закипели противящиеся движению вперед пенные буруны, но было уже поздно. Я ясно видел, что все мои отчаянные маневры не в силах отвести от нас неуклонно надвигающийся корпус встречного судна. Не такого уж большого, вполовину нашего размера, с застывшей в ужасе на его капитанском мостике группой людей, жить которым, скорей всего, осталось считанные секунды.
О чем я думал в эти мгновения? Кажется, обо всем. Даже о неизбежном судебном приговоре за катастрофу с человеческими жертвами. Сколько мне дадут? 15 лет? 20? Значит, выйду я уже сорока или сорока пяти летним стариком, у которого не осталось ничего, ради чего стоит жить…
До катастрофы оставалось двадцать метров. Десять. Корпус встречного судна скользнул влево, миновал наш усиленный для резки льда форштевень, бесшумно покатился вдоль нашего борта не более чем в двух – трех метрах от него и.… исчез в тумане.
Я перевел ручку телеграфа на «стоп», повернулся к рулевому и увидел, что в рулевой рубке полно людей. Наш корпулентный, похожий на штангиста-тяжеловеса старший механик Иванычев. Единственный в экипаже очкарик – радист Берзиньш. Старший помощник капитана Фельдман. И сам капитан – седой, растрепанный, дорабатывающий последний пред пенсионный год. Тяжело ступая облаченными в домашние тапочки ногами, он подошел ко мне вплотную, положил руку на плечо и сказал, впервые на «ты»:
– Ты все сделал правильно. Но мы оба родились в рубашках.
Сколько он находился на мостике на самом деле, не знаю. Больше мы на эту тему не говорили. Прежде всего, капитану пришлось бы признать, что он грубо нарушил устав, оставив меня, молодого и не слишком еще опытного штурмана одного в особо сложных условиях плавания. Сам же я, раз за разом прокручивая в уме ситуацию, понимал, что нарушил одно из ключевых правил ХОРОШЕЙ МОРСКОЙ ПРАКТИКИ: каждое действие должно быть последовательным и решительным. Не мелкими дерганиями по пять – десять градусов, а сразу право на борт! И раз уж «рубашка» дала мне шанс исправиться…
– А, в общем-то, год был хороший, – сказал Фельдман.
– Конечно! – согласился я. Мы выпили за уходящий 1975-й и поковырялись в мясном салате под названием «столичный».
– А наши уже, наверное, отход оформили.
– Может, и отошли уже, – подтвердил Фельдман. – Дойдут до Кронштадта, станут на рейд и будут Новый год встречать. Ну что, за тех, кто в море!
Мы выпили по третьей, Фельдман посмотрел на часы, пожал мне руку и отправился на посадку самолета в Палангу. Мой рейс на Ригу должен был отправиться раньше, но отлет задержали на час, и я остался расправляться с подоспевшим к этому моменту фирменным блюдом ресторана «Пулково» – цыпленком-табака.
В дальнейшем история выглядит довольно тривиально. Выйдя из ресторана, я подошел к диспетчеру и узнал, что удача больше не благоприятствует дальнейшим событиям моей жизни.
– Ваш самолет улетел, – сообщила женщина в форменном летном кителе.
– Подождите, подождите, – словно надеясь исправить положение, кипятился я. – Как это может быть? Было объявление о задержке рейса на час, прошло всего пятьдесят минут, я тут, а…
– Задержка сократилась. Была объявлена посадка.
– Но я сидел в ресторане, тут же в аэропорту, и никакого объявления не слышал!
– Да? – диспетчер подняла на меня уставшие от пассажирской тупости глаза, и я не уловил в них ни малейшего отблеска сочувствия. – Значит, ресторан забыли подключить.
Ситуация была более чем дурацкая. До Нового года оставалось четыре часа. Следующий рейс ожидался только через сутки. На поезд я уже не успевал. Даже родной пароход, на котором я теоретически мог найти приют, скорей всего уже покинул порт.
Фортуна – женщина капризная. Если один раз смиришься с ее изменой, она тебе этого не простит. Где-то я слышал этот афоризм.
На стоянке перед аэропортом ветер кружил по расчищенному асфальту поземку. В свете прожекторов зябко ежилась плотная очередь пассажиров на стоянке такси, к которой как-то не спешили подъезжать стоявшие поодаль немногочисленные, расчерченные черными шашечками машины. Повернуть от входа направо и встать в очередь означало смириться. Я прошел прямо. К сияющей черным лаком, идеально чистой волге, нахально вставшей прямо под запрещающим знаком. На таких возили только министров. Или секретарей обкомов.
– Двадцатка до центра, шеф, – уверенно бросил я в опущенное передо мной окно. Шофер оценивающе оглядел мою длинную, парижского покроя волчью (искусственную, правда, но кто в те годы был способен это распознать!) шубу из валютного магазина и решительно рубанул ладонью воздух:
– А давай! Успею обернуться. Садись. А куда в центр-то?
– Да черт его знает, – признался я, садясь в сразу рванувшую с места машину. – В гостиницу бы надо.
– В какую?
– А сам выбери. – Я представил обшарпанные диваны, пыльные фикусы в углу, унылую очередь командированных под табличкой «Мест нет» и добавил:
– В самую шикарную!
– В «Англетер», что ли?
– Куда? – не понял я.
– Ты же просил в самую шикарную. «Астория» прямо напротив Исаакиевского собора, обком рядом. Да и мне возвращаться ближе – пока хозяин не появился.
– А «Англетер»?
– Да это – то же самое! Теперь «Астория», а раньше, во времена Есенина, называлась «Англетер». Та самая.
– Во времена Есенина? – зачем-то повторил я.
– Ну, я же и говорю! – обрадовался он. Потом посмотрел на меня и спросил:
– А тебе никто не говорил, что ты похож на Есенина?
Вообще-то к подобным сравнениям я привык, и они мне льстили, тем более что я и сам писал стихи, которые охотно печатали в морской ведомственной газете, а иногда и в городской. Мне было двадцать пять лет, я обладал схожей с Есениным фигурой, овалом лица, таким же, чуть раздвоенным на конце носом, глубоко посаженными глазами. Но больше всего нас роднила пышная шевелюра. Правда, у Есенина, по описанию современников, волосы были русыми, но на черно-белых фотографиях они выглядят скорее темными, как у меня. И еще, подобно Сергею, я с полным правом мог о себе сказать: «Был как все, любил вино и женщин…».
– «Англетер» – это классно! – согласился я. – Только ты вот что, подкати к самым дверям, впритык, окей?
– Заметано!
Все получалось. Я достал из кармана паспорт моряка и вложил в него десятку, но сразу же, не колеблясь, добавил вторую. Водитель лихо тормознул в полуметре от ступеней «Астории» так, что швейцар тут же кинулся открывать передо мной тяжелую гостиничную дверь. Перед стойкой администратора толпилась робкая стайка отчаявшихся просителей. Я прошел прямо к суровой, непреклонного вида даме с высокой, зачесанной назад прической над тяжелыми золотыми серьгами и протянул паспорт:
– У меня бронь.
Дама отточенным движением приподняла корочку паспорта ровно на сантиметр и расцвела в улыбке.
– Конечно, конечно, ваш номер… – она поискала в столе, выудила оттуда ключ с тяжелой деревянной грушей и протянула мне. – Анкетку я заполню сама, не беспокойтесь, подпишите потом. Вот только номер… Извините, но это все, что я могу, у нас даже министерская бронь сегодня снята.
– С соседями, что ли? – нахмурился я.
– Нет, нет, что вы! Просто он… не совсем удобный. Не реновированный. Мы его все время откладывали. Потому что он тот самый, понимаете?
– Неужели – тот?
– Именно! – она придвинулась ко мне ближе и прошептала. – Директор хотел хотя бы до юбилея подождать. А сейчас как раз… Но вы-то, надеюсь, не суеверный?
– Нет, – твердо ответил я. – Я верю только в одно. В удачу.
Мне действительно невероятно везло. Я поднялся по широкой, покрытой красной ковровой дорожкой лестнице на второй этаж и отыскал нужную дверь. Пары шампанского еще слегка кружили мою голову. В комнате царил полумрак, рассеиваемый только наружными фонарями. Я не сразу отыскал на стене выключатель. Точно так, должно быть, впервые вошел в этот номер Сергей Есенин полвека назад. Я мог наизусть процитировать десятки его стихов, помнил имена всех трех его жен и множество других фактов его биографии, у меня в чемодане покоился редчайший сборник писем Есенина, добытый накануне в подворотне у букинистического магазина на Литейном, и мне казалось, что сейчас я могу даже мыслить совсем, как он.
В полумраке двухкомнатный номер выглядел шикарно, но и при свете люстры его заметная обветшалость придавала ему какой-то особый исторический шарм. Окна закрывали тяжелые бордовые портьеры с золотыми кистями. Сняв шубу и пиджак, я присел за небольшой столик у окна с настольной лампой – при ее свете, возможно, Есенин писал свои последние строки… Еще один овальный стол темного дерева, окруженный четверкой стульев с гнутыми резными спинками. Обитый красным бархатом диванчик. В просторной спальне – широкая двуспальная кровать. Я осторожно (не сломать бы!) опустился на нее и качнулся, опробуя пружины. Жаль, что на таком лежбище придется проводить ночь одному. На том самом, на котором когда-то Есенин… Собственно, а спал ли он на ней вообще?
Я попытался вспомнить известные по доступным источникам факты последних дней его жизни. Психиатрическая больница. Софья Толстая. Их последнее свидание – Есенин с бутылкой в руке. Прощальные стихи кровью. До свиданья, друг мой, до свиданья… «Англетер». Или сначала стихи, а потом гостиница? И сколько времени провел он здесь?
Я еще раз обвел комнату глазами, представляя картину того дня. Вот Есенин входит в комнату и замыкает за собой дверь. Снимает пальто (шубу?) и вешает на плечики в шкаф (бросает на кровать?). Подходит к умывальнику и долго всматривается в подвешенное над ним зеркало. Черный человек. Черный, черный. Ты зачем ко мне пришел, черный человек… Потом отворачивается, достает из кармана веревку…
Нет, в этом было что-то не так. Откуда у него веревка? Купил по случаю Нового года на базаре? Этот всегда элегантный, бесшабашный франт?!
Ни в одном из мемуаров не упоминается, как именно было найдено тело Есенина. Подумав, я потянул за узел галстука и в моих руках повисло прочное и узкое полутораметровое полотно. Волоча галстук за один конец, Сергей подошел к… Черт, к чему он мог подойти?
Окно, шкаф, вертикальный стояк парового отопления… – все это было явно не то. Люстра! Я посмотрел на тяжелое бронзовое устройство, подвешенное на толстый, тоже, кажется, бронзовый крюк, встал прямо под люстрой и попытался дотянуться до нее рукой. Куда там! Высота потолка в номере, на мой взгляд, была метра под четыре, и громоздкая люстра не создала бы проблем даже для знаменитой Ульяны Семеновой, лидера латвийской сборной по баскетболу. Тогда я взял стул и, сняв туфли, повторил попытку. На этот раз, приподнявшись на носках, мне, при моих ста восьмидесяти сантиметрах, удалось кончиками пальцев дотронуться до нижнего изгиба одной из лап светильника. Есенин был сантиметров на пятнадцать ниже. А ведь галстук еще каким-то образом надо на люстре закрепить…
Я крутанул галстук, посылая его толстый конец вверх, но мягкая ткань тут же обвалилась. После нескольких безуспешных попыток я утяжелил конец галстука плотным узлом и, наконец, добился своего: синий, расцвеченный блестящими золотыми нитями галстук из Роттердама, гордость моей немногочисленной коллекции, повис на люстре.
Разбирался ли Есенин в узлах? К сожалению, история об этом умалчивает. А между тем, завязать надежный узел, точно отвечающий поставленной цели – задача совсем не простая. Не случайно, наверное, в литературных источниках пеньковую веревку для повешенья неизменно сопровождает кусок мыла. Подразумевается при этом, очевидно, что с мылом петля лучше скользит. Лично у меня это вызывает сомнения. Мыло, конечно, предмет скользкий, в этом легко убеждаешься, принимая душ. Зато ткань или веревка при намокании скользят намного хуже, чем в сухом состоянии. Так что эффект от всех усилий по намыливанию должен получаться нулевой. И каждый может легко убедиться в этом сам.
Конечно, мочить и мылить любимый галстук мне не хотелось. Да и ни к чему было: для меня, штурмана, да еще и яхтсмена, узлы проблемы не представляли. Верхний конец, просто и незатейливо, я прикрепил простым штыком с двумя шлагами. С нижней же петлей пришлось повозиться. Нужен был узел под названием «испанский галстук», а делать его, стоя на стуле с высоко поднятыми над головой руками, не очень удобно. Подтаскивать же в одиночку массивный стол красного дерева совсем не просто. А самоубийство – акт спонтанный, стихийный, все в нем должно происходить просто, эффективно, быстро…
В несколько приемов я соорудил удавку. Галстук – не самый удобный материал для подобных целей, поэтому узел выглядел не слишком изящно, но петля перемещалась легко и надежно. С единственным недостатком: нижний край петли достигал лишь уровня моих глаз. Я приподнялся на цыпочках и коснулся ее края носом. Тогда я спустил узел ниже, доведя петлю до подбородка, но ее диаметр стал таким, что пролезть в нее смог бы только мой кулак. Который я в нее и просунул, скорее машинально. Или раньше галстуки были длиннее, или с самоповешеньем выходило что-то не так. Я задумался.
И в этот момент раздался стук в дверь.
– Минутку! – непроизвольно бросил я, мгновенно представив, что может подумать нежданный посетитель, застав меня в подобном положении. Стул предательски шатнулся, я поспешно шагнул с него, что-то резко дернуло меня за руку и мои ноги оказались на полу – под углом, несовместимым со стоянием – но я не падал. Галстук, прочно затянувшись вокруг кулака, надежно удерживал меня за поднятую вертикально вверх руку.
В дверь постучали еще раз.
– Сейчас!
Плотно утвердившись на ногах, я кое-как ослабил узел галстука, выдрал руку, подошел к двери и открыл ее. С той стороны никого не было.
Рука отчаянно саднила в запястье. В правом, похоже, вывихнутом плече разливалась противная боль. Я выглянул в коридор. В дальнем конце его женщина катила столик с напитками.
– Простите, – позвал я, быстро шагая в ее сторону, – это вы стучались сейчас ко мне?
Она обернулась, и я увидал красивую черноволосую девушку чуть старше двадцати лет в форменном, с высоким вырезом платье официантки, туго обтягивающем рвущуюся наружу плоть.
– А вы из… того самого номера? Будете что-нибудь заказывать в номер? – спросила она.
– Вас! – едва слышно ответил я, подходя ближе и внимательно вглядываясь в ее зрачки. Сейчас можно было ожидать чего угодно. Взрыва негодования. Ладонью по физиономии. Понимающей и подтверждающей улыбки. Огромные, темные, как ночь, глаза буквально втягивали в себя обещанием чего-то, еще никем и никогда неизведанного. Мне уже казалось, что их загадочного блеска я ожидал всю мою жизнь и теперь не имею права терять ни одной минуты. Судьба моряка, перекати-поле, должна определяться сразу, по правилам ХОРОШЕЙ МОРСКОЙ ПРАКТИКИ, последовательно и решительно.
– Да, конечно! Обязательно! – сказал я. И вспомнил о свисающем с люстры галстуке. – Только… вы можете подойти чуть позже, минут через пятнадцать? Я возьму ужин, шампанское и.… вы сами решите, что вам больше нравится.
– Вообще-то я занимаюсь только напитками, – зачем-то уточнила она. Потом посмотрела на мои ноги в носках (слава Богу, целых!) и добавила: – Хорошо, пусть будет позже… Только не припозднитесь!
В номере я лихорадочно взялся за наведение порядка. Новогодняя ночь, похоже, могла оказаться совсем нескучной. Я снял с люстры галстук, достал из чемодана туалетные принадлежности, почистил зубы. Плечо все еще болело, но с этим я уже начинал свыкаться. На правом запястье отчетливо проступала красная полоса. Хорошо было бы принять душ, но на это ушло бы еще столько времени! Поэтому я просто побрызгал на себя одеколоном, обулся, надраил туфли и присел на диванчик в ожидании… черт, я даже еще не знал, как ее зовут!
Первые пять минут показались мне вечностью. Я внимательно вслушивался в звуки из коридора, ожидая услышать стук каблуков или шуршание колес столика с ужином на двоих, но за дверью царила тишина. Шагоне ты моя, Шагоне… Никогда я не был на Босфоре…
Правда, в отличие от Есенина, на Босфоре я был. И даже совсем недавно, месяца не прошло. Мы стояли в маленьком турецком порту неподалеку от знаменитого прохода в Черное море и разгружали доски из Ленинграда, наблюдая за суетливой жизнью вороватого приморского городка. Из иллюминатора моей каюты хорошо был виден газетный киоск. Водители грузовиков подъезжали к нему, чтобы купить сигарет. Машина останавливалась метрах в десяти, водитель отработанным приемом откручивал зеркала заднего вида, прятал в кабине, запирал дверь, покупал сигареты, через полминуты возвращался, вновь прикручивал зеркала и ехал дальше.
Я удивлялся недолго. Вместе с грузчиками к нам на борт поднялся агент грузополучателя и сказал, что доски будут принимать по счету, тут же пояснив, что мы можем не беспокоиться, весь счет они берут на себя. Капитан, естественно, прореагировал должным образом и двадцать минут спустя рядом с турецкими стояли уже и наши тальманы. Работа проходила так: турки-грузчики расстилали канат, кое-как, вкривь-вкось накидывали на него груду досок, стягивали канат посередине, цепляли краном, поднимали торчащие во все стороны, словно иглы у ежа, доски метров на пять вверх и тальманы начинали счет. Через минуту турецкий счетчик давал знак, что все в порядке, и кран переносил доски в грузовик. Протесты нашего тальмана в расчет не принимались.
Вечером капитан созвал штурманов на совещание. Или на мозговую атаку. Турки явно собирались нас облапошить, и вопрос стоял просто: что делать? Фельдман, почесав курчавую, но понемногу теряющую волосы голову в затылке, предложил гениальную идею: распилить доски пополам, чтобы их стало вдвое больше! Некоторое время мы ошарашенно молчали, слово было за капитаном, и капитан, наконец, изрек ключевое правило ХОРОШЕЙ МОРСКОЙ ПРАКТИКИ:
– Худшее из действий – это бездействие! Тащите пилы.
Вспомнив правило, я потуже подтянул галстук и отправился на поиски моей пассии.
В коридоре было пусто. Я быстро исследовал не просматриваемый от моей комнаты отрезок коридора, проделал ту же операцию на остальных этажах. Девушки не было. Тогда я прошел до служебной лестницы и, заглянув на площадку, к великому моему разочарованию обнаружил одиноко приткнувшийся к стене столик на колесиках. «Не припозднитесь» еще звучало в моих ушах, а я, болван, конечно, припозднился. Таких девушек берут сразу – или никогда! До Нового года осталось каких-нибудь полтора часа и сейчас она, наверное… Но что она может делать сейчас, мне додумывать не хотелось, и я просто спустился вниз, в ресторан.
Веселье было уже в полном разгаре, звучала живая музыка, и у меня, в конце концов, еще был шанс залечить разболевшуюся душу. Но вместо этого на меня вылили еще один ушат холодной воды.
– Какой у вас номер столика?
Метрдотель в сияющем золотыми галунами мундире стоял важно, как принимающий парад адмирал.
– У меня пока нет номера столика, – не менее важно ответствовал я, уже начиная подозревать, что без мзды не обойдется и здесь. – У меня номер в гостинице, я хочу поужинать.
– Тогда, извините, ничем не могу помочь. Все занято.
– А как же я? (моя рука уже привычно нащупывала купюру в кошельке, и метрдотель безошибочно угадал движение, отчего в его голосе проклюнулось сожаление).
– Ничем, ну, знаете, совершенно ничем не могу помочь. Все места расписали уже две недели назад. Мой вам совет – закажите ужин в номер. Пока не поздно.
Такого облома со мной еще не бывало. Я отошел в сторону и подумал, что пора воспользоваться бесплатным советом, но тут ко входу в ресторан подошла пара иностранного вида, определенно финны, обоим лет по тридцати, и натолкнулась на ту же неодолимую преграду. Мне стало любопытно. К иностранцам в Советском Союзе отношение было особое, не чета нашим. Но метрдотель устоял.
– Но мы специально приехали сегодня в Ленинград, чтобы встретить здесь Новый год! – со всем своим скандинавским пылом провозгласил глава семейства.
– The same situation with me! (так же как и я) – добавил свое лыко в строку я.
– О, ю спик инглиш! – обрадовался финн, высокий костистый парень в очках с толстыми стеклами, сразу проникаясь ко мне дружеским расположением. – Но вы русский? Это хорошо. И вы один? Хотите, мы можем разделить праздник с вами. В нашем номере. Это будет хорошо и выгодно, верно, Муу?
Его спутница одобрительно улыбнулась, и ее несколько коровье лицо сразу стало заметно симпатичней.
Новый год мы встречали дважды – сначала по московскому времени, затем по хельсинскому. Над Исаакиевской площадью взлетал фейерверк – не слишком плотный, не такой, как в нынешние времена. Фейерверк был морской – из списанных запасов пиротехники, и я без труда распознавал пятизвездочные ракеты сигнала бедствия, и жутко громыхающие, крайне опасные в применении, особенно по пьяному делу, звуковые, и целую минуту не угасающий даже в воде аварийный фальшфейер. И тогда я рассказал Олафу и его супруге с именем Муна, которое он ласково сокращал до Муу, о том, что доставшийся мне номер совсем не простой, а тот самый, в котором жил и умер, и не просто умер, а повесился, самый великий поэт России Сергей Есенин.
«Выткался над озером алый свет зари, На бору со звонами плачут глухари…» – нараспев читал я и даже попытался перевести это на английский, но мне не хватило слов, и я решил, что проще будет научить русскому Олафа.
«Выаал ся наозеом аллыс ве али», – с пятой попытки прочитал он и сказал, что знает хорошего русского поэта Пушкина и великого финского поэта Рунеберга, которого и собирается мне сейчас прочитать и даже научить меня нескольким строчкам на финском… Мне срочно надо было выставить что-то в ответ, и я сказал, что Есенин, хотя и повесился, но на самом деле повеситься не мог, я проверил это доподлинно, но так как он все равно умер и был похоронен ровно пятьдесят лет назад, то теперь в моем номере определенно должно обитать привидение. Ну, как?
Муу чмокнула меня в щеку, а Олаф ободряюще похлопал меня по плечу, разлил водку в бокалы для шампанского и предложил выпить за всех четырех поэтов, которых он теперь знает – за Пушкина, Есенина, Рунеберга и меня. Мы встали, энергично столкнули бокалы, и мой, вместо мелодичного звона, вдруг издал неприятный треньк и разлетелся на осколки, прямо посреди комнаты.
– That’s nothing, don’t worry! – успокоила Муу. – Прислуга утром уберет.
– Но водки больше нет, – уточнил Олаф. – И в мини-баре пусто.
– Может, найдем у меня, – предложил я, совершенно забыв, что в моем нереновированном номере никакого мини-бара нет вообще.
– А заодно посмотрим на привидение! – вновь воодушевилась Муу и нацелилась на мою вторую щеку.
Мы тихонько, изображая привидения и давясь смехом, вышли в коридор, дошли до моего, едва не соседнего номера, я отпер дверь, включил свет и замер. Старинная люстра светила вполсилы, а одна из немногочисленных лампочек то затухала, то освещалась вновь, бросая по комнате дергающиеся тени, словно кто-то, невидимый, дергался под нею в последних конвульсиях. На полу, прямо посреди комнаты лежали осколки разбитого вдребезги бокала.
Финны застыли за моей спиной.
Весь хмель моментально выветрился из моей головы. Из финских голов, похоже, тоже. Пробормотав что-то на прощанье, оба они тихо и незаметно выскользнули из комнаты и из моей жизни.
Как и я, они, наверное, заметили и то, что край одеяла на моей кровати был очень аккуратно отвернут, но – в отличие от меня – не знали, что я к нему даже не прикасался.
В этом мире все мы, все мы тленны, Тихо льется с кленов листьев медь, Будь же ты вовек благословенно…
Я человек неверующий и к любым мистическим явлениям отношусь со здоровым скептицизмом. Но в ту ночь долго не мог уснуть, ходил по номеру и много раз вдруг застывал на месте, словно избегая столкновения с духом поэта. Утром я попытался выяснить, кто мог вторгнуться в мой номер в Новогоднюю ночь и разбить бокал, но в ответ передо мной только разводили руками или странно переглядывались. Об откинутом крае одеяла я уже предпочитал не говорить.
Конечно, потом я эту историю забыл и вспоминал о ней лишь по каким-то, очень особым случаям. Последний раз это было в Питере, ровно в восьмидесятую годовщину со дня смерти Сергея Александровича Есенина. Как раз накануне судьба вновь столкнула меня с моим старым приятелем Фельдманом. За минувшие годы он непостижимым для меня образом превратился из штурмана в фармацевта, а точнее – во владельца целой фармацевтической фабрики, прибавил, как и я, в весе килограммов двадцать, почти полностью потерял шевелюру, но сохранил цепкий взгляд законченного скептика. Его бентли с персональным водителем, как в свое время черная обкомовская волга, подкатил прямо к входу, мы зашли в ресторан вернувшей старое название гостиницы «Англетер» и заказали пролетарский напиток Hennessy VSOP. Встречались мы с Фельдманом нечасто, в среднем раз в десять лет, и нам было что вспомнить. Хотя бы ту историю с турками, когда весь наш экипаж ночи напролет пилил доски пополам, а в итоге мы получили претензию на недостачу груза – турецкая хитрость оказалась круче российской смекалки.
– Вот тогда я и понял, что пора переквалифицироваться в фармацевта, – загадочно заметил Фельдман.
– Правда? А я думал это жена тебя сподвигла. Она же, кажется, аптекой заведовала? – удивился я, внимательно приглядываясь к официанткам. Первая из них была еще совсем молоденькой черноволосой девчонкой, еще две выглядели чуть старше.
– Ты чего, девочку снять хочешь? – по-своему истолковал мое внимание Фельдман.
И тогда я рассказал ему эту историю. От начала и до конца.
Фельдман приглашающим жестом взмахнул рюмкой, мы чокнулись, он выпил, пожевал губами воздух и сказал:
– Все же ясно, как Божий день. Пригласил хорошую девчонку, а сам с финиками нажрался. Она и прикололась. Ну, еще по одной?
Говорят, мысль, приходящая к писателю, гнетет его, пока он не выложит ее на бумагу. По той же причине, наверное, мы делимся гнетущими нас проблемами с друзьями или подругами. После разговора с Фельдманом мне стало легче, словно я снял с души какой-то давний груз, и грустней. И еще захотелось в туалет. Я встал и отправился на поиски соответствующего заведения в холле гостиницы.
За широкой стойкой с нерусской табличкой Reception находились сразу две весьма симпатичных дамы, одна из которых, поймав мой взгляд, с готовностью улыбнулась:
– May I help you?
– I hope… – начал было я, но вспомнил, что нахожусь все-таки в России и продолжил уже по-русски, – скажите, а как у вас сегодня с номерами?
– Перед праздником почти все занято, – сказала она и посмотрела на экран плоского монитора. – Могу предложить клаб рум за 235 у. е. Или, если до завтра, еще есть номер Сенатор за 555…
– А пятый, есенинский?
– Ах, этот… – с не очень понятной интонацией протянула она. – Нет, этот номер сейчас занят. Но если вы подождете до вечера…
– Спасибо. Я подумаю.
Я огляделся. И только теперь понял, что интерьер из памяти моей молодости изменился до неузнаваемости. Может быть, и все остальное – только плод моего воображения? Хотя бы эта лестница…
Я поднялся по широким ступеням на второй этаж и попытался представить, где именно расположена дверь, в которую когда-то последний раз в своей жизни входил Есенин. В этот момент из ближайшего номера, едва не столкнувшись со мной, выпорхнула сильно крашенная девица в джинсах с вызывающими дырами на коленях. Несмотря на макияж, в лице ее было что-то коровье, до боли напоминающее мне Муу. Что, если это её дочь, а приезжать сюда под Новый год стало у них семейной традицией?
– Excuse me, – сказал я, сторонясь, и услышал легкое поскрипывание. По коридору катилась тележка с напитками. Девушка в платье официантки, туго обтягивающем рвущуюся наружу плоть, смотрела на меня черными, широко распахнутыми глазами.
Человеческий фактор
3 июля 1910 года яхта «Штандарт» вошла в устье Даугавы. Рига утопала в пышной летней зелени, расцвеченной многочисленными флагами, разноцветными праздничными гирляндами, вензелями. Обширную набережную заполняло множество людей, в основном в белых одеждах. Николай, окруженный августейшим семейством, с интересом смотрел на древний город с многочисленными шпилями и куполами, увенчанными почему-то не привычными крестами, а петухами и даже кошкой. Короткое беспокойство, вызванное падением дочери, великой княжны Татьяны, при катании на роликовых коньках по палубе яхты, рассеялось, и сердце Николая наполнилось гордостью. Ровно двести лет назад его легендарный предок Петр Великий вошел в этот город как завоеватель, раздвинув границы Российской империи далеко на запад, а теперь благодарные потомки встречают российского императора с величайшими почестями.
Николаю хотелось поделиться первыми впечатлениями с Александрой Федоровной, но его царственной супруге нездоровилось, и она, окруженная фрейлинами, оставалась в своей каюте. Едва машины «Штандарта» застопорили ход перед городским замком, и воду полетел якорь, спустили паровой катер. Николай в окружении немногочисленной офицерской свиты сошел по трапу на борт катера, и тот быстро заскользил по спокойной воде к низкому деревянному плавучему причалу, предваряющему выход на высокую каменную набережную. Рядом с причалом, пришвартованное прямо к стенке набережной, стояло небольшое, сияющее свежей краской суденышко с мощной, судя по размерам трубы, машиной.
– Кажется, я здесь не один, – обронил Николай.
– Простите, ваше величество, вы о чем? – заметно встревожился контр-адмирал Чагин.
– А вы только взгляните на этого красавца, – пряча улыбку в густых усах, Николай кивнул в сторону суденышка, на борту которого золотыми буквами было выведено название – «Императоръ».
– Хочешь, я тебя щелкну?
– Щелкают орехи, щелкунчик.
– Ладно, давай я тебя сниму.
– Снимают девчонок на дискотеке.
– Ну, тогда представь, что мы плывем в волнах музыки, – сказал он и нацелил на нее объектив фотоаппарата.
Зоя грациозно изогнулась и прислонилась к спасательному кругу со странной надписью ТЩ–72. Почему ТЩ? «Тихая щука», может быть? Такое имя вполне могло бы подойти зловещей подводной лодке, но уж никак не крохотному портовому буксиру, на который они только что, прямо в море, перебрались со спасателя «Верный».
На фоне спасательного круга Зоя смотрелась замечательно. Впрочем, замечательно она смотрелась везде. Даже два месяца назад, когда он впервые оценил ее женские достоинства на редакционной летучке: высокая, красивая грудь, стройные ноги, хорошо очерченные бедра, чистая кожа, симпатичное лицо. Редактор представил ее в качестве нового фотокора, и Серов, сразу отметив отсутствие обручального кольца, привычно проинтерполировал, что лицо Зои не потеряет привлекательности и через десять или даже двадцать лет, а живости характера, судя по всему, хватит намного больше. Последний год после развода он как человек, умудренный жизненным опытом, такие оценки делал на автомате, почти с каждой встречной. Сам для себя он это объяснял просто. Качественное спиртное выбирают только трезвые люди, подвыпившему уже все равно, что наливают. Влюбленность – такое же бездумное опьянение. А ему второй раз ошибаться никак не хотелось.
Серов опустил объектив ниже, на Зоины ноги, но она быстро распознала коварный замысел.
– Стоп. Поменяй ракурс. И вообще, камера – это по моей части, займись лучше своими героями труда.
Забрав фотоаппарат, Зоя с энтузиазмом защелкала затвором, наводя объектив на далекую кромку берега Моозундского пролива, на скромную рулевую рубку «ТЩ–72» с зависшей над ней в недоумении чайкой. Через три минуты видовой ряд был исчерпан.
«Верный» отошел, наверное, на километр, толстый стальной канат натянулся, но тут же под собственной тяжестью провис вновь и исчез в воде между двумя судами. «Казалось, – быстро вписал в блокнот Серов образ для будущей статьи, – „ТЩ“, словно взорвавшись накопленной за годы простоя энергией, сам бесшумно рванулся вперед, в последний рейс, и под его форштевнем прощальной песней закипели пенные буруны». Он еще немного поразмышлял нам полученным образом, применение его означало, что в таком же поэтическом стиле надо выдержать весь репортаж и, вздохнув, убрал блокнот в карман ветровки. Теплое летнее солнце висело еще высоко, уходить с палубы, а еще больше от Зои не хотелось, но она была права. Работу лучше сделать сразу, иначе, по закону подлости, произойдет что-нибудь такое… Хотя что может случиться на буксируемом «ТЩ» в такую погоду, когда до Ленинграда по Финскому заливу оставалось всего часов восемь – десять ходу?
По вертикальному трапу Серов забрался в рулевую рубку. За огромным деревянным штурвалом стоял Павел Емельянович Гудзь – худощавый мужчина лет семидесяти с глубоко изрезанным морщинами лицом, которое идеально подходило под образ «словно неприступная скала, иссеченная ветром и волнами». Серов опять потянулся к блокноту и спросил:
– Извините за нескромный вопрос. А вы зачем рулите? Нас же буксир тянет.
Первый вопрос был всегда самым важным. К представителям прессы народ, как правило, относился настороженно. Чаще всего непривычные к публичным выступлениям люди замыкались, слова приходилось вытягивать буквально клещами. Да и слова в результате выскакивали – словно взятые из передовиц газеты «Правда». Но это как спрашивать.
– Зачем? – Гудзь задумчиво потер нос кончиком указательного пальца. Серов заметил, что фаланги среднего и безымянного пальцев у собеседника отсутствуют и подумал, что об этом тоже обязательно надо будет спросить, но не сейчас – позже. – Так ведь, чтобы рыскал меньше. Да и делать – то все равно здесь больше нечего. А так – занятие.
– А правда, что вы на нем сорок лет провели?
– Сорок? Да, пожалуй, сорок так и будет. С перерывом небольшим.
– И что – все эти годы делать было нечего?
– Ну, так и нечего! – обиделся Павел Емельянович. – Я на нем шкипер – механик был. Каждый болтик своими руками перебрал. Каждую дырку сам залатывал, сам красил – он у меня как новенький всегда был. И куда только его не кидали. А то тоже – нечего!
– Постойте, Павел Емельянович, – перебил его Серов, – не обижайтесь. Скажите лучше, почему он называется ТЩ–72? И где остальные 71?
– Что?
Сбитый с ритма, Гудзь почесал небритый подбородок и признался:
– Да хрен его знает. Может, чтобы немца с толку сбить. Или потому, что какое-то время минным тральщиком был… Везунчик он.
Шкипер-пенсионер погладил медный нактоуз главного компаса, словно это был домашний любимец, и Серову показалось, что о корабле он тоже говорит, как о живом существе.
– Везунчик?
– А то! После первой мировой Балтика была минами нашпигована, как булка изюмом. Все портовые буксиры и катера, что помощней были, кинули на расчистку. А у тральщика судьба короткая. Только этот и уцелел. Потом баржи по Даугаве буксировал, а в Отечественной войне его на Ладожское озеро перегнали, приварили две зенитки, аппарат торпедный и в бригаду торпедных катеров кинули. Те вообще больше трех месяцев не живут. Да и какой из него, тихоходного, торпедный катер? Но что значит «не родись красивым, а родись счастливым». Два «фокера» из своих пукалок сбил, да еще финский катер потопил, а ему – ни одной царапины. Немцы его как огня боялись. Герой Ладоги. Зря, что ли сейчас решили на постамент поставить! Потому и меняли ему номера постоянно, чтобы не опознать было.
Охваченный воспоминаниями, Павел Емельянович разволновался, захлопал себя по карманам потертой рабочей куртки, очевидно, разыскивая сигареты.
– Возьмите, – предложил Серов, доставая пачку дорогих американских сигарет «Winston», купленных на остатки выдаваемых морякам торгового флота бон. Сам он давно не курил, но сигареты, как рабочий инструмент, держал именно для таких случаев. – А я пока порулю.
– Порулите. Только…
– Не волнуйтесь, – правильно понял его Серов. – Три года назад я был штурманом дальнего плавания. Разберусь.
– Понятно. Слушай, штурман. – Гудзь глубоко затянулся, приоткрыл дверь и выпустил струю дыма наружу. – Раз уж такое дело – давай поговорим, как люди. У меня припасено кое-что для похода. Я там, в каюте, закуску быстренько с Ваньком сооружу, а потом Ванек тебя подменит. Так и приходи со своей дамой. Жена?
– Нет, – честно ответил Серов. – Думаю еще.
– И думать тут нечего. Такая деваха! Сразу и помолвку отметим. Да был бы я моложе…
Зое наскучило стоять на палубе одной, она тоже поднялась в рулевую рубку и едва разминулась с выходящим шкипером.
– Постойте минутку, – попросила она. – Здесь хороший ракурс, я сделаю пару снимков.
– Так незачем, красавица. Кому нужна моя старая физиономия?
– Всем. Мне, например.
– Вам?
– Естественно. Что же я покажу в редакции? А еще вашим детям и внукам.
– Ну, если внукам… Я же тебе говорил! И не думай! – Павел Емельянович подмигнул Серову, дождался, когда его счастливо улыбающуюся физиономию запечатлеют на пленку, и ушел.
Зоя убрала камеру в сумку, встала перед Серовым по другую сторону руля и потребовала:
– А теперь объясняй, о чем это вы тут без меня договаривались и что за намеки?
– Ты о чем? Я брал интервью о героическом прошлом, просто так корабль на пьедестал ставить будут. Вот Павел Емельянович мне и…
– Не ври, Серов. У тебя это плохо получается. И не прячь глаза. О какой помолвке вы говорили?
– И не вру я. Ты же знаешь, как пожилым людям хочется всех переженить. Ну, вот он и предложил.
– Это что – кто-то из вас сменил ориентацию, и он предложил взять тебя в жены? Или наоборот.
– Слушай, не загораживай мне горизонт, я же рулю.
– Не пудри мне мозги, Серов. Куда рулить, если нас буксир тянет. И не уходи от ответа.
– Да не ухожу я никуда. Павел Емельянович спросил, жена ты мне или нет, и предложил отметить помолвку прямо здесь. Стол пошел накрывать. Вот.
По спине Серова побежала струйка пота. В последнее время в присутствии Зои вся его циничность и находчивость испарялись без следа.
– Понятно, – протянула Зоя. – Значит, помолвка. Слово-то какое… можно сказать, романтичное. Меня, правда, спросить забыли, но это так, мелочи. Или я что-то пропустила? Куда мне деться с подводной лодки. И все-таки – что ты ему ответил?
– Я, да что я… – мучительно затянул Серов и внезапно ощутил, как палуба под ногами резко пошла влево. Зоя, чтобы не упасть, вынуждена была шагнуть в сторону и обеими руками схватиться за компас. «ТЩ» выровнялся, но не остановился на этом, крен пошел в другую сторону, а над форштевнем впереди взлетели уже не пенные буруны, а целые гейзеры, мощным потоком катящиеся по палубе и стреляющие струями воды прямо в окна рулевой рубки. Качка стала неостановимой.
– Что случилось? – испуганно вскрикнула Зоя. – Ты что, специально?
Серов огляделся. Земля справа еще была видна, но уже под другим углом, направление ветра и волны изменилось, гребни волн опрокидывались и темную, как грифельная доска, поверхность моря теперь расцвечивали меловые росчерки пены.
– Все нормально, – сказал он. – Мы пересаживались с «Верного» перед выходом в Финский залив, а теперь уже вышли окончательно и повернули на Ленинград. Волна чуть сильней и направление в левый борт. Похоже, немного покачает. Ты как?
– И это называется – немного? – Зоя понемногу начала приноравливаться к ритму качки, но держалась все еще неуверенно, и Серов подумал, что в такой ситуации её хорошо было бы чем-то отвлечь или занять.
– Становись на руль, – внезапно уверенным голосом привыкшего распоряжаться чужими действиями человека сказал он. – Каждые руки могут оказаться на счету, я тебе объясню, что делать. Будешь правильно рулить, нас не так будет качать. Главное, старайся нацеливать нос на волну.
– Правда?
Некоторое время Зоя, позабыв, к облегчению Серова, направление разговора, осваивала навыки рулевого, пока в рубке не появился второй член экипажа – Ванек. Густая шевелюра на его голове сбилась мокрыми космами, одежда промокла, а дышал Ванек так, словно только что закончил гонку на среднюю дистанцию.
– Товарищ журналист, Павел Емельянович просит вас спуститься в каюту. На минутку.
– Я быстро, – пообещал Зое Серов, уже ощущая неладное.
Вход в единственное помещение на главной палубе находился на правом борту, и, чтобы не промокнуть в гуляющей по палубе воде, надо было выловить момент, когда «ТЩ» кренился на левый борт. Примерившись, Серов отдраил входные задвижки и быстро шагнул внутрь. Вся каюта представляла из себя четыре расположенных по бортам койки и складной стол посередине. Гудзь стоял в дальнем конце перед открытыми пайолами – так называются на судах пластины напольного покрытия.
– Плохо дело, – без обиняков указал он на днище. – Как пошла качка, открылась течь. Кажется, наш гордый «Варяг» потихоньку идет ко дну.
– То есть как? – переспросил Серов. Ситуация была абсурдной и поверить в нее было невозможно. – Свяжитесь с «Верным», они как-никак спасатели, пусть посмотрят, в чем дело. Заодно Зою переправим, ей, похоже, не по себе. Где у вас связь?
– Связь у нас последний раз три года назад была, когда судно на прикол ставили. Рация была доходяга, да и ту сняли.
– Ну, а воки-токи капитан «Верного» хотя бы оставил? Нет? Вот сволота… Давайте тогда из ракетницы пульнем.
– Пульнуть можно, было бы из чего. И чем. Фальшфейеров тоже нет. Этот паразит даже спасательные жилеты нам не оставил. Боялся, что имущество его пропадет.
Гудзь погрозил кулаком воображаемому капитану, и Серов попытался успокоить пенсионера.
– Ничего, сейчас мы по-другому свяжемся.
Он выбрался на крышу рулевой рубки, прижался животом к поручню, расставил ноги пошире, чтобы сохранить баланс на прыгающей под ним палубе. Опытный моряк найдет выход из любого положения. Капитан «Верного» по фамилии Пахомов прямо в море пересаживал Серова на «ТЩ» с явной неохотой. Еще бы – старпом по каким-то чрезвычайным обстоятельствам в рейс не вышел, как минимум двенадцатичасовую вахту капитану предстояло нести одному и присутствие настоящего морского штурмана на борту пришлось как нельзя более кстати. Получалось, Серов помог ему дважды: сначала позволил капитану отоспаться, а теперь спасал вверенное Пахомову для буксировки судно. С Пахомова причиталось. Серов развел руки в стороны и, пристально вглядываясь в очертания спасателя, начал делать ими медленные движения вверх-вниз. На морском языке такие движения означают подачу сигнала «Спасите наши души». Минуты две ничего не происходило. Потом на крыле мостика показалась крохотная фигурка человека в красной капитанской куртке, который тоже поднял руку, помахал в ответ, и вновь скрылся в тепле и уюте рулевой рубки. Не веря собственным глазам, Серов, продолжая движения руками, наблюдал за «Верным», но никто больше не появлялся, никаких маневров спасатель не предпринимал, и движение продолжалось прежним курсом и с той же скоростью.
Когда Серов вернулся в каюту, Гудзь лежал у открытых пайолов лицом вниз и пытался что-то нащупать, очевидно, щель в пространстве под койкой левого борта. Он с надеждой посмотрел на Серова.
– Не понимают, кретины, морской азбуки, – признал Серов. – Давайте хоть помпу запустим пока.
– Да как ее запустишь без электричества? А у ручной какой-то гавнюк поршень снял. Ну, зачем ему поршень? Его чтобы вытащить часа два, наверное, гайки крутить надо было, закипевшее все. Да и куда его приспособишь потом? Вот народ…
Павел Емельянович горестно помахал головой и кивнул напарнику:
– Давай, Ванек, черпай.
– Подождите, – сказал Серов. – Дайте я попробую.
Он стянул с плеч ветровку, снял рубашку, отодвинул Ванька, лег на палубу каюты и опустил руку в воду. Корпус «ТЩ» был одинарный, и на ощупь можно было изучить полный набор корабельных конструкций – поперечных шпангоутов и продольных бимсов. Воды набралось без малого на полметра, и она перекатывалась с каждым движением судна, плескала, чавкала, нашептывала что-то свое, неласковое. Серов последовательно, словно пианист клавиши рояля, быстрыми пальцами перебирал обшивку корпуса в поисках щели. Днище, когда-то идеально ровное, теперь, после бомбардировки метеоритами времени, было покрыто микроскопическими кратерами, складками, сколами, пузырями. Струящаяся снаружи под мощным напором движения вода отдавалась в кончиках пальцев так, как можно ощутить только на яхте – угрозой для непосвященного и предупреждением, напоминанием для тех, кто связал себя с ней навечно.
Щель, скорее всего, следовало искать там, где обшивка соединялась с бимсами или шпангоутами. На поперечном брусе он ощутил неровности, похожие на впрессованные или вырезанные буквы и попытался на ощупь разгадать их значение.
– Нашел что-то? – прочел по его сосредоточенному лицу Павел Емельянович. – Большая?
– Нет, это не щель.
Рука начала замерзать, он с сожалением опустил пальцы ниже, на обшивку, чтобы завершить поиск и ощутил еще одну неестественную выпуклость, словно шляпку большого гвоздя. Он подковырнул ее пальцем, шляпка секунду посопротивлялась и неожиданно сдвинулась. Тогда он зацепил её уже двумя пальцами, зажал находку в кулак и выбрался и поднялся.
– Ничего?
– Ничего, – ответил Серов, разжимая кулак. На раскрытой ладони тусклым лучиком отразилась небольшая монета с профилем Николая Второго. – За исключением этого.
– Значит, правда, – оглядев находку, подтвердил Гудзь.
– Проходите, ваше высокоблагородие. У нас все в полном порядке. Он же совсем новенький. Только вчера ходовые испытания провели. Будьте уверены.
– Уверенность – не моя профессия.
Шкипер посторонился, и лейтенант Басов в сопровождении полицмейстера, мичмана, двух унтеров и нескольких матросов проследовал на борт. Еще два матроса и унтер – офицер встали в караул у трапа на стенке высокой набережной, откуда хорошо обозревалась вся прилегающая территория.
Басов нервничал. Покушения на российского императора становились делом обыденным. Бомбы, кинжалы, набитые взрывчаткой катера, а теперь еще и просочившиеся в охранку слухи о некоем летательном аппарате, который должен обрушиться на императорскую семью сверху, как кара небесная. И здесь, в Риге, слишком людно было вокруг, слишком доступным казался подход к судну. «Императоръ» был единственным кораблем, которому дозволили пришвартоваться в районе городского замка. И уж очень он привлекал внимание и свежим глянцем, как новая, невиданная еще игрушка, и необычайным именем на борту, особенно в день прибытия царственной особы.
– Не подведите, братцы, – напутствовал он свою команду.
– Как можно…
– Не подведите. Каждый сантиметр чтобы лично прощупан был!
Одними увещеваниями Басов не ограничивался. Флот – армии нечета. В матросы набирали народ грамотный, из мастеровых, ухо с ними надо было держать востро, а личную преданность лучше подкреплять чем-то существенным. Два унтера взялись за просмотр закоулков на палубе и в машинном отделении, мичман с матросом поднялись в рулевую рубку, а сам Басов проследовал за двумя матросами в жилую каюту. Каждый медный барашек иллюминатора сверкал маленьким солнцем, палубу покрывал новенький ковер, вдоль переборок стояли обитые бархатом диванчики, каждый из которых украшали позолоченные короны Российской империи, на столе посреди каюты стояла большая ваза с букетом свежих роз. Проверку он начал с вазы. Матросы прощупали диваны, сняли ковер, подняли пайолы. Один из них зажег фитиль керосинового фонаря.
– А что у нас там? – указал в дальний угол каюты Басов.
– Там?
Пока матросы обшаривали наполненные сигнальными флагами рундуки, Басов применил отработанный метод стимулирования: бросил в противоположные стороны подпалубного пространства два целковых. Сам Государь Император, посещая великие и малые города огромной империи, раскидывал серебряные и золотые монеты встречающим его верноподданным. И те с превеликим удовольствием расхватывали монеты с чеканным профилем Николая Второго, которых коснулась рука самого императора. Мешочек, тем более с золотыми монетами, лейтенант, конечно, позволить себе не мог, а вот несколько серебряных целковых – вполне. Будет что рассказать перед свадьбой хохотунье Наденьке.
Выбравшись на причал Басов с удовлетворением, как после хорошо проделанной работы, принимал доклады с трудом скрывающих удовольствие подчиненных.
– Все чисто, вашвысокоблагородь.
– Все?
– Так точно! Ничего противоправного!
Морская болезнь штука беспощадная и не слишком эстетичная. Вестибулярный аппарат каждого человека либо приспособлен к восприятию качки, либо нет, и тут ничего не поделаешь. В каюте перспектива была ясная: ведро в руки и черпай в надежде, что удастся выдержать нужный темп и что так и не обнаруженная щель не расширится. Но пять минут, чтобы подготовить должным образом Зою, Серов для себя выговорил. Прежде чем войти в рубку, он осторожно заглянул в иллюминатор. Даже отсюда был заметно, что лицо Зои приобрело зеленоватый оттенок. Непослушный штурвал был слишком тяжел для женских рук, но она отчаянно направила нос буксира на очередную волну, потом вдруг бросила руль, подбежала к боковому иллюминатору, высунулась наружу, и ее тело затряслось в конвульсиях. Но несколько секунд спустя Зоя вновь стояла за рулем, с усилием вращая огромное колесо.
Выждав немного, когда она придет в себя, Серов вошел в рубку.
– Ты как? – спросил он. – Не устала? Мы там с ребятами немного заняты были, ты уж извини. Но, если можешь, постой еще малость, ладно?
– Постою, – согласилась она. – Не переживай. Я привыкаю. Наверное, наследственность свое берет.
– Ты о чем? – не понял Серов.
– Мама говорила, мой прадед адмиралом был. Вроде, героем Цусимы. Командовал единственным уцелевшим в битве кораблем. Никогда не думала, что сама окажусь за корабельным штурвалом. А вот вода за бортом сколько градусов? Ты как думаешь?
– Ну, лето только начинается, а тут не Черное море, конечно… А ты почему спрашиваешь?
– Серов. Не пудри мне мозги. Мы в одной лодке и у меня такое же право знать, что происходит. Что с нами? И что это ты руками махал?
– Да понимаешь…
– Серов!
– Да-да, конечно. Дело в том, что суденышко наше три года простояло на приколе, в спокойной воде, и никаких проблем при инспекции не обнаружилось. А сейчас у нас волна и скорость слишком большая. Корпус не выдержал, течь открылась. С «Верным» не связаться. Придется ведрами черпать. Ну, ничего, поработаем.
– Значит, помолвка откладывается?
– Что? А, ты об этом. Ну…
– Не напрягайся, Серов. Шучу. Скажи лучше, мы… Мы долго продержимся?
– Долго, – успокоил он. – До самого, сколько надо. Этот доходяга, знаешь, какой везунчик? Его за семьдесят лет никто потопить не смог, да и у этого пиз… капитана «Верного», извини за выражение, не получится. Но мне с ребятами внизу покувыркаться придется. А тебе, стало быть, здесь. Ну, так я пошел?
В честь открытия памятнику Петру Первому Николай Второй дал званый обед на триста персон. Столы накрыли прямо на палубе «Штандарта», под туго натянутыми выбеленными брезентовыми тентами. Первым от пристани у городского замка отчалил «Императоръ» с царственной тезкой на борту. В почетный переход допущены были человек тридцать: конечно, среди них был и отвечающий за императора в любых морских перемещениях контр-адмирал Нилов, и командир «Штандарта» контр-адмирал Чадов, и прибывший в Ригу поездом председатель правительства Столыпин, и военный министр генерал Сухомлинов, и лифляндский губернатор Звягинцев, и рижский градоначальник Армитстед. К гостям присоединились офицеры «Штандарта», охрана высоких особ, в том числе удостоенный высокой чести лично отвечать за безопасность катера лейтенант Басов, уже предвкушающий после успешного выполнения задания взлет служебной карьеры. Конечно, он предпочел бы стоять рядом с государем и быть, возможно, им замеченным, но долг требовал его нахождения в рубке рядом со шкипером и рулевым. Остальные гости ожидали на берегу очереди на паровые катера государевой яхты.
«Император» дал короткий и негромкий, чтобы не встревожить высоких гостей, гудок, отошел от причала и взял курс на «Штандарт». Путь предстоял недолгий, и шкипер, как и было предписано, двигался средним ходом. В сотне метров от «Штандарта» он нагнулся к сияющему медному раструбу, ведущему в машинное отделение, и коротко приказал:
– Малый ход!
Выждав две секунды и не дождавшись ответа, шкипер вновь нагнулся к раструбу и заорал:
– Малый, мать твою, малый!
Ответа вновь не последовало, «Император» с прежней скоростью двигался прямо на «Штандарт».
– Право руля! – Оттолкнув рулевого, шкипер сам крутанул штурвал вправо и только после этого с тревогой взглянул на Басова. – В машине что-то не так.
– Вижу, – внезапно пересохшими губами прошептал Басов.
Ванек как самый молодой в команде выживания вычерпывал воду ведром, передавал его Гудзю, тот перекладывал ведро из руки в руку и вручал Серову, который, дожидаясь момента, когда судно выравнивается, открывал дверь, выплескивал воду наружу и вновь плотно задраивал дверь. Постепенно он приноровился к работе, словно занимался ею всю жизнь, и мысли его вернулись к злосчастному репортажу. Конечно, написать о том, как вычерпывали воду, чтобы не потопить историческое судно, на которое жмот Пахомов вопреки инструкциям не выдал спасательных средств, было бы здорово. Фактически, это была бы статья об авось, о привычном и трагическом одновременно русском разгильдяйстве, в результате которого и возникает так часто необходимость в подвиге. Но, конечно, статью такую никто напечатать не позволит. Размышляя об этом, он понимал, что на самом деле просто отгоняет мысли от того, что скажет Зое. Двенадцать лет разницы в возрасте не казались такой уж большой проблемой. И даже выплачиваемые из не слишком увесистого журналистского заработка алименты бывшей жене можно было пережить. Но, предлагая даме руку и сердце, серьезный мужчина должен был хотя бы иметь еще и место для размещения руки, сердца и того, что за этим следует. Время от времени к нему самому в редакцию заявлялись в поисках справедливости молодые пары. Они садились на расшатанные стулья перед его письменным столом и, беспомощно глядя на Серова огромными коровьими глазами, рассказывали, что теперь, когда их влюбленные сердца соединились, успев заодно воспроизвести и свежеиспеченное потомство, жить семейной парой ни в мужском, ни в женском общежитии им не позволяют. И что им теперь, скажите на милость, делать? Слушать их не никто желает, одна надежда осталась – на газету. Ничего, кроме раздражения, визиты эти у Серова не вызывали. А вы что, спрашивал он, ребенка в лесу нашли? Разве не вы сами прежде, чем заводить потомство, должны были решить, где будете жить и что вы ему сможете дать? И вот теперь такой вопрос вставал перед ним самим. Что-то во всем этом было неправильное. Восемь лет, пока не закрыли морскую визу, он провел в бесконечных рейсах по европейским портам, и до сих пор не мог понять, почему в быту людей из страны победившего социализма постоянно не хватает элементарных вещей, не говоря уже о таких существенных, как жилье, очередь на которое растягивалась на десятилетия. Почему на Западе хватает, а здесь – нет? Говорить об этом было опасно, но мысли, мысли-то, слава Богу, еще подслушивать не научился никто. Или требования безответственных молодоженов не такой уж и инфантилизм? Раз создали такую обстановку, что обычные человеческие потребности превращаются в неразрешимые проблемы, так и решайте эти проблемы за нас, наплевать каким образом! И тогда – чего ему тянуть с Зоей? Наверное, прав Гудзь, о чем тут раздумывать?
– Не получается у нас отметить вашу помолвку, – словно перехватил его мысли Павел Емельянович. В недрах организма старого шкипера то и дело рождались странные звуки, словно шестерням старого механизма не хватало смазки, и они поскрипывали, посвистывали, постанывали. Но работали.
– Может, перекур, – предложил Серов.
– Устал, штурман?
Гудзь выпрямился, отставил пустое ведро в сторону и ободряюще похлопал Ванька по плечу:
– Привыкай к реальной морской жизни. Будет что рассказать внукам.
– До них еще дожить надо.
– Доживешь, какие твои годы.
Шкипер расправил плечи, словно представляя рядом своих внуков, дыхание его стало спокойней, без хрипов.
– Доживешь, да еще расскажешь, как перегонял судно, на котором сам Николай Второй перемещался, когда в Ригу на яхте «Штандарт» приходил. Мне еще мой предшественник, у которого я буксир принимал, про все это, про название прежнее «Император» рассказывал, да я не особо верил. А вот теперь, после того что журналист нашел, верю. Хотя он про это, наверно, все равно не напишет. Ведь не напишешь?
– Наверное, нет, – признался Серов. – Да и трудно представить, что царственные особы перемещались в такой каюте.
– Каюта, конечно, была не такой, как сейчас. Да и зачем им она? От причала до яхты всего и было-то – метров триста.
– Обойди яхту по кругу, – крикнул Басов шкиперу. Выскользнув из рулевой рубки, он моментально скатился по трапу к входу в машинное отделение. Ни сам император всея Руси, ни его гости пока не обратили на поворот особого внимания: мало ли какой морской маневр требуется кораблю, чтобы подойти к трапу! Тем более, что на осторожное замечание городского главы Армитстеда о необычайной красоте императорской яхты, Николай с удовольствием припомнил завистливые высказывания кайзера Вильгельма, о чем и не преминул рассказать окружающим его особам. Поэтому маневр вполне мог сойти и за предугаданное желание его величества показать гостям вблизи украшенный золотом императорский герб на носу яхты.
Отдраив винтовые ручки-задвижки, Басов одной рукой распахнул дверь. Второй рукой он лихорадочно расстегивал кобуру пистолета.
Внутри было жарко и сумрачно. После яркого солнечного света снаружи глаза не сразу привыкли к тусклому освещению. Массивная паровая машина заполняла почти все невеликое помещение. Огромные шатуны и рычаги, похожие на сочленения гигантского насекомого, казалось, жили собственной, независимой от воли человека жизнью. Двигаясь почти бесшумно, с негромким, почти человеческим придыханием, они готовы были захватить любое неосторожное существо и втянуть в ненасытное чрево. Вжавшись спиной в переборку, Басов выхватил пистолет и затравленно огляделся, готовый в любой миг спустить курок в коварного саботажника или неведомым путем проникшего на борт террориста. Никто, однако, на него не нападал, и Басов, внимательно осмотревшись, увидал в двух метрах от себя лежащего на полу человека в матросской форме. Шагнув к нему, лейтенант перевернул матроса на спину. Внешне на тяжелом теле никаких признаков насилия или следов крови не было заметно, но на лбу матроса явственно вырисовывалась огромная шишка. Спиртным не пахло.
– В машине. Что у вас?
Голос раздавался откуда-то сверху и, подняв глаза, Басов увидел два медных раструба, ведущих в рулевую рубку. На одном из них на цепочке свисала затычка – свисток.
– Матрос без сознания, – прокричал в раструб Басов. – Что делать?
– Рычаги справа от раструба видите, ваше благородие? Возьмитесь за них и, по моей команде, передвигайте по засечкам. Готовы?
– Так точно. Тьфу ты, готов. Как наверху?
– Спокойно пока. Думают, наверно, что мы круг почета делаем. А теперь – начали!
Через три минуты «Император» пришвартовался к «Штандарту». Николай и его восхищенные гости поднялись на борт. Матрос на пайолах машинного отделения очнулся.
– Что с тобой случилось? – едва сдерживая себя спросил Басов. Парадный мундир был испачкан маслом, руки дрожали.
– Так ведь не знаю, вашвысокоблагородь. – Целковый под машиной блеснул. Вон он, лежит еще. Я и нагнулся, чтобы поднять. Тут меня шарахнуло чем-то. Шатуном, наверное, зацепило. А дальше и не помню. Извиняйте уж.
Спустя шесть часов «Верный» прошел траверз Крондштата и вошел в Маркизову лужу. Качка прекратилась. Ванек поднял из-под пайол полупустое ведро и недоуменно покачал головой:
– Больше не зачерпывается.
Течь прекратилась. Пайолы водрузили на место, Павел Емельянович выставил на стол свою схоронку, Ванек с полбуханкой хлеба и куском колбасы отправился на руль, а Серов торжественно провел Зою в каюту. Еще недавно зеленоватое, лицо Зои заметно порозовело, держалась она как заправская морячка.
– Рулить я, кажется, научилась, – сказала она. – Но что-то у вас подозрительно торжественная обстановка. Что отмечать будем? То, что больше не тонем?
– Видишь ли, – нерешительно начал Серов, но, взглянув на Гудзя, внезапно поменял тон. – Павел Емельянович рассказал, что когда-то, а точнее в 1910 году корабль наш носил имя «Император» и перевозил на царскую яхту «Штандарт» самого Николая Второго и его семью. Николай находился на палубе, а императрица с дочерьми и наследным принцем Алексеем располагалась в этой каюте. Потрясающая история, верно? Словно сам себя ощущаешь в те времена.
– Здорово. И ты собираешься писать об этом?
– Писать мне об этом никто не позволит. Но представить себе, вообразить тебя в королевском платье, во всем величии… Это я могу. А ты?
– Вообразить? Наверное, – вдруг пересохшими губами прошептала она. И уже тверже, изменившимся вдруг голосом повторила:
– Могу.
Плечи Зои расправились, подбородок поднялся выше, заблестевшие новым светом глаза смотрели ясно и твердо. Серов опустился на одно колено и смиренно опустил взгляд.
– Ваше величество, позвольте мне, недостойному, в присутствии капитана этой замечательной яхты, предложить вам руку и сердце. Можете не отвечать мне прямо сейчас, но, прошу вас, в память об этом миге примите от меня этот скромный дар – монету с ликом самого государя императора, вашего батюшки.
– Я подумаю, – ответила она.
На борту «Штандарта» Николай оставил сопровождающих и прошествовал в свою каюту, чтобы, согласно протоколу, выйти к торжественному обеду в момент, когда все гости займут отведенные им места. Подуставший от сегодняшних церемоний контр-адмирал Нилов, лично ответственный за безопасность Николая, воспользовался случаем, чтобы также покинуть компанию и в одиночестве, в собственной каюте опрокинуть в ожидании обеда чарку другую. А контр-адмирал Чадов задержался на «Императоре». Только на днях пришло сообщение о грядущей помолвке лейтенанта Басова с Наденькой, любимой племянницей Чадова, и контр-адмиралу не терпелось узнать подробности. Инициативный лейтенант ему нравился, и он охотно поспособствовал бы продвижению молодого человека по службе, но теперь, в свете отношения лейтенанта с Наденькой, это могло быть неверно истолковано. Басова, однако, нигде не было видно. В рулевой рубке шкипер что-то выговаривал двум, очевидно, проштрафившимся матросам. Вспомнив, куда незадолго до швартовки влетел лейтенант, Чадов отдраил задвижки машинного отделения и распахнул дверь. Басов, сгорбившись, сидел на палубе. На парадном мундире офицера ворвавшийся в машинное отделение луч солнца высветил масляные пятна.
– Что это с вами, голубчик? – возмутился контр-адмирал, стараясь, чтобы его голос звучал как можно строже. – Я только что собирался похвалить вас за прекрасную идею обойти яхту по кругу, а вы предстаете в таком неподобающем виде! Вы что, пьяны? Переоденьтесь, немедленно!
– Так точно, господин контр-адмирал, – ответил лейтенант. С металлических пайолов он вставал медленно и неохотно, тщательно пряча в правой руке револьвер, который так и не успел донести до виска. – Виноват. Я по долгу службы должен быть проверить машинное отделение и…
– И слушать, голубчик, ничего не хочу!
– Сейчас еще по одной – и пойду начищу капитану «Верного» морду!
Ванек сглотнул водку из граненого стакана, отвалился внезапно на койку и захрапел. Чистить морду, впрочем, было уже поздно. Серову тоже хотелось сказать Пахомову пару ласковых – хотя бы о том, что порядочные люди в подобной ситуации как минимум стреляются. Но ТЩ стоял пришвартованным у причала на Неве, откуда его вот-вот должен был забрать речной буксир, чтобы уже на жесткой сцепке довести до Новой Ладоги, «Верный» ушел, и капитан его «забыл» заглянуть на ТЩ, чтобы попрощаться, а тащиться в Новую Ладогу на встречу ветеранов Серову хотелось меньше всего. В конце концов, недостающие детали в любом очерке или репортаже легко дополнить собственным воображением.
Гудзь, Серов и Зоя сдвинули стаканы с остатками водки. На донышке Зоиного стакана выделялась серебряная монета и выпить девушке предстояло до дна, чтобы, как уверил их отставной шкипер, будущее молодых, согласно древней морской традиции, скрепилось нерушимой морской связью. И Зоя не возражала. А Серов, глядя на вновь четко проявившийся на опустевшем дне профиль императора, подумал, что обязательно раскопает и напишет, пусть даже в стол, настоящую историю катера «Императоръ». Но пока эту мысль застилала более насущная проблема: как использовать вполне законные командировочные основания и снять номер в ленинградской гостинице, точнее, конечно, два номера, иначе бдительная коридорная никак не позволит Зое остаться у него после одиннадцати вечера.
Крыша
Ояр прильнул к иллюминатору. Самолет подлетал с севера и, пройдя восточную оконечность острова, резко повернул на запад, обходя Кипр с юга так, чтобы не пересекать воздушной границы на турецкой части. Внизу четко обозначилась неровная береговая линия с бесконечной цепью отелей. в душе наступило умиротворение, и Ояр начисто забыл обо всех рижских проблемах. В аэропорту Ларнаки он сел в безупречно чистый, сверкающий черным лаком мерседес с немногословным водителем, и машина плавно тронулась с места. Ровно через сорок пять минут они были в Лимассоле.
– Сколько с меня? – спросил он, когда машина остановилась у дома номер 14. Услышав привычную цифру – шестьдесят пять – Ояр удовлетворенно кивнул и передал водителю заранее приготовленные купюры номиналом в пятьдесят и двадцать евро. Уже пять лет цена на такси до Лимассола не менялась. Кипр был все тот же – остров спокойствия и надежности.
– Спасибо, сдачу не надо, – как всегда, сказал он. Таксист быстро выгрузил из багажника объемистый чемодан и уехал. Ояр выудил из кармана маленький ключ с брелком в виде футбольного мяча, выдвинул из чемодана ручку-штатив, шагнул к дому и… застыл.
Что-то было не так. Слева, чуть дальше по улице, привычно пульсировала неоновая вывеска винного бара. Рядом с ним, несмотря на поздний час, была гостеприимно распахнута дверь магазина, в котором он покупал сувениры перед возвращением домой. Так же привычно выглядела овощная лавка.
Засомневавшись, он быстро зашагал к перекрестку в пятидесяти метрах и прочитал табличку на греческом языке. Но нет, и название улицы, и номер дома были теми же, надежно впечатанными не только в его память, но и в документ, удостоверяющий его право владения двухэтажным домом именно по этому адресу. Да и входная дверь была точно такой, какой он ее оставлял в свой предыдущий приезд год назад, с маленьким сколом эмали, оставленным им самим соскочившей отверткой при замене вкладыша замка. Разница была только в том, что в доме, перед которым он сейчас стоял, было не два, а три этажа.
Решившись, Ояр вставил ключ в замочную скважину, повернул замок и замер в ожидании полицейской сирены и допроса по поводу вторжения в чужую собственность. Но ничего не происходило. Дверь легко открылась, и он вошел в дом. В свой дом, теперь в этом не было ни малейших сомнений.
В гостиной он подошел к стойке бара, на которой стояла полупустая бутылка восемнадцатилетнего виски Chivas Regal, оставленная, насколько он помнил, в таком же положении год назад, плеснул янтарную жидкость на дно стакана из толстого граненого стекла, вдохнул привычный аромат и… отставил стакан в сторону. После чего быстро поднялся на второй этаж, внимательно осмотрел потолок в холле, в своей и гостевой спальне и никаких изменений не обнаружил. «Черт, – подумал он, – неужели я допился до глюков? Но не с двух же порций виски при пересадке в Афинах!».
Спустившись, он все-таки сглотнул огненную жидкость в два коротких глотка, вышел наружу, перебрался через дорогу и вновь посмотрел на улицу. Теперь дверь в сувенирный магазин была заперта, а огни погашены. Неоновая вывеска бара продолжала мерцать, но сам бар был закрыт. Ояр медленно перевел взгляд на свой дом и сосчитал этажи. Первый этаж, второй. И третий.
Вернувшись в дом, он еще плеснул себе виски и со стаканом в руке поднялся в спальню.
Проснулся Ояр от лучей солнца, бьющего в глаза сквозь неплотно закрытые жалюзи. Он спал одетый, на неразобранной постели. Такого с ним не случалось уже давно. Конечно, вчерашний перелет с двумя пересадками в Киеве и в Афинах, с задержками рейса, выдался нелегким. Но виной всему, наверняка был сомнительный Chivas в аэропорту Киева, определенно левая гонка, не зря еще тогда вкус показался сомнительным. Вот и снились ночью какие-то кошмары.
Встав с постели, он скинул пропотевшую за ночь одежду, забрался под душ и долго стоял под бодрящими струями воды, пока не решил, что жизнь прекрасна, и что даже этот дом – вопреки всем сомнениям – был куплен не зря. Да и вообще – в тот год дома покупали все, у кого были на это деньги. В Испании, в Болгарии, в Англии – у кого на что хватало фантазии. Оставаться без дома за границей в его кругу было даже как бы неприлично. Однако дом на Кипре для делового человека был куда целесообразней. Рядом с офшорной компанией, с банковским счетом. Если мой дом – моя крепость, почему бы не иметь их две, на всякий случай. Каждый кирпичик свой, собственный, и в кровати этой кроме него самого… ну, если не считать пару случаев, но опять же, по собственному выбору!
Освежившись, Ояр натянул шорты, майку, нацепил босоножки и, уже ощущая себя полноценным отдыхающим, вышел на улицу, чтобы позавтракать в ближайшем заведении и прикупить кое-какие продукты.
Боковая улица, на которой стоял его дом, никогда не была отягощена автомобильным движением, тем более в воскресное утро. Вопреки обыкновению, он сразу перешел на другую сторону, помедлил и повернулся к своему двухэтажному дому. Этажей было три. Как и у соседа.
Ояр пересек улицу в обратном направлении и нажал на кнопку соседского звонка. Минуту спустя дверь распахнулась. На крыльцо вышел коренастый грек-киприот лет сорока с малышом на руках. Из-за его спины выглядывала пара детишек постарше.
– Извините за беспокойство, я ваш сосед, – представился Ояр, испытывая некоторое смущение тем, что вынужден нагружать своими проблемами чужого человека. – Мы, кажется, встречались. Знаете, я год не был в Лимассоле, вернулся только вчера. Но год назад в моем доме было только два этажа, а сейчас появился третий. Можете вы что-нибудь об этом сказать?
Некоторое время сосед вглядывался в лицо Ояра, словно удивленный тем, что его отрывают по таким пустякам от очень хорошо заслуженного отдыха, но потом его губы растянулись в широкой улыбке.
– Конечно, мистер, э-э Овар, я вас помню. Вас долго не было. У меня появился новый сын, видите, – и он указал на малыша в его руках.
– Поздравляю, – машинально сказал Ояр.
– Так что не беспокойтесь, с вашим домом все в порядке. Малышу надо пространство, вот я и пристроил этаж.
– На моей крыше?!
– Конечно! Вы все равно тут не живете, какая вам разница?
– Мои поздравления, – опять сказал Ояр. – Я рад за вашу семью. И даже за ваш дом. Я пока только не понял, какое отношение к этому имеет мой дом. Это моя земля. И все, что на ней стоит, это мое имущество.
– О чем вы говорите, мистер, э-э Онар. – Сосед передал малыша присоединившейся к беседе жене и огорченный столь явным непониманием ситуации, развел руки и воздел их к небу. – Если ветка дерева на моем дворе вырастет над вашей крышей, вы же не скажете, что это ваше дерево. Земля ваша, а небо над вашей землей принадлежит всем, мой адвокат так мне и сказал.
– Я понял вашу точку зрения, – сказал Ояр. – Боюсь, она немного расходится с моей. Бай-бай.
– Бай, – мистер, э-э Омар.
Воскресный день Ояр провел неспокойно. Взяв такси, он поехал на загородный пляж Курион, в ресторан, где запеченного в винном соусе осьминога подавали целиком, с живописно выложенными между его щупалец каракатицами. Несмотря на апрель, температура воды для человека, выросшего на берегу Балтийского моря, была более, чем приемлема. Пока блюдо готовилось, он заплыл в море к далеким буйкам, покачался в отдалении на слабой волне, пока не почувствовал легкий озноб, и вернулся за столик. Порция Chivas быстро согрела организм и подняла настроение. Вернувшись в город, он часа два провел в полудреме, валяясь на диване перед что-то вещающим телевизором. Когда и это занятие наскучило, он встал и долго бродил по улицам, заходя по дороге в многочисленные бары, и немного сбился со счета опрокинутых стаканчиков Chivas. Дома он уснул, едва коснувшись головой подушки.
В понедельник Ояр был готов к решительным действиям. Вместо шорт он надел белые парусиновые брюки, белую рубашку с коротким рукавом, легкие кремовые туфли и некоторое время размышлял перед вешалкой с галстуками, но, взглянув на стрелку термометра, решил, что вид у него и так получился достаточно официальный. Такой, к какому привыкли в адвокатской конторе, занятой обслуживанием его фирмы.
Контора с звучным международным названием занимала солидный четырехэтажный особняк в деловом центре города, всего в десяти минутах хода от его дома, и Ояр решил пройтись по хорошо знакомому маршруту пешком. По дороге, заглядывая в витрины, он не досчитался двух или трех, не выдержавших испытания кризисом, магазинов, а над оставшимися появились отсутствующие ранее надписи на русском языке. Киприоты, в отличие от его родной Латвии, отчаянно приспосабливались к новой реальности.
В холле первого этажа секретарша с ослепительной улыбкой предложила ему стакан воды и место на диване для посетителей, через три минуты ожидания в холл спустилась помощница старшего партнера адвокатской конторы и на лифте проводила Ояра в приемную на четвертом этаже. Там его поджидал сам мистер Тамтами с незнакомым ему прежде господином в строгом официальном костюме.
– Мистер Ояр! – воскликнул старший партнер, словно увидав лучшего друга своей жизни. – Мы всегда рады вашему приходу. И всегда, хочу заметить, готовы к нему. По телефону вы сказали, что вопрос ваш приватный, касающийся вашего личного дома. Вы знаете, что мы обслуживаем только корпоративных клиентов, но ваши интересы всегда стоят для нас на первом месте. Поэтому, в виде исключения, я взял на себя смелость пригласить для вас Тадакиса, лучшего в Лимассоле адвоката по жилищным вопросам. Вы можете побеседовать с ним в нашем переговорном зале.
– Огромное вам спасибо, – вежливо ответил Ояр, мысленно прикидывая, во что его компании обойдется это «исключение». Сам Тадакис, худощавый невысокий мужчина лет сорока с примечательной ниточкой чернявых усов, однако, прояснил этот вопрос очень быстро.
– Дело довольно интересное, – сказал он, выслушав рассказ Ояра. – Но непростое. На Кипре очень гибкая и справедливая судебная система. Когда судятся два грека, судьей назначается грек и суд протекает по законам Кипра. Турок судит судья-турок. Система всегда старается учесть тонкости национального вопроса. Но когда в дело вовлечены иностранцы, ситуация осложняется, судью-латыша мы для вас не найдем. В таких случаях применяется законодательство Великобритании, за основу берется прецедентное право. Мне придется основательно покопаться в старых делах. Поверьте, я лично полностью разделяю вашу точку зрения на право собственности и сделаю все, что смогу. Мое вознаграждение – 450 евро в час плюс расходы на судебные пошлины и тому подобное. Счет я буду выставлять один раз в месяц по результатам работы, а для начала вам надо будет перечислить страховочный депозит в двадцать тысяч евро. По рукам?
В конце октября в Лимассоле скучно и тихо. Под завершение сезона понежиться под все еще теплым Кипрским солнцем приезжают в основном семейные пары пенсионеров или родителей с малыми детьми из России и Англии, шумных тусовок не проводится, темнеет рано. Магазины в надежде на последнюю выручку перед мертвым сезоном работают допоздна.
К сожалению, в служебные командировки ездят не по сезону, а по необходимости. Днем в свободное от этих необходимостей время я совершал долгие заплывы в море и валялся с книжкой на пляже, а по вечерам гулял по растянувшемуся вдоль морского побережья городу, время от времени заглядывая в приглянувшиеся бары. Русская, английская или греческая речь вокруг звучит постоянно. А вот редчайший в этой части света латышский язык сразу привлек внимание.
Говоривший сидел в баре один, а разговор вел в телефонную трубку. Его лицо показалось мне знакомым.
– Лаб вакарс, Оярс, – сказал я, когда он убрал трубку в карман.
– Лаб вакарс, – ответил он, внимательно и немного настороженно вглядываясь в меня, и сразу же перешел на русский, как в большинстве случаев делают латыши, уловив у собеседника малейший акцент. – Кажется, мы знакомы, но я не могу вспомнить…
– Не удивительно, – пояснил я. – Это было лет двадцать назад. Мы вместе ездили в Вильнюс на прием к Бразаускасу и Прунскене по поводу приватизации, вы еще были с такой красивой девушкой…
– Да-да-да, – вспомнил он. – Потом она стала моей женой. А еще потом перестала ею быть. Так уж вращается жизнь. Но время было очень, очень интересное… Ну, что, по стаканчику за встречу? Я пью Chivas.
– Мы же на Кипре, – возразил я. – Здесь есть замечательное местное вино с особым букетом. Говорят, его рецепт составил сам Дионис. Давай попросим хозяина принести нам свежее Мавро, натуральное, без консервантов.
Подумав, Ояр согласился на Мавро. Бархатистый напиток обволакивал небо удивительным ароматом, но оставлял сухость во рту. Потом мы оценили Офталмо и Ксинистери, после которого Ояр, причмокнув, сказал, что Chivas все-таки лучше. И рассказал мне про дом. К этому моменту мы уже перешли на «ты».
– А зачем тебе вообще этот дом нужен, – спросил я. – Ты хотел его разделить с той, которая стала твоей женой, а потом перестала ею быть?
Ояр задумался.
– С женщинами получается так: сначала ты ее один раз, а потом она тебя всю жизнь. Если не уйдет. А вообще это неприличный вопрос.
– Ты прав. «Но твой рассказ звучит, как анекдот», – сказал я. – Ты его сейчас придумал? Хотя нет, такое придумать сложно.
– Пойдем, – немного обиделся Ояр. – Я тебе покажу. Это недалеко.
Мы вышли на улицу, сделали два или три поворота и остановились напротив одного из домов.
– Видишь?
– Вижу.
– Считай, сколько этажей.
– Да чего их считать. Три.
– Именно! И все три мои! Понял?
– Понял, – сказал я. – Твой адвокат оказался лучше, и справедливость восторжествовала.
– Ничего ты не понял. Пойдем, покажу. У меня там, кстати, настоящий Chivas есть. Не то, что твой Ксинистере.
Мы вошли в дом. На первом этаже Ояр захватил из бара початую бутылку Chivas и повел меня наверх. В холл второго этажа с трудом втискивалась винтовая лестница. Мы выбрались по ней в просторную спальню на третьем этаже с двумя дополнительными дверьми, в ванную и гардеробную, догадался я. Ояр подвел меня к окну и спросил, вижу ли я море. Я всмотрелся в ночной пейзаж, но увидел перед собой лишь крышу противоположного дома и черноту над ней, в чем честно и признался.
– Вот! – торжествующе объявил Ояр. – Пойдем дальше.
Мы вошли в дверь, за которой предполагалась ванная или гардеробная, и обнаружили еще одну лестницу. Ояр передал мне бутылку, поднялся первым и открыл люк над головой. Я выбрался вслед за ним наружу и оказался на ровной просторной площадке, посреди которой разместились два плетеных кресла и столик.
– А теперь видишь?
Я посмотрел в указанном направлении, и у меня захватило дух. Город сбегал к морю по склону и мы, стоя в темноте, лишь слегка подсвеченной снизу уличным освещением, словно парили над городом в воздухе. Под нами были крыши и переплетение улиц, а за ними всей ночной красе бескрайнее Средиземное море с огоньками кораблей на ближнем рейде. Вид на миллион долларов.
– Еще при первом разговоре, – прозвучало в темноте, – адвокат вспомнил о строительстве башни то ли в 1643 то ли в 1743 году. В ее верхней части, по замыслу какого-то знаменитого архитектора, сделали широкую смотровую площадку, заходящую по вертикали на территорию соседнего двора… Словом, была какая-то темная история, и я понял, что суд обойдется мне… Да нет, это даже понять невозможно было. Поэтому мы с соседом договорились. Третий этаж я выкупил, за те деньги, что сосед потратил на строительство. Да что за жизнь, если над головой кто-то ходит, верно? Зато теперь…
– Здорово. А это что? – спросил я, указывая на огромную решетку, витиевато закругленную над крышей соседского дома. – Чтобы ветром не сдуло?
– Да так, – уклончиво ответил Ояр. На всякий случай. Вдруг сосед четвертый этаж задумает строить. Небо-то общее. Но уже занято.
Гордыня
Юбилейный, десятитысячный день жизни Юра отмечал скромно. Никто из окружающих о памятной дате даже не догадывался. Но самого его уже с раннего утра, с момента пробуждения не отпускал легкий холодок предчувствия чего-то значительного, что непременно должно в этот день произойти. Да и произошло, конечно, хотя и вполне прогнозируемо. В масштабе, по сравнению с которым десять тысяч дней казались до обидного малой величиной.
Цифры, а особенно их такие многозначные нули еще раз привычно прокатились в Юриной голове, превращаясь в еще более осязаемые понятия – яхту, землю под родовое поместье, а то и самолет? А чем черт не шутит! Такие проекты выпадают, может быть, раз в жизни. Почему бы в свое поместье приезжать не просто так, а подруливать прямо к главному входу в салоне реактивного лайнера?
Подобного рода мысли всегда действовали успокаивающе, а сейчас, после затянувшейся, но доведенной до логичного завершения командировки вообще переносили в состояние эйфории. Тем более, что по хорошо укатанной снежной дороге автобус катил почти бесшумно, чуть раскачиваясь, словно яхта на малой волне.
На поворотах микроавтобус слегка заносило. Из-под колес взлетали снежные вихри, Юра крепче сжимал спинку переднего сиденья и напрягался всем телом, как бы готовясь принять неизбежный удар о ствол ближайшей, заиндевевшей от ядреного тридцатиградусного мороза сибирской сосны. Но машина как-то выправлялась, и водитель, видимо, хорошо знакомый с этой извилистой лесной дорогой, гнал дальше. Юра расслаблялся. Хотя неприятный осадок в душе все-таки сохранялся. Или холодок. Совсем, как утром.
Наконец, автобус остановился. Юра выглянул в окно, но увидал лишь все тот же густой, плотно занесенный снегом сосновый бор, быстро вбирающий в себя сумрак раннего зимнего вечера, и небольшую, переделанную из двадцатифутового контейнера будку со светящимся окошком. От будки куда-то в тайгу убегал простой проволочный забор, а дорогу перегораживал основательный, со странного вида подъемным устройством шлагбаум. Из будки вышла дородная тетка в овчинном полушубке, замотанная в байковый платок, из-под которого пухлыми налитыми яблоками выкатывали румяные от мороза щеки, совсем уж мало оставляющие для маленьких глаз-буравчиков. Полушубок подпоясывал черный ремень с блестящей морской бляхой. Неспешно подойдя к микроавтобусу, тетка бесцеремонно распахнула дверцу, впустила внутрь порцию обжигающего холода и заглянула сама.
– Свои, Ильинична, свои, отворяй, – поторопил ее воцарившийся на первом сидении лидер компании, генеральный директор завода и владелец контрольного пакета Полудубов, еще молодой, могучего сложения сибиряк с густыми раскидистыми кустиками бровей, венчающих просторное скуластое лицо.
– Свои дома сидят, – неодобрительно возразила сторожиха. Осмотрев пассажиров, она задержалась взглядом на Юре, очевидно, как на единственно новом, незнакомом ей до сих пор лице, осуждающе, показалось ему, покачала головой и лишь после этого захлопнула дверцу. Затем подошла к подъемному устройству, взялась за похожую на колодезный коловорот ручку и вдруг, словно стронув внутри своего организма скрытую пружину, закрутила ручку с бешеной, неуемной энергией. Увесистый шлагбаум быстро поехал вверх.
– Вот это темперамент! – не удержался от похвалы Юра, и Полудубов ободряюще хохотнул:
– Не зря говорят, в сорок пять – баба ягодка опять. Так что Ильинична в самом соку, могу познакомить. Наша гордость. Мастер спорта по тяжелой атлетике. Чемпионкой России была! Любого мужика одной рукой уложит. Между прочим, разведенка. Говорят, мужик ее натиска не выдержал, деру дал. Так что, если…
Весь салон – и главный инженер, тощий скуластый парень в квадратных очках, и оба, чем-то похожие друг на друга зама Полудубова, пышные и румянощекие парни не старше, как и их босс, сорока лет – зашелся смехом, и Юра с удовольствием присоединился к общему веселью. Сам он фигурой и без малого двухметровым ростом был вполне под стать Полудубову, редкая женщина в любой компании не останавливала на нем взгляд. Представив себя на миг в могучих объятиях престарелой ягодки-сторожихи, он захохотал еще больше, но в этот момент машину подбросило больше обычного, и Полудубов грозно прикрикнул на водилу.
Но вскоре и эта дорога закончилась, машина остановилась перед огромным двухэтажным бревенчатым срубом на берегу обширного озера. Догадаться о том, что это озеро, можно было только по полному отсутствию какой-либо растительности на ровной заснеженной поверхности в низине, со всех сторон плотно закрытой могучими соснами на холмистых склонах, и еще, пожалуй, по длинному желобу, спускающемуся к озеру от бокового крыльца.
К парадному входу между метровыми сугробами вела не слишком широкая дорожка, по щиколотку присыпанная свежим снегом, легким и пушистым. Сейчас в самую пору было бы насладиться окружающим пейзажем, но стоило выйти на улицу, сразу хотелось в тепло, поэтому компания без излишних проволочек дружно устремилась в распахнувшуюся дверь.
Аппетит за долгий рабочий день, насыщенный хождениями по цехам и многочисленным кабинетам, ненужными или малозначительными знакомствами, подписанием документов, нагулялся нешуточный, и запах еды всколыхнул его с новой силой. Быстро, не доверяясь не слишком надежным на взгляд вешалкам, компания побросала шапки и полушубки на стулья в обширной прихожей и ввалилась в каминный зал. И уж зал точно не обманул ожиданий. Огромный открытый камин, как в древних шотландских замках, украшала голова изюбря с большими развесистыми рогами, еще несколько голов парнокопытных поменьше разместились по стенам всего помещения, центр которого занимал массивный деревянный стол. А на нем без особых изысков, но зато в несомненном избытке на больших плоских блюдах были выставлены несколько сортов настоящей сибирской рыбы: и копченый омуль, и строганина из нельмы, и осетровый балык, утопающие в горах зелени, украшенной помидорами и редиской. Было здесь и холодное мясо, нарезанное крупными развалистыми кусками, и кислая капуста, и даже основной источник всепроникающего запаха – салат столичный. И, конечно, напитки. Несколько стеклянных двухлитровых кувшинов с квасом, с клюквенным морсом скромно соседствовали с пузатыми бутылками царской водки в заиндевевших, только с мороза бутылках.
При одном взгляде на это великолепие у Юры остро засосало в желудке. Полудубов, словно угадав позывы природы, не церемонясь, сразу повел к столу – разговеться с дороги. Он так и сказал: разговеться, то есть лишь слегка закусить, утолить первый голод, чтобы переполненный желудок не мешал главному, хорошо заслуженному событию дня. И действительно: много есть никто не стал, обошлись парой тройкой бутербродов с толстыми ломтями мяса и несколькими кусочками рыбы под две скромные стограммовые стопочки. Тост, конечно, был за гостя и ответный от Юры за настоящую Россию, за ее нарастающие, благодаря таким как Полудубов и его команда, и день ото дня крепнущие мускулы.
– Хорошо сказано! – одобрил хозяин, вставая и одним движением сдирая с себя неуместный в такой обстановке галстук. – А теперь пора эти мускулы как следует разогреть. Все остальное потом, потом, потом…
В бане тоже все было, как полагается. В большой деревянной кадке парились в свежем кипятке березовые и дубовые веники, лихач-водила в одночасье преобразился в усердного банщика, каменка отдавала вкусным хлебным запахом. После первого захода, легкого, для первичного разогрева, без веника, было где посидеть за кружечкой кваса, закрутив распаренные тела в простыни, как римские патриции.
– Летом у нас шикарно, – похвалился-посетовал Полудубов. – Из парилки выскочишь – и на желоб, прямо в озеро, а водичка там ох ядреная! Вылезаешь из воды – сам себе хрустальным кажешься. Тронь – зазвенишь. Приедешь к нам летом, ко второй очереди – не пожалеешь.
– Да я и так не жалею!
Юра легко и весело рассмеялся. Жизнь удалась, как нельзя лучше – и вся, до последней запятой, вылеплена была собственными руками. Даже учеба в Кембридже на долю от продажи отцовской квартиры была его выбором, который сестра поддержала безоговорочно, с неизменной верой в младшего брата. И не ошиблась. Вся дальнейшая карьера инвестиционного банкира подтверждала это, а последняя инвестиция в крупный российский завод в особенности.
– Погоди! – все еще убеждал в чем-то Полудубов, – ты пока настоящей сибирской бани не попробовал. Парильщики у нас… ну, да сейчас сам поймешь. До Ильиничны им, конечно, далеко, вот если она в руки веник возьмет… ну это уже для любителей экстрима! Но и парни неплохи, неплохи. А вот, кстати, и они, как черти из табакерки. Так что, если готов – давай, тебя как гостя первого уважим.
– Не откажусь!
Первый жар уже сошел, и нагретое тело было вполне готово к новой процедуре. Расправив плечи, Юра подошел к кадке с вениками, но один из банщиков, молодой жилистый парень, на вид не старше двадцати пяти, остановил его:
– Извините, инструмент – это моя забота. А вы идите, ложитесь.
Банщик не предлагал – указывал, как делают уверенные в себе мастера, и Юра послушно, подчиняясь отработанному, очевидно, ритуалу, кивнул:
– Как скажешь…
У дверей в парилку он все же остановился и с интересом посмотрел, как парень, перебирая в кадке дубовые, березовые и можжевеловые веники, взвешивает их, примеряя к руке, словно художник кисть или хирург скальпель. Отобрав, наконец, сразу два веника, наиболее точно соответствующие предстоящей операции, банщик встряхнул их особым, артистичным движением и передал напарнику, кажется, тому самому лихачу-водиле. В парилке Юра надел войлочную шапку, лег на широкий полок, и его тело, уже размякшее, еще хранящее тепло первого захода, начало быстро впитывать новый жар раскаленной печи. Затем в парилку вошел молодой банщик по имени Паша, и по его команде Юра послушно перевернулся на живот так, чтобы лицо зарылось прямо в душистую дубовую листву веника.
Тело Юры замерло в предвкушении таинства банного обряда. И он начался с легкого покалывания едва касающегося спины веника (можжевелового, догадался Юра). Мягкие иголки, словно подразнивая, скользили от пяток до основания шеи и обратно. Потом движения участились, прикосновения перешли в легкие, но постепенно усиливающиеся пошлепывания, но уже без покалывания – очевидно, банщик сменил веник на дубовый или березовый. Теперь по телу катились обжигающие волны – они сталкивались, расплескивались, проносились стремительными вихрями. И каждый новый вихрь веник, как молот сваи, вбивал в самую глубь организма. Но и это оказалось еще только прелюдией! Банщик велел сесть, и Юра перебрался на полку ниже, но ближе к раскаленным камням, источающим устойчивый запах эвкалиптового масла, и только теперь обнаружил, что на самом деле банщиков двое. Теперь они могли подобраться к нему с двух сторон.
– Вы скажите, если вам будет трудно выдерживать нашу баню, – сказал один из парильщиков.
Юра кивнул и подумал, что скорей не выдержат эти бравые парни, которым кажется, что только они, сибиряки, и способны на что-то, куда до них москвичам… Он поднял руки словно Христос на кресте, и сразу четыре веника заплясали по его спине, груди, рукам, животу, охватывая тело раскаленным коконом. Это было уже не удовольствие, а игра на выживание. Частью мозга Юра понимал, что ему более чем достаточно, но непонятная гордыня удерживала его на месте. В какой-то момент банщик, кажется Паша, четко ситуацию Юра уже не воспринимал, притормозил и спросил, может, хватит, и Юра нашел в себе силы, как бы задуматься ненадолго, чтобы потом снисходительно кивнуть – мол, ладно, я же понимаю, что вам работать вениками больше невмоготу, так что давайте, закончим…
Голова кружилась. Юра шагнул к дверям, схватился за ручку, чтобы не упасть, вышел наружу. В тот же миг вылетевшие следом банщики подхватили его под руки, подвели к стенке, об которую он по их команде с облегчением оперся, обдали сверху двумя ведрами ледяной воды, и на миг ему показалось, что вода, едва коснувшись его тела, с шипением испаряется, как от прикосновения к раскаленному утюгу.
– Все хорошо? – спросил банщик, передавая чистую простыню, и Юра в ответ поднял большой палец.
– Лучше не бывает. Спасибо огромное.
Его все еще покачивало, загнанный внутрь жар по-прежнему рвался наружу. Хорошо натопленные помещения тоже не давали телу нужного отдохновения. «Сейчас бы в прорубь с головой», – вслух подумал он, и банщик услышал его.
– На озере метровый лед, а сверху еще и снега столько же, не пробиться. До мая простоит.
– Это понятно. А так, если в снегу поваляться, это куда?
– Снега у нас хватает. Вот по коридорчику, во вторую дверь. Осторожней только, мороз на улице, а дверь…
Но Юра уже не слушал. В несколько движений преодолев невеликий коридорчик, он быстро разобрался с простым замком-защелкой, рванул на себя дверь, шагнул навстречу ледяному, да какому ледяному, просто освежающему, как показалось в первый момент, воздуху и, не задумываясь, нырнул в пушистую снежную благодать. Жар и холод вступили в битву, и ее полем стало его тело. По переднему краю обороны, по коже словно защелкали крохотные ледяные снаряды, и она напряглась, натянулась, моментально выстроив линию обороны, тело взбодрилось, быстро подтягивая скрытые, неведомые даже самому его владельцу силы. Мощный хор куража заглушил робкий голосок осторожности; резервные батальоны очнулись от долгой спячки и рванулись в бой. Юра в непривычном диком восторге катался в снегу, подбадривая себя воинственными вскриками, и голос его ухал, отскакивал от заиндевелых кедров и уносился куда-то ввысь, к мерцающим в высоком небе звездам.
Наконец, взбодренный до некуда, готовый к новым радостям банной жизни, Юра выбрался из сугроба, подбежал к двери и рванул ручку. Дверь не открылась.
В первое мгновение, еще не веря в очевидное, он подергал дверь сильней, постучал в нее кулаком и даже крикнул в полный голос, призывая на помощь, но ответа не дождался – просто невозможно было дожидаться чего-то, стоя обнаженным на тридцатиградусном морозе. Ожесточенно размахивая руками, он рванул со всех ног вокруг здания, к главному входу, схватился за массивную ручку спасительного убежища, потянул на себя, но и эта дверь не поддалась.
Окна сруба стояли высоко, достичь их, даже с его ростом, было невозможно. Он поискал вокруг чего-нибудь, что можно было бы использовать в качестве импровизированной лестницы, но если таковое и имелось поблизости, то было надежно скрыто под толстым слоем снега. Какую-то надежду оставлял микроавтобус у входа. Юра попробовал двери, все они оказались заперты. Он подергал ручку, потолкал машину, чтобы сработала сигнализация, но безуспешно. Весь, так тщательно набранный жар бани, испарился без следа. Тело, сковывая движения, охватил жуткий холод. В отчаянии, Юра кинулся на неподатливую дверь главного входа в баню и начал лупить в нее, с ужасом понимая, что его застывшие кулаки практически не производят звука, да если бы и производили, как ему пробиться сквозь заваленный полушубками гардероб, каминный зал, громыхающий музыкой предбанник…
Юра вновь прыгнул в сугроб, который, казалось, давал чуть больше тепла, чем открытое пространство. Но и это чуть давало лишь крохотную отсрочку неизбежного. Тело забилось крупной дрожью. Надо было срочно что-то предпринимать. Если не попасть в баню, может быть, по соседству есть другое строение? Юра вновь вскочил на ноги и огляделся вокруг. На дворе стояла ночь, но полная луна висела над головой, освещая окрестности почти как днем. С одной стороны, начинающийся в нескольких метрах от бани крутой склон сбегал к озеру, но без малейших признаков жизни по его берегам, далее сплошной стеной стоял лес, прореженный единственной дорогой, по которой и приехала кампания, преодолев заслон у лесной сторожки. Сторожки! И в ней, наверняка у теплейшей из печек, а как иначе продержишься в небольшом вагончике, та самая Ильинична, способная одной рукой уложить здоровенного мужика!
Уже не раздумывая, он рванулся в сторону дороги, споткнулся, упал в сугроб, вскочил, пробежал несколько шагов и упал вновь, теперь на укатанную автомобильными шинами дорогу, по которой оставалось пробежать всего пятьсот, восемьсот метров, ну, может быть, километр, сущий пустяк. Мало ли натоптал он таких километров по лесным тропинкам у своего загородного дома. Не голым в тридцатиградусный мороз, конечно, не босой, с теряющими чувствительность ступнями, не в глухой тайге, где единственный страж невесть каких ценностей – здоровенная, голодная до мужиков баба! Ох, будет на чем порезвиться местному фольклору.
Но не злобные языки местного населения волновали его сейчас, а расстояние. Ноги слушались плохо, он опять упал, раз, второй, но уже отмахал добрую сотню метров и вдруг застыл. Огромные сосны сомкнулись по сторонам дороги, луна затерялась за могучими ветвями, стало сумрачней, но обвыкшие к темноте глаза еще легко выхватывали малейшие извивы… сразу двух зимников! Юра застыл на месте. Дорога разветвилась, и каждое из новых направлений, расходившихся под углом в девяносто градусов, выглядело абсолютно идентичным.
Он попытался вспомнить, с какой стороны автобус подъезжал к базе, но сразу понял, что за разговором практически не выглядывал в окно, разве что в момент, когда автобус подбросило… Автобус! Юра пригнулся ближе к дороге, чтобы разглядеть след протектора, но его ждала неудача. След был на дороге справа, но точно такой же отыскался и на левой дороге. Уже ни на что не надеясь, он двинулся обратно к бане, с каждом шагом все ясней понимая, что скорей всего не сможет дойти даже до деревянного сруба. Да и зачем? Тело, еще недавно содрогаемое неконтролируемыми судорогами, успокоилось, одеревенело и ощущалось уже не совсем своим, словно дух Юры каким-то образом оторвался от своего физического носителя и умиротворенно взирает на него со стороны. Юра сделал несколько тяжелых шагов по направлению к бане и с облегчением опустился на снег.
Заглянув в комнату отдыха, банщик спросил, кто пойдет следующим.
– Да я и пойду, наверное, если остальные не против, – сразу отозвался Полудубов, поднимаясь с лавки. – Как там наш гость, кстати, живой?
– Не то слово! – Банщик с гордостью потянулся и промокнул влажным полотенцем лоб, по которому сбегали крупные капли пота, но тут же взял себя в руки, всем своим видом показывая, что ему-то, потомственному сибиряку, такая работа нипочем. – Наш человек! Еще и на морозец выскочил в снегу поваляться.
– В снегу – это знатно, – согласился Полудубов, – я бы и сам… А сейчас-то он где?
Мы сидели на палубе новенькой шестидесятифутовой красавицы-яхты. Время приближалось к полуночи, летнее небо раскинуло звезды по всему небесному куполу до самого горизонта, линия которого прерывалась только со стороны небольшого острова, одного из нескольких тысяч в шведских фьордах. На палубе стояла ополовиненная бутылка дорогого сигарного виски. Обрезав кончик увесистым хромированным устройством, я поднес сигару к зажигалке и втянул в себя воздух. Во рту противно запершило, вместо свежего морского воздуха в полости рта завис запах горелых табачных листьев, к горлу подобралась тошнота. Что хорошего находят в этом курильщики? Даже глоток виски не помогал избавиться от неприятного ощущения.
Медленно отведя руку в сторону, я незаметным движением швырнул сигару за борт, но от зоркого глаза хозяина яхты, успевшего сделать уже несколько затяжек, это не ускользнуло.
– Не нравится? Да и впрямь гадость. Жизнь-то одна, чего ради ее еще и этим отравлять?
Следуя моему примеру, он быстрым движением выщелкнул сигару из руки, она высоко взлетела в воздух, сверкнула искоркой в ночи, и исчезла в воде.
– Ну, а дальше, дальше-то что было? – поторопил я.
– Дальше?
Юра отхлебнул из своего стакана и задумчиво посмотрел в сторону горизонта, словно вновь переносясь в далекую сибирскую ночь.
– Дальше мне уже ничего не хотелось. Холода больше не было, на душе стало спокойно, я был уверен, что моя миссия на этой земле завершилась, и вполне успешно, завод получил все, что требовалось, все у них будет хорошо, да и меня будут вспоминать добрым словом – всего такого, какой я есть… Такого… Я словно больше не лежал в снегу, а парил в воздухе и со стороны смотрел на лес, на дорогу, на собственное тело – хорошее такое, крупное, с широкими плечами, мускулистой грудью, крепкими руками и ногами, почти без живота, с… Я всмотрелся в то, что должно находиться между ног, и ничего не нашел! Нет, мой дружок, конечно, был на отведенном ему месте, но он сжался до таких невероятно малых размеров, что был едва различим. У меня, всего такого большого и мощного! Едва различим! Здоровый был парень, станут говорить люди, да вот мужчина, похоже, никакой… И в этот момент меня словно током ударило. Я вскочил на ноги и кинулся к бане, зная, что сейчас просто вышибу с разгона дверь. Гордыня вогнала мой дух обратно в тело, превратила его в стальной снаряд, в быка на корриде, в танк. Я летел на дверь, я влетал на нее руками, плечом, ногами, грудью, и дверь, будто ощутив мой порыв, распахнулась сама, и я упал прямо в руки Полудубова и его команды.
Мы помолчали. Потом глухо сдвинули толстые граненые стаканы и выпили за юбилейный, пятнадцатитысячный день жизни хозяина яхты.
– Так деньги на строительство храма ты после этого отдал? Чтобы гордыню усмирить? – еще спросил я.
Юра, не отрывая взгляда от далекого горизонта, на ощупь отыскал свой стакан и сделал новый глоток.
– А Бог его знает.
Знамение
Отец Афанасий старался изо всех сил. Хотя задание проследить, чтобы на VIP-стоянку попадали только те, кому она предназначалась, казалось для него не совсем правильным. В соборе он служил недавно, людей не знал. Мысль, что послали его как самого молодого в храмовой иерархии потому лишь, что никому более не хотелось в этот день пропускать службу, он отгонял. Сомнения идут от лукавого. Уж если досталось такое испытание, значит, на то воля Божья.
Впрочем, и это, не такое уж обременительное задание подходило к концу. Низкое солнце пробурило отверстия в тяжелых тучах и поливало еще влажную после недавнего дождя землю ослепительными лучами. Отраженные в лужах, солнечные зайчики плясали по стеклам автомобилей, по витражам храма, слепили прохожих. Да и вообще создавали ощущение праздничности – видно, сам Господь решил подарить своим служителям радость в такой день.
На стоянке оставалось лишь одно место, самое козырное. Большой черный джип отец Афанасий даже не воспринял всерьез. Машина с большой лебедкой на переднем бампере и выхлопной трубой, выведенной прямо на крышу, нахально вкатила на парковку и остановилась. Больше всего она походила на служебный транспорт какой-нибудь спасательной службы. Отец Афанасий шагнул навстречу, чтобы немедленно навести порядок, но в последний момент замешкался. Трое мужчин неторопливо выбрались наружу. Возрастом с виду они были лет от сорока до пятидесяти, но могли быть и старше. Отец Афанасий, сам лишь двадцати двух лет отроду, имел уже случай убедиться, что люди состоятельные и хорошо ухоженные нередко выглядят намного моложе своего возраста. Одеты они были в темные, хорошо сидящие костюмы, очень уж несочетающиеся со скромным облачением обычных посетителей храма. Один из них распахнул багажник, вытащил огромный букет белоснежных роз, передал цветы ближайшему из своих сотоварищей, лацкан его пиджака при этом слегка задрался, и на солнце ослепительно сверкнула золотая запонка.
Отбросив сомнения, отец Афанасий расплылся в улыбке, перекрестился и широко развел руки.
– Проходите, проходите, гости дорогие, владыка будет рад видеть вас в такой день.
Кафедральный собор был переполнен. Юбилей праздновали широко. Для многочисленных высоких гостей с различных концов православного мира на трое суток арендовали пятизвездочную гостиницу рядом с собором. В самом роскошном зале города напротив городской мэрии заказали банкет на двести человек. 70-летний владыка сам проводил служение, начав с заутрени, а сейчас было уже шесть вечера, заутреня после небольшого перерыва плавно перешла в литургию, а владыка вновь и вновь выходил к пастве.
Новые гости кое-как протиснулись в храм и встали неподалеку от входа. Каминский – Артамонов и Градов перекрестились, а Варламов неопределенно двинул руками, тем более что обе они были заняты увесистым букетом, и приготовился к долгому ожиданию, которое в православных храмах приравнивают к смирению. Не слишком вслушиваясь в слова молитвы, он больше наблюдал за лицами окружающих. Все глаза были устремлены в сторону амвона. Такие лица, отражающие восхищение, восторг и умиротворение одновременно бывают у влюбленных, и Варламов почувствовал что-то вроде укола ревности. Собравшиеся здесь люди, забыв о повседневных заботах, о заботах и немощах, терпеливо выстаивали многочасовую службу, с благоговением внимая каждому слову владыки, облаченному в позолоченную парчовую мантию. С благоговением, то есть, воспринимая сказанное как догму, как откровение, как непреложную истину, не подверженную ни малейшим сомнениям.
Чтобы не помять розы в толпе, Варламов поднял бутоны цветов выше головы, и, снимая нагрузку с рук, прислонил мощные стебли к плечу. Владыка говорил о присущем каждому от природы человеческой религиозном чувстве. Которое, однако, не всякому дано распознать, и потому те, не распознавшие, обращают его на ложных кумиров. Разве это не затаенное религиозное чувство, вопрошал владыка, когда массы молодежи на концертах поп-звезд раскачиваются в экстазе или приходят в фанатичное неистовство на трибунах стадионов, наблюдая за футбольным матчем. Вместо того, чтобы думать о… Дальше Варламову стало неинтересно. Двадцать лет назад, по делам бизнеса он едва не каждую неделю перемещался в спальном вагоне в Москву и обратно. Поездки планировались спонтанно, но он приноровился в последний момент выкупать в переполненном поезде билеты для VIP-персон. Церковные иерархи в стольный град ездили часто, и он несколько разделял купе с митрополитом, который в то время был на несколько церковных рангов ниже, любил хорошо выпить и закусить и тем, даже самых запретных, не чурался. За дискуссией под бутылку хорошего армянского коньяка дорога пролетала незаметно. Ох, если бы он поднял тему о врожденном религиозном чувстве тогда…
Отключившись от проповеди, Варламов начал мысленно подбирать аргументы к вкусному теологическому спору, и его лицо тоже озарилось, приходя в соответствие с окружающими ликами, когда стройное течение мысли внезапно прервало появление вездесущего отца Афанасия, избавленного, наконец, от необходимости следить за наполненной до предела автостоянкой.
– Что же вы тут стоите, с краю! – посетовал он. – Пожалуйте за мной, к амвону.
– Да ничего, не беспокойтесь, мы и тут подождать можем, – проявил соответствующую случаю скромность Каминский – Артамонов. Голова его возвышалась над окружающими, благодаря чему его, наверное, и углядели с амвона. Или, скорее всего, заметили огромный куст белоснежных роз, а уже рядом с ним голову важного церковного спонсора.
– Ни в коем случае! – ужаснулся Афанасий, уже получивший от настоятеля храма нагоняй за то, что не отвел гостей на приличествующее их положению место. – Владыка непременно захочет с вами пообщаться лично.
– Если владыка приглашает, надо идти, – заявил Градов, как наиболее авторитетный знаток дел церковных. Впрочем, не только церковных. В городе Градов, как правило, появлялся внезапно, без долгих упреждений, да каких там упреждений, просто звонил вдруг на мобильный и говорил, что будет через час или два в аэропорту или на вокзале, и Варламов бросал все дела и ехал на вокзал или в аэропорт, уже понимая, что течение его жизни опять повернется в нежданную сторону. Градов, как океанский лайнер, вторгался в устоявшиеся воды провинциальной жизни и, словно пробивал в них фарватеры, ведущие в новые и новые сферы. Казалось, он был интересен всем и ему – в свою очередь – были интересны все. Сегодня это были крупные предприниматели, завтра – артисты театра или художники, а за ними уже стояли в очереди политики или спортсмены, писатели или ликвидаторы чернобыльской аварии. Последняя метаморфоза произошла с Градовым, как всегда, внезапно и стремительно. Ты же любишь неожиданные места, сказал он Варламову тремя годами ранее, и они поехали в подземный храм на территории женского монастыря. Ничем особенным мрачное, невесть для каких целей выстроенное помещение с потаенным входом, в которое допускались лишь избранные, впечатления на Варламова не произвело, а вот то, что святая святых показали именно им, поразило. Судя по всему, именно такого эффекта, поразить высокого гостя, и добивался лично проводящий экскурсию владыка. Свою персону Варламов из категории высоких гостей вывел без малейших сомнений. Оставался Градов. Опять, уверен был Варламов, как небольшой эпизод пестрой жизни его давнего друга, в которой открылась еще одна экзотичная страничка. Но эпизод на этом не завершился, на смену ему пришли другие, сливаясь в сплошную череду монастырей, храмов, икон, святых мощей и душеспасительных бесед. И Градов, всегда самозабвенно активный, точный до циничности, смиренно склонялся перед образами, о которых совсем недавно даже не вспоминал, и Варламов до сих пор не мог понять, что столь резко изменило, взрослого, сильного и самодостаточного мужчину. Вот и сейчас, пока их маленький отряд, влачимый, словно буксиром, молодым служителем, пробивался сквозь неколебимую массу прихожан, Градов, а следом за ним и Каминский – Артамонов, склонялись перед образами на пути и прикладывались на секунду губами к намоленным и перецелованным до них тысячами верующих иконам. У амвона отряд остановился, но служитель поднялся по ступеням, открыл малозаметную дверь в стене и пригласил их внутрь.
– А можно? – осторожно осведомился Варламов, выкапывая из сложных закоулков памяти информацию о том, кому в церковном мире дозволено посещать сие священное место.
– Вам… Простите, но вы же крещенные?
– Варламов внезапно смутился и вспомнил, как праздновался его пятый год рождения. Дети приглашены не были, зато взрослых собралось человек двадцать, и они едва уместились за большим овальным столом, вокруг которого, оставаясь дома один, он любил гонять на трехколесном велосипеде. Гости в их семье собирались нередко, к этому он привык, но в этот раз среди них ощущалось какое-то напряжение – за обильно уставленный закусками и напитками стол не садились, говорили негромко, словно вот-вот должно было произойти что-то необычайное. Наконец, раздался очередной звонок, вошедший долго возился в коридоре, и затем в комнате возник удивительный для детского взгляда человек – большой, широкий, в длинном черном балахоне, в колпаке на голове и с огромной седеющей бородой.
– Это Бармалей? – громко спросил маленький Варламов, и родители зашикали на него.
– Что ты, что ты, никакой это не Бармалей, это дядя поп, священник, то есть.
На груди дяди попа болтался огромный серебряный крест, и когда малыш попривык понемногу к бороде и странному облачению гостя, ему объяснили, что надо сделать, он наклонился к кресту и смачно чмокнул. После чего все захлопали, словно маленький Варламов совершил что-то удивительное, оживились, быстро сели за стол и празднование пошло обычным порядком – с тостами, с песнями, которые густым баритоном громче всех выводил человек с бородой Бармалея.
Смысл обряда, который в те годы предпочитали держать в тайне, он понял лишь много лет спустя. Да и расшифровку значения слова «поп» – пастырь овец праведных, узнал не скоро.
– Крещенный, – ответил он отцу Афанасию и был вместе с остальными допущен в святая святых.
За царскими вратами оказалось так же тесно, как и в храме. С той разницей, что заполнено помещение было исключительно людьми в рясах. Вглядевшись, Варламов узнал повелителей крупнейших епархий из ближайших республик – митрополитов, епископов, викариев, стройных и осанистых, с бородами и ухоженными бородками, с неизменными крестами. Светские костюмы выглядели здесь неуместными.
Стояли церковные иерархи молча. То ли переговорено все уже было, то ли негоже было вести разговоры у алтаря, особенно в минуты, когда неподалеку за царскими вратами вещал сам владыка, то ли не для каждых ушей было то, что готовы были поведать друг другу духовные властители. Стул у алтаря был только один, словно малый трон, предназначенный для владыки, на него не посягал никто, а стулья и скамьи в православных храмах почему-то считаются предметами излишними. Только старший по возрасту из священнослужителей, восьмидесятилетний митрополит Таллиннский и всея Эстонии, ноги которого последние годы держали с трудом, не чинясь, опустился на пол и сидел, прислонясь спиной к стене.
Едва втиснувшись в алтарную, Варламов понял, что место ему досталось самое неудобное, под ногами было что-то неровное, вроде сбившегося ковра, обо что легко было бы споткнуться и упасть, не будь такой плотной поддержки со всех сторон. Потоптавшись слегка, но так и не найдя нужного равновесия, он опустил голову, пытаясь разглядеть, что происходит внизу, и вдруг понял, что стоит не на ковре. Прямо под его подошвами располагались вытянутые ноги таллиннского митрополита! Сам митрополит при этом не проявлял ни малейшего беспокойства. Веки старца были опущены, лицо безмятежно, и Варламов с нарастающим ужасом подумал, что митрополит, возможно, от болевого шока потерял сознание или умер! Он, раздвигая соседей, поспешно ступил на шаг вперед, ближе к алтарю, и с облегчением увидел, что митрополит пошевелил рукой и, не поднимая век, почесал переносицу.
Иконостас гасил голос владыки, и слов было не разобрать. Помещение алтаря по убранству было скромным, мало сочетающимся с пышным убранством храма по ту сторону иконостаса. Исключение составлял только сам алтарь. Позолоченное, искусной резной работы сооружение занимало центр комнаты, и было покрыто красивым золототканым покрывалом, на котором возлежало Евангелие. Чтобы скрасить время, Варламов переместил тяжелый букет на другое плечо, и взялся разглядывать резьбу, пытаясь разгадать спрятанные от непосвященного глаза символы. Внезапно он с удивлением обнаружил на выпуклом, расположенном на боковой стенке алтаря, распятии капли свежей алой жидкости. Откуда бы ей взяться на таком месте?
Должно быть, отразившееся на его лице смятение привлекло внимание скучающего по соседству священнослужителя. Проследив направление взгляда Варламова, он вдруг пришел в чрезвычайное возбуждение и, указывая на алтарь, воскликнул:
– Кровь! Кровь на алтаре! Смотрите! Это знамение! А это что? Это целая лужа крови!
Теперь священник указывал куда-то вниз, и Варламов встревожился донельзя уже, решив, что его неловкий поступок не прошел даром, и уважаемый митрополит истекает кровью. И верно: опустив глаза, он тоже увидел лужу крови, растекающейся в промежутке между его ногами и ногами митрополита. Лужа подрагивала, как живая, расползалась в стороны. Странным образом тоненький ручеек струился в нее откуда-то сверху, хотя митрополит Таллиннский сидел внизу. И только подняв ладонь выше, Варламов осознал, что источником является его собственный палец. Один из мощных шипов на букете роз пробив кожу, попал прямо в артерию. Узрел это и священник.
– Это ваша кровь на алтаре! – воскликнул он с нарастающим энтузиазмом. Вы прямо истекаете, вам нужна помощь!
– Ничего страшного, – попробовал его успокоить Варламов. Боль не ощущалась, но поток крови не ослабевал, и Варламов с беспокойством шарил по карману, напрасно разыскивая в нем носовой платок.
– Вот, возьмите!
Священник, разгадав нехитрую загадку, протянул белоснежный платок с затейливой монограммой, и Варламов плотно перетянул рану. Притрагиваться к алтарю он не решился. Такое, возможно, и не было дозволено мирянину, к тому же, кроме уже использованного вместо бинта платка, наводить порядок было нечем.
– Это – знамение! – по-прежнему не успокаивался священнослужитель. Ваша кровь окропила алтарь в такой день не случайно! В вашей жизни теперь непременно что-то изменится. Помяните мое слово.
Церковные иерархи заметно оживились. Скучное ожидание закончилось, появилась общая тема для разговоров.
– Ну, все, старина, – обрадовано заметил Градов. Наконец, и ты. Теперь, считай, тебе деваться некуда. Походишь немного на службы, я отцу Якову скажу, он твоим духовным наставником будет. Прямо с завтра и начинай, не откладывай. Вместе пойдем.
– Завтра не получится, – ответил Варламов.
Попытка обратить его в веру была далеко не первой. Где только благодаря друзьям не довелось ему побывать за последние годы! В Пыхтинском монастыре предлагали примерить шубку святого и прикоснуться к его мощам. Стоявший рядом с ним глава большого писательского союза, он же высокий чин Всемирного православного собора с готовностью одарил потертую шубку святого смачным поцелуем, совсем как Варламов в детстве, а затем и одел ее, присел в кресло, в котором веком ранее сиживал святой основатель монастыря. Варламов скромно отступил назад, чтобы не обидеть настоятельницу, молодую еще, симпатичную и чрезвычайно энергичную женщину в черном монастырском облачении. Так же скромно он избежал прикосновения к святым мощам – допускалось такое только избранным из избранных. Не ощущал он себя таковым, не ощущал! Одно дело – полюбоваться искусным творением древних мастеров – иконописцев, резчиков по дереву, зодчих – и совсем другое ощутить в себе восторг от прикосновения к церковным таинствам, к древним костям, от слепой веры в нечто такое, что доступно человеку только в будущей жизни, из которой нет возврата. Но если возврата нет, отчего так убеждены в ней пророчествующие служители церкви?
– Вера не допускает сомнений. Не наш вы человек, – твердо, к большому разочарованию за своего друга определил владыка, глядя на Варламова. – Не наш!
Они сидели за обильно накрытым столом в доме Градова и, после тоста за русские святыни, Варламов, глянув на подвешенный к стене неподалеку от его места православный календарь, спросил:
– Владыка, а не переборщили ли мы сегодня с закусками? Разве сейчас не время поста?
Владыка нахмурился, внимательно осмотрел стол с тарелочками, на которых были разложены пирожки с грибами, грибы без пирожков, вареники, спаржа, овощные салаты, креветки, крабы, консервированные осьминоги, прочая недостойная упоминания мелочевка и облегченно улыбнулся:
– Не надо воспринимать пост буквально. Пост – это воздержание, что есть категория прежде всего духовная, и направлен во благо человека. Даже в буквальном выражении во время поста делается исключение для страждущих и странствующих. Но если вы говорите о скоромном, то все эти ваши осьминоги – не рыба и не мясо, даже в писании сказано, что Господь создал зверей, птиц, рыб морских и прочих тварей. На тварей пост не распространяется.
– Понятно, – ответил Варламов, изо всех сил стараясь, чтобы в голосе не прозвучала ирония.
– Понятно ли? – Владыка поднялся из-за стола, прошелся, погладил задумчиво бороду. В комнате словно поднялось напряжение. И тут Градов умело, как всегда, разрядил обстановку:
– А вот анекдот про батюшку и гусара помните? Едут они в одном купе, и гусар спрашивает: «Я, батюшка, водку не пью, за женщинами не увязываюсь, пост блюду. Правильно ли я живу?». Батюшка ущипнул проводницу пониже талии, развернул сверток, достал курочку, налил стопочку коньяку выпил, крякнул, бороду рукавом рясы отер и отвечает: «Правильно-то правильно. Да только зря». Так вот мой тост за жизнь, чтобы не зря.
Они выпили, владыка расслабился, посмеялся, но потом вдруг посерьезнел опять и, в упор глядя на Варламова, изрек:
– Не надо путать священнослужителей со святыми. Мы служим Господу, мы несем его слово пастве, мы следим, чтобы свершалось предначертанное Им. Но сами мы просто люди. И ничто человеческое нам не чуждо. А вы… нет, вы не наш человек.
Благоговейную тишину, нарушаемую только гласом владыки из-за иконостаса, нарушил гомон расходящейся толпы. Уставший, но не подающий вида владыка прошел через царские врата в алтарную и опустился в ожидавшее его кресло. Официальная часть завершилась. Священнослужители выстроились в очередь, чтобы лично поздравить владыку с юбилеем. Была ли очередь выстроена строго по сану, Варламов определить не смог, но если так, вся их светская троица, размещенная где-то в середине потока поздравляющих, оценивалась, очевидно, не ниже сана архиерея. Первым из них стоял Каминский – Артамонов. Высокий, крепкого телосложения, наследник древнего дворянского рода. Обязывающего рода. Вторую часть фамилии сам Николай, как правило пропускал, чтобы не вызывать лишних вопросов, но церковные иерархи о ней ведали без сомнений. И напоминали. Как правило, каждое из таких напоминаний оборачивалось для Каминского – Артамонова небольшой брешью в семейном бюджете или в бюджете его компании, а для церкви – новой библиотекой, брусчаткой во дворе или новой церковной утварью. Но об этом он вспоминать не слишком любил. В главном храме на острове Валаам, на которой они с друзьями добрались на моторной яхте Каминского – Артамонова, Николай перекрестился на образа и застыл. Каждый, самый потаенный уголок храма, пылал лучами золотого убранства. Стены длинного коридора, ведущего в верхний храм, были украшены фресками с изображениями святых, подумал сначала Варламов, но потом усомнился – уж слишком роскошными для святых были их одеяния. И тут же увидел надпись, поясняющую, что это фигуры самых крупных жертвователей на строительство храма – как правило, графов и князей, богатейших купцов. Завершался коридор высокой стеной, на которой золотыми буквами были впечатаны имена жертвователей нашего времени во главе с семьей действующего президента. Николай вполголоса стал зачитывать их имена и, сам того не замечая, не удержался от комментария:
– Я же их почти всех знаю. Половина уже сидит в тюрьме. А вторая… – и, повернувшись к Варламову, добавил: – Знаешь, прости Господи, одолевают меня сомнения. Такие роскошные, в золоте до самых макушек храмы – и такое нищее, спившееся население вокруг. Туда ли мы жертвуем?
Но, видимо, одолел или подавил сомнения граф Каминский – Артамомонов, потомок тайного советника Российской империи, и в бывшем родом имении не только восстановил дом-усадьбу, отдав половину его под музей и местную школу искусства, но и выстроил заново в селе церковь. Да и сейчас, в храме, под сводами которого проводилось чествование владыки, не случайно сиял свежей позолотой восточный купол.
– Огромное вам спасибо за то, что пришли, что не забываете нашу обитель, за дары ваши великодушные, и да пребудет Господь с вами во веки веков, – благословил склоненного перед ним гиганта владыка и не менее сердечно поблагодарил за неусыпные заботы о святом деле Градова. За ним, наконец, настала очередь и Варламова.
– С юбилеем вас, владыка, – начал Варламов, подбирая слова для поздравления повитиеватей, но внезапно прерван был все тем же вездесущим, сана, видимо, не малого священнослужителем:
– Не случайный гость посетил вас сегодня, владыка, не случайный! В честь вашего юбилея случилось настоящее чудо! Гость ваш отмечен свыше. Он стоял перед алтарем и внезапно из руки его изверглась кровь, прямо на алтарь! Я стоял рядом и все видел. Это знамение, уж поверьте, знамение!
– Знамение?
Владыка поднял голову, взгляд его пересекся с взглядом Варламова и вокруг уголков глаз владыки стянулась сеточка прищура мудрого, все понимающего в этой, а, может, и не только в этой жизни человека.
– Вера – это то, на чем мы стоим, – почему-то тише обычного сказал он.
Правда для прокурора
Если глаза – зеркало души человека, то лицо – отпечаток его жизни. У Сонечки лицо, даже в ее преклонном возрасте сохраняющее следы былой красоты, говорит само за себя. Роста она невысокого, поэтому на людей, а особенно на высокого мужа, смотреть привыкла снизу вверх и оттого морщинки на ее лбу собрались елочкой. Глаза, хотя и чуть поблекшие, по-прежнему сверкают молодо и задорно, а на увядших щеках четко отразились вертикальные складочки и ямки человека улыбчивого и доверчивого. Худенькая и невесомая, она неслышно передвигается в толстых войлочных тапках по большой и тихой, словно застывшей во времени четырехкомнатной квартире в центре Риги. Квартира оживает, когда из Лондона или Москвы приезжают дети и внуки, но происходит это не часто. Зато Наденька, ее давняя подруга, в квартире гостья частая и в ее присутствии Сонечка не слишком церемонится. Пока подруга плотно впечатывается в большое бархатное кресло, Сонечка порхает по гостиной и смахивает легкой перьевой щеточкой невидимые пылинки с многочисленных подарков пациентов или друзей: вазочек, статуэток, шкатулочек и предметов неясного назначения, но с отчетливым дуновением старины, с каждым из которых связаны памятные события, меморинки, как любил говорить ее муж.
– Вот этого бронзового всадника, помнишь, вы с Николаем нам подарили на свадьбу, – в который раз напоминает она Наденьке, которая тоже не отличается высоким ростом, но с избытком компенсирует это объемом тела. Лицо ее напоминает повядшую грушу. Полные щеки обвисают над широкими округлыми скулами, уголки губ скорбно опущены, подбородок утонул в толстых складках морщинистой шеи. Наденька страдает склерозом, часто забывает только что увиденное или услышанное и потому является великолепным, никогда не устающим от избытка или повтора информации слушателем.
Зато Сонечка уверена, что помнит все.
– А каким врачом Мишенька был! – говорит она, останавливаясь у пожелтевшей от времени фотографии красивого темноволосого мужчины на фоне новенького автомобиля «победа», – каким хирургом! Мы, студенты, буквально заслушивались на его лекциях. Его часто спрашивали, надо ли говорить пациентам правду. Так он отвечал, как скальпелем отрезал. «Читайте классику. Правда – хорошо, а счастье лучше. Наше дело лечить. А правдой пусть прокуроры занимаются». Здорово, да?
Тогда, в хрущевскую «оттепель», за такие высказывания уже не сажали, но звучали они смело, даже вызывающе, и дурманили голову предощущением сладкого ветра свободы.
При слове «прокурор» устало кивающая каждому слову подруги Наденька оживает.
– Сволочи они, прокуроры эти. Мой, вон, все говорил, любого работника торговли через год сажать можно. Копни только. Да его самого копнуть, сразу бы гниль изнутри полезла. У нас двое детей, а он, гад, к этой лахудре, Машке из ОБХСС, бегал. А потом с Любкой из Минюста схлестнулся. Нашел кралю. А мне рассказывал, что они диссертацию вместе пишут. Так я ему и поверила! Все мужики одинаковы. Да и про твоего рассказывали…
Сонечка слушает ее с сочувствием. Мужья их были друзьями еще со школьной скамьи, но Миша пошел в медицинский, а Коля определился по юридической части. После свадеб дружили семьями. Надя работала бухгалтером в «Военторге» и, хотя ни в каких торговых махинациях не участвовала, мужа боялась отчаянно, об изменах его знала, но говорить о них решалась только с подругой, да и то с опаской.
– Завидовали, вот и болтали разное, – не соглашается Сонечка. – Мишенька мужчина видный был, бабы вокруг него вились, как мухи, а у него и в мыслях не было. Он мне все рассказывал.
– Так уж и все? – скептически улыбается Надя.
– Конечно, все! А чего ему скрывать? Вот, как сейчас помню…
Перемещаясь в прошлое, Сонечка возбуждается, щеки ее розовеют, и она словно сама молодеет.
– Знаешь, Миша, – немного смущаясь своими сомнениями, – говорила она за поздним домашним ужином, – вчера у нашей Раи, из гинекологии, юбилей был, мы ей настольную лампу с розовым абажуром подарили.
– А, это у такой кругленькой, с бородавкой на носу? – устало потягиваясь, уточнял супруг.
– Ну, вот видишь, ты ее помнишь. Она потом с мужем в ресторан пошла, так, говорит, тебя там с какой-то дамой видела. Вы шампанское пили. А ты вчера очень поздно пришел.
– Это Люба пила, пациентка моя, – не задумываясь, подтверждал он. – Я тебе сразу рассказать хотел, но ты уже спать ложилась. У нее, представляешь, сложная операция назначена. При неудаче возможен летальный исход. Она чувствует, что ей всего не говорят, позвала меня в ресторан, чтобы откровенно поговорить. Ты бы не пошла?
– Бедненькая, – соглашалась Сонечка. – Я тебя понимаю. Ты у меня такой замечательный!
С Раей из гинекологии она после это с месяц здоровалась сухо, всем своим видом показывая, как нехорошо наговаривать на ее мужа.
Доктор Раевский был нарасхват. Работал он в Пардаугаве, или, как тогда говорили, в Задвиньи, в хирургическом отделении больницы Страдиня, читал лекции в мединституте, раз в неделю вел прием в поликлинике для совпартактива, ездил на симпозиумы. Да еще иногда, по особым просьбам с самого верха, делал частные визиты. Поэтому домой нередко приходил поздно, измотанный до предела. Сонечка в такие минуты старалась его не тревожить, даже не пытаясь анализировать, почему к исходящему от мужа аромату коньяка примешивается запах женских духов. Мишенька врач, с кем только не приходиться ему иметь дело! Он сразу укладывался в постель и крепко засыпал.
– Видный вам муж достался, – нередко говорили Сонечке, и она счастливо улыбалась, не вслушиваясь, с какой интонацией произносятся эти слова. Михаил был высок, широкоплеч, обаятелен и обладал пронзительными, как рентген, карими глазами. И студенты, и пациенты его обожали. Особенно студентки и пациентки. «Зачем же, милочка, напрасно резать такое чудесное тело, оно еще вам пригодиться, – любил приговаривать он во время пальпации, и тела любящих, как известно, ушами „милочек“ буквально таяли от его прикосновений, чем, как утверждали недоброжелатели, он с удовольствием пользовался. „Наш пострел везде успел“, – говорили они, называя его пальпацию „лаптацией“».
Сонечка недоумевала:
– Ты же такой добрый человек, а про тебя постоянно сплетни пускают. Почему?
– Природа любит баланс, – объяснял он. – Поэтому, если кто-то радуется жизни, то кто-то другой, в противовес, ее ненавидит. Получается, работа у них такая. Да пусть их…
А в том, что Раевский радуется жизни, не сомневался никто. Многие из его пациентов был народ благодарный, и Михаил мог себе позволить многое. Особенно в брежневские времена, когда строительство коммунизма прекратилось, и люди вокруг стали понимать, что хорошо бы пожить не только завтра, но и в этой жизни. Он любил хорошо поесть, с изысками, любил на зависть коллег приезжать на работу на бежевой «победе», боготворил своих детей, любил жену Сонечку, любил женскую красоту, комфорт и еще множество других вещей и потому его с полным основанием можно было назвать человеком любвеобильным.
Сонечка тоже была врачом, но работала в трех кварталах от дома в поликлинике, обычным терапевтом, да и то время от времени отвлекалась от этого занятия в отпуска по беременности и воспитанию двух детей, сына и дочери. Мужу она верила безгранично, а потому жизнь ее текла счастливо и безмятежно. Лето дети с бабушкой проводили на хуторе, на мысе Колка, а Раевские наведывались туда на выходные. В субботу утром Сонечка с наслаждением откинулась на мягком сидении «победы», предвкушая размеренную двухчасовую поездку наедине с любимым мужем. Дожидаясь, пока муж раскручивает заводной ручкой стартер и что-то налаживает под капотом, она провела рукой по бархату чехла, смахнула пылинку с приборной доски, подняла глаза выше, к потолку машины, и застыла. На бежевой, в тон корпусу обивке четко выделялись следы женских туфелек.
– Что это? – внезапно пересохшими губами спросила она, когда муж открыл дверцу машины.
– Вот это? – переспросил он, поудобней устраиваясь в кресле. – Гм. Понимаешь, не хотелось тебя волновать. Но вчера случилось такое… В общем, – только учти, это очень конфиденциально, никому ни-ни, – позвонили мне вчера из ЦК, срочно попросили посмотреть жену «самого» в их загородном доме. На «скорой» не поедешь, чтобы кто чего не подумал, а служебные все в разъезде. Рванули мы с медсестрой в Юрмалу на моей, и там, представляешь, собака на дорогу выскочила, я резко свернул, колесо попало в кювет, и мы перевернулись. Медсестра туфлями прямо в потолок уперлась. Слава богу, оба целы остались.
– Надо же, – взволновалась Сонечка, – ты точно никакой травмы не получил? Надо будет тебя сегодня внимательно осмотреть.
И, если и оставался еще у нее на душе груз сомнений, то после «осмотра», а уж муж не подкачал, до сих пор вспомнить приятно, его как ветром сдуло. Почти сдуло.
В семейной жизни у Раевских все складывалось. Дети подрастали, после смерти соседки уважаемому хирургу отписали еще одну комнату, в продаже появилась новая модель автомобилей – «жигули», и Раевские взамен устаревшей «победы» получили новенькую «копейку». Расстраивали только семейные неурядицы друзей. В Военторге обнаружилась крупная недостача. Надя, вроде, и ни причем была, но дело оказалось подсудное. Жену прокурора, конечно, из-под обвинения вывели, но семейная жизнь после этого развалилась. До развода не дошло, чтобы не портить карьеру городского прокурора, но сторонние связи он от жены и вовсе перестал скрывать. К этому моменту, правда, и семейные встречи старых друзей резко сошли на нет.
Со временем Михаил Юрьевич несколько раздался вширь, остепенился, пышная шевелюра пошла на убыль, виски пробила седина. Никто, даже недоброжелатели, не решался более называть его «пострелом». Однажды при поездке на Колку на дорогу выскочила собака, доктор Раевский резко свернул, колеса скользнули по неубранному после ремонта щебню, машина слетела с дороги и перевернулась.
Происшествие Сонечка запомнила в мельчайших подробностях. Оба супруга были пристегнуты и, несмотря на не юный уже возраст, почти не пострадали. Оба висели на ремнях головой вниз. Первым ситуацию оценил муж. Он сказал супруге, чтобы она уперлась ногами в потолок, и после этого отстегнул ее ремень, затем сам повторил этот трюк. Дверцы заклинило. Через окна они видели, как немногочисленные машины на дороге чуть притормаживали при виде торчащих вверх колес и проезжали дальше. Мужу удалось открыть со своей стороны окно, Сонечка, по габаритам более приспособленная к перемещению в ограниченном пространстве, переползла через его живот, выбралась в окно, и стала махать проезжающим. Михаила Юрьевича удалось вытащить только с помощью двух крепких мужчин.
Следы от подошв на потолке Сонечка особенно не разглядывала. А вот следы от собственной помады на рубашке мужа в районе живота заметила, они были почти на том же месте, что и после происшествия с «победой», после чего успокоилась окончательно. Машина, однако, основательно помялась. Механик в автосервисе, при всем уважении к доктору, сказал, что больная реанимации не подлежит. «Копейку» пришлось поменять на появившуюся к тому моменту «шестерку».
При Андропове начались неприятности. От руководителей, а Михаил Юрьевич к тому времени стал заместителем директора, потребовали скромности, надо было отказаться либо от дачи и машины, либо от должности. Прокурор Николай отказался от дачи в Юрмале, а обиженный доктор Раевский от руководящей должности. При Горбачевской перестройке Михаила Юрьевича стали приглашать на операции за рубеж, в семье появилась твердая валюта, и сына отправили учиться в Лондон. Словом, вспомнить было что. Но разве все эти события могли сравниться с поездкой с любимым человеком?
Счастливо улыбаясь, Сонечка откладывает перьевую щеточку, достает из серванта изящные фарфоровые чашечки, сервирует старинный ломберный столик, купленный когда-то в скупке за сущие копейки, достает вишневое варенье из собственных ягод, выросших в саду на Колке, разливает чай из старого чайника со свистком.
– Мне дети электрический чайник подарили, – хвастается Наденька. – Кнопку нажмешь – и все готово.
– У меня, кажется, тоже такой есть. Только не доверяю я этим новинкам, – отмахивается Сонечка и открывает лежащий здесь же, на столике альбом для фотографий в потертом кожаном переплете. Перед подругами открывается фото все той же «победы», на фоне которой, улыбаясь, стоят в обнимку два человека – она и ее муж, молодые и счастливые.
– Видишь, какие раньше вещи делали! – в сотый, наверное, раз с гордостью рассказывает она Наденьке в полной уверенности, что все, что происходило в их жизни, могло быть только с ней и с ее Мишей. – Попали мы раз с мужем в аварию на современной машине, так пришлось ее выкидывать. А вот была когда-то «победа», перевернулись на ней так, что на потолке мои туфли отпечатались. А на машине – ни одной царапины не оказалось!
Аватар
На Максе была короткая черная кожаная куртка, почти не скрывающая мощную выпуклую грудь, фирменные, с прорехами, джинсы и белоснежные кроссовки. Глаза над твердыми щеками и квадратным подбородком закрывали темные солнечные очки. Женщины в баре смотрели на него неотрывно, мужчины делали вид, что не замечают его присутствия. Но его интересовали не взгляды, а то, что находится за прочно запертой дверью. Прочно для любого другого, но не для Макса…
– Сема, ты слышишь, что я тебе говорю?
– Что ты мне говоришь? – максимально нейтральным, тщательно скрывающим раздражение голосом ответил он, оторвав глаза от экрана компьютера, и повернулся к жене. Надя, в позе крайнего возмущения, то есть, уперев руки в широкие бока и выдвинув вперед живот и плечи, стояла в двух шагах от него, и он с сожалением отметил, как мало она походила на красоток из виртуального бара. И без того маленькая, а теперь еще и расползшаяся, как убежавшая из кастрюли манная каша. Хотя три года после рождения ребенка срок вполне достаточный, чтобы привести себя в порядок. Даже щеки выкатили следом за животом наружу, слишком уж мало оставляя пространства для пронзительных, все замечающих глаз-буравчиков.
– Задолбал ты меня своими играми! Говорю ж тебе, уже десятый раз звоню матери, и никто не отвечает. И отец мобильник не берет. Может, случилось что?
– Да что с ними случится! В кино пошли и с телефонов звук сняли или в машине оставили, – успокаиваясь, ответил он и даже повернулся обратно к экрану компьютера, о чем тотчас горько и пожалел.
– Ты что, вообще идиот! – взвизгнула она. – Когда они в кино ходили?! Думаешь, создал красавчика на экране, и сам такой же? Да ты на себя посмотри! Я с часу дня звоню, а сейчас уже одиннадцать вечера! На работе сказали, что ни отец, ни мать даже не появлялись и не звонили. Никогда такого не было.
– Да я-то чего… – Сема с сожалением поднялся с насиженного кресла и направился к вешалке. – Не кричи только, дочку разбудишь. Съездим к ним, проверим. У тебя же ключи есть?
На улице было ветрено. В темноте нападавшая за день листва с шуршанием перемещалась по асфальту, сбивалась у цоколя дома, словно собирая силы для атаки. Сема сел за руль виды видавшей «мазды», вскладчину подаренной их родителями с обеих сторон в честь рождения внучки, жена устроилась рядом на пассажирском сиденье. За всю дорогу из их двухкомнатной серийки в спальном районе Иманта до центра, где жили родители Нади, супруги не проронили ни слова. Сема и сам ощущал беспокойство. Тесть и теща ему нравились, в возрасте были еще активном, на здоровье не жаловались. Раз в неделю теща готовила блины с красной икрой, выставляла малосольного лосося и всевозможные нарезки. С тестем, историком по образованию, говорили о русских былинах. Материально они дочь после свадьбы не поддерживали из-за твердого убеждения, что молодые, чтобы не вырасти комнатными растениями, должны пробивать себе путь в жизни сами. Позиция эта Семена не слишком радовала, но вызывала уважение. Да и в гостях он по этой причине чувствовал себя спокойней и уверенней как человек самостоятельный, не приживала какой-нибудь. Что с ними могло произойти?
От тревоги, от давящего молчания Нади, у него, судя по всему, поднялось давление и начала болеть голова, он даже подумал, что хорошо бы поменяться с женой местом за рулем, но решил перетерпеть, чтобы не нарваться на новое язвительное высказывание. Благо, по вечернему городу ехать было не долго. Больше занял поиск парковки. В тихом центре в районе дорогих квартир на улицах Алберта и Антонияс обочины были плотно заняты машинами, и найти свободное место удалось только метрах в двухстах от нужного дома.
– Смотри, – указал он на новый X5 у пятиэтажного особняка с роскошной лепниной, поглазеть на которую каждый день съезжались сотни туристов, привозимых в Ригу паромами линии «Таллинк» – машина их у подъезда, целая, значит, в аварию попасть не могли. Сейчас во всем разберемся.
Надя поиграла кнопками электронного замка, и дверь мягко отворилась. После десяти вечера консьерж в подъезде не дежурил. Они вошли в сверкающий чистотой зеркальный лифт и поднялись на четвертый этаж. Сема надавил на кнопку звонка, вслушиваясь в едва слышную трель и пытаясь уловить звуки приближающихся шагов. Через минуту он повторил попытку, но ответа по-прежнему не было. Тогда Надя достала из розовой сумочки ключи и открыла входную дверь.
Дверь была обычной, как у всех жильцов подъезда, то есть полуторной, деревянной, скрывающей в себе за деревянной обшивкой с незамысловатой отделкой бронированный металлический лист и замок «паук». Но сразу за ней с отступом сантиметров в тридцать находилась дверь вторая, статусная. Один вид ее должен был сразу настроить очень немногочисленных посетителей этого святилища на понимание, что входят они не в обычную городскую квартиру, а в обиталище уважаемого человека, директора и владельца одного из рижских рынков. Составлена дверь была из нескольких пород дорого дерева методом инверсии одной породы в другую и украшена фигурной бронзовой ковкой. Бронза украшала и наличники. Но главной ее примечательностью двери был, конечно, витраж. Настоящий, со свинцовыми прожилками, из многочисленных цветных стекол, сложенных в роскошный, прямо-таки царственный узор, гармонично сочетающийся с бронзовым вензелем.
Ключа эта дверь не имела, наверное, чтобы не смазывать общего впечатления – не царское дело возиться с замком! – но изнутри для пущего спокойствия хозяев квартиры запиралась внутренней щеколдой. Надя нажала на резную ручку и надавила на дверь, но та не поддалась.
– Не открывается.
В голосе жены прозвучала не свойственная ей в обычной жизни неуверенность, и Сема не замедлил вставить свои три копейки:
– Я же говорил, что они дома и все в порядке.
– В порядке? – Надя посмотрела на мужа взглядом, которому он, скорее всего, дал бы определение «отсутствующий», но ему было не до анализа – Сема и сам понимал, что сморозил глупость. Если они дома, то наверняка бы услышали звонок. Но если их дома нет, как они закрыли замок изнутри? Ему остро захотелось курить, но на стерильной лестничной площадке под ничего не упускающим взглядом жены это было невозможно. Он еще раз нажал на звонок, и теперь мелодия, не отражающаяся более плотной наружной дверью, заливисто разнеслась по лестничной площадке. А затем из квартиры донесся звук.
Такие звуки люди не издают. Низкий и мучительный гортанный вой или хрип длился несколько секунд, и Сема сделал шаг назад. Казалось, нечто темное, обволакивающее сознание притаилось за запертой дверью, поджидая первого смельчака, рискнувшего вторгнуться в подвластные только темному ужасу пределы. Объяснить этот звук рациональными человеческими мерками было невозможно.
– Что это?
Надя смотрела на Сему расширенными, несмотря на всю пухлость щек глазами, и ему захотелось тесно прижать ее плотное тело к себе, чтобы то ли защитить от неведомой угрозы, то ли самому ощутить присутствие еще одного человека. И он неожиданно вспомнил своего с любовью вылепленного на экране компьютера аватара Макса, заторможенного в тот самый миг, когда он был готов одним движением вышибить в баре дверь, за которой скрывались неведомые враги.
– Не знаю, – стараясь не выдать смятения, ответил он. – Странно что-то. Можно выбить витраж и открыть щеколду. Посмотрим, что внутри.
– Выбить витраж? – глаза Нади расширились еще больше. – Ты в своем уме? Да отец нас обоих прибьет, и правильно сделает. Знаешь, сколько эта дверь стоила?
– А если он на помощь зовет?
– Отец? Таким голосом? Да у них, наверное, телевизор включен, потому ничего и не слышат.
Она сама подошла к звонку и надолго прижала палец к кнопке. Дверь соседней квартиры открылась и на площадку вышла соседка, важная дама лет семидесяти с маленьким черным терьером. Она поздоровалась с Надей и с любопытством оглядела Сему. Несмотря на возраст, у нее была стройная, хорошо ухоженная фигура, и Семен изо всех сил втянул в себя живот.
– Простите, Галина Васильевна, вы не видели сегодня моих родителей? – спросила Надя.
– Увы, в наше время встретить человека – такая редкость, – философски ответила соседка и вошла в прибывший лифт. – Кажется, последний раз я видела их неделю назад, извините.
Лифт уехал.
– Галина Васильевна женой министра была! – уважительно прокомментировала Надя, но одновременно в этой реплике Сема распознал и другое ее значение: не то, что ты! Из-за двери с витражом вновь раздался то ли рев, то ли стон, к которому Сема уже начал понемногу привыкать.
– И что нам тогда делать?
– Рассуждай логически, – Надя привычно взяла бразды правления в свои руки. – Машина у подъезда, в квартире включен свет и даже звуки… Ну, что бы могло случиться сразу с двоими? Не будем же мы, как последние дебилы, ломать дверь. И Софочка может проснуться. Надо ехать.
Надя, стараясь не вслушиваться в звуки из квартиры, закрыла входную дверь и вызвала лифт. В машине она еще некоторое время рассуждала на тему, что не такие ее родители люди, чтобы с ними могло что-то произойти, нечего об этом и думать. Дома Надя быстро прошла на кухню, достала из шкафа бутылку, налила себе, привычно не предлагая непьющему Семе, бокал вина, выпила его в два глотка и легла спать. Сема заглянул в детскую. Софочка крепко спала, положив под пухлую щечку ладошку. Он нагнулся над кроваткой, поцеловал дочку в лобик и отправился на кухню, к компьютеру. Вглядевшись в Макса, Сема вдруг понял, что в таком облачении его герой выглядит слишком гламурно и для изменения образа в правильную сторону надо немедленно поменять джинсы на кожаные штаны, а кроссовки – на брутальные бутсы со шнуровкой. Переоблачение обошлось всего в девять долларов. Зато затем еще часа полтора Макс новыми бутсами выбивал двери, разносил в щепки всевозможные строения и расправлялся с враждебными его герою персонажами. Укладываясь спать, Сема подкатился под мягкий бок жены и подумал, что Макса еще очень украсил бы приметный медальон на толстой цепи, выглядывающий из распахнутой куртки.
Утром, когда Сема собирался на работу, позвонили из больницы и попросили приехать. По дороге супруги завезли Софочку в садик и в приемное отделение Первой городской больницы на улице Бруниниеку прибыли вместе.
– Кем вы приходитесь господам Ростоцким? – спросила вышедшая к ним женщина-врач с усталой после ночного дежурства сеточкой морщинок вокруг глаз.
– Я их дочь, – внезапно осипшим голосом прошептала Надя.
– Ваши родители в реанимации, – глядя на Надю, словно Семы вообще не было рядом, сказала врач. – У обоих тяжелое отравление, похоже, угарным газом. Наверное, от углей в камине. К счастью, господин Ростоцкий сам сумел открыть дверь, соседка нашла его лежащим на полу без сознания, она и вызвала «скорую». Еще немного и было бы поздно. Но он сильный человек, и сейчас уже в сознании, дал ваш номер телефона. Только ничего не помнит, как это могло произойти. Вы знаете что-нибудь?
– Мы… – замычал Сема, но Надя резко обрезала:
– Нет, мы ничего не знаем. А мама?
– С ней хуже. Она лежала на кровати, ей досталась большая доза, и она еще не пришла в себя. Состояние тяжелое, но сердце бьется ровно. Полежать в больнице ей, конечно, придется, но, надеюсь, все будет хорошо. А отца мы пронаблюдали, наверное, уже завтра будем выписывать. Повезло им. Если бы не соседка… Наверное, родителей почаще навещать надо. Извините, это я не только вам говорю, себе тоже.
Супруги вышли из больницы. К утру похолодало, в воздухе закружились первые осенние снежинки. Солнце прорвало облака и превратило небесных посланников в сверкающие бриллианты. Но земля еще не была готова принять нежданный дар свыше. Снежинки касались твердых земных предметов и моментально превращались в крохотные пятнышки сырости.
Семен почувствовал себя лучше. На работу он опоздал, но повод был уважительный, таившаяся в глубине сознания тревога исчезла, и он твердо решил, что вечером обязательно прикупит для аватара Макса присмотренный накануне медальон.
Охота на бизонов
– Эй, парень! Ты чего здесь делаешь? Поездов не боишься?
Я повернулся и увидел, как ко мне по насыпи карабкается парень в солдатской гимнастерке и форменной пилотке с красной звездой на лбу. Светило ласковое весеннее солнце, обстановка выглядела донельзя мирной. Конечно, родители говорили нам, что от незнакомых взрослых лучше держаться подальше, в разговоры с ними не вступать. Но я знал, что окончивших школу мальчишек сразу забирают служить в армию, поэтому солдаты для меня находились в какой-то промежуточной категории между взрослыми и детьми. В кино их вообще отображали не иначе как героями. Лицо у солдата было доброе, губы растянуты в широкую улыбку. Роста он был невысокого, сложения щуплого и больше походил на снизошедшего до такой мелюзги как я старшего товарища из дворовой ватаги, перед которым можно блеснуть непривычной для первоклассника эрудицией.
– Да чего их бояться? – уверенно ответил я, припоминая строки из романа обожаемого мною Майна Рида. – Знаешь, как готовятся к охоте на бизонов? Стоят на путях перед несущимся навстречу паровозом и отпрыгивают в сторону, когда до него остается два метра.
– А ты что – готовишься в охотники? На этих самых…
– …бизонов? Да ты что! Откуда им тут взяться? Они в прерии живут. Это я так, для примера. В книжке прочитал.
– Понятно… – солдат задумчиво поскреб затылок под пилоткой. – А ты из какой школы?
– Да из этой же, – ответил я, указывая на забор с деревянным, проломанным во многих местах штакетником, который почти вплотную примыкал к железнодорожной насыпи, отделяясь от нее только узким искореженным тротуаром и неровной песчаной дорогой. Забор делал вид, что ограждает самый большой в Риге школьный двор с двумя футбольными полями, волейбольной площадкой, теннисными кортами с асфальтовым покрытием и фруктовым садом, окруженном еще одним забором, но уже без малейших прорех. Разгуляться было где. Но нашу небольшую компанию первоклассников больше притягивала железная дорога. Большинство мальчишек в классе мечта стать летчиками, танкистами или машинистами. Стремительные зеленые электрички и фыркающие от натуги паровозы с длинной чередой грузовых вагонов с грохотом проносились мимо, будя наше неуемное воображение. После них оставался запах раскаленного металла и сплющенные стальными колесами и еще теплые на ощупь гвозди или шурупы на рельсах. Даже когда мои школьные приятели разбредались по домам, я мог еще долго сидеть на насыпи, размышляя о том, как и сам когда-то, став постарше, унесусь куда-то вдаль на одном из этих стальных красавцев.
– А дневник покажешь? Я ведь и сам еще недавно учился. Интересно, что вам на дом задают.
– Ну, покажу.
Я снял с плеч ранец, достал из него дневник и протянул солдату. Особо гордиться отметками повода у меня не было, но если старший товарищ интересуется домашним заданием, которое я всегда тщательно записывал, но редко выполнял, так что ж. Солдат полистал дневник и присвистнул. Как мне показалось, с ноткой восхищения.
– Надо же, двойка по поведению! И тут тоже. И мать в школу вызывали. Да ты у нас хулиган!
– Не, – объяснил я. – Это за Мишку. С задней парты. Это он хулиган. Он меня иголкой уколол в спину, я развернулся и нечаянно разбил ему нос. А вторая двойка вообще ни за что. Я на переменке по перилам съезжал, а навстречу училка наша поднималась и прямо…
– Конечно, конечно, – сразу со всем согласился солдат. – Так мы твоему директору и скажем.
Он взял меня за руку и, не возвращая дневника, решительно потянул за собой, в сторону школы.
Я соизмерил глазами массы нашего тела и покорно последовал за незваным товарищем.
О какой-то охране школ в те годы никто и не помышлял. Иногда по утрам за входной дверью пристраивались дежурные по школе из числа старшеклассников с красными повязками на рукавах и записывали опоздавших к школьному звонку, из-за чего время опоздания значительно увеличивалось. В остальное время единственным наблюдателем была гардеробщица тетя Маша, обычно не поднимающая глаз от бесконечного вязания шапочек, варежек, а то и свитеров для своего многочисленного семейства. Мы беспрепятственно поднялись на третий этаж и зашли в кабинет директора. Это был немолодой, худощавый мужчина с хмурым землистым лицом в тяжелых роговых очках и в мешковатом сером костюме с синим галстуком.
Солдат вывел меня на середину кабинета и победоносно объявил:
– Вот, товарищ директор, полюбуйтесь! Я проходил мимо насыпи и увидал вашего ученика на рельсах. На него поезд мчится, а он стоит и не двигается. Кричу – не реагирует. Ну, я рванулся и в последний момент его из-под колес, можно сказать, выхватил. Два метра оставалось. Вот. На бизонов, говорит, охотиться собирался.
Я от изумления открыл рот. Моему возмущению не было предела.
– Врет он все! Не было никакого поезда. Он… – я хотел добавить что-то еще, но мой голос перекрыл грохот очередной электрички, несущейся мимо окон кабинета. Директор и солдат обменялись понимающими взглядами.
Полчаса спустя приехала моя мать. По случаю моего спасения, ее отпустили с работы, и она даже успела заскочить домой, о чем я мог легко догадаться по оттягивающей ее правую руку авоське с наспех обернутой газетой «Правда» трехлитровой банкой. Мать кинулась ко мне, ощупала наспех, словно желая проверить, не отрезал ли поезд между делом какую-либо из частей моего тела, авоська с банкой больно ударила меня по ноге, газета сместилась, и я понял, что внутри скрывается последняя банка моего любимого клубничного варенья.
Мама была очень привлекательной женщиной, и когда я оказывался вместе с ней в какой-то компании, ее знакомые подходили и говорили, что не может быть, что у нее такой взрослый сын, давая мне веский повод и вправду считать себя почти взрослым. Из-за меня она отказалась от карьеры артистки театра, работала экономистом на большой швейной фабрике, солировала в фабричной самодеятельности. При виде ее плечи директора заметно расправились, а его суровый голос заметно потеплел.
– Представляете, что могло быть, если бы не отважный поступок товарища военного! Я бы даже сказал, если бы не его геройский поступок! – подчеркнул важность происходящего директор, и солдат скромно потупил взгляд.
– Я только выполнил свой гражданский и военный долг. – Каждый бы на моем месте… А теперь, когда мы передали ребенка из рук в руки этой чудесной женщине, я могу спокойно вернуться в свою часть. Вот только, пока я занимался спасением мальчика, моя увольнительная закончилась, и мне трудно будет объяснить опоздание командиру. Не могли бы вы написать мне по этому поводу записку. Лучше на школьном бланке. И с печатью.
– Конечно, конечно! – сразу согласился директор. – О чем речь! Страна должна знать своих героев!
– Не герой он никакой, а самый настоящий врун! И гад! – опять возмутился я.
– Не смей такое про взрослых! Он… А ты… Подожди, мы еще дома поговорим! – на щеках матери зарделись красные пятна, она подошла к солдату, и я подумал, что она сейчас расцелует этого вруна, но она сделала еще хуже. Она достала из авоськи банку с вареньем и сказала: – Спасибо вам огромное! Очень хочется вас отблагодарить, но под рукой ничего другого не оказалось. Возьмите вот это, хоть чаю в армии с товарищами попьете…
Домой мы шагали молча. Я попытался еще раз обличить обманщика, мать резко оборвала меня, но потом, видимо, сама испугалась своей резкости, остановилась на углу и, чуть заискивающе, спросила меня, какой дорогой пойдем. Вообще-то до нашего дома на улице Энгельса было недалеко, всего четыре квартала, которые, опаздывая по дороге в школу, я легко преодолевал за десять минут, но обратный мой маршрут, как правило, нарастал всевозможными обходными путями и растягивался намного дольше.
– На трамвае поедем! – потребовал я.
Мы вышли на угол Дзирнаву и Суворова и дождались трамвая. По улицам прокатывали редкие грузовики и еще более редкие автомобили победа, иногда мимо могла процокать копытами по мостовой лошадь с телегой, на которой мне страстно хотелось прокатиться, но суровые возчики с длинными кнутами не оставляли шанса. Однажды, возвращаясь из школы, я застал безнадзорную лошадь с подводой недалеко от нашего дома. Долго не раздумывая, я забрался на телегу и со всей силы потянул поводья. Вопреки ожиданиям, лошадь пошла задним ходом, из подворотни выскочил ее хозяин, и от прицельного щелчка кнута мою спину спас только ранец с учебниками. Но тяги к поездкам это не уменьшило. Любая поездка, в том числе на трамвае, воспринималась как маленькое приключение.
В час пик на остановках скапливались толпы народа, но забраться в трамвай удавалось почти всем. Двери гармошкой открывались вручную, наружу свисали широкие ступени с перилами, на которых гроздьями повисали настойчивые и совсем уже независимые от кондуктора пассажиры, а самые отчаянные забирались на задние бампера, а то и и на крышу трамвая. Впрочем, в наше неурочное время проблем с перенасыщенностью не было, нам даже могло достаться свободное сиденье. Мы уже направлялись на посадку, когда я заметил солдата. Он стоял среди поджидающего другой маршрут народа, одной рукой прижимая к гимнастерке банку нашего варенья. На его губах гуляла счастливая улыбка, глаза мечтательно, наверное, в предвкушении будущих наград, устремлялись куда-то к крышам домов. Пепел Клааса застучал в мое сердце.
Мы зашли в вагон, мать отпустила мою руку, трамвай дернулся, и внутри меня распрямилась долго сдерживаемая пружина. Я вылетел наружу, вихрем пронесся к солдату, изо всех сил толкнул банку, увидал, как она падает на тротуар и со звоном разлетается на куски, далеко раскидывая сладкие красные сгустки, кинулся обратно и на ходу вскочил на подножку уже набирающего скорость трамвая.
Больше всего мне хотелось вновь увидеть лицо лишенного незаслуженного приза солдата, но, когда я обернулся, трамвай был уже далеко, и лицо над зеленой защитной гимнастеркой было почти неотличимо от массы остальных, терпеливо выстаивающих на тротуаре людей. Но военных, и вообще людей в форме я с тех пор еще долго обходил стороной. Да и до сих пор обхожу.
Так, на всякий случай.
Враг народа
Почему-то в каждой случайно собранной социальной группе, например, в школьном классе, кто-то оказывается экстремально умным, или экстремально высоким, или особенно толстым… В этом смысле наша группа курсантов мореходного училища представляла идеальный набор.
Лидером группы был Юдин – здоровенный, почти двухметровый двадцатилетний парень. Наверное, чтобы он не слишком выбивался среди нас, в основном пятнадцати – шестнадцатилетних подростков, командир роты майор Цаплин сразу же назначил его старшиной группы, и на построениях Юдин стоял не среди нас, а напротив, рядом с начальством. Замыкал строй Алексеев. Ростом он не выдался, но недостаток устремленных в высоту сантиметров легко компенсировался объемом тела, поэтому арьергард роты всегда выглядел солидным и непробиваемым. Разумеется, среди сотни курсантов оказались и парень, панически боявшийся воды в любом ее проявлении, и пара человек, абсолютно не переносящих малейшей качки, были лодыри и трудяги, совестливые и бессовестные, глубоко порядочные и откровенные жулики…
Жилые помещения роты состояли из анфилады нескольких больших комнат, вся жизнь проходила на виду друг у друга. Практика на младших курсах тоже проходила совместно. На двух учебных баркентинах – «Капелла» и «Вега» мы ютились в тесных кубриках, ставили паруса на высоте двадцати метров без малейшей страховки, драили до зеркального блеска многочисленные медяшки, несли вахты, управляли здоровенным штурвалом, личные качества каждого становились еще более очевидными. Не выдержав нагрузок, процентов двадцать курсантов роты отсеялись.
На старших курсах последовали практики на судах загранплавания, и ситуация кардинально поменялась. Попасть за границу, хоть одним глазом заглянуть за железный занавес в советское время хотелось всем и каждому. В реалии этой привилегии удостаивались считанные единицы: спортсмены, артисты, работники посольств. И моряки торгового флота.
За несколько месяцев до распределения на практику нам раздали анкеты для оформления морских виз. Количество вопросов в анкетах поражало воображение. Визовый отдел интересовали не только номера детского сада 17–19 летних претендентов на визы, но и мельчайшие подробности биографии родителей и даже бабушек с дедушками. Заполнение анкет растянулось на несколько недель, полузаполненные листы опросников валялись повсюду.
Однажды, занимаясь уборкой помещений на очередном дежурстве, я вытащил несколько таких листов из-под койки, чтобы положить их на ближайшую тумбочку, и глаза невольно выхватили из текста слова: «отец – осужден как враг народа». В кубрике было пусто. Читать чужие записи без ведома их владельца, конечно, нехорошо, но ведь анкета как раз и предназначена для чужих глаз… Оправдание для себя отыскать можно всегда. Я не удержался и прочитал перечень статей, по которым отец моего соседа по кубрику, Александра А., был приговорен к десяти или пятнадцати годам лагерей за сотрудничество с фашистами. Схожая статья оказалась и у матери Александра, только срок ей достался поменьше, кажется, лет восемь. Очевидно, где-то там, в сибирских лагерях родители Александра и нашли друг друга. Я спрятал анкету под подушку Александра и о своей находке никогда и никому не рассказывал.
Разумеется, с такой биографией родителей о морской визе можно было и не мечтать. На третьем курсе нам стало ясно, что детям родителей с какими-либо закавыками в биографии, а также детдомовцам или тем, у кого к данному моменту родителей не осталось, виза не светит. Если тебя выпускают за границу, в стране должен остаться заложник – как минимум мать или жена с ребенком. Многие курсанты начали создавать собственные семьи. Кому-то это помогло, кому-то – нет. Максимум, на что могли рассчитывать неудачники – это место в порту на буксире или земснаряде…
Двадцать лет спустя после окончания нами училища Советский Союз распался, при оформлении виз уже никто больше не интересовался биографией родителей претендента или тем, есть ли у него в семье родной человек, которого можно оставить заложником. Но на флоте к этому моменту из нашего выпуска остались немногие. Кто-то из них стал капитанами, кто-то по непостижимой причине не реализовал свое образование и остался матросом. Железный занавес пал, и мореплавание потеряло ореол загадочности и исключительности. Большая часть выпускников нашла себе место на берегу. Но какие-то, очень редкие контакты мы между собой все же поддерживали. Поэтому я не очень удивился появлению в моем офисе того самого Александра, сына врагов народа. Пришел он в поисках работы. Мы разговорились. Оказалось, оставшись без визы, что практически исключало возможность какой-либо морской карьеры, Александр не сдался, получил еще одно образование, на этот раз юридическое, но и здесь помешала биография. Чем он только не занимался за прошедшие годы. Даже страусов разводил в родной Латвии. А потом уехал на заработки в Англию. Еще несколько лет спустя Александр купил автомобиль, дом-прицеп и вернулся на родину.
– По-моему, – сказал я, – теперь у тебя есть резон искать работу на серьезном уровне. Гражданин, с юридическим образованием, с зарубежным опытом, с прекрасным английским, достойным приличной должности возрастом, биографией…
Я чуть было не сказал «…биографией сына врагов советского народа, а стало быть почти политически репрессированный», но вовремя удержался. Мы вместе обсудили возможные варианты и остановились на конкурсной должности руководителя гражданского департамента недвижимости в министерстве обороны. На какой уровень сам себя спозиционируешь, на таком тебя и будут воспринимать.
– Верно! – оценил он мои доводы. – Спасибо тебе огромное за хороший совет, с меня страусиное яйцо.
Александр ушел и больше не давал о себе знать. Ну все, решил я, столько лет не виделись, теперь получил хорошую должность и поплыл себе по волнам молочной государственной реки среди кисельных берегов, чего старых товарищей вспоминать! Какие уж там яйца!
Несколько месяцев спустя я подъехал к дверям центра, где располагается наша контора, и увидал как из припаркованного у входа грузового автобуса вытаскивают ящики с каким-то офисным оборудованием. Грузчик в фирменном рабочем комбинезоне выпрямился, и я узнал Александра. Мне трудно было скрыть разочарование.
– А как-же департамент недвижимости?
В конкурсе на замещение должности Александр участие принял, по всем показателям набрал очень приличное количество балов, а вот на заключительном собеседовании срезался. Вроде бы, по официальной версии, членам комиссии что-то не понравилось в биографии. Скорей всего, конечно, просто на это место давно был присмотрен свой человек, а тут вдруг кто-то со стороны лезет…
Так и остался для новых властей врагом народа.
Эпистолярный жанр
Ненавижу писать письма. Да и вообще их теперь пишут редко. Увидел, к примеру, на интернетовской доске объявлений что-то вроде «девушка двадцати двух лет приятной наружности познакомится с парнем от двадцати до пятидесяти», отправил эсмээску в три – четыре слова, и частная жизнь практически гарантирована.
Во времена моей молодости познакомиться с девушкой было куда сложней. Разве что на дискотеке или на улице с заранее заготовленной фразой: девушка, как пройти в библиотеку?
Но и девушкам в этом смысле было не проще. Поэтому некоторые, порешительней, брали судьбу в свои руки и… писали письма в заведомо мужские коллективы. Время от времени подобные послания с пометкой «любому курсанту» попадали в мореходное училище.
Однажды мой ближайший на тот момент друг Славик, как и все мы немного сексуально озабоченный, подошел ко мне с таким письмом от студентки по имени Наташа из подмосковного города и сказал, что девчонка вроде интересная, хорошо бы написать ей что-нибудь в ответ. Вот только никак не придумать, что именно.
У нас как раз начиналось скучнейшее теоретическое занятие по военной подготовке, по ходу лекции полагалось что-нибудь записывать, и я с удовольствием взялся помочь другу. К концу лекции у меня было готово добротное ответное письмо. Донельзя довольный Славик переписал мои каракули аккуратным почерком и отослал по указанному адресу.
Началась оживленная, ограниченная только скоростью работы почты, переписка. Я с увлечением сыпал литературными цитатами, размышлял о превратностях морской и не только жизни, маленькими, но четко выверенными шагами двигался к развитию отношений. Слова в письмах оживали, сталкивались, раскатывались и собирались обратно, кокетничали запятыми и многоточиями, выпячивались возбужденными восклицательными знаками, кололись выпяченными тире, царапались кавычками, прятались за скобками и звучали на разные голоса, сливаясь в почти осязаемые образы.
Конспирацию мы соблюдали полную. Каждое письмо Слава, чтобы не проколоться когда-нибудь на сличении почерка, переписывал слово в слово, и бежал к почтовому ящику. Потом Наташа предложила обменяться фото. Очередное ее послание мы ожидали с особым нетерпением. Но и с опасением. Вдруг мы потратили столько времени на записную уродину! Письмо, в котором прощупывался листок плотного картона, мы открывали вместе. С глянцевой фотографии на нас смотрели широко распахнутые на еще неизведанный мир глаза темноволосой красавицы. Почти точно такой, какой ее рисовало мое воображение. Казалось, с четко очерченных, чуть припухлых губ вот-вот слетят самые важные слова, уже почти слышимые мною в ее рукописных строчках. Внутри меня что-то екнуло. Почему я не писал ей сам от себя?
Разумеется, в ответ Славик послал свое изображение. Даже разорился для этого из более чем скромной курсантской стипендии на поход в парикмахерскую и в фотоателье.
С ситуацией – друг все-таки! – я кое-как смирился, похоронив досаду в самых дальних тайниках души, и переписку продолжил. В наших письмах пошли намеки о взаимных чувствах, и с каждым новым посланием тема эта развивалась, если и не взлетая еще к далекой вершине в вихре любви, то, по меньше мере, уверенно поднимаясь по ней со ступеньки на ступеньку. А сам Славик в разговорах со мной уже всерьез размышлял о серьезных намерениях. И то – когда будущему моряку делать выбор, если не в достаточно долгое пребывание в мореходном училище? Тем более, что многие наши сокурсники такой выбор уже сделали, и мы то и дело гуляли на чьих-то свадьбах.
Между тем приближалось время нашей очередной практики. Мы со Славиком получили направление в разные города. Он поехал в Таллинн на судно, которое стояло под погрузкой и должно было выйти в море через несколько дней. У его Дульсинеи в это же время случились каникулы между сессиями. О первой встрече договорились в Таллине.
Месяца через два или три мы вновь собрались в училище. Славик с отчетом о встрече с Наташей не спешил, но и деться ему от меня тоже некуда.
– Зря это все, – сказал он. – Скучная она. Симпатичная, конечно, девчонка, но скучная. Или чужая. Я ее на вокзале встретил, поздоровались, а о чем говорить, не знали. Ну просто ни одной идеи! Походили по городу. Часа два, может. Посидели в кафе. В основном молчали. Потом она попросила проводить ее обратно на вокзал, как раз обратный поезд был, тут же купила билет и уехала в Москву. Вот и все дела.
И все дела?! После моих полугодовых упражнений в эпистолярном жанре! Черт побери, хотелось крикнуть мне. Как можно было не найти что сказать этой классной девчонке, с которой было так интересно вести заочную и далеко не законченную беседу! Да я бы на твоем месте…
Но я был на своем месте. И у меня к тому моменту была своя девушка. А вот эпистолярный жанр на этом иссяк. И исподтишка вкралась еще одна мысль – вдруг и Наташа просто переписывала своим почерком тексты более даровитой подруги?
Ненавижу писать письма.
Легенда
Дедовщины в нашем мореходном училище никогда не было. Но к старшекурсникам мы, начинающие курсанты, относились с уважением. Еще бы – за их плечами походы на учебном паруснике, мореходная практика на всевозможных морях и океанах, жизнь, полная событий и приключений, которые нам, салагам, еще и не снились.
Правда, чем-то выделялись среди них немногие. Одной из наиболее ярких личностей, по моему твердому убеждению, был курсант третьего года обучения Арзамасов.
Самый популярный образ курсанта больше всего соответствовал представлению о гусарах: чисто выбрит и слегка пьян. Быть чисто выбритыми по причине молодости и ежедневных осмотров труда не составляло. Слегка пьяными бывали, наверное, все, но не часто. Хотя одним это удавалось чаще, чем другим. Арзамасов, несомненно, относился к первой категории. Но в этом отношении конкурентов у него было более, чем достаточно. Единственным и неповторимым он был в одном – Арзамасов писал стихи.
Дар писать стихи, конечно, не самый уникальный, мало кто не подвизался в молодости на этом поприще. Но Арзамасов делал это воистину вдохновенно, рифмы сыпались из него, как из рога изобилия, и окружающие быстро понимали, что рядом с ними непризнанный пока гений, человек будущего, о котором когда-нибудь можно будет с гордостью сказать: а, Арзамасов, как же, прекрасно его знаю, спали на соседних койках в одном кубрике. А сколько мы выпили вместе!
Стихи Арзамасова ходили среди курсантов в рукописных списках, писал он исключительно на животрепещущую морскую тему о женщинах, о плотских утехах, и мне до сих пор помнится оттуда что-то вроде:
Касаться ее так сладко Кровать заменял нам стол. И я поднимал украдкой Измятый ее подол.В курсантских кругах женская тема и вообще была горящей. Считалось, что в далекие прежние времена наш спальный корпус занимал институт благородных девиц и это обстоятельство почему-то сильно распаляло воображение скованных суровой морской дисциплиной курсантов. Училище располагалось у парка на бульваре Кронвальда, напротив анатомического корпуса, куда частенько приходили на занятия будущие врачихи. Рядом, на тогдашней Свердлова, а ныне Стрелниеку разместилось женское общежитие текстильного техникума, завести подружку было несложно. В теории. На практике же удавалось это далеко не каждому.
Арзамасов был худым, высоколобым парнем с горящими глазами, и мы искренне верили, что все описанное им в стихах взято из его личного опыта. Тем более что вскоре все подтвердилось достаточно официальными данными.
В высоких кабинетах министерства морского флота было решено внедрить в учебные заведения военные кафедры. Начальника училища, любимого курсантами высокого красавца и капитана дальнего плавания Акита заменили на выходца из партийных кругов низкорослого и одутловатого, с глазами навыкате Клявиньша. Каждый из нас его искренне ненавидел, а он, в свою очередь, в каждом курсантском неуставном деянии усматривал происки американских империалистов. Восемьсот курсантов выстраивали на плацу перед жилым корпусом, Клявиньш прогуливался перед нашими рядами в сопровождении мамаши обесчещенной, с невыполненным обещанием о женитьбе девицы, или с прохожим, под ноги которого упала вылетевшая из училищного окна бомбочка из антверпенского магазина приколов, и громогласно обещал вывести американских приспешников на чистую воду. Мореходные училища получили статус полувоенных, для укрепления дисциплины в штат были введены кадровые офицеры в чине не ниже капитана, началось закручивание гаек. Не только у входа в училище, но и в каждой роте выставлялся круглосуточный пост из дежурного и дневальных, еще один пост находился во дворе, перед учебным корпусом. Офицеры регулярно обходили посты, проверяли бдительность. Муха незамеченной не пролетит!
А вот пролетела!
Пролетела, и не муха, а вполне даже бескрылое существо женского пола, да прямо в учебный корпус, где размещалась военная кафедра и секретная часть.
Не знаю, что было первичным, яйцо или курица, то ли собственные стихи вдохновили на конкретные действа, то ли опыт был не первым, но Арзамасов в точности последовал собственным строкам: выпил с существом две бутылки шампанского, сдвинул столы, задрал подол и в оный момент был застукан дежурным офицером.
До партийной линии на борьбу с пьянством в ту пору было еще далеко, обычно на мужские шалости смотрели сквозь пальцы, но вот проведение постороннего на охраняемый объект… Чаша терпения военизированного начальства переполнилась, и Арзамаса отчислили. В конце шестидесятых годов прошлого века это практически без вариантов означало призыв рядовым на два года в действующую армию, а для бывших мореходов и того хуже – в военно-морской флот сроком на три года.
Мне прожить без женщины неделю, Ну, а ей-то, ей-то как без мужика?..
Не знаю, как сложилась дальнейшая судьба Арзамасова, но в моей памяти он остался. Хотя о поэте с такой фамилией, несмотря на профессиональный интерес, я не слышал. Да мало ли на Руси безвестных, но блестящих стихотворцев!
Уже в конце девяностых ко мне в издательство напрямую, без предварительного звонка заглянул невзрачный худощавый мужичонка с сильно поредевшей шевелюрой. С первого взгляда он походил на типичного, потертого жизнью неудачника-графомана с неувядаемой верой в собственную, недооцененную завистниками гениальность.
– Вот, стихи у меня, – робко сказал он, отводя взгляд, и передавал мне самиздатовскую книжку с рисунком полуобнаженной женщины на обложке. – Может, заинтересует ваше издательство. Книжка наверняка будет очень, очень востребована, надо только набраться смелости.
Графоманов в издательство приходило немало. Как правило, люди это были агрессивные, обиженные на весь мир и заранее настроенные на отказ, на что у каждого была заготовлена донельзя ядовитая сентенция. Я старался с ними не спорить, поэтому дипломатично пообещал посмотреть книжку и перезвонить. Мы попрощались. Уже убирая книгу в ящик, я взглянул на обложку и увидел фамилию автора – Арзамасов. Что-то в моей душе екнуло, и я пожалел на миг, что не остановил автора, не расспросил как следовало бы так запомнившегося человека из моей молодости.
Стихи были о женщинах. Но уже полностью порнографического содержания, с грубой ненормативной лексикой. Воспроизводить ее я так и не научился. Бывают, конечно, в жизни обстоятельства, когда без крепкого, энергичного словца не обойтись. Но в стихах…
Так уж получилось, что мой письменный стол в издательстве никогда не был образцом порядка. Телефон Арзамасова как-то затерялся, а сам он мне не позвонил. Видимо, привыкнув к мысли, что легенды сами по себе долго не живут.
Ты снова появилась ниоткуда. Как с неба прилетевшая звезда. Но там, под юбкой, больше нету чуда. А только неприкрытая…Чуда все-таки хочется. До сих пор.
Гудбай, Швеция
Вечернее кафе под открытым небом в самом центре Стокгольма было переполнено. Нашу суровую мужскую компанию с пришвартованной у королевского дворца роскошной шестидесятифутовой яхты и соседний столик с тремя симпатичными шведками разделяло сантиметров двадцать. Мы обменялись с ними парой дежурных любезностей, но чрезвычайно шустрая официантка отвлекла от этого увлекательного процесса, мы углубились в изучение меню и на время забыли о соседках. Русская речь, однако, вызвала у них живой интерес.
– Where are you from? Откуда вы? – прозвучало наконец с женского столика, и блондинка с высокой грудью, аппетитно обтянутой незначительной майкой, ослепительно улыбнулась.
Некоторые женщины думают, что главное гипнотическое действо на мужчин оказывает покачивание бедер, или медленное вытягивание ног из-под юбки, закатывание глаз, томное растягивание слов или в учащенное дыхание. Нет, в определенных ситуациях весь этот арсенал, конечно, выстреливает по назначению, кто спорит. Но при первом контакте, уж поверьте мне, дорогие женщины, ничто не сравнится с точно наведенной ядерной боеголовкой улыбки.
– From… – начал было я и запнулся, вспомнив, что мы в Швеции, в стране, где когда-то родилось понятие шведская семья, но это когда, а вот теперь или совсем недавно, свершилось непостижимое со знаменитым разоблачителем всемирных секретов Асанжем.
Заманила коварная шведка правдоискателя и главу WikiLeaks в свою квартиру, покувыркалась раза три или четыре за ночь с секс-символом свободной Австралии, утром проснулась в приятном расслаблении и обнаружила, что есть еще у партнера по постели порох в пороховницах, то бишь в чреслах, а значит, жизнь, полная кайфа, продолжается. Ночь со знаменитостью она вспоминала долго. Ну не так долго, конечно, как Моника Левински, но недели через две и ее светлые воспоминания омрачились сомнением: а ведь тот, последний утренний трах… Асанж-то, гадюка, ее даже и не спросил, а ей, вроде, не очень-то и хотелось уже!
Так и образовалось трудно постижимое для нашего и эквадорского менталитета уголовное дело международного масштаба, заставившее, наверное, содрогнуться в сомнениях миллионы мужчин. А ну как и у их подруг, ни к вечеру будь помянуто взбрыки начнутся.
Свобода и целомудренность раскачиваются на качелях обычаев.
В семидесятые годы секса в Советском Союзе не существовало. Швецию с чье-то легкой руки называли страной социализма и отношения между нашими двумя странами были нельзя лучше. Мы стояли в морском порту Норчепинга с грузом угля, впереди у портовых докеров, а значит и у нас, были два выходных дня. В город на короткую, до обеда прогулку я вышел в компании с двумя мотористами.
Магазины с колониальным товаров в Норчепинге отсутствовали, шопинг в обычных магазинах был не по карману, большинство из нашей команды даже не просилось на берег. Мы прошлись по почти безлюдным улицам, разглядывая витрины, но больше всего газетные киоски. Не остановиться перед ними советскому человеку было невозможно. Самыми скромными были обложки Плейбоя. Модели в более чем откровенных позах бессловно кричали: жизнь в нас, никакой социализм ей не помеха, убедитесь сами.
Убедиться хотелось.
Мы продолжали прогулку. Странным было только одно – никто не толпился возле киосков, ну совершенно никто. Потом начался новый район, район крохотных, судя по всему, кинотеатров с еще более откровенной рекламой, и мы поняли, что праздник жизни продолжается. Правда, в этот ранний час кинотеатры были закрыты. Может быть, этим и объяснялась безлюдность улиц?
– Надо прийти сюда вечером! – авторитетно заявил моторист-старожила.
– Не вопрос, – согласился я. – Придем.
– А не заблудимся?
Вопрос был резонный. Норчепинг, конечно, не Стокгольм, но и он обладает своим пространством, в котором вполне можно заблудиться, а времени у нас, как правило, не хватало так же, как и денег. Я огляделся. Неподалеку, на другой стороне примыкающей к парку улицы располагалось приметное, отдельно стоящее здание с колоннами и табличкой на фасаде.
– Будь спок – штурмана дорогу не теряют.
Мы вернулись на судно. Сарафанное радио, как известно, самое быстрое радио в мире. После обеда в город запросились все. Замполит быстро разбил нас на несколько групп, и мы отправились на новую прогулку. Я прокладывал путь по проторенной дорожке. Обычно с этим проблем у меня не бывало, а тут что-то застопорилось. За моей спиной, разбитые на группы по три человека в каждой, тянулась цепочка из доброй половины нашего экипажа, и я понимал, что права на ошибку у меня нет. Увидав поблизости интеллигентного вида шведа с породистой собакой на поводке, я быстро, не привлекая внимания моих сотоварищей, спросил как пройти к городскому этнографическому музею. Спросить о порнокинотеатрах язык не поворачивался. Прохожий посмотрел на меня с таким уважением, словно я подарил ему велосипед, и сказал, что идем мы практически правильно и осталось нам каких-то два квартала и направо.
Теперь я и сам распознал местность и уверенно двинулся в нужном направлении: два квартала прямо и налево. Наконец, стали видны и сами кинотеатры. Я остановился, чтобы ни у кого из следовавших за нами жаждущих и страждущих не оставалось сомнений, и в этот момент ко мне, запыхавшись, подлетел интеллигент с собачкой.
– Sorry, – сказал он. – Вы выбрали не то направление. Музей находится на другой стороне улицы, вот он, видите? Вход бесплатный.
– Конечно, конечно, – ответил я. Огромное вам спасибо.
Интеллигент, однако, не уходил, а просто перешел дорогу, чтобы собачке было где задрать ногу на обочине парковой аллеи, и внимательно наблюдал за нашими действиями. Не дай бог мы вновь собьёмся с правильного курса!
– Настоящее порно начинается с искусства, – объяснил я мотористам. – Для начала надо зайти в музей, на десять минут всего. Вход бесплатный…
Да, изменилось шведское общество с тех пор. Да и мы тоже. Но не совсем.
Майка у предприимчивой соседки по столику, кажется, съежилась еще больше, словно шагреневая кожа, глаза сияли обещанием несказанного блаженства. Гибкие тела ее подруг натянулись, как тетива взведенного лука. Мне оставалось только отпустить стрелу. И я изо всех сил растянул губы в доброй, все обещающей улыбке.
– We are fishers. Мы рыбаки, с рыбацкого траулера. С удовольствием сходили бы с вами на экскурсию по городу. Жаль, времени не хватает. Через час уходим в море. Гудбай, Швеция!






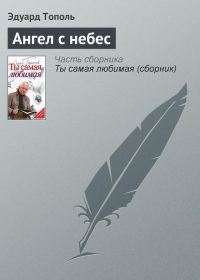





Комментарии к книге «Ночь с Марией», Олег Игоревич Михалевич
Всего 0 комментариев